БОРИС ПАНКИН
ЧЕТЫРЕ Я КОНСТАНТИНА СИМОНОВА
Книга написана на основе личного знакомства автора с Константином Симоновым, а также обширного документального материала, собранного в результате встреч и бесед с его женой Ларисой Алексеевной, личным секретарем Ниной Павловной Гордон и другими лицами из окружения Константина Михайловича, а также углубленного изучения архивов писателя.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ: ГЛАВНЫЙ ПАНКИН
В 1973 году автора этих строк принимали на работу в «Комсомольскую правду». Приему предшествовала серия собеседований с начальниками «Комсомолки»: крошечными, побольше и совсем уж настоящими. Какие бы времена ни стояли на дворе, «Комсомолка» всегда живет, как муха в янтаре, в одной эпохе — демократической. Но и здесь, как и во всей остальной России, истинный масштаб начальника лучше всего определяется даже не размером его выходного костюма, а площадью кабинета, им занимаемого. Микроскопические начальники имели и микроскопические кабинеты, начальники побольше и кабинеты занимали на полплевка больше.
Судя по всему, Настоящий Начальник в те времена в «Комсомольской правде» был один — Борис Панкин. В этом убеждали и размер кабинета, в который я заглянул-таки одним глазом, и еще одно — размер тишины возле кабинета. Горластый здешний народ почему-то резко сбавлял в децибелах перед панкинской дверью.
Самое удивительное, что Борис Панкин в те дни уже не работал в «Комсомолке». Он был только что назначен председателем правления ВААП, а сидел в редакции, в своем старом кабинете лишь потому, что ВААПа, агентства по авторским правам, как такового еще не было. Создать создали, а здания пока не выделили.
Никто из «Комсомолки» (а нет более амбициозных парней и девушек, чем здесь, я убежден, что один из комсомолкинских выходцев со временем станет-таки и президентом страны) работать в каком-то там ВААПе не собирался.
Никто в Советском Союзе не знал еще толком, что такое авторские права (это же еще эфемернее, чем права человека!), а тем более — их охрана.
Следом не собирались, толком не знали, а, поди ж ты — все еще побаивались (в России это и есть самая здоровая форма уважения). В «Комсомолке» вообще никогда никого не боялись (читай — не уважали), кроме... собственно Главного.
Одним из ближайших предшественников Панкина был Алексей Аджубей.
Так вот: одно дело побаиваться кого-то, когда он — зять Первого секретаря. А если ты не зять, да к тому же уже и не работаешь в «Комсомолке» (вылетел), так чего ж тебя уважать — бояться? (Это как люблю-жалею — тоже весьма русская идиома).
А Панкин точно вылетел, хотя и на министерскую должность. Говорят, что не знали, куда пристроить, как убрать без шума из «Комсомолки», для того и создали чего-то там по охране каких-то чужих (?!) прав в государстве, где все и так надежно охранялось. После его назначения главный редактор «Литературной газеты» А. Чаковский сказал: «Белинского назначили Бенкендорфом. Посмотрим, что из этого выйдет». Вышло неплохо: ВААП действительно помог многим достойным писателям обрести достойную, не обворованную жизнь.
Его не боялись почему-то только постаревшие девушки из стен-бюро, с которыми он когда-то, стажером, выпивал на субботниках и на уборке картошки в подшефном колхозе. И он этих девушек почему-то не забывал: видимо, в молодости и впрямь были хороши.
Этот Главный писал, что думал, а не что нашептывали обольстительные шептуны разных рангов. А написанное умел отстаивать насмерть. Причем, что похвально — в том числе и написанное другими. Умел и не печатать: уровень Главного определяется, как и размером кабинета, не только тем, что он печатает, но и тем, что он способен не печатать. Не печатать, несмотря на давление как снизу, так и сверху.
Вообще-то у Бориса Дмитриевича любопытное качество: в «Комсомолке» он начинал стажером, а заканчивал, пусть даже «вылетая», Главным. В дипломатии начинал (уже после ВААПа) послом в небольшой стране, а заканчивал — изберем дипломатический язык (перед Англией) — министром иностранных дел громаднейшего Советского Союза.
Сейчас он свободный, не ангажированный политик, крепкий, честный писатель, критик, к которому прислушивается не только публика, но даже и сами авторы, что большая редкость, — и я бы не рискнул загадывать, где и на чем он остановится.
У него резкие, мужские черты лица, твердая рука, его отец умер недавно, в девяносто с лишним лет.
Панкин прыгал с парашютом, дружил (и тоже неоднократно выпивал) с Гагариным, играл в футбол. Открыл когда-то Айтматова. Был очень близок с Симоновым... В его характере и судьбе (здесь тот случай, когда именно характер во многом определил судьбу, а не наоборот) есть некое романтически-авантюрное, преобразовательское начало, присущее мужчинам, с которыми охотно ходит под венец самая ветреная дама — Эпоха.
И ходит неоднократно.
У таких — кровообмен со временем.
В августе 91-го он наотрез отказался подчиняться мятежникам, а еще через некоторое время сам стал мятежным и неугодным. А был бы угодным, угодливым — это был бы уже не Панкин. Потому что это в Панкине — главное.
Да, есть люди, которые обмениваются чертами со своей эпохой, и я не думаю, что эпохи от этого дурнеют.
А в 73-м на собеседование к Борису Панкину я так и не попал. И еще раз слава Богу: а то бы, неровен час, и не приняли б на работу в «Комсомолку» — характером Главный был крут, а нас, провинциалов, тоже иногда навещает (ненадолго) гордыня.
И слава Богу, что не попал. Я никогда не был у него в подчинении, что позволило мне в его лице приобрести старшего друга — в том возрасте и в те времена, когда друзей преимущественно только теряют.
Георгий ПРЯХИН
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Когда-то я сказал о себе и, кажется, даже где-то написал, что каждое крупное событие своей жизни переживаю дважды — сначала в реальности, потом — с пером в руках. Таким событием, длившимся годы, стала моя встреча, а потом и дружба с Константином Симоновым. Роман о нем я начал писать сразу после его смерти в 1979 году, а закончил и опубликовал, когда позади уже были не только годы в «Комсомолке», но и девять лет во главе созданного велением Хельсинкского акта (1975) Всесоюзного агентства по авторским правам, восемь лет посольствования в Швеции, полтора года в той же роли — в Чехословакии, за тем последовали три месяца на посту последнего министра иностранных дел СССР и три года — посла России в Великобритании.
«Четыре Я Константина Симонова» в журнальном варианте рискнул опубликовать только покойный ныне редактор «Юности», мой коллега по «Комсомолке» Виктор Липатов. Говорю «рискнул», потому что в начале девяностых, в пору оголтелого «переосмысления» всего и вся, даже иные близкие Симонову люди боялись «оскоромиться» симпатиями к «сталинскому любимцу».
И только в 1999 году книга в полном объеме увидела свет в издательстве «Воскресенье». Причем и тут не обошлось без доброго содействия шведа — Бенни Андерссона из всемирно известной музыкальной группы ABBA, который посмотрел сделанный мною в содружестве с режиссером Владленом Трошкиным фильм о К.М. и заявил: «Этот человек мне нравится». Бенни по сию пору не расстается с мыслью написать музыку к «Жди меня».
По выходе в свет роман на какое-то время оказался в поле зрения популярных СМИ, я получил много писем от знакомых и незнакомых мне читателей. Некоторые из этих добрых строк я воспроизвожу в качестве своего рода предисловия ко второму изданию книги, которое посвящено столетию со дня рождения Константина Михайловича Симонова.
Борис Панкин
ИЗ ПИСЕМ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ОЛЬГИ ТРИФОНОВОЙ, ВДОВЫ ЮРИЯ ТРИФОНОВА:
...Дело в том, что именно сегодня я закончила читать «Четыре Я» и намеревалась завтра писать Вам подробное письмо. Но так — сумбурно, может, оно и к лучшему, — я не критик, чтобы учинять разбор.
Поэтому скажу сумбурно, но искренне прямо сейчас.
Это было мучительное для меня чтение, потому что требовало напряжения душевных сил. Ведь это и о моём поколении, и о поколении Юры, обо всех нас разнесчастных, проживших ту самую эпоху. Я — дочь репрессированного — на себе испытала страшную деформацию души обстоятельствами той жизни.
Но сначала о другом.
Константина Михайловича я не то чтобы недолюбливала, а была просто скорее равнодушна и к его прозе и к его личности. Правда, хорошо помню его одинокую фигуру на пахринских аллеях незадолго до его ухода и своё чувство глубокого сострадания к его последнему одиночеству. Я не знала обстоятельств его жизни, но взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что... не знаю, на память мне тогда пришло стихотворение Некрасова «Несжатая полоса», может, Вы его помните.
Лариса уходила по-другому: те же прогулки по аллеям, но в ней ощущался протест, или даже бунт.
И вот Ваша книга. Я вскрикивала от протеста или от боли, читая её. Особенно, читая страницы его так называемого «прощания» с Валентиной, и у меня сложилась готовая формула (простите) — духовный и физический импотент. «Он не знал, что такое любовь, и не знал, что такое подлинное творчество, — думала я. — Серова ощущала нелюбовь, и как всякая женщина чувствовала, что она есть просто катализатор творческой потенции. Это сделало её несчастной и оскорблённой. Лариса была орешек покрепче, и к тому же, как рассказывал мне Г.С. Берёзко, сильно любила Гудзенко». И потом его любовь к генералитету и маловысокохудожественное поведение во времена космополитизма. Вот как думала я, читая первую половину книги, и припоминался мне всё рассказ Юры «Недолгое пребывание в камере пыток».
Но Вы заставили меня понять, что в камере пыток были мы все — великие и малые, и одни выдержали испытание пытками, а другие — нет. Но мне, как директору музея «Дом на набережной», хорошо известно, что болевой порог у всех разный, и осуждать других за то, что сломались, не нам. А вот к мысли этой подвел меня автор, и вот теперь о главном после прочтения, к началу этого сумбурного письма. А главное — это автор.
Ваша рука Вас выдала! Это удивительная по мудрости и благородству книга. Она оказалась очень важной для меня. Спасибо Вам огромное.
Всегда искренне Ваша Ольга Трифонова. В книге у меня много подчёркиваний и закладок.
Даст Бог, свидимся, и, если будет интересно, покажу мой, так сказать, мучительный путь вслед за Вами к лучшему во мне. Спасибо.
…Вот я теперь тот человек, который будет ждать с нетерпением Вашу новую книгу, потому что надеюсь, что, как с К.М., она поможет мне разобраться, что же с нами произошло. Меня «либералы» внутренне достали. А уж как они доставали Юру! Это был просто либеральный террор Аэропорта: «Юрочка, твой папа высек бы тебя за образы комиссаров в романе «Старик»... «Юра, как Вы могли написать такое!», «Юра, Ваши «Предварительные итоги» плевок в интеллигенцию».
Юра отвечал мрачно, твёрдо и с оттенком злобы. Но я не Юра, да и им совсем неинтересна. Казалось бы, мне, дочери репрессированного, чувствовавшей себя изгоем, пристало так яриться, но я не ощущаю в себе ненависти к той ужасной стране. Горечь, — да, и, конечно, ощущаю нравственные шрамы и родимые пятна, оставшиеся во мне от прошлой жизни.
А главное, помню финал романа «Время и место» о том, что «не было времени лучше, чем-то, которое он прожил. И нет места лучше...»
Конечно, горько ещё и оттого, что, как мне видится, у страны в какой-то короткий момент был шанс повернуть к жизни достойной, правильной, но этот шанс то ли упустили, то ли его перехватили мародёры, пришедшие на поле боя, как всегда они приходят.
Таким, как я, осталось только удивляться тому, какой запас прочности был в той стране, если её вот уже как почти двадцать лет разворовывают и не могут доворовать.
Простите, слишком разболталась. Мне дорого наше общение, вот и несёт.
***
НАТАЛЬЯ ИВАНОВА: ИЗ СТАТЬИ «КОНСТАНТИН СИМОНОВ ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ» В ЖУРНАЛЕ «ЗНАМЯ» ЗА 1999 ГОД:
Обложка романа о Симонове Бориса Панкина, в своего героя явно влюбленного, иначе бы он не потратил на него десяток с лишним лет жизни – вместо своих собственных впечатлений и мемуаров, вызвавших бы сегодня, полагаю, больший интерес: опыт главного редактора «Комсомолки», посла СССР и последнего в СССР министра иностранных дел по сути дела уникален, - поделена между черным и белым цветами: ровно пополам.
ИЗ ПИСЬМА ПИСАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА КОНОВАЛОВА, г. СЕРДОБСК ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
Проглотил Вашу книгу «Четыре Я Константина Симонова». Серия ЖЗЛ пополнилась оригинальным исследованием творческой кухни яркого советского писателя. Вы счастливо избежали нудного жизнеописания. Творчество — суть жизни Симонова.
Так написать о Симонове могли только Вы. Ваш пиетет к писателю освящает каждую строчку. Ваша искренность подкупает. Вам неведома конъюнктура. Вам веришь. И Вы — первый исследователь личной жизни писателя. До Вас никто не осмелился.
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ТАМАРА СЕРГЕЕВНА БУСЬКО, г. КРАСНОДАР:
Пишет Вам с Кубани бывшая фронтовичка. Огромное спасибо за книгу «Четыре Я Константина Симонова».
Я совсем не посторонний человек этой теме. Всю войну прошла от звонка до звонка, участвовала в обороне Москвы, а потом, в 1944-м прошла с боями всю Белоруссию, от Чаус и Могилева до Польши и Кенигсберга.
Константина Симонова я и мои близкие звали Военкором № 1. На войне лучше его не было. Так это ощущение и сохранилось на всю жизнь.
Я лично с К.М. не встречалась, не пришлось. Походила по многим его дорогам.
В 1984 году, когда исполнилось пять лет со дня смерти Константина Михайловича, я была в Буйничах, на Буйническом поле, где развеян его прах и поставлен памятник. Там познакомилась со многими близкими ему людьми — его военным редактором Ортенбергом, писателем Воробьевым, Лазаревым, Евгением Долматовским и с дочерью Машей.
Если набраться смелости, скажу, что я собрала все, что К.М. написал за войну. Может быть, почти все. И решила, что будет выставка. И сделала.
1985 год был последним, когда День Победы был настоящим праздником. В моем Краснодаре, в Кубанском университете, где я работала, ректорат, партком, узнав о моем замысле, создал идеальные условия для работы. Дали целый курс художественно-графического факультета, фотографов... Ведь К.М. широко уважаем. Он был участником освобождения Кубани.
И перед 9 мая выставку торжественно открыли. Неприлично хвалиться, но что удалось, то удалось...
А потом началась разруха в стране и начались мои возрастные немощи.
В Могилеве в этом году (2003) буду 28 ноября. В 24-й раз. Раньше в день его рождения собирались люди со всей страны. А теперь приезжаю одна, с коробкой цветов, которые разбрасываю по полю...
К 55-летию Победы в магазине Краснодара увидела Вашу книгу. В продаже было 5 экземпляров. Я их все купила. Один уже в Могилеве.
ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ШВЕДСКОМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ В 1982 ГОДУ:
Конец 70-х в застойном и замкнутом Советском Союзе. Борис Панкин берется написать сценарий к фильму, а затем и роман об одном из кумиров своей юности — Константине Симонове.
В ходе почти детективной работы, связанной с открытыми и закрытыми архивами, встречами и беседами с апологетами Симонова и его недоброжелателями, законопослушными гражданами и диссидентами складывается многоплановый образ писателя и его творчества.
Проникновение за магическую границу мира Симонова — это загадочное и не всегда безопасное дело. Через фильтр человеческой души проявляется история страны и всего мира.
ИЗ ИНТЕРВЬЮ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА ОБОЗРЕВАТЕЛЮ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» АНДРЕЮ ЩЕРБАКОВУ, МАЙ 1999 ГОДА:
— Чингиз Торекулович, наверное, мимо Вашего внимания не прошел роман-воспоминание Панкина «Четыре Я Константина Симонова», — удивительная, на мой взгляд, книга о нашей жизни и нашей литературе.
— Да у меня и самого неожиданное впечатление от книги Бориса Панкина. Когда я посмотрел на название, я подумал, ну что еще нового можно сказать о Константине Симонове. Но когда начал читать, понял, что это неожиданный разворот темы, новый подход к документальной прозе, где сам автор участвует в событиях, которые он описывает. Он — в этой стихии... Что касается Симонова. То... У нас был период, когда все советское отбрасывалось. И заслуга Панкина и его книги в том, что многое справедливо возвращено на свое место. Симонов, конечно, непростая личность. Есть в его творчестве и анахронизмы и стереотипы того времени. И Панкину удалось поразительно точно и интересно для читателя любого поколения показать всю сложность и диалектику того времени.
ФРИДРИХ ХИТЦЕР, ИЗВЕСТНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК, СОЦИОЛОГ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ФРГ. ИЮНЬ 1999 ГОДА:
Уважаемый, дорогой Борис Панкин, я все еще читаю Вашу книгу. Чтение не легкое, благо она, книга, хотя и о прошлом заметной личности и века, важна для будущих поколений. Пока хочется сказать, что Вы уловили то, чего так не хватает и в России, и в Германии, если автор обращается к прошлому.
ВЛАДИМИР ЛОМЕЙКО, БЫВШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СССР, А ЗАТЕМ РОССИИ В ЮНЕСКО:
Уже с первых страниц возникает и уже не отпускает до конца чтения удивительное состояние сопричастности ко всему, о чем идет речь. Уже первая, верно взятая нота в Прологе дала тональность всему роману. Нота радостной приподнятости от того, что впереди трудное, но захватывающее дело...
Держа в руках уже прочитанную книгу, я не думаю, что о Константине Симонове можно было написать лучше. Трудно себе представить, что так могло все сойтись вместе у другого писателя: и доскональное знание всего материала — и произведений, и дневников, и личного досье Симонова, всей его необъятной переписки, и рабочего, и интимного характера, и доверительных исповеданий его близких, и личное многолетнее знакомство с героем будущего романа.
Ценность романа еще и в том, что он не только о Симонове, хотя прежде всего о нем, но это и книга о нашем времени, о стране, в которой мы жили, которую любили и с которой вместе страдали. Недаром Фридрих Хитцер сказал мне недавно, что это — удивительная книга и он будет рекомендовать ее для перевода на немецкий и издания.
ИЗ СТАТЬИ ЛИТЕРАТУРНОГО КРИТИКА АЛЕКСАНДРА РУБАШКИНА, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
В книге «Четыре Я Константина Симонова», в этом романе-биографии, я увидел жизнь сложную, драматичную, с выводами объективно отнюдь не комплиментарными.
Были у Симонова и большой талант, и широта, и трудолюбие, и честолюбие. Но сколько сил ушло «на служение долгу», как он его понимал, на пьесы «по случаю» и статьи, о которых пришлось потом сожалеть.
Симонов — и это убедительно демонстрируется в романе — пытался вырваться из круга ограниченных представлений, был в непрерывном надрывном споре с самим собой.
Среди персонажей книги, кроме заглавного, по крайней мере, еще несколько занимают место особое. Это жена Лариса, секретарь Симонова, Нина Павловна Гордон, жена, а потом и вдова узника ГУЛАГа, наконец, автор повествования, который через своего героя хочет показать эпоху, раскрыть собственные сомнения, переживания, прозрения.
Кроме упомянутых, есть еще один персонаж, к которому автор непрерывно возвращается. Это Сталин, в опасной близости к которому находился Симонов...
ПРОЛОГ
ПОСВЯЩАЮ ЖЕНЕ МОЕЙ ВАЛЕНТИНЕ
Вопрос: Ставила ли жизнь перед вами вопросы, на которые вы так и не смогли ответить?
Ответ: По-моему, она только это и делала.
(Из интервью Константина Симонова корр. «Комсомольской правды» Г. Бочарову. 1970)
После того как Лариса Алексеевна Жадова, вдова Константина Симонова, позвонила и сказала, что очерк получен и что она начинает его читать, целую неделю от нее не было известий.
Я, признаюсь, недоумевал. Кусок мой, выражаясь газетным жаргоном, предназначался для сборника воспоминаний. Я отослал его составительнице вовремя. Знал, что пунктуальностью Лариса Алексеевна была в мужа.
Нет-нет, помню, да и возьмешь снова в руки эти два десятка страниц на машинке, перелистаешь их, невольно задерживая взгляд на том, что тебе самому кажется примечательным или, наоборот, уязвимым. Пытаясь угадать реакцию первой моей читательницы, человека взыскательного и прямого, а главное, самого близкого моему герою на протяжении четверти века, я переживал не за художественные достоинства этой вещицы — они могли для нее оказаться безразличными. Примет ли концепцию, узнает ли в моем Симонове своего? Мнение близких — род цензуры самой пристрастной из всех нам ведомых.
Наконец ее звонок — вечером, на дачу. Ее напряженный монолог, прерываемый моими междометиями и покашливанием.
— Я прочитала. Только вчера руки дошли. И не могла уснуть до четырех, наверное, утра... Все снова встало перед глазами... Получилось именно то, что вы задумали. Воспоминания-размышления. И удивительно раскованно. Вы знаете, что я подумала? Вы будете писать роман. То, что уже сделано, — само по себе законченная вещь. Но она несет в себе ростки, развитие...
Я пытался что-то пробормотать насчет признательности, но она, кажется, не слышала, да и не слушала меня. Ей важно было сказать свое и себе.
— И так точно это схвачено... И передано — это всеобщее, просто повальное в годы войны и после нее сразу увлечение К.М. Таких, как вы, — тут она, судя по голосу, улыбнулась, — мальчиков и девочек, и постарше — как я. И, конечно, реплика из письма матери, Александры Леонидовны, насчет самолюбования. Это у него в ту пору было, но, по-моему, делало его еще неотразимее. До определенного времени, во всяком случае. Но тогда уже и самолюбование начало исчезать.
— Юношеское увлечение Симоновым — это да, — повторила она после короткой паузы. — Более поздний период тут сложнее. Вы все-таки недостаточно хорошо его знали. Тут надо поговорить. Например, об его отношении к Сталину... И другое. Но это потом, при встрече. С карандашом в руках, над рукописью. А сейчас...
Снова пауза. И через две-три секунды:
— Вы знаете, у нас, ну, у меня, у других членов комиссии по литнаследию К.М. есть к вам предложение — не хотели бы вы стать автором сценария фильма о К.М.? В плане у студии есть такой фильм, на ближайшие два-три года. И много было кандидатов, но теперь все отпали, — она оборвала фразу на восходящем тоне, который как бы обозначал, что и без того много сказано и теперь надо говорить мне.
Что я ответил? Я согласился. Не раздумывая ни минуты, не вспомнив в тот миг ни об одном из своих замыслов. Вернее, подумав о них всех сразу. Это была вспышка, и при свете ее я с фантастической ясностью увидел то, что отныне буду делать, быть может, годы.
В ту минуту мне было не до реминисценций, не до цитат. Теперь знаю, лучше Пришвина об этом никто не сказал: «Материалы мои были хорошо собраны, правильно расположены, но не хватало им момента творческой кристаллизации, когда каждое слово становится на свое место само собою».
У него — о завершении замысла. У меня — о его рождении. Там — готовые уже строки и слова, застывшие в ожидании таинственной кристаллизующей силы. Здесь — начатое и оставленное, неоконченное и недодуманное — за недостатком времени, решимости, за разочарованием и усталостью — вдруг пришло в движение и стало выстраиваться в ряд. Я увидел сценарий, который напишу, и фильм, который снимут по этому сценарию, и роман, в котором будет и этот сегодняшний разговор с Жадовой, и работа над сценарием...
Будет ли это роман о Симонове? Да, о нем. Прежде всего о нем. Но не только о нем. О его и о моем времени, которое и одно и то же, и так разнятся. О себе. О чем уже не раз пытался сказать, но не сказал еще, как хотел и как, верилось, мог.
Ларисе Алексеевне из всего того, что пронеслось в моем мозгу, сказал только, что я согласен.
Уже на следующий день я неожиданно ощутил себя частицей большого и слаженного механизма.
Позвонил весьма влиятельный в кинематографических кругах человек, давний, я знал, друг Симонова, и, сказав несколько добрых и, чувствовалось, искренних слов о моем пресловутом эссе, спросил, говорила ли Лариса со мной о режиссере.
Услышав, что «н-нет, кажется, нет», он сообщил, что «имеется в виду» обратиться к Владику Трошкину. Вы о нем, конечно, слышали. Он сын того Павла Трошкина, военного фотокорреспондента, с которым К.М. начинал войну в Белоруссии, под Могилевом. Трошкин-старший погиб в конце войны подо Львовом, от пули бандеровцев. К.М. шефствовал потом над его сыном — долг дружбы. Сын пошел почти по стопам отца — стал кинодокументалистом.
Да, конечно же я хорошо знал Владика Трошкина. Мы с ним даже оказались соавторами одного фильма, в котором у нас фигурировал и Константин Михайлович. В качестве участника молодежного диспута по поводу его очерка о молодом трактористе, который погиб при пожаре, спасая колхозное добро. Об этом и был спор: стоило жертвовать собой или нет? Очерк был напечатан в «Комсомольской правде», которую я тогда редактировал.
Эта цепь совпадений воодушевила меня еще больше.
— Значит, — подытожил мои то ли слова, то ли воспоминания собеседник, — у вас возражений поработать вместе с Владиком не будет. Тогда начнем с ним говорить. И, я надеюсь, через неделю-другую вам позвонят со студии на предмет заключения договора. Практически вы уже можете писать заявку.
Действительно, через десять дней звонок со студии: «Договор можно подписать хоть сейчас. Заходите в удобное для вас время и приносите заявку».
Из Союза писателей позвонили и спросили согласия на включение в комиссию по литературному наследию.
Я еще не написал ни одной строки сценария, но уже жил в нем. И ближайшее событие, которое ожидало меня на этой новой стезе, была встреча с Ларисой, так звали ее в окружении Симонова, «над рукописью, с карандашом в руке».
Она приехала ко мне на дачу, и мы устроились возле письменного стола, каждый со своим экземпляром рукописи. Вначале она повторила все хорошее, что говорила по телефону.
Она прочитала вслух: «Мы влюблялись по Симонову, ссорились и "мучились от разлук" по Симонову. По Симонову учились ненавидеть врага и дружить терпкой, горьковатой, как дымок его неизменной трубки, дружбой. Он всегда был на фронте, всегда там, где жарко. Он любит и любим, и свидетелей его любви — миллионы, и любовь у него не такая, как у всех. Он был для нас в те военные и послевоенные годы и символом, и реальностью одновременно, и человеком, и книгой...»
Как будто бы оно на мгновенье вернулось к нам, то время, и я, вызвавший его этими строками, был его властелином.
— И знаете, — повторила Лариса, возвращая меня на землю, — мне показалось, не то что лучше, но законченнее — первая часть. Эта юношеская восторженность... Ну, а вторая, она и сложнее, тут противоречий у вас больше.
Это уже был голос редактора, опытного и искушенного в изложении своей мысли. И у меня было достаточно натренированное ухо, чтобы распознавать такие интонации.
— Вот это место со Сталиным, например, — продолжала Лариса ровным, без малейшей краски в звучании голосом, но я понял, что это — главное. — Вот это место со Сталиным, — повторила она. — Не получается ли у вас, что К.М. лучше относится к Сталину, чем на самом деле было. Ну, что он не разобрался в нем до конца, что ли.
Я понял, что ждал этого возражения.
— Но я только привожу то, что Константин Михайлович сам мне говорил в те часы, когда мы с ним гуляли по больничному двору, о чем вот и упомянуто. И без особых выводов.
Сослаться на первоисточник — была первая, самая естественная линия обороны:
— Ну, может быть, вы не так поняли его, а может — это было под влияние минуты. Он жe не мог высказаться тогда всеобъемлюще. О его отношении к Сталину нельзя судить по отдельным словам, надо судить по всему, что он написал. И по тому, что собирался написать — и написал, — теперь она не могла уже скрыть волнения, — но не опубликовал. Я покажу вам, если хотите, — осталось надиктовок нa эту тему листов на пятнадцать. Только пусть это будет между нами. К.М. распорядился сдать в ЦГАЛИ и не вскрывать пятьдесят лет. Один экземпляр, тоже по его настоянию и с тем же условием, я отправила в ЦК. И один, — она делала непроизвольную паузу, — оставила у себя. Я вам дам почитать, и вы поймете...
У меня дух захватило от такой возможности. Но, — душа поперечная, я все таки спросил: не та ли самая это вещь, о которой он мне в больнице рассказывал? Он как раз говорил о листах двенадцати-тринадцати. Вот видите, у меня это есть: «Постарался сказать о нем в меру того, как я его люблю, — с усмешкой, — и не люблю».
Лариса Алексеевна помолчала, и в молчании этом теперь слышалось неудовольствие.
— Тогда я вам должна... должна показать. Это не только мое мнение. Это пометки на полях ваших воспоминаний одного нашего друга, человека, который очень, очень хорошо знал Константина Михайловича.
Она отколола от рукописи исписанную бисерным почерком четвертушку листа, которая давно уже интриговала меня, и протянула мне. «Невольно от Б.Д. возникает, — было написано там, — что К.М. в сущности неплохо относится к Сталину или еще не решил, как к нему относиться. Это не так. Именно потому, что его отношение было безоговорочно осуждающим, именно поэтому (так бывало и в отношении к другим людям) он стремился быть объективным, не упрощать и не облегчать. В ту же пору К.М. много говорил со мной о Сталине, и я пишу это со всей ответственностью. Он говорил, что Сталин велик, но страшен...»
— Велик, но страшен, — произнесла она вслух, как мне показалось, с нескрываемой гордостью за того, кому эти слова принадлежали.
— Велик и страшен, — машинально повторил я.
Я не слышал от К.М. именно этих слов, но это было именно то его ощущение, которое я и стремился интуитивно передать. Вот же. Вот оно, это ключевое место в моем очерке, из-за которого, собственно, и вышел спор: «Константин Михайлович приводил немалое число таких реплик, указаний, резюме Сталина, нередко действительно поражавших (во всяком случае, в мастерском пересказе Симонова) неожиданностью и какой-то даже своеобразной мудростью, которой он и теперь, когда у него уже не оставалось никаких романтических иллюзий в отношении этой фигуры, не мог не воздать должное, следуя своей до предела обостренной объективности. Что же касается той опасности, которую, по свидетельству моего собеседника, Сталин нес в себе ежедневно и ежечасно для каждого из тех, кто с ним соприкасался, то в ту давнюю пору она, как мне представлялось, выглядела в глазах Симонова неким природным явлением, стихией характера, которая капризна, но неизбежна и может и покарать, и одарить в одно и то же время. И чтобы меньше ущерба было нанесено стихией, надо постараться постигнуть закономерности, которым она подвластна. Риск все равно неизбежен, но он значительно меньше для тех, кто опасность ожидает заранее...»
— Да, велик, но страшен, — согласился я. — Это его формула.
— Так вот, и не получается ли у вас, что автор воспоминаний знает, что такое Сталин, а герой его — нет, — заключила Лариса.
Это сказано было предельно тактично и миролюбиво. Обидеться тут, если только не распалять себя намеренно, было абсолютно не на что. Но и не услышать того, что осталось, так сказать, за кадром, невысказанным, тоже было нельзя. Неужели вы, сравнительно еще молодой человек — я тогда, правда, приближался к пятидесяти, — встретивший войну мальчишкой, а в годы, там, коллективизации, индустриализации и проч. вообще ничего еще не смысливший... Неужели вы, студент в эпоху «ленинградского дела», постановлений о журналах «Звезда» и «Ленинград» и им подобных, думаете, что вы смогли лучше разобраться в этом вопросе, чем он — кто прошел войну от первого до последнего дня, кто лично был знаком со Сталиным, со всеми, кто его окружал, кого он возвышал и кем жертвовал? Чем он, для кого, если хотите, ответ на вопрос, что же такое Сталин, стал делом всей жизни, всего творчества?
Это и многое другое обозначилось для меня в тот момент в ее коротком риторическом вопросе, в ее почти бессловесном укоре.
— Но что же мне делать? — в шутливом отчаянии воздев руки, воскликнул я. — Что мне делать, если в этой формуле — велик, но страшен, — мне правильной кажется только вторая ее часть?
Она обескуражено смотрела на меня. Словно бы мысль о возможности и такого подхода впервые пришла ей сейчас в голову.
— В общем, — с заметной усталостью сказала она наконец, — вы делайте, как знаете. Я высказала свои соображения и не только свои. А вы поступайте, как знаете.
Она неожиданно и щедро улыбнулась: «Как считаете нужным, так и поступайте. Так бы вам, наверное, и К.М. сказал».
Тут мы сочли за благо отправиться в соседнюю комнату, где жена, которая еще с давних лет встречалась с Жадовой в «Литературке», приготовила ужин. С удовольствием пробуя одно блюдо за другим, Лариса Алексеевна вспоминала и подробно рассказывала, как любил готовить К.М., какие шашлыки он, бывало, закатывал своим друзьям, а то и просто в кругу семьи. Она была весела, говорлива за столом, но в этом оживлении, казалось бы, совершенно естественном, мне все слышалась некая тревога. Неспокойно было и у меня на душе.
Подъехала и прогудела за окном машина. Лариса сказала, что это за ней. За рулем «Жигулей» — старинный спутник их семьи Толя, или дядя Толя, как звали его младшие. Он «крутил баранку», сидя в войну рядом с ее отцом, генералом Жадовым, потом возил ее первого мужа, поэта Семена Гудзенко. До последних дней возил К.М., которого и любил, конечно, и чтил, но всерьез за хозяина, кажется, все-таки не принимал — не хватало ему в нем генеральской выходки. К.М. это замечал, относился с юмором, когда возникала нужда чуть-чуть приструнить Толю, спрашивал его не без ехидства: «Толя, а не слишком ли я для вас интеллигентен?»
Что касается Ларисы, то ей категоричности было не занимать. Она сквозила даже в ее движениях, манере одеваться. Походка — мужская, широкая и стремительная. Прическа короткая, прямая, волосы — словно парик из соломы на голове. Одежды на худом и угловатом теле — длинные, просторные, темных тонов. Пальто напоминало накидку.
Когда дверца машины захлопнулась за нашей гостьей, жена неожиданно заговорила о том, какой красивой была Лариса в ту пору, когда она впервые увидела ее в «Литературке». Когда она появлялась в редакции, мужчины, как сговорившись, высыпали в коридор.
Что-то невысказанное звучало в интонации жены. То ли она намеревалась меня в чем-то убедить, то ли удивлялась тому, что же это делает с людьми неумолимое время.
Машина уехала, а я, как пишут в романах, долго смотрел ей вслед. Было над чем задуматься. Слишком многое встало за этим коротким и по форме весьма куртуазным спором, во многом неожиданной была для меня эта сшибка. И не в Сталине одном, я понимал, тут дело. Хотя это несомненно было все-таки самое главное. Я почувствовал острую необходимость задуматься наконец серьезнее над масштабами и сложностью дела, за которое так легко, словно по наитию, ни секунды не колеблясь, взялся. Так ли уж приветлив и расположен ко мне будет этот мир, который вдруг так щедро распахнул мне объятья, поманил чувством команды, приверженностью общему идеалу.
А с другой стороны, рассуждал я, что мне эта команда? Этот симоновский клан. Спасибо за приглашение, за доброе слово, за помощь. Но не клан и не Лариса — мой заказчик. Никто, надеюсь, не видит во мне эдакого придворного живописца, воплощающего волю «пославших мя».
Распаляя себя, я не переставал прислушиваться и к другому голосу, который советовал не спешить колотить горшки. О трех мною же изобретенных принципах напоминал мне, и очень кстати, внутренний голос: уметь поставить себя в положение другого. Взглянуть на себя самого со стороны. И сделать правильный вывод.
В положение другого.... Вспомнилось знакомство с Ларисой. Один из приятелей, международный обозреватель «Огонька», возвращая ужин, пригласил в «Арагви». Будет Симонов с женой, как бы между прочим обронил он. И добавил не без рисовки:
— Если ты, конечно, не возражаешь.
Я был рад, но бурного восторга не выказал. Положение недавно назначенного главного редактора «Комсомолки» обязывало. Уточнил деловито, во сколько и где встречаемся: вечная табличка «мест нет» и страж в ливрее могли сыграть роковую роль.
Симонов с женой. Для моего и моих сверстников уха привычнее звучало бы: «Симонов с Серовой». Но я знал, что они давно разошлись и что с Серовой — нехорошо, хотя что нехорошо — не знал.
Представить себе другую женщину рядом с ним было выше моих сил. По этой ли, по другим ли еще причинам Лариса Алексеевна Жадова для меня в тот вечер как бы и не существовала. Благо и она, занятая с моей женой общими воспоминаниями о «Литературке», ко мне почти не адресовалась.
Еще в «Арагви» мы с Константином Михайловичем условились, что я на своей казенной машине подвезу их за поздним временем до дома, близ станции метро «Аэропорт». И первое, что я ляпнул, едва мы разместились вчетвером в «Волге», Лариса Алексеевна рядом с водителем, было недоспрошенное за ужином:
— Константин Михайлович, почему вы не пишете больше стихи? — Спросил и тут же обозлился на себя — сколько же раз, наверное, ему этим досаждали?
Симонов отнесся к вопросу спокойно.
— Стихи, — сказал он, — вы, наверное, имеете в виду лирические стихи, точнее сказать, интимные, пишутся, знаете ли, тогда, когда жив нерв любви, а когда он умирает, — тут я в ужасе покосился на Ларису Алексеевну.
Она сидела как ни в чем не бывало, и трудно было понять, слышит или нет.
— А когда он отмирает, — продолжал Симонов, — то сочинять стихи на эту тему было бы попросту грешно.
Все это, повторяю, спокойно, раздумчиво, с хрестоматийной симоновской картавинкой: да-да, поп’осту г’ешно.
— А вообще, почему же, я стихи сочиняю, например эпиграммы. Хотите прочитаю одну? — с неуловимой улыбкой.
Мы — дружно: «Конечно, хотим».
Ворона в октябре
Жемчужное зерно искала.
Напрасен труд —
Журнал был весь из к...
Потом, при коротких, часто мимолетных встречах с Ларисой Алексеевной ловил себя с неловкостью на том, что не всегда, во всяком случае, не сразу мог даже вспомнить ее имя. И два или три раза называл-таки почему-то ее Людмилой Алексеевной. Она не возражала, не поправляла меня и только поднимала каждый раз с недоумением свои тонкие брови.
Все это были бы мелочи, не заслуживающие внимания, если бы они не оттеняли неожиданность и быстроту последующего нашего в трудную уже, а затем и в драматическую, и в трагическую пору ее жизни сближения.
Счастливая случайность соединила меня и семью Симоновых в Тбилиси. Мы оказались соседями по загородному коттеджу, в который поселили нас грузинские писатели, пригласившие тогда на свой литературный праздник гостей из всех республик.
Была осень, ласковая, отдающая всеми красками и запахами грузинского плодородия тбилисская осень 1978, и жить К.М. оставалось не более года. Но об этом, разумеется, в ту пору никто не догадывался. Хотя чувствовал он себя в те дни явно неважно.
Симоновы даже опоздали немного из-за нездоровья Константина Михайловича. Появившись наконец вместе с Ларисой Алексеевной, он сразу стал гостем из гостей. За ним раньше всех приезжали по утрам и позже всех «возвращали домой». Так что по-соседски мы с ним почти и не виделись, и наблюдал я его больше издали — на трибуне, на сцене — в кругу других писателей, читавших свои стихи и прозу шумному, впечатлительному тбилисскому слушателю, который валом валил на встречи с разноязычными литераторами.
Симонов все время выглядел уставшим, но был одновременно оживлен и как-то по-особому собран и отзывчив на все, что говорилось и происходило вокруг. Особенно в ударе он был на вечере «Русские поэты о Грузии». Он вместе с грузинским литературным критиком вел этот вечер в помещении театра имени Руставели, читал стихи — свои и переводы. А когда слушал других, то мыслями и чувствами уходил, казалось мне, в далекие-далекие пределы тех пространств и тех времен, от которых сохранились лишь стихи, те, что сейчас на русском и грузинском звучали со сцены.
Читали стихи и говорили о тех, кто их создавал — в восемнадцатом, девятнадцатом, двадцатом веках... Не был ли и он в глазах переполненного зала, подсказывало воображение, одним из этой плеяды избранных?
После его смерти мне не раз приходило в голову, что в те часы он, быть может, бессознательно прощался с такой привычной и дорогой ему атмосферой переполненного поэзией пространства — со взрывами аплодисментов, восторженными выкриками, жаром «юпитеров»... Быть может, подобно Блоку «с белой площади Сената» он «тихо кланялся» со своего возвышения на сцене Тбилиси и тбилисцам, с которыми так много было связано в его жизни.
Взглянув на сидевшую рядом Ларису, я точно впервые увидел ее тогда. Нет, не о смерти, о жизни говорило все ее существо. Рассиявшиеся влажным блеском глаза вдруг оказались большими-большими. Неожиданно нежный, цвета раннего ранета румянец на щеках и скулах; разметавшиеся под воздействием токов каких-то волосы, обычно лежавшие скучной прямой челочкой...
Что-то, наверное, прочитала Лариса в тот вечер в моем взгляде. Ничего не сказав, мы стали ближе друг другу. И мне теперь кажется, что я смог почувствовать это уже на следующий день, когда мы — редкий случай — собрались втроем за завтраком. Проглотив с аппетитом кружку холодного, обжигающе кислого грузинского мацони и выпив чашку по-турецки сваренного кофе с лепешкой и сулугуни, Симонов вдруг встал и в характерном для него в хорошую минуту шутливо-церемониальном стиле попросил у жены разрешения удалиться, а у меня —навестить, разумеется, в моем присутствии, мои «апартаменты». Лариса Алексеевна не возражала, а по тому, как подбадривающе кивнула мне, я понял, что она догадывается о характере предстоящего разговора.
Посидели с ним на веранде, подышали бодрящим, октябрьским холодком тбилисских предгорий, полюбовались темно-золотыми слитками айвы на оголенных ветках, поговорили о литературных новостях. Ничего особенного. Он уже поднялся, направился было мягким неторопливым шагом — был в мягких туфлях — к двери, но — предчувствие не обмануло меня — разговор еще не был окончен. Вернулся к креслу, сел снова и, коснувшись моего колена, сказал как бы между прочим:
— Вот приеду в Москву и недели через две зайду, занесу: должны выйти одним томом мои «лопатинские повести».
Я заметил, что, когда Симонов заговаривает о своем творчестве, речь его становится как бы невнятнее — он глотает окончания одних слов, проборматывает другие, повторяет без особой нужды третьи.
— Специально собрал эти повести под одной крышей. Назвал романом. Хочу, чтобы кто-то прочитал их подряд, только так, знаете ли, разом, залпом, — он повел рукой наискосок сверху вниз, — и сказал бы, — тут он кашлянул, — стоит ли мне дальше писать беллетристику.
Сказав это, он поднялся и, не давая возможности ответить, не говоря более ни слова, двинулся к дверям и вышел, обернувшись на мгновение с порога, и глаза его в ту минуту вдруг показались мне похожими на глаза измученной птицы.
Прошел год, и мы снова оказались вместе — в больнице, из которой Симонов уже не вышел. Парадоксальность ситуации состояла в том, что самым тяжелым из троих, Лариса, К.М. и я, поначалу считался я, привезенный сюда два месяца назад со сломанным позвоночником — упал с лошади, занимаясь этим спортом вместе с нашим общим другом, глазным хирургом Славой Федоровым.
В тот момент, когда я увидел у своей кровати Константина Михайловича, позади уже была операция, прошедшая успешно. Мне уже был обещан через неделю-другую первый подъем, первые шаги, а там, глядишь, и первый выход на волю. Но пока что я лежал распластанный на спине — строго в соответствии с предписаниями, а он присел рядом, в больничной робе, не то чтобы утешая, этого он в принципе никогда не допускал, а пошучивая, подбадривая, вовлекая в совместные планы... Я смотрел, благодарный и утешенный, на него и вдруг прочитал в его облике то, что, наверное, и называют печатью смерти. Какое-то темное свечение исходило от лица, и непонятно было, в чем же его природа, что давало этот холодящий душу эффект — иссиня ли выбритые щеки, глаза ли, глубоко сидящие в туго обтянутых потемневшей и тонкой, как пергамент, кожей глазницах!
Показалось и исчезло, а через десяток дней я встал, как и предсказывали мне врачи, и мы гуляли с ним по просторному и зеленому больничному двору, и каждый раз, когда проходили под окнами корпуса, он поднимал глаза вверх и помахивал рукой. Там из окна третьего этажа смотрела на нас Лариса, которую несколько дней назад привезли сюда с микроинфарктом.
Таких прогулок было несколько. Однажды он с воодушевлением рассказал, что два дня назад ему сделали так называемую выкачку из легких, под полным наркозом, разумеется. Что перенес он операцию хорошо, чувствует себя превосходно, даже вот плеваться, как видите, перестал, — он знакомо усмехнулся, а я только теперь заметил, обрадованный, что нет с ним уже, казалось бы, неотделимой от него маленькой фляги в темном кожаном чехле, куда он, кашляя, переправлял по указанию врачей мокроту.
Было начало августа. Погода — пастернаковская. Солнце устало, но усердно пекло наши головы. Ветерок, который почти всегда веет на Воробьевых горах, обдавал прохладой и отгонял мошек. Монотонно гудели шмели. Настроение, под влиянием погоды, благоприятного развития моих собственных дел и добрых вестей, услышанных от К.М., было приподнятым.
К нам вскоре присоединились пришедшие навестить Симонова, да и меня заодно, правдист Тимур Гайдар и младшенькая К.М. и Ларисы, самая его любимая из детей Санька, которая собиралась поехать к кому-то в гости в Италию и донимала отца, много раз там бывавшего, расспросами. Тимур тянул в свою сторону — пытался обсудить подробности предстоящей поездки целой «обоймы» журналистов и писателей в Монголию, на годовщину Халхин-Гола.
Несколько дней после этого Симонова я не видел, не встречал в больничном садике и не хотел беспокоить в палате — после нелегкой все же, несмотря на все его рассуждения, операции. А когда наконец решился заглянуть, обнаружил палату пустой. Медицинские сестры с непроницаемым видом объяснили, что Константина Михайловича еще три дня назад увезли — они возводили очи горе — на специальный этаж.
Идти и расспрашивать Ларису Алексеевну казалось неловким, просто невозможным... Она на особом режиме. Но на следующее утро она сама прислала за мной гонца. После второй бронхоскопии, которую по его настоянию сделали досрочно, началось кровотечение горлом. Оно с небольшими перерывами продолжалось несколько дней. Было искусственное дыхание, была маска с кислородом, были и короткие минуты облегчения. А потом опять ухудшение за ухудшением.
По трагической усмешке судьбы это началось 13 августа, в день ее рождения. Еще неделю назад они планировали отметить его вдвоем, «пусть и в больничных условиях. Вдвоем — ни детей, ни знакомых».
— Он мне сам все рассказал: «Я проснулся весь в крови, дышать нечем», — говорила мне Лариса Алексеевна. — Это его собственные слова. Наверное, говорит, они мне что-то там пропороли. Вот они тут теперь все и крутятся, все приходят: профессора, врачи, один за другим. Ничего они не знают, а у меня, наверное, там, внутри, огромная гематома. Вот такой печальный был мой день рождения. На следующий день он мне прислал записку, я обрадовалась! — продолжала она. — Может держать карандаш в руках. Пишет, что он чистый, умытый лежит в кровати и что его продержат в реанимации, вероятно, до понедельника. Так что, мол, будем сообщаться записками. Когда меня снова к нему пустили, он был розовый, выбритый и довольно активный. Но что на меня произвело прямо-таки удручающее впечатление — он дышал только кислородом и у него были такие зеленые усы — вставлены трубочки.
Тут она подошла к тому, ради чего и позвала меня:
— У нас есть знакомые швейцарские специалисты. Их приглашали, когда Жуков лежал здесь. Жена Георгия Константиновича добилась их вызова. Они прилетели и продлили ему жизнь.
Я сказал, что врачей надо вызывать немедленно, что бы по этому поводу ни думали местные обидчивые эскулапы. Она попросила меня пойти вниз и позвонить по вертушке Зимянину. Была суббота, и можно было надеяться, что главного врача не окажется в кабинете.
Так оно и оказалось. Когда я вернулся к Ларисе Алексеевне, увидел ее с трубкой в руках. У нее уже выясняли имена и телефон врачей. На следующий день они прилетели, но, осмотрев больного, только руками развели. Вслух сказали, что все идет по правилам. А мне шепнули, что надо было раньше их вызвать.
Между тем пришла пора мне выписываться из больницы. И в соответствии с логикой постепенно сраставшегося позвоночника перебираться на реабилитацию в клинический санаторий под Москвой.
Превозмогая какую-то странную неловкость, я утром 27 августа 1979 года снова постучал в палату Ларисы. О том, чтобы попроситься к К.М., не могло быть, естественно, и речи.
Она в постели. Ей меряют давление. Просит подождать, не уходить.
— Плохо, — говорит она, не дожидаясь моих расспросов, когда белые халаты ушли. — С субботы наступило резкое ухудшение. Боли в сердце, нечем дышать. Задыхается. И самое страшное, что он все понимает. Мне не говорит, а сестре сказал: «А ведь плохи мои дела». Мы ему хотели сделать бульон. Его любимый, чтобы поел. Он говорит: «Не успеете». Что значит не успеем? Сейчас сварим и принесем. Он говорит: «Что ты! Не понимаешь? Подумай как следует».
А вчера у него произошел сердечный приступ. Как они тут говорят: сердце поехало. Я в это время гуляла, первый раз вышла, и сестра прибежала за мной прямо в сад. Я страшно испугалась. Они предложили из гуманных соображений включить искусственное дыхание. А до этого надо всех родных вызвать — проститься. Это делается с выключением сознания. Я не согласилась. Потом пришли Катя, Алеша— проститься. Доктор Абрамов «раздышал» его. К.М. сказал ему: «Я ведь, по существу, уже умер». Дали ему большую долю седуксена, он спит.
Слушаю ее, но до меня все-таки не доходит то, что для нее уже стало неизбежным. Пытаюсь что-то сказать, но рот словно бы схвачен судорогой. Слова не идут с языка. Каждое, едва зародившись, уже кажется кощунственным.
В палату между тем входит женщина в спортивном шерстяном костюме. Такой же точно она кладет на стул рядом с кроватью больной. На мой недоуменный взгляд Лариса реагирует неловкой усмешкой: «Мне вот говорят, надо делать лечебную гимнастику, чтобы, знаете, быть в форме. Предстоят разные дела...»
Будничность, с которой она произносит эту фразу, и меня как будто встряхивает, возвращает к холодным, неуютным реальностям. Почему-то вспоминаю на мгновение ту нашу первую встречу в «Арагви» и разговор в машине о стихах. Ничего не скажешь — в этой семье хватает мужества называть вещи своими именами.
Такая женщина. Память о муже была для нее теперь все. Я продолжал смотреть на события ее глазами. Ее глазами вчитывался снова в начальные страницы своей рукописи. И их-то принять нужно было мужество. Потому что все, чем я в моем Симонове восхищался, принадлежало не ей. Весь этот период, который был едва ли не лучшим в его жизни, прошел под иной звездой. И это было известно всем. Ее была вторая часть его жизни, и она-то теперь ставилась под сомнение. Кем? Человеком, которого она только что подвигнула на новую «обреченную на успех» работу, которому сказала вдохновенно и искренне: «Вы будете писать роман».
А он уперся в несколько абзацев, которые, она уверена, и написаны-то были случайно — не продуманно, не взвешенно, а так— разбежалась рука... Неясно было, как дальше поступить, но ясно, что так этого оставлять нельзя.
Да-да, теперь мне становилось все яснее — не так эти абзацы сами по себе нехороши с точки зрения моей гостьи, как это упорство. Боже мой, все они хотят быть умнее К.М., смелее его, глубже его. Все хотят его судить вместо того, чтобы увидеть, разглядеть, — думала, наверное, она. Но вы пройдите с ним, что он прошел, переживите то, что он пережил, упадите так низко, как он падал, и поднимитесь на его высоту, с которой он смотрел на меня, когда я была у него в палате в тот последний день. Глаза у него были без единой грустинки — ясные, чистые и абсолютно бесстрашные. И он смотрел, смотрел на меня, смотрел и говорил... Я теперь всю жизнь буду расшифровывать этот взгляд— я умираю, так надо, я сделал все, что надо было, я боролся изо всех сил — но больше сил моих нет, и поэтому прощаюсь.
Лариса ли так думала, или это ее рассказ прокручивался в моем сознании, или это я прочитал в той последней записке, действительно ему принадлежащей, которую он оставил в своей палате, когда его увозили на операцию?..
Я и не заметил, как мои мысли смешались с мыслями Ларисы, в моем же воображении родившимися. И я уже не знал, кого я больше понимаю в этот момент — ее или себя.
Посидев над очерком еще немного и перепечатав его для пущей важности снова на машинке, я отослал его Ларисе. Она как составитель книги воспоминаний накапливала у себя поступавшие рукописи.
Увы, самой ей не довелось уже увидеть не только книги воспоминаний, которая вышла спустя почти три года после нашего собеседования, но и моей журнальной публикации. События развивались скоротечно и трагично.
Мы виделись редко, гораздо чаще звонили друг другу. И каждый раз она упоминала о какой-нибудь либо старой, забытой работе К.М., либо о том, что вообще не было опубликовано. Предлагала, чтобы Толя при случае завез домой или на работу.
А потом вдруг ее звонок на дачу вечером и предложение встретиться, поговорить, в чем я не уловил поначалу ничего экстренного.
Неделя предстояла напряженная, и я с дотошностью, выдававшей смущение, разложил перед ее мысленным взором мой рабочий распорядок на ближайшие три-четыре дня. «Может быть, — предложил я, — попозже?»
Несколько секунд пауза на том конце провода.
— Тогда по телефону, — звеняще, как будто бы именно в это мгновение что-то решив для себя. — Потому что послезавтра я ложусь в больницу. Да нет-нет, ничего серьезного, — твердым тоном на переполох моих вопросов. — Ничего серьезного, но будет операция... Совсем незначительная, по их параметрам. Но вы понимаете... все может быть... Это онкологический институт все-таки.
Такая непостижимая была у нее манера подводить к существу дела. Несколько коротких, с паузами фраз. В одной тональности. А между первой фразой и последней - пропасть.
— Я написала завещание... Да, собственно, я его раньше написала. Как К.М. Все было так неожиданно, что показалось мне в тот момент какой-то сумасбродной игрой или подражанием старомодным романам.
— Дело идет о литературном наследии... Я хочу, чтобы вы знали... Я имею в виду К.М. Конечно, ядро наследства, так называемый литературный архив, передан и будет еще передаваться в ЦГАЛИ. Он завещается комиссии по литературному наследию... Нина Павловна Гордон сейчас этим занимается. К.М. ей поручил. Неопубликованное, особое, завещается Кате с обязательством сдать в ЦГАЛИ. И не вскрывать 50 лет. В том числе и то, о чем мы говорили. И я хочу, чтобы вы знали... После меня старшая в семье — Катя... Последнее время она из всей семьи была ему ближе всех. Хотя она не его дочь... Я ей сказала все, что надо, она будет вам давать... А сейчас я вам посылаю, как договорились… Наброски «Мои четыре Я». И еще... Я жалею, что не успела... Но мы еще найдем время. Меня обещали выпускать из больницы. Встретимся у нас на даче. Я хочу познакомить вас с Ниной Павловной Гордон. Удивительно, что вы с ней незнакомы. Это личный литературный секретарь Константина Михайловича. Из всех сотрудников — самый близкий ему человек. Он доверял ей как себе. Они работали с ним больше тридцати лет. Ну, вот, чтобы вы знали.
Фраза о том, что я готов все бросить и приехать тотчас же, была у меня на языке, но, к счастью, не слетела с него. Несколькими днями позже, воспользовавшись первым же приемным днем, я был у нее в больнице.
Стоит ли говорить, с каким чувством входишь в заведение с тем названием, которое Лариса упомянула в телефонном разговоре со мной?
Разумом понимаешь необходимость построить такой центр. Но духом падаешь, входя под сень этого гигантского улья, в одной из бесчисленных сотов которого ждала меня Лариса.
У нее была Катя. Уютный, по натуре и внешне, человек, она и вела себя непринужденно. Все хлопотала — то о чае, то о фруктах, и было вполне естественно в ее присутствии сразу принять и исповедовать без лишних слов версию о том, что у больной действительно ничего серьезного нет, и операция ей на днях предстоит, действительно, скорее профилактическая. Хотя именно Катя, я не сомневался в этом, знала о болезни матери больше, чем она сама, во всяком случае, все, что знали врачи. К тому телефонному разговору Лариса Алексеевна уже не возвращалась, и вообще ни о чем серьезном мы в тот день не говорили — так, о погоде, о том, что нынче в театрах, как на даче и т. п. И оттого угрызения совести мучили меня еще сильнее. В нейтральности нашего разговора я все острее ощущал свой промах. Поезд, корил я себя, ушел.
Но оказалось, что я просто не до конца постиг логику поведения этой женщины, у которой даже перед лицом, быть может, и смерти для всего было свое время. Через несколько дней ей сделали операцию. Еще через несколько дней она позвонила и совершенно здоровым голосом сказала, что все, слава Богу, образовалось, ее даже хотят выпустить на несколько дней домой, на дачу, подышать воздухом, и она была бы рада видеть нас с женой у себя. «Будет только Нина Павловна, вы помните, я вам говорила…»
От Кати я уже знал: она безнадежна.
— Надеемся, она не догадывается. Ей сказали, что просто небольшая «подчистка», которая практически каждой женщине требуется в ее возрасте.
Катя была спокойна с виду, задумчива, разговаривала, чуть потупив глаза, а вся бездна отчаяния, о которой непосвященный и не догадался бы, — глубоко-глубоко внутри. Так в тяжелую минуту вели себя герои Симонова, так старался вести себя он, подавая пример близким.
Но каково нам было собираться в тот день в Красную Пахру, на дачу Симоновых... Как держаться? Грустить? Бестактно. Веселиться? Кощунственно, да и откуда его взять — веселья? Оставалось положиться, как говаривали наши деды, на волю Божью, на обстоятельства, на свою незаемную симпатию и сострадание.
Мы подъезжали на машине, и две женщины встречали нас далеко за воротами дома, на тенистой и зеленой, вся в траве-мураве, улице поселка, где в одну сторону глянешь — дача Твардовского, в другую — Юрия Трифонова, а в третью — Юлиана Семенова... Но мы не смотрели по сторонам. Мы смотрели на женщин, которые, чуть касаясь голыми локтями и плечами друг друга, как будто бы даже держась за руки, шли навстречу. Высокая, в светло-зеленом сарафане, похудевшая, загоревшая и помолодевшая — Лариса. Вторая, значительно старше возрастом, седая, но такая же прямая и тонкая, стройная, хоть и невысока ростом, и была Нина Павловна Гордон.
Уже то немногое, что я к тому времени узнал о ней, окружало ее неким ореолом. Была секретарем Михаила Кольцова и, быть может, последней, кто видел его перед арестом. В тот роковой день он подвез ее из «Жургаза» домой, а сам поехал в «Правду» к Мехлису, который его вызвал. Там его и забрали.
Сама жена зэка, а потом, после второго ареста, ссыльного, к которому, отпросившись у Симонова, уехала в Сибирь, где жила до полного его освобождения и реабилитации.
Конечно же, не сомневался я, она знает о положении Ларисы еще определеннее, чем мы. Быть может, они даже обо всем уже поговорили друг с другом, в том числе и о целях сегодняшней нашей встречи. Эти предположения бродили у меня в голове, пока мы шли длинной улицей писательского поселка, пока осматривались в осиротевшем доме, где, — говорили мы один другому, — а что можно было еще сказать? — все и так, и не так, как было при хозяине. О «нем», естественно, и был разговор весь вечер. Нет, не напрямую — и это опять было по-симоновски «найдено» женщинами дома — о сценарии, который мне предстояло писать. Что могло быть более естественной темой?
Лариса, обращаясь к Нине Павловне, становилась мягче лицом и голосом. Нина Павловна все больше заводила речь об архивах. Поначалу казалось, просто отвлекает внимание от собственной персоны. Потом подумалось — издержки профессии: столько лет имеет дело с набросками, надиктовками, рукописями, черновиками, вариантами, письмами... В ту пору мне понятнее стало пастернаковское «не надо заводить архивы».
Размышляя таким образом, я, тем не менее, с признательностью внимал рассказам Нины Павловны, чья разговорчивость в тот вечер была, конечно же, продиктована драматизмом ситуации, которого нельзя было и помыслить коснуться словом. Да. Страшная тайна, все не дававшая нам с женой обрести себя, была словно бы неведома нашим хозяйкам, как и третьей женщине, Марусе, давней домработнице Симоновых, которая хозяйничала энергично и с видимым удовольствием. Стол, когда мы только подошли к нему, уже был уставлен яствами, выбранными, это сразу чувствовалось, в соответствии со вкусами основателя дома. Кавказский акцент их заявлял о себе во всем. Вороха восточной зелени, ослепительно белая брынза, темно-коричневое лобио, бокастые алые помидоры, цвета грецкого ореха сациви, пышные горячие хачапури... Одного этого хватило бы для десятка гостей на целую ночь! Но из кухни слышалось шипение, бульканье, потрескиванье и доносились запахи, которые помимо воли взбадривали дух, заставляли втягивать носом ароматы и, совсем по-кавказски, цокать языком, что вызывало заметное удовлетворение хозяек.
Нет, тщетно. Как ни стараюсь, не могу найти слов, которые передали бы наше тогдашнее состояние, всю многослойность атмосферы этой тайной вечери, участники которой чувствовали такое единение друг с другом и одновременно несли в себе столько тайн, поделиться которыми их не заставишь и под пытками.
Мы знали, что грядет, к чему приговорена Лариса... но что знала она сама об этом? И знала ли, что об этом знаю я, знает Нина Павловна? Она, конечно же, посвящена. Но кем? Ларисой или Катей? И если Катей, то знают ли они с Ларисой об этом порознь или вместе? Я не мог обо всем этом забыть, но и не мог не заставлять себя не думать об этом, а когда все-таки переставал помнить — под влиянием оживленного разговора и восклицаний по поводу очередного дымящегося и шипящего блюда, начинал корить себя. Оживленно и чуть форсированно, как всегда, звучит голос Ларисы. Четкий, интеллигентный, с картавинкой, под стать Симонову, говорок Нины Павловны, словно в тигле каком, отливающей фразу за фразой. Вспоминает, как однажды заснула над тетрадкой под диктовку «шефа», стенографируя его четвертый час подряд. Ни он этого не заметил, ни она, пока не обнаружила себя пробуждающейся. Когда разобралась в своих записях, убедилась, что ничего не пропустила.
Смех — веселый и меланхоличный звучит в доме, примета той поры, когда боль утраты, уходя вглубь, как бы расстается со своей остротой, но не с силой. Как рана, которая затягивается, но не заживает.
И дом, переживший вместе с людьми их трагедию и еще переполненный незримым присутствием своего хозяина, прислушивается к этому смеху в предчувствии новых потерь.
Врачи и дальше, не говоря ей правду, удерживали Ларису в больнице, ссылаясь на необходимость наблюдения. Время от времени, как в тот вечер, они позволяли ей уезжать домой, на дачу или по делам.
Ждали ее в начале декабря 1981 года и в Доме литераторов, где друзья и почитатели Симонова собрались по случаю шестьдесят шестого дня его рождения. Но она не смогла приехать.
На вечере мы сидели рядом с Санькой, младшей дочерью К.М. и Ларисы. Показалось, что в этом сонмище людей она чувствовала себя одинокой. Само собой получилось, что по окончании вечера поехала к нам на дачу, с ночевкой, чтобы наутро, по дороге из Ильинского в Москву, отправиться прямо к матери на дежурство.
Сидели за столом долго, далеко за полночь. Саня весь вечер говорила о родителях, о деде с бабкой с материнской стороны. Была доверчива и откровенна. Рассказывала, как в одном платьишке убежала мама из дома, потому что дед, так звали в семье отца Ларисы генерала Жадова, был почему-то против ее брака с поэтом Семеном Гудзенко. Он проклял ее, когда она его не послушалась. От нового брака — через несколько лет после смерти Семена Гудзенко — дед тоже не был в восторге. Но не проклинал уже дочь и в конце концов признал папу, который непривычно для подраставших детей Кати и ее, Саньки — слегка робел перед тестем-генералом. Саня вспоминала, что всегда, когда отец и дед встречались за столом и говорили о войне, у них возникали споры. Дед убеждал папу, что писать надо в основном о командном составе. Каково было слушать это папе, которого и так все упрекали, что у него «офицерская проза». У деда была привычка подкреплять свои доводы ударом кулака по столу. Даже не кулаком, а всей рукой. Даже папа не мог привыкнуть, вздрагивал.
Смешно выгнувшись, она прилегла правым боком на столешницу — и к-а-а-к грохнет! По-генеральски.
Слушая ее, я вспоминал и все никак не мог вспомнить, кто же из героев симоновской прозы вот так же «грохал» кулаком по столу?
Саня сказала, что к моменту второй выкачки одно легкое у отца было уже совсем отключено, как окаменело. А второе — частично. И вот, когда все это залило кровью...
Говорила со спокойствием человека, успевшего уже осознать, что в жизни бывают разные полосы.
У отца с рождения был отмечен слишком малый объем легких — несоразмерно с ростом, с другими параметрами. Он ведь был высокий.
И, конечно же, она все знала о положении матери. Только вот не уверена, сказали ли ей. Но она догадывается. Вчера пришла к ней, и ее сразу же позвали врачи.
— Вот сейчас сообщат тебе, что я безнадежна и меня надо забирать домой, — сказала она растерявшейся дочери. И когда та замешкалась, не зная от волнения, как быть, поторопила ее властным тоном: — Иди, иди, не заставляй людей ждать.
Успокаивать, утешать Саню не требовалось. Она была дочерью своих родителей. Желать Ларисе выздоровления показалось бы позой. Подняли тост «за чудо», имея в виду, что какая-то, пусть слабая надежда все же остается.
Утром я довез Саню до больницы. Через несколько часов она позвонила и сказала, что мама ночью мгновенно умерла. От тромба в сердце. Добавила, что тетю Марусю, которая безотлучно находилась при маме в больнице, врачи провели по коридорам, и она слышала, как кричат от боли женщины. Вот от чего спас Ларису тромб. Чудо все же произошло.
Через несколько дней мы прощались с Ларисой в старом московском крематории. Она лежала в гробу, и в позе ее было что-то, не вязавшееся с обстановкой. Что — я понял лишь тогда, когда одна из ее подруг поправила ей голову, но голова Ларисы снова беспомощно склонилась, не по-похоронному уставу, на бок. Как у подстреленной птицы.
Я чувствовал себя покинутым.
Речей не произносили. Так, видимо, было условлено. Просто стояли, смотрели и молчали. Через некоторое время служащие крематория закрыли крышку гроба. Распоряжавшаяся ими женщина сноровистым движением сунула какую-то бумажку, видимо, квитанцию в невидимый кармашек розоватой, в фестончиках, обивки гроба...
Почти все, рассевшись по машинам, как правило, это были личные «Жигули» да «Москвичи», отправились на поминки в квартиру Симоновых. Квартира была на последнем этаже, лифт шумно вздрагивал на каждой лестничной клетке, словно норовистый конь от укусов оводов. Номер квартиры, двери которой, как в таких случаях полагается, оставались приоткрытыми, — был 113.
Сама же квартира, скорее всего из-за обилия народа, у крематория это многолюдство не было так заметно, казалась меньше, чем обычно, и не очень-то удобной для житья.
В глазах рябило от людей, столов с яствами и напитками. И то и другое — в изобилии.
Нина Павловна спросила, удалось ли мне более или менее разглядеть кабинет К.М., и согласно кивнула на мою реплику о том, что, увы, не самый сегодня подходящий день для такого занятия.
— А вы знаете что, если можете, то есть если хотите, конечно, приходите сюда завтра, нет, не завтра, мы завтра будем еще тут чистоту наводить, послезавтра, я с десяти до двух буду на работе... Вот тогда все и посмотрите.
Говоря о Ларисе, о К.М., Нина Павловна поневоле говорит и о себе. О своей работе с Кольцовым. И вообще — о «Жургазе», издательском объединении, куда входил тогда и «Огонек». Об Але — Ариадне Цветаевой, дочери поэтессы. Они познакомились перед войной, когда Аля вернулась из эмиграции. Познакомил их Юз, Иосиф Гордон, жених Нины Павловны, который перед этим десять лет провел в Париже. Алю и Юза арестовали почти одновременно, через четыре месяца после того, как Юз с Н.П. зарегистрировали брак, а потом они оба, Юз и Аля, после первой отсидки оказались на положении ссыльных под Рязанью, «за сто первым километром». Там же их, и тоже почти одновременно, арестовали по второму разу. Юза отправили в Красноярский край, куда за ним последовала Нина Павловна.
До смерти Сталина она ничего не записывала. Не могла забыть, как при аресте Юза 30 апреля тридцать седьмого года забрали у нее первые заметки о Кольцове, самые невинные. И даже детские ее дневники. После возвращения из Красноярска снова стала писать, стенозаписью, в свободные от диктовок, от разбора бумаг минуты. Постепенно это стало потребностью.
— К.М., надиктовавшись, уставал, уходил покурить, поговорить по телефону, а я пишу. Потом дома расшифровывала. Лариса о моих записках узнала только после его смерти. Когда стали создавать том воспоминаний. И никто раньше, кроме К.М., не знал. И не ожидал. Так, думали, сидит девочка, потом уже старушка у телефонов...
Лариса, когда прочитала ее заметки, несколько дней не возвращалась к этой теме. Потом позвонила по телефону.
— И посоветовала таким, знаете, ровным, какой у нее иногда бывал, холодным голосом сделать для книги сорок страниц. И только о работе. Я ее спрашиваю: «Лариса, вам хоть понравилось?» А она говорит: «Это выходит за рамки понравилось или не понравилось». Я говорю, а какие рамки вы имеете в виду? Она не ответила. Только попросила широко этого не показывать. Только — «узкому кругу». И включила в этот узкий круг вас с женой. Она мне еще сказала: «В случае чего Борису Дмитриевичу все можете показывать. Я думаю, он напишет художественную биографию».
— И еще она мне однажды сказала: «А о Вале вы хорошо пишете». Я говорю: как думаю, так и пишу.
Так, уже в день поминок мне выпало узнать, что отношения Нины Павловны и Ларисы отнюдь не были сплошной идиллией, как можно было предположить. Это, признаюсь, огорчило меня. Не так-то много мы находим в жизни воодушевляющих примеров. Словно прочитав на моем приунывшем лице эти чувства, Нина Павловна тихонько сказала: «У меня такое впечатление, что она, только когда он серьезно заболел, спохватилась, с каким человеком жила. И тем более, когда он умер. В ней очень большой переворот произошел. И ко мне она заметно переменилась. Мы могли с ней часами говорить. И когда встречались, и по телефону...»
До его смерти Лариса почти ничего не знала о его архиве. Иногда увидит, как мы с К.М. в поте лица своего готовили рукописи на хранение, бросит вскользь: «Да кому он нужен, ваш архив». А после смерти К.М. вошла, глубоко вошла во все, по-хорошему...
Прощаясь, уходил я с поминок чуть ли не последним, мы условились, что встретимся здесь же на днях, в часы ее работы.
По завещанию К.М. Нина Павловна оставалась его секретарем и после его смерти. Для стороннего уха, каким до поры было и мое, это звучало странновато и, пожалуй, даже жутковато. Для Нины Павловны, продолжавшей, несмотря на смерть шефа, патрона, как она его любила называть, жить в его мире было естественно. Она получала ту же зарплату, что и при нем. Так же, как и при нем, приходила на работу, то есть на квартиру, в его рабочий, верхний кабинет или в «нижний» — однокомнатную квартирку на первом этаже в доме неподалеку.
Просто однокомнатная квартира в стандартном, шестидесятых годов постройки доме. Хрущоба, переоборудованная так, чтобы здесь можно было работать — то есть писать на машинке, диктовать Нине Павловне и на магнитофон, прохаживаясь и дымя трубкой, держать необходимые книги и папки с собственными архивами. В одну из первых наших встреч Нина Павловна показала мне письмо Симонова в Моссовет, в котором он «хлопотал» об этой «площади»:
«Живем втроем, жена, дочь и я в небольшой квартире в 59 метров. Считается четырехкомнатной, но на самом деле три небольших изолированных комнаты и проходной холл. Жена — искусствовед, кандидат наук, член Союза художников СССР, работает дома, имеет огромную библиотеку по специальности. Дочь — студентка второго курса истфака МГУ, ну и мне нужно рабочее место. В результате три комнаты из четырех стали, по сути, кабинетами, а четвертая проходная остается «на все про все», и практически у нас с женой нет спальни. С годами такие обстоятельства начинаешь ощущать острее, да и дочь повзрослела, с чем — хочешь, не хочешь — а приходится считаться».
Просьба маститого писателя была удовлетворена, но общей с женой спальни так и не появилось. Зато одним кабинетом, вернее, кабинетиком стало больше.
Третий кабинет Симонова был на даче. Но теперь «нижний» отходил по завещанию К.М. к ЦГАЛИ, а с дачи — для пользы дела все было перенесено на основную квартиру. Сюда и приходила, как на работу, то есть не как, а именно на работу, только так она это называла, Нина Павловна, три раза в неделю на три-четыре часа, и здесь она занималась тем, что уже много последних лет делала и при Симонове. На ее языке это называлось «готовить для сдачи в архив». Работы этой, начатой еще вместе с шефом, по подсчетам, было года на два — на три.
Она и боялась этой работы, особенно первое время, и радовалась ей. И с тяжестью в сердце уже думала о той поре, когда все будет сделано.
Странно и сладко было ей приходить по утрам в эту совсем уже опустевшую после вторых похорон, а некогда такую шумную, многолюдную и оттого-то и тесноватую квартиру и сидеть в кабинете, напротив большого снимка: шеф, невозмутимо попыхивающий трубкой.
Дома он тоже был рядом с ней. Тоже портретом. Только живописным. Сделан был чуть ли не тридцать лет назад армянским художником и подарен Нине Павловне за два года до смерти. К.М. сказал, даря, «пусть висит, неплохая картинка».
Нине Павловне нравится, что в «картинке» много света и тепла. Шеф ее сидит в синей рубашке в своем большом светлом кабинете, с трубкой в зубах, за письменным столом у самого окна, работает. В окно льется солнце, за окном — много зелени, на столе всякие знакомые ей вещички, знакомые цветы — и сам он такой знакомый, молодой, красивый, какого уже многие-многие годы не видела она наяву. Портрет сделан в профиль, и это, думает Нина Павловна, не случайно, потому что еще никому не удавалось написать его глаза, так что лучше и не пытаться. Хотя в глазах вся сила.
Что же касается «верхнего», то есть главного кабинета, в нем все пока сохранялось так, как было при шефе, во всяком случае в те часы, когда он, расхаживая, диктовал, а она со скоростью, за которой и он порой не мог угнаться, все это записывала.
Теперь не за кем было записывать. Но оставалось другое, та часть работы, которую она делала и раньше — и вместе с ним, и без него, когда он отдыхал или уезжал «в город», как они говорили, то есть куда-то по делам или вообще в командировку. Папки, альбомы, рукописи, копии, варианты. Вот они стоят — как солдаты, в строю.
С течением жизни я убедился, что у каждого человека, рано или поздно, появляется свой «пунктик». Симоновские архивы, эти бесконечные папки с тесемками и скоросшивателями — и есть «пунктик» Нины Павловны, решил я.
Живущие поневоле в мире единообразия, как легко мы принимаем все выходящее из ряда за «пунктик» и чудачество. А может быть, это так называемое чудачество и есть на самом деле норма?
Об этом архиве, его громадности и необозримости, разнообразии и бесчисленности она не могла говорить иначе как с упоением. Кажется, не сомневалась в том, что у слушателя поведанное ею не может вызвать ничего, кроме восторга и изумления.
— Архив Константина Михайловича огромен и по-своему сложен, — легко и непринужденно лилась ее речь. — Мало ему было собственных трудов. При его разнообразной и активной деятельности на его голову буквально сыпались в невероятном количестве письма, материалы, деловые бумаги, рукописи всех жанров — от маленьких рассказов и стихов, воспоминаний неизвестных ему людей и начинающих авторов до больших романов уже известных писателей. Он все читал, отвечал практически на все стоящие письма и на все присылаемые ему рукописи.
Иногда это были большие отзывы, иногда — несколько строк. Он никогда ничего не уничтожал, не рвал, не выкидывал. Если закончил работу с документом, то ставил галочку, и мы уж знали, что нужно убрать в архив и куда. Раскладывали всю отработанную им почту, материалы, рукописи по папкам.
Делалось это обычно в те немногие часы, когда его не было дома, а у нас, к счастью, не было срочных расшифровок или перепечаток. Чаще всего руки доходили до архива только тогда, когда он куда-нибудь уезжал.
Архив, то есть бесчисленное количество папок, коих только малая часть находилась сейчас здесь, в этом кабинете, начинал в моем воображении оживать, шевелиться и в конце концов стал напоминать гигантского спрута, который уже поглотил своего владельца и теперь с теми же намерениями подступает ко мне. Если он, архив, кого-нибудь и побаивался втайне, воображал я, то только эту маленькую бесстрашную женщину, которая со своей указкой-хлыстом в руках все дальше уводила меня в бесконечные дебри разделов, рубрик, папочек и рукописей.
— Но, как вы понимаете, — продолжала она, — его творческая работа прямого отношения к этим папкам не имела. Его творческий архив — это совершенно особое дело. Вот папки его стихов, вот переводы стихов других поэтов, корреспонденции, очерки, рассказы... На повести, романы, дневники заводили и несколько папок с разными вариантами произведения, с рукописной и машинописной правкой, иногда с оттисками. На письма-отклики тоже заводили отдельные папки — по произведениям.
Как вытекало из рассказов моей собеседницы, и творческий архив — это еще не литературный. Литературный — это переписка и взаимосвязи с писателями, всякие общественные литературные дела.
Целый раздел архива — военные беседы. Это началось еще в пятидесятые годы — в работе над «Товарищами по оружию». С тех пор и до последних своих дней, — рассказывала мне Нина Павловна, — К.М. вел бесконечные беседы, бесконечнейшие, — она любила длинные слова, их легче было выделить интонацией. И она с удовольствием выпевала каждый слог: — бес-ко-неч-ней-шие беседы с военными всех рангов — от рядовых до маршалов. Сначала под стенограмму потом — под диктофон.
Есть личный архив, перечисляла она, есть серия папок, «тематическая подборка» — это тоже бес-ко-неч-ные организационно-литературные дела, которые он вел, — папки по Маяковскому, по Твардовскому, по Мандельштаму, Булгаков, ну, и так далее...
— И есть еще, — сказала она, победно глядя на меня, — есть еще папки-«звонки».
— По-моему, это было в конце шестидесятых, когда К.М. сказал мне и Дубинской, мы тогда работали с ней через день, чтобы мы, когда его нет, записывал все звонки к нему. Телефон включали только на один час — с двух до трех дня. Но этот час был, как обвал. Потом телефон снова выключали, иначе ничего бы не смогли дальше делать. Мы записывали звонки, перепечатывали зафиксированное в трех экземплярах — один оставляли в его «нижнем» кабинете, другой — заносили в его рабочий кабинет домой, третий — брали с собой.
К.М. или поздно вечером, или по утрам, если он спешил и не мог заглянуть «нижний», звонил нам туда и говорил: «Берите звонки и отмечайте». И быстро глядя в эти записи, которые мы держали перед носом, говорил, что делать — с кем будет встречаться, с кем — нет, кому надо позвонить от его имени и что-то передать или что-то сделать — в общем за десять-пятнадцать минут он расправлялся в первом чтении с очередной дневной порцией. И мы делали пометки.
А в два часа пополудни на следующий день мы снова включали телефон. Вот теперь по этим листкам, а их несколько папок, видно, чем и кем он только не занимался, по каким вопросам к нему только не обращались, с какими только просьбами...
Все это, спрессованное теперь в несколько страниц, Нина Павловна, конечно же, рассказала мне не сразу, не за одну нашу встречу.
— Представьте себе, — сказала она однажды как бы мимоходом, доставая какую-то понадобившуюся мне бумагу, — он ведь с шестнадцати лет хранил у себя все присылаемые ему письма и снимал для себя копии со своих.
Мне, признаюсь, представить это было нелегко. Трудно было и согласиться с тем, что это так уж необходимо.
— Нет-нет, — сказала она, словно угадав мои сомнения, — это совсем не то, что вы могли подумать.
— Я абсолютно убеждена и могу держать пари с кем угодно, что тут нет толики самонадеянности, поверьте мне. Я вам даже больше скажу — я однажды сама его спросила об этом. И знаете, что он мне ответил? Но прежде чем рассказать вам об этом, я должна спросить вас, знаете ли вы, что это такое. — Слово она произнесла так, как если бы каждая буква в нем была заглавной. Полководческим жестом изящной ручки она указала на длиннющий ряд одинаковых серо-зеленых папок на полке, занимавших целую стену.
В характере, в самой натуре ее был артистизм, а в манере беседовать — склонность к невинной театрализации.
— Это — «Все сделанное». Это — гениальное, ге-ниаль-ней-шее изобретение Константина Михайловича, и мы работали над ним под его руководством несколько лет, пока, уже перед самой его смертью, не привели все в порядок.
В словах «гениальное изобретение» была оценка, но еще не было сути. Одушевляемая моим любопытством и нетерпением, она взяла с полки первый по порядку том.
— Вот, видите — Год 1938, — она показала мне его издалека, как бы поддразнивая, и поставила на место. Я только успел заметить, что папка эта была заметно тоньше следующих за ней.
— А это, — ей пришлось сделать несколько небольших и быстрых шажков вдоль стены, чтобы взять в руки последний том. — А это — Год 1979. — Она бережно, как святыню, положила папку на стол. Развязала тесемки. Как можно было различить, в папке копии рукописей, различных документов, вырезки из газет и журналов.
— Вот это — последнее, что мы сюда положили, — она взяла бумажку, напоминающую телеграфный бланк, и прочитала: «Я уже ничего не могу доделать. Что сделано, то сделано, что задумано и недодумано — тоже не в моей власти. Я могу только, если потребуется, привести в порядок не приведенное в него».
— Не приведенное в него, — машинально повторила, прочитав вслух всю запись, Нина Павловна.
— Так вот, — продолжала она, усилием воли стряхнув, словно платок с плеч, набежавшее облачко грусти, — однажды, это было уже лет десять тому... наверное, добрых десяток лет назад, К.М. приехал из какой-то очередной командировки, собрал нас и сказал: пора начинать все приводить в порядок. Надо все разложить по годам. Начнем с 1938 года... Год жизни, год работы — папка, том. И с тех пор дело было так. Константин Михайлович работал вот за этим столом, который, кстати, был сделан по его проекту — видите, как здесь удобно и просторно, он ведь всегда одновременно имел дело с массой материалов. Он работал, сидел на этом вот стуле, а сзади него, вот здесь, на полке, лежала кожаная папка с застежками. И туда, в одном экземпляре, попадали копии всего, что он писал, диктовал, словом, над чем работал весь день. И так день за днем. Копии его литературных работ, заметки на память, письма его и к нему, просьбы, поручения нам, заявления, разные бюрократические бумаги — все, абсолютно все попадало в эту папку. И никому, включая самого Константина Михайловича, нельзя было взять отсюда ни листочка.
— Никому, — повторила она еще раз. — Год кончался, и содержимое папки шло в переплет, листок к листку — без комментариев, поправок и изъятий. За этим мне было положено следить.
— Так вот, — сказала она, возвращаясь к началу нашего разговора, — я однажды спросила его: К.М., а зачем это? И он, всерьез восприняв мои слова, сказал: «Знаете, Нина Павловна, раз уж судьба так распорядилась, раз уж поставила в центр потока жизни, наш долг бережно к этому отнестись».
— И ведь действительно так, — заторопилась она, словно опасаясь, что и эти слова ее шефа я могу поставить в строку. — Ведь, начиная с 1938 года, когда он написал своего «Генерала», не было, наверное, в мире такого заметного события, которое так или иначе не прошло бы через этот стол, в общем — через него, не легло бы каким-то своим отражением в эти папки. Здесь, — не сдержав патетики, воскликнула она, — вся история нашей страны, начиная с тех лет. И здесь, — понизила она почти до шепота голос, — вся история его жизни. В общем, это как бы история страны, мира, пропущенная через одну жизнь. И какую жизнь...
Нечасто она давала волю чувствам, но тут ей понадобилось какое-то время, чтобы взять себя в руки.
— И вы знаете, Борис Дмитриевич, если вы захотите прочитать хотя бы один из этих томов, от корки до корки, а я считаю, что как автору сценария вам было бы очень полезно это сделать, конечно, это ваше дело, я не хочу и не имею права вам ничего подсказывать, но если вы прочитаете хотя бы один из этих томов, вы поймете, что Константин Михайлович был бесстрашным и безжалостным к себе человеком. Тут вы все увидите — не только победы и одоления. И слезы, и неудачи, и ошибки, и слабости, и угрызения совести, и раскаянье... Думаете, их не было?
Нет, я этого не думаю.
— И ни разу, я подчеркиваю, ни разу у него не дрогнула рука, когда надо было положить сюда какой-нибудь не так уж украшающий его документ. Ни разу не поддался он порыву что-то изъять, утаить от потомков... Да, от потомков!
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты» — нельзя было не вспомнить эту извечную мудрость, наблюдая за Ниной Павловной, в которой любовь к шефу, преклонение перед ним сочетались с беспристрастностью и прямотою взгляда. Все, что она делала, делала с какой-то подкупающей и заражающей собеседника истовостью. И чувствовалось, что часы работы в этой опустевшей, уставленной папками квартире составляли теперь смысл ее жизни.
— Идея со «Всем сделанным» пришла в голову К.М. в 65-м году, — не без облегчения повернула Нина Павловна разговор в привычное для нее деловое русло. — Так что с папками за 38-64-й годы мы работали, если так можно сказать, в обратном порядке. Мы «перелопатили», как К.М. это назвал, весь архив. Посмотрели бы вы, что тут у нас творилось. Просто ералаш... И это ведь не день, не месяц — годы, буквально годы, параллельно с основной работой.
Собеседница моя старалась как можно нагляднее изобразить сумятицу, которая царила в кабинете и во всей, видимо, квартире, которая ведь никакими семью запорами не была отделена от кабинета. И чем страшнее рисовала она словами эту картину, тем сильнее и ярче лучились ее глаза, звонче становился голос, выразительнее — жесты изящных, но сильных рук.
Ее волнение передалось мне. Оно возникло и не могло не возникнуть при виде этой так непринужденно представленной, нет, дарованной мне летописи того отрезка истории, в котором укладывалась и вся моя самостоятельная жизнь, считая ее началом — первый класс школы. Вот он у меня в руках — том первый «Год тридцать восьмой». Перелистывая жадно, встречая глазами знакомые с детства имена и названия, живо вспоминал себя в тот год, мальчишкой, первоклассником, далеко-далеко на Востоке, в Монголии!
От тридцать восьмого я потянулся к сорок первому, потом к сорок пятому, к сорок девятому, к пятьдесят третьему, пятьдесят шестому, шестьдесят четвертому... Сама эта возможность легким жестом руки вызвать дух любого из прожитых тобою лет кружила голову. Сознаюсь, я не меньше тогда думал о своей жизни, чем о симоновской.
Нина Павловна стояла рядом, и столько было всеведения в ее взгляде, непроизвольно отмечавшем направленность моего интереса. Кем она должна была себя чувствовать в эти минуты? Кем видела себя в этот момент, вбирая всем существом жадность моих рук и ненасытность взгляда, устремленного на «Все сделанное»? Богиней Клио, стенографистом истории, секретарем времени.
В рассказах Нины Павловны не было строгой последовательности. Порой, опасаясь, что может повториться, она замолкала и, обеспокоенная продолжительной паузой, теребила меня: «Спрашивайте же, Борис Дмитриевич, спрашивайте, я же не знаю, что вас конкретно интересует».
Она не раз замечала, что К.М. обычно составлял длин-ню-щие списки вопросов для тех, с кем планировал побеседовать под диктофон. В наших разговорах мы его ни разу не включили, и я почти никогда не вынимал при ней блокнот. Мне дорога была стихийность ее воспоминаний. В них угадывалась, быть может, и ею самой не осознаваемая логика.
Оглядываясь теперь назад, Нина Павловна сама с трудом может поверить, что этот марафон длился чуть ли не двадцать лет. Да и какой же это марафон? Пускаясь в путь, бегун знает, что ему предстоит, и заранее решает, как распределить свои силы. Здесь, как сформулировал это однажды сам К.М., — каждый новый день должен быть как последний.
— Надо больше работать, — мог упрямо сказать он в конце дня, когда оба они чуть не падали от изнеможения. — Надо больше работать, а то можно не успеть все сделать.
На ее возражения, что он и так работает на износ, упрямо повторял: «Я сейчас меньше работаю, чем раньше».
Иногда она начинала смешно и беспомощно злиться на него — сам себя доводит до изнеможения и не замечает, как те, кто рядом, почти замертво падают к концу дня. И тут же не без юмора возражала сама себе: «Нет, наверное, замечает, иначе работал бы круглосуточно».
Иногда становилось просто страшно за него — вдруг упадет... Однажды он сказал — это было в его кабинете, в половине первого ночи, и вид у него был хоть и усталый, замученный, но довольный: «Я хочу побольше сделать и упасть сразу».
— Упасть сразу, — возразила она нарочито сварливо. — Это все хотят. Но, может быть, лучше попозже.
Про себя же заметила, что слова эти не раз уже от него слышала. И всегда холодела. Зная, что зря он ничего не говорит, думала, что не к добру и эта спешка его, и эта тяга к архивам.
Заглядывая потом в свои записи, начав их расшифровывать, Нина Павловна сама дивилась обилию фраз, передававших эту гонку, повторявшихся в каком-то стихийно сложившемся ритме.
— Всех задергал и раньше всего — себя. Надеюсь, хоть в Сухуми немножко отойдет. Все-таки Лариса хоть как-то сдерживает его в работе.
— После восьми вечера приехал в Москву — и опять с утра до вечера, как в мясорубке.
— Позавчера передал мне архив матери... Также архив писем и документов отца... Плюс его личный архив... Составлю опись, и все сдадим в ЦГАЛИ на закрытое хранение... Лицо осунувшееся, глаза усталые — нелегкое это дело, личные архивы.
— Сегодня с одиннадцати утра работали у него дома — разбирали папки с прототипами. Потом я ушла домой, а он, немного передохнув, пошел в «нижний» кабинет работать над письмами к «Солдатским мемуарам». Все расчищает...
«Нижний» кабинет, «верхний» кабинет, дача, еще — Гульрипши, домик под Сухуми...
Кажется ей теперь, что за эти без малого двадцать лет, диктуя, сортируя, перечитывая и раскладывая, К.М. заново и мучительно пережил всю свою прошлую жизнь, пережил в каком-то таком порядке, чья скрытая логика была видна ему одному.
Иногда ей казалось, будто она вывела для себя своеобразный закон его восприятия мира. То, что для всех людей было самым страшным и тяжелым — война, голод, бомбежки, атаки, осады, ранения, смерть — он делил с другими легко и даже... радостно.
Вот и теперь, что касалось войны, утомляло физически, но и поддерживало. Груды документов, писем, черновиков, рукописей, вариантов — иногда это казалось ей конвейером с конечным продуктом в виде папок, обозначенных «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Разные дни войны», «Солдатские мемуары».
— Только перекреститесь, что не будете без меня перетаскивать папки, — сказал он как-то ей.
Когда разгибал натруженную поясницу, разминал плечи, словно после тяжелой физической работы, да так оно и было — приходилось и по полкам лазить, и переносить груды папок из одного кабинета в другой, казалось, это распрямляется сама его душа, хоть и ужаснувшись и побывав снова в том пекле, но и возликовавшая при виде сотворенного. То, что случалось в обыденной жизни, мучило до сих пор. Как-то протянул ей кассету для расшифровки:
— Об Эренбурге...
— Об Эренбурге? Для кого?
— Для архива. Как о маршале Жукове, о Фадееве.
Эта давняя история с юбилейным вечером Эренбурга разворачивалась на ее глазах с самого начала. А началось все в том же злополучном 49-м году, после его доклада о космополитах. Эренбург жаждал, добивался этого вечера по случаю того, что исполнялось сорок лет его творческой деятельности. По-моему, он сам эту дату и придумал, — не скрывала Нина Павловна. — Ведь его уже не печатали, ему уже не звонили. И если бы К.М. не взял на себя, рискуя головой, и разговор наверху об этом вечере, и организацию его, и доклад, никакого бы вечера и не было, и Эренбургу, возможно, было бы намного хуже.
Вскоре папка с названием «Илья Эренбург», которую Нина Павловна специально разыскала по моей просьбе, появилась на столе перед нами. Десяток пожелтевших машинописных страниц, лежавших сверху, был озаглавлен: «Выступление на вечере Ильи Эренбурга. 5.Ш.49 (в Доме литераторов)».
Дочитывая последние страницы, я жадно тянулся к следующей стопке листов. «Об Илье Григорьевиче Эренбурге» было написано на ней. И в скобках: «В связи с несколькими страницами из его книги “Люди, годы, жизнь”». Дата — 17 апреля 1976 года.
— Константин Михайлович был очень огорчен, что в своих воспоминаниях Эренбург даже не упомянул о вечере, — пояснила в задумчивости Нина Павловна, — и тут я с ним совершенно, со-вер-шенно согласна. Только не стоило это так переживать. Эренбург есть Эренбург.
Я, не поняв, посмотрел на нее. Секунду-вторую она молчала в нерешительности. Потом:
— Аля рассказывала мне, что, когда Марина после эмиграции постучалась к нему за помощью, он указал ей на дверь. А потом, видите ли, открыл ее для широкого читателя.
Заполучив в руки второй манускрипт, я понял, что это и была расшифровка тех кассет, которые шеф передал Нине Павловне.
Я читал и видел Симонова. Не того, в 49, а много позднее, в 76, шагающего, словно маятник, по своему кабинету и один на один беседующего с безгласным магнитофоном. Шагает и взвешивает на собственных весах содеянное — чаша добра и чаша зла. Какая из них перевесит?
Имя самой Нины Павловны то и дело появлялось на страницах «Всего сделанного», которое мы с ней для краткости называли B.C.
Как правило, это были копии различных документов-писем — его ей и от нее — ему: поручений, заявлений, характеристик работодателя — служащему, приказов о назначении на работу, обращений в различные адреса. Словом, преимущественно то, что в обиходе мы называем официальной перепиской.
Первый из таких документов относился к 1947 году. Письмо Симонова из Москвы в Рязань. В нарочитой, как мне показалось, казенности его таился какой-то подтекст, который мне еще предстояло расшифровать с помощью Нины Павловны.
«В связи с наконец состоявшимся расширением штата журнала "Новый мир" я имею возможность предложить Вам работать со мной в качестве секретаря-стенографистки».
Казенно? Для Нины Павловны каждое слово звучало тут райской музыкой.
— А что до слога, посмотрела бы я на вас в то время. Каким другим слогом вы написали бы письмо жене ссыльнопоселенца, которому не разрешалось приближаться к Москве ближе чем на 101 километр.
Рассказ Нины Павловны о ее первой встрече первою военной зимой с тогда еще знакомым ей только по имени и по прочитанному Симоновым кажется невольно раскавыченной цитатой из одного из симоновских же произведений той поры.
Она тогда работала в сценарной студии комитета по кино и сидела целыми днями вдвоем со своим начальником Алексеем Яковлевичем Каплером, сценаристом фильмов «Ленин в Октябре» и «Ленин в восемнадцатом году», в ледяном зале заседаний этого комитета по соседству с кабинетом тогдашнего его председателя Большакова, который редко бывал на месте. Студия «Мосфильм» эвакуировалась в Алма-Ату, и здесь, в Москве, только они вдвоем с Каплером и представляли ее интересы.
— Пропадем мы тут с вами, Ниночка, — бодро-весело говорил время от времени Каплер и, как только появлялся председатель, подхватив охапку бумаг, направлялся к нему в кабинет, где было чуточку теплей.
Однажды, когда она так сидела и зябла в одиночестве, зашел военный — высокий, подтянутый, молодой. Он спросил Каплера и, услышав, что тот у Большакова и скоро вернется, подошел к висевшей на стене географической карте, сплошь утыканной флажками, и углубился в ее изучение. Посмотрев на его спину, на его военную форму, она подумала, что ведь очень может быть, что он прямо с фронта, и решилась спросить об этом.
Он повернулся на ее голос, не спеша подошел к ее столу и ответил утвердительно. И тогда она спросила его о муже своей сестры. Такая уж тогда была мадера — у того, кто вернулся с фронта, обязательно, в отчаянной, бесшабашной надежде осведомлялись о своих там, на фронте, словно это был какой-то такой особый край, где все друг друга и все друг о друге знали.
Сестра находилась с тремя детьми в эвакуации, а муж ее — в ополчении, на смоленском направлении, под Вязьмой. И письма от него, которые она поначалу исправно и с радостью переправляла сестре, вдруг прекратились.
— Просто не знаю, что сообщить сестре. Что там, вы не знаете? Как там?
Военный долго и пристально смотрел на нее, и она невольно залюбовалась его красивым лицом, большими блестящими карими глазами. Потом, не сказав ни единого слова, повернулся и вновь подошел к карте. Постоял так несколько минут, а потом, буркнув, что больше не может ждать, до свидания, — ушел.
Почти тут же вернулся Каплер и еще с порога задал вопрос, не приходил ли Симонов?
— Приходил какой-то военный, — пробормотала она, еще переживая такой обидный и непонятный для нее поворот дела, — постоял букой возле карты и ушел. Сказал, что больше не может ждать.
— Это и был Костя Симонов, — огорченно сказал Каплер.
Она, по ее словам, только позже поняла и оценила молчание этого Симонова. Он все знал. Был и в Смоленске, и в Вязьме, когда наступали немцы. Видел все своими глазами. И что он мог сказать с надеждой смотрящей на него женщине? Что там почти все погибли, что не надейтесь?
Рассказывая об этом, Нина Павловна, показалось мне, невольно сама заговорила симоновским слогом. В излюбленной его манере — с неоднократным повторением одних и тех же слов, а иногда и целых фраз:
— Очень не любил неправду, а говорить тяжкую, иногда смертельную правду избегал, пока была для этого хоть какая-нибудь возможность. Когда мог, вот так отмалчивался.
Как показал дальнейший ход событий, не только с ней о Симонове состоялся у Каплера разговор, но и с Симоновым о ней, она, правда, так и не узнала, по чьей инициативе.
Прослышав, что она владеет стенографией и машинописью, Симонов, всегда со ссылкой на согласие Каплера, стал подсылать ей тексты, в основном статей, интервью и других выступлений в прессе. Потом стал приглашать в «Новый мир», где диктовал кое-что из прозы. Ей нравилось почти все, что он писал, и она не находила нужным скрывать это. А ему, она чувствовала, нравилось диктовать ей.
Но когда он вскоре предложил ей перейти к нему на работу в качестве личного секретаря, она вспыхнула и ответила дерзко:
— Я никуда от своего шефа не уйду, — она имела в виду Каплера.
Симонов не обиделся, согласно кивнул и посмотрел на нее с симпатией. Может быть, именно потому у нее появилось желание как-то смягчить свою выходку, и она выложила ему все о муже.
На это Симонов тогда зябко передернул плечами. Ей показалось, кое-что из их с Юзом истории он уже знал раньше. Но все равно, пусть услышит, как все было, от нее. Тогда, может быть, не будет делать таких необдуманных предложении.
Сказала, что абсолютно, аб-со-лют-но убеждена в невиновности мужа. Вероятно, тогда, в 37-м году, на его судьбе мог сказаться тот факт, что она работала с Кольцовым. Пусть знает и об этом. Правда, Юза арестовали раньше Кольцова, а тот еще выражал ей сочувствие. Сказал во всеуслышание: «Я Нинке верю, Нинку не трогайте!»
И на Кольцова Симонов откликнулся, как ей показалось, с молчаливым пониманием. Как будто и он отнюдь не был уверен, что его взяли за дело. Насчет Юза, поведя шеей в одну и в другую сторону, — почти автоматически, заметила Нина Павловна, движением всех, кто был так или иначе связан с местами присутственными, — высказал догадку: попал под ежовщину, потом начали разбираться, да, видно, остановились на полдороге, как это у нас часто бывает.
Предложил похлопотать, написать куда следует.
Она обрадовалась такому его суждению, но от помощи отказалась почти с такою же запальчивостью, как только что — уйти от шефа. Нервы, нервы... Не могла она позволить себе эксплуатировать его благородство. К тому же она не так хорошо еще его знала, чтобы быть уверенной, что он предложил это по здравому размышлению, а не под воздействием момента. Ей бы и Юз не простил такого легкомыслия. Они с ним еще раньше твердо решили «не высовываться» и терпеливо тянуть лямку. В конце концов, ссылка, да еще в Рязань, это уже не лагерь под Магаданом, где он был вначале.
Отказалась она уйти от Каплера, а тот сам ее покинул. Правда, не своей волей. Другими словами, угодил туда, откуда вернулся в Рязань Юз.
— По сталинской путевке, — с невеселой улыбкой пояснила мне Нина Павловна, догадываясь, конечно, что мне хорошо известна история с Люсей Каплером, который был наказан за свою любовь к Светлане Сталиной.
— Но тогда ни я, ни, по-моему, К.М. понятия не имели — почему.
— Вскоре после этого он снова предложил перейти к нему в «Новый мир», и я, конечно, согласилась. Через некоторое время продиктовал ей письмо Горшенину насчет Алексея Ильича — вы посмотрите, это тоже во «Всем сделанном», либо 48-й, либо 49-й год, — уточнила Нина Павловна.
В письме присутствовала вся необходимая атрибутика — и «глубокоуважаемый», и «не хотел бы вмешиваться, тем более ставить под сомнение... Но учитывая личность, просил бы еще раз...» И только в конце прорвалось, ломая устоявшийся синтаксис, — не может же такого быть, чтобы автор революционных фильмов «Ленин в Октябре» и «Ленин в восемнадцатом году»...
Нина Павловна на этот раз не возразила против письма. Но, стенографируя его под диктовку К.М., подивилась про себя его наивности.
— А теперь думаю, — сказала она мне, — может, это вовсе и не наивность была, а нажитой уже политический опыт? Он любил вспоминать слова Ленина из его письма, по-моему, пропагандисту Иванову: «Правильно ли вы боролись? По всем ли правилам военного искусства окружили противника?» Впрочем, вы уж судите сами. Ему тогда шел тридцать четвертый год. Он уже третий год редактировал «Новый мир» и был первым заместителем Фадеева по Союзу писателей.
«Тянуть лямку» в Рязани Юзу суждено было недолго. В конце 1951 года Нине Павловне позвонили и сказали, что надо срочно ехать в Рязань. Она поняла, что может случиться, если не случилось уже, несчастье. Она знала почерк людей «из этого учреждения». Ведь опять арестовали Алю Цветаеву. Теперь они старались брать свои жертвы не дома и не на работе, вообще не там, где их знают. Поводом для звонка Нине Павловне, как она потом узнала, было то, что Юзу вдруг выписали командировку почему-то в Саратов, где у него не было и не могло быть никаких дел. И предложили выезжать не мешкая. Билет, мол, забронирован, возьмите его на вокзале, в окошечке у дежурного...
В тот момент, когда она подходила к «тамошнему учреждению», его тяжелые двустворчатые, сработанные, наверное, еще в начале нашего века двери отворились, и оттуда, словно стая борзых, выбежали несколько молодых людей в длинных плащах и шляпах с большими полями — как в американском кино, мелькнуло у нее. Поторапливая криками друг друга, они расселись по машинам — их было две, и те с ревом сорвались с места. Она так и не узнала никогда, относилось ли то, что она увидела, к Юзу, но его взяли в те же часы, по дороге на вокзал.
В окошечке областного управления МГБ ей сказали на следующий день, что первую передачу можно будет принести через две недели.
Набравшись духу, все рассказала шефу: «Константин Михайлович, может, лучше мне уйти?»
Он потемнел лицом, сжал челюсти, что с ним редко бывало:
— Нина Павловна, я прошу вас больше никогда к этой теме не возвращаться, никогда этого разговора не поднимать.
Стесненной душой она поняла, что разговор, ею затеянный, был для него почти оскорбителен, но и она не могла его не завести.
Когда же сообщила ему первому, что ей, кажется, разрешат поехать вслед за Юзом, он молча развел руками. Что было в этом жесте? Его бессилие вернуть Юза? Или — задержать ее?
Она уезжала ясным, продуваемым ветром апрельским деньком, который каким-то странным образом гармонировал с ее настроением. Юза на этот раз отправляли не в лагерь, а в ссылку. В сумочке она увозила письмо Константина Михайловича тогдашнему руководителю красноярской писательской организации Сартакову: «Это письмо передаст вам Нина Павловна Гордон... Нина Павловна проработала у меня четыре года литературным секретарем и проработала бы еще двадцать, если бы не семейные обстоятельства — то, что ей необходимо жить в одном городе с мужем, который находится сейчас в Красноярске...» Он еще подарил ей свою фотографию, сделанную в Армении, на фоне озера Севан: смотрит на остров, еле видный вдалеке. «Дорогой Нине Павловне от ее бывшего шефа, одинокого, как этот остров». Подпись: К. Симонов, 1942-1952 гг.
Как она добралась до Красноярска, «декабристка» середины двадцатого столетия, как отыскала Юза, как они там устроились, как жили, как узнали о смерти Сталина, как получили наконец весточку об освобождении Юза, еще до XX съезда, — это все особая статья, к которой еще предстоит вернуться.
Что же она все-таки значила для Константина Симонова — эта женщина, с которой я теперь по воле судеб регулярно встречаюсь то в «верхнем» его кабинете, то в «нижнем», то у нее дома, под подаренным им портретом?
Маленькая, хрупкая, седая, под мальчика подстриженная, со звонким не по возрасту голосом и пристальным взглядом больших, широко раскрытых на мир глаз.
Столько лет стоявшая на грани двух миров — его, до поры такого ясного и определенного, и того, другого, черного и невидимого, в который уходили без надежды вернуться, который был повсюду и нигде. Длинная, на годы растянувшаяся во времени цепочка фактов, слов, поступков, документов, покоящихся во «Всем сделанном», помогает искать ответ.
После скоропостижной смерти Юза она годы, буквально годы не могла придти в себя. Не жила. Вся семья К.М. к ней относилась тогда, как к тяжело больному ребенку. Ее спасала только работа. Что-то печатала с утра до вечера — расшифровывала пленки, стенограммы. Приходил К.М.: хватит работать, пойдем погуляем. Она кивала головой и продолжала работать.
Помнит еще, как однажды, через полтора месяца после смерти мужа, под самый май, перед отъездом Симоновых в Гульрипши, зашла к ним домой, наверх, занесла какую-то работу. Помнит, какая веселая суматоха царила в квартире: дети, Александра Леонидовна, мать Симонова, накрытый стол, веселье... Помнит, как, словно на чем-то нехорошем застигнутый, смутился он царящим праздником, беспомощно оглядывался, спеша увести ее куда-то в сторонку. Словно бы это он лично был виноват в ее потере. Словно не спасителем был ее, а палачом.
У каждого из них было то, чего не хватало другому. Ей — семьи, очага, обыкновенного житейского счастья. Ему — того внутреннего покоя, который он, вопреки всему, находил в ней, того покоя, что составляет порой единственную отраду человека, лишенного всего, но сознающего, что живет и поступает правильно — в силу того, что иначе жить просто не способен.
Иногда ей казалось, что он был бы рад поменяться с ней местами...
Подошел момент, когда я должен был, не мог уже дальше откладывать, заговорить с ней о Серовой. Я в ту пору как на работу ходил то на Центральную студию документальных фильмов, то в Останкино, на телевидение, запоем смотрел в маленьких демонстрационных залах фильмы по его сценариям — документальные и художественные. Дошло и до «Жди меня». Это было возвращение в мое незабытое военное детство. Два фильма готов я был тогда смотреть бессчетно в непривычно пустом, заросшем картофельными грядками Останкино: «Два бойца» и «Жди меня». И прежде всего, как я теперь понимаю, из-за песен бернесовской «Темной ночи» и той, что в «Жди меня». «Темную ночь», не уча, запомнил наизусть. Слова второй были какими-то неподдающимися. Теперь, собираясь на встречу с фильмом после тридцатилетней разлуки с ним, запасся карандашом и бумагой, чтобы «списать слова»:
Сколько б ни было в жизни разлук
В этот дом я привык приходить.
Я теперь слишком старый твой друг,
Чтоб привычке своей изменить.
Нину Павловну спросил, публиковались ли слова этой песни, потому что я нигде кроме фильма, никогда их не встречал.
При следующей встрече она показала мне копии двух писем. В одном из них читательница задавала Симонову те же вопросы, что и я. Просила прислать стихи или сказать, где их можно прочитать. Во втором письме К.М. отвечал ей, что, к сожалению, помочь ничем не может. Песня — и слова и музыка делалась прямо к съемкам, текст потом отдельно не переиздавался и в архивах не сохранился.
— Редчайший случай, — прокомментировала Нина Павловна и заключила с ноткой внезапно нахлынувшей печали. — Осталось только то, что поет Валя в фильме.
Вот тут-то я и попросил ее рассказать поподробнее об их отношениях. После войны ведь все развивалось на ее глазах. Есть, наверное, какая-нибудь специальная папка? Она неодобрительно, даже с оттенком подозрительности, посмотрела на меня: «Разве вы не читали, что К.М. в «Разных днях войны» сказал по этому поводу?»
Я, конечно, читал и помнил, поэтому и не решался до поры касаться этой материи. А сказано у него там следующее: «Все сколь-нибудь существенное, связанное с моей личной, в узком смысле этого слова, жизнью в те военные годы, сказано в тех из моих стихов этого времени и первых послевоенных лет, которые впоследствии соединились в цикл «С тобой и без тебя», в наиболее полном виде напечатанном в моей книге «Тридцать шестой — семьдесят первый». Желающих прочесть отсылаю к этой книге стихов, потому что ни дополнять их чем бы то ни было, ни комментировать их у меня давно уже нет ни причин, ни желания».
Сказано исчерпывающе, с типичной для Симонова обстоятельностью и дотошностью — даже отсыл к конкретному изданию книги.
Свое знакомство с этим текстом я, разумеется, не замедлил подтвердить Нине Павловне, и она, словно бы не удовлетворившись этим, добавила от себя: «Он тогда, диктуя эти строки, и мне сказал: Нина Павловна, кто хочет знать обо мне и о Вале, пусть читает мои стихи и смотрит даты».
— А папку, досье с ее письмами... — нет папки. Он сжег ее. Приехал на квартиру, взял папку, увез на дачу и все в камин. Это его собственные слова: «Все в камин!» Настолько он был ожесточен. Вот это самое правильное слово, — повторила она, словно вслушиваясь в самое себя: — Ожесточен.
И добавила:
— Он, правда, говорил: я не знаю, как она моими письмами распорядилась. Может быть, и будут еще всплывать. И вообще — он не любил эту свою пьесу «Жди меня» и еще меньше — фильм по ней.
— А я любил и люблю, — с нажимом произнес я.
— И я тоже, — сокрушенно развела она руками.
Книги Симонова стояли на полках в оставленных им навсегда кабинетах — «верхнем», «нижнем», в Пахре, в Гульрипши. Стояли у меня дома. Романы, томики стихов, издания пьес, киносценариев, публицистика, двухтомники военных дневников, расшифрованных и прокомментированных десятилетия спустя... Но такая была у меня фаза работы над сценарием, что я почти не снимал их с полок.
Меня тянуло к папкам «Всего сделанного», под сень опустевшего симоновского дома, где в бывшем симоновском кабинете меня встречала Нина Павловна.
Однажды с ее помощью я, показалось, нашел то, что искал интуитивно с самого начала. В томе «B.C.» за 1966 год. Ключ к сценарию, а может быть, и к роману. Им оказались заготовки к так и не написанной пьесе, о которой Симонов упоминал в столь давние уже дни наших прогулок по больничному двору. «О моих четырех Я» — назвал он ее в разговоре. И тут же с привычной уже для слушателя самоиронией уточнил:
— Не опасайтесь, никакого там расчетверения и даже раздвоения личности не происходит. Просто попытка дать развитие человека во времени, одушевить, вернее, олицетворить его представления о жизни и о самом себе на разных временных этапах и заставить эти фантомы вести перекличку, разговаривать друг с другом. «Я сегодняшний больше знаю о тех временах, но не все уже помню, — прочитал я теперь в его заготовках. — Я тех стародавних лет, не догадавшись о многом, что стало известно потом, но живущий в тех подробностях, которые мною теперешним забыты. Пусть встретятся и поговорят, допросят друг друга... Алеша, Майор, Алексей Иванович, Рябинин — назовем хотя бы так.
Когда сотворю какой-то материал, — разговаривал он сам с собой в найденных мною с помощью Нины Павловны записях, — надо будет с театрами поговорить, подумать, как это может выглядеть на сцене».
Даты, с которыми сопрягалась зрелость четырех его героев, говорили сами за себя — Я в тридцать седьмом году, и Я — в 45-м, Я в послевоенные годы, и Я — сегодня... Мне понятен был его замысел. Как пилигрим в Риме перед собором Святого Петра, внутри четырехрядной его колоннады, он искал на выложенном камнем пространстве ту точку, с которой контуры всех четырех колонн сливаются воедино. «Мои четыре Я».
И следующая мысль — как озарение. Кому же, как не мне, стать его «пятым Я»?! Набросками своей пьесы он словно протягивал мне руку, предлагал еще раз вместе пройтись его дорогами.
Еще в больнице, где, так угодно было судьбе, мы два года подряд оказывались с ним вместе, я спрашивал себя, что означает его разговорчивость, такая неожиданная для меня откровенность? Ведь он рассказывал и о таких страницах жизни, которые вовсе его не украшали. Не пытался припомаживать себя. Было ли это — лестное предположение — следствием завязавшейся каким-то образом симпатии? Или тут было что-то чисто профессиональное? Был нужен более-менее адекватный собеседник, принадлежащий следующему поколению, нужна была его реакция...
Мне теперь казалось, что его «Четыре Я» уже тогда, во время частых и долгих наших прогулок, говорили и спорили не только друг с другом, но и со мной. Не был ли я уже тогда Пятым? Ведь дни нашего рождения разделяли всего пятнадцать с половиной лет. Я был Алешей, когда он был Майором...
Судьбе было угодно, обнаруживал я, чтобы я в буквальном смысле прошел многими из тех дорог, что и мой герой. Кроме войны, потому что, когда она началась, я был десятилетним мальчишкой, и на мою долю достались лишь налеты гитлеровской авиации на Москву. Но и я слышал свист фугасок, видел рожденные ими пожарища и развалины, вместе со старшими сбрасывал с крыш двухэтажного барака в Останкино, где мы жили, «зажигалки».
Это началось еще раньше.
Под Халхин-Голом была его первая настоящая война. Мой отец по окончании Московского автодорожного института работал начальником автоколонны на строительстве дороги Улан-Удэ — Кяхта — Улан-Батор. Наши наспех сколоченные домики — тес да горбыль, да засыпки из песка и гравия — стояли вдоль строящегося шоссе.
Краснозвездные танки шли с грохотом по нему, вызывая мой пионерский восторг.
Слышали мы, конечно, и грозное уханье, которое доносилось с той стороны, куда танки уходили. Помню, словно брызги от попавшего в лужу камня, стремглав разбегались во все стороны и прятались в своих норах жирные монгольские сурки-тарпаганы, которых любили в спокойное время стравливать шоферы. Как испуганно прятал голову под крыло доверчивый журавленок, который повредил ненароком лапу и задержался около нас в крохотном озерке.
Студентом-журналистом я проходил после войны многомесячную практику в том самом Саратове, где Симонов с родителями прожил несколько лет в детстве.
Став журналистом «Комсомолки», кружил «ноленс-воленс» по тем же самым маршрутам, что и правдист Симонов: целина, Голодная степь в Узбекистане, Братская и Красноярская ГЭС, Газли и шахты-новостройки — тот самый джентльменский набор, который с одинаковой силой манил к себе и начинающих журналистов, и «классиков». Даже первая серьезная зарубежная моя командировка в 61-м году пролегла туда, где пятнадцатью годами раньше проходил обкатку международника К.М. — Соединенные Штаты.
Гораздо важнее, однако, для меня были совпадения другого рода. Те самые, что и побудили, очевидно, Ларису подтолкнуть меня на путь летописца восхождений, взлетов и падений писателя Константина Симонова, его единственной и неповторимой, как всякая, жизни. Его «второго дыхания», которое наступило тогда, когда легкие уже отказывались работать.
Снова вспомнился Пришвин: материалы мои были хорошо собраны, правильно расположены... «Не хватало момента творческой кристаллизации»? Вот он и явился — стопкою страниц недописанной пьесы.
У Симонова это были Алеша, Майор, Алексей Иванович, Рябинин. У меня будет Костя, дальше пусть будет Военкор, затем Константин Михайлович Симонов, а там и К. М., как его стали звать все близкие, когда перевалило за пятьдесят. А может быть, и Ветеран. Естественно, что границы между ними очень условные, зыбкие. Ясно, что Военкор не на второй день войны явился, чтобы сменить Костю, как не на второй и не на третий день после нее трансформировался в Константина Михайловича...
Видно, автор сценария уже столкнулся с романистом, которого столь неосторожно разбудила во мне Лариса.
...Без малого три года прошло уже со смерти К.М. Год с небольшим как печально отшумели в этих стенах поминки по Ларисе, и они были, увы, не последним: в семье — несколько месяцев спустя хоронили ее мать, генеральшу Жадову.
Нина Павловна, добрый дух семьи и осиротевшего дома, все приходила и приходила сюда — три раза в неделю на три-четыре часа. Здесь мы ее и снимем для фильма. Так что расстающейся со своим памятным прошлым квартире на улице Черняховского еще предстояло ожить, наполниться шумом и гамом людским, услышать, словно в старые добрые дни, стрекотанье киноаппарата, засиять светом юпитеров и софитов. Потом сюда переедет, после основательного ремонта, разумеется, Катя с семьей.
Как-то Нина Павловна обронила, что с последней папкой, которая уйдет отсюда, завершится в общем-то и ее миссия в этом мире.
Подходил конец и моим благословенным бдениям здесь.
«Наверху», тогда это означало только ЦК КПСС, было положено отправить меня послом. Одно из тех хитроумных решений брежневских времен, о которых хочется сказать обидевшей Кюхельбекера шуткой Пушкина: и удивленные народы не знают, что им предпринять, ложиться спать или вставать.
Одних отправляли в тюрьмы, ссылки, в лагеря. Других отсылали на работ за рубеж. Они, видно, не так сильно провинились, но все равно мешали. Как Александр Николаевич Яковлев, угодивший со Старой площади в посольский особняк в Оттаве, как, еще ранее, мой первый главный редактор в «Комсомолке» Дмитрий Петрович Горюнов, проходивший у Брежнева и его компании за любимца Хрущева. Ему досталась Кения.
Когда я приехал послом в Стокгольм, где мне уже приходилось бывать по Делам Агентства по авторским правам, в шведской прессе развернулась дискуссия — повышение это для Панкина или ссылка. Аргументы той и другой стороны звучали для стороннего уха одинаково убедительно...
Меня беспокоило одно — смогу ли в новой, неожиданно создавшейся ситуации продолжить работу над фильмом. Утешение черпал в предыдущем опыте — переход из «Комсомолки» в ВААП тоже ведь был видом ссылки. Но я выжил...
Перед самым отъездом успел-таки закончить сценарий, в первом приближении, и разослать его по всем надлежащим адресам, официальным и дружеским. В том числе, разумеется, Нине Павловне и режиссеру, Владлену Трошкину, который оставался теперь основным связующим звеном между мной и «материком».
КОСТЯ
Костей он стал с того самого дня, когда, не спросив ни отчима, ни матери, поменял свое не такое уж часто встречающееся имя Кирилл на Константин.
— Что толку называться именем, в котором не можешь произнести половины звуков, — с обескураживающей убедительностью объяснял он матери. — Тебя спрашивают, как зовут, а ты — Кии. Смех да и только.
Мать, Александра Леонидовна, никогда не могла примириться с этой его причудой и до самой своей смерти звала сына Кириллом.
Перемена имени была не первым его самостоятельным шагом. Незадолго до этого он бросил восьмилетку, они тогда жили в Саратове, и поступил в школу фабзавуча — учиться на токаря. Тоже ни слова не сказав родителям. Боялся обидеть объяснениями отчима. Стремление пасынка зарабатывать самому тот мог при его педантичной щепетильности принять на свой счет: жилось семье на его зарплату преподавателя военного училища действительно туго, в обрез. Однако была у Кости и другая причина. Неподалеку, в Сталинграде, сооружался тракторный завод. Газеты и радио трубили о нем непрерывно. Ему всерьез казалось — только там и есть настоящая жизнь.
Через несколько лет, поступив уже на вечернее отделение Литинститута, Костя как-то, заглянув в портфель с документами и разными бумагами, — в свой первый и еще совсем не литературный архив, — положит невзначай две фотографии рядом. Всмотрится в них. Да-а, вот Кирилл, а вот Костя. Кирилл, школьник. Долговязый подросток рядом с матерью, отчимом и девочками-соседками — в ненавистных для каждого мальчишки коротких, чуть ниже колена, штанах, в «девчачьих» белых носках и туфлях с ремешком-застежечкой. Теперь, студентом Литинститута, он даже на недавнюю свою неприязнь к такого рода облачению может взглянуть свысока, с улыбкой. Но тогда оно действительно приносило ему кучу неприятных минут. Вспоминал, с каким наслаждением, почти остервенением он сбросил с себя это обличье городского пай-мальчика и облекся в робу фабзайца, а потом и подмастерья. Вот он, на втором снимке — настоящий мастеровой. В сатиновой, наглухо застегнутой косоворотке вроде тех, что, может быть, носил Павел Власов — он не так давно прочитал «Мать» Горького, — в рабочем картузе и такой же куртке.
На Сталинградский тракторный он не попал. Семья переехала в Москву, где он и заканчивал фабзавуч. Потом поступил токарем четвертого разряда на авиационный завод, перешел в механический цех кинофабрики «Межрабпомфильм». Руки у него, как он скоро пришел к выводу, были не золотые, и, как выяснилось, предпочитали держать не молоток или стамеску, а перо с бумагой. Короче говоря, он уже пристрастился к писанию стихов, которые и привели его на вечернее, а там и на дневное отделение Литинститута, где он долго еще числился, пока не снял картуз и косоворотку, поэтом с производства. Черт возьми, не поступи он в свое время в ФЗУ, не видать бы ему, дворянскому сыну, Литинститута.
Так что кто его знает, — признавался он иногда сам себе, — не было ли у него и третьей причины завязать вовремя с обличьем выходца из интеллигентной среды. Жизнь была сложная, колючая, и он считал естественным принимать ее такою, какова она есть, и реагировать — соответствующим образом.
Он не страшился задаваться вопросом, не было ли чего-то стыдного в его решении? Нет, приходил он, однако, к выводу, ему не в чем себя упрекнуть. Человек не выбирает себе происхождения, но дорогу каждый волен выбирать себе сам. И его вовсе не коробило это определение — рабочий поэт. В практическом плане оно давало даже некоторые преимущества. Например, внимательнее относились в различных литконсультациях. Он носил туда отрывки из своей первой поэмы — о строительстве Беломорско-Балтийского канала. Взялся за нее под впечатлением нашумевших в прессе поездок известных писателей и журналистов во главе с Горьким. Публиковались статьи и очерки, выходили книги, пьесы. Не было только стихов. Его кусочки понравились. Кое-что даже отобрали для сборника молодых. Смущало только то, — и руководителей литконсультаций, и его самого, — что написал он свои стихи не будучи знаком с натурой. Вот и решено было, к обоюдному удовольствию, направить его от Гослитиздата на Беломорканал как молодого рабочего поэта. Это была его первая творческая командировка, и отправлялся он на Север, имея за плечами трехлетний производственный стаж. Идея для него была ясна с самого начала. Герой — перековывающийся уголовник. Беломорканал—кузница нового человека. Он захватил с собой толику готовых строф, которые теперь предстояло «привязать» к местности. То, что Макаренко делал для одной, сравнительно небольшой колонии, в фильме «Путевка в жизнь» происходило в довольно-таки келейных условиях, здесь разворачивалось на огромном, необъятном плацдарме. Его интересовали именно уголовники, именно их перековка. Это было главное направление. Уже на первых подступах к творческой работе он почувствовал в себе тягу к переднему краю, к тому, что у всех на виду, где всего труднее, но и почетнее.
Он знал, что на стройке немало бывших кулаков, немало и таких, кто осужден за вредительство — в основном, специалисты, инженеры и техники, которые и здесь ходили в руководителях производства. Один из них, начальник КВЧ, культурно-воспитательной части лагерного пункта, приютил его у себя в отгороженной от общего барака начальственной каморке. Костя был благодарен ему за заботу, но в поэму не включил — как-то не вписывалась туда фигура такого рода — то ли троцкист, то ли представитель еще какой-то левой оппозиции, сидящий по 58-й статье. Будь его воля, он бы вообще переехал в барак, но это не разрешалось даже на том пункте, где он был и где сроки у заключенных были сравнительно небольшие, а преступления сравнительно пустяковые — карманные кражи, драки, воровство на производстве. Люди работали хорошо, надеялись поэтому пораньше выйти на свободу. Совсем уже другими людьми — был уверен он.
Вообще, считал Костя, ему повезло. Он приехал на канал как раз в такую пору, когда строительство уже заканчивалось. Администрацию и охрану награждали орденами, заключенным — за ударный труд и сознательное поведение — сокращали срок, с уведомлением об этом в печати. Многих, пока он там был, отпустили досрочно. И все это соответствовало его замыслу, очень хорошо ложилось на тему. К нему там тоже относились по-доброму, иногда даже принимали за своего. И правда, чем он от них особенно отличался в своей фэзэушной робе? Разве возрастом.
Когда узнавали, что он начинающий рабочий поэт, подбадривали — давай, давай, напиши о нас... Кто-то у него просил литературного совета. В моде были стенная печать, самодеятельность, сочинение стихов...
Впечатлений и наблюдений было столько, что по дороге в Москву он решил переписать поэму, о чем и заявил в Гослитиздате. Там его поддержали. Он долго бился над ней. Хотелось убедительнее выразить то великое, что он увидел своими глазами, сам ощутил на стройке: труд исправляет человека, смывает с него прежние грехи, ставит его в первые ряды ударников пятилетки. Поэму «Павел Черный» он опубликовал лишь в 1938 году в сборнике молодых авторов. Пресса ее отметила. Но он ее больше никогда и нигде не перепечатывал.
Самодеятельные концерты и спектакли действительно были в ходу на Беломорканале. Тем более, что среди заключенных встречались и заслуженные, и народные артисты. Своими впечатлениями они, кто поживет, поделятся десятилетия спустя. Один из них расскажет, как по ночам, после «Принцессы цирка» — спектакль имел успех, и его давали в городском театре чуть ли не каждый вечер в течение месяца, — мистера Икс и других героев оперетты гнали строем в зону. Приказ был — без разговорчиков в строю. Не разговаривать было невозможно. У артистов существует что-то вроде кессонной болезни, как у строителей туннелей и водолазов. Если человека быстро поднять с глубины на поверхность, сосуды не выдержат разницы в давлении, их просто-напросто разорвет. Поэтому существуют специальные кессонные аппараты, когда строители, поднимаясь постепенно на поверхность, адаптируются к новым уровням.
Артисту, если ему не дать после спектакля выговориться, отшуметься, откипеть накопившимся на сцене страстям, грозит нечто подобное. Психологические нагрузки бывают сильнее физических. Этот закон природы не обходил и тех, кто играл на сценах ГУЛАГа. За первое нарушение полагалось строгое предупреждение. За второе — виновника или виновников криком «Ложись!» укладывали лицом на землю. Мистер Икс и Принцесса цирка, только что блиставшие в огнях рампы, лежали на грязной мостовой — в пыли, в грязи, в снежной хлюпающей жиже — смотря по сезону.
Косте, приехавшему на стройку воспеть чудеса перевоспитания, невдомек было, что подобное происходит под самым его носом.
Шоссейная дорога от Улан-Удэ до Улан-Батора, где автоколонной командовал мой отец, строилась силами вольнонаемных, заключенных и расконвоированных.
Написал три эти слова — и сам подивился, с какой легкостью они слетели с кончика пера, как памятны до сих пор, как, стало быть, они были привычны, естественны моему детскому уху и детскому восприятию. Они были частью нашей повседневной речи, звучали так же натурально, как, скажем, рабочие, колхозники, служащие. С разделением людей на вольнонаемных и заключенных я, таким образом, в повседневном своем детском обиходе познакомился раньше, чем с какими-либо другими социальными границами. Особенно часто звучало — расконвоированные. Расконвоированным был повар, который готовил в столовой на всех, но нам, как семье «гражданина начальника», приносил еду особо, в судках, в наш маленький, в одну комнату с кухней домик. Не помню уж его имени, но помню облик: тихий, спокойный человек в белом переднике, он особенно искусно готовил курник — пироги с пшенной кашей.
Расконвоированным был шофер моего отца, который возил его по монгольским сопкам от объекта к объекту на потрепанном донельзя легковом газике с парусиновым верхом, который даже не «козликом» тогда называли, а «драндулетом», что звучало не прозвищем, а обозначением марки машины.
Понимал ли я тогда, в свои восемь лет, что такое вообще «заключенный» и чем он отличается от любого другого человека? Наверное, понимал, потому что, когда приходилось оставаться в этом газике наедине с шофером, особенно если это было поздно вечером, я каждый раз начинал лихорадочно думать, а как я поступлю, если он вздумает бежать. Возьмет вот, остановит машину, откроет дверцу — и в лес, в сопки! С тайным прицелом на такой поворот событий, я помню, уже тогда стал приставать к отцу, чтобы он научил меня водить машину.
Я взахлеб читал в ту пору «Отверженных» Гюго и «Разбойников» Шиллера, и, быть может, поэтому с самим фактом заключения у меня не ассоциировалось что-то порочащее человека. Меня удивляло, почему расконвоированные не убегали. Я не помню, чтобы кто-нибудь за это время сбегал, по крайней мере, из той колонии или лагеря, как это чаще называли, который был «прикреплен» к нам. Или мы к нему были прикреплены? Случалось другое, что еще более усиливало ощущение некой, как я это теперь понимаю, противоестественной патриархальности отношений — кто-то освобождался и оставался работать там же, чуть ли не в той же должности... А кто-то, наоборот, — пересекал границу в другом направлении, как, например, завхоз Андрей Дарайкин, который был повсеместно известен своей фразой: «Дарайкин свое дело туго знает!» Он то ли подрался с кем, то ли проворовался, «схлопотал» срок и остался тут же его отбывать с тем же своим «Дарайкин сделает».
А что же сами лагеря? Бараки так же, как и мы, переезжали с места на место, по мере того, как лента дороги приближалась к Улан-Батору. Колонну людей в грязных ватниках утром пригоняли на карьер, а поздно вечером она плелась обратно. Близко к ним не подпускали даже отца — его дело было заведовать машинами. Когда мы с ним отправлялись на его драндулете куда-нибудь в соседнюю автоколонну или ближайший каймак по делам, взгляд всегда, рано или поздно, натыкался на ряды колючей проволоки и сторожевые вышки, на караульных, скучавших на этих вышках. Часть привычного степного ландшафта.
Там была своя жизнь, у нас — своя. В моем представлении, две эти жизни текли, не сливаясь.
Иногда Костя спрашивал себя — а напечатали бы поэму «Павел Черный», если бы раньше не появился «Генерал»? Странные случаются в жизни вещи. Над поэмой он бился годы, буквально годы, хотя сам процесс работы над ней был классически правильным. Наверное, это и было то, что любимый его Маяковский называл «социальным заказом», когда не какой-нибудь человек и не учреждение подсказывают тебе тему, а сама атмосфера в стране. Пятилетка, строительство новой жизни — вот кто был его заказчиком. И чтобы поглубже влезть в тему, он отправился туда, где перековывались характеры, закалялась сталь. Это выражение, только что вошедшее в обиход вместе с первой книгой вчера еще никому неизвестного писателя, бывшего кочегара, красного конника, комсомольского вожака, особенно ему нравилось. Как завораживал и сам факт его стремительного вхождения в литературу.
К этому времени у Островского за спиной был уже такой беспримерный жизненный опыт, опыт борьбы и труда, до которого ему, Косте, еще идти, идти и, может быть, никогда не дойти... У него пока — лишь обыденная жизнь без каких-либо особых испытаний, жизнь в добропорядочной семье преподавателя военных наук с ее устоявшимся, твердым распорядком.
И вот — «Генерал». Он до сих пор не может опомниться от того, что произошло. Сообщение о смерти Мате Залка в Испании под Уэской пронзило его болью. Это был его герой, его идеал. Быть может, именно потому, что соединял в себе писателя, антифашиста, бойца-интернационалиста. Он читал все его книги, переведенные на русский язык, и назубок знал биографию генерала Лукача.
Строфы бежали одна за другой, словно бы безо всякого его участия.
Пока еще в небе испанском
Германские птицы видны,
Не верьте: ни письма, ни слухи
О смерти его не верны.
Впервые он прочитал «Генерала» вслух дома, они жили тогда на Петровских линиях. Мама, Александра Леонидовна, несмотря на скудный семейный достаток, подкармливала целый выводок его друзей и вязала им полосатые кашне. Долматовский, Матусовский, Галлай. Они и оказались его первыми слушателями. Ему не надо было проверять себя, надо было просто разрядиться. Вечером того дня, когда «Генерал» был опубликован в газете, он прочитал его в Политехническом. Видавшая виды аудитория, слышавшая здесь и Маяковского, и Пастернака, и Есенина, чуть ли не стоя скандировала: Мате Залка, генерал Лукач... Трудно было даже сказать, чей это был триумф — его, автора, или, посмертно, его героя. Он знал, что среди слушателей была Талка дочь Мате Залка.
Апофеозом же стал эпизод в Союзе писателей. Их, группу молодых стихотворцев и прозаиков, пригласили туда для принятия в Союз. Говорили, и это подтвердилось, что будет сам Фадеев. Они дрожали, как овечьи хвосты. Фадеев, начиная заседание, предложил Косте прочесть «Генерала», а следом прочитал стихи сам. Наизусть. Потом раскинул руки, в размах которых его втянуло, как в воронку смерча. Если, конечно, бывают на свете добрые, ласковые смерчи. Фадеев обнял его, поцеловал троекратно и поздравил со вступлением в Союз. Ассоциация с исторической сценой в Царскосельском Лицее вспыхнула на мгновение в его сознании и погасла, словно испугавшись собственной дерзости.
Наутро газеты в подробностях написали, что произошло на заседании секретариата Союза писателей, дали портреты новых членов Союза. Костя, проснувшись, обнаружил, что он знаменит.
Пошли, одно за другим, выступления, встречи, заседания. Пришлось-таки начисто отказаться от косоворотки и картуза, которые и до того он уже надевал редко. Вынужден был обзавестись цивильным костюмом. Покупали его в Ленинграде вместе с Ритой Алигер. Они сблизились, когда — год назад — сочиняли вчетвером: она, он и Долматовский с Мишей Матусовским коллективное послание в Испанию — «Молодежи народного фронта».
Газеты нам носит не почтальон,
То западный ветер теперь
Листы, обожженные кровью знамен,
Бросает в открытую дверь.
Костюм покупали на Невском, в Пассаже — из серого бумажного букле. Перемеряли, наверное, с полдюжины, а все же брюки волочились по полу, а плечи — топорщились, как у американского игрока в бейсбол, которого он как-то видел в кинематографе.
Теперь уже не Костя ходил по редакциям, а ему звонили отовсюду и просили «чего-нибудь дать». У него к тому времени столько всего накопилось. И стихов, и поэм. Конечно же, все требовало доработки. Но ведь и то сказать, совсем по-другому работается, когда чувствуешь, что ты нужен. Вслед за надоевшим до чертиков «Черным» взялся заканчивать «Победителя» — о Николае Островском.
Вначале показалось, что получается просто пересказ романа. Прочитал раз, другой и даже испугался. Задумался — что, собственно, он хотел и хочет сказать своим «Победителем»? Объясниться ему в любви, прославить его подвиг? Нет, разделить с ним его страдания и боль, восславить его отданность людям, выразить готовность Костиного поколения пройти тем же путем...
Ученики Иисуса Христа, апостолы, — Евангелия он не читал, но слышал об этом, — записывали его жизнь и его притчи не только для других, но и для себя. Увековечивая в слове его бытие и учение, укреплялись в нем и сами. Сравнение не ахти какое, но он испытывал потребность переписать стихами, нет, не книгу Островского, но саму его жизнь. Островский умер физически, но как Христос нашего времени будет снова и снова воскресать в слове:
Мне кажется, он подымается снова,
Мне кажется, жесткий сомкнутый рот
Разжался, чтоб крикнуть последнее слово,
Последнее гневное слово — вперед!
Пусть каждый, как найденную подкову,
Себе это слово на счастье берет.
Суровое слово, веселое слово,
Единственно верное слово — вперед!
Он сам последовал собственному совету. И отныне дни его превратились в движение и труд, труд и движение. Упругие, трепещущие крылья успеха. Одного они гонят в застолье, на дружескую пирушку, слушать и расточать безудержные комплименты, поднимать бокалы за дружбу и творческое безумие; другого — в дорогу — изучать; третьего словно магнитом тянет к письменному столу — бросать и бросать в разгорающийся костер славы новые и новые листы.
Его, Костю, хватало на все. Пройдет время, уже не он, военкор, Константин Михайлович, Симонов возьмут поочередно в руки первый томик стихов и поэм. Глянут на дату и не поверят глазам своим. «Мурманские дневники», «Ледовое побоище», «Суворов», «Пять страниц», «Первая любовь»... Стихи же просто пачками. Друзьям привычно стало уже сетовать, да и подшучивать над его обязательностью и усидчивостью, собранностью и организованностью... Что делать, нужда научит калачи печь.
Давно ли он и сам себе и друзьям казался похожим — и ростом, и повадкой, на годовалого дога. Длинный, нескладный, разлапистый, готовый часами носиться с лаем по полям и перелескам, бульварам и переулкам — где придется, или валяться лапами вверх на какой-нибудь лужайке. А что, позы вроде этой поневоле приходилось принимать, когда они дружной компанией вшестером-всемером набивались к кому-нибудь из общих институтских приятелей. Он любил захватить диван или даже забраться на кровать, поверх покрывала, когда ты — словно и со всеми — и особняком, наедине с Рифмами.
Большинство сокурсников снимали комнатуху или получали общежитие. Исключение составлял один из завсегдатаев их компании, чьи родители имели отдельную квартиру.
Не надо думать, что они были «шишками» или принадлежали к какой-нибудь недоуплотненной из «бывших» фамилии... Просто это был новый, только что отстроенный дом, а отец приятеля был архитектором этого дома, и ему полагалась в этом доме отдельная квартира. Однажды, уезжая в отпуск, родители поселили в ней, в качестве сторожей, двух приятелей сына — Костю и Женю Долматовского.
Оказавшись здесь, Костя почувствовал себя так, словно сразу попал и в прошлое, и в будущее свое. В прошлое, потому что примерно так, если вспомнить рассказы матери, могла жить она, в девичестве княжна Оболенская, с отцом и матерью, которых он узнал уже старыми, озлобленными людьми, ютящимися на задворках собственных апартаментов. В будущее — потому что собирался же он, черт возьми, стать всерьез писателем, а писателю простор дома нужен не меньше, чем архитектору.
Так что пока Долматовский резвился и танцевал сам с собою вальс, предвкушая приятные дни, он, Костя, внимательно оглядывался, представлял, как бы он разместился в этой квартире с гостиной, спальней, кабинетом и кухней на постоянное жительство.
И, конечно же, в первую очередь его внимание привлек кабинет, на удивление оказавшийся открытым. Уж он-то в свой кабинет в свое отсутствие никого бы не пустил. В полумраке мерцали за стеклами золотые обрезы энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Потрогал дверцы шкафов — заперты. Вот это правильно. Уставшему вальсировать Долматовскому предложил кинуть жребий — кто в какое время будет работать в кабинете. Но Женя особенно на рабочее место не претендовал. Его больше привлекали кухня и спальня. Он мог сочинять стихи повсюду. Но это был лишь эпизод из их жилищно-бытового роскошества в тогдашней спартанской жизни. Чаще всего собирались у Риты Алигер. Тоже новостройка, только уже другого пошиба.
Лестницы в этом доме были узки до нелепости. Живущий там же архитектор жаловался им, как организация, строившая дом на кооперативных началах, урезала его в средствах. А когда речь зашла именно о лестнице, взяли гроб среднего размера и, убедившись, что его вполне можно пронести, решили, что делать шире — незачем.
— А рояль? Если люди захотят иметь рояль? — в отчаянии взывал зодчий.
Дом — без лифта, комната Риты — на пятом этаже, что не мешало им беспрерывно носиться вверх и вниз — в хлебный магазин за французскими булочками и в колбасную за ломтями широкой и круглой, с тележное колесо, чайной колбасы.
Здесь они писали свои открытые письма в стихах по частям, каждый свою, потом соединяли и «сваривали» швы. Ему всегда выпадало быть чем-то вроде бригадира. Особый присмотр требовался за Матусовским, которого приходилось иногда даже запирать, чтобы он хотя бы в одиночестве написал свою часть и заработал бы тем самым бутерброд с колбасой.
Какое все-таки прекрасное ощущение — быть необходимым и быть со всеми.
Он замер, услышав однажды в Политехническом Пастернака:
Счастлив, кто целиком,
Без тени чужеродья,
Всем детством — с бедняком,
Всей кровию — в народе.
Этот странный даже внешне поэт, линии жизни которого он не понимал, а стихи недолюбливал, сказал то самое, что составляло и его кредо, Кости. Ему, как и Пастернаку, не дано было это счастье — от рождения быть «всей кровию в народе».
Цикл стихов Пастернака, в котором тот признавался в своей жажде «в отличье от хлыща в его существованьи кратком труда со всеми сообща и заодно с правопорядком» назывался «Второе рождение», и это название тоже показалось Косте очень точным. Про себя считал, что уже родился второй раз — вместе с «Генералом», с «Победителем» и мог только посочувствовать продолжающему терзаться Пастернаку:
Но разве я не мерюсь с пятилеткой
И не поднимаюсь вместе с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И тем, что всякой косности косней?
Он был благодарен поэту старшего поколения за то, что тот нашел такую точную поэтическую форму, чтобы выразить и его терзания. Но колебания и рефлексии Пастернака он уже не мог ни разделить, ни принять. Ему по пути было с другим поэтом, тоже из поколения Пастернака, Алексеем Сурковым, который воскликнул однажды громогласно, — это было тоже в Политехничке: «Поэт, спросивший в семнадцатом году, «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?», кажется, до сих пор ждет ответа на свой вопрос».
Он, Костя, безоглядно кинулся в эту «бучу, боевую и кипучую» повседневности, обретая в том новые и новые радости. «Я в ряд их не попал», — тужил Пастернак. Костю же признавали своим не только по картузу, сапогам и косоворотке.
...Десятилетним мальчишкой вместе с матерью и совсем еще маленьким братом, — отец ушел уже на фронт, — я в первые месяцы войны оказался на его родине, в Пензенской области, в городе Сердобск, о котором упомянуто в «Тихом Доне» Шолохова. И со всей беззаботностью возраста окунулся в странную и заманчивую для меня, юного горожанина, жизнь этого полугорода, полудеревни. Старинный, привольно раскинувшийся посад с десятком каменно-кирпичных, конца прошлого столетия строений, где в бывших земской управе, дворянском собрании, жандармерии, гимназии размещались теперь горсовет, школа, нарсуд, нардом, горком партии... Известный на всю округу собор, в котором с началом войны возобновились службы — после двадцатилетнего почти перерыва. Масса деревянных домишек, построенных уже явно в нашем веке, окруженных заборами, плетнями, утопающими в зелени яблонь, вишен, тернослива и груш. Буро-зеленые массивы картофеля, полоски огуречных, помидорных, морковных посадок за домом, «на городе», то есть на огороде. Такой именно дом и такое хозяйство было и у моей тетки, старшей сестры отца, которая нас приветила. Километрах в трех от города, «на отрубах», как привыкли это называть со времен еще столыпинской реформы, бабушкина избушка на курьих ножках на берегу Сердобы и маленький сад с полным набором посевов и посадок индивидуального земледелия и домашняя скотинка — корова-кормилица, теленок — на мясо осенью, козы, две-три овцы, поросенок... И сама бабушка, тетка Маша, худая, высокая старуха, всегда в темных юбке и кофте и ослепительно белом платочке, туго завязанном под подбородком. И дед — дедушка Семен, работающий сторожем на мельнице и никогда не возвращающийся с дежурства без мешка отрубей, а то и сумки с мучкой пшеничного размола — «заведующий, Калиныч, говорит, помети-ко, мол, дедушка Семен, по ларям, по амбарам да снеси-ко внучкам своим городским». Я вошел в эту новую среду обитания, как нож в масло, — вместе со старшими вскапывал, обкашивал лужки да опушки, рубил и нес из лесу слегу на дрова, заготавливал веточный корм и хворост — для плетней, носил из-под горы воду из проруби, чистил «клева», драл с дедом лыко и даже пытался плести лапти. И со всем моим детским максимализмом ни о чем не мечтал сильнее, как слиться, полностью и навсегда, с этим миром, с его обитателями, стать своим среди них, чтобы забылись и городское мое происхождение, и мой городской «тилегентный» говор, и такие городские, до колен, штаны и полуботинки, совсем уж забытое теперь слово, в которых я приехал из Москвы.
С безотчетным стремлением как можно надежнее утвердить себя в глазах окружающих эдаким некрасовским мужичком — с ноготок! — я и в школу однажды заявился, благо дорогу из садов развезло по осени, в собственноручно сплетенных лаптях и дедушкином, до щиколоток, старом полушубке, в котором он выстаивал свои вахты на мельнице. Хоть городок и окружен деревней-лапотницей, мое появление в таком виде привело в ужас и учителей, и маму, зато повеселило и порадовало всю мою сердобскую родню, которой, видно, по душе было мое тяготение и к облику, и к образу жизни крестьянина. Все реже, скорее ненароком, меня теперь называли городским, в отличие от матери, «нашей барыни», и младшего брата — «барчука», видно, за большой белый бант, который мама упорно повязывала ему на шею.
...Костя никогда и никому в этом не признавался, даже наедине с собою не любил думать об этом, но бывали минуты, когда он роптал на провидение. Ну почему, почему ему, написавшему и «Генерала», и «Победителя», и десятки других стихов об Испании, о Щорсе, о Мурманске и Дальнем Востоке, суждено было родиться дворянином?! Знать, что самые близкие тебе люди — из «бывших». Он переживал за мать, когда трех ее сестер, его теток, после убийства Кирова, выслали вместе с чадами и домочадцами из Ленинграда в Оренбург.
— Если бы я вернулась тогда, как все они, в Петроград, конечно, я бы была сейчас вместе с ними, — сказала она, когда узнала о трагедии сестер. И в голосе ее он не услышал ничего, кроме боли. От того, что она не может быть с ними сейчас.
Он поддерживал мать, как мог. Он приносил домой каждый заработанный рубль, — тогда, в 35-ом, их было не так уж много, не то, что потом, — чтобы можно было послать посылки теткам и его двоюродным братьям и сестрам. Однажды они с отчимом даже согласились отпустить мать «туда», и снарядили в дорогу так, что, когда усаживали в поезд, ее не видно было за кульками, узлами и свертками. Места себе не находили, ожидая ее возвращения, утешали ее, как могли, когда она вернулась и рассказывала — не могла остановиться, — что она там видела.
Она еще не утратила надежд, может, что-то изменится к лучшему? Но надежды эти были, как выяснилось, связаны с тем, что хуже уж, чем есть, просто не может быть.
Это все была жалость к матери, боль за нее, да, пожалуй, за одну из тех теток, к которой он был привязан с детства. Они, конечно же, ни в чем не виноваты, хотя тетя Долли и грешила тем, что поругивала советскую власть в тесном семейном кругу. Опасности они для этой власти, смешно даже предположить, никакой не представляли. Но ведь убийство Кирова — не выдумка, не фантазия. Убийство циничное, наглое, прямо в Смольном, что свидетельствует о широком и разветвленном заговоре, против которого одно оружие — бдительность. Не даром Сталин выезжал в Ленинград...
Тут ему понятна и близка была логика отчима. Тот, когда они жили еще в Саратове, сам был однажды арестован и вернулся через четыре месяца. Вид у него был такой, словно он только что со службы, из своего военного училища, где он преподавал фортификацию: в фуражке, в ремнях, с тремя шпалами в петлицах и наганом на боку. Лишь бледность лица, не свойственная ему, бросалась в глаза. Оказывается, произошла ошибка, объяснил, и ошибку поправили. А то, что дирекция училища с перепугу выдворила их семью из ведомственной квартиры, это уже не ошибка, а свинство — самое тяжкое обвинение в устах отчима. Он вернулся, и им будет стыдно. Если же человека арестовывали и он не возвращался, значит, по мнению отчима, правильно арестовали. Так он рассудил даже об одном дальнем родственнике, тоже в прошлом военном, который умудрился всю Первую мировую войну просидеть в тылу. Жене его отчим посочувствовал, а самому сказал, что получил то, что ему причитается. Ничего, мол, в жизни человека не бывает случайным.
И еще с одним человеком произошла история, которая убеждала: самое невозможное — возможно, в самом невероятном — хочешь не хочешь — приходится убедиться. Арестовали хорошо знакомого их семье комкора. Был когда-то военным атташе в Турции, преподавал в военной академии. Арестовали второй раз. Первый раз почти одновременно с отчимом. Их тогда и выпустили почти одновременно. Совпадение, конечно, чисто случайное. И теперь его, Ивана Александровича, снова арестовали. На первый взгляд — непонятно. А на самом деле, увы, все ясно. Он был близким другом Тухачевского. Когда-то они вместе учились в пажеском корпусе, потом вместе двигались по служебной лестнице.
Над Тухачевским, над Егоровым, над Якиром только что прошел суд и вскрылись страшные вещи. И уж в виновности этих-то людей сомневаться не приходится. Нельзя же вот так, ни за что ни про что, взять популярнейших людей в стране, замнаркома, начальника Генерального штаба и тому подобное и обвинять их. Осудить и расстрелять. Тем более судил-то их кто? Маршал Блюхер, легендарный герой. После процессов Зиновьева и Каменева, потом Бухарина и Рыкова вообще мало чему приходится удивляться. Они слыли, именно слыли, соратниками Ленина, а оказались презренными предателями, убийцами, отравителями. Из-за своей биологической ненависти к Сталину. Для всех он олицетворяет силу и волю партии, честь и совесть народа, а для них он — злейший враг.
Когда стало известно, что двух его теток посадили в Оренбурге в тюрьму, Костя прежде всего снова подумал о матери. И когда, год спустя, одно за другим пришли уведомления об их смерти, тоже.
Теток было жалко. Однако что тут поделаешь? Когда в мире разворачивается такая борьба, когда речь идет о жизни или смерти нового общества, прокладывающего дорогу вперед человечеству, тут не обойтись и без невинных жертв. Лес рубят — щепки летят. Чуть ли не каждый день он слышал это выражение, но теперь понял, что оно до него как-то не доходило. Теперь, когда коснулось самых близких ему людей, — дошло. Он понял, что можно страдать даже по поводу того, что неизбежно и объективно неотвратимо. Он не стеснялся своей боли и своих переживаний, но знал, что лекарство от них одно — работа. Его поприще — литература. Сейчас не время для мерехлюндий. Времени «рассиропливаться», как любил говорить Маяковский, ему, Косте, не дано. Он поэт. Его долг — быть в гуще схватки. Он уже доказал, что он — не пешка в этой борьбе. Его слово уже работает, оно служит народу. Он знает, что «Генерала» перевели на испанский, на другие языки, и Роман Кармен, только что вернувшийся оттуда, рассказывал, как его стихи слушали герои-интербригадовцы, друзья и соратники генерала Лукаша, которого он, Костя, видел только однажды. Не поверят, если сказать, где он его видел — в трамвае, в «аннушке». До сих пор жалеет, что не подошел и не заговорил с ним. Постеснялся.
Вести об арестах — и знакомых людей, и тех, кого знаешь только по имени, иногда громкому, — приходили каждый день. Борьба с противниками коммунизма и советской власти продолжалась.
Брали людей и в Литинституте. У Кости ни разу не шевельнулось опасение за себя. Спроси его кто-нибудь — не боишься ли, он бы глаза вытаращил. Спросить такое мог бы только идиот или провокатор. Впрочем, их тоже хватало. Когда арестовали Ежова, в конце тридцать восьмого года, стало еще яснее, как много провокаторов вокруг. Еще одно свидетельство коварства врагов народа. Иногда Костя ловил себя на том, что живет в нем беспокойство за отчима. Тот, как всегда, был собран, немногословен, внешне строг. В урочное время уходил на службу, в урочное — возвращался. Нет худа без добра. Ошибка — ошибкой, но, видно, крепко его проверили, насквозь просветили за те четыре месяца в Саратовской тюрьме. Раз и навсегда убедились, что свой.
Великая, благая и коварная сила единственного примера, одного факта, случая.
Меня, девятилетнего, один такой факт подтолкнул в другую сторону. Дело было все в том же Сердобске, только не в войну, а за год до ее начала. Вторые в моей жизни каникулы. У бабушки с дедушкой на крохотном, в несколько изб, хуторке в трех километрах от города и большого некогда села — Пригородной слободы, раскинувшейся на другом берегу Сердобы.
Там, в слободе, до начала коллективизации мои бабушка и дедушка жили, пока их не раскулачили, а деда не сослали на Северный Урал. Каким-то чудом он вырвался оттуда через три года, застав бабушку в землянке, сооруженной давно-давно их еще стариками на сорока сотках, которые то ли по недосмотру начальственному, то ли по чьей доброй воле были оставлены за ними.
Однажды, наказав мне нарядиться «по-городскому», бабушка повела меня за реку, в слободу. Сама она тоже оделась «на выход» — новая кофта в черный горошек, ослепительной белизны платок. Накрахмаленные концы его, туго завязанные под подбородком и разведенные в разные стороны, составляли прямую линию. Путь был неблизкий. Сначала лесом, потом «горою», протянувшейся вдоль реки Сердобы, которую мы пересекли по мосту-плотине. Тут и начиналась Заречка. Странное это было поселение — даже для моего детского восприятия. Не поймешь, где улица начинается, где кончается. Дома то густо стоят, почти налезая друг на друга, то вдруг—пустота меж ними, вся в каких-то ямах, буераках, заросших лебедою и лопухами. В провалах виднелись остовы печей, обугленные, изъеденные жучками тесины.
Бабушка тянула меня за руку, больно дергая и не замечая этого, от пепелища к пепелищу и, указывая пальцем свободной руки то в одну сторону, то в другую, яростно восклицала:
— Вот, гляди, это нашего свата усадьба... А здесь сусед наш, Иван Постнов жил, царствие ему небесное, ныне уж и косточки его, поди, давно сотлели. Загубили его душу, говорят, где-то за Уралом-горой, где и дедушка твой побывал.
Я со страхом смотрел не столько в сторону, куда показывал бабушкин ставший вдруг необычайно длинным и негнущимся палец, сколько на ее лицо. Обычно спокойные, даже кроткие, глаза горели. Седые, воздушные, как пух, аккуратно уложенные волосы выбивались из-под платка жесткими спутанными космами, платок перекосился.
— Здесь, — остановилась она наконец, — дедушки твоего была усадьба, отсюда его сердечного и отправили под белые ручки в Вятку... А нас всех, стало быть, на Мысы.
— Кто отправил? — переспросила она, хотя я и не думал задавать ей такого вопроса. — Сталин ваш любимый отправил, аспид рода человеческого. И как только его земля носит, эдакого-то, прости ты меня Господи, ирода, — она глубоко и как бы с облегчением вздохнула: выговорилась. И принялась поправлять на голове платок.
Сказанное ею было продолжением нашего спора, если так можно, конечно, назвать разговоры бабушки и ее девятилетнего внука, которые у нас повелись чуть ли не с первого дня моего появления в Сердобске с дядей-отпускником. То есть началом-то всему были беседы бабушки с дядей Васей, младшим ее сыном. В ту злополучную пору, когда путь дедушки пролег в Кировскую область, дяде Васе довелось перебираться из «хором» в Пригородной слободе в ту самую землянку, за годы превратившуюся в крытую соломой избушку, где бабушка с дедушкой и доживали свой век.
Бабушка при каждом удобном случае возобновляла свои инвективы. Дед всегда испуганно помалкивал. Дядя Вася, оглядываясь по сторонам, тихонько поддакивал бабушке, а я, готовившийся осенью, после каникул, вступать в пионеры, наскакивал, как молодой петушок, на старуху, ощущая себя еще одним Павликом Морозовым, о котором успел тогда и в книжке прочитать, и по радио услышать, и в школе представление посмотреть...
Что думал я, что чувствовал тогда, стоя перед заваленной мусором ямой, которая некогда была домом моих предков? В рассказах бабушки это была усадьба: сруб-пятистенок на каменном фундаменте, узорчатые наличники на окнах, резное высокое крыльцо, деревянный петушок на коньке соломенной крыши. Это сам дом, а на дворе, за дубовыми с тяжелым кованым кольцом воротами — все «поместье» — конюшня на двух лошадей, «клев» для коровы да катух для поросят. Кошарка для овечек. «Каки мы таки кулаки были? — вскидывала голову бабушка, перечисляя все это канувшее в Лету великолепие, — каки-таки? Что работали от зари до зари вот этими самыми руками, — она протягивала мне потемневшие отработы, изъеденные временем ладони, — только вот и было нашего кулачества... Отца твово в борозде родила. Зато в достатке жили, к соседям одолжаться не бегали. Сами, бывало, подавали — под Рождество и в светло Христово Воскресенье...»
Нет, не могу припомнить, продолжил ли я тогда, стоя у родных руин бесконечный и яростный спор с бабушкой... Или промолчал, побежденный ее аргументами? Одно твердо знаю — никогда уж не был я в силах забыть нашего похода вдвоем по рытвинам и колдобинам знавшей лучшие времена Пригородной слободы... И когда четырнадцать лет спустя на митинге в Комаудитории Московского университета люди плакали вокруг меня по Сталину, я не стыдился того, что у меня в глазах не было ни слезинки...
...У Романа Кармена была за плечами война. У него, Кости, только стихотворение о ней.
Позднее, много лет спустя, Константин Михайлович задумается над строчками из дневника, который ему, редактору «Нового мира», принесут, чтобы напечатать в журнале. Дневник Сергея Чекмарева, где письма пересыпаны стихами, а стихи прерываются прозой.
Ременной подпругой сжала
Мне сердце тугая боль.
О, Гнедой, она убежала.
Убежала от нас с тобой!
Она забрала ребенка
И ускакала в Москву.
Оставила Даше гребенку,
А нам с тобою тоску.
Сергей Чекмарев, как явствовало из вступительной статьи Константина Федина к его дневникам и стихам, погиб в 1932 году, утонул в реке, где-то в башкирских степях, где он работал тогда зоотехником. Погиб, а может, был убит, как намекал автор предисловия... И ничего тут нет удивительного, если вспомнить те времена и классовые схватки, которые разгорелись на селе. Было ему в ту пору двадцать два с небольшим. И ни строчки не было у него напечатано. Впрочем, он к этому и не стремился. Скорее, наоборот. Вот он пишет: «Я прежде всего хочу любить, а потом уже писать про любовь, прежде хочу видеть, жить, потом уже писать о жизни. Первую половину жизни я буду писать для себя, вторую для всех».
Константин Михайлович вглядывается в строки, написанные, когда начинал и он. Он рад, что хоть теперь, его волей, увидят свет эти строки. Через двадцать лет после того, как они были написаны.
Его принцип: жить и писать о жизни, любить и писать о любви...
Писать и читать это завтра же — в газетах, журналах. Слышать по радио. Знать, что вместе с тобой стихи слышат сейчас миллионы людей — это и была для него жизнь. Другой он себе не представлял.
Когда его вызвали в военную комиссию Союза писателей и сказали, что редактор фронтовой газеты «Героическая красноармейская» генерал Ортенберг просит прислать ему в Монголию «одного поэта», он замер от волнения. Он боялся поверить своим ушам. Этим «одним поэтом» предлагается стать ему. Нет, не может быть. Такого просто не может быть...
Когда на эту пору своей жизни он будет смотреть глазами Военкора, Константина Михайловича, он сам себе будет поразительно напоминать Петю из «Войны и мира» Льва Толстого. Из самого любимого романа самого любимого его писателя.
Примчавшись — а это было именно так — в монгольское далеко и получив местечко в одной юрте с маститыми уже Лапиным и Хацревиным, чьи имена всегда, до самого последнего их дня — они и погибли в одночасье, в начале следующей, большой войны — называли вместе; с величественным и ироничным Львом Славиным, Костя в свои двадцать три года снова почувствовал себя мальчишкой. Это после «Генерала»-то, после «Победителя» да и многого чего другого...
Торопливо и радостно вытряхивал из новенького рюкзака — на всеобщее обозрение, вернее, истребление — свое, в Москве запасенное, богатство — яблоки, табак, селедку, конфеты. «Я привык что-нибудь сладкое — отличный изюм. Берите весь», — совсем как Петя Ростов, готов был он воскликнуть. И как Петя, восторженно заглядывал в глаза окружающим и заговаривал почтительно с каждым, кто уже побывал «там», откуда слышались раскаты артиллерийского грома и приносило клубы черной, пахнущей настоящим порохом гари. И не замечал, как переглядываются и усмехаются незлобиво, внимая ему, его новые сотоварищи. Впрочем, нет, замечал, если уж по правде, но нисколько этим не тяготился. Ни в первые часы и минуты, ни днями позже, когда уже мог считать себя вполне обстрелянным воином; его по успевшей уже сложиться традиции чуть ли не в день прибытия «сунули» на передовую.
Его стихи и баллады посыпались как из рога изобилия едва ли не в каждый номер «Героической красноармейской».
Пройдет время. Придет и такое, увы, когда почти никого из друзей и его самого уже не будет на этом свете. И Маргарита Алигер напишет в своих воспоминаниях: «Тридцать девятый год был для него весьма значительным. Летом он побывал на своей первой войне. На Халхин-Голе. Привез оттуда книгу новых стихов. У него родился сын. Он написал свою первую пьесу, и она была поставлена в театре».
Такое было время и таким было мироощущение. Первая война приравнивалась к первой книге стихов, к первой пьесе.
Семь километров северо-западнее Баин-Бурта
И семь тысяч километров юго-восточней Москвы,
Где вчера еще били полотняными крыльями юрты, —
Только снег заметает обгорелые стебли травы.
Степи настежь открыты буранам и пургам.
Где он, войлочный город, поселок бессонных ночей,
В честь редактора названный кем-то из нас Ортенбургом,
Не внесенный на карты недолгий приют москвичей?
Это была грусть. Но грусть — сквозь радость. Счастливое и редкое ощущение, посещающее непосредственного и чистого человека, имеющего идеал и стремящегося к нему и вдруг — о чудо! — обнаруживающего, что в соответствии с этим идеалом все вокруг и происходит.
Да, нам далась победа нелегко.
Да, враг был храбр.
Тем больше наша слава.
Быть может, оно потом никогда уже не вернется, это сладостное чувство лада с самим собой и со всем окружающим миром. Быть может, обернется потом презрением, тяжким душевным похмельем... Но когда оно, это чувство, посетило тебя, пока оно с тобой, пока все вокруг ясно, светло и понятно, и ты чувствуешь, что ты с теми, с кем надо тебе быть, и делаешь то, что надо тебе делать, и делаешь так, что это нравится тем людям, которым и хотелось бы, чтобы нравилось, ты счастлив. Все горит в руках в эту пору, все ладится и каждое лыко — в строку.
В инстинктивной надежде продлить это волшебное состояние он по возвращении в Москву уселся за вторую свою пьесу. Ему недоставало одного лишь — лирического перевоплощения. Все увиденное и пережитое хотелось отлить в живом характере, в реальном образе.
Но прежде — выпало заступиться за своего первенца, «Историю одной любви». Пока он там воевал на Халхин-Голе и писал о воюющих: «У нас была чистая совесть людей, посмотревших в глаза войне», здесь, в Москве, было совершено нападение на него самого. И кем?
Первый секретарь ЦК комсомола Михайлов, только что сменивший на этом посту оказавшегося врагом народа Косырева, как чуть раньше он же, Михайлов, — совпадение? — оказался на месте другого врага народа, главного редактора «Комсомолки» Бубекина, на каком-то совещании поделился впечатлением о первой Костиной пьесе и нашел в ней ни много, ни мало «проповедь грязи и пошлости в интимных отношениях любви».
Друзья уговаривали плюнуть, не заметить. А еще лучше — повиниться при случае. Он, не долго думая, уселся за письмо Михайлову: «Я все-таки глубоко убежден, что пьеса «История одной любви», решая вопросы, может быть, менее важные, но все-таки существенные, имеет право на существование.
Я уверен и всем своим существом знаю, что эта пьеса так, как она написана сейчас, чиста и целомудренна и зовет читателя и зрителя к чистоте и благородству в их личных отношениях... Я не могу согласиться с тем, что мои самые задушевные и чистые желания могли приобрести в пьесе какой бы то ни было оттенок грязи и пошлости. Они его не приобрели и не могут приобрести».
Написал и отправил, нимало не заботясь, какой будет ответ и будет ли. Его не последовало. Несколько лет спустя Михайлов со смущенным смешком напомнил ему об этой их «дуэли» — где-то к концу уже Отечественной встретились на каком-то совещании начинающих поэтов из фронтовой среды — первый секретарь комсомола и Военкор, слегка уже тронутый сединой и бронзой автор «Жди меня».
Пока же, Костя, забыв обо всем, сидел над другой пьесой. Халхин-Гол был его первой, его собственной войной и сюда же, только уже после Испании он отправит своего нового героя — Сергея Луконина. «Парень из нашего города» появится в самый канун настоящей, Большой войны.
Строго говоря, Сергея Луконина звали Борисом Смирновым. Был такой военный летчик, с ним Костя познакомился осенью тридцать восьмого года, сразу после того, как тот вернулся из Испании. Встретились накоротке в Ленинграде, где только и успели что договориться о следующей встрече, на этот раз — в Гурзуфе, куда Смирнова отправляли отдохнуть после Мадрида, Уэски и Арагонии. За три дня они успели перейти на ты, набродились вдоль переполненных людьми пляжей, налюбовались Аюдагом и белыми гребешками черноморских волн, чей непрерывный ропот сливался в его воображении с ревом моторов заходящих на удар истребителей. В шелесте знаменитых, еще Пушкиным воспетых, гурзуфских кипарисов Костя слышал голос арагонских лавров, о которых написал в своем «Генерале».
Борис рассказывал, а он слушал и все прикидывал, каким образом сможет все это воспроизвести — ведь из участия наших летчиков и вообще добровольцев в войне в Испании делали секрет. Кольцову приходилось давать своим героям из-под Харькова и Смоленска испанские имена.
На Халхин-Голе Костя узнал, что Борис воюет рядом. Все порывался побывать в его части, да так и не сумел. Когда столкнулись нос к носу в Москве, Борис пожалел, что не свела их судьба в монгольских сопках. Был у него план — взять и посадить фронтового поэта в истребитель УТИ-4 да и прокатить над территорией военных действий в районе реки Халхин-Гол. Показать агонию окруженной уже и добиваемой Квантунской армии.
Костя, услышав это, аж зубами заскрипел:
— Лучше б ты об этом не рассказывал.
Пытаясь как-то успокоиться да и Бориса, огорченного его отчаянием, утешить, спросил:
— А позволили бы тебе это? Смушкевич позволил бы?
— Позволил бы, — пробасил Борис. И после почти незаметной паузы, навеянной фамилией расстрелянного комкора, чье имя и произносить-то, строго говоря, было теперь опасно, добавил, тряхнув лобастой, начинающей уже лысеть головой:
— Не позволил бы, мы бы и без разрешения полетели...
Вот такой человек, отвоевавший уже в свои неполные тридцать лет две войны и готовый к третьей, и должен был стать героем его пьесы. Только будет он не летчиком, а танкистом. Это было решено еще в Монголии. В один из последних своих журналистских разведпоисков наткнулся на наш подбитый, изуродованный танк, с которым в тот час прощался его экипаж. Командир, раненый, с забинтованной головой, с рукой на марлевой повязке, чем-то напоминал свою машину — разорванная гусеница, пробоины в листовой броне, оплавленной прямыми попаданиями. Такие искореженные оба и такие несгибаемые.
Писать пьесу забрался в Переделкино, где в старой деревянной даче зарождалось то, что позднее назовут Домом творчества. Путевки добыл Женя Долматовский, вместе с которым успели после Монголии побывать в Западной Белоруссии. По сравнению с Халхин-Голом это была не война, а прогулка. Девушки в броских национальных нарядах встречали красноармейцев цветами. Герой его побывает и здесь. Цветы цветами, но, освободив Белосток и Гродно, мы, он так понимал это, лишь отодвинули слегка на Запад передний край будущей войны.
Под Кенигсбергом, на рассвете,
Мы будем ранены вдвоем,
Отбудем месяц в лазарете,
И выживем, и в бой пойдем.
Строки, написанные еще в 1938 году, оказались пророческими.
Святая ярость наступленья,
Боев жестокая страда
Завяжут наше поколенье
В железный узел, навсегда.
В тесной клетушке переделкинской дачи он каждый день высиживал, и нисколько не уставал, с рассвета до сумерек. В счастливую минуту найденное название будущей пьесы — «Парень из нашего города» — добавляло уверенности в себе. С таким названием пьеса просто не может, не имеет права быть плохой или посредственной.
Варю в театре Ленинского комсомола будет играть та же актриса, что и героиню в «Истории одной любви». Ее и зовут-то почти, как Варю — Валя, Валентина. Он познакомился с ней еще тогда, когда в театре, это было до Халхин-Гола, репетировали «Историю одной любви». Варя и будет Валей. Или Валя — Варей? Однажды, задавшись неожиданно даже для самого себя этим вопросом, он понял, что нашел ключ к пьесе. Это будет разговор с ней, Валей, и о ней. И о нем, Косте... И о них вместе... Он пришел в ужас от собственных дерзких мыслей. Почему это пришло ему в голову? В конце концов он сам — почтенный семьянин. У него жена, которой он писал стихи и письма из Монголии. Мать его сына. Первенца. Алешке, этому чертенку смуглому, вот-вот стукнет год. И он уже выучил слово «папа».
У нее — муж. Летчик-испытатель. Герой Испании. Серов. Вся страна его знает. Может, потому он и не сделал своего Сергея Луконина летчиком, хотя технически ему было бы это проще: сколько было переговорено с Борисом Смирновым о тайнах и причудах его крылатого дела.
«Мне хочется назвать тебя женой...» Эта строка родится и станет названием стихотворения лишь два года спустя, когда начнется война с гитлеровской Германией, и он отправится на фронт. Сейчас? Даже помыслить об этом было совестно... И страшно! Нет-нет, если они и будут встречаться, то только на репетициях в театре. А разговаривать — лишь языком этой его пьесы, которую он собирается написать. Женя Долматовский тут же, в Переделкино, в соседней клетушке корпел над собственной пьесой, только в стихах, тоже о человеке «нашего поколения».
Долматовский, как и Костя, успел побывать уже на двух войнах — в Западной Белоруссии и еще на финской. К ней Костя относился, по правде говоря, с некоторым предубеждением. Не совсем ему было ясно, почему мы там воюем и за что. Словом, чтобы избежать похожих ситуаций, они четко договорились — инициатором тут был он, Костя, он любил, чтобы всегда все было ясно с самого начала: Женин герой будет штатский-прештатский гражданин, который только на время наденет шинель, чтобы потом поменять ее снова на цивильный пиджак, а Костин герой будет — военная косточка от начала до конца. Об этом условились. Умолчал он только о другом, о чем Жене совершенно не надо было знать, о том, что его Сергей будет еще и им, Костей, но не таким, каков он есть, а каким хотел бы быть, и пусть она увидит или хотя бы догадается, что Варя — это его идеал жены и друга. И тот мир, который он создаст пером, та атмосфера, в которую он погрузит своих героев, будет тем миром и той атмосферой, в которой он хотел бы жить.
Разделив со старым другом Женькой Долматовским сферы притяжения, он тут же, не откладывая, стал конструировать, сначала лишь в воображении, этот мир. Подобно ему, Косте, уже написавшему поэму о Николае Островском и герое испанской гражданской войны Мате Залка, Сергей где-нибудь обязательно признается: «Когда я смотрю на карту, мне почему-то нравится та ее часть, которая покрыта красным цветом».
Вспомнился двух- или трехлетней давности разговор с Ритой Алигер. Началось с того, что он иронически высказался насчет выступления одного оратора на съезде партии.
— Если бы мне довелось получить там слово, я бы выступал совсем по-другому... — и запнулся на мгновение, остановленный недоумевающим взглядом Риты.
Ей, прочитал он в этом взоре, дикой показалась сама мысль, само предположение, что она или даже он могли бы когда-то оказаться в положении оратора на всесоюзном партийном съезде. Его же в тупик поставило само ее недоумение. В мыслях своих он, это бывало, залетал и повыше.
— Двадцать два года не шутка, — скажет у него Сергей. Симонову в пору его разговора с Алигер было лишь годом больше, — а к тридцати человек или уже человек, или нет. — Суворов, знаешь, к тридцати годам кем был? Хотя нет, Суворов как раз нет, он к тридцати годам даже полковником не был. Но это неважно, он не был, а я буду.
А я буду... Так что не глядите, что Сергей — этакий сорвиголова, возмутитель спокойствия. В детстве гроза окрестных садов, а в юности — мамушек и тетушек, имеющих пригожих дочек да племянниц... Как и в Косте, — это не главное в нем.
Не глядите, что в танковой школе Сергей наряд за нарядом будет получать вне очереди, а однажды вообще окажется на грани отчисления из училища, без которого ему — и он сам, и все окружающие прекрасно понимают — просто не жить... Но вот настанет пора суровому и немногословному командиру училища, по чьей милости и Сергей столько картошки на гарнизонной кухне перечистил, столько суток на «губе» отсидел, отправляться по приказу еще более высокого командования на Восток, и с собой он возьмет не кого-либо иного, не чистюлю какого-нибудь, первого ученика, а его, Сергея, и потом, когда настигнет их обоих смертельная опасность в жестоком бою, командир не пожалеет об этом.
И уж совсем, казалось бы, «не в строку» этому сорви-голове Луконину такие его признания, которые с головой выдают «одного поэта» Симонова: «Я люблю, когда меня посылают. Ей богу, Аркаша, мы часто забываем, какое это счастье знать, что ты нужен стране, ездить по ее командировкам, предъявлять ее мандаты. Я еще мальчишкой поехал первый раз от пионерской организации...»
И не Костя ли, побывавший за какие-нибудь два года кроме Монголии и Западной Белоруссии еще и на Кавказе, и в Крыму, для встречи с Борисом Смирновым, и на Севере, и на Беломорканале, и Бог еще знает где, написал между делом целый цикл стихов, который так и называется «Дорожные стихи» — «Отъезд», «Чемодан», «Вагон», «В командировке»...
Нам всем, как хлеб, нужна привычка
Других без плача провожать,
И весело самим прощаться,
И с легким сердцем уезжать.
Только не надо думать, что одна лишь боевая походная труба способна поднять этих непосед, Костю и Сергея в дорогу.
Сергей:
Все-таки знаешь, Вано,
вдруг бывает такая минута в жизни,
когда уехать дороже всего...
Костя:
Мужчине — на кой ему черт порошки,
Пилюли, микстуры, облатки.
От горя нас спальные лечат мешки,
Походные наши палатки.
Вот так, мало-помалу, будет раскрываться в пьесе Сергеев, а заодно и его, Костин, мир.
В этом мире, в этом доме, высотою до неба, а шириною — в пол-планеты, все настоящие мужчины, как и Сергей, хотят всегда быть в самой горячей точке нашей земли, в самом ее пекле. Здесь странствия, перелеты и переезды, неожиданные расставания и чудесные встречи — не случайность, а повседневность, форма жизни, теин в чаю, то самое, что и придает напитку терпкость, загадочность, а жизни — головокружительную остроту.
В этом мире умеют приказывать, но умеют и подчиняться приказу — не раздумывая и не рассуждая.
Мужчины в этом мире умеют дружить. Крепко, но не навязчиво. Преданно, но без сантиментов. Умеют не только беречь, но и спросить друг с друга...
Любо было Косте творить этот мир, этот дом, любо населять его близкими сердцу обитателями.
И так все прозрачно и ясно в этом доме: вот друзья, вот враги, вот красное, вот черное, вот смелость, вот трусость, вот благородство, вот подлость.
В этом мире и любить умеют, как нигде. И как никто другой. Женщина здесь — всегда кумир. Одна, на недосягаемой высоте, обожаемая, тайно и явно всеми членами этого грубоватого мужского сообщества, но любящая, всегда и навсегда, лишь одного из них. Такого, как Сергей...
Что ж, Сергей уже более-менее понятен его создателю и, будем надеяться, станет близок читателю. Кто ж она? Ну, во-первых, как и Валентина, Варя — актриса. Он не видел нужды менять профессию героини. Как и у Валентины, муж у нее — герой, воин. Только не летчик, а танкист. Зато тоже побывал в Испании и вернулся оттуда тоже со славою.
Увы, на этом, приходится признать, и заканчивается сходство героини с прототипом. Варя действительно уедет. В Москву. Выучится на актрису. И поступит в театр. Но о Сергее думать не забудет. Наоборот, приедет к нему, пожертвовав рампами столицы, и будет играть в скромнейшем из скромных гарнизонном театре, который сама, кажется, и организует. И Сергею, которого судьба и собственный неугомонный характер бросают из одной пылающей точки планеты в другую, скажет:
— Да, ждать, ждать, пускай ждать, но зато когда мы вместе... Да, я люблю эту жизнь, она и есть самая настоящая. А другой никакой не хочу...
И только чуткому и самоотверженному брату своему, да еще другу Сергея, который, конечно же, любит ее и, конечно же, что всем известно, тайно, признается она, да и то лишь в одну из тех минут, когда о Сергее опять ничего неизвестно:
— Все неправда, неправда, не хочу, чтобы уезжал. Каждый день хочу его видеть, каждый день, каждый день, чтобы всегда со мной...
Так — у Сергея с Варей. Будет ли так и вообще будет ли как-нибудь у него, Кости, с Валентиной?
Пройдет не больше года. Он допишет за это время пьесу. Первым ее поставит Берсенев в московском театре Ленинского комсомола, где главную женскую роль сыграет, конечно же, Серова.
Со скоростью пламени, которому стоит только лизнуть своим красным языком ворох сухого хвороста, пьеса заполонила театральные подмостки страны. Считанные недели отделяли премьеру у Берсенева от начала войны, а «парнем из нашего города» уже нет-нет да и назовут очередного героя первых военных сводок Совинформа. Видно, не зря писали на следующий день после премьеры «Известия»: «Художественные недостатки пьесы, мы беремся утверждать это со всей ответственностью, тускнеют в сравнении с политическим звучанием спектакля».
Увы, на героиню пьесы, она же — исполнительница главной роли, она же — прототип, не произвели, кажется, впечатления ни недостатки пьесы, ни ее достоинства, хотя играла она Варю — это все объективно признавали — просто замечательно.
И двух месяцев не минет со дня премьеры, как Костя обнаружит себя в корреспондентском пикапе где-то под горящим Минском, читающим товарищам свои только что написанные стихи:
Я, верно, был упрямей всех,
Не слушал клеветы
И не считал по пальцам тех,
Кто звал тебя на «ты».
ВОЕНКОР
В какой момент Костя стал Военкором? Точно ли 22 июня 1941 года? Или позже? Пройдут годы и годы, и этот вопрос будут задавать себе Константин Михайлович и К. М. И сам Военкор. Да и Костя, который вовсе не намерен был расставаться с ними на рубеже войны и мира. Как, впрочем, и они с ним.
У каждого был свой ответ на этот вопрос. И каждый судил по-своему. Константина Михайловича никак не отпускала боль разорванных во второй половине пятидесятых годов отношений с Валей. А К. М. до последнего дня своего мучился поисками правды о войне и о себе.
Как бы то ни было, ни один из них не мог забыть одного совершенно невероятного эпизода из жизни свежеиспеченного военного корреспондента «Красноармейской правды» Симонова. Он случился в один из первых двадцати дней войны, между Могилевом и Смоленском. К тому времени здесь уже проходила передовая, неумолимо сдвигаясь каждый час к востоку. И где-то здесь скитался по изрытым дождями и разрывами снарядов дорогам зеленый, крытый жеваным брезентом пикап.
Как только он останавливался, из его кабины и кузова тут же вываливались размять онемевшие руки и ноги и глотнуть, если повезет, хотя бы глоток свежего воздуха четверо в военных гимнастерках и бриджах, цвет которых еще можно было вспомнить, но уже нельзя определить. Корреспонденты «Известий» Евгений Кригер, Павел Белявский, прибившийся к ним спецкор фронтовой газеты Симонов и фотокорреспондент Павел Трошкин, отец моего будущего соавтора по фильму о К. М.
Последним, как капитан корабля, кабину покидал редакционный водитель Паша Боровков. Обеспечивая возможность двигаться дальше, он поневоле ощущал себя самым главным в этой пестрой и шумной компании. Впрочем, что значило для них — дальше? Они просто искали штаб энской дивизии, при которой, как говорили, находилась и редакция «Красноармейской правды». В ее распоряжение должен был явиться Костя. Что же касается Трошкина, то он надеялся, что с помощью коллег из газеты сумеет отправить в Москву классный снимок — панораму подбитых фашистских танков, который он сделал три дня назад, когда они с Симоновым находились в хозяйстве комбрига Семена Кутепова. Быть может, это были первые немецкие танки, подбитые нашими. И сколько — тридцать девять в ряд! Отличились ребята Кутепова.
Известинцы Кригер и Белявский у Кутепова не были и с завистью, отказываясь верить, слушали рассказы Кости, которого вместе с Трошкиным просто подобрали и посадили в свой пикап у одной из бесчисленных переправ, где всегда скапливались толпы людей и техники.
Но не об этом, не о подвигах Кутепова и его людей был у них разговор, когда они остановились у очередной воронки, на их глазах возникшей прямо на проезжей колее — дать Боровкову время осмыслить ситуацию и облить дождевой водой из соседней колдобины перегревшийся капот. Трошкину, который захлопнул дверцу пикапа со словами: «А ведь снова выбрались», пришло в голову запечатлеть эту неповторимую минуту для потомства. Кригер же совсем некстати попросил Костю почитать «какие-нибудь последние стихи». Тот машинально потянулся рукой к планшету на левом боку. Все, что писалось «до», теперь и не воскресить в памяти, хотя, в общем-то, он помнил наизусть многие из своих стихов и любил их почитать, если просили. Но в планшете лежало записанное в блокнот стихотворение, которое он сочинял как раз в тот момент, когда вдруг услышал по радио, что сейчас будет выступать Молотов. 12 часов дня 22 июня. Уже через час после этого он был на сборном пункте, адрес которого ему, только что вернувшемуся с курсов военкоров, был заранее сообщен. Примеривая тут же выданную ему офицерскую форму, застегивая на себе пряжки и пуговицы полагающейся к форме «сбруи» — ремни, портупея, он выгреб из карманов ненужных уже теперь штатских брюк и пиджака все, что там было, и засунул в планшет. Перекочевал в планшет таким образом и блокнот со стихами.
Уже начав их теперь читать, он почувствовал всю их нелепость и ненужность в такой обстановке, но — делать нечего — надо было продолжать:
Я, верно, был честней других,
Моложе, может быть,
Я не хотел грехов твоих
Прощать или судить...
Не успел он еще и дух как следует перевести, как Белявский ринулся рассуждать о прочитанном. О неправильной позиции, как он выразился, лирического героя только что прозвучавших строк. И непонятно было, отдает ли он себе в эти минуты отчет, что лирическим героем был сам автор, он же и исполнитель виршей. Белявский с жаром упрекал этого лирического героя в «немужском» поведении, в малодушии, в попытке как-то оправдать то незавидное положение, в которое попал.
Кригер бросился возражать ему, то ли по убеждению, то ли из чувства такта... Трошкин возился со своим аппаратом и ничего не слышал. Или только делал вид? Боровков с видом человека, у которого заботы поважнее, чем у иных прочих, кружил вокруг их видавшего виды пикапа, бил кирзовым сапогом по покрышкам, щупал мотор, который, судя по всему, уже достаточно охладился, так что пора бы и снова в путь.
Костя же, с выработавшейся уже у него привычкой профессионального литератора смотреть на все, в том числе и на свои собственные сердечные муки, как бы со стороны, размышлял о том, что ведь если доведется когда-нибудь потом рассказать кому-то, быть может, даже ей, обо всей этой истории, так, пожалуй, и не поверят.
Воздух, глотнуть которого они надеялись, высыпав из машины, был перемешан с гарью пожарищ и пылью начинающих подсыхать от недавнего дождя дороги и обочин. Небо какой уже день было застлано невообразимой смесью облаков и дыма, тоже доносившего запахи пожаров, далеких и близких разрывов бомб и артиллерийских снарядов. Спорщики в своих засаленных до черноты гимнастерках, с разбитыми солдатскими кирзовками на ногах, с трехдневной пыльной щетиной на щеках и подбородке могли сойти за кого угодно — разбойников с большой дороги, грешников между чистилищем и адом, военнопленных, сбежавших из-под стражи, только не за ценителей изящных искусств. Да и он, Костя, посмотреть бы сейчас на себя в зеркало, немногим, наверное, отличается от своих товарищей, хотя по врожденной, а может быть, благоприобретенной от отчима манере, был последним, кто наконец отказался от пагубной, по словам его спутников, привычки бриться каждый день.
И то сказать, сколько уж часов и суток подряд, уже после того, как судьба свела их на перекрестке войны, кружат и петляют они по ее разбитым дорогам в поисках то редакции, то штаба какого-нибудь, то просто дороги на Смоленск. Под непрерывными бомбежками. Под уханье разрывающихся снарядов, свист пулеметных очередей, ставший уже знакомым грохот вражеских танков — то где-то вдали, то в угрожающей близи. В движущихся навстречу друг другу бесконечных потоках беженцев, транспортов с ранеными, таких же как они мелких групп, жаждущих прибиться к своей или хотя бы какой-нибудь регулярной части.
Словно в колдовском сне слышались в разговорах со встречными и попутчиками названия исконных русских городов нечерноземной российской глубинки — Вязьма, Юхнов, Кричев...
Да, совсем недавно, казалось, был и Могилев, и Буйничское поле.
Трошкин стал просто невменяемым, его дрожь начала колотить, когда он увидел сначала в бинокль, а потом и невооруженным взглядом подбитые немецкие танки. Словно туши гигантских кабанов, застреленных на какой-то богатырской охоте. Капитану, который был отдан в их распоряжение, когда их «личности» были наконец установлены, и все твердил, что немцы, вполне возможно, залегли во ржи за полосою подбитых танков, он упрямо повторял, что ему дела нет до того, есть во ржи автоматчики или нет. Трошкин с самого начала их поездки был одержим идеей снять подбитые танки, и теперь его словно ветром несло вперед и вперед, а вслед за ним и Костю.
Трошкин не только снимал танки, но обследовал их изнутри и, найдя в одном из них фашистский флаг, заставил красноармейцев сниматься у этого флага верхом на разбитом стальном чудовище. Словом, настолько обнаглел, что в конце концов в буквальном смысле вызвал огонь на себя. Привлеченный суетней и поблескиванием линз в мертвой доселе зоне, прилетел «мессершмитт» и дал несколько пулеметных очередей с бреющего полета. Пришлось залезть под подбитый танк и отсиживаться там, пока летчику не надоело охотиться за ними.
Но то был Могилев, который сознание автоматически относило к западным отрогам страны. А вчера в своем рейде по следам неуловимого штаба они от кого-то услышали, что он передислоцировался из-под Смоленска к Вязьме. Это не просто еще двести километров... Сколько еще дней и ночей скитаний для их пятерки? Это значит, что фронт на двести километров приблизился к Москве. Казалось, немцы прут и будут переть вперед. И непонятно было, кто и когда их остановит. Вязьма — это же, по сути дела, почти Москва. Костя в ту минуту не знал, что время познать истинную цену километру еще впереди, когда бои завяжутся на дальних подступах к Москве — у Волоколамска и ближних — на Ленинградском шоссе, когда на фронт ездят на трамвае или на автобусе.
Вот о чем он с тяжестью в душе размышлял, прислушиваясь тем не менее какою-то частью своего существа к спору своих товарищей. То, что все его стихи последних лет ей одной посвящены, ни для кого уже, конечно, не секрет, как не было и недостатка в суждениях, как вот сейчас, не только о самих стихах, но и об их отношениях с Валей, которые, в общем-то, касались только их двоих. Он уже привык и смирился с этим. Неизбежная дань, которую влюбленный в нем должен был платить поэту. Если бы в своем поведении с ней он был так же откровенен и отчаянен, как в стихах, может быть, и дела бы у них шли совсем по-другому. Но тогда и не о чем было бы спорить этим вот «на войну пришедшим мужчинам», которые, может быть, потому и спорили сейчас так азартно, что хотели забыть, хоть на миг, что на свете есть вещи пострашнее ревности и любовной измены.
Короткая передышка закончилась. Ведомый неутомимым Боровковым пикап снова двинулся в путь под аккомпанемент взрывов и отдаленной автоматной трескотни. Спутники Кости давно уже оставили свой спор и обратились к темам поактуальнее, а он, разбереженный-таки их противоречивыми доводами, наоборот, погрузился в воспоминания о тех двух с небольшим сутках, которые отделяли выступление по радио Молотова от их с Валей прощания на платформе Белорусского вокзала.
Я, верно, был упрямей всех,
Не слышал клеветы
И не считал по пальцам тех,
Кто звал тебя на «ты».
Эта строфа, которая особенно не по душе пришлась ревностному трубадуру мужского достоинства Паше Белявскому, была теперь в прошлом. Он и не заметил, как сами собой пошли новые стихи:
И вдруг война, отъезд, перрон,
Где и обняться-то нет места,
И дачный клязьминский вагон,
В котором ехать мне до Бреста.
Чтоб с теми, в темноте, в хмелю,
Не спутать с прежними словами,
Ты вдруг сказала мне «люблю»
Почти спокойными губами.
Такой я раньше не видал
Тебя, до этих слов разлуки:
Люблю, люблю... ночной вокзал,
Холодные от горя руки.
Отдохнувшие пикап и Боровков набирали скорость. Машину трясло и подбрасывало на колдобинах, а Костя, стараясь не забыть только что родившиеся строки, убеждал себя, новыми и новыми, что теперь это навсегда:
Как крик: ничем нельзя помочь! —
Вкус поцелуя на шинели.
И Константин Михайлович, и К. М. не раз подумают позже, что две эти боли не утихали в нем ни на минуту — война и любовь. Разлука только обостряла чувство. Любовь бросала свой отсвет на все, что случалось и происходило с ним. И с нею.
Таких слов, как тогда, на перроне, Военкор от нее никогда больше не услышит. И тщетно будет взывать — и в 41, и в 42, и в 43, когда они, по выражению Нины Павловны, «официально оформят брак»:
Со мной прощаясь на рассвете,
Перед отъездом раз и два
Ты повтори мне все на свете
Неповторимые слова.
В середине шестидесятых, готовясь к пятидесятилетию, Константин Михайлович примется подводить предварительные итоги. Именно тогда он напишет свое первое завещание. И по укрепившейся с годами привычке раскладывать все по полочкам, физическим и умозрительным, определит — вот война, а вот любовь. И только одному себе — даже не Нине Павловне, от которой, кажется, вообще секретов не было, признается, все, что он сделал, написал в те годы — вот эти томики стихов, прозы, пьесы, публицистика и Бог знаете еще что, — это все сплошное и непрерывное объяснение с ней, продолжавшееся и тогда, когда война уже закончилась.
Война, надевшая на Костю офицерскую форму и отправившая сразу же в самое пекло, давала ему шанс наяву совершить все то, чем его Сергей покорял на сцене Варю.
Штаб дивизии они в той первой для Кости и всех его спутников командировке на фронт так и не нашли. И прямо из-под Вязьмы двинулись в Москву, где с трошкинской панорамой и симоновским очерком о хозяйстве Кутепова объявились в «Известиях». Все это сразу же пошло в номер. И на следующий же день, 19 июля 1941 года, на него предъявил свои права Давид Ортенберг, только что назначенный редактором «Красной звезды». Они симпатизировали друг другу еще со времен Халхин-Гола, «Героической красноармейской», и было совершенно невозможно не откликнуться теперь на его зов. Хотя и перед «Известиями», которые так щедро раскрыли ему свои страницы, возникли уже моральные обязательства.
Предоставив редакторам разбираться между собой, он на несколько дней отправился отоспаться и отписаться на дачу к Льву Кассилю. Родители к тому времени уже эвакуировались в Свердловск. Валя, как он с разочарованием узнал, вместе с театром была отправлена в Алма-Ату. Своего жилья у него после того, как он незадолго до войны развелся с матерью Алеши, вообще не было. Так что приглашение Кассиля погостить у него на даче пришлось как нельзя кстати.
Сидел и писал вперемежку стихи и очерки. Да еще фронтовые баллады — должок «Красноармейской газете», до которой он в своих скитаниях вокруг Минска, Могилева и Смоленска так и не добрался. Подогнал дневники, которые взял за правило вести с первого же дня войны. Отметил: «Сидел весь день один на даче и писал стихи... Вдруг за один присест написал «Жди меня», «Не сердитесь, к лучшему» и «Майор привез мальчишку на лафете»...
«Кругом были высокие сосны, много земляники, зеленая трава. На несколько часов даже захотелось забыть, что на свете есть война...» К вечеру приехал Лев Кассиль. Пробежав опытным взглядом наряду с другими стихами «Жди меня», он снисходительно заметил, что стихотворение в общем ничего, только немного похоже на заклинание.
Давид Ортенберг, который переманил-таки к себе Костю, соблазнив его возможностями выезжать постоянно на передовую, которые, мол, штатским «Известиям» и не снились, тоже долго крутил листок со стихами в руках, а потом отложил не без сожаления в сторону: это, пожалуй, не для газеты, тем более военной, ежедневной, центральной. Нечего растравлять душу солдатам. Разлука и так горька...
У Кости никаких претензий к редактору не появилось. Тем более, что тот не возражал, чтобы его военный корреспондент показал при случае вирши в какой-нибудь другой газете.
Случая такого, однако, долго не представлялось. Листок, где разборчивым, с характерным наклоном почерком были набросаны строки, которым суждено было стать известными всему миру, несколько месяцев еще покоился в полевой сумке среди других таких же листков, заполненных тем же почерком и такими же на вид строками. Этот был захватан пальцами больше других, потому что его чаще приходилось вынимать из планшета, чтобы прочитать. Впервые — на Северном фронте, в дивизии Скробова, по настоянию тогдашнего его спутника, военного фотокорреспондента Григория Зельмы, который заставлял Симонова вновь и вновь читать его то одним, то другим, потому что стихи эти, по его собственным словам, были для него как лекарство от тоски по жене.
Не с тем ли чувством они и писались?
В декабре сорок первого в одно из очередных возвращений в Москву с фронта Косте предложили прочитать несколько стихотворений по радио, и он решил, что одним из них будет «Жди меня». По дороге на студию заскочил в «Гудок», где как раз обосновались тогда его спутники по одной из первых военных командировок — Алексей Сурков, Слободской, Верейский. Не виделись до этого несколько месяцев, пережитое не уложить было бы и в годы. Симонов расцеловал отрастившего бравые чапаевские усы Суркова, хватанул добрый глоток неразбавленного спирта и тут же принялся читать наизусть «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» Растроганность и расслабление всеобщее, вполне объяснимые ситуацией, были таковы, что он чуть было не забыл о предстоящем выступлении. В студию, где диктор уже сам начал читать его стихи, он проскочил мимо строгого вахтера в ту минуту, когда оставалось только одно «Жди меня». Пальцами показал, что хочет хоть его прочитать сам. И не дожидаясь согласия, начал... С простодушием своего первого читателя Григория Зельмы думал, что теперь вот, услышав его голос по радио, «те», кто находится очень далеко от него именно сегодня, в эти минуты «узнают, поймут», что он жив и здоров и будут, может быть, ждать его с той же силой, которую он пытался передать в этих строках.
Был, возможно, среди слушателей и редактор «Правды» Петр Николаевич Поспелов. Несколько дней спустя они встретились случайно в бесконечно длинном коридоре комбината «Правды», где тогда находилась и «Красная звезда». Поспелов посетовал, что в последнее время маловато в «Правде» стихов и спросил, нет ли у него чего-нибудь такого.
— Вообще-то есть, — был ответ, — но стихи не для газеты. И уж во всяком случае не для «Правды».
Поспелов увел Костю в кабинет, заставил его все же прочитать «Жди меня». «Почему, собственно, не для «Правды»? — бормотал он, бегая по кабинету. — А, может быть, как раз для «Правды».
Решив, видимо, проверить себя, позвонил Емельяну Михайловичу Ярославскому. Тому стихи тоже понравились, и он отвел даже те немногие сомнения, которые были у Поспелова — насчет «желтых дождей».
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда снега метут...
Сам автор, надо сказать, не мог объяснить, почему у него дожди получились желтыми. «Наверное, хотел выразить этим словом свою тоску».
Ярославский объяснил это более научно:
— Разве вы не замечали, что дожди бывают разного цвета? Бывают и желтые, когда почвы желтые...
Короче говоря, стихи остались в «Правде», а спустя несколько дней, вернувшись из-под Можайска, он увидел их напечатанными — на третьей полосе, сверстанными на две колонки. Сверху снимок «Действующая армия. Конники 3-й гвардейской кавалерийской дивизии идут в атаку». Внизу под стихами — подборка сообщений «от специальных военных корреспондентов «Правды» под аншлагом «Стремительные и неуловимые».
Рита Алигер, встретив его как-то в гостинице «Москва», где он теперь обитал между командировками на фронт, сформулировала: «Это твое второе, после «Генерала», поэтическое рождение».
Прозвучавшая неожиданно чопорно для нее фраза находила между тем ежедневное, если не ежечасное подтверждение. «Правда» и «Звездочка» были завалены письмами. Рассказывали, что вырезки из газет — а стихи, разумеется, были мгновенно перепечатаны всюду, вплоть до «Красной звезды», редактор которой не счел, однако, нужным приносить какие-то там извинения, — находили в карманах гимнастерок погибших бойцов. «Жди меня» чертили на броне танков и на бортах грузовиков со снарядами. Солдаты переписывали стихи в свои солдатские треугольники и отправляли домой. Солдатки пересказывали стихотворение «прозой» и посылали мужьям за своей подписью. Ему показали одно такое под Новороссийском, в авиационном полку: «Дорогой, любимый мой мальчик! Давненько нет от тебя, Володенька, писем. Но я жду тебя, и ты вернешься. Очень, очень жду. Жду, когда наводят грусть желтые дожди и когда метут снега...» Костя ничего не имел против такого плагиата. Письмо пришло в часть, когда Володеньки уже не было в живых. Не обязательно, значит, срабатывает мое заклинание, — с грустью констатировал он. И неожиданно подумал: «Меня вот не очень-то и ждут, а я жив. И даже пока ни разу не ранен».
И много лет спустя Константину Михайловичу Эдуард Межелайтис рассказывал, что «вздрогнул, как от удара тока, когда ему в радиостудию, где он вел передачи на оккупированную Литву, принесли эти стихи».
После смерти К. М. он вспоминал: «Каждый в душе носил свое «Жди меня», но никто не написал этих слов. Их написал русский поэт. В тот день передо мной раскрылась главная тайна поэзии — угадать мысль миллионов».
Патетика в объяснениях между мужчинами, особенно по поводу литературы, никогда не импонировала Косте. Отбиваясь от восторгов и комплиментов, Военкор однажды так обосновал, почему вслед за стихотворением написал пьесу «Жди меня», а потом еще и сценарий для кино с таким же названием. Просто поддавшись эпидемии, которую сам и породил, взял да и написал на заглавном листе только что начатой пьесы — «Жди меня».
Он еще не знал, кто их поставит и снимет — спектакль и кинофильм. И поставят ли вообще. Знал только одно — главную роль, Лизу, в любом случае будет играть Валя. Она и произнесет те слова, которые поначалу должны были стать заглавием пьесы: «Как долго тебя не было!»
Желающих было много. Он отдал пальму первенства тем, с кем уже довелось успешно поработать. Горчакову, который уже поставил его «Парня» в театре драмы, и Столперу — он как раз заканчивал в Алма-Ате экранизацию той же пьесы. Каково же было изумление Военкора, когда его на беседу пригласил во МХАТ Владимир Иванович Немирович-Данченко. Живой классик долго говорил не верившему своим ушам молодому писателю, с каким трудом ему удалось раздобыть экземпляр пьесы, как тщательно он ее прочитал и как она ему понравилась. И закончил тем, что предложил ему забрать ее из театра драмы и отдать в Художественный, где бы ставить ее стал он, Владимир Иванович. Понадобилось все мужество и самообладание, чтобы устоять и сказать, что он, увы, не вправе взять обратно свое обязательство.
Матери, Александре Леонидовне, ни пьеса, ни фильм не понравились. «Стихи твои каждый принимает и понимает, — написала она ему из Свердловска, — а вот иллюстрации в виде пьес и картин не удовлетворяют».
Пусть так. Для него весь фильм состоял из одной той сцены с креслом и звуком ключа, поворачивающегося в замочной скважине. Впервые она родилась в его бессонной памяти. И тут же отлилась в стихах:
Увидеть бы лицо твое,
Когда в разлуке вечерами
Вдруг в кресло старое мое
Влезаешь, как при мне, с ногами.
Кино дало ему шанс увековечить образ. Как бы ему хотелось, чтобы в этом фильме она сыграла самое себя:
Когда теперь я в темном зале
Увижу вдруг твои глаза,
В которых тайные печали
Не выдаст женская слеза.
Константин Михайлович и К.М. не раз потом спрашивали друг друга: когда, собственно, это открылось — то, что образ, созданный воображением, может быть осязаемее, чем реальный? Что отданная стихам боль врачует раны. Попытка пробиться к одному сердцу прокладывает путь к душам миллионов.
Сладкая каторга. За что бы он ни взялся, все оборачивалось продолжением диалога с нею.
Я думал о тебе сначала,
Потом привычно о войне,
Что впереди зениток мало,
Застряли где-то в глубине....
Когда в конце шестидесятых Константин Михайлович взялся готовить к изданию дневниковые заметки и записные книжки военных лет, он перелистал и все свои стихи той поры. И вот напал на эти немудреные строки и подивился вчуже тому, как точно, почти дословно, баллада «Дожди» воспроизводит его дневниковые записи, сделанные сразу после командировки в Крым.
Это была уже его шестая или седьмая поездка на фронт. И, кажется, четвертая в Крым. Две последних — одна за другой.
Вроде совсем недавно это было. В ночь с тридцатого на тридцать первое декабря 41 года он пришел в «Красную звезду», чтобы вычитать свой очерк «Июнь-декабрь», поставленный редактором в номер, и внести в него последние коррективы. Быть может, под впечатлением собственных размышлений, которые всегда кажутся значительнее, когда видишь их отлитыми в гарте, а может, потому, что был уже канун первого Нового года в войну, а быть может, и по той, и по другой причине вдруг решился и попросил у Ортенберга разрешения слетать на пару дней в Свердловск к матери и отчиму.
Находясь, как и все смертные в эту пору, во власти неодолимых предновогодних мерехлюндий, суровый, но питавший к корреспондентам-писателям, а к Симонову особенно, слабость, Ортенберг разрешил короткую командировку, и Костя тут же позвонил Александре Леонидовне.
В два часа ночи, однако, пришло сообщение о начале десантной операции в Керчи и Феодосии, и Давид, поколебавшись, испытав муки совести и благополучно преодолев их, позвонил в редакционный буфет, где Костя в эту глухую пору допивал уже пятый стакан чаю в ожидании «сигнала» со своим очерком, и сказал:
— Слушай, Симонов, зайди ко мне. Я все-таки хочу послать в Крым тебя. Больше некого.
О том, что он имел в виду под этим «больше некого», можно было только гадать. То ли действительно не было никого другого под рукой, что вполне объяснимо, если учесть, какой это был час ночи... То ли вспомнилось ему, что именно Симонов уже дважды побывал в Крыму, так что и его там знали, и он знал многих.
Пришлось снова звонить в Свердловск и разговаривать с огорченной матерью, выправлять командировочное предписание и спешить на военный аэродром. Здесь удалось почти в буквальном смысле слова на ходу вскочить в покативший было уже по запорошенному снегом полю самолет и втиснуться, так как иных мест не было, в штурманскую рубку. К месту первой посадки, в Краснодар, он в результате прибыл полуживой, трясясь от холода, с белыми от мороза лицом и руками. Выручили заботливо предложенные аэродромным начальством триста граммов...
В начале января, после многих треволнений и злоключений — с самолета на поезд дачного типа, с поезда — на крейсер «Красный Кавказ», а там на скользящий по коварным крымским дорогам пикап, он почти на плечах ворвавшегося на Керченский полуостров десанта попал в освобожденную, увы, ненадолго Феодосию. Естественное чувство радости, что вот еще один политый кровью кусочек родной земли освобожден, причудливым образом смешивалось с болью при виде всего того, что натворили в этом чудесном морском городе немцы, с чувством омерзения от встречи со схваченным с поличным предателем, служившим у немцев бургомистром.
— Никогда и не думал, что в городе столько сволочи, — обронил в беседе один из офицеров, участников десанта. — Черт их знает, откуда их столько набралось.
Десантная операция была стремительной, смелой, бесшабашной. Высадившиеся с первых семи катеров моряки и пехота имели задание лишь «зацепиться за землю», но, зацепившись, не смогли удержаться от соблазна и сходу взяли полгорода. Из трехсот человек почти треть погибла... Основные силы были лишь на подходе. Разрыв между десантом, пехотой, танками и артиллерией навевал нехорошие предчувствия. Они оправдались, когда он давно уже, больше десяти дней — тогда были свои понятия о времени — был в Москве.
18 января началось немецкое контрнаступление, и в первый же его день одним ударом была обезглавлена взявшая Феодосию армия — тяжело ранены командарм, начштаба, член военного Совета. Что уж говорить о рядовом и офицерском составе!
Отписавшись для «Звездочки», Военкор спешно заканчивал в Москве пьесу —первую свою военную пьесу, когда по слову редактора снова рванулся в Крым, на этот раз в Керчь.
— В Крыму Мехлис и, надо полагать, на днях что-то там начнется, — вот все, чем мог вооружить его в дорогу Ортенберг.
Увы, обещанное в Генштабе наступление захлебнулось, не успев начаться.
Нам в первый день не повезло —
Дождь рухнул с неба как на зло,
Лишь только кончивши работу,
Замолкли пушки и пехота...
Словно бы взявшись воспроизвести эту безнадежность и уныние, стихотворная строка, спотыкаясь и буксуя, ковыляет от эпизода к эпизоду, подобно самому автору — он же герой стихотворения, — который впервые в жизни водрузился на безропотную лошадь и «трюхал» на ней с позиции на позицию вслед за пригласившим его генералом.
По грязной проселочной дороге, мимо надсадно ревущих и рыдающих трехтонок и тракторов, которые и тонули, и плавали в грязи... Мимо изрытых воронками полей, которые никому уж не приходило в голову называть ни пшеничными, ни кукурузными, а только — минными... Мимо штабелями лежавших на этих полях трупов румын и наших. То отступая, то наступая, то в панике, то сгоряча врывались они поочередно на эти поля ужаса и гибли — волна за волной...
На минном поле вперемежку
Тела то вверх, то вниз лицом,
Как будто смерть в орла и решку
Играла с каждым мертвецом.
Саднящие от многочасовой езды поясница и ноги, беспрерывные и неизбежные рывки с лошади прямо в наполненные дождевой водой кюветы.
Я, кажется, тебе писал,
Что под бомбежкой, свыкшись с нею,
Теперь лежу там, где упал,
И вверх лицом, чтобы виднее.
Кажущиеся вечностью минуты, когда над головой — только свист и вой снарядов, оказываются подходящим случаем для того, чтобы в голове продолжали раскручиваться, как на экране, эпизоды собственной жизни:
Потом я вспомнил нашу встречу
И ссору в прошлый Новый год...
Придет время, когда К. М. возьмет из своего «нижнего» кабинета чемодан с Валиными письмами, поедет на дачу, разожжет там камин, сядет около него и в мрачной задумчивости будет бросать в огонь листок за листком.
— Как он мог, — ужаснется Александра Леонидовна, узнав от Нины Павловны об этом аутодафе в Красной Пахре, — ведь она виновница всех его военных стихов.
Но до этой отчаянной выходки, как назовет ее Нина Павловна, еще ой как далеко.
Военкор по-прежнему во власти двух стихий — любви и войны.
Не укорить и не обидеть,
А ржавый стебель теребя,
Я просто видеть, видеть, видеть
Хотел тебя, тебя, тебя...
Рассказывая позднее в Москве, что он только что опять вернулся из Крыма, он ловил на себе недоуменные взгляды знакомых. В Москве, только что отбившей наступление немцев, мало кто знал, что враг уже подошел к Перекопу и Чонгару. Крым все еще ассоциировался с курортом.
— Подлетишь в Мурманск на недельку и опять поедешь себе в Крым, — иронизировал редактор, спроваживая его на Северный флот, где вместе с нашими воевали английские летчики.
По дороге туда из-за непогоды застрял на четыре дня в Вологде. Бродил как заведенный по скрипучим деревянным тротуарам городка, заложив по привычке руки назад — высокий, стройный, чернявый, с едва пробивающимися темными усиками интенданта второго ранга. Страдая и наслаждаясь вынужденным бездельем, сочинял стихи.
Как с тобой, хотел — не мог расстаться с ним,
В этом городе тебя я вспоминал.
Очень редко добрым словом, чаще злым.
И первое, что бросалось в глаза на таких уютных этих улочках, — афиши, извещающие о премьере «Парня из нашего города» по пьесе драматурга К.М. Симонова.
Давали пьесу в областном театре. Ставил ее художественный руководитель труппы, заслуженный артист Ларионов. Больной старый человек, лысеющая со лба голова, обрамленная седыми вздымающимися кудрями. Профессиональным уже взглядом Военкор цепко схватывал все детали нового облика нового знакомого — тяжелая суковатая палка в руках, торжественность, даже высокопарность в выражении чувств и мыслей, чему, впрочем, удивляться не приходилось — знаменитый автор возник под премьеру перед режиссером поистине как «бог из Машины». Словом — тип старомодного провинциального актера на амплуа благородного отца. Лев Гурыч Синичкин собственной персоной, вдруг взявшийся ставить пьесу о гражданской войне в Испании, о Халхин-Голе... И когда? В разгар Войны священной. И где? В «Деревянном домотканом городке» — он уже величал Вологду названием своего будущего стихотворения.
Военкор истово брал уроки у своего героя. Ему казалось столь естественным ожидать того же от Вали. Творя для нее, актрисы, героиню за героиней, он все еще надеялся, что, играя их, она и сама станет одной из них. Или всеми сразу, потому что, в сущности, это был один образ. Она была в каждой из строчек, каждом слове его стихов, пьес и прозы. Но на самом деле Военкор почти не видел ее в те первые военные месяцы и годы.
И, конечно же, не логикой, а неистовой надеждой на чудо было продиктовано все, что выходило тогда из-под его пера.
Оглядываясь назад, Константин Михайлович и К. М. сравнят Военкора сначала с колдуном, а позднее, вооруженные новой терминологией, с экстрасенсом.
В отчаянном порыве уговорить, заговорить — от слова «заговор», — приговорить к любви он в двух небольших поэмах перенесет ее в их, созданный его воображением завтрашний и послезавтрашний день, сделает, как и сказано в названии одной из них, «Хозяйкой дома».
Какой еще ни белый свет,
Ни я тебя не видывал,
Какой вперед на двадцать лет
Тебя сейчас я выдумал.
А что, собственно, можно было назвать его тогдашним домом?
Москва перестала быть им. У него здесь после развода вплоть до сорок третьего года собственного крова над головой не было. Перевалочный пункт. Перекресток на пути. Передышка между командировками. Останавливался то в гостинице «Метрополь» или «Москва», то у знакомых, то в редакции, где ему была выделена Ортенбергом комната со столом, креслом, шкафом и койкой на случай ночных бдений. Легковушки тоже были частью жилья военных корреспондентов. В них старались держать запас продовольствия и горючего, чтобы в любой момент можно было выехать на фронт.
В Москву иной раз приезжал, как в командировку; на фронт возвращался, как домой — к старым знакомым, которых заставал порой в той же штабной халупе и чуть ли не над тем же квадратом карты. К прерванным спорам и разговорам — кого повысили, кого куда перевели, кого сняли... Кого, увы, убили.
О смертях узнавал, приезжая в Москву, — погиб в авиационной катастрофе соавтор Ильфа — Евгений Петров, его боевой спутник по скитаниям в Крыму. Убит во время рейда в партизанский тыл фотокорреспондент «Красной звезды» Миша Бернштейн... Тот самый Бернштейн, которого под слегка измененной фамилией кинозритель увидит и тоже похоронит — в фильме «Жди меня» в исполнении Свердлина.
Возвратившись очередной раз из Крыма и засобиравшись почти сразу же и тоже не в первый раз в Мурманск — жизнь принимала такой оборот, что день приезда мог запросто стать и днем отъезда, — он неожиданно для себя оказался на беседе у Щербакова. Тот позвонил Фадееву, а Фадеев — в «Красную звезду». Встреча с секретарем ЦК, начальником Главпура и руководителем Советского Информбюро была и по тем, сравнительно демократическим в силу обстоятельств временам, не таким уж заурядным явлением.
Еще удивительнее было увидеть на столе у Щербакова свою рукопись, тогда еще никому не известного цикла «С тобой и без тебя». Несколько недель назад Военкор сдал сборник в «Молодую гвардию» и уже успел войти в конфликт с издательством, которое ни много ни мало — семнадцать стихотворений из двадцати пяти посчитало неприемлемыми для публикации.
Существовала эта рукопись пока лишь в двух экземплярах, один хранился у автора. Значит, это издательская неведомым путем попала к секретарю ЦК.
С первых же слов стало ясно, что Щербаков осведомлен о конфликте. Но пригласил его к себе, как выяснилось, не только для того, чтобы сообщить ему об этом.
Нечто другое, относящееся не столько к содержанию стихов, сколько к душевому состоянию их автора, беспокоило высокого собеседника. Говоря вроде бы от себя, он прибегал к местоимению «мы», а Костя был к тому времени уже достаточно опытен, чтобы понимать, что скрывается за этим многозначительным и никого из посвященных не обманывающим «мы».
— Мы тут затребовали ваши стихи, посмотрели их, почитали... Перебрав стихотворение за стихотворением, Щербаков заключил, что не видит ни в одном из них никакой почудившейся издательству двусмысленности, и посчитал законченной эту часть беседы. Поинтересовавшись затем планами предстоящей командировки на Северный флот, обронил повергнувшее поэта в недоумение:
— А кто вас гонит? Поясняя сказанное, добавил:
— Возникает ощущение, что вы слишком рискуете там, на фронте. Ну, а если сказать резче, то даже ищете смерти.
Словно бы стремясь заполнить внезапно возникшую паузу, он снова полистал странички со стихами, взял одну в руки и прочитал:
Будь хоть бедой в моей судьбе,
Но кто б нас ни судил, ...
Я сам пожизненно к тебе
Себя приговорил.
— Как понимать эти строчки?
А как понимать сам вопрос? И это предположение, одновременно и напугавшее, и растрогавшее, и сконфузившее поэта?! И этот вызов к секретарю ЦК, и эта необыкновенная осведомленность об истории со стихами в издательстве, и это «мы»? К лицу прихлынула кровь. В ту минуту он впервые осознал, в сфере действия какого силового поля давно уже находится... Что было, действительно, ответить на это предположение? Рисковать — рисковал и не раз, особенно в сорок первом, но кто же уважающий себя признается в этом во всеуслышанье?! Смерти искать?.. Ни тогда, ни позднее автору не казалось, что в стихах было что-то, что могло навести на мысль о поисках смерти.
Александр Сергеевич Щербаков слыл проницательным человеком, да, скорее всего, и был таким, иначе не дорожил бы им Сталин так в ту напряженнейшую пору, когда поневоле и он должен был уповать на истинные достоинства человека. И все же никогда он, наверное, не был так далеко от истины, как в тот момент, когда задал Военкору свой вопрос.
Большой актер исполнит, если надо, свою роль и в пустом зале. Из самолюбия и уважения к профессии. Совсем по-другому, однако, он будет играть в зале, переполненном зрителями. И на особом нерве, если есть в нем тот единственный человек, для которого все это играется.
Он так играл и жил в ту пору. Вечный странник с одного фронта на другой. Из огня да в полымя. Трубадур и паладин, сила которого только удваивается от того, что есть к чьим ногам положить свои песни и подвиги.
Счастливая любовь счастлива сама собой. Несчастливая рвется за пределы очерченного ей круга, жаждет поведать о себе в надежде хотя бы на милосердие.
Счастливая любовь нема. Ей если и есть что сказать, то недосуг. Если и исторгнет счастливая любовь восторг и ликование, поэту-влюбленному хватает и строфы, чтобы выразить это.
Боль — родник вдохновения. Пока набившиеся под известковую крышу — раковину — песчинки не поранят чувствительную мантию устрицы, не начнется выделение того особого вещества — перламутра, которое, обволакивая слой за слоем рану, образует те переливающиеся на свету драгоценные шарики, которые люди называют жемчугом. Не каждая рана рождает жемчужину. Но без раны уж наверняка ничего не будет.
Тысячелетний неразрешимый спор — кто счастливее или, наоборот, кто несчастнее в незадавшейся любви — тот, кого не любят, или тот, кто не любит.
Он, Военкор, и так стал бы наверное приличным военным писателем и написал бы все свои очерки, пьесы и повести, рассказы и романы. Все, кроме той тонкой, в двадцать пять названий тетрадочки стихов, что лежала тогда на столе у секретаря ЦК. «С тобой и без тебя».
«Той единственной, которая от нас четверых и останется» — то ли с горечью, то ли с изумлением много лет спустя скажет К.М. Косте, Военкору и Константину Михайловичу. Правда, подумав, добавит еще военные дневники.
Щербаков увидел в поэте страдальца. Но вряд ли было что-то от сострадания в том чувстве, с которым он задал свой вопрос. Просто Симонов был нужен. Проницательности верного и искреннего соратника Сталина как раз было достаточно, чтобы понимать, что со своими очерками, пьесами и даже этими нестандартными стихами, о которые споткнулись недальновидные редакторы «Молодой гвардии», он один способен заменить собой целую армию агитаторов и пропагандистов, которые все находились в его распоряжении — начальника Совинформбюро и Главпура. Щербаков ли пришел по этому поводу к Сталину, Сталин ли вызвал его, мотив был сродни тому, что побудил Сталина в его июльском, сорок первого года обращении воззвать: «Братья и сестры!»
Осознать это дано было лишь Константину Михайловичу. Военкор же был просто растроган и взволнован. Он снова и снова вспоминал потом каждую фразу Щербакова. С отличавшей его обстоятельностью суммировал: книжка стихов, самое дорогое из всего, что он написал за первый год войны, выйдет! Издательство посрамлено. За его творчеством следит такой человек, как Щербаков, а за ним, наверняка, стоит Сталин. От этого захватывало дух. Становилось радостно и страшно, словно сделал последний шаг при подъеме на крутую горную вершину и сразу вдруг стало видно далеко-далеко вокруг.
На мгновение ему даже показалось, что он способен понять своих придирчивых редакторов из издательства. Ему и в голову не приходило, что его любовная лирика может попасться на глаза Сталину при его нынешней, всем и каждому известной сверхчеловеческой загруженности. А они там, в издательстве, и это не снимали со счета. Не могли снимать. И решили ждать команды. Что ж, на то и существует секретарь ЦК, чтобы разрешать недоразумения между писателями и издателями. Прямая иллюстрация к строке Маяковского, которого он, Военкор, боготворил: «О работе стихов на Политбюро чтобы делал доклады Сталин». То, что спор был решен в его пользу, да еще без какого бы то ни было обращения, тем более жалобы, переполняло гордыней.
Эти чувства не терпелось с кем-нибудь разделить. Прямо из здания ЦК он отправился в «Метрополь», где в любое время можно было обнаружить двух-трех представителей славного корпуса военкоров, достойных того, чтобы поделиться с ними только что услышанным. В тот вечер застолье удалось на славу, и никто до самой глухой ночи не потревожил его в ресторане, где он сидел с Алешей Сурковым, неизменным Женей Кригером и Женей Долматовским, который потихоньку приходил в себя после того, как выбрался из окружения. Если он вдруг понадобится Давиду, у того всегда найдется человек, который доложит, в каком ресторане «гудит» сейчас Костя. Гул этот, разумеется, доносится и до Алма-Аты. И оказывается, что не так-то уж и лестно быть героиней лирических стихов стремительно идущего в гору поэта. Звездой, богиней, судьбой, кометой и одновременно всамделишной, из кожи и мышц, нервов и сухожилий, желаний, капризов женщиной.
Лестно, конечно же, обнаруживать свой портрет в каждом новом стихотворении. Увидеть себя.
Такой, что вдруг приснятся мне
То серые, то синие
Глаза твои с ресницами
в ноябрьском первом инее.
Убедиться, что твое невинное, чисто инстинктивное кокетство, рожденное извечным для всех женщин со времен, быть может, Далилы стремлением крепче привязать к себе мужчину, дает свои блаженные плоды:
И твой лениво брошенный
Взгляд, означавший искони:
Не я тобою прошенный,
Не я тобою исканный.
Узнать, что до сих пор незамутненная месяцами скитаний по истерзанной, воюющей России живет в нем память о тех мирной поры ночах у театрального подъезда, где вместе с ним лишь «две девочки, город ночной».
Двух слов они ждали,
А я б и одним был счастлив,
Когда б его мне Вы сказали.
Внимать перед лицом целой страны принесенному извинению:
Не сердитесь, к лучшему,
Что себя не мучая,
Вам пишу от случая
До другого случая.
И в качестве оправдания прочитать присланное в письме со счастливой оказией «Жди меня». Заклинание, обращенное к ней одной и услышанное миллионами.
В компаниях ей — преувеличенное внимание. На улицах ее узнают, исподтишка показывают на нее друг другу кивком головы. Она, да-да, та самая...
Но так уж устроен человек, что горечь накапливается в тех же потаенных уголках души, что и торжество, и радость.
Нет-нет да и царапнет, что как героиня его стихов она, кажется, становится известнее, чем актриса Серова. Снимаясь в кино, она привыкла к яркому, слепящему свету юпитеров. Но когда то, что в кино часами, в жизни — без конца... Услышал же он шепот ее, «что не годится так делать на виду у всех». Почему же, страстно и настойчиво взывая к ней каждой своей строкой, не внял этому ее легкому, полувшутку, полувсерьез, упреку?
Уж ладно бы только радости, только патетика и лирический свет их личных отношений выплескивались на страницы его книг. Такова уж ее натура — с королевской непринужденностью внимать его дифирамбам и с уязвимостью принцессы на горошине реагировать на действительные или мнимые уколы. Ей ведь не привыкать к вниманию. Не в диковинку успех. В доме матери-актрисы — отец рано оставил семью — богемный образ жизни со всеми его радостями и неудобствами. Театральный и околотеатральный мир с малых лет вокруг. Со всем, что он дает человеку и отнимает у него. Особенно пока он еще молод, но уже тронут, как побывавший в чьих-то пальцах свежий персик, первым пятнышком успеха.
Ну не обидно ли, когда в одном и том же стихотворении и «с мороза губы алые», и отдающее пошлостью признание:
Я не скучал в провинциях,
Довольный переменами,
Все мелкие провинности
Не называл изменами.
То ли наговаривает на себя, боясь окончательно попасть в кабалу, то ли рисуется, чтобы вырваться из нее. Каково это — находить в стихах, отданных на всеобщее обозрение, отголоски своих слез, упреков признаний, всего того, что одному ему было предназначено, достоянием двух рождено было быть.
Где ты плачешь, где поешь, моя зима?
Кто опять тебе забыть меня помог?
Стихами все можно объяснить возвышенно и красиво. Но живому человеку, привыкшей к обожанию женщине дороже может быть самое обыкновенное, написанное обыденными словами письмо. Из тех, что в отличие от стихов он пишет, по его собственному признанию, лишь «от случая до другого случая».
То, что для его читателей было поэзией, для нее было жизнью. В этой воспетой им эйфории, возбуждающей атмосфере поездок, рейдов, вылазок, в бессонных бдениях над газетным листом и книжной версткой, в бесконечных мужских застольях, сплошь и рядом под огнем, не умудрился ли он позабыть «на минуточку», что то единственное сердце, которому и были изначально посвящены все эти строки, нуждается в чем-то большем, чем посвящение, даже публичное.
И как ему сказать об этом, не поступаясь своим женским достоинством, которого у нее было, пожалуй, даже с избытком.
Вот ты прошла, присела на окне,
Кому-то улыбнулась, встала снова.
Сказала что-то... Может, обо мне?
А что? Не слышу ничего, ни слова...
Для него она — неиссякаемый источник любви и вдохновения. Радость и боль одинаково становятся словом. И с каждой такой строкой, наполненной страстью и страданием, он становится все знаменитее.
Для нее он — близкий и одновременно все удаляющийся — с каждым новым публичным признанием человек. Было бы явным преувеличением утверждать, что именно так все это Военкор понимал в ту пору — о ней, о себе. Этого, скорее, можно было бы ожидать от Константина Михайловича и К. М. Но ни один из них не мог, положа руку на сердце, сказать, что угадал что-то в этой женщине. Быть может, только Костя? Его любовь с первого взгляда — как озарение, затуманенное позднее полосой взаимных обид, подозрений, ненужных любовных приключений?
И кажется, что удачно найденный сразу после войны образ «стекло тысячеверстной толщины» с пугающей точностью отразил реальность их отношений.
Твой голос поймал я в Смоленске,
Но мне, как всегда, не везло —
Из тысячи слов твоих женских
Услышал я только: алло.
Дьявольская диалектика. Чем больше пьес и стихов о ней, тем дальше они друг от друга. Бард перевешивал в нем паладина. Не получалось ли, что писать о любви для него было важнее и дороже, чем любить? И даже быть любимым...
Таков уж был его всеодолевающий дар — то, что было в тягость, обузой для других, ему служило источником вдохновения.
Я бы выдумал расстояния,
Чтобы мучиться от разлук.
Его любимый Некрасов как-то сказал о себе: я запрудил бы литературу, если бы дал себе волю. У него, Военкора, не было причин сдерживать себя. Да и не в его силах это было, если бы даже и попытался. Жизнь неслась и уносила его с собой с такой скоростью, что не хватало времени даже оглянуться на прожитое и сотворенное. Ну, просто силушка, русская, молодецкая, удесятеренная любовью к женщине, ненавистью к врагу, благородством цели, ясностью и неотвратимостью пути к ней, играла в каждой жилочке, побуждала к движению, рождала выносливость, двужильность, способность творить и удивлять этой своей способностью и наслаждаться этим удивлением — высшее из наслаждений, помогающее если и не забыть, то отринуть, хотя бы на время, все невзгоды, лишения, разочарования, муки ревности, а то и сублимировать их в те же стихи, пьесы, рассказы и очерки.
Он писал, отстукивал на машинке, даже диктовал, набравшись, по его же собственному выражению, молодого нахальства, и все, что только ни возникало таким образом, буквально снимали с кончика пера. Пьесу «Русские люди» он писал в перерыве между командировками на фронт. Гончаров начал репетировать ее на сцене театра Драмы, когда он принес ему лишь первый акт. Финальные сцены были не только не написаны, но еще и не пережиты. Потому что, вернувшись из второй командировки на Север, где прямо с натуры писал своего Сафонова — с командира боевого корабля Дмитрия Ивановича Еремина, Военкор еще только собирался в очередной раз в Крым, где надеялся повидаться с молоденьким шофером в юбке Пашей Анощенко, которая, он знал, станет его Аней в пьесе.
Что же касается другого персонажа, журналиста Панина, так он просто списал его, чтобы далеко не ходить за примером, со своего старого друга, корреспондента «Известий» Евгения Кригера, «тишайшего, нескладнейшего и храбрейшего» из всех его спутников в скитаниях по фронтам.
Когда он вскоре принес Гончарову последний акт пьесы, тот, сам задавший совершенно немыслимый темп, изумленно спросил:
— Слушайте, когда вы успели это написать?
Военкор скромно пожал плечами — писалось и в командировках, и в Москве — то в тесной, заставленной мебелью красного дерева нетопленой квартире самого Николая Михайловича, то прямо на репетициях в таком же стылом здании филиала МХАТа на улице Москвина, где давал тогда спектакли театр Драмы.
Согревался водкой, предпочитая ее жидкому чаю. Возбуждал и сам процесс работы. Диктуя одной из первых и самых многотерпеливых своих стенографисток Музе Николаевне монолог старухи Сафоновой, он начал выкрикивать: «Суки, кого вы народили? Каких жаб вы народили?» И спохватился, лишь когда в стену стали стучать соседи Гончарова.
Возвращаясь в августе 42 года с Брянского фронта, он в одной из боевых частей впервые после десятидневного перерыва увидел «Правду» и в ней — полосу со своими «Русскими людьми» — ее, оказывается, начали печатать там из номера в номер. Естественное для каждого пишущего чувство радости смешивалось с иным, куда более сложным — он только что познакомился с июльским приказом Верховного за номером 227 «Ни шагу назад». Уже по дороге в Москву, сидя в прыгающей по изрытой воронками и танковыми гусеницами дороге «эмке», он бормотал про себя приходившие одна за другой в голову строки:
Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой...
Обнаружив себя в Алма-Ате — Ортенберг почти насильно выпроводил его в отпуск, — где сразу Столпер и Пудовкин снимали картины по его вещам, а главное — с ее участием, он «нечаянно» принялся за повесть «Дни и ночи», а там уж сочинял ее с утра до вечера, запершись и не видя никого, почти никого.
Как это нелегко, казалось бы, когда ты всем должен, когда тебя разыскивают по всем телефонам. В одном кармане у тебя наспех засунутые туда листочки из блокнота с только что родившимися четверостишиями, в другом — командировочное предписание; в планшетке — верстка новой книги военных очерков, подмышкой — сигнальный экземпляр сборника стихов, и при этом — ты спешишь на премьеру собственной пьесы или в студию радиокомитета, а в это время мысленно уже отвечаешь на вопросы американского или английского телеграфного агентства. Только так и жить!
— Симонов — это какой-то комбайн! — восклицал еще перед войной Илья Сельвинский.
Но никогда, пожалуй, он не писал столько, как в войну. И знал, что делает это так, как никто другой за него не сделает. Лучше — можно, Саша Твардовский, например. Хуже, разумеется, тоже. Но так, как он, Военкор, никому не дано.
Он с легким сердцем написал Твардовскому, когда прочитал его «Теркина»: «Это то самое, за что ни в стихах, ни в прозе никто еще кроме тебя не сумел и не посмел ухватиться... Пока что за войну это самое существенное, что я прочел о войне. В стихах-то уж во всяком случае. Я верю, что так оно и останется и через год, два и через три... Видимо, то, о чем ты пишешь, о душе солдата, мне написать не дано и это не для меня, я не смогу, не сумею. А у тебя получилось очень хорошо».
Чем меньшим обладаешь, тем свободнее отдаешь. Жизнь, в конце концов, тяжка не своими физическими сложностями и лишениями, она гнетет человека своими противоречиями, из которых даже великие умы, даже люди железной воли не знают, как вырваться. Когда все ясно и определенно — другое дело. Тогда каждый порыв, каждый шаг естественен, правилен и неизбежен. Как рывок в военкомат в первый же день войны, как жесткий, непрощающий взгляд, брошенный на приговоренного к расстрелу предателя... Как обжигающая чарка водки и разломанный на троих круг колбасы в какой-нибудь сотрясающейся от артиллерийской канонады штабной землянке, а то и прямо под бескрайним небом, у лопнувшего ската видавшей виды «эмки».
Ну, а если уж на сутки-другие выпало уединиться с друзьями!.. Тогда поет душа и открываются все поры — физические и символические... Как это и случилось с ним, когда пришлось, конечно же, внезапно, конечно же, по телеграмме Давида вылететь из Алма-Аты, где он сгорал сразу в двух лихорадках, любовной и творческой, — на Северный Кавказ, где, по точным сведениям, «что-то должно было начаться».
Ничто в его попытках поскорее добраться до Минеральных Вод не предвещало нечаянных радостей. Из Красноводска до Баку пристроили его на бомбардировщик, который, поскитавшись два часа в облаках и обледенев, вернулся туда, откуда взлетел. Пришлось добираться морем, на транспорте, которым двигались из Средней Азии на Кавказский фронт части кавалерийской дивизии. Из Баку в Тбилиси — поездом, в надежде выпросить у тамошнего начальства «эмку» или «газик», чтобы двинуться к Крестовому перевалу.
Вот тут-то на улице милого его сердцу, но такого непохожего на себя теперь Тбилиси, где он сновал, как муравей, из одного казенного Дома в другой в хлопотах об «эмке», пропуске и харчах на дальнейшую Дорогу, он и наткнулся на Ираклия Абашидзе. Встреча не была такою уж неожиданною, поскольку в том, что Ираклий проживает здесь в своем доме, тайны никакой не было. Но вот сомнения — заглянуть ли? — были. Не застанешь хозяина, стеснишь хозяйку, заставишь некстати хлопотать, это в военное-то время! А застанешь — смутишь, может быть, самого хозяина, сугубо штатского человека, военным своим, походным видом.
В Алма-Ате, где он хоть и жил затворником, по милости Валентины и «Дней и ночей», ему довелось ощутить нечто подобное при встрече с Луговским. Трубадур боевых походов и сражений в предвоенные годы — он, испытав нервный шок в первой же поездке на фронт, «залег в Ташкенте», то бишь в Алма-Ате.
Ничего подобного с Ираклием не случилось. Громко обидевшись, чисто по-грузински, разумеется, то есть не всерьез, что старый друг Костя уже второй день в городе, а носа не кажет, Ираклий потянул его домой, а по дороге рассказал, что и сам только что вернулся из поездки на фронт.
— В Крым. Как жаль, что не встретились.
Поведал о пришедшей похоронке на племянника.
Ираклий был, казалось, все тот же: большие ноги, большие руки, широкие плечи, большая голова на крепкой и сильной шее, и все же сильно потрепала его, как и каждого, война. Вот и дом его — тоже тот и не тот. Узнаваемые приметы былого уюта, который теперь просто безразличен обитателям дома. Хозяйка еще не скоро оправится от потери в семье — в Грузии родственные чувства сильны, как нигде, — и все же неподдельно рада нежданному гостю.
Стол, знаменитый грузинский стол, некогда ломившийся под тяжестью яств и напитков, и сегодня, по меркам военного времени, обилен. Фарфоровая миска с дымящимся харчо, деревенские кукурузные лепешки мчали, соусник с ткемали, полукруг белого острого сыра, салатница, полная горячего, только что с огня лобио... После полуголодной Алма-Аты гость чувствует себя так, словно попал на лукуллов пир, но в черных, бездонных от набежавшей под веки синевы глазах хозяйки прочитывает неловкость. Она хоть и понимает, что по теперешним временам стол богатый, но продолжает считать его бедным. Уписывая за обе щеки красный горячий лобио, Военкор продолжает угадывать ее мысли: в мирное время такое простецкое лобио никогда не подавали гостям. Это семейная еда. Вино, которое поставили на стол, было то же самое, что пили до войны, но его до убожества мало по грузинским меркам. А традиционной обжигающей чачи вообще не оказалось — остатки ее как лекарство давали женщинам, когда в дом пришла похоронка.
За столом — всего несколько человек, родители погибшего, хозяева, гость, еще два или три самых близких человека, кого удалось застать и пригласить за такой короткий срок.
Потихоньку, без спешки, словно нагревается мангал, где выжигают угли для шашлыка, занимается беседа. Хозяин, из уважения к гостю, был на слово скуп. Гость тоже уже начинал приучать себя в повседневном общении к немногословию, которое понемногу становилось натурой. Поведавшие о своих невзгодах и в этом нашедшие хоть какое-то утоление своим печалям тбилисцы и не догадывались о том, что их не по возрасту сдержанный, невелеречивый гость, добродушно иронизирующий над собой и окружающими, в общении с ними тоже врачует свои не заживающие душевные раны.
Разговор, конечно же, долго кружился вокруг войны. Говорили о смертях, о потерях. Тени погибших близких витали в меланхолической атмосфере дружеского застолья вместе с мыслями о воюющих сейчас детях, братьях, с невысказанными переживаниями мужчин дома о том, что хоть они уже и побывали на войне, но отдали ей меньше, хотя бы и в силу возраста, чем заглянувший к ним по дороге с одного фронта на другой Симонов.
Говоря «об этом аду в Крыму», где Ираклий побывал в «то же самое страшное время», что и Военкор, прикидывали, в каком положении могла бы оказаться сама Грузия, если бы тогда, после всех этих крымских неудач, позволили бы фашистской армии взломать ворота Дарьяльского ущелья и ворваться в Закавказье. Говорили о случившемся и о том, что может еще произойти.
— Когда немцы оказались на Эльбрусе, я каждый раз с ума сходил, думая об этом, — воскликнул Ираклий.
И Костя обронил, что завтра уже едет через Крестовый перевал догонять наступающую армию.
— Да, слава Богу, наступаем, — подхватил кто-то из мужчин.
Когда возникла мимолетная пауза, гостя попросили почитать стихи. Ираклий тоже читал свои. Очень хорошие. Но все внимание было, конечно же, ему, Косте.
Он читал много и охотно. Подряд все, что хотели и что хотелось самому. Конечно же, «Жди меня», по настоянию окружающих. И новое стихотворение, собственно, маленькую поэму «Хозяйка дома». Только что, в Алма-Ате, законченную и еще нигде не напечатанную. Уже услышав звуки собственного голоса, он осознал, как она ко двору пришлась именно сегодня и именно здесь.
Поставь же нам стаканы заодно
Со всеми. Мы еще придем нежданно.
Стихи о воображаемом доме и его хозяйке звучали под крышей, где все, о чем ему грезилось, существовало наяву. В доме, куда, «шумя, смеясь, пророча», он приходил и будет приходить еще много раз. Куда, добавим от себя, он последний раз приедет, не ведая того, меньше чем за год до смерти.
Война придавала особую, дополнительную значимость всему, о чем говорилось, тому хорошему, что раньше было между двумя давно не встречавшимися людьми — хозяином и его гостем. И тот, и другой долго, и часто, и наедине с собой, и на людях будут возвращаться к этому неторопливому, военной поры застолью, когда вечер незаметно перешел в ночь, и ужин был прерван лишь крайней необходимостью идти гостю в гостиницу и проверить, все ли уже готово к отъезду на рассвете, на счастливо добытой-таки «эмке».
Соединившись в тот же день за Крестовым перевалом с наступающими войсками, как и предписано ему было редактором, Военкор так и не выбрал минутки записать об этом вечере в толстую, в клеенчатом переплете тетрадь в клеточку, которая служила ему тогда дневником. Может быть, потому, что сразу же услышал раскаты артиллерийской канонады и увидел первые транспортеры с ранеными. А может быть, потому, что все и так живо стояло в памяти. Но К. М., готовя в семидесятых годах занесенное в эти тетради к печати, не удержится от комментариев в отношении этой, так и не сделанной вовремя записи, и скажет, что «не будь тогда этого вечера в Тбилиси, в повести «Двадцать дней без войны» я не написал бы той главы, которую люблю в ней больше всех других».
Ираклий в своих мемуарах вспомнит, как лет через восемь после их встречи он, в свою очередь, придет к Константину Михайловичу в дом в Москве и тот будет читать ему новые стихи, кажется, из цикла «Друзья и враги». И, проследив за реакцией гостя, скажет с досадой:
— Нет, ты ничего не можешь слушать, кроме «Хозяйки дома».
У того ком в горле стоял, когда он вспоминал первое исполнение у него дома. И, глядя на автора, постаревшего и осунувшегося за эти годы больше, чем можно было бы предположить, видел перед собой «того настоящего русского офицера», что как из-под земли вырос перед ним на бульваре Шота Руставели в Тбилиси: «с хорошей выправкой, спокойный, уверенный в себе военный, в начищенных до блеска сапогах, с пистолетом на поясе, с перекинутым через плечо толстым большим планшетом с карандашами и, помнится, компасом. Белые, здоровые зубы на сильно загоревшем и слегка даже шелушившемся от этого лице. Офицерская шапка, надетая немного набок».
Все, что было дорого и мило ему в этом мире, зазвучало, откликнулось в те часы в том трогательном целомудренном застолье, так похожем и не похожем на знаменитые грузинские «кутежи», воспетые, как и само это слово, Нико Пиросмани. Все было собрано, как в фокусе сильной линзы: отпустившая, пусть и на время, боль, занозой сидевшая с Алма-Аты в сердце, старые и верные друзья, спешащие утолить его печали, родная его сердцу Грузия; стихи и вино.
Все набиравшим и набиравшим силу, массу и скорость снарядом видел он себя, когда, вырвавшись из объятий своих грузинских друзей, благословляемый ими, устремился, движимый судьбой, командировочным предписанием, исторической необходимостью и собственным характером дальше, по дорогам страшной, великой и уже совершенно очевидно победоносной для нас войны.
Вернувшись с Кавказа, он по воле все того же Ортенберга вскоре снова улетел в Алма-Ату, дописывать «Дни и ночи» и ассистировать фильмы «Жди меня» и «Русский вопрос». Свою задачу никогда не упускавший случая поворчать редактор видел, по его словам, в том, чтобы, уподобляясь хорошему ямщику, дать кореннику передохнуть перед новым походом. Впрочем, выдержки редакторской хватило ненадолго. Не успел Военкор разложить свои записи и черновики — он как раз ломал тогда голову над главой повести, которую потом не отдал в издательство, как пришла телеграмма: «Возвращайся».
Для него это была команда, к которой он всегда был готов. Для Вали — очередной повод передернуть плечами — не живется ему без тебя. И по приезде показалось, что права была она. Получалось, что телеграмма была дана без какой-либо видимой причины: просто Ортенберг решил, что Кости слишком долго не было в Москве. На естественный вопрос того, что делать, буркнул:
— Ничего не делай. Сиди здесь и пиши.
Когда вскоре после войны Константин Михайлович посмотрел английский фильм «Мистер Питкин в дни войны», он, не упускавший случая поиронизировать над самим собой, подумал, что такой фильм и в таком же ключе можно было бы снять и о нем, военкоре Симонове. И лучшего сценариста, чем старина Давид, было бы не найти. Ему бы даже не надо было сочинять сценарий. Просто поднять все телеграммы и распоряжения, которыми он бросал его из одного конца в другой с короткими пересадками в Москве... Ирония иронией, а в письме, адресованием Ортенбергу, вырвались однажды неожиданные по прямоте строки: «Истинная дружба без особых нежностей, но зато с настоящей верностью редка, и поэтому мне очень дорога наша дружба с тобой, Давид».
«Дни и ночи» он все равно бы дописал, в Алма-Ате ли, в Москве ли, а вот на то направление, куда он вскоре отправился на неизменной редакционной «эмке» и которое стало известно миру под именем «Курская дуга», мог бы и не попасть, не будь этой возмутившей Валю телеграммы в одно слово: «Возвращайся».
В историю войны это событие войдет как битва на Курской дуге. И никому вчера еще не известное название — Прохоровка — будут повторять миллионы людей на десятках языков.
Сражение, в котором до поры даже высшему командованию не дано было определить, кто же побеждает. Что же говорить о тех, кто был в эпицентре этого месива из железа, живых и мертвых человеческих тел, сорванных башен танков и снесенных голов, льющейся потоками крови, размазанных по воронкам от снарядов внутренностей.
Между тем это был окончательный поворот войны к нашей победе. Первое сражение, выигранное нами летом, после которого были еще миллионы жертв, но не было поражений.
По-своему это ощутили и мы в крохотном нашем Сердобске. До нас с большим опозданием и только в маловразумительных поначалу сводках Совинформбюро доходили вести о невиданном сражении где-то под Курском и Белгородом. Зато смысл приказа Верховного Главнокомандующего о взятии этих городов и о салюте в честь победителей, первом салюте такого рода, дошел сразу и до всех.
Даже сообщение о разгроме немцев под Сталинградом не произвело такого впечатления. Вряд ли мне, двенадцатилетнему, так же как всем вокруг взрослым, было тогда знакомо такое слово — необратимость, но пытаясь много позднее перевести то чувство, которое мы все тогда испытали, на язык слов, я более подходящего не нахожу.
И первое, что пришло в голову старшим, и матери, и отцу, который вырвался из части в недельный отпуск — в Москву! В Сердобске к тому времени мы прожили два года — приехали туда в теплушке в июле сорок первого, сразу после первых бомбежек Москвы. Я жил у бабушки на Мысах, мать с пятилетним братом — у старшей сестры отца — на окраине Сердобска, в буквальном смысле на границе города и деревни. Словом, жили окруженные и обогретые многочисленной отцовской родней, маленьким человеческим ульем, который трижды уже за два года войны «обвыл» пришедшие с фронта похоронки. Когда за полгода до орловско-белгородских победных залпов в Сердобск пришло неведомо кем изданное распоряжение посадить все эвакуированные в Сердобск семьи офицеров в эшелон и отправить в Челябинск, я наотрез отказался сдвинуться с места. Когда все уже было готово, и вещи были собраны, и пора было уже нам трогаться с Мысов, и двигаться, чтобы не опоздать на вокзал к отправке эшелона, я залез в яму, вырытую прямо во дворе — дедушка ладил новый погреб — и заявил, что никто меня отсюда не стронет. Пришлось бабушке, крайнее средство, надевать «кобеднишние», то есть для церкви, юбку да кофту, повязывать свой белоснежный платок и идти в горсовет. Упала в ножки председателю, который вместе с секретарем горкома приезжал порой к мельничному сторожу, моему деду, половить рыбку да попеть песни у костра со стаканом в руке, дедом с бабкой поднесенным. Вымолила нам индульгенцию.
Теперь же и во мне словно бы прозвучало: «В Москву!» Никто нас не гнал с нашего насиженного места, наоборот. И никакие особые радости не ждали в Москве, в нашем бараке. Но все вдруг, не обсуждая и не сговариваясь, решили — надо ехать. Как перелетные птицы, которые в одним им ведомый час вдруг снимаются дружно с места — лететь весною на север, осенью на юг. И даже о такой совершенно очевидной по тем временам вещи, как пропуск, взрослые не позаботились. Спохватились только тогда, когда мать задержали на перроне Казанского вокзала патрули. Они держали ее сутки, но страху, у меня, во всяком случае, не было. Став старше, я не раз прикидывал, как бы это могло все обернуться — грубое нарушение режима военного времени, и, к счастью, не обернулось. Может быть, и военная комендатура жила в те дни тем же радостным предощущением конца войны. Салют в честь освобождения Харькова, второй из той череды, которая завершилась салютом Победы, просиял над Москвой как раз вечером того дня, когда мы высадились со своим скарбом на вокзале.
Ребенок продолжает жить в украшенном уже сединою, опытом и первыми морщинами мужчине гораздо дольше, чем принято думать. Всю войну Военкор жил, говоря словами Толстого, в большой и постоянно восторженной поспешности не пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства. Он был переполнен тем, что видел и испытал, но вместе с тем ему все казалось, что там-то, где его теперь нет, и совершается самое настоящее, геройское. И это снова и снова бросало его в котел страды.
Панорама лиц и событий никогда не остановит своего вращения перед его глазами. И все будет казаться, что чего-то он о них не досказал. Первый отбитый у немцев лагерь смерти. Груды истонченных, словно бы превратившихся в ивовые прутья тел, сплетенных в единый леденящий душу клубок. Пасти еще источающих сатанинское тепло и саднящий смрад печей...
Руины Сталинграда, потом Киева, Варшавы. Рыдания и объятия освобожденных и освободителей. Встреча на Эльбе...
Комментируя много лет спустя дневниковые записи Военкора, К. М. заметит не без удивления, что в последние месяцы войны вольно или невольно складывалось так, что хоть командировок на фронт не поубавилось, с тяготами и опасностями стало как будто полегче.
Все больше с ходом войны появлялось знакомых да и друзей среди старших офицеров, генералов, даже маршалов, настоящих и будущих. Когда-то за великую удачу почитал прорваться к какому-либо старшему военачальнику и взять у него интервью, теперь они сами наперебой зазывали его к себе в войска — известного, проверенного, зарекомендовавшего себя газетного писателя.
Вот оно, лежит в томе «Всего сделанного» за 1944 год письмо знакомого еще по Крыму генерала армии Ивана Ефимовича Петрова. С приглашением в штаб Четвертого украинского фронта в Словакию: «Думаю, Вам как писателю у нас тоже будет интересно. Приезжайте, не раскаетесь».
Писатель начинал все больше подавлять в нем военного корреспондента. Тянуло подумать над тем, что видел и слышал. Послушать тех, кто ведает стратегией войны.
Своеобразный комфорт походных штабов и штаб-квартир высших и высоких военачальников, беседы с ними, даже дискуссии — идеальные возможности для наблюдений — визуальных и психологических, за тем, как принимаются и исполняются стратегические и тактические решения на уровне фронтов и армий. Словом все то, что, как полагал Военкор, было важно и нужно литератору, который уже замысливал — в самых общих чертах — свои будущие романы.
Он еще не знал, что это будут за романы, какими конкретно характерами и персонажами они будут заселены, каких лет и каких театров военных действий они коснутся... Одно было ему хорошо известно: и после войны это будут романы о войне.
Не знал он, однако, и другого — того, что дело до этих романов дойдет не сразу, при всей его фантастической трудоспособности, помноженной еще и на трудолюбие. Что захлестнет, понесет его за собой волна новых, теперь уже послевоенных событий. Снова поманит дорога, только теперь уже в куда более далекие и неведомые края. И та же железная необходимость, которой он всегда подчинялся без оглядки и без рассуждений, вновь и после войны будет отрывать его от дома, от близких и любимых, служить источником тех же безысходных конфликтов в «так называемой личной жизни», которые будут все обостряться и обостряться, пока не приведут к трагедии, которая по нему ударит еще не самым страшным своим концом.
КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
После войны... Что они означают, эти два слова? Легче определить, когда это время началось, чем — когда кончилось. Салют над Москвой 9 мая 1945 года не забудешь до конца дней своих. Известие о Победе, долгожданно и тем не менее неожиданно прозвучавшее на рассвете из репродуктора «Рекорд» — черная картонная тарелка на столе, вырвало меня из нагретой тощим мальчишеским телом постели на улицу, потом бросило обратно в маленькую нашу комнатушку. Всхлипывала, сидя на постели, мать, хныкал, не понимая, что происходит, семилетний брат.
Попытались было снова лечь, но уснуть не удавалось. Мешала сотрясавшая тело дрожь, вырывали из легкого, непрочного забытья беспрестанные возгласы и шаги в коридоре.
Между этой предрассветной порой и ранними майскими сумерками, вдруг взорвавшимися мириадами огней, — провал. Ничего не помню, где был, что делал в тот день, с кем говорил. Помню только, как к вечеру на площади Свердлова загустело, уплотнилось окружавшее тебя естество чьих-то рук, плеч, спин, мягко и в то же время властно приподняло, так что только носками ботинок успевал скрести по асфальту, понесло в направлении Красной площади, мимо музея Ленина, потом — в горло Исторического проезда, где совсем стало невмоготу. И затем в такт первому пушечному залпу и первой россыпи озаривших Спасскую башню и купола Василия Блаженного праздничных ракет, глубокий вдох и чувство распрямления уже на Красной площади, где только что до предела спрессованный людской поток на минуту словно бы растворялся в ее брусчатой безбрежности, чтобы потом, ближе к Мавзолею, снова загустеть, превратиться в твердую, но упругую массу. Сотни раз видел потом эту ночь на Красной площади в кино, узнавал и не узнавал свои — в тех сотнях и тысячах протянутых мальчишеских и женских рук, на которых, как на батуте, взмывали пружинно неуклюжие, беспомощные в воздухе фигуры в шинелях, гимнастерках, увешанных орденами и медалями. Со временем увиденное в кино слилось с собственными воспоминаниями и ощущениями — и не отделить.
Подростковому моему воображению — четырнадцать лет — эти часы в толпе, ритмически освещаемой вспышками огней, сотрясаемой грохотом артиллерийских залпов, представлялись гранью двух совершенно несоприкасающихся друг с другом миров. Вот-вот, казалось, исчезнет бесследно в этом жемчужном переливе огней все, что было вчера, и, словно по волшебству, в миг единый родится другое — такое, о чем сейчас невозможно даже загадывать. Что это будет? Спроси меня тогда кто-то, я бы, наверное, ничего не смог придумать, кроме возвращения отца и отмены карточек. Не по возрасту еще было мечтать о переменах, но потребность в них пульсировала в сознании, как ток крови в теле.
Так начиналось для меня «после войны».
Но когда кончилось? Для меня раньше, чем для моего героя.
В числе горстки счастливцев, советских журналистов и писателей, Военкор присутствовал на подписании акта о полной и безоговорочной капитуляции Германии в пригороде Берлина Карлсхорсте. На рассвете, быть может, в те самые часы, когда голос Левитана поднял нас в Москве с постелей, он уже спешил с танкистами Рыбалко в подававшую SOS Прагу.
Та самая сила, которая подняла и внесла меня на Красную площадь, чтобы тут же, впрочем, и опустить на грешную землю, держала и несла его в своих объятиях гораздо дольше. На землю он опустился, чтобы с неким изумлением оглянуться вокруг, лишь спустя несколько лет. Быть может, только со смертью Сталина.
Возвращаясь мыслями к первым послевоенным месяцам, Константин Михайлович сам себе признавался, что жил как во сне. И это не был такой уж счастливый сон, как могло показаться многим его читателям и почитателям.
Не одно лишь облегчение испытывает человек, когда вдруг обнаруживает, что вроде и не надо уже оборачиваться на свист пуль, ждать каждую минуту сигнала тревоги, пакета с приказом к наступлению, если ты командир, или, если ты военный корреспондент, звонка ночью от редактора с повелением немедленно сняться с места. Не так-то это просто в жизни даже сверхорганизованного и собранного человека, а именно таким, по собственному разумению и общему мнению был Военкор, вдруг лишиться той опоры, той путеводной звезды, по которой, словно волхвы из библейской легенды, ты столько лет уверенно, без колебаний прокладывал свой путь на войне.
Странно было обнаружить, что исчезла, словно испарилась вдруг та сила и та воля, которая и вела, и подстегивала тебя и восстанавливала твои силы, и что ты вдруг оказался полностью предоставленным самому себе.
Не он один ощутил себя в таком положении. Война — жестокий, безжалостный поводырь, но — поводырь. Миллион и миллионы вела она своей железной, негнущейся рукой от поражений и провалов, бедствий и потерь через муки, мытарства, увечья, разлуки и смерти — «смертию смерть поправ» — к победам.
И вот, когда ослабила она, а там и разжала вовсе свою железную хватку, не одно лишь облегчение почувствовали люди — еще и растерянность, неуверенность в себе. Получив вдруг долгожданную свободу от предписаний и указаний, вчерашний Военкор продолжал, словно заведенные впрок часы, двигаться в том же темпе и ритме, с энергией, удвоенной тем ощущением радости и торжества, в котором купались, по его ощущению, люди, одолевшие лютого врага.
Дописывались и посылались в «Красную звезду» последние корреспонденции, заполнялись последние страницы военного дневника... Роились в голове новые и новые планы, о которых он не уставал говорить и с друзьями, и с советскими и иностранными корреспондентами, которые, как мухи на мед, слетались на него в Праге, а вскоре и в Москве. Популярный, всюду публикуемый, исполняемый, цитируемый и в то же время такой доступный, внешне простецкий, отзывчивый... Ну как не попросить его ответить на какую-либо анкету, уговорить дать интервью или просто черкнуть несколько строк для того или иного, преимущественно американского — союзники! — издания. Он уже привыкал быть в этих ответах и писаниях в меру сдержанным и в меру откровенным, в меру взволнованным и в то же время скупым в изъявлении чувств.
Как раз то, что больше всего импонировало.
Немало времени отнимали издания и переиздания его прежних произведений, работа с театрами.
Но это все скорее была уже механическая работа.
Странное, непривычное для него и не очень уютное чувство: общественные долги, дела и обязанности вдруг пошли на убыль, словно бы испаряясь, растворяясь в жарком мареве первого послевоенного московского лета. Дела домашние, бытовые, семейные, от которых так естественно было отмахиваться в непритязательную военную пору, теперь, точно сговорившись, окружили его «мнози, тучни», навалились всей своей тяжестью и некуда было от них, не в пример тем, военным денечкам, ни уехать, ни улететь.
Надо было обихаживать полученное в войну и до сих пор почти необитаемое жилье, где поселилась героиня его стихов и родилась дочка Маша. Позаботиться о возвращении в Москву из эвакуации резко постаревших матери и отчима, подумать о сыне, которого он все эти годы почти не видел. Малому шел уже шестой год, и он был вправе претендовать на внимание своего знаменитого, как ему твердили дома, отца, о котором он пока мог знать в основном по рассказам да по книжкам, которые стояли у мамы на полке.
Сколько раз в войну он ощущал себя внезапно повзрослевшим — после очередной атаки, очередной потери, встречи с ужасами Майданека или Бабьего Яра... Теперь начинало казаться, что пора взрослости только начинается для него — с виду основательного, молодцеватого подполковника, который, подобно всем демобилизованным той поры, не спешил расставаться с привычной, ладно сидевшей на нем военной формой.
Что ни говори, а человек остается человеком. И у того, кто на виду, те же заботы, что у малых сих... И когда забот собирается сразу слишком много, они так же гнетут его, как и всякого смертного.
Его возвращение, обычное, как он любил подчеркивать, возвращение воина с войны домой, к семье, к прежним, довоенным обязанностям было в чем-то неотличимо от тысяч и миллионов других возвращений, но чем-то не похожим ни на одно из них.
Радость была у всех одна. Горе и заботы у каждой семьи свои. Одни все еще страшились похоронок, которые продолжали идти. Другие с ожившими надеждами ждали весточки от без вести пропавших. Третьи, как мы с матерью и братом, считали дни до объявленного уже срока возвращения кормильца.
Миновала суматошная, с бодрящими ранними зорями середина мая. Стали ждать назначенного на конец июня парада Победы. Гадали, кто будет им командовать и кто принимать. Обожали Жукова, но мечтали увидеть на белом коне Сталина. Живого Сталина. Для многих, ничего не ведавших о той зловещей реальности, которая молча стояла в тени праздничных фасадов, подготавливаемых к празднику транспарантов, для не умевших еще себе объяснить страшные приметы той, другой жизни, которые так или иначе каждому попадались на глаза, как их ни прячь, или хотя бы задуматься о них, Сталин продолжал оставаться божеством.
Прошел и Парад, и весь этот день, утопавший в дождях, из-за которых отменили демонстрацию. Стали ждать вступления в войну с Японией. Потом как-то незаметно для москвичей, по крайней мере, моего возраста, промелькнула и она. Война напоминала о себе пустынными там и сям сквериками на месте разбомбленных некогда домов и иных строений. Буйно зеленевшими делянками картофеля, брюквы, репы, по-прежнему подступавшими чуть ли не к улице Горького.
Стоило отгреметь салютам, отшуметь парадам, и все пошло, казалось, по-старому. Так же, в те же урочные, заветные дни ходили в домоуправления получать карточки, и в том же, привычном порядке отоваривали их: хлебные — в булочной по соседству, продуктовые — жиры, мясо, рыба — в специальном распределителе для семей старших офицеров. Наш был на Колхозной площади. Взрослые любили сравнивать дотошно и придирчиво, где отоваривают лучше.
Так же в то первое послевоенное лето раздобывали, со ссылкой на офицерский аттестат, и ордера на «мануфактуру» и «промтовары», то бишь ботинки или галоши, или отрез твида на костюм, драпа на пальто. Так же запасались дровами на первую послевоенную зиму — частично за счет сухих веток и сучьев, которые ломали в Останкинском парке и несли домой вязанками на загривке, а частично — за счет дровяных складов, которых тогда немало было по Москве. Получали там по талонам осину, ольху, а если посчастливится — ель или березу, и везли потом через весь город на тележке или на санках, которые тоже в ту пору были у каждой второй семьи в Москве.
Преобладающим настроением да и содержанием всей внутренней жизни было ожидание — ждали, когда демобилизуется наконец отец. Когда отменят карточки — вначале-то казалось, что чуть ли не назавтра после войны. Когда откроются «коммерческие» магазины. Ну и так далее...
Так было в моей семье. Всего, что полагалось от войны, выпало и на нашу долю — но в меру, словно чья-то незримая сила позаботилась, чтобы и не миновала нас чаша сия, но и не была бы она безмерной.
Недоедали, но с голоду не пухли. Ютились в бараке, но все же — в отдельной комнате с неутомимо бодрствовавшей все военные и первые послевоенные годы кирпичной печкой, чугунные конфорки которой я так любил в мороз раскалять докрасна. Мне и до сих пор кажется, что в нашей бедной комнате она создавала такой уют, который и не снился моим детям, выраставшим в совсем иных условиях.
Победа была на всех одна. Однако дни шли, и становилось очевидно, что далеко не к каждому она поворачивалась лучезарным ликом. В войну в каждой семье были потери — убитые, раненые, пропавшие без вести. Квалифицировались эти потери в бумагах, приходивших в семьи, по-разному. Горе для всех было одинаковым. Теперь выяснялось, что и горе разное. По горю и честь. Кто-то с воплем радости кидался на грудь бравого, постучавшего в дверь ветерана — одна рука на усах, другая на костыле. Кто-то со смятенным сердцем ехал, комкая в руках треугольник солдатского письма с адресом госпиталя, забирать домой изуродованного на войне кормильца. Кто-то сидел дома и тоскливо прислушивался к шумному веселью вокруг... Пропавший без вести, перемещенное лицо, окруженец — только теперь люди начинали по-настоящему осознавать, что это означает в повседневной жизни, какие рвы и надолбы прокладывает долгожданное мирное время между одними и другими.
Военкор Симонов любил ясность и подчеркнуто стремился к ней во всем, но именно с ясностью и было в ту пору труднее всего. Тяжкие вести, подобные холодному, влажному, липкому туману, наплывающему из глубоких промозглых ущелий в долины, приходили одна за другой.
Корреспонденты «Красной звезды», с которой он поддерживал еще тесную связь, побывали в Одессе, откуда отправляли кораблями на родину англичан, французов и бельгийцев, освобожденных Красной Армией. В эту же пору из Марселя в Одессу прибыл транспорт с нашими военнопленными. Среди них, говорят, было много таких, что бежали из концлагерей, сражались в маки, в отрядах бельгийских партизан. Пытавшихся пробиться к ним корреспондентов жестко отстранили, а с самими прибывшими обращались как с преступниками — по трапу они спускались под конвоем, руки назад. На родимой земле, по которой не ступали столько лет, вместо цветов и объятий — снова «транспорты» — американские, по Ленд-лизу, студебеккеры с глухим брезентовым верхом. По паре автоматчиков на бортах.
Кто-то вернулся из Молдавии и рассказывал, боязливо маскируя недоумение, что там идет поголовная чистка — в иных селах объявляют пособниками нацистов и отправляют на Восток чуть ли не до четверти населения... Слухи об арестах — кто-то схвачен по добровольном возвращении из эмиграции как «маскирующийся», кто-то разоблачен как предатель — из тех, кто не успел в свое время эвакуироваться и «затаился», завербованный немцами.
Может, так оно и было? Невольно вспоминалась Феодосия, временно отбитая у врага в начале сорок второго года, прошедший в бургомистры Грузинов, выведенный потом подвидом Козловского-Василенко в «Русских людях» — предатель и трус, который при допросе бросался на пол при первых звуках бомбежки. Как будто бы он не понимал, что его все равно расстреляют. Фарисей, который имел наглость — или тупость — заявлять: «Я еще надеюсь, что я оправдаю доверие».
Вспоминался и освобожденный нашими войсками концлагерь под Лейпцигом, полчище теней в рваных полосатых робах, которым он, взобравшись на грузовик, читал «Жди меня». Событие, которое он успел уже воспеть и в прозе, и в стихах. Как слушали! Не может быть, чтобы и их...
Через десятилетия, работая над фильмом о Твардовском, К.М. прочитает в микрофон из его последней, все еще не опубликованной тогда поэмы:
Одна была страшна судьбина —
В сраженьи без вести пропасть.
И до конца в живых изведав
Тот крестный путь, полуживым —
Из плена в плен — под гром победы
С клеймом проследовать двойным.
Тогда же он, К.М., подумает с досадой о себе, Военкоре, что в погоне за пресловутой ясностью и прямотой во всем просто отгораживал себя машинально от всего, что этой прямоты и ясности не содержало.
Не в силах различить контуры будущего, предавался, как и многие тогда, воспоминаниям. «О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах». Они подобно туману заволакивали резкие грани сегодняшнего дня, скрадывали неровности, драпировали зияющие провалы, темные, без дна, пропасти.
Чем тяжелее пережитое, тем сильнее память о нем греет душу. И оно, понемногу, начинает казаться уже не столько страшным, сколько славным, заветным, навсегда утерянным.
Он уже был отравлен ощущением собственной незаменимости, ежедневной и ежечасной необходимости кому-то и для чего-то и с тоской и недоумением оглядывался вокруг, если вдруг затягивалась пауза между двумя телефонными звонками в его первой в Москве квартире, которую можно было уже без всяких натяжек назвать домом.
В таком настроении, как бы между делом, написалась пьеса «Под каштанами Праги», дань ностальгии, тем более, что играла в ней Серафима Бирман, давняя его, еще по памятным командировкам в Алма-Ату, знакомая.
Все, что он делал в ту пору, пусть со всегдашней энергией, истовостью и погруженностью в каждую новую заботу, казалось чем-то временным, промежуточным — в ожидании чего-то более значимого, что должно вот-вот последовать.
Спросили бы его прямо — а чего ты, собственно, ждешь, он и себе бы не смог ответить. Разве что словами «парня из нашего города»:
— Все-таки, знаешь, Вано, бывает такая минута в жизни, когда уехать — дороже всего.
Главный редактор «Известий» Леонид Федорович Ильичев отыскал его в конце сентября в его «укрытии» и сказал, что ему, Симонову, а также Борису Горбатову, Борису Агапову и Леониду Кудреватых из «Известий» предстоит, тут он намекнул на указание «с самого верха», поехать на несколько недель в Японию. Вот она — благословенная дорога! И куда — в Японию, только вчера и нехотя вложившую в ножны меч самурая. Всколыхнулись воспоминания шестилетней давности о Халхин-Голе. Судьбе угодно, стало быть, чтобы он завершил свою военную страду там, в сущности, где он ее начинал.
Через десяток дней все участники предстоящего «агитпробега» собрались по взаимной договоренности в «Известиях» у Кудреватых. Константин Михайлович собрал уже о Японии, а частично и прочитал, кучу книг, позаботился о массе необходимых в дальней дороге вещей, что не счел необходимым скрывать.
В результате Борис Горбатов, против фамилии которого в официальном списке делегации было указано — руководитель, отказался, убоявшись хлопот, от оказанной ему высокой чести, уступив или навязав ее Константину Михайловичу. Начальственного тона полу в шутку, а полу и всерьез, однако, не сбавил, дабы не лишить себя некоторых дорожных привилегий, которые он, испытанный путешественник, весьма ценил.
Поворчав из соображений такта по поводу такого доверия, Константин Михайлович, тем не менее, со всей присущей ему энергией продолжил подготовку небольшой, но весьма уважающей себя команды в путь-дорогу.
Уезжали за несколько дней до нового 1946 года, первого послевоенного года. Поездом, с огромным багажом. И сколько бы там ни говорилось о серьезности, ответственности, даже рискованности предпринимаемого путешествия, сколько бы ни прозвучало из самых разных уст вполне искренних проклятий в адрес злодейки-разлуки, проводы на заснеженном перроне выглядели праздником — с шумной толпой актеров, возглавляемых экстравагантной Серафимой Бирман, с хлопаньем пробок из бутылок шампанского, с уговариванием Симонова надеть новую шубу и попытками нахлобучить на него лохматую меховую шапку. Уезжали четверо, но провожали, казалось, его одного... И он прощался с каждым, каждому спешил протрассировать что-то важное, каждого облобызать, каждому в отдельности помахать из окна рукой.
В поезде, как только расселись по местам, он собрал их в своем купе и в категорическом тоне на правах старосты предложил заняться изучением прихваченной им в дорогу литературы о Японии.
Агапов и Кудреватых поддержали его в его рвении, Горбатов, как и следовало ожидать, воспротивился. Сопротивление его, однако, общими усилиями было сломлено, хотя новые и новые попытки подорвать наведенный Симоновым порядок он неутомимо предпринимал — и долгой дорогой, под стук колес, да и в самой Поднебесной.
Итак, впереди — Дальний Восток, край далекий, но нашенский, а за ним — Япония, загадочная, еще с Халхин-Гола заинтриговавшая его страна. Позади —рукописи, макеты и верстки в издательствах, репетиции и премьеры новых и старых пьес, фильмов. И покинутые на полдороги житейские хлопоты, которые, он знал это еще по военному опыту, решались куда быстрее, когда ты в отлучке, тем более с особым заданием. С первых же часов установился дорогой его сердцу дух колючей мужской дружбы. Он еще раз отдаст ему дань после смерти Бориса Горбатова:
Раньше как говорили друг другу мы с ним?
Говорили: «Споем», «Посидим», «Позвоним»,
Говорили: «Скажи», говорили: «Прочти»,
Говорили: «Зайди ко мне завтра к пяти».
С торжествующей улыбкой появлялся он в охваченном сонной одурью купе с ароматно дымящейся миской похлебки, сваренной у проводника, но по его собственному, неповторимому рецепту. С неподдельной серьезностью, зажав трубку в зубах, верстал по стаканам из запотевшей, «в рубашечке» бутылки Московскую. Лежа на верхней полке, вдруг предлагал громогласно прикорнувшим уже после угощения попутчикам:
—Друзья, хотите, я прочту вам стихи? Из Незвала. Я сегодня перевел с чешского...
— Очередная отрава готова, — хмуро ворчал Горбатов, вдыхая чесночно-перечные ароматы симоновской похлебки. — Дайте мне перед смертью хотя бы выпить пива.
В штыки встречал он и предложение почитать Незвала:
— Если ты его переводишь, то во всяком случае он не может остаться хорошим. Теперь я понял: ты приковал меня к столу своей похлебкой, чтобы у тебя была побольше аудитория. Дьявольская хитрость!
Иного успех как бы отяжеляет, и не удивительно — у бронзы ведь большой удельный вес. Константина Михайловича он, наоборот, делал легче, подвижнее, непринужденнее...
— Нагружайте нас до предела, — с ходу заявил он во Владивостоке представителям местных властей.
Встретив гостей на вокзале, они сообщили им, что вот уже чуть ли не неделю Владивосток не спит, не ест, а либо сидит у телефона, либо стоит в очереди за билетами на литературные вечера, которые здесь уже поспешили запланировать. Само собой подразумевалось, что главный спрос — на Константина Михайловича.
В руках у хозяев трепыхалась на ветру местная газета с портретами всех прибывших. И, конечно же, со стихами Симонова на первой полосе.
Простодушный Кудреватых, хоть стихов и не писал, готов был служить аудитории своими устными журналистскими рассказами.
«Снобствующий» Агапов тоже не отказался принять посильное участие, хотя от вида собственной и его спутников фотографий в газете у него, он утверждал, сводило скулы. Да и стихи показались под стать фотографии:
— О, если б знала ты, как я люблю тебя.
Константин Михайлович, не уставая, читал стихи и в рабочем клубе, и во флотских экипажах, неизменно вызывая бурю восторгов и сам получая от этого искреннее удовольствие. Агапов философствовал вслух: «Симонов, наверное, знает какой-то недоступный другим секрет. А может быть, весь секрет в том, что он трогает такие душевные струнки, которые у каждого на поверхности?»
Сто дней в Японии... Каждый из них был длинен, как вечность. Вместе взятые они пролетели, как одно мгновение. Его будоражило все, что с ними там происходило.
Благодаря рекомендательному письму американского посла в СССР Гарримана он прорвался к царю и богу тогдашней Японии—генералу Макартуру и просидел с ним чуть ли не полтора часа.
Он набрел на след того, кого в Японии называли «красным графом» — графа Хидзиката. Вместе с двумя своими сыновьями граф, театровед по образованию, некогда прожил несколько лет в Советском Союзе и даже ставил спектакли в одном или двух московских театрах. По возвращении в Японию тайно вступил в коммунистическую партию и теперь, представлялось, пытался строить в своем имении социализм в капиталистическом окружении. К.М. радовался, что газетчик в нем еще не умер — все, что могло заинтриговать читателя, в не меньшей мере увлекало и его самого.
Конечно же, был он единственный из четверки, кто научился орудовать, сидя на циновке или на низенькой скамеечке, деревянными палочками-хащами. Без устали отправлял ими сначала в кипящую воду и масло, а потом в рот и морскую капусту, и нарезанных ломтиками каракатиц, и побеги молодого бамбука, и лепестки свежайшей говядины-скияки...
Добрые, возбуждающие вести шли между тем из Москвы одна за другой.
Началось с того, что 9 января 1946 года, то есть на тринадцатый или четырнадцатый день после их приезда в Японию, генерал Воронов таинственно пригласил их всех к себе в военную миссию, усадил вокруг стола в кабинете, протянул Симонову шифровку. В ней сообщалось, что Симонов К.М. выдвигается кандидатом в депутаты по выборам в Верховный Совет СССР по Ярцевскому избирательному округу. Он заалел лицом, сконфузился. Где же, мол, этот Ярцевский округ? Когда кто-то сообразил, что это, должно быть, в Смоленской области, разволновался еще больше. В Москве подумали и об этом — некогда он воевал в тех местах.
Тут же, по подсказке генерала, напутствуемый друзьями, сел сочинять ответную телеграмму: «Симонов горячо благодарит за оказанное высокое доверие и дает согласие баллотироваться в указанном избирательном округе».
Через двадцать дней навестившие корреспондентов в их «резиденции» пресс-атташе Цихоня, на которого они все так дружно работали, и адмирал Стеценко принесли новую радость, которую на этот раз разделили с ним двое из трех членов его команды. Симонову, Горбатову и Агапову были присуждены Сталинские премии. Ему — за пьесу «Под каштанами Праги».
Спустя еще два месяца, когда они уже возвращались поездом домой, в Хабаровске в их вагон вошли два полковника. Представившись, сообщили Симонову, что в Чите, то есть примерно через сутки, ему предстоит пересесть в самолет, ибо уже через неделю он должен будет вылететь из Москвы вместе с Ильей Эренбургом и генералом Галактионовым в Соединенные Штаты.
— В Чите, товарищ Симонов, вас встретят, — заключили они свое сообщение.
— А писать о Японии за меня будет Иисус Христос? — только и нашелся он что сказать им в растерянности.
Они располагающе, совсем не по-военному, пожали плечами и, откозыряв, попросили разрешения быть свободными.
А он сидел в окружении безмолвствовавших какое-то время друзей и соображал, как же, действительно, теперь быть с этими полутора тысячами надиктованных страниц? С почти готовыми уже первыми главами документального повествования о Японии? Как объяснить все это дома, где и без того уже выражали недовольство его долгим отсутствием? В то же время какое-то глубинное чувство, то самое, что испытал и при звонке Ильичева три месяца назад, и которое всегда было тут как тут в подобные минуты, подсказывало: ничего, все уладится, он все успеет сделать и все сумеет объяснить.
Итак, снова приказ, снова дорога и неведомое, снова разлука и стихи о ней... Он снова себе не принадлежал. Заклятое... и благословенное состояние.
Япония была поверженным врагом. Америка недавним и, наверное, все еще, несмотря на фултоновскую речь Черчилля, заставшую его в Японии, союзником. Там — руины, здесь — хрестоматийный абрис небоскребов. И тут же мысли о Чаплине, о нашедших там пристанище великих немцах — Фейхтвангере, Брехте, с которыми непременно следует встретиться, непроизвольные ассоциации с Горьким, Маяковским, в «заграничные» прозу и стихи которых надо заглянуть сразу же по прилете в Москву.
Рядом будет Илья Эренбург, отношения с которым совсем не те, что, например, с Кудреватых, Агаповым и даже Борисом Горбатовым.
Он предчувствовал, что постоянное присутствие Эренбурга будет стеснять его. Что делать? Жизнь снова, и в который уже раз за последние годы, поворачивалась так, что он — и возрастом помоложе и опытом победнее — оказывался на одном уровне с людьми, на которых с молодых еще ногтей привык смотреть как на гигантов.
Явно он своего смущения в таких ситуациях никогда не показывал, держался браво, на всякие попытки патронировать или покровительствовать всегда и сразу находил, как говорится, адекватный ответ. Сам первым ни с кем, даже с самыми малыми и сирыми, на «ты» не переходил, но и в долгу в случае чего не оставался.
Разница в шестнадцать лет, отделявшая меня от Симонова, всегда казалась слишком малой, чтобы объяснить неодолимость дистанции, лежавшей в моем представлении между нами, особенно в пору заочного знакомства. Симонов был моложе Эренбурга на двадцать с лишним лет.
Написанное им в сорок втором году предисловие к «Падению Парижа» Эренбурга было по форме словом одного военного корреспондента «Красной звезды» о другом. Но надо было перечитать его, чтоб понять, какое это было искреннее, неприкрытое и почтительное объяснение в любви — младшего старшему. При сохранении, однако, полного уважения к самому себе, тогда уже тоже хлебнувшему лиха, кое-что значившему и кое-что доказавшему.
В «сутуловатой фигуре в мешковатом штатском костюме», это когда все военные корреспонденты, в том числе и он, Константин Михайлович, щеголяли в форме, в его зычном при худосочных габаритах голосе, в привычке с нарочитой отрешенностью говорить о самых неожиданных вещах, в его ощущении аудитории, будь то спутники по командировке или многомиллионный читатель очередного памфлета в «Красной звезде», ему, Косте, чудился в ту пору идеал, которому он не постеснялся бы поклониться прилюдно.
Встречались они в войну не так уж часто, а теперь предстояло провести с идеалом, что называется, бок о бок не менее трех месяцев. Поначалу это занимало его, может быть, не меньше, чем сама обрушившаяся на него возможность встречи с Америкой.
1946 год, первый послевоенный год. Соединенные Штаты Америки. Симонов и Эренбург, как их называла американская пресса, Эренбург и Симонов, как об этом говорил он сам. Это была не просто командировка — миссия.
Даже на войне он был летописцем, всего лишь военным корреспондентом, как настойчиво подчеркивал во всех своих биографических заметках. Здесь он сам становился воином нового, возникавшего после фултоновской, в марте 1946 года, речи фронта — Холодной войны.
Еще одно, пусть только для меня имеющее значение, совпадение, но я впервые побывал в Америке через пятнадцать лет после него. Другими словами — почти в его возрасте. То был год и даже месяц апрельского взлета Гагарина. Никогда не забуду ощущение, сходное, наверное, с ощущением пилота, самолет которого оказался на скрещении лучей прожекторов. Оно возникло сразу же при выходе на трап и сопровождало меня весь тот удивительный месяц. Как и мой герой, я не всегда был способен правильно истолковать его.
Здесь, в Штатах, чей силуэт был, конечно же, вычерчен для него по общему для всех его сверстников лекалу Марком Твеном и Брегом Гартом, Джеком Лондоном и Лонгфелло, Теодором Драйзером и Говардом Фастом, он вдруг обнаружил себя... самым популярным советским писателем. Как ни смущался он перед лицом скептически дымившего трубкой Эренбурга, никуда было не уйти от признания этой истины. «Дни и ночи», уже неоднократно издававшиеся в США, как раз перед приездом вошли в десятку самых популярных в стране изданий. «Жди меня» готов был цитировать, узнав его, чуть ли не каждый встречный на улице. По крайней мере две-три его пьесы шли или готовились к постановке на многочисленных театральных подмостках Нью-Йорка, Вашингтона, Сан-Франциско, Бостона... Люди, имена и облик которых еще вчера были для него лишь символом, звуком, посылали свои визитки и приглашения, подходили и представлялись на приемах, просили автографы... Брехт, Фейхтвангер, Лилиан Хелман, Гарри Купер, Ганс Эйслер, Артур Миллер, Джон Стейнбек... Хемингуэй, живший тогда уже на Кубе, прислал письмо и пригласил Симонова погостить у него под Гаваной, сходить с ним и с одним его старым знакомым на рыбалку. Не с тем ли самым стариком, которого он потом обессмертил...
Чарли Чаплин. Стоило появиться в Голливуде и заикнуться о возможности встречи с ним, как свидание было назначено. Правда, пришлось просидеть два часа в обществе переводчика на студии, прежде чем Чаплин вышел к нему, преувеличенно извиняясь — сам в застиранной клетчатой рубашечке, в джемперочке на пуговках, в серых, тоже стареньких шерстяных штанах с латками.
Опоздание объяснил невозможностью прервать репетиции и тут же пригласил присутствовать на их продолжении, чего, как ему тут же объяснили сопровождающие, не позволял никогда никому. Снимал он в то время «Комедию убийств», или «Месье Верду», тут же сунул ему в руки сценарий, правда, на бесполезном для гостя английском.
Конечно же, гость не замедлил отнести такой невероятный жест на счет симпатий к великой стране, которую представлял. На репетиции сидел безгласно, наблюдая, как этот совсем не похожий на собственное изображение в кино человечек управляется с артистами, бегая по студии и то и дело приговаривая словно заклинание какое: «Это будет смешно, это будет безумно смешно!» После этого, уже по инициативе Чаплина, они встречались еще много раз, что уже нельзя было объяснить иначе, как внезапно вспыхнувшей личной симпатией великого человека к гостю из загадочного и пугающего Советского Союза.
Однажды дело дошло до того, что будучи привержены оба японской старине, они на ужине, который давал Чаплин, опустились на четвереньки и приветствовали друг друга на манер пантомим Кабуки... Можно себе представить эту картину, особенно если вспомнить, что один из них, тот, что моложе, был чуть ли не вдвое длиннее другого.
Не любивший оставаться в долгу Симонов закатил Чаплину ответный обед на русский манер: на борту советского нефтяного танкера, который стоял тогда в порту Лос-Анджелеса, благо деньги у него были — он получал кучу гонораров за «Дни и ночи» и военные пьесы.
В других случаях он тоже тратил эти свои гонорары так, что это не могло не импонировать окружавшим его американцам. Подарки для семьи и друзей — это было как бы между делом. Основное ушло на белье, мебель и оборудование для детского дома под Смоленском, откуда он был уже избран депутатом в Верховный Совет. В конце концов жестом купца — ассигнации на бочку! — он купил санитарную машину для этого детдома, которую при нем же отправили в Союз попутным судном...
Америка любит, это у нее в крови, мифы о сильных, находчивых, обаятельных, в один день становящихся и богатыми, и знаменитыми. Этот приехавший вслед за своими книгами из далекой загадочной России тридцатилетний пилигрим стал героем ее, Америки, романа. Она ощущала в нем неподдельный интерес и уважение к себе и щедро платила признательностью.
Регулярно повторявшиеся выходки херстовских журналистов, которые стали потом персонажами многих его произведений, представлялись равно чужеродными как ему, Симонову, так и тем, кто ему симпатизировал и опекал его.
— Убирайтесь, сейчас же убирайтесь отсюда к черту, — кричал на них маленький Чаплин, упиваясь второй тарелкой флотского борща в кают-компании советского танкера.
Вскоре после приезда в США советским гостям предложили разделиться и каждому выбрать для себя маршрут, какой душе угодно.
Генерал-майор Галактионов поехал в Штаты исключительно в силу уважения к приказу и здесь чувствовал себя часовым, несущим многосуточную бессменную вахту. «Каждый день с иностранцами — какая это пытка», — сорвалось у него однажды с языка. Он попробовал было остаться в Нью-Йорке, где было много советских дипломатов и служащих, но вынужден был все же поехать в Чикаго знакомиться с работой крупных газет.
Для Константина Михайловича пыткой было бы скорее находиться круглыми сутками в обществе старого язвительного сатира, о котором никогда не скажешь с уверенностью, о чем он думает, глядя на тебя своими загадочными, как само еврейство, глазами. Иронизирует, поди, и над молодостью его, над его пристрастием к гаванским сигарам, что даже попало в прессу, над восторженностью и над глубоким прочным чувством наслаждения, которое он круглосуточно испытывал, сознавая, что «Дни и ночи» стали здесь в США бестселлером.
Он с удовольствием откликнулся на предложение разделиться, выбрав для своего путешествия Голливуд из-за Чарли Чаплина и вообще кино, к которому все больше прикипало его сердце.
Илья Эренбург с его обнаженной, почти болезненной чувствительностью к расовым вопросам, назвал Юг — хотел разобраться в том, что с ранних лет представлялось для него загадкой — с положением негров в Америке.
Однако, по возвращении, когда они воссоединились, он мог говорить только об Эйнштейне.
— Я, — восклицал он, нимало не стесняясь непривычной для него экзальтации, — пережил изумление подростка, который впервые видит необычайное явление природы —меня повели в Принстон, и я оказался перед Альбертом Эйнштейном... Все меня изумляло, а больше всего то, что я сижу и пью кофе с Эйнштейном.
На Константина Михайловича особое впечатление произвело то, что Эйнштейн интересовался Сталиным. Правда, интерес этот был несколько наивным — американизировался великий старец и думает, что у нас все так же просто, как у них здесь, в Америке. Спросил Эренбурга, часто ли он встречается со Сталиным, а тот, оказывается, это и для Симонова было неожиданностью, — вообще ни разу с ним не разговаривал.
— Жалко, — подал реплику великий ученый, — мне хотелось бы узнать о нем как о личности.
Симонов поймал себя тогда на том, что никогда не задумывался о Сталине в таком качестве. Быть может, он даже впервые тогда осознал, что о Сталине вообще можно думать в такой плоскости. И уж во всяком случае он понятия не имел, что загадка Сталина будет занимать и мучить его всю вторую половину его жизни и что он уйдет, так и не разрешив ее для себя.
Завершились их хорошо организованные американцами скитания по Штатам поездкой в Канаду. Оттуда они вернулись на два дня в Бостон и, погрузившись на французский теплоход «Иль-де-Франс», до войны почитавшийся за верх комфорта и роскоши, направились домой с остановкой во Франции.
Неожиданно дни в Канаде оказались самыми напряженными, хотя они туда направлялись с мыслью об отдыхе от Штатов. В стране проходил суд над канадцами, обвинявшимися в выдаче военных тайн Советскому Союзу. Они и попали с ходу в эту кашу. Приемы, журфиксы, пресс-конференции, посещение знакомых—все превратилось в сплошную нервотрепку, которая особенно мучительной была для Галактионова. Он физически страдал от поношений в адрес страны, которую представлял.
Было тяжело, неуютно, порой просто погано. Но, разгуливая теперь по палубам «Иль-де-Франс», Константин Михайлович ловил себя на мысли о том, что не будь у них Канады и всего, что с ней связано, поездке не хватило бы завершенности, а его наступательным строфам, которые уже складывались в голове, убедительности.
По правде сказать, Америка все же встретила их радушно, если не считать одинаковых, видно, во всех западных странах газетчиков. И порою со свойственной ему добросовестностью он даже испытывал некоторое беспокойство за столь надежно и удобно служившую ему еще с первых дней в Японии концепцию — война продолжается, только иными средствами, и он, Симонов, по-прежнему на переднем ее крае.
Фултоновская речь Черчилля в самый канун их отъезда из Японии прозвучала для его чуткого к звукам боевой страды уха как вызов на поединок, а переданное буквально по дороге из Токио в Москву указание лететь в Америку рисовалось командировкой прямо на линию огня. Но, словно Дон Кихоту, ему с недоумением приходилось оглядываться вокруг в поисках заколдованного противника.
Американцы, с их привычкой свободно судачить обо всем, порой искренне удивлялись резкой реакции гостей и однажды даже предложили Эренбургу, которого пресса назвала как-то «самым ярким и самым агрессивным», таблетки, искренне посчитав его филиппики результатом плохого самочувствия.
В Канаде все было по-другому. Там они словно бы заглянули во второй акт пьесы под названием «Холодная война», которая в Соединенных Штатах пока разворачивалась лишь на уровне случайных реплик.
В Сан-Франциско, сидя на банкете на двадцать первом этаже рядом с «владельцем здешних трех газет», надо было проявить незаурядную фантазию и воображение, чтобы представить этого респектабельного янки в виде «тигра, залезшего телом в полосатый костюм из грубой шерсти рыжеватой» с «тигриною улыбкою зубастой и толстой лапой в золотой шерсти». В Канаде, на митинге в Торонто, взрыв антисоветской истерии действовал на нервы, как долгожданный дождь посреди жаркого засушливого лета. Легко и яростно было отвечать на вражеские выпады. Сами собой теперь, пока он разгуливал по палубам лайнера, складывались строки:
Мы были предупреждены
О том, что первых три ряда
Нас освистать пришли сюда
В знак объявленья нам войны.
Что только не выплескивалось, какую только грязь не предлагали им глотать в Канаде, да в последние дни и в Штатах. Самое же отвратительное и непорядочное заключалось в том, что ссылались на сведения, якобы полученные только что из Москвы. На то, например, что там назревают новые чистки, на этот раз среди интеллигенции, что, насадив шпионов по всему свету, Москва, мол, сама больна шпиономанией, и Сталин видит врага в каждом, кто возвращается с войны в форме солдата или офицера Красной Армии.
В прессе писали по этому поводу несусветное. Они дружно давали отпор всей этой галиматье на собраниях, конференциях и торжественных обедах.
Константин Михайлович продолжал возмущаться и на корабле наедине со своими спутниками и тогда ловил на себе какой-то странный взгляд Ильи Григорьевича, читал в нем глубоко запрятанный вопрос, смысла которого никак не мог разгадать.
Да и Галактионов опускал очи долу и спешил при первой же возможности улизнуть к себе в каюту. Ему ничего не оставалось, как отнести эти странности на счет личных перипетий в судьбе его товарищей по путешествию.
Незадолго до конца войны Эренбург сам пережил драму недоверия, когда в «Правде» появилась статья академика Александрова, главы агитпропа ЦК, под названием «Илья Эренбург упрощает». Теперь это было дело прошлое, и Илья Григорьевич рассказывал об этом в их поездке с неизменной сардонической усмешкой, свирепым пофыркиванием, разбрасыванием пепла из трубки. Не говоря этого прямо, не называя никаких имен, кроме александровского, Эренбург давал понять, что его, что называется, употребили, использовали в качестве мальчика «не первой, увы, молодости» для битья. Понадобился оселок «еврейского происхождения», бросил он совсем уж как бы ненароком, на котором удобно было бы отточить кое-какие идеи, например, ту, что воевали мы не с немецким народом, а с фашизмом. Все это было тем более нелепо, что вызвавшая начальственный гнев статья самого Эренбурга как раз это самое и утверждала. Как ни бодрился Илья Григорьевич, чувствовалось, что нанесенная ему нежданно-негаданно рана продолжала болеть.
Странности третьего члена их маленького экипажа, Михаила Романовича Галактионова, тоже были не случайными. В 37 году честнейший и преданнейший Михаил Романович был, по словам Эренбурга, контужен ударной волной «ежовщины». Арестовали кое-кого вокруг него, а его самого обвинили в недостатке бдительности, чуть ли не в пособничестве врагам народа. Чудом каким-то не арестовали, но исключили из партии, лишили звания, уволили с работы и из армии. Справедливость, однако, восторжествовала. Уже через полгода он был восстановлен в партии, направлен в «Красную звезду», где верно, самоотверженно служил до последних дней войны, на заключительном этапе даже в качестве члена редколлегии. Командировка в Штаты для него была чем-то вроде окончательной реабилитации, выражением высшей формы доверия, и его, чувствовалось, денно и нощно страшила мысль не оправдать это доверие, оказаться не на высоте. «Я слишком много пережил», — непроизвольно обронил он однажды, пытаясь объяснить какую-то очередную неловкость своего поведения.
Не пройдет и двух лет, — вспомнит через десятилетия К.М. — и Галактионов, находясь в глубокой депрессии, выстрелит себе в висок. Эренбург еще раньше будет ночь за ночью, без сна, прислушиваться к шагам и шумам на лестничной клетке.
Константин Михайлович, которому тогда было невдомек, почел за благо углубиться в личное. По коротким и редким весточкам из дома он чувствовал, что заданный им и в письмах, и в первых стихах на японском материале тон — прямо не высказанное, но прочитывавшееся в каждой строке предложение считать, что рожденная войной модель сосуществования продолжается, там, что называется, не проходил.
Пора, пора, видно, было осесть на месте, остепениться. Из Военкора окончательно превращаться в Константина Михайловича. Но впереди был еще Париж.
В порядке возмещения морального ущерба Эренбург выговорил себе у Александрова право на обратном пути задержаться во Франции, освежить в памяти впечатления о местах, событиях и людях, которые могут войти в его новый роман. Он уже начал над ним работать, и известно было, что называться роман будет «Буря».
Полученное разрешение Эренбург на правах старшего великодушно распространил на своих спутников.
В Париже, как и в Штатах, они сразу же оказались в водовороте имен и событий. Луи Арагон и Эльза Триоле пригласили своего старого друга Илью, а заодно и Симонова, которого знали только по имени, на «Чердак», так называлось место, где функционировал Комитет французских писателей. Здесь словно ожили строки Литературной энциклопедии, он увидел Элюара, Кокто, Сартра... Эльза Триоле, Эльза Юрьевна, как она просила к ней обращаться, была окутана особым ореолом — сестра Лили Брик, подруги Маяковского.
В другой раз они попали в общество политиков высшей категории. На фото запечатлены: Симонов читает стихи, а за столом — Эррио, Бидо, Морис Торез, Ланжевен и посол Богомолов.
Среди первой волны русских эмигрантов, где никто не мог остаться равнодушным к тройке из Совдепии, царило смятение и воодушевление. Война, пережитая ими всеми оккупация Франции, движение Сопротивления, а к нему вольно или поневоле прикоснулся каждый, — все это было вроде гигантской купели, окунувшись в которую люди рождались заново, каждый на свой особый лад. Появилась новая точка отсчета. Вернее точка осталась прежняя — отношение к Советской России, но полюса как бы поменялись местами. Если до войны и оккупации неприличным было видеть хоть что-то хорошее в большевиках, то теперь остракизму подвергались те, кто упорно взирал на покинутую Родину с довоенных позиций. Какие бы они, эти большевики, ни были, а именно моя страна, мой народ свернул голову фашизму!
В героях теперь ходили среди русских эмигрантов те, кто хоть чем-то, хоть демонстрацией презрения к нацистам, внес свой вклад в их низвержение.
Бунин, написавший после революции «Окаянные дни», в ту пору более всего воодушевлен был своим собственным вызывающим поведением по отношению к немцам — оккупантам Парижа. Если человек его возраста и его таланта, всемирно признанный и увенчанный Нобелевской премией, еще сохраняет способность гордиться чем-то особенно, то Бунин гордился именно этим. Тем, что он уже 22 июня 1941 года вложил свой меч, наостренный против красной Московии, в ножны, демонстративно отказался от каких бы то ни было контактов с оккупантами, открыто, не таясь слушал московское радио. Когда начались салюты, выпивал вместе со своим другом-врачом по рюмочке за каждый взятый Красной Армией город. То же чувство побуждало его переходить на другую сторону улицы при виде иных соотечественников — коллаборационистов.
Еще не забыта была вздорная выходка Мережковского, который в декабре сорок первого года, выступая по немецкому радио, провозгласил нашествие фашизма на Россию «гласом трубы Архангела, возвестившего Страшный суд».
Бунин стоял теперь на распутье. Ходил на встречи в советское посольство, выслушивал речи приезжавших в Париж из Москвы победителей, внимал, не размыкая уст, спорам своих товарищей по эмиграции и, как жаждущий припадает к источнику, погрузился в собеседования с молодым, но хорошо известным уже и во Франции писателем Симоновым.
Он впервые увидел и услышал Константина Михайловича на одной из встреч, которые советский посол Богомолов во множестве устраивал тогда. В тот раз в концертном зале собралось около полутора тысяч человек. Симонов выступал одним из первых, и публика, конечно же потребовала «Жди меня», потом «Ты помнишь, Алеша...» Его долго не отпускали, а затем кто-то подвел к Бунину.
Даже в этой круговерти людской знакомство с Буниным — особая статья. Первое ощущение было то же, что и в Америке — с Чаплиным, живой гений, великий старец, с детства знакомые облик и строки. В семье, особенно у сестер матери, имя Бунина никогда не было под запретом... «Господина из Сан-Франциско» он прочитал еще в школе. Чуть ли не наизусть помнил все немногое, что можно было заполучить дома, а в сорок четвертом — в Белграде, где он попал в русскую библиотеку. Здесь он проглотил «Лику», «Жизнь Арсеньева», ну и, таясь от старика-смотрителя, тоже белого эмигранта — «Окаянные дни». Эта вещь ничего, кроме протеста, не вызвала, но и восхищения этим классиком серебряного века нашей литературы не подорвала. Великие люди тоже не свободны от заблуждений.
Видя их стремительное сближение, посол Богомолов, возможно, имея даже соответствующие инструкции, просил «как-то душевно подтолкнуть Бунина к мысли о возможности возвращения». Охотно взяв было на себя эту неофициальную миссию, Симонов, обычно быстрый в решениях и решительный в поступках, сразу же почувствовал, какую непосильную ношу на себя взвалил.
Бунин вспоминал о встречах с Алексеем Толстым, с раздражением говорил о Куприне, который «вернулся домой уже рамоли», т.е. развалиной физической и душевной, бременем для окружающих. Ветром истории дуло от таких имен и таких судеб. Представлялось символичным, что жизнь Бунина на закате ее так неожиданно переплелась с его собственной.
С увлечением он описывал Москву, наших людей на войне, что пришлось им выстрадать. Что предстоит сделать, созидая свой коллективный, в одну шестую земли дом. Он словно бы сам заново обозревал все, о чем говорил, — такое знакомое и родное; вновь и вновь проникался любовью ко всему этому, не скрывая тех чувств, с которыми будет писать скоро «Дым отечества». И — странное дело — все отчетливее представлял себе, как много непонятно, тягостно и чуждо Бунину из того, что мило и дорого ему.
У него было много возможностей заморочить старику голову в те их частые встречи в Париже. И когда водил он его, «бедного, но гордого», в самим Буниным выбранный ресторан, благо и в Париже вышли у Константина Михайловича две книги. И когда, получив приглашение к нему домой, решил, как и там, за океаном, с Чаплиным, блеснуть дарами русской кухни. Для чего заказал своим домашним по телефону и с помощью ребят-летчиков как раз к ужину заполучил московский «харч»: черный хлеб — мечта каждого русского за границей, сосвинскую селедочку и любительскую колбасу... Бунин ломоть за ломтем клал на горбушку «большевистскую колбаску» и рассуждал вслух о том, почему он хочет и не хочет возвращаться домой, почему следовало и не следовало бы это сделать.
Ссылался на возраст:
— Поздно, поздно... Я уже стар, и друзей никого в живых не осталось... Один Телешов, да и тот, боюсь, как бы не помер, пока приеду...
На привычки — очень привык к Франции, как-никак уже двадцать пять лет здесь, к быту — к квартире, к прогулкам, к образу жизни...
На прежние грехи свои перед Родиной, от которых и теперь вполне не отрекался. Кружил вокруг этой темы, как старый орел, поднявшийся последний раз в небесную высь, чтобы выискать взором такое местечко внизу, на которое можно бы упасть камнем и разбиться наверняка.
— Здесь ли я останусь, или уеду, — повторял он как заклинание, — вы должны знать: я, написавший все, что я написал до сих пор по отношению к России, к тем, кто сейчас живет там и кто ею правит, абсолютно чист...
Мысль о поездке его и пугала, и соблазняла. Чувство звало на работу, разум останавливал.
Он все как будто ждал от этого пришельца из другого, неведомого уже, хоть и сохранившего родные до обморока очертания мира, что вот-вот он произнесет какие-то особые слова, они разрушат все сомнения и побудят наконец принять то решение, которого он сам так мучительно хотел и так боялся.
Константин Михайлович сидел, слушал, упивался строем и звуками старинной русской речи, но слов тех особых не говорил: он не находил их у себя в сердце. Как ни молод, ни безогляден был, понимал — это у него было чуть ли не с пеленок и всегда приходило само собой в самую нужную минуту, — что с такими сюжетами не шутят. А если шутят, то попадают прямехонько в ад, на ту самую сковородку, которую этот удивительный старец в своих произведениях с блеском описывал.
Не раз потом, жарясь на этой самой сковородке, он вспоминал дарованные ему случаем встречи. Не раз горько сожалел, что не прошелестел еще раз над ним своим крылом тот ангел, который уберег его от роковой ошибки летом 1946 года.
...Постановление о журналах «Москва» и «Ленинград» появилось сразу после возвращения в Москву. Эренбург еще оставался в Париже. Первая мысль была, странное дело, о Бунине: «Теперь уж наверняка не поедет». Через месяц-два узнал, что Бунин в Париже выступает плохо, делает антисоветские заявления.
Вскоре случилось и то, что, в его представлении, в том или другом виде обязательно должно было случиться. Настолько-то он уже изучил почерк «верхов», чтобы понимать, что все это не просто совпадение: и его архиответственные поездки за рубеж, и выборы в Верховный Совет, и Сталинская премия... Ему было предложено стать главным редактором «Нового мира». Добавлено было также, что имеется в виду рекомендовать его для избрания первым заместителем генерального секретаря ССП, т.е. Александра Александровича Фадеева. Давно уже для него Саши.
Он понимал — на литературном фронте создалась критическая ситуация, и его кидают на прорыв. На то, что все идет от Хозяина, от Сталина, недвусмысленно намекнул пригласивший его на беседу в ЦК академик Александров.
Напомнив для порядка Александрову о своих «долгах» по Японии и Соединенным Штатам, он, разумеется, и не пытался отказываться. Засел готовить для агитпропа специальную записку, для чего в Ленинской библиотеке, усердно глотая пыль десятилетий, перелистал несколько годовых подборок журналов «Современник» и «Отечественные записки». Несколько номеров того и другого прочитал — не поленился — от корки до корки. Это дало ему главную идею: журнал не должен быть просто альманахом прозы и стихов с некоторой процентной нормой критических статей. Наметил новую структуру редакции и изложил задачи основных ее отделов. В том числе и иностранного, которому негоже быть просто переводческой конторой. Он должен смыкаться с публицистикой и вести активную наступательную линию против буржуазных влияний и теорий в искусстве.
Далее следовали соображения о составе редколлегии. Тема особенно щекотливая, поскольку в нее к тому времени были автоматически включены все самые известные и самые влиятельные писатели. Тут на помощь Константину Михайловичу пришел его небогатый, но уже работающий опыт общения с сильными литературного мира сего—в Японии, Штатах и Франции. Этот опыт научил его: проявляя естественное Уважение к старшим, надо тем не менее — если не хочешь потерять себя и желать чего-то добиться — уметь гнуть свою линию. Мягко, но твердо и бескомпромиссно. Он ставил непременным условием право включать в состав редколлегии тех, кто сможет там работать на совесть — Бориса Агапова, Александра Кривицкого, с которым бок о бок работал всю войну в «Красной звезде». Предложил он также пригласить малоизвестного еще Александра Борщаговского, который бурно стартовал сразу и в критике, и в прозе, и в драматургии.
О корифеях — особый разговор. Раз редколлегия должна быть работающей, значит каждый член редколлегии обязан руководить отделом. Одним, а то и двумя. Это непременное условие. Исключение из него он согласен, да и то с оговорками, сделать только для Шолохова, ибо имя Шолохова и двадцатилетняя традиция печатания его произведений именно в этом журнале делают необходимым это исключение. Однако и ему тоже будут посылать в Вешенскую на прочтение и отзыв большие прозаические произведения, поступающие в журнал.
Даже Федину счел он возможным и необходимым предложить жесткие правила, и тот принял их; даже Катаеву, который тоже числился в корифеях. Тот фыркнул и попросил вычеркнуть его фамилию из списка.
Мысля себя требовательным и рачительным хозяином, Константин Михайлович выставил и ряд пунктов практического характера. Он хотел, чтобы редакция одного из ведущих в стране литературно-художественных, а теперь одновременно и общественно-политических журналов напоминала, хоть отдаленно, прибежище муз, а не задрипанную контору типа «Рога и копыта». Именно это сравнение приходило в голову всякому, кому доводилось побывать в первые послевоенные годы хотя бы в одной из журнальных редакций Москвы. Он не без сарказма обрисовал в записке Александрову те «сараи, обставленные несколькими канцелярскими столами и колченогими стульями», которые ему показывали в «Новом мире». Он позаботился о возможности «предложить собравшимся по тому или иному поводу писателям просто-напросто чай и печенье» и о том, чтобы редакция была обеспечена необходимым количеством журнальной периодики.
Перечитав много лет спустя эту записку, Константин Михайлович заметит: то была нормальная реакция нормального человека, исходившего из того, что он живет в нормальном, справедливой, в принципе, мире, где все в конечном счете определяемо и управляемо и где, если очень постараться, можно устроить все так, чтобы было хорошо и правильно для тебя, а тем самым и для окружающих.
Он стремился к норме на работе, быть может, и потому, что аномалий ему хватало дома.
Он обосноввался в «Новом мире» так, как будто бы редактирование толстых журналов всегда было и всегда будет его единственным делом в жизни.
В ту же практически пору он написал вторую, не менее основательную записку — относительно будущности Союза писателей. Если бы даже предложение стать первым заместителем Фадеева было лишь почетным приложением к его посту редактора «Нового мира», он не намерен был относиться к этому формально.
Оказавшись сразу на двух командных постах в литературе, он жаждал творить добро и чувствовал себя и вправе, и в силах делать это. Добром для него было исправлять недостатки, на которые указала партия в постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград», а затем в докладах Жданова, и предотвращать вполне возможные перегибы. Самому продолжать писать, собственным творчеством создавать то, к чему призвала партия. Тут у него было столько возможностей и столько долгов!
Вопияли о себе нерасшифрованные записи военных дневников, не давали покоя сюжеты будущих повестей и романов о войне. А тут еще тишайшая Муза Николаевна напоминает о «Вавилонской башне» японских записей. Голосом десятков редакций и разного рода официальных присутствий взывает телефон и на службе, и на новой квартире, требуя очерков, статей, докладов, отчетов, лекций и стихов об Америке, о Франции, о Канаде. Не в силах удовлетворить сразу все эти запросы, он всей душой понимает их резонность. Есть еще семья, дом, любовь.
Ничто не могло быть для него большей наградой, чем сознание того, что он сделал, что мог. Ничто так не огорчало, как незаслуженные упреки. Когда его переводчик американец Бернард Котен допек упреками за молчание, Константин Михайлович сел и написал ему в сердцах следующее послание:
«Что я могу сказать в свое оправдание? Как только вернулся в Москву, меня поглотило огромное количество дел — общественных, административных, журнальных и т.д. Одних должностей, каждая из которых может занять время человека с утра до вечера, у меня четыре. Тем не менее я осень проработал над пьесой «Русский вопрос», о которой ты, наверное, уже кое-что слышал... В результате всего этого я получил нервное воспаление рук, ходил всю осень с завязанными руками, не имея возможности даже ни с кем поздороваться, а потом вообще свалился от переутомления (не забудь, четыре года войны, потом поездки и все без отдыха), провалялся вторую половину декабря в постели...»
Как бы ни изнурительна была эта его новая жизнь, он, маясь, насаждался ею. Он снова, как в дни войны, в том состоянии, которое одно способно доставить ему блаженство — делать то, что, он уверен, сейчас нужнее всего. Тем более, что получается как будто неплохо. Редактор, в его представлении, должен быть человеком вдумчивым, но решительным. Быть осмотрительным, но уметь и рисковать, если потребуется.
Жизнь представлялась исполненной некой внутренней, быть может, ему одному только и видимой, но, безусловно, существующей гармонии. Даже необходимость разрываться между трудом литературным и кабинетным, «казенным», была частью этой гармонии. В кабинетах власти он претворял в соответствии с установками и собственным разумением политику в жизнь, в произведениях своих раздумьях над происходящим.
Нравилось это его близким или нет, но дом его, первая, заслуживающая этого громкого названия квартира на Ленинградском шоссе, недалеко от Беговой, зачастую напоминала кабинет редактора, а в редакции было, пожалуй, даже уютнее, чем дома. Сработало-таки письмо Александрову, были выделены необходимые средства на чаи с бубликами и пирожными для гостей и заседаний редколлегии, выброшены все колченогие стулья и кушетки с торчащими наружу пружинами, перекосившиеся шкафы времен Очакова и т.д. За порядком следила неизменная Муза Николаевна, а чуть позже и Нина Павловна, которым он, едва выдавалась пауза в редакционной суматохе, диктовал то сцену из пьесы, то стихотворение, а то какую-нибудь докладную или отчет об очередной заграничной командировке.
Вместе с новой мебелью появились в редакционных кабинетах новые люди. Ответственным секретарем редакции, начальником штаба, так сказать, стал неизменный Кривицкий. Прозой ведал другой Саша — Борщаговский.
Борщаговский родился несколькими годами раньше Симонова, но так уж пошло со дня первой их встречи, которая случилась в 1940 году, летом, под Житомиром, где квартировал тогда окружной военный театр, в котором Борщаговский подвизался в качестве завлита, он привык смотреть на Симонова как на старшего.
Летом сорокового Костя приехал в лагерь танкистов под Житомиром на премьеру своей первой пьесы, которую поставил военный театр. Он искренне похвалил артистов и обещал написать для театра новую пьесу, хотя заключить договор и получить аванс отказался, как ни старался главреж вручить ему эти деньги для закрепления согласия.
— Напишу и сразу вам, — на полном серьезе уверял Костя. — Сразу телеграмму и экземпляр из первой закладки.
Тогда им все это казалось трепом, привычным в театральном и литературном кругах. От молодого москвича, который сам казался им Алешей Марковым, героем «Истории одной любви», веяло силой, успехом, предощущением своей судьбы — как тогда же определил для себя Борщаговский — и потому слабо верилось в то, что, уехав из лагеря, он когда-нибудь еще вспомнит о скромном военном театре.
Случилось все так, как было говорено. Телеграмма пришла через несколько месяцев. В театре вспомнили, что ближе всех на почве их общей любви к Киплингу с Симоновым сошелся Борщаговский и посему признано было целесообразным командировать в Москву именно его. Здесь-то, встретившись в симоновском «мужском неуютном жилье» — странной пятиугольной комнате с покатым полом, они и перешли на короткое Шура и Костя, хотя на «вы» оставались до последнего расставания.
Новая пьеса, за которой Борщаговский отправился в Москву, была «Парень из нашего города». 21 июня 1941 года театр сыграл ее на одной из погранзастав, подо Львовом, за несколько часов до первых прогремевших над ними взрывов разразившейся войны. Театр всю войну играл эту пьесу.
Предложение Константина Михайловича стать членом редколлегии «Нового мира» и взять на себя чуть ли не главный раздел журнала — прозу, которой он, запойный театрал, мало тогда интересовался, Борщаговского ошеломило. Он не преминул привести все приличествующие случаю и долгу порядочности возражения. Он, например, всего несколько месяцев назад был принят в Союз писателей. И вообще, бормотал он смущенно, предложение скорее всего навеяно эмоциями.
Константин Михайлович серьезно, но с лихостью отводил один за другим эти вполне понятные доводы. Не такой он, Симонов, человек, и Щура имел, надо полагать, возможность не раз в этом убедиться, чтобы брать, что называется, за красивые глаза, под влиянием каких-либо ностальгических настроений. Он — и ему, Борщаговскому, надо это учесть — все заранее обдумал. Ему нужен единомышленник, который, однако, не прятал бы в кармане собственное мнение, способен был бы и подраться за него, а если надо, то и наступить ему, шефу, на любимый мозоль. Такое между ними уже бывало в войну.
Фадеев дал своему первому заместителю по Союзу писателей полную волю в подборе сотрудников для журнала, но с кандидатами в члены редколлегии попросил знакомить заранее. Смотрины Борщаговскому Константин Михайлович решил устроить дома, в отсутствие жены, которая собиралась на репетицию в театр. Маруся, их домработница, поставила по его просьбе на стол сразу все, что заготовила, и удалилась на кухню.
Валя протянула привычным жестом Фадееву руку для поцелуя и, искоса глянув на Борщаговского, словно догадываясь, что тому не нравится ни пьеса, ни фильм «Жди меня», тоже исчезла. Со вздохом...
Фадеев говорит с Симоновым о делах литературных с пугающей новичка Борщаговского откровенностью. Его же будто и не замечал.
Пожаловался Фадеев, в частности, что Ангелину, то есть Степанову, жену его, артистку МХАТа, заставляют играть в жуткой пьесе Корнейчука «Мечта». Симонов, тыкая вилкой в блюдо с селедкой, порекомендовал ему обратить на недостатки пьесы внимание автора. Борщаговский простодушно поддакнул. Фадеев внимательно посмотрел на обоих и сказал, обращаясь только к Симонову: «Я Корнейчуку ничего советовать не буду и тебе не советую».
Без какой-либо видимой связи с предыдущим, но продолжая, видимо, мысленно жить в том, о чем только что говорили, Фадеев вдруг воскликнул: «Хорошо было пиратам — поднял черный парус и пошел куда хочется, никто тебе не закон».
Хозяин счел за благо предостерегающе взглянуть на второго гостя — без комментариев!
Фадеев выпил, не пьянея, несколько рюмок водки, сопровождая каждую своим хорошо известным смешком. Проводив его до лифта, Константин Михайлович пригласил Марусю, чтобы убрала со стола, и довольный подмигнул Борщаговскому — завтра выходите на работу.
С тех пор как в редакторском гардеробе вместо морской шинели Щербины обосновалось симоновское пальто американского покроя, его же лохматая кепка и толстая, совершенно ему не нужная, трость, в редакцию зачастили авторы, которых здесь раньше не видывали. Начинающие Белла Ахмадулина и Женя Евтушенко, которому явно шли его модный мешковатый, из той же Америки, костюм и пижонские перстни на пальцах. Алеша Недогонов, до поздней осени не снимавший с ног тапочек, Луконин, Межиров...
Пастернак принес свое «Свеча горела», и Константин Михайлович, не кривя душой, заявил, что отдал бы пять лет за такое...
Заходил, случалось, и опальный Зощенко, и он всегда встречал его объятьями.
Партия сурово осудила идейно-творческие, даже нравственные ошибки Ахматовой, Зощенко и многих других, но она вовсе не вычеркнула их из жизни и литературы. Даже если секретариат ССП, включая его самого, проголосовал за исключение обоих из Союза писателей. В своих статьях в «Культуре и жизни» и в «Правде» он, солидаризируясь, естественно, со всеми принципиальными положениями соответствующих документов, счел необходимым сделать акцент на позитивных моментах в развитии советской литературы на протяжении всей ее истории и сегодня. В письме в «Правду» он категорически выступил против заушательской критики В. Ермиловым пьесы Василия Гроссмана «Если верить пифагорейцам». И в то же время отметил, что пьеса действительно грешит серьезными идейными ошибками. Закрывать на них глаза не следует, однако говорить о них надо «резко, но доброжелательно». И о самом Гроссмане тоже. От человека, к сожалению, сделавшего идейную и творческую ошибку, и, разумеется, обязанного исправить ее, отнюдь нельзя отмахиваться как от писателя, чуждого в целом советской литературе. В письме все это было изложено степенными, нарочито обкатанными фразами.
В кругу друзей он выражался покрепче: какой там к черту Вася Гроссман, с которым пуд соли съели в «Звездочке», идейный противник?
Суркову, который по старой фронтовой дружбе посоветовал ему исключить из нового поэтического сборника стихотворение об Амундсене, он бросил с усмешкой: спорить не буду, но и переименовывать старика Амундсена в Седова не собираюсь. Это был теперь его принцип: меряя литературу суровыми партийными мерками, он считал своим долгом оставаться для ее создателей тем же свойским мужиком, каким был всегда. Лишь со временем броскость в одежде стала контрастировать с появившейся солидностью манер, неторопливостью речи, несуетностью жестов. Не в подражание ли? — спросит неприязненно много лет спустя К.М. Константина Михайловича.
Замахиваясь на всякого рода перегибы, он долго еще не отдавал себе отчета, что покушается на существо.
Что-то получалось лучше, что-то хуже. Ему не дано было, подобно Эренбургу, который, взявшись после Америки и Парижа за «Бурю», просто-напросто исчез с горизонта своих друзей, читателей и почитателей, засесть безотлучно в какой-нибудь подмосковной или еще глубже берлоге. И он — до поры — к этому и не стремился.
С той позиции, которую он теперь занимал, было куда как дальше видно. Отблеск каждого костра, где бы он ни вспыхивал в мире, каждый вселенский шорох, каждое дуновение политических ветров отдавались эхом здесь, в его кабинете.
В войну ему всегда недоставало непосредственного участия в событиях, теперешний «казенный» образ жизни удваивал возможность выразить себя. Да так, «чтоб, между прочим, был фитиль всем прочим». Поневоле будешь жить, не выпуская пера из рук. Что перо! Оно уже не поспевало за мыслями, событиями и переживаниями. Диктовка стенографистке стала понемногу привычным и естественным делом. Позже на смену Музе Николаевне и Нине Павловне придет магнитофон.
Почти каждое стихотворение из его нового, американского цикла вызывало одобрительные отклики в прессе, читалось по радио и на только входившем в быт телевидении. На встречах с читателями, а их было множество, к нему в президиум шли записки, а то и прямо из зала выкрикивали: «Красное и белое», «Митинг в Канаде», «Тигр», «Баллада о трех солдатах»...
Он читал снова и снова... С хрипотцой и картавинкой, приправляя слово скупым, но решительным, тоже уже хорошо всем знакомым жестом правой руки, которая касалась мимолетно то «симоновских» усов, то еще пышной, но уже схваченной ранней «бобровой» сединой шевелюры.
Читал:
Опять в газетах пишут о войне,
Опять ругают русских и Россию,
И переводчик переводит мне
С чужим акцентом их слова чужие.
Бросал в зал:
Почувствовав почти ожог,
Шагнув, я начинаю речь.
Ее начало как прыжок
В атаку, чтоб уже не лечь:
«Россия, Сталин, Сталинград!»
Три первые ряда молчат.
Ему бурно аплодировали и кричали: «Про любовь!»
Он переходил на речитатив:
Как твоя бы сейчас пригодилась рука мне —
Просто тихо пожать,
Просто знать, что вдвоем,
Мол, не то пережили, —
И это переживем...
Когда стихов, и опубликованных уже в периодике, и лежавших еще в рукописи, поднакопилось столько, что они потянули на книгу, он отдал все это перепечатать и разослал сборник членам редколлегии, сопроводив стихи письмом, в котором обращался к товарищам по работе с просьбой прочитать и высказаться нелицеприятно, начистоту.
Признаться, многих из числа даже самых близких ему людей удивил и озадачил этот жест, особенно письмо. Время было сложное, и Борщаговскому, например, показалось, что за этим стоят какие-то невидимые непосвященному сложности, которые автор хотел бы преодолеть таким образом, т.е. опорой на коллективное мнение. Он успокоил друга: «Нет, Шура, все в порядке, это необходимо мне самому».
Необычное должно становиться повседневностью. Ну что тут такого, в самом деле. Редактор он за редакторским столом, когда речь идет о чужих рукописях. А когда о его собственной, он никакой не редактор, а поэт, литератор, такой же, как все, так же жаждущий и боящийся суда людского, радующийся похвале и переживающий замечания.
То, как он думал о себе тогда, намекнул ему однажды Борщаговский, лучше всего было бы, наверное, передать знаменитыми изречениями фурмановского Чапаева: «Ты знаешь, какой Чапай человек есть? Это я в бою строг, а так, ты подходи ко мне в любое время... Я чай пью, садись со мной чай пить...»
Чаепитие по поводу обсуждения стихов шефа получилось непринужденным. Высказывались и хвалили без всяких натяжек. Да и нельзя было не хвалить, стихи были хорошими, и многие успели обрести популярность.
Но мешал частый взгляд на его военные стихи. Далось же им это «С тобой и без тебя». Кто-то с массой оговорок, разумеется, усомнился в правомерности сравнения войны «холодной» с просто войной, кто-то проехался насчет того, что объяснения в любви иной раз смахивают на объяснения долгих отлучек и опозданий:
И ничем не помочь,
И ничьей тут вины:
Просто за семь тысяч верст
И еще три версты
Этой ночью мне вышло на пост заступать,
Есть и пить
И исправно бокал поднимать...
Чего-то ему не хватало в этих ахах и охах одних, наукообразных сентенциях других.
Как и в военные годы, одними стихами невозможно было отозваться на все, что требовало отклика. Снова потянуло к драме. В войну возникли «Русские люди», теперь, после поездки в Штаты и Канаду, где «зал напоминал войну», — «Русский вопрос».
Он уже ставился в десятках театров страны, когда Константин Михайлович, не кривя душой, писал переводчику в Нью-Йорк: «Здесь в Москве, людям театра пьеса нравится, многое нравится мне самому... Я был бы рад, если бы она понравилась и тебе... Во всяком случае при всей резкости постановки вопроса в этой пьесе (а вопрос я поставил очень резко, да и не мог иначе ставить) я, выразив свое негодование по отношению к тому, что, на мой взгляд, заслуживает негодования, в то же время хотел выразить свои самые душевные, человеческие симпатии настоящим хорошим людям Америки...»
Когда в июне 1946 года он возвращался из Америки в Европу вместе с Ильей Эренбургом и генералом Галактионовым, четвертым среди них — видимый пока лишь ему одному — уже был американский журналист Гарри Смит, герой его будущей пьесы. Смит направлялся в Москву решать для себя и для своих хозяев русский вопрос. Та же миссия — американский вопрос, с какой он, Константин Симонов, побывал в Штатах.
Каждый из них был послан за океан, земля-то круглая, посмотреть, как они там, в России, в Америке после войны, чем дышат, на что надеются, как собираются вести дела с нами.
Как всегда, новый герой чем-то смахивал на автора. «И оказался таким же лопухом», — признает К.М. много лет спустя со своей обескураживающей улыбкой. «Только Смита за это из газеты выкинут, и поделом. А мне дадут Сталинскую премию».
И добавит: «А если сравнивать посылавшего нас тогда Александрова с Макферссоном — владелец здешних трех газет был тигр, залезший телом в полосатый костюм из грубой шерсти рыжеватой, то этот зверь и в подметки нашему академику не годился». Хотя Александров на тигра внешне был совсем не похож.
Среднего роста, щуплый, с обходительными манерами, всегда с вежливой улыбкой, одетый с той нарочитой неприметностью, с какой одевались и одеваются партийные и государственные чиновники крупного ранга.
Когда после войны он отправлял их с Эренбургом в Америку, на его рабочем столе лежал проект постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Он если и не знал, то догадывался, что случилось с Михоэлсом; не за горами уже были побоища, которые он, по воле «самого», устроит в компании с Лысенко на «биологическом фронте», а потом самолично и на «философском».
Константину Михайловичу, слушая К.М., останется только руками развести — легко, мол, быть умным и проницательным задним-то числом. Что мы тогда понимали?
Зато уж за «Дым отечества» его ждала отнюдь не премия...
С повестью, которая тоже была задумана еще на палубе «Иль-де-Франс», он связывал самые большие ожидания. Ей были отданы дерзкие его замыслы. Создать вещь, которая вобрала бы в себя радости и боли мира, его надежды и разочарования, отразила бы глубочайшие и непримиримые противоречия, раздирающие современность, и в то же время создала бы цельную, все объясняющую и тем самым исцеляющую картину послевоенной жизни. Условия, объективные и субъективные, чтобы посягнуть, были налицо. Журналистские впечатления от поездок по зарубежью накладывались на увиденное и пережитое во время встреч с избирателями на разрушенной, едва становящейся на ноги Смоленщине. Наконец, в том положении, в которое он был поставлен, то есть с некоей литературно-государственной вышки, легче отделить эфемерное, преходящее от долговременного, определяющего.
Соответственно главным героем повести будет человек, который хлебнул горя на войне, потом чуть ли не год скитался по воле начальства за рубежом — в поверженной Германии, а потом в Америке и во Франции. Он вернется на свою Смоленщину и сможет со знанием дела поведать землякам о тех намерениях, которые вынашивают в отношении победившей, но лежащей в руинах Советской России некоторые из ее недавних союзничков. Сможет обостренным зрением человека, побывавшего в этом загадочном для его земляков «далеке», измерить их страдания и подвиг.
Музыкой прозы предстояло заговорить на злобу дня о том, что, в сущности, беспрестанно было на виду и на слуху у каждого.
Удачной показалась идея сначала поместить Басаргина на палубу океанского лайнера, который держит путь из Америки в Европу, увозя людей, не осевших в сытой и богатой Америке. Дать ему возможность и воспоминаниям на досуге предаться, и со своими случайными, но такими характерными — каждый на свой лад — попутчиками наговориться всласть.
В размышлениях героя и самому автору открывалось яснее и глубже, что же хорошо в современном мире, а что — плохо.
Хорошо было, что разгромили злого и коварного врага, освободили не только собственную страну и Европу; спасли, по существу, все человечество. Подобно своему создателю, Басаргин в один из последних его дней на войне обязательно окажется в только что освобожденном концентрационном лагере, где-нибудь под Лейпцигом, куда свезли людей чуть ли не из десятка стран. И так же, как он, Басаргин не сможет сдержать слез, взбираясь на подставленную ему кем-то пустую бочку, чтобы сказать хоть что-то этим заново родившимся сегодня людям. Удобный случай вложить ему в уста то, что он сам тогда чувствовал, но не умел от волнения выразить. Толпа заплачет, запоет «Интернационал». Это будет катарсис. Воспоминания о пережитом будут для Басаргина путеводной нитью в стремительно изменяющемся мире.
Плохо было то, что мир, по крайней мере за пределами нашей Родины, изменялся не в лучшую сторону. На смену скрепленному кровью союзничеству приходили антисоветские козни, коварство, неблагодарность — все то, чему самому довелось быть свидетелем.
Особое внимание Басаргина на корабле привлечет бывший русский, вернее, российский, а теперь американский гражданин Иван Афанасьевич Липатов. Рослый человек лет пятидесяти в потертой замшевой куртке, в мягких вельветовых брюках и стоптанных башмаках. Как бы отвечая на непроизнесенный вопрос Басаргина, Липатов скажет непринужденно, что такой наряд—вовсе не признак бедности, а просто желание чувствовать себя комфортно и раскованно. Фермерская привычка.
Да, бывший гражданин России, который много лет назад случайно, по воле судеб вместе с пароходом, на котором он плавал на Черном море механиком и который был угнан французами в Константинополь, окажется в эмиграции. Из Турции в поисках счастья переберется в Америку, поработает в штате Мичиган сезонником на чужой ферме, а потом, прикопив деньжат, купит свою собственную ферму, маленькую, но такую, чтобы на жизнь хватало, где и будет трудиться вместе с женой, тоже русской, с утра до поздней ночи.
Жена умерла, и видавший виды, поскитавшийся по миру человек направится во Францию, где так же одиноко, как он, живет старшая сестра его жены, которую он хочет забрать и увезти к себе на ферму.
Меланхолический, под стать Бунину или послереволюционному Алексею Толстому сюжет. Щемящая, трогающая сердце история, призванная побудить читателя задуматься о неисповедимости судеб, о бренности всего земного, о самоценности каждого человеческого существа на земле.
Так это и воспримет Басаргин. Но только частично. Тут настанет время читателю узнать, что есть у Басаргина, в общем-то доброго, гуманного, широкой души человека своего рода второе «я». И никакого сочувствия, никакого сострадания у этого второго «я» судьба и исповедь нового знакомца, этой песчинки в пустыне человечества, не вызовет, скорее наоборот... И правоту этого второго Басаргина вновь и вновь будет вынужден признавать первый.
Невысказанное вслух осуждение распространяется, впрочем, не столько на самого Липатова, сколько на мир, в котором тот живет и который, хочешь не хочешь, а принимает.
Даже одиночество Липатова, вполне, казалось бы, объяснимое чувство человека, потерявшего только что жену, окажется не его, Липатова, случайным человеческим одиночеством, а «гиперболой одного человеческого одиночества среди миллионов других человеческих одиночеств».
Два Басаргина будут вести непрерывный диалог по этому поводу.
«Липатов был вовсе не так плох сам по себе, скорее, наоборот: рассуждая с житейской точки зрения, он был безобидным и, может быть, добрым человеком, но безобразие мира, в котором он жил, обрело в нем такую законченную форму, какой Басаргин еще до сих пор не видел».
Важно будет передать, что и второму Басаргину порой приходится все же делать над собой усилие, чтобы не рассиропиться, не поддаться первой реакции, а проявить по отношению к Липатову — и мысленно, и наяву, в беседах с ним — ту требуемую, вынужденную, но необходимую жесткость.
Не культивируй Басаргин в себе это второе «я», он бы, пожалуй, и в шурине своем, Григории Фадеевиче, руководящем деятеле районного масштаба, увидел бы только то, что лежало на поверхности — здоровенного, добродушного, то и дело взрывающегося гулким смехом мужика, любящего все большое, шумное, пышное, дюжее... Если работать, так до соленого пота, если гулять в семье или с друзьями, так чтобы влежку... Он со своими людьми сноровисто, быстро строит жилье и другое человеческое обзаведение в этом разоренном войною Пуховском районе Смоленской области и в простоте души своей полагает, что тем и исполняет без изъяна свой долг, как исполнял его на войне. В том, что прежде всего себе поставил сруб, не видит ничего предосудительного: с ним под одной крышей проживает «целый колхоз» — помимо его собственной семьи еще и все Басаргины, родня жены. Со временем, вторым басаргинским оком читатель увидит Григория Фадеевича Кондрашова, здоровенного, краснолицего мужика совсем в другом свете — эдаким делягой, умеющим устроить себя и своих близких в тепленьком, рубленом из отборной сосны гнездышке посреди страданий и разрухи. И как бы ни выступал, порою даже кривя душой, его адвокатом первый Басаргин, конечный приговор над Григорием Фадеевичем будет суровым.
Для матери Басаргина, старой сельской учительницы Кондрашов всего лишь «безнадежный материалист». В противоположность «идеализму» в людях, под чем она всегда понимала «совокупность всех лучших человеческих свойств».
Из повествования со всей очевидностью должно вытекать, что идеализм ее, как и ее детей, не какой-нибудь абстрактный, всечеловеческий, а самый настоящий советский. С его высот старая учительница с равной мерой бескомпромиссности осудит как неведомых ей американских воротил, которые отказываются продать хлеб нашей стране, хотя знают, что у нас неурожай и многие дети голодают, так и своего зятя Григория Фадеевича за то, что его прежде всего заботит, чтобы его дети жили лучше остальных детей.
Четко распределятся в повести свет и тени.
Сам Басаргин, его мать, его брат Шурка и сестра Елена, дети — это идеальная советская семья ранней послевоенной поры. В чем-то адекватное отражение всего советского общества, народа, который только что с невиданными жертвами и лишениями вышел из величайших испытаний.
Как бы ни энергичен, ни нахрапист был в своих действиях, замыслах и помыслах Григорий Фадеевич, у него и таких, как он, нет будущего. Только из сострадания, из-за материнского долга остается с ним жена Елена. Уходит из дома увлекаемый высокими идеалами сын Кондрашова.
Повесть была напечатана в одиннадцатой книжке «Нового мира» за 1947 год. За океаном к тому времени, вслед за Черчиллем уже успел провозгласить свою пресловутую доктрину Трумен, которую мэтр американской журналистики Липтон назвал «Холодной войной».
Сразу же после выхода в свет одиннадцатого номера потоком пошли рецензии, порой излишне восторженные, трескучие, что заставляло Константина Михайловича морщиться.
Порадовало обсуждение пьесы в Союзе писателей. Отзывы коллег были в целом доброжелательными, в них не было той заданности, которую он угадывал в иных рецензиях, написанных явно с оглядкой на его положение в литературной иерархии. Основательно высказались Эренбург и Федин. Они уловили в повести главное, её квинтэссенцию — душевное богатство наших людей, убедительное противопоставление его самодовольству и чрезмерной сытости среднего человека на Западе.
...Наступила моя последняя зима в школе. Весною — выпускные экзамены, аттестат зрелости, даст бог, медаль, и прямиком — в вуз, может быть, даже в университет. Во всяком случае, туда, где можно изучать литературу, приобщаться к писанию.
Вспомнилось — из черной тарелки репродуктора льется бархатный, с модуляциями голос Яхонтова: «Было одиннадцать утра. До Пухова — районного городка, примерно на полпути между Москвой и Смоленском, оставался еще час пути. Басаргин уже собрал вещи, закрыл на все замки чемодан, почистил щеткой костюм, пальто и шляпу и сейчас, стоя перед зеркалом в раскачивавшемся вагоне, еще раз причесывал мокрые волосы и внимательно рассматривал себя». Первая мысль — скорее достать журнал! Готовя себя к будущему, вылавливал в доступной мне тогда периодике все о текущей литературе, следил за дискуссиями о социалистическом реализме и даже сочинения о них писал.
Внимание привлекали и грозные, разносные заголовки. Один из них — «Правде жизни вопреки» оказался неприятным сюрпризом. Он относился к повести Симонова. От кого, от кого, а от него, моего кумира, я такого не ожидал. Все напечатанное в газетах принимал тогда один к одному. Рука сама потянулась к стопке приготовленного чтения. Отложил в сторону голубую тетрадку только что добытого в библиотеке «Нового мира». Зачем тратить время на плохое, неправильное?
Увы, должно было еще пройти энное количество лет, чтобы эта реакция сменилась на противоположную — гоняться за всем тем, что «раздолбали».
У Константина Михайловича ощущение было такое, словно взбегал по мраморным ступеням к высокому и торжественному входу, видел уже впереди себя уходящую в бесконечность анфиладу светлых высоких залов, и вдруг ударился со всего маху о нечто доселе невидимое и оказавшееся прозрачной стеклянной стенкой. Недоуменно оглядываясь вокруг и щупая ее рукой, пытался понять, откуда она здесь взялась и как это он раньше ее не замечал...
Самым сильным и отчетливым чувством в тот момент, когда Маруся принесла ему до завтрака пачку газет и он, как всегда, открыл первой не «Правду», а именно «Культуру и жизнь», было недоумение. «Правде жизни вопреки» (о повести Константина Симонова «Дым отечества»). Хоть сто раз протирай глаза, другого не прочитаешь. «Правде жизни вопреки»... Не рецензия критическая с каким-нибудь каламбуристым заголовком, не интервью или письмо читателя, а именно статья. С лаконичным, бьющим наотмашь обозначением ее основного смысла в заголовке и с оповещением в подзаголовке, о чем и о ком идет речь. Дальше — некуда. Дальше только постановление — такое, как о журналах «Звезда» и «Ленинград» или о кинофильме «Большая жизнь».
Нет, невозможно было поверить, что все это случилось с ним. С этой любимой вещью, в которую он вложил самое дорогое, что у него было в душе. А, может, это недоразумение? То есть в том, что статья действительно напечатана, сомневаться не приходилось. Не во сне же он ее видит. И то, что редакция и автор специально постарались придать ей как можно более официальное звучание, тоже совершенно очевидно. Была, однако, какая-то еще надежда, что они сделали это по собственному усмотрению, без указки сверху, без согласования с «самим», с «хозяином». И уж, во всяком случае, не по его личной подсказке.
Первым движением было — поехать на Старую площадь, попросить объяснений.
Второй вариант — ехать в редакцию, делать вид, нет, даже не делать вид, а просто вести себя так, как будто ничего не случилось. Да и что, действительно, случилось? Появилась критическая рецензия? Значит, надо просто внимательно задуматься над ее положениями. Конечно, ответственность за свое произведение несет прежде всего автор. И он, конечно же, не будет прятаться за чьи-либо спины. Но повесть печаталась в журнале, где он редактор. Ее обсуждала редколлегия. Значит, и членам редколлегии надо высказаться.
Спасительно подумалось об Эренбурге. Не умер же он от статьи Александрова. Да, первым делом — в редакцию. Сегодня как раз редколлегия. Чутье подсказывало, согласятся ли, отринут ли критику — но останутся с ним.
Из редакции — к Фадееву, благо он, кажется, не в отъезде. Там уже, как он посоветует — может, и в ЦК. Голова, как и всегда в минуты особой опасности, была на удивление ясной. Мысли — четкие. Каждое движение — в такт мысли. Закончил завтрак. Покосился на дверь спальни. Оттуда не доносилось ни звука. Как всегда, вернулась после спектакля чуть ли не под утро. Теперь и специально будить станешь — не разбудишь. Кивнул Марусе — можно убирать со стола. Позавтракал!..
Встал, взглянул в зеркало — вид вроде ничего. Как пишут в плохих романах, следы пережитого не отразились на его внешнем облике. Глаза грустные? Так они у него всегда грустные. Ему уж не раз приходилось и слышать, и читать это о себе. Сейчас-то, конечно, есть повод. А вообще, черт их знает, от чего они грустные. Прическа в порядке, усы подстрижены. Надел пиджак из букле, подтянул узел галстука, взял в руки с вечера заготовленный портфельчик с казенными бумагами и рукописями, которые приходится читать и дома, по ночам. Теперь вперед — машина наверняка уже ждет внизу. Шофер всегда приезжает раньше. «От меня ломоть не отвалится, — говорит. — А случится всякое может. Я лучше вон по палисадничку погуляю или газетку в салоне почитаю...» Газетку... Хорошо, что хоть не «Культуру».
Голова продолжала работать, как мотор; душа же обрывалась в пропасть... Нет, страха не было, — уверял он себя, хотя память услужливо подсказывала, как развивались события в аналогичных обстоятельствах. В аналогичных обстоятельствах... Эта мысль снова подняла все вверх дном. Он не признавал, не мог признать в отношении себя никаких «аналогичных обстоятельств». Хотя статья, он сразу же, с первого чтения, почти наизусть запомнил ее, вся сплошь состояла из фраз под стать заголовку. Что ж, теперь прикажете на одну доску с Зощенко себя ставить? Или с Ахматовой? Садофьевым? Невольно вспомнились имена тех, до кого в унисон постановлениям дотянулась длинная дубинка «Культуры и жизни». Дубинка... Пожалуй, он впервые употребил это слово в таком контексте.
Повесть свою он умудрился просто полюбить, пока писал. Тоска Басаргина по дому, эти оскомину набившие скитания по чужим землям, возвращаясь из которых, и он, брошенный туда по железной воле ЦК, землю готов был целовать и обнимать первую же встреченную дома березку. Вдыхать воздух московских улиц. Без конца смотреть из окон вагона, как бегут вдогонку поезду милые сердцу леса и перелески. Провожать взглядом собравшихся на короткий перекур у шлагбаума шоферов в замасленных телогрейках и думать с мимолетной грустью о том, что вот мелькнуло перед тобой лицо, фигура, чей-то профиль, и больше никогда не возникнет на твоем пути, а это ведь такой же, как и ты, человек, для себя и своих близких единственный и незаменимый.
Простой и обыденной жизни и ее людям он публично объяснился в любви своим «Дымом отечества», и теперь получается, что именно за это ему и дали — тоже публично — по физиономии. И еще неизвестно, не есть ли это лишь начало... Начало чего? — укоризненно одернул он себя. Без паники! Мелькнула на мгновение не лишенная сарказма мысль, что ему, кажется, предстоит разделить участь своего героя — Гарри Смита из «Русского вопроса». А что? Тот не угодил своим хозяевам, а он, Симонов, своим... Называем же Сталина между собою — Хозяином. Но это совсем-совсем в другом смысле... Это именно — Хозяин, с большой буквы...
Он вернулся к вопросу, который с первой же минуты, как только развернул газету, возник — знает ли Сталин, с его или без его ведома это сделано?
Сталин — это имя было в его сознании точкой отсчета, началом всех начал.
Сталин был воплощением справедливости. Твердой, бескомпромиссной, жесткой, порой жестокой. Чепуху говорят о нем — добренький. На его месте непозволительно быть добреньким. По определению. Жесткость же Сталина в его представлении была того самого порядка, какой он наделил своего Басаргина. Не потому ли и наделил? Нельзя рассиропливаться в наше суровое время. Нельзя давать волю сантиментам. Надо быть жесткими по отношению к злу всех мастей.
Нет, нельзя исключать, что Сталин знает о сегодняшней статье. Слишком уж категоричен тон, да и положение его, Симонова, таково, что так вот высказаться о нем, не посоветовавшись, не рискнул бы и всесильный официоз.
В редакции внешне все было спокойно. То есть в том смысле спокойно, что никто при встрече глаз не опускал, ни у кого сухости в тоне не появилось — наоборот. Но по существу-то, он это чувствовал, все его соратники были жутко взволнованы — не за себя, за него, и если старались не показать этого, то только из желания не травмировать его дополнительно. Но, — что порадовало и подкрепило, — никто не пытался сделать вид, что ничего не знает, и никто, однако, не изображал из себя бодрячка, как это бывает у постели неизлечимо больного.
Кривицкий и Борщаговский все пытались остаться с ним в кабинете наедине — обсудить шаги, которые сейчас же, не откладывая, надо бы предпринять.
В первый же день позвонили с дач Федин и Эренбург. Они тоже считали себя затронутыми статьей — ведь буквально накануне хвалили «Дым отечества» на секретариате в Союзе писателей. Голоса были ровными, но беспокойство за ними ощущалось. Особенно у Эренбурга. Он дал понять, не столько словами, сколько междометиями, что наличие указания Самого не вызывает у него сомнений. Призывал действовать, но как — не говорил. Наверное, и сам не представлял себе — как.
Константин Михайлович несколько раз вызывал в кабинет Нину Павловну, принимался диктовать ей... Но что? Сам не знал, что это такое может быть. Просто мысли вслух, пригодятся... Диктовка помогала как бы абстрагироваться от происшедшего, взглянуть на происшедшее, написанное им и в газете со стороны, глазом объективного наблюдателя.
С этой позиции его сбивали взгляды, которые Нина Павловна незаметно, как ей казалось, бросала в его сторону. Он тоже не показывал, что замечает их, но не реагировать на них внутренне не мог.
Вообще диктовать ей было приятно — ты все время как бы наедине с собой и в то же время — в присутствии заинтересованного, квалифицированного слушателя, который каким-то совершенно неуловимым образом умудряется дать тебе знать, идет у тебя или нет. Продолжать гнать текст или остановиться, подумать, попросить зачеркнуть, выдрать из тетрадки, разорвать только что продиктованное.
Что же теперь означали ее взгляды? Сочувствие? Несомненно. Это понятно. Но что-то прочитывалось в них и большее. Уж не опасается ли она? На минуту даже остановилось дыхание. Нет, не может быть, черт...
Он диктовал.
Критика резкая и, честно говоря, для меня неожиданная. Я, не отрываясь, думаю о ней... И в результате пришел сейчас к двум выводам... Пауза. Ходит взад-вперед по небольшому своему редакционному кабинету, явно продолжая еще формулировать про себя свой первый вывод.
Повесть в самом главном продолжает мне нравиться, то есть, короче говоря, я ее по-прежнему люблю.
Браво, чуть ли не выкрикивает Нина Павловна, но сдерживает себя. Таков уж был между ними неписаный закон, который тогда только складывался — пока один диктует, другой глух и нем.
Потом, в минуту отдыха, ненароком они могут вслух вернуться к написанному, и он будет слушать то, что ей покажется необходимым сказать, настороженно, напряженно, но очень внимательно. А пока идет диктовка — что бы это ни было, надо молчать.
Он диктует.
С другой стороны...
Ну вот, опять эта вторая сторона. Он знает: пожалуй, единственное, что у нее вызывает внутренний протест, это его пристрастие ко второй стороне. Почему, мол, всегда должна присутствовать вторая сторона? Она уже намекала ему на это. Он громко смеялся и объяснял, что без второй стороны была бы односторонность, а это, во-первых, не поощряется, а во-вторых, правильно, что не поощряется, потому что односторонность — это искажение сути, отсутствие анализа, диалектики. Противоречит марксистскому методу познания. И хотя в построении фразы да и в самой интонации его, когда он говорил ей это, сквозила улыбка, он ясно давал понять, что это серьезно, что это его Убеждение.
...С другой стороны, — продолжал он диктовать, — я пришел ко второму выводу, и этот вывод в том, что повесть могла бы и может быть лучше, чем она есть, — вот уж с этим Нина Павловна спорить бы не стала, — в ней многого не хватает, и это многое нехватающее я должен буду, очевидно, восполнить.
Маслин из «Культуры и жизни» убеждал, что шеф сгустил краски, — говорила мне десятилетия спустя Нина Павловна, — исказил перспективу, противопоставив сытой, самодовольной, кичащейся своей сытостью и своим богатством Америке благородную, но бедную, все еще голодающую, все еще в руинах Советскую Россию. А ей казалось наоборот: что касается России, он показал только малую толику страданий, только частицу их. Их больше, гораздо больше...
...С выводом, что повесть вредна, абсолютно не согласен и никогда не соглашусь.
Эти строки Нина Павловна переводила на каббалистический язык стенографии с удовольствием.
...Но с критикой ряда недостатков ее я согласен, хотя отнюдь не подписываюсь под каждым словом этой критики, но недостатки в повести есть, промахи есть, есть недописанное, недоделанное...
Есть, есть, — хотелось снова крикнуть Нине Павловне. — Да только не там, где все это видит газета. В повести показаны только те беды, которые принесла война, а вот те, которые...
Расхаживая по кабинету и диктуя, он думал о своем, она — в те короткие паузы, которые он время от времени делал, — о своем. Теперь, когда повесть шефа с таким романтическим, зовущим названием так грубо обругали и совсем с неожиданной стороны, она, наконец, поняла, почему она себя так неуютно чувствовала, читая и перечитывая ее, а она действительно перечитала ее два или три раза. Да, повести многого не хватало, только совсем не того, чего требует эта мерзкая «Культура и жизнь».
Действительно, на долю Басаргиных и других действующих лиц повести выпало немало испытаний. Но, Боже мой, чего они все стоят в сравнении с тем, что пришлось пережить ей и Юзу. Басаргин и ближние его несут тяготы, даже страдают, но они хоть знают, за что... Это доля, которую они сами себе выбрали, тяготы, которым они сознательно, светло и уверенно идут навстречу, потому что они делят их со всем народом... У нее это сознание отняли, у Юза отняли... Басаргины и такие, как они, по замыслу автора, — плоть от плоти, кровь от крови народа, его сердцевинка; Нина Павловна с Юзом — по чьей адской выдумке? — изгои. К таким, как они, у романиста не то чтобы другое отношение, им просто нет места в том мире, который создан в этой повести. Вот что она тогда отчетливо поняла. Мир в «Дыме отечества» четко поделен на чистых и нечистых, и на страже этого разделения — самый благородный, самый идеальный герой произведения — мать Басаргина, чьи дети с первого дня на войне, чей муж-революционер с безупречной репутацией. Кому же, как не ей, дать право делить этот мир надвое, на так называемых «идеалистов» и «безнадежных материалистов». И она делит — без сомнений и колебаний. Свято веруя, что в этом мире, со всеми его лишениями и страданиями отсутствует самое страшное — несправедливость. И попробуй объясни ей или таким же правильным, как она, что происходит с нею, с Юзом, с такими, как он...
Что Юз? — она горько улыбалась про себя. Юз для «них» — враг народа, а она — жена этого врага, которая к тому же не отреклась от мужа, не прокляла его, не бросила на произвол судьбы.
Юз для них по-прежнему враг. Те, кто оказался в плену, возвращались домой, а попали туда же, где столько лет провел Юз — тоже враги? Басаргин много месяцев работал в комиссии по репатриации. Хороший человек, он старался помогать хорошим людям. Если тут и возникали какие-либо проблемы и трудности, то только по вине «союзничков», американцев, англичан.
Нина Павловна показывала мне сохранившийся во «Всем сделанном» за 1947 год набросок стихотворения, над которым ее шеф работал, видимо, параллельно с повестью:
Я говорил, что без изъятья
Всем, кто в плену был долгу верен,
Откроет Родина объятья,
Жена и мать откроют двери...
Всем, кто в плену был долгу верен... Но кто может об этом судить? По каким свидетельствам?
В ту пору только слухи ужасные ходили, а потом, особенно после смерти Сталина, и документы стали всплывать, шила в мешке не утаишь, и книги из-за рубежа попадались, где такое было, с фактами и цифрами в руках, что просто страшно было прикасаться.
Миллионы, буквально миллионы из одного плена попали в другой, из гитлеровского в наш, советский, который втрое был страшнее, потому что был свой... Этого не понять было «союзникам», которые изо всех сил старались выполнять Ялтинские соглашения, а по ним, оказывается, все советские граждане, что оказались к маю сорок пятого года в западных зонах оккупации, подлежали выдаче советским властям. Американцы и англичане истово сотрудничали с бериевским СМЕРШем и диву давались, почему эти странные русские не хотят возвращаться домой.
Замечал это ее шеф или нет, но их миры, пространства жизни, в которых они вращались, совпадали в лучшем случае наполовину, на ту половину, которую они проводили в диктовках. Другая половина... Она о нем знала, пожалуй, больше, чем он о ней. Ее вторая половина жизни проходила в мыслях о Юзе, о Рязани, о поездках туда и в стояниях перед окошечком в казенных местах. Этот мир окружал ее особым дыханием, особые голоса здесь звучали, особый слышался гул, особые приходили вести. Ни одна из них не миновала ее, не отпечатавшись в цепкой ее памяти.
Это шеф мог рассуждать о временах Ягоды, потом о «ежовщине», о «ленинградском» вот теперь деле. Для нее все это было одно дело, одно время. Один маховик раскручивался, то замедляя бег, то набирая такую злую скорость, что леденели кончики пальцев на руках и на ногах и образовывалась провальная, сосущая пустота в желудке.
В прибалтийских республиках, приходило эстафетой, из уст в уста, спустили, как в военный коммунизм, продразверстку, разверстку на число домов и семей, которые надо выселить за сотрудничество с немцами. Из Крыма, с Северного Кавказа выселили целые народы. Это выглядело не так, как в романе Павленко, который, словно в насмешку над кем-то, назывался «Счастье».
В литературной среде, где она теперь вращалась, только не в тех сферах, где обитал шеф, не в кабинетах и залах заседаний коллегий, а в коридорах, машбюро, столовках поминали шепотом имя балкарца Кайсына Кулиева, начинавшего перед войной так же бурно, как и Симонов. Тот отказался воспользоваться индульгенцией — остаться дома или переехать в Москву, когда его соплеменников выселяли. Место поэта со своим народом, — сказал он.
Она никогда не упоминала о своих «источниках» и «данных» шефу, у него и без того проблем хватало, просто пыталась угадать, знает ли он, видит ли, понимает ли... И вот он сам теперь, она ощущала это в те дни всей кожей, стоял у той черты, за которой — ворота в ее мир.
Об этом она не могла не думать, пока рука машинально скользила по страницам стенографического блокнота, фиксируя размышления человека, который в ту, драматическую для него минуту, находил отточенные, законченные фразы: «Я не раскаиваюсь и думаю, что никогда не раскаюсь, что написал эту повесть. Я написал ее с самыми лучшими побуждениями и с большим желанием принести ею пользу».
Он походил по кабинету, пососал трубку:
— Но, наверное, я напрасно не учел, что нельзя, противопоставляя друг другу два мира, противопоставлять только благородство среди развалин низости среди благополучия. Надо было противопоставить благородство — низости, а мощь — мощи. Надо было дать почувствовать темпы нашего становления, размах нашего послевоенного строительства... А развалины, не приукрашивая их и не стараясь забыть о них, все-таки оставить на втором плане...
Лишь продиктовав Нине Павловне свои пассажи, к которым ему не раз еще пришлось потом обращаться, он обнаружил, что расшифрованные ею строки представляют собой не что иное, как переложение злополучной статьи только с обратным знаком.
Он окончательно решил для себя, что она, конечно же, была написана с ведома Сталина.
Определенная обеспокоенность по поводу чрезмерной узости изображенного в повести мира могла у него возникнуть. Как возникло еще раньше по той же причине недовольство Сталина фильмом Пудовкина по его пьесе «Русские люди», которая сама по себе ему очень нравилась. Он знал, что именно по предложению Сталина пьеса была удостоена Сталинской премии. Не понравилась Сталину инсценировка его повести «Дни и ночи» во МХАТе, и критика в газетах шла по той же линии — при переносе произведений на экран и сценическую площадку пропадали масштабы событий, их размах, скрадывалось, оказывалось приземленным героическое звучание и содержание великого подвига советского народа. Теперь громко прозвучало недовольство оригиналом.
Видимо, избалованность успехом, вниманием сослужила ему плохую службу. Необходимые выводы из косвенных предостережений не были сделаны.
— Есть один выход, — продолжал диктовать Константин Михайлович, — практический — вернуться к повести. И, мало что изменяя в уже написанном, кое-что вычеркнув, главным образом, дописать две большие главы внутри ее... Приостановить с этой целью издание повести отдельной книгой...
Сам Фадеев при короткой встрече хлопнул его больно по плечу:
— Держись! — и возвел очи горе. Порекомендовал прочитать повесть «отстраненным взглядом».
Ни он, ни Фадеев не догадывались, что над Сашей самим нависла уже черная в лохмотьях туча, из которой вот-вот ударит молния. Статья по поводу фильма Сергея Герасимова «Молодая гвардия», снятого по роману Фадеева. Фильм и тут был лишь поводом. В тяжких грехах обвинялся роман. «Из романа, — писала «Правда», — выпало самое главное, что характеризует жизнь, рост, работу комсомола, — это руководящая, воспитательная работа партии, партийной организации. Партийная организация, по сути дела, целиком выпала из романа А. Фадеева. Автор не сумел проникнуть в жизнь и работу партийной организации, изучить ее и достойно показать в романе...»
Роман, впервые опубликованный в конце войны, получил уже Сталинскую премию, а все, кто хоть каким-то боком прикасался к литературному процессу, знали, что такие премии не даются без ведома «самого». Да и выходу фильма сопутствовал ураган хвалебных рецензий.
Константин Михайлович был искренне удручен и еще больше встревожен. Снова искал встречи с Фадеевым, но тот исчез так, как мог исчезать только он, когда никто, даже по указанию Сталина, не мог его найти.
Через несколько дней Фадеев объявился, и Константин Михайлович застал его, как ни в чем не бывало, в своем кабинете на улице Воровского, 52 — безукоризненной свежести рубашка, щегольский галстук, иссиня-белая, волосок к волоску голова, красноватое, словно загорелое под искусственным светом лицо. Величественные манеры, твердый, решительный голос.
Вполне естественные в этой ситуации попытки поискать какую-то связь между тем и другим выступлением прессы были Фадеевым с великолепным хладнокровием отведены:
— Связь тут только одна — мы оба с тобой чего-то недосмотрели, не поняли. Но, — секундная пауза... — Если Сталин говорит, что ты чего-то недоделал, значит ты должен доделать. Вот и все. Под «ты» я имею в данном случае себя. — Секундная пауза. — И тебя.
Он минуту помолчал, глядя строго на плотно закрытую дверь, словно ожидая, что она сейчас откроется и войдет... Кто? Может быть — Он?..
— Наверное, я был слишком увлечен, писал «Молодую гвардию» поспешно. Вот «Правда» и утверждает: «...большевики-подпольщики, методы их работы показаны в романе не только не полно, но и вопиюще не верно». — Он говорил это так, словно бы это не о его романе было написано, не о нем... К тому, что произошло с Симоновым, больше не обращался, — не из педагогических ли соображений?
— Наверное, во мне засело, еще с дальневосточных времен, преклонение перед партизанщиной.
И последняя фраза, которой он словно не разговор закончил, а сосуд с посланием запечатал перед тем, как бросить его в море:
— Время трудное, Сталин знает больше нас с тобой.
Вскоре в «Правде» появилось письмо Фадеева. Он признавал справедливость критики и заверял, что переделает роман.
По здравом размышлении и за отсутствием другого выхода Симонов просто приказал себе не думать, не возвращаться мыслями к этой истории. Верстке решил дать отлежаться, а сам окунулся с головой в текущие дела — их было хоть отбавляй.
В назначенные часы и минуты появлялся он в редакции «Нового мира», а в отсутствие Фадеева — на «дежурстве» в ССП. С той же шутливой властностью вел редколлегии и заседания секретариата, угощая всех чаем и бутербродами. Читал и редактировал рукописи, писал и диктовал письма авторам, читателям своим и в различные инстанции. Столь же хлебосольно принимал на квартире или в Доме литераторов друзей — своих, доморощенных, или зарубежных — кого тогда только не было в гости к нам! — все больше по линии антифашистского комитета, в котором он тоже был далеко не последняя скрипка.
...Вдумчивому наблюдателю и самой приметливой из них — Нине Павловне было невооруженным глазом видно, что в этом спокойном и уравновешенном, с неизменной добродушной улыбкой на губах человеке что-то изменилось, что-то произошло и происходит.
Она переводила его ощущения на язык своих образов. Он казался ей человеком, рассказывала она мне, перед которым, быть может, только на мгновение открылась заслонка адской печи, и он услышал завывание густого, как кровь, пламени.
Весною 48 года погиб Михоэлс. Из невнятных сообщений можно было понять, что на него и на его спутника — Голубова-Потапова — ночью по дороге в гости или из гостей, где-то на окраине Минска напали бандиты — и то ли их просто убили, то ли раздавили грузовиком...
Константин Михайлович звонил семье погибшего, стоял в почетном карауле, жадно внимал каждому слову Фадеева, выступавшего на гражданской панихиде. Проклинал убийц и обстоятельства. Нина Павловна в глазах его читала невысказанный вопрос, на который она отвечала так же, как он был задан, молча, глазами. Для нее сомнений не было. Она все знала по источникам беспроволочного телеграфа, который охватывал всех, кого можно было увидеть у окошечек на Кузнецком мосту. Он работал безаварийно и безошибочно, внушая приобщенным к нему даже чувство некоего превосходства слабых, поверженных, но знающих — над сильными, преуспевающими, но слепыми и глухими.
Вскоре закрыли Еврейский антифашистский комитет, а потом и Еврейский театр, которым Михоэлс руководил до последних своих дней. Рассуждения о низкопоклонстве перед Западом, о сионизме, о национальной гордости звучали все слышнее — и в прессе, и в повседневном общении. Проносились вести уж совсем невероятные — арестовали Квитко. Квитко?! У Симонова весь день звучало в ушах его стихотворение о Сталине. Арестовали Переца Маркиша... Константин Михайлович каждый раз не хотел верить, бросался к телефону, но на ходу застывал с поднятой трубкой... С мрачным видом клал ее на рычажки.
Юзу, наоборот, иногда выходили послабления: разрешали на денек-два приезжать в Москву. Однажды, не успев предупредить ее заранее, он зашел за ней прямо в редакцию. Дело было в конце дня. Симонов к тому времени уехал, а она в его кабинете заканчивала разбор бумаг. Так что смогла принять мужа прямо-таки по-царски. Он посидел важно в редакторском кресле, потянулся, озорно подмигнув ей, к белому телефонному аппарату с гербом. На мгновение забыв, кто они и где находятся, они громко рассмеялись. Моментально приоткрылась дверь. Женщина, — как смутно припомнила Нина Павловна, — из отдела кадров, чинно извинившись, попросила разрешения зайти вместе с «товарищем из «Известий», который имеет задание описать в статье кабинет Константина Михайловича.
Вошли, осмотрели, кинули взгляд на присмиревших Юза и Нину Павловну, которая поспешила сказать, что они сейчас уходят. На следующий день ее вызвали в отдел кадров:
— Где работает ваш муж?
— Я же ясно написала, что в Рязанском управлении кинофикации...
— А почему вы не сказали, что он живет в Рязани?
— Но как можно жить в Москве, работая в Рязани?!
Нина Павловна уже научилась разговаривать с такими людьми. Если их и можно чем пронять, то отнюдь не кротостью.
Симонов очень гневался. Нине Павловне обозначил четко, что в его отсутствие — кабинет в ее распоряжении.
Он сам потом недоумевал, почему такой, в сущности, пустяковый эпизод вызвал у него столь бурную реакцию. Подумал, что, произойди это в другой психологической атмосфере, он повел бы себя сдержаннее. Спуску бы этой даме не дал, но эмоций было бы меньше.
Это был нервный срыв. В неумной выходке кадровички он увидел посягательство не только на Нину Павловну, но и на свой авторитет. Кое-кто решил, видно, что после той статьи все дозволено. Нет худа без добра. Теперь, кажется, он все расставил на свои места. Чтобы никому не было повадно.
В размышлениях на этот счет его застал звонок, который неожиданно и резко повернул его мысли в совершенно ином направлении. Звонил Поскребышев, помощник Сталина. Константину Михайловичу хорошо знакома была его манера сразу же переходить к сути дела:
__Товарищ Сталин поручил мне поинтересоваться, как идут дела с пьесой?
— С пьесой? — машинально повторил он. — С пьесой... Ах да, речь идет о той пьесе, о которой... Заканчиваю, — неожиданно для себя произнес он, словно школьник на уроке, которого застали за чтением какого-нибудь вальтерскоттовского романа.
— Ну вот и хорошо, — с облегчением прозвучало на том конце провода. — Так и передадим товарищу Сталину. Как закончите, посылайте сразу Александрову.
Выходило, Сталин всерьез воспринял ту его реплику? Майская встреча со Сталиным, первое очное знакомство с вождем до сих пор стояло в его памяти, как будто все произошло вчера. Между тем минул почти год. По возвращении из Кремля он сразу же записал слово в слово все, что там было сказано, и свои наблюдения: внешний вид Сталина, его манеру прохаживаться с трубкой в руке вдоль обтянутого зеленым сукном длинного стола, за которым сидели в тот день Фадеев, он и Горбатов, тогда секретарь парткома союза, а также Молотов, Жданов, Ворошилов и Микоян; цвет мебели, форму деревянной обшивки стен и белых гардин на окнах. Он сознательно нарушил неписаное правило, о котором его предупредил Фадеев: когда у Сталина, никаких заметок, ни в кабинете, ни потом.
Долго размышлял, где ему держать эти тайные записи.
В двух местах сделал пометки: не могу сейчас изложить содержание вопроса.
Звонок Поскребышева возвратил его к одному из этих мест. Сталин уже дал понять, что пора заканчивать беседу («До этого момента наша встреча со Сталиным длилась так недолго, что мне вдруг стало страшно: вот сейчас все это кончится, оборвется, да, собственно говоря, уже и кончилось»), как вдруг попросил Молотова прочитать один документ. Несколько сцепленных скрепкой листочков.
Документ был о так называемом деле Роскина и Клюевой, а также академика Парина. Академик, будучи в научной командировке в Штатах, передал по просьбе Роскина и Клюевой в американский научный журнал их статью об открытиях в области лечения раковых клеток. Комментарий Сталина был как раз насчет растущей опасности преклонения перед иностранцами, готовности продать свое первородство за чечевичную похлебку. Факт действительно показался из ряда вон выходящим. Речь шла о государственном преступлении. Импонировало, что Сталин счел необходимым поделиться с ними.
— Эта история стоит целой повести, — заключил Сталин, прослушав вместе с ними и, видимо, не впервые, записку.
— Пьесы, — вырвалось у Константина Михайловича.
Сталин оторвался от своих бесконечных пассов с трубкой и внимательно посмотрел в его сторону.
— Вот и напишите, — бросил он.
На следующий же день Поскребышев пригласил его в Кремль «познакомить с материалами». Материалами оказались те же три странички на машинке, которые читал Молотов. И он сразу же пожалел о своей несдержанности. Предмет был для него незнакомым, к тому же за всей историей стояли реальные люди, которые, по словам Поскребышева, были «уже взяты».
Тем не менее он сделал необходимые пометки и решил, что исподволь будет собирать материал и набрасывать план пьесы. Он даже подумывал побывать в родном Саратове. Там можно зайти в знакомый НИИ, адаптироваться к непривычной терминологии.
Но он весь тогда с головой ушел в «Дым отечества», а потом началась катавасия со статьей в «Культуре и жизни», и мысли о будущей пьесе отошли на задний план. Не была ли статья напоминанием? — осенило его. Теперь откладывать работу над пьесой невозможно. Его первым движением было заказать билеты в Саратов. Вторым — попросить Кривицкого подумать над философией пьесы. Тот слыл в редакции за ученого мужа, был начитан в области марксизма-ленинизма, и тут Константин Михайлович полностью и охотно признавал его преимущество. Договорились, что по возвращении из Саратова они засядут часа на три-четыре и побеседуют под стенограмму. Когда подошло это время, выбор пал на Музу Николаевну. Что-то остановило его от того, чтобы втягивать в это муторное, как он уже начал его про себя называть, дело Нину Павловну.
Кривицкий на беседу явился вооруженным до зубов. Цитаты сыпались из него, как зерно из худого мешка. В целом же подход был облегченным. Вроде того, что, мол, раз пишем по заказу самого Сталина, то успех обеспечен.
— А я не хочу, — втолковывал Константин Михайлович своему «ученому соседу», — не хочу написать пьесу, которая будет нравиться с идеологической точки зрения, но которую зритель не будет смотреть. Потому что тогда я сделаю дело только формально, как многие делают — пишут на заданную тему, а потом поступают указания сверху, чтобы это показывали и смотрели. Борьба с преклонением перед буржуазной наукой, буржуазными формами жизни — не кампания, не сиюминутный фактор, и именно с этой мыслью должна создаваться пьеса. Истребляя в сознании наших людей сорняки низкопоклонства, мы воюем со всем буржуазным миром, с чуждым нам миром в целом.
Чтобы поскорее закончить работу, пришлось бросить все и отправиться в Гульрипши, где рядом со стариками Гулия, он начал ладить себе небольшой домишко. Там, под шум волн, «работа пошла в хвост и гриву», как он написал Фадееву, который был в курсе и задания, и напоминания.
В конечном счете получилось вроде неплохо. И название пришло в голову удачное — «Чужая тень». И все-таки, сочинив пьесу и отослав ее, как ему было велено, Александрову, он решил, что специально интересоваться ее судьбой не будет. Как решат, так и решат.
Александров меж тем о пьесе не упоминал, и Константин Михайлович уж было решил, не очень о том горюя, что дело вообще списано в архив. К тому времени он узнал, что над прототипами его героев состоялся суд. Парину дали двадцать лет. Как ни осуждал он их поступок, наказание ошеломило чрезмерностью. К счастью, герои его пьесы, если не считать самой фабулы, не имели даже отдаленно внешнего сходства с осужденными учеными. Да и откуда ему взяться, если он их не знал, не видел и принципиально не интересовался никакими бытовыми деталями.
Очередной звонок Поскребышева раздался через полгода, в конце сентября 1948-го — почти через месяц после смерти Жданова. Как он узнал позднее, экземпляр пьесы непонятным образом застрял у Андрея Александровича.
Поскребышев сказал, чтобы он позвонил по вертушке Сталину. Назвал время.
Он позвонил. Услышал в трубке знакомый глуховатый голос, при звуках которого всегда с трудом преодолевал желание встать и разговаривать стоя.
Сталин сказал, что прочитал пьесу. Считает, что неплохо получилось. У него в ответ вырвались какие-то слова признательности. Но Сталин его не дослушал. Порекомендовал концовку переделать и можно пускать.
— Не надо подвергать такому наказанию, — размеренно произнес Сталин, имея в виду главного героя, — надо, чтобы его простили. Советская власть не так слаба, чтобы не могла, потрепав, простить. Институт требует наказания — и это правильно. А правительство в силах и простить.
Константин Михайлович с удовольствием переделал концовку, и по рекомендации Александрова, который сам «вышел на связь» сразу же после звонка Поскребышева, послал пьесу в «Звезду». Ее тут же поставили в номер.
Месяца через два на заседании секретариата Союза писателей под председательством Фадеева состоялось обсуждение произведений, которые предполагалось выдвинуть на Сталинскую премию. Фигурировала в списке и «Чужая тень». Суждения раздавались разные. Отмечалась актуальность тематики, жизненность образов, своеобразие речевых характеристик, упругость сюжета. Кто-то, однако, поднял голос против концовки. К чему, собственно, призывает автор? Амнистировать предателей, двурушников.
Константин Михайлович в такой чувствительной для него обстановке счел за благо промолчать. Фадеев, который обладал неподражаемым умением закруглять подобного рода углы, предложил завершить разговор на следующем заседании, благо на очереди еще много было других произведений.
Он же, поколебавшись, подумал, что было бы неблагородно с его стороны не довести до Фадеева всю информацию по этому вопросу. Вечером позвонил Саше. Тот вначале рассердился — чего же ты на заседании-то молчал? Как теперь выпутываться будем? И вдруг, без всякого перехода — как это часто с ним случалось — раскатисто захохотал:
— Представляю, какие рожи будут кое у кого, когда они услышат. Оглашу, обязательно оглашу, и не колейно, а на следующем же заседании.
Пьесу поставили сразу в десятках театров. Ему особенно понравилась постановка Захара Аграненко, старого, с военных еще лет друга-приятеля, на сцене Большого драматического в Ленинграде. Немногим раньше Аграненко также успешно поставил «Русский вопрос».
Симонов направил заявку в издательство «Художественная литература», предложив им к изданию три своих пьесы — «Под каштанами Праги», «Русский вопрос» и «Чужая тень», которые, по его мнению, по затронутым в них проблемам могли бы быть органически соединены в одну книгу.
Одним поздним январским вечером — «Чужая тень» еще лежала в бумагах у Жданова — ему домой позвонил Фадеев и сказал, что надо срочно повидаться. Уже по звучанию его голоса можно было понять, что хорошего этот разговор не сулит:
— Подходи к моему подъезду, я сейчас спущусь.
Через пятнадцать минут они встретились и двинулись, привлекая взоры редких уже прохожих — их узнавали, по заснеженной улице Горького. Фадеев сообщил ему следующее:
— Я знаю, что ты был против доклада Софронова и против того, как в нем был поставлен хорошо известный тебе вопрос, — речь шла о недавнем пленуме союза писателей, — знаю, что у тебя была в этом вопросе другая позиция, чем у меня. Но сейчас все это уже не имеет значения, все это перешло уже в совершенно другую плоскость, на другой уровень... И встретился я с тобой, потому что беспокоился за тебя и не хочу, чтобы ты, не зная всего, как оно есть, сломал бы себе шею — бессмысленно, безнадежно и безо всякой пользы для кого бы то ни было...
За этим предисловием последовал рассказ о том, что Сталин прочел материалы недавнего пленума союза то ли в газете, то ли в стенограммах. Прочел и придал делу политическое звучание. По его указанию подготовлена большая статья, над ней трудился целый коллектив. На днях она появится в «Правде». Полетят головы...
— Тебя не привлекали, поскольку ты был против, — то ли оправдываясь, то ли, наоборот, гордясь этим, повторил Фадеев.
Участвовал ли он сам в написании статьи, Фадеев не сказал, но у Константина Михайловича сложилось впечатление, что участвовал. Идея пленума принадлежала ведь Саше. И он на этом пленуме выступил с почти часовой речью. Он давно и серьезно занимался этой темой. Опасностью проникновения иностранного, буржуазного влияния, безудержного преклонения перед всем, что идет от Запада. Эта опасность не вчера родилась. Это пережиток прошлого. Он часто приводил слова Белинского о космополитизме. Саша вообще много читал по этому вопросу, продумал его всесторонне, его волновала прежде всего теоретическая сторона вопроса о космополитизме. На него произвели особое впечатление высказывания Сталина о необходимости борьбы с низкопоклонством, которые они вместе слышали во время одного из заседаний в Кремле в связи с присуждением Сталинских премий.
Странно только, что он не понял, что Софронов, которому поручил доклад, использует трибуну исключительно для сведения счетов с критиками, вроде Борщаговского, и соперниками—драматургами. Но так именно и случилось. Константину Михайловичу рассказывали, что у Шепилова, который от ЦК занимался подготовкой пленума, волосы встали дыбом, когда он прочитал в предварительном порядке Толин доклад. Он даже предложил отложить пленум, но Фадеев, тоже член ЦК, с этим не согласился. Он сказал, что у Софронова есть еще время переделать доклад. Ему, видно, уже не терпелось поделиться своими изысканиями в области космополитизма, что удачно корреспондировало с высокой оценкой Сталиным ряда реалистических пьес на современные темы, среди которых были названы «Московский характер» Софронова и «Зеленая улица» Сурова. Все они к тому же шли во МХАТе к которому Фадеев, по понятным причинам, питал особые чувства.
Софронов в докладе не упустил случая лягнуть Борщаговского, а тот, забыв на минутку о суровых реалиях, тоже в долгу не остался, сказал этому набиравшему силу толстяку все, что он думает о его докладе и его драматургии заодно.
Фадеев поддержал не Борщаговского, а Софронова, хотя и бросил по ходу выступления Шуры пару одобрительных реплик. Шура даже утверждал, что сам слышал, как Генсек, наклонившись к соседу по президиуму и пустив для верности матерком, сказал: а ведь он прав! Знал Константин Михайлович и то, что, прочитав в «Литературке» материалы пленума, Сталин отодвинул в сторону письма возмущенных докладом Софронова писателей, которые ему показал Шепилов, и заявил: мы не позволим антипартийным силам травить Фадеева и МХАТ. Это и значило, как назвал Саша, придать делу политическое значение.
В конце своего сбивчивого монолога упомянул Фадеев и Борщаговского. Знал, как они близки, и не мог не упомянуть. Но называть эту фамилию ему было, по всему видно, тяжело.
Константин Михайлович тогда же решил, что завтра поговорит с Шурой. События следующего дня только подтвердили неотложность встречи.
Попрощавшись на другой день с Ниной Павловной и Музой Николаевной, которым, как всегда, оставил приличное «домашнее задание», он зашел в клетушку Борщаговского, пригласил его поехать к нему на дачу, в Переделкино, повечерять. Тот почувствовал, а, может, что-то уже и знал, что разговор будет важным, попросил разрешения позвонить, отменить все намеченное на вечер.
Константин Михайлович кое-кого еще раньше пригласил к себе, редкий вечер был, чтобы у него не собиралось несколько старых товарищей, и отказать им было никак невозможно да и неудобно — как раз сейчас не должно быть никаких намеков на панику. Вечер протекал точно так, как подобные вечера начинались и протекали у него обычно о чем, он знал, молва общественная уже успела выразить свое мнение. Правильно, в общем-то, говорили, что у него, Симонова, дом — полная чаша, что он сам любит выступать на таких вот, чуть ли не ежедневно устраиваемых сборищах друзей и тамадой, и кулинаром, а еще больше любит, после двух-трех выпитых чарок, читать и слушать стихи, свои и чужие.
И что в отличие от многих завсегдатаев этих его вечеров, длившихся нередко до глухой ночи, а то и раннего утра, поспав всего несколько часов, он мог вовремя встать и усесться за работу — читать рукописи, отвечать на письма, диктовать статьи, стихи или прозу.
На исходе третьего часа ночи, когда дачу покинул последний гость, сказал Борщаговскому голосом абсолютно трезвого человека: вот теперь можно и поговорить.
Вали в тот вечер на даче не было. Маша, естественно, давным-давно спала. Даже Маруся, убрав со стола недопитые бутылки грузинской хванчкары и армянского коньяка, пожелала спокойной ночи.
Не прерываясь и не сводя глаз с Шуры, он стал говорить о том, что сегодня днем состоялось Оргбюро ЦК под председательством Маленкова. На нем решено, что в «Правде» появится статья о театральных критиках, которым будет предъявлено обвинение в космополитизме и антипатриотизме, будут названы имена, в числе прочих и его — Борщаговского.
Сказал, что Шура будет выведен из состава редколлегии, освобожден от должности заведующего отделом в журнале и от других должностей. Статья появится не сегодня-завтра.
Еще сказал Шуре, что просит его иметь в виду, с его, Симонова, стороны ему будет оказана поддержка и помощь во всех возможных рамках, в том числе и материальная. Он даже попытался тут же всучить ему, как бы взаймы, тысячу рублей. Шура, вид у которого был совершенно оглушенный, от денег категорически отказался, и он решил отложить эту щепетильную операцию до следующего раза.
Статья в «Правде» появилась через день. Редакционная, т.е. без подписи, статья под заголовком «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Термин «группа» родился, говорили, у Сталина. Именно употребление этого термина придавало и названию статьи, и самому ее содержанию угрожающий характер.
Когда через десять дней он позвонил и снова пригласил Борщаговского на дачу, тот явился, по его собственному выражению, яко наг, яко благ, освобожденным от всех обязанностей и прав, лицом без определенных занятий, чья партийность и пребывание в Союзе писателей тоже уже находились в стадии рассмотрения. Нетрудно было предположить, чем это рассмотрение закончится.
Он начал с планов Шуры на дальнейшее.
— А какие могут у лишенца быть планы? — отрешенно пожал тот плечами.
Тем не менее, уступая настойчивости недавнего шефа, Шура выдавил из себя, что вообще-то он никогда не мыслил себя только театральным критиком и что давно уже одолевают его два эпических сюжета — один об обороне Камчатки в 1854-55 годах, другой — об исходе, как он это называл про себя, приднепровского еврейского колхоза в годы войны на Восток, к реке Урал — со всеми старыми и малыми, скарбом, стадом племенного скота, словом, со всем тем, что можно еще было увести из-под носа фашистов.
Шура рассказывал ему об этом вяло, с апатией, всем видом показывая, что и сам не понимает, для чего теперь все это. Константин Михайлович слушал его с подчеркнутым интересом и задавал по ходу дела такие вопросы, которые, хочешь-не хочешь, выбивали его собеседника из состояния летаргии, заставляли вспоминать детали, горячиться, повышать голос, возражать.
Выпотрошив приятеля до конца, он заявил ему, что надо немедленно садиться за роман о Камчатке, поскольку нет у него сейчас, и это объяснимо, того спокойствия души, той уверенности, которые позволили бы писать трудную правду о 41 годе. А неправду — зачем? В жизненных событиях середины прошлого века он будет свободен и в словах, и в мыслях, и в душевных движениях, защищен несомненностью истории... Короче говоря, для него будет не только полезно с практической точки зрения, но и душевно целительно оказаться в кругу благородных героев, о которых пойдет речь в романе, который они тут же с ходу назвали «Русский флаг».
Константин Михайлович сказал ему далее, что попробует помочь заключить договор, авансовый (!), на эту вещь с издательством, а пока будет авансировать его сам. Естественно, только в долг, — успокоил он встрепенувшегося собеседника. Аванс потому и называется авансом, что его отрабатывают или возвращают, — назидательно добавил он.
Он снова вынул из кармана давешнюю тысячу и чуть ли не силой вложил ее в карман Борщаговскому.
После этого перешел к своим делам. Предупредил, что это снова будет тяжкий для обоих разговор. Еще более тяжким было решение, которое ему предстояло принять, о чем он и решил посоветоваться со своим поверженным, но не сломленным другом.
Такой наглости — полувшутку, а полувсерьез заметил Шура, когда ему была изложена суть дела, — он даже от Кости не ожидал. И вообще, мол, что ему нужно — совет или индульгенция? Симонов же сказал, что утром, после чего он и позвал Борщаговского, ему был звонок из ЦК, от Маслина. Да, тот самый, — словно бы угадав его мысли, подтвердил Константин Михайлович. — И звонил он не от себя, а по поручению Маленкова.
— В ближайшие дни должно состояться общемосковское собрание драматургов и критиков. Вы понимаете, Шура, на какую тему. Так вот Маслин передал мне личную просьбу Георгия Максимилиановича выступить с докладом на эту тему.
Назвав и без того достаточно высокое имя, Константин Михайлович не сомневался, что его собеседник понимает, что имеется в виду, что за этим именем стоит еще другое, самое главное.
Он откровенно признался Шуре, что не хотел бы выступать с этим докладом. Что по совести-то с этим докладом должен выступить Фадеев. Но он только что уехал в командировку. За рубеж. И вернется, кажется, не скоро.
— Как всегда, заварил кашу и скрылся, — сорвалось вдруг у него, и он подумал, что даже Борщаговский не слышал от него раньше такого о Фадееве.
Он понимал, насколько рискованный это шаг — просить совета у поверженного ныне в прах, в том числе и его руками, друга. Не углядит ли он в этом ханжество, попытку загладить свою, пусть и невольную, вину. Без лишних слов он давал Шуре понять, что они оба жертвы одной и той же ситуации, хоть их роли в этой человеческой комедии далеко не одинаковы. Что-то подсказывало ему, что в положении Борщаговского принять на себя еще одно, его, симоновское, бремя — значит не утяжелить, а облегчить свою собственную ношу. В святое святых механизма власти Константин Михайлович посвящал того, против кого этот механизм был пущен в ход. Ему, если он все-таки возьмется за этот доклад, «темы Борщаговского» не миновать.
Он старался рассуждать так, как будто речь шла о чем-то таком, что к ним обоим непосредственно не имело отношения. Ему казалось, что так им обоим будет легче — и думать, и делать выводы, и смотреть в глаза друг другу...
Время шло. Телефон молчал, Маслин не звонил.
Нет, у него не вызвала сомнений — он еще и еще раз это повторил — правильность исходных положений, высказанных в статье и выступлении Фадеева на пленуме.
Если бы это было не так, не могло бы и речи быть о его участии в этом деле, он бы так сразу Маслину и заявил. И любому другому. Но Дело обстояло иначе. Он как раз видел и понимал, что проблема есть, что опасность существует. В творческом смысле он уже и сам указывал на нее и не раз. Тут он упомянул «Чужую тень».
И вообще сама по себе борьба с космополитизмом и низкопоклонством, с условием, что она ведется в разумных практических и теоретических рамках, представляется ему верной и необходимой. В этом Фадеев прав.
Вот бы теперь Фадееву самый резон и выступить с докладом! Вернуться к истокам. Подчеркнуть главное, непреходящее в статье «Правды», а все то, что попытался привнести Софронов, эту, по сути, уголовщину, расправу с неугодными ему критиками отсеять твердо, бескомпромиссно, как он это один умеет. По-фадеевски... Ему бы тут и карты в руки. Ни у кого другого нет таких прав на это, как у него. Но он уехал... И тут уж ничего не поделаешь. И выбирать им там, наверху, — он показал указательным пальцем на потолок — приходится теперь из двоих. Без Фадеева доклад этот по всем, в том числе и формальным соображениям, могли сделать только он, Симонов, заместитель Генерального секретаря союза, или Софронов, оргсекретарь союза.
Наверху решили предложить сделать доклад ему, Симонову, и с этим нельзя не считаться. И не только по соображениям дисциплины, субординации. Его-то первый порыв был — отказаться. Поблагодарить за честь и отказаться.
Если же, тем не менее, он не возьмет на себя этот проклятый доклад, его сделает Софронов. Можно не сомневаться, что уж он-то страстно этого желает. Чтобы добить всех, кого только можно добить и кого он еще не добил.
Наверное, это понимали наверху и поэтому предложили сделать доклад не Софронову, а Симонову.
Конечно, и ему, Симонову, не дано как-то смягчить, сгладить содержащиеся в статье из «Правды» политические формулировки. Но он, по крайней мере, попытается помешать устроить вокруг этой статьи вселенскую смазь.
Нет, он не может, не имеет права уйти сейчас в кусты, отдать этот доклад Софронову. Он не станет ждать второго звонка Маслина. Он позвонит ему сам и скажет, что согласен.
— По крайней мере, — заключил весь этот их разговор Константин Михайлович, когда звонок в ЦК уже был сделан, — выступив с этим докладом, я смогу в личном плане помогать людям, которые будут в нем осуждены.
Прощаясь с Шурой, он попросил его не приходить на собрание, опасаясь, что тот со своим темпераментом наломает новых дров. Слава богу, Борщаговский последовал его совету и только из рассказов очевидцев мог узнать, что выступивший одним из первых в прениях драматург Ромашов заметил недовольно, что об Александре Михайловиче было сказано «мягче свирели».
Через две недели Константин Михайлович сидел над сорока страницами доклада «Задачи советской драматургии и театральная критика» и готовил его к печати для третьей книжки «Нового мира» за 1949 год.
Он вновь и вновь сопоставлял то, что задумывалось, с тем, что поручилось. Решал для себя, достигнута ли цель, с которой он взялся делать этот доклад проклятый, все-таки иначе он не мог называть его про себя. Цель была в том, чтобы предотвратить превращение литературной дискуссии в политическое преследование.
Он предполагал сделать доклад интеллигентно, подвести историко-теоретическую базу. Как скорая помощь вновь был призван Кривицкий. С тем, чтобы уйти от бесконечного перечисления имен, объявленных группой в правдинской статье, он делал исторические экскурсы, специально обращался к именам и произведениям, которые имели уже чисто архивное звучание. Не стеснялся, конечно, проезжаться по поводу зарубежных деятелей, коль скоро докладу требовались острота и наступательность.
«Космополитизм в искусстве — это стремление поставить на место Горького — Сартра, наместо Толстого — порнографа Миллера». Соммерсет Моэм с его пьесой «Круг» фигурировал в докладе как ницшеанец, циник и английский разведчик, коим он действительно был. Досталось даже Ростану — не говоря уж о всем западном театре — «самом архибуржуазном из всех видов буржуазного искусства, который разучился по-настоящему ставить Шекспира и не научился ставить Чехова и Горького».
Увы, стремление увести разговор на исторически-теоретические просторы, а также занять место и время описанием достижений современной советской драматургии не спасло. Пришлось, а что поделаешь, похвалить и тот же понравившийся Сталину «Московский характер», и милого сердцу Фадеева Сурова, эту новоявленную звезду с его «Зеленой улицей» и «Большой судьбой». Не избавило и от разговора о язвах сегодняшнего дня: с добавлением соответствующих эпитетов перечислил имена тех, кто был назван в той статье: «Самыми давними теоретиками группы были Гурвич и Юзовский. В ее деятельности принимали активное участие Малюгин, Борщаговский, Бояджиев, Варшавский, Холодов, Альтман и некоторые другие». Не обошлось, естественно, без разговора об этих «некоторых других».
Когда Кривицкий выкопал «Гамбургский счет» Шкловского, это показалось счастливой находкой. Многие, причем многостраничные, пассажи в ней убедительно подтверждали, что все эти космополитические теории не сегодня родились. Еще в двадцатые годы автор пытался списать со счета Вересаева и Серафимовича, Горького называл «сомнительным», зато Хлебникова — «чемпионом».
По тому самому «Гамбургскому счету» выходило, что «духовным прародителем советского киноискусства является американская кинематография», что все оно пошло от Грифитса. Как тут было не вспомнить более чем двадцатилетней давности формалистический сборник «Поэтика кино» и одного из «главных теоретиков буржуазного формализма Эйхенбаума» — тоже Кривицкий подложил. «Ну, а уж оттуда — прямая дорожка в наши дни, если говорить о кино, к последним выступлениям Блеймана, Коварского, Юткевича... Нет, господа космополиты, мы не желаем брать себе ни в родители, ни в прародители, ни даже в троюродные бабушки американскую кинематографию, начинавшую с декадентства и кончившую Ку-Клукс-Кланом».
Быть может, оттого, что книга Шкловского была помечена двадцать восьмым годом и внешне выглядела, как фолиант времен моей бабушки, вроде казалось, что говоришь не о реально существующем, во крови и во плоти человеке, быть может, сидящем сейчас в этом самом Дубовом зале, а о призраке, духе далеких, давно ушедших лет.
А он — живой человек. Живой человек с большой и круглой, сократовской головой, с горящими, устремленными на тебя, как два прожектора, глазами, с язвительной усмешкой на резко очерченных губах.
И Борщаговский, Шура, близкий друг — живой человек. Благо, что удалось хорошо, подробно поговорить с ним перед этим докладом, что он послушался совета и не пришел на собрание. Но если бы знали, как это мучительно, поливать его с трибуны, а потом вести с ним разговоры о его романах, совать в карман пиджака очередную тысячу, от которой тот всякий раз отмахивается, как от проказы, но без которой ему все равно не прожить.
Он читал и перечитывал доклад, готовя его к печати в своем журнале, так ему посоветовали сделать, и то чертыхался, то ловил себя на том, что нет-нет да и появится, как у фигуриста на льду, профессиональное желание порезче, покруче завернуть тот или иной пассаж, сорвать аплодисменты лихим пируэтом вокруг того или иного «неприкасаемого» имени. Он не всегда был способен отказать себе в этом.
Между тем — то ли это чудилось ему, то ли было на самом деле, но звонков ему стало меньше в эти дни, и коллеги по журналу заходили в кабинет лишь по самой крайней надобности. Понимали его настроение? Проявляли такт? Или... Нина Павловна как назло свалилась с жесточайшей простудой... Ее уже вторую неделю не видно.
Дело было сделано. Он со свойственной ему беспощадностью к себе не пытался приукрасить случившееся, вернее, совершенное.
Вспоминалась притча об Аврааме из Библии — привез тайком экземпляр из Штатов на русском языке и недавно закончил читать. Так же, как и библейскому старцу, ему было приказано голосом свыше принести в жертву самое дорогое, что у него есть... У Авраама это был сын Исаак, у него — совесть... Авраам оказался счастливее, — с усмешкой отмечал он теперь. В последнюю минуту посланный боженькой ангел отвел занесенную над сыном руку с ножом, вознаградив при этом за безоглядную веру. Ему, Симонову, никто не пришел на помощь, и теперь ему самому предстояло испить до дна свою чашу.
Страдая и чертыхаясь, он сидел над гранками, когда зазвонил телефон и в трубке послышался голос Ильи Григорьевича Эренбурга.
Эренбург, вопреки ожиданиям, спокойно поинтересовался, как идут дела, и попросил, если нетрудно, заехать к нему домой. По возможности, не откладывая.
Старательно приучавший себя не торопиться — ни в словах, ни в делах — Константин Михайлович вспомнил об этом своем правиле уже после того, как поспешно ответил Эренбургу, что у него как раз есть пара часов, а потом их выкроить будет уже значительно труднее. Так что, если не возражаете, я бы появился прямо сейчас. Эренбург, конечно, не возражал.
Эренбург тогда, по сведениям Симонова, который тоже был занят подобными заботами, только еще заводил себе дачу в Новом Иерусалиме, на Истре, километрах в шестидесяти от Москвы, и в основном жил на городской квартире. Так что ехать было недалеко. Если бы старик хотел его обругать, обложить покрепче, он бы сделал это по телефону, за ним бы не заржавело. Домой для этого он приглашать бы не стал.
С тех пор, как вместе съездили в Америку, они часто встречались. И по делам, и просто так. Впрочем, когда речь идет о двух, не таких уж вовсе незначительных писателях, определить, когда они видятся по делам, а когда — просто так, очень трудно. В «Новом мире» печаталась «Буря», которую Эренбург начал еще до их поездки в Штаты. Пока он ее писал, Симонов был для Эренбурга чем-то вроде связного между его хрустальной башней и внешним миром. Когда роман «Буря» был в основном закончен и принесен автором в редакцию, Константин Михайлович посвятил Илью Григорьевича в суть некоторых высказываний Сталина по литературным делам, в том числе и по поводу космополитизма и низкопоклонства. Эренбург чуть ли не полжизни проскитался за границей. Действие «Бури» тоже происходило в основном за рубежом, в его любимой Франции, так что ему нелишне было знать кое-что о том, как сейчас ставятся вопросы. Он оказался довольно покладистым автором. Многое из того, что могло бы вызвать осложнения, поправил сам, исходя из сути симоновских рассуждений, не дожидаясь, пока на страницах рукописи появятся пометки.
Когда роман вышел, Константин Михайлович не раз и всегда с превеликим удовольствием поздравлял автора с успехом. Рассказывал, как решался вопрос о Сталинской премии, передавал ему диалог, который состоялся между Сталиным и Фадеевым — в результате чего роман был передвинут со второй на Сталинскую премию первой степени.
Тогда же или позднее он давал Эренбургу и Федину читать верстку «Дыма отечества». Они читали и хвалили вслух, а потом в той, теперь, Бог даст, уже забытой статье им попало заодно с ним.
Нетрудно было догадаться, что и в этой новой каше, заварившейся в связи со статьей в «Правде», Эренбург чувствует себя неуютно.
О многом могла пойти сейчас речь в большой, населенной не только людьми, но и большим количеством кошек квартире на улице Горького. Не мешало бы иметь в запасе еще хотя бы полчасика, чтобы собраться поплотнее с мыслями. Но шофер уже лихо затормозил. Приехали! Ничего не поделаешь, надо идти.
Кроме хозяина, встретившего гостя с клетчатым пледом на плечах, да неизменных кошек дома никого в этот достаточно поздний час не было. Через холл в гостиную прошли в кабинет. Трубки, журналы на столе и подоконниках, полки, забитые книгами, стены по французскому образцу сплошь увешанные всех форматов гравюрами, фотографиями, небольшими картинами, в основном — этюдами...
Хозяин уселся, точнее, провалился в облезлое и обшарпанное вольтеровское кресло. Гостю предложил другое, посовременнее.
Посидели, помолчали. Не считая нужным заговаривать первым, в конце концов, Эренбург был инициатором их встречи, Симонов полез за трубкой и кисетом с табаком — лучшее средство выдержать взятую паузу.
Эренбург молчал, скорее всего, даже не замечая этого. Сидел нахохлившийся, встрепанный, недаром была у него в юности партийная кличка Илья Лохматый. Чем-то напоминал того, в исполнении Огюста Родена, кто дал свое имя креслу, в котором теперь сидел Илья Григорьевич.
— Этой ночью часа в два, — начал Эренбург, — вдруг раздался звонок в дверь. Представляете? — он саркастически усмехнулся. — Люба к дверям, а я — к чемоданчику с двумя сменами белья, — он еще в Штатах любил рассказывать, что держал таковой всегда при себе перед войной. — Оказалось, ваш шофер. Вы, должно быть, в курсе? Валентина Васильевна узнать прислала, не у нас ли вы задержались. У него кровь бросилась в лицо. Чертыхнулся внутренне и на Валю за эту глупость, и на шофера — не предупредил. Тем более, что задержался он вчера не у друзей, и не в Дубовом зале, а в своем кабинете в «Новом мире».
— Я не в претензии, — усмехнулся уже лукаво Эренбург. — Наоборот, даже, пожалуй, благодарен. Иначе, может быть, и не подумал бы о вас. А мне нужны именно вы.
«Любезное начало, ничего не скажешь», — подумалось гостю. Но он продолжал молчать и вопрошающе смотреть на собеседника.
Оказалось, что Эренбург хочет, чтобы в союзе провели вечер, посвященный сорокалетию его творчества. В 1909 году были опубликованы его первые стихи, так что для проведения такого вечера есть все основания.
Эренбург воинственно поглядел на него, как бы давая понять, что вполне сознает, что сказанное им поставит собеседника в трудное положение. Так оно и было. Он стал торопливо прикидывать, что сказать в ответ. Через два года, то есть в 1951 году Эренбургу будет шестьдесят лет. Дата, действительно, достойная юбилея. И хотя времени впереди еще немало, в союзе, по существу, уже начали готовиться к ней. То есть как начали? В долгосрочные календари наряду с другими занесли и такую запись: 27 января 1951 года — 60 лет И.Г. Эренбургу, выдающемуся советскому писателю, лауреату Государственных премий.
Илья Григорьевич, отнюдь не новичок и не посторонний человек в совписовских коридорах власти, не хуже его понимал, что такое по нашим меркам шестидесятилетие и как его можно отметить, когда речь идет о деятеле культуры такого масштаба, как он, и как важно не замельчить, не перебить чем-то второстепенным. Одну свадьбу дважды не играют.
Однако Эренбург хочет, чтобы было отмечено сорокалетие его творческой деятельности.
— Мне нужен этот вечер, — ворчливо и неуступчиво бубнил Эренбург, хотя никто ему не возражал. — Мне важно, чтобы он состоялся.
Константину Михайловичу стало ясно, что Эренбургу хотелось проверить отношение к себе.
Одну проверку они уже вместе произвели. Однажды Эренбург заехал в «Новый мир» так же вот вечером, поделился с Симоновым своим беспокойством. Некоторые симптомы казались ему зловещими — не звонят, не заказывают статей, за заказанными ранее не приходят, отправленные лежат в редакциях, редактора не говорят ни да, ни нет. Константин Михайлович, не задумываясь, предложил свои услуги. Он может написать Шепилову, который производит очень хорошее впечатление. Напишет, что Илья Григорьевич находится в странном, тревожащем его и руководителей союза положении — Фадеев наверняка не будет против этого возражать — и что он, Симонов, считает необходимым довести об этом до сведения тех, кому это необходимо знать, в уверенности, что дело немедленно же будет поправлено.
Письмо было написано, показано Эренбургу, отправлено, но ответа никакого не поступило и по сию пору... Теперь Эренбург, с его холерическим темпераментом, способный неопределенностью тяготиться куда больше, чем самою бедой, хотел испытать судьбу еще раз. Воспрепятствуют или нет проведению этого вечера? Если к нему начнется подготовка, состоится он или нет? Он предпочитал пойти навстречу опасности, тем более грозной после всего мрачного и тяжкого, что вылезло наружу на собрании московских драматургов и критиков. Но почему Эренбург решил обратиться именно к нему, выступившему с докладом на этом собрании? Полагал, что тому, кто выступил с таким докладом, не откажут? Неужели старик разгадал, почему он сделал этот доклад? И теперь как бы предлагает ему первую возможность убедиться в том, что его жертва была не напрасна? Но почему он тогда излагает все в такой брюзгливой манере?
— Вот вы замещаете Фадеева. Как вы, готовы решиться на проведение такого вечера?
— Я-то готов, — неопределенно протянул он.
— Вот и проведите, если готовы, — как бы ловя его на слове, все в том же ипохондрическом ключе заключил Эренбург.
Наверное, он просто неловко себя чувствует оттого, что в сущности предлагает ему пожертвовать собою. Но Илья Григорьевич не догадываетсяи, быть может, никогда не узнает, как несказанно он обрадовал его своим предложением. Не напутал, не обескуражил, как он, должно быть, думает, судя по этому его угрюмому тону, а именно обрадовал. Он, он ясно представлял себе, с какими невероятными сложностями и опасностями столкнется, если согласится. Это ли не шанс показать, а так оно и есть на самом деле, что и в случае с докладом, и теперь он ведет одну линию — борется за все лучшее, здоровое, интернационалистское в литературе и выступает против всего мелкого, корыстного, гнилого, в какие бы тоги оно ни рядилось. Он, конечно же, примет предложение Эренбурга и с радостью, которую старику, однако, не покажет, возьмется за подготовку вечера и сам будет на нем председательствовать. Какие бы ни возникли при этом препятствия, какие бы громы и молнии на него ни посыпались, он найдет, что сказать. Эренбург — это вам не Эйхенбаум и не Шкловский. И не Гурвич, который устроил камеру пыток для драматургии Погодина. Эренбург — это Эренбург!
Вместо ответа он просто подвинул кресло поближе к столику, возле которого они сейчас с Эренбургом сидели, вынул из кармана своего заграничного — настоящий твид — пиджака авторучку, блокнот и стал с ходу намечать основные детали вечера. Определили приемлемое для обоих число — 5 марта 1949 года, место — Дубовый зал ССП. Составили в первом приближении список тех, кого И.Г. хотел бы видеть на вечере — в зале и в президиуме. С президиумом, оба понимали, было сложнее. Нельзя было наприглашать туда столько, чтобы, в конце концов, образовалось столпотворение. Но и видеть зияющие пустоты в почетных рядах в такую пору было еще нежелательнее. Об этом вслух не говорили, просто мысленно руководствовались этими соображениями, когда перебирали кандидатуры.
В качестве возможного докладчика они в тот вечер называли Всеволода Вишневского. Эренбургу, наверное, показалось все же неудобным и доклад взваливать на Симонова. Он же просто постеснялся назвать самого себя. Всеволод, ни минуты не колеблясь, приветствовал идею вечера, готов был даже председательствовать на нем, если потребуется, но от чести делать доклад попросил его избавить — плохо себя чувствовал, а ведь доклад—это большая работа. Надо многое перечитать, продумать, написать. Так что Симонов взялся за это сам.
Остальное было делом техники. На правах исполняющего обязанности генерального вызвал тех, кому было положено заниматься организацией юбилейных вечеров, передал им списки приглашенных, составил текст пригласительного билета, который попросил также разослать всюду, куда полагается в таких случаях. Убедившись, что дело закрутилось, «исчез», как стало принято говорить в союзе, для подготовки вступительного слова. Решил, что напишет текст сам — от начала до конца. И на вечере прочитает его от «а» до «я» тоже сам.
В Переделкино работалось взахлеб, дышалось легко: он действительно любил творчество Эренбурга. Особенно его военную публицистику, которую ставил выше всего, что создал юбиляр. Хотя сам он больше всего ценил свою поэзию и считал, что по-настоящему она будет понята и признана только потомками. Он же обожал его публицистику, быть может, и потому, что она возникала у него на глазах и всякий раз возвращала его в ту незабываемую военную пору, которая со всеми ее лихими бедами, опасностями, бессонными ночами, потерями все равно останется лучшею порою в жизни. Он был тогда молод, искренен, безоглядно смел, каждое рожденное им стихотворение, подобно статье или памфлету Эренбурга, птицей облетало всю воюющую армию и всю страну. Тогда позади у него не было таких докладов, как этот, на московском собрании драматургов и критиков... Каждый раз, когда мысль касалась, как язык — больного зуба, хотя бы краешком этого творения, что-то тяжелое и жесткое поворачивалось у него в груди.
Стиснув зубы, он снова набрасывался на работу, и тяжесть растворялась. Каждая новая тирада во славу Эренбурга была словно пулеметная очередь по невидимому, но настырному, лезущему и лезущему вперед врагу, образ которого упрямо ассоциировался с массивной, начинавшей оплывать фигурой Софронова.
— Мне хочется говорить об Эренбурге как человеку, который в годы войны работал вместе с ним в одной и той же военной газете, вместе бывал на фронте, вместе выступал в Америке, в Канаде, в разных американских аудиториях, которые в общем-то, надо сказать, тоже были своего рода фронтом.
— Илья Эренбург имел счастье и честь быть военным корреспондентом в Мадриде... В наших студенческих аудиториях мы встречали его с орденом Красной звезды на лацкане мешковатого пиджака, а этот орден тогда почти без исключения молчаливо означал только одно — этот человек был в Испании.
— 22 июня 1941 года... Эренбург написал свою первую военную статью, которая так и называлась «В первый день». Последнюю военную статью он написал в День Победы.
— Вспоминая войну, вспоминают статьи Эренбурга. Трудно сказать больше, чем это.
— Мне и сейчас вспоминаются вечера в маленькой комнате редакции, где он, сидя за столом, отстукивал на машинке свои статьи.
Невозможно было, говоря об Эренбурге, не говорить о себе. Тут и на гран не было нескромности. Он в основном ведь рассуждал об Эренбурге на войне, а это был тот отрезок жизни, который они пережили вместе, хотя друзьями их в ту пору назвать было нельзя. Теперь, лихорадочно работая над этим текстом, он, отягощенный званиями, должностями, положением, славой, рад был стряхнуть весь этот груз и вновь почувствовать себя учеником, талантливым, как все признавали, наступающим на пятки, но учеником, не стесняющимся выразить свое восхищение учителем.
Когда выступление было почти готово и оставалось только чем-то ударно завершить его, на дачу позвонила Нина Павловна и сообщила, что его просил приехать Шепилов.
На столе у Шепилова, когда он пришел к нему, лежал пригласительный билет на вечер в честь Ильи Эренбурга. Шепилов, посматривая на этот билет, который был послан ему в порядке информации — такой был порядок, — сказал, что надо подумать, как наилучшим образом отменить этот вечер. Он не ко времени... То есть, это ему, Симонову, надо подумать и взять на себя, потому что он сейчас замещает Фадеева, которого, как Шепилову известно, еще несколько дней не будет на работе.
Направляясь в ЦК, он был внутренне готов услышать что-то подобное. Удивляя своими словами собеседника, да, пожалуй, и самого себя, ответил, что, как отменять вечер, который должен состояться послезавтра, он не знает, и поэтому делать этого не берется. Зато он знает другое — что делать этого никак нельзя, что это будет непереносимым ударом для Эренбурга. А если, наоборот, провести вечер, то ничего худого не произойдет. Он за это ручается. Он сам написал вступительное слово, отвечает в нем за каждую букву и вообще готов нести полную ответственность со всеми вытекающими последствиями.
Он закусил удила. Дав Эренбургу согласие, он сделал свой выбор, и с тех пор каждый час, каждая минута, проведенные в мыслях и хлопотах об этом вечере, были словно бальзам на саднящую рану, нанесенную тем «треклятым» докладом самому себе.
Шепилов понял его состояние. Его отчаянную, как у загнанного в угол зайца, решимость стоять на своем.
— Хорошо, раз вы не находите никаких возможностей отменить этот вечер, проведите его на полную вашу ответственность. Отвечаете за него вы, вам это понятно?
Он потом подумал, что, наверное, к тому времени, когда у них состоялся этот разговор, Шепилов еще не докладывал Сталину по этому вопросу, а, может быть, и вообще решил не докладывать, посчитав, что если будет прямое указание, вечер можно отменить в последнюю минуту.
Накануне юбилейного торжества он весь день сидел у себя в кабинете в союзе и со страхом поглядывал на «вертушку».
Чего он боялся больше — того, что позвонят или наоборот?
Заканчивая редактировать текст, он упор сделал на последних выступлениях Эренбурга. В этом был особый расчет, основанный на благоприобретенном за крутые послевоенные годы знакомстве с психологией литературно-служивого мира, в котором он вращался.
Хитрость, в сущности, была очень простая. Важно было показать, что Эренбург вовсе не в какой-то опале, не в аллегорическом изгнании и не во внутренней эмиграции. Вот же, смотрите, его последняя статья «На пороге сорок девятого» напечатана в новогоднем номере газеты «Культура и жизнь». Заметьте — не где-нибудь, а в «Культуре и жизни».
«...Говоря о таком писателе, я просто должен упомянуть о нескольких последних его выступлениях, давность которых измеряется всего месяцами, — «Мы и они», «Мир народам»...»
Перечислить эти статьи в той, насыщенной электричеством обстановке значило напомнить, с каким сарказмом разделался Эренбург с одним из наиболее оголтелых поджигателей войны, американским финансистом Барухом. С этим обожателем атомной бомбы. Не бросая никому и ничему вызов, показать, так сказать, боевую ортодоксальность подопечного, а заодно и себе обеспечить алиби, как человеку, который и слыхом не слыхивал ни о каких тучах над головой, слухах, тем более реальных провинностях выдающегося писателя, пламенного публициста, страстного, без страха и упрека, борца за мир, лауреата Сталинской премии первой степени.
Симонов был так сосредоточен на своем тексте, что многие важные подробности этого вечера просто выпали потом из памяти. Помнил только внешнюю его канву — председательствовал, как и договаривались, Вишневский, кто-то из них двоих вручал потом Илье Григорьевичу адрес. Что-то говорил, конечно, в ответ и сам Эренбург, но что — он этого совершенно не помнил, как не помнил того, что говорил Вишневский в заключение, что говорили другие, и вообще, кто выступал. Не помнил и того, кто был на вечере, кто сидел в президиуме. Сохранилось только общее впечатление — зал был далеко не так полон, как он был бы полон в другое время. В президиуме оставалось несколько незанятых мест.
Хорошо, что снимал на этом вечере один из его старых друзей, военных корреспондентов, который нашел правильный ракурс. В президиуме отчетливо видны были Михаил Светлов, Константин Федин, писатель — генерал с царских времен Игнатьев, Николай Тихонов, Александр Довженко, Мариэтта Шагинян, маршал Ротмистров...
Сидящие в зале видны были в затылок и среди них можно было узнать Льва Кассиля.
Эренбургу вечер принес удачу. Проведенная разведка боем, как это бывает со всякой удачной разведкой, не только прояснила ситуацию, но и изменила ее. Сгущавшиеся над Эренбургом тучи, отнюдь не призрачные, судя по разговору с Шепиловым, развеялись.
Вечер ли помог тому, что кампания борьбы с космополитизмом пошла на убыль, они ли, наоборот, вместе с Эренбургом, Вишневским да и Шепилов остались ненаказанными оттого, что судьба кампании была уже предрешена, — судить было трудно. В конце марта того же 1949 года Сталин собрал редакторов и сказал: «Товарищи, раскрытие литературных псевдонимов недопустимо — это пахнет антисемитизмом». На вопрос о том, как быть дальше с упомянутыми уже космополитами, совместимо ли сказанное ими и о них с пребыванием их в творческих союзах, Сталин разъяснил:
— А зачем им уходить из союза? Где они совершали свои ошибки, там путь их и исправляют.
Это было чуть ли не слово в слово то, что Сталин сказал ему о «Чужой тени».
В тот же день он позвонил Борщаговскому и, изменив голос, сказал одну фразу: «Имейте в виду, с этой историей покончено».
Лава, однако, продолжает течь даже тогда, когда по неведомым законам останавливается в недрах вулкана тот таинственный мотор, который вызывает ее извержение. Остывая, она не устает поражать все вокруг. Долго еще и после того, как Сталин произнес отходную кампании по борьбе с космополитизмом, появлялись новые и новые статьи, проходили новые и новые собрания, назывались и обличались новые и новые имена.
Эренбург в апреле улетел в Париж на конгресс сторонников мира. Перед отлетом его попросили написать выступление и дать его почитать. В его речи были такие слова: «Нет ничего отвратительнее расовой и национальной спеси... народы учились и будут учиться друг у друга... Можно уважать национальные особенности, отвергая национальную обособленность».
Его пригласили в ЦК, благодарили. Константину Михайловичу он сказал, что на столе у очень ответственного товарища увидел перепечатанное на хорошей бумаге свое выступление. Против процитированных слов на полях стояло «Здорово!» Почерк хорошо знаком. Через год Эренбург был первым советским лауреатом Сталинской премии мира.
Константин Михайлович осенью 49 года уехал в Китай, где только что была провозглашена Китайская Народная Республика. Он пробыл там несколько месяцев и вернулся с книгой очерков, которые первоначально печатались в «Правде».
Его не было, таким образом, в Москве, когда отмечалось семидесятилетие Сталина. О том, как оно протекало, ему в красках описал с непривычной для него патетикой Горбатов. В присутствии Нины Павловны, которую шеф задержал попить чайку после нескольких часов диктовки из китайских блокнотов.
Горбатов, пожилой уже, грузный, с гулким голосом и властными манерами человек, наблюдал мистерию юбилея своими глазами и теперь буквально захлебывался от восторга, пересказывая с задержавшимся комсомольским задором, кто, как и где сидел, что и кому сказал, как на кого посмотрел Сталин. Нину Павловну потрясло, что он был совершенно искренен. А ее шеф? Взрослые, столько пережившие на своем веку люди, неужели они не понимают, что происходит вокруг? Утешало, по крайней мере, то, что, усиленно кивая и похмыкивая, Константин Михайлович умудрился не произнести ни слова на всем протяжении излияний Горбатова.
— Хоть бы он жил вечно! — воскликнул, закончив рассказ, этот взрослый младенец и опрокинул в рот граненую стопку с водкой, настоенной на березовых почках.
Шеф еще крепче стиснул зубами трубку, которую, быть может, нарочно не выпускал изо рта. Что он по этому поводу думал, оставалось для нее загадкой. И что вообще можно думать? Не слепой же он. Нет, он не слепой. И не трус! Иначе не устроил бы вечер Илье Эренбургу, который просто на самоубийство его толкал. Не будь Симонова, не было бы и вечера. Не было бы вечера, не известно еще, что случилось бы с Эренбургом.
Трус не стал бы писать писем о Каплере и о ее Юзе, хотя она и отговаривала его, просила этого не делать.
Не приходило ей в голову и обвинить шефа в лицемерии. Разве что в лукавстве, в том лукавстве, с которым он умудрялся даже в разговорах с ней уходить от некоторых вопросов. Порой ее злило, а порой восхищало его умение с трубочкой в зубах, с хитринкой в редко улыбающихся глазах как бы обтекать неудобные для разговоров предметы.
В тот вечер Симонов и Горбатов упоминали статью Оренбурга к юбилею вождя. Она называлась «Большие чувства» и рассказывала о том, как обожали Сталина на фронте во время войны, в Испании, в маки.
К юбилею вождя была объявлена амнистия. Политических она не касалась. Нина Павловна по-прежнему раз в месяц ездила в Рязань к Юзу.
Сразу же по возвращении из Китая Константин Михайлович получил указание сдать «Новый мир» Твардовскому. Себя же он обнаружил редактором «Литературной газеты».
Симонов сменил Ермилова, о котором ходил такой анекдот: на воротах его дачи висела дощечка с надписью: «Здесь есть злая собака». Кто-то перед словом «собака» дописал: «и беспринципная».
В своих потаенных записях о первой встрече со Сталиным он перечитал, как Иосиф Виссарионович (ни в коем случае не назвать так в его присутствии: не любит. Только: товарищ Сталин) говорил о необходимости изменения газеты. О придании ей некоей неофициальности. «Так, чтобы она ставила вопросы неформально, в том числе и крупные, такие, какие мы не хотим или не можем ставить официально. Международные вопросы. А если понадобится, и вопросы внутренней жизни».
Он тут же и с удовольствием начал реформировать газету, как четыре года назад реформировал «Новый мир». «Литературка» больше соответствовала его темпераменту. Тут не надо ждать месяцы, пока появится на свет божий то, чем ты полон сегодня.
Все идет в правильном направлении, соглашается Константин Михайлович. Курс, который задает партия, надо отстаивать. Против искривлений, от которых ни одна линия не застрахована, — бороться. От камней, падающих с крыши, — вроде той статьи Маслина насчет «Дыма отечества» — научиться увертываться... Чем больше в твоих руках будет власти и влияния, тем легче справляться и с тем, и с другим, и с третьим. Он плыл в потоке, но верил, что участвует в управлении им...
Роман, за который он рекомендовал Борщаговскому взяться в памятную и тяжкую для обоих минуту, уже написан. Теперь очередь за ним — продиктовать Нине Павловне письмо в правление СП. «Как член секретариата считаю важным отметить, что Борщаговский, в недавнем прошлом допустивший в своих статьях и выступлениях ряд тяжелых ошибок антипатриотического и космополитического характера, очевидно, серьезно пережил и осознал свои ошибки и по-настоящему, по-советски, ответил на суровую критику работой и работой большой, серьезной, какой, на мой взгляд, является его роман “Русский флаг”».
Заступиться за Борщаговского для него так же естественно, как Александра Грина назвать «самым принципиальным и откровенным к4осмополитом в нашей литературе». Или Бубеннова похвалить, который в статье о романе Валентина Катаева «За власть Советов» критиковал книгу «резко, остро, но доброжелательно, помогая автору вернуться к роману и доделать свою работу».
Движимый благим желанием наставлять ближнего на путь истинный и поддерживать его на этом пути, он в письме к совсем недавно раскритикованному им Шкловскому доброжелательно и серьезно разбирал его рукопись, по ходу рассуждений называя Достоевского «самым нереалистичным из русских писателей 19 века, самым большим мастером полуправды, самым большим апостолом всяких мистификаций...»
Казалось, рана, нанесенная им самому себе докладом, заживала. В нескончаемых литературных баталиях стиралась исключительность того, что произошло в тот вечер на собрании московских писателей. Логика борьбы вновь и вновь подтверждала, что он принял тогда верное решение, взявшись за доклад и отстранив от него Софронова. Теперь, укрепив тыл, можно переходить и в атаку. Свое выступление на очередном, XIII пленуме Союза писателей он начинал, тем не менее, с перечисления длинной череды статей в его журнале, которые критиковали космополитизм. Никто не может утверждать, что журнал и его редактор стояли в стороне от острой и опасной драки, на необходимость и даже неизбежность которой указала партия. Но драка продолжается... Кто сказал, что нашей литературе опасность угрожает только справа, со стороны космополитствующих критиков? Разве не было в свое время сказано, что опаснее тот уклон, против которого перестают бороться? И не представляют ли собой такую опасность именно те, кто доводит до абсурда правильно заданную партией линию?! Как тут не упомянуть о слабой и совершенно справедливо раскритикованной совсем недавно пьесе Софронова «Карьера Бекетова», а заодно уж и о всей деятельности Софронова в комиссии по драматургии, где они с Первенцевым, борясь с развалом, навели такой порядок, что никто и пикнуть против них не смел?
Спросите, почему раньше об этом молчал? Да потому, что «не было достаточно смелости и принципиальности в серьезных вопросах». И уж коли исправлять этот свой досадный недостаток, то нельзя не сказать и о том вреде, который наносит литературе групповщина, насаждаемая журналом «Октябрь» и его всемогущим редактором Федором Панферовым.
Аплодисменты, которые не раз вспыхивали в этой части его речи, звучали для него музыкой военных лет, когда он жил с гармонией в душе. Бурей восторгов зал встретил ироническое перечисление последних романов Федора Ивановича — «Борьба за мир», «В стране поверженных», «Большое искусство», которые «настолько неправдоподобны, что в них почти ничему не веришь». Аплодировал даже кое-кто из тех, кто не был с ним заодно, настолько это был сильный, смелый и для многих неожиданный удар, за которым, как сразу пошел ветерок по залу, наверняка что-то стояло...
Этот-то ветерок и портил дело — не будешь же ходить в толпе, брать каждого за грудки и доказывать, что «ничего за этим не стоит», кроме позиции писателя, который всей душой печется о том, чтобы партийная линия в литературе проводилась без искажений, без эгоистических примесей.
Обстоятельства одарили его вскоре еще одной благой возможностью доказать это. В «Комсомольской правде» появилась заметка Бубеннова «О псевдонимах». Известный писатель, о котором он и сам сказал совсем недавно несколько добрых слов, решился вдруг реанимировать уже было заглохшую, перешедшую в совсем иную плоскость дискуссию о космополитизме. Константин Михайлович, благо в его руках была теперь «Литературка», немедленно ответил репликой «Об одной заметке». Через день на страницах той же «Комсомолки» за Бубеннова заступился Шолохов.
Натолкнувшись в очередном томе «Всего сделанного» на копии этих заметок, я живо вспомнил, как студентом-третьекурсником факультета журналистики Московского университета следил за полемикой. После вступления в полемику Шолохова это выглядело уже битвой гигантов. Что я! Весь читающий и пишущий мир замер, словно трибуны необозримого стадиона, когда под заметкой в «Комсомолке» появилась эта фамилия — Шолохов. Последует ли ответный удар? И в чьи он будет ворота?
Много-много лет спустя, сам уже — бывший главный «Комсомолки», я услышал от Дмитрия Горюнова, в ту пору редактировавшего газету, подноготную давней истории и мог еще раз убедиться, что не только от великого, но и от страшного до смешного — один шаг.
К письму Бубеннова, которое в редакцию принес зав. отделом литературы Шахмагонов, отнеслись профессионально — как к хорошему газетному гвоздю, к тому же автор в фаворе, лауреат Сталинской премии за нашумевшую «Белую березу», тема — беспроигрышная. Сам Шахмагонов — хоть и продувной мужик, бестия, но вхож... В номер! Реплика Симонова оказалась полной неожиданностью. Запахло поражением, скандалом. Мысль одна — как ответить? За грудки Шахмагонова. Тот — Шолохов ответит. Он сейчас как раз в Москве и трезвый. Сегодня же принесу.
— Просто как у Островского или Сухово-Кобылина, — сокрушенно крутил седою головой мой первый редактор Горюнов, которому и спустя тридцать с лишним лет эта история свербила душу. Чего ради давили двух таких писателей? Но тогда одно было на уме — спуску не давать.
Шахмагонов поклялся, что заметка будет в тот же день. Для нее в номере оставили место на четвертой, оперативной полосе. Тогда обычным было выходить после часу ночи. В тот раз ждали до трех утра, Матвеич, выпускающий — грузный, старый мастеровой, человек эпохи Гиляровского — не выдержал, поднялся «наверх», в кабинет главного:
— Вы, ученые, газету выпускать будете или нет?
Только в три часа принес Шахмагонов двести строк за подписью Шолохова. В цеху и над талером снова закипела работа. Честь газеты была спасена. О подобной точке в конце полемики можно было только мечтать.
Реакцию на новую реплику Симонова со скромненьким названием «Еще об одной заметке» можно было, по словам Горюнова, сравнить только с появлением истинного ревизора в финале бессмертной комедии Гоголя.
...Нина Павловна помнит, как Константин Михайлович диктовал ей эту реплику. Она просто вылилась у него из души. Он позвал ее через десяток минут, после того, как занесла ему «Комсомолку» с заметкой Шолохова на видном месте. Она была в панике. Когда вернулась в кабинет по его звонку, то не узнала шефа. Вид у него был такой, словно он неожиданно получил бесценный подарок. Он глазами показал ей на привычное место, и она присела у его письменного стола, достала тетрадку и карандаш. Он не ходил, а будто летал по комнате. Волосы его, все еще густые и черные, слегка воющиеся, словно бы поднялись и ореолом окружали резко очерченный смуглый лик. Глаза светились, голос, обычно негромкий, звучащий с размеренными паузами, гудел как набат... На ее памяти это был один из редких случаев, когда он взялся за дело, что называется, с разбегу, не задумавшись ни одной лишней минуты, не переговорив, не посоветовавшись ни с одним из сотрудников и вообще близких ему людей. Он и на нее-то, Нину Павловну, взглянул впервые по-настоящему, только когда закончил диктовать. Все продиктованное им уложилось как бы в одну музыкальную фразу. Это была крохотная симфония со своим, как водится, вступлением, которое сразу же дало представление о всей вещи, с обманчиво спокойным, предвещающим грозу адажио и коротким, но бурным финалом, «...причисляя себя вместе с Бубенновым к молодым писателям, которым предстоит еще учиться многому и у многих, в том числе и у такого мастера литературы, как Шолохов, не хотел бы учиться у Шолохова только одному—той грубости, тем странным попыткам ошельмовать другого писателя, которые вдруг обнаружились в этой его, вдруг написанной по частному поводу заметке после пяти лет его полного молчания при обсуждении всех самых насущных проблем литературы».
Это — реанимация антисемитской кампании, убеждала меня Нина Павловна.
Повод был нечастный. Но на войне как на войне. Удар ее шефу был нанесен такой силы, что ответом могла быть либо полная капитуляция, либо... Он, к ее радости, выбрал второй вариант. Нет, быть может, на свете более мощного стимула для выявления человеком себя, как такое вот безвыходное положение.
Это была уникальная, подаренная ему судьбой возможность еще раз, на виду у всего мира, сформулировать свою излюбленную мысль, свое кредо.
В «Комсомолке», словно бы для того, чтобы еще более усугубить панику, раздался звонок из ЦК от Суслова:
— Прекратить полемику...
Сразу стало ясно: Шехморданов — групповщик. Держать его в газете — опасно. Но как избавиться? Тут как раз вышло очередное партийное постановление. Редактор вызвал его — вам лично надо выступить. Никому не поручайте. Два подвала. Срок — неделя. Через неделю приносит — бред чистый.
— Ну так вот, или пишите заявление об уходе, или это... — показал на стопку бумаги, — в ЦК, без комментариев.
Написал, ушел.
Константин Михайлович еще заглядывал по утрам в «Комсомолку» в ожидании ответа, когда какими-то окольными путями дошла до него весть о звонке Суслова. Победа, таким образом, осталась на его стороне, но она была неполной. Он-то тешил себя мыслью, что восторжествовала сила доводов и разума. Оставалось довольствоваться тем, что для широкого читателя, далекого от закулисных тайн в лабиринтах власти, это так и выглядит.
Гадать о каких-либо привходящих обстоятельствах, которые могли вызвать этот звонок, ему было недосуг. Он к тому времени уже обдумывал, даже набросал кое-что, свой первый военный роман, который должен был охватить 39–46 годы. Все помыслы его были устремлены к тому, чтобы вырвать часок-другой для диктовки. Если бы не эта драчка с Шолоховым, он вообще бы был уже в Коктебеле. Пример Фадеева оказался заразителен: он теперь тоже искал повод, чтобы исчезнуть.
Странная это была у него и Фадеева, да и у всех их коллег по руководству союзом жизнь, если посмотреть со стороны. Что-то среднее между пиром и каторгой, как горько острили они с Сашей в редкие часы, когда можно было посидеть вдвоем, отложив в сторону, хотя бы на миг, казенные заботы. С утра — в присутствии. Он — на Цветном бульваре, Фадеев — на Воровского, 52, в союзе, второй Саша — Твардовский, которому он сдал «Новый мир», уходя в «Литературную газету», — на Пушкинской площади.
Он как-то подсчитал, «Литературка» отнимала у него не меньше двух третей рабочего времени, когда он был в Москве. Остальное — маята в союзе. Только-только ты склонишься над газетным листом, звонок. Либо из ЦК, либо — с Воровского. То-то и то-то ты читал? Это — видел? А вот о том-то слышал? Нет? Ну, приезжай, посоветуемся. На Старой площади, в основном, — инструктаж. У Саши, на бывшей Поварской, — переваривание услышанного. Потом — свистать всех наверх. Череда собственных широких и в узком кругу заседаний.
То скажут, что надо поддержать Вишневского за его пьесу «Незабываемый девятнадцатый», и невозможно отказать, потому, во-первых, что в центре пьесы — Сталин, и потому, во-вторых, черт возьми, что недавно он вместе с тобой героически держал оборону на вечере Эренбурга. То сам видишь, что пора пропеть отходную «бывшему писателю Джону Пристли», адвокату Холодной войны, отвернувшемуся от всего доброго, что было накоплено в ходе войны горячей. Ну и уж на десерт — зацепить Грибачева с его вечными рецидивами групповщины и сектантства. Он прав, когда пишет, что имя Бориса Пастернака «мало что говорит читателю середины двадцатого столетия». Но когда он распространяет этот пассаж на Николая Тихонова, Щипачева, Веру Инбер, Маргариту Алигер...
Столы письменные, обеденные, праздничные — еще один непременный атрибут этой жизни, как и залы заседаний и кабинеты.
За рабочим — сочиняли: статьи, романы, докладные, пьесы, письма, отчеты и справки «наверх». Когда особенно подпирало, «бросали все», уходили «в подполье», то есть в творческий отпуск — в Переделкино, в Ялту, в Гульрипши, в Малеевку. Переделывали «Молодую гвардию», писали «Чужую тень», вслед за «Бурей» — «Девятый вал», от которого потом открестился его создатель.
За обеденными столами, аппетитно уставленными бутылками и яствами, — «и хрустенье салфеток, и приправ острота, и вино всех расцветок, и всех водок сорта» — произносили и слушали речи и тосты — праздничные, похоронные, юбилейные... В честь гостей своих и гостей зарубежных — коллег по творчеству, по руководящей работе, по борьбе за мир... Засиживались нередко за полночь, но и в глухую предрассветную пору не забывали о телефонном аппарате с гербом на циферблате. Не всегда жены знали, где их искать в такую пору, но всегда знало начальство, вернее, секретари и помощники начальства.
Коловращение это ежедневное, пестрая смесь праздников, похорон, заседаний, деловых и торжественных командировок «по стране» и «за рубеж», чествований, вызовов «на ковер» обладали той магической силой, которая приучала буднично, по-рабочему, по-партийному относиться ко всему, что бы ни случилось. В русле этого беспрестанного и монотонного движения ничто, казалось, не могло уже удивить, показаться неуместным, чудовищным. Ни разгромная критическая статья, ни публичная порка, ни даже исчезновение—из кабинета или совсем из поля зрения — человека, который еще только вчера заседал рядом с вами — на видном месте в президиуме, или на банкете по случаю завершения какой-нибудь международной литературной акции, или форума сторонников мира.
Воспринималось так, будто это нелюди, а обстоятельства, сам ход их, неизбежный и запрограммированный, как движение небесных светил, становился причиною и того, что случилось с тем, кто только что был рядом, и того, что в любую минуту может случиться с тобой. Сколько бы ни падало камней в темную от бездонной глубины своей водную гладь, все они исчезали, почти не замутив ее зеркальности.
Не жизнь, а бесконечный сон с кошмарами, которые перестаешь воспринимать. Только во сне мы так быстро адаптируемся к немыслимым в нормальной жизни обстоятельствам и, принимая их как должное, как правило игры, ведем себя в соответствии с ними.
Арест в Рязани Юза, о чем сразу же сообщила ему Нина Павловна, а потом ее собственный отъезд в Красноярск, вслед за мужем, были одним из тех кошмаров, которые вырывают тебя из сна, чтобы погрузить в еще более отталкивающую реальность.
С чистой душой, ни на что и ни на кого не оглядываясь, писал об Юзе письма, куда только было возможно — и прокурору, и министру внутренних дел, и в президиум Верховного Совета. Ни слова, никакой, даже самой формальной бумажонки в ответ. Со Шверником говорил об этом при встрече. Тот пробормотал несколько слов, обещал поручить разобраться — и тоже молчок. Он поклялся себе — при первом же подходящем случае упомянуть о Юзе в разговоре со Сталиным, хотя прекрасно знал, как не терпел Сталин подобных обращений к нему и как это опасно бывало для тех, кто обращался. Возможности такой не представлялось, видеть Сталина приходилось все реже и всякий раз — в обстановке, когда даже заикнуться о чем-то, выходящем за рамки обсуждаемого вопроса, было немыслимо.
Все хлопотал, чтобы из Рязани Гордону разрешили вернуться в Москву, а тот теперь оказался в Красноярске.
Даже спасительное фадеевское «Сталин знает больше нас с вами», которым тот обычно заключал завязывавшиеся между ними дискуссии, тут не срабатывало. Что Сталин мог знать о Гордоне, скромном, почти техническом работнике документальной киностудии? И каким образом он, Гордон, оказавшись после десяти лет лагерей в режимной Рязани, мог вновь заняться теми самыми подрывными делами, которые ему инкриминировались. Если, предположим, в Париже он где-то, когда-то и стоял близко с кем-то из врагов, пытавшихся его завербовать, что вполне возможно, если и обронил какое-то нечаянное слово, так ведь за это он уже получил свое. Нет, он не против бдительности, сам призывает к ней писателей и читателей и устно и письменно, но всему же есть свои пределы. В конце концов, не решает ли кто-нибудь там, в ЧК, свои дела за счет таких вот, как Юз? Не потому ли остаются без ответа все его письма? А, может, просто совершили в свое время ошибку и не хотят признавать ее из ложно понимаемой чести мундира.
Он попрощался с Ниной Павловной в редакции «Литературки», в своем кабинете. На предложение проводить она в ужасе замахала руками. Единственное, на что согласилась — это чтобы шофер Константина Михайловича подбросил ее со скромным скарбом до вокзала.
Слова под фотографией, которую он подарил ей при прощаньи, не были рисовкой — «Одинокий, как этот остров».
Расставшись с Ниной Павловной, он сел за стол и отстукал на машинке — диктовать в тот момент было некому — заявку в Радиокомитет. Их обращение к нему вторую неделю уже лежало на столе — «Концерт по заявкам военных корреспондентов».
«Мне хотелось бы послушать программу, составленную из наиболее популярных фронтовых песен времен войны в последовательном порядке их распространения, в том числе песни: «Ой, Днепро», «Давай закурим», «Старинный вальс», «Моя любимая», «Землянка», «Огонек», «Под звездами балканскими». И цикл можно было бы закончить «Где же вы теперь, друзья-однополчане» или песней «Летят перелетные птицы».
Концерт этот состоялся через две недели. Он слушал его в своем кабинете в «Литературке». Тут его уединение нарушить могла только «вертушка».
На квартире и на даче вообще невозможно было остаться наедине с собой, сосредоточиться. Хорошо, конечно, иметь кого-то, кто помогает жене по хозяйству. Но и это порой утомляет — всегдашнее присутствие посторонних. Пусть ужей близких, привычных людей. Гости — к нему, к ней. Непрерывной чередой. Такой уж быт сложился в писательских городках и кварталах. Идут и на огонек, и по делу. И просто — из любопытства — как, мол, наше литературное начальство обустроено.
Наведался недавно Каверин. Кладезь мудрости, честнейший и скромнейший человек, испытывающий к тому же к нему, Симонову, нескрываемую признательность за поддержку в трудную минуту и «Двух капитанов», и «Открытой книги». Хотелось встретить его потеплее и порадушнее. Да и самому было приятно посидеть с ним за богато, от души уставленным столом... Однако Каверин как-то ежился, оглядывался недоуменно — и на камин, где на угольках он сам поджаривал ему шашлык из барашка, присланного из Абхазии, и на людей, помогавших около стола и на кухне. Словно Золушка, вдруг попавшая во дворец...
Но всего тягостнее — участившиеся, почти беспрерывные, словно пульс в ниточку, ссоры и объяснения с Валей. Его гости раздражают ее. Ее — его, вообще, какое-то недоразумение. Эти подруги, которым она раздает все, что он ей дарит, вплоть до семейных реликвий... Да еще постоянно приходится мирить ее то с матерью, дорогушей, как она ее зовет, то с театром, то с коллегами по киносъемкам... Совсем не тот дом получился, каким он видел его в стихах. Без Нины Павловны Валя стала совсем неуправляемой.
Он сидел и слушал по радио фронтовые песни с мыслью о Нине Павловне, как и в тот день прощанья, когда написал и послал свою заявку. Темное и непонятное, что всю жизнь преследует ее, давно уже стало частью и его существования. Он добровольно принял и ввел это темное в свою жизнь. Быть может, с тайной надеждой распознать его смысл?
Вот уже исполняют «Где же вы теперь, друзья-однополчане». Концерт близится к концу. Его растрогало, что на радио так внимательно отнеслись к его заявке. Где же вы теперь, незабываемые военные денечки, и почему сегодня такая странная тоска по тому, не самому радостному времени?
Пришли на ум строчки Блока: «Лишь тому, кто не понял вещания звезд, нестерпим окружающий мрак».
До смерти Сталина оставалось несколько месяцев.
Смерть Сталина была пробуждением от сна. Переход к яви был долгим и болезненным.
Он заплакал, когда ему, как кандидату в члены ЦК КПСС, поступил последний бюллетень лечсанупра Кремля. Всю последующую ночь писал стихотворение о Сталине. Оно было опубликовано в очередных выпусках газет вместе со стихами Твардовского, Паустовского, Щипачева, Недогонова... На траурном митинге деятелей культуры в Театре киноактера их общую мысль выразил Эренбург. Он сказал, что ежедневно, в течение двадцати лет будущее страны связывал с мудростью гениального вождя и теперь не знает, как жить и на что надеяться дальше.
Ораторов было много — никому нельзя было отказать. Он тоже говорил, сейчас уже не помнит что, наверное, то же самое, что и другие.
Хотел как рядовой, самый обычный человек отстоять свою очередь в траурные покои Колонного зала Дома Союзов. Но ему сказали, что это неудобно. Он включен в делегацию, представляющую руководство всех творческих союзов, и должен войти в Колонный зал в ее составе, принять участие в возложении венка. Слезы застилали ему глаза, когда, возложив цветы, они некоторое время стояли, это тоже было предусмотрено церемониалом, чуть в стороне от гроба и смотрели на усопшего. На погруженных в скорбь руководителей партии и правительства, сменявших друг друга в почетном карауле. На бесконечную вереницу людей.
...Я тоже был в той людской ленте, которая несколько суток почти безостановочно двигалась по увитым черно-красными лентами и заставленным венками залам Дома Союзов.
Сначала мы с моим коллегой из «Комсомолки», таким же стажером, как я, просто встали в конец очереди, который тогда находился на пересечении улицы Чернышевского с Бульварным кольцом.
Очередь двигалась с переменным успехом и окончательно застопорилась, когда мы подошли к Сретенке. Позднее мы узнали, что как раз в этот момент на Трубной началась смертельная давка.
Не ведая о том, мы из чисто практических соображений решили пробиваться окольным путем и, положившись на наши свежеиспеченные удостоверения, где мы были названы — о, святая ложь! — корреспондентами, двинулись в сторону Манежа, оттуда — по улице Горького все ближе и ближе к Колонному залу — через перегороженные грузовиками улицы, переулки и тупики. Взбирались, с красными книжечками наперевес, на борта машин и прыгали с них в слякотный мартовский снег. Вслед за другими шли через дворы и черные ходы домов, через какие-то квартиры, непонятно почему открытые в тот ночной уже час. На последнем этапе ужами проползли под створками ворот, чтобы из примыкающего к улице Пушкина двора попасть на нее и там, поднявшись с колен, оказаться буквально в двухстах метрах от заветного входа в Колонный зал.
Помню, каким счастливым я себя почувствовал, оглянувшись незаметно по сторонам и обнаружив, что никто в очереди не прореагировал на наше неожиданное вторжение, никакое должностное лицо не спешит в нашем направлении, чтобы отшвырнуть в сторону. Торжествуя, мы, я думаю, забыли в ту минуту, по какому, собственно, скорбному поводу совершали все эти подвиги. Это чувство удовлетворения еще не остыло, когда я смотрел, подгоняемый людьми в штатском, на возвышавшиеся над цветами грудь и голову человека, который воспринимался как божество.
А за день до этого, так же как Симонов и Эренбург в Театре киноактера, только в вестибюле старого здания университета на Моховой, участвовал в траурном митинге. Видел вокруг скорбные лица, заплаканные глаза, слышал вздохи. Стоя молча в толпе с такой же скорбной физиономией, как у всех, корил себя, что нету спазмы в горле и слез на глазах. Умом я совершенно искренне переживал происшедшее. Смерть бога и мне казалась невероятной, мысли о будущем без него пугали, но спазмы не было, и я терзал себя за это, за свою неспособность к глубоким переживаниям.
Бабушкины десятилетней давности инвективы припомнились спустя несколько дней после похорон, когда те же проклятья, только произнесенные на городской лад, прошелестели от подсевшего к нам с женой на лавочку на Страстном бульваре пожилого человека: «Что грустные такие? Радуйтесь — тирана не стало!» Как сейчас вижу, с какою сардонической улыбкой, каким насмешливым взглядом он проводил нас, шарахнувшихся от него, как от прокаженного... И теперь не могу дать себе отчет в том, что же все-таки, как ветром, сдуло нас тогда с этой скамейки на тихом московском бульваре — ужас ли перед лицом святотатства, или страх, что сказанное услышит кто-нибудь еще, кроме нас?
Константин Михайлович смерть Сталина пережил, как личное горе. Привыкший все мерить военными мерками, он мысленно, да и вслух, называл это утратой в бою. Что бывает в бою, когда постигает тебя такая горькая потеря? Туже затягиваешь ремень, жестче становятся линии губ и подбородка, тверже рука, держащая оружие. Через две недели после смерти Сталина он написал и 18 марта 1953 года напечатал в «Литературке» передовую, смысл которой был в том, что «теперь, и на многие годы вперед, у нашей советской литературы одна главная задача — создать во всей его полноте образ Сталина — величайшего гения всех времен и народов».
Подписав номер в печать и отправившись на два-три дня в Переделкино, он и не подозревал, какая буря разразится в Москве. Хрущев который тогда еще не был даже первым секретарем партии, позвонил сам в Союз писателей, попал на Суркова, сидевшего «в лавке», и потребовал отстранить его, Симонова, от выпуска уже следующего номера «Литературной газеты». Он заявил также, что ему, Симонову, не место в руководстве союза. Он призывает писателей оглядываться назад вместо того, чтобы заниматься делом и думать о будущем.
Со смерти Сталина прошло всего две недели, и скорее всего вулканический темперамент нового лидера впервые прорвался с такой неукротимой и напугавшей многих силой. Повод, по которому произошло извержение, был совершенно неожиданным. И поверг всех, кто был свидетелем этого, в шок.
Что касается административной стороны дела, то есть оргвыводов, которых потребовал Хрущев, то все уладил никогда не терявший самообладания Сурков. Ему не привыкать было, что его давний, младший друг всегда, при всех «прижимах» умудрялся нахватать шишек. Даже за «Жди меня», не говоря уж о «Дыме отечества». Последние года два до смерти Сталина Суркова, который к тому времени тоже стал заместителем Генерального секретаря союза, довольно регулярно информировали из ЦК об анонимных, а то и подписных доносах, согласно которым К.М. Симонов являлся — ни много, ни мало — агентом сионистского Джойнта, организовал тайный салон из лиц, симпатизировавших Израилю... Этим, да еще еврейским, якобы, происхождением Симонова объяснялась в доносах и направленность «Литгазеты», особенно та полемика о псевдонимах, в которой главный редактор «публично сцепился» с Бубенновым, а потом и с Шолоховым.
Кто-то роет тебе могилу, бурчал Сурков, недовольный тем, что Костя относился к услышанному чересчур легкомысленно, со смешком — слишком уж нелепыми были обвинения.
Теперь удар с другой, можно сказать, противоположной стороны, и ему, признаться, было не до смеха. Случившееся потрясло его чуть ли не с такою же силою, как сама смерть Сталина. Своею неожиданностью, непредсказуемостью, тем подтекстом, который во всем случившемся был заложен и разгадать который ему в ту пору было не дано. Он снова и снова возвращался к догадкам, что могло бы послужить на самом деле причиной столь необузданного гнева человека, который совсем недавно с трибуны мавзолея так страстно клялся в любви и преданности памяти Сталина. Вспоминалось, как в первые мартовские дни его в числе других членов и кандидатов в члены ЦК приглашали в Кремль, в те самые комнаты, в которых они в 1947 году с Фадеевым и Горбатовым ждали приема у Сталина, и давали читать бюллетени о ходе его болезни. Из них в общем-то было не ясно, жив ли он еще или уже умер.
Вспоминался пленум ЦК 5 марта, на котором Берия, Маленков и Хрущев о болезни и смерти Сталина — как будто уже свершившейся, — или нет? — говорили с такой осторожностью и неопределенностью, будто бы ждали, что сейчас может открыться дверь, и он войдет. Невольно это чувство — неизвестно даже, как его назвать — ожидание, опасение, надежда? — передавалось участникам пленума.
Вспоминалось, наконец, и то, как уже после похорон его вместе с другими членами ЦК опять приглашали в те же комнаты и давали читать материалы о «Деле врачей». Несколько дней он ходил в Кремль и читал эти бумаги. В них подробно рассказывалось о полной невиновности врачей и об издевательствах, которые учиняли над ними. Потом, так же неожиданно, как и началось, это чтение было оборвано. Вместе с чувством радости и облегчения, что все это была лишь провокация, что ни в чем не повинные люди вернутся домой — некоторых из врачей и профессоров он знал лично, закрадывались в душу новые, неясные и тягостные подозрения. Тем более, что ему стало известно: чтение было организовано по указанию Берии, к которому он всегда питал инстинктивное недоверие, пусть оно и было продиктовано всего лишь совиной внешностью шефа органов.
Из бумаг, прочитанных им — это были в основном показания следователя Рюмина, вытекало, что Сталин все отлично знал о невиновности врачей и тем не менее сам лично раскручивал все это дело. В то время, как Берия в этих бумагах выглядел спасителем, который, вернувшись в органы, стал наводить там порядок.
Когда Симонов рассказал о прочитанном Фадееву и Корнейчуку, вернувшимся из очередной заграничной командировки, у них глаза на лоб полезли. Они не скрывали своих подозрений, что Костя чего-то не понял или дает волю воображению.
Поначалу робко, вполголоса, но затем все громче и отчетливее зазвучавшие нападки на Сталина вызывали у него искреннее внутреннее сопротивление. Кивки и плевки в сторону умерших он всегда считал недостойным делом. А тут шла речь об имени, которое олицетворяло собой святость самого того дела, которому он служил.
В 1954 году у него дома в кабинете появился портрет Сталина. Никогда при его жизни не висело у него по стенам изображений вождя, а тут вдруг взяло и появилось. Не портрет даже, а фотография скульптуры Вучетича, установленной на Волго-Донском канале. Массивная, в знакомом кителе и брюках, заправленных в сапоги, фигура, сильное лицо тигра.
В Гослите выходил у него сборник стихов и поэм. В последнюю минуту он взял и вставил туда одно свое слабое стихотворение, написанное в 1942 году. Называлось оно «Два разговора». Речь в нем шла о том, как в 1918 году Ленин говорит со Сталиным, посланным в Царицын, по прямому проводу и спрашивает его, как дела, удержим ли Царицын... Почти четверть века спустя уже Сталин из кремлевского кабинета звонит в Сталинград безымянному, но видному генералу, прямо в его штабную землянку, и спрашивает его, старого, еще с царицынских времен друга, теми же, ленинскими словами, как обстоят дела, и тот почти теми же, что некогда Сталин Ленину, словами отвечает: я обещал, что немцев мы из Сталинграда выбьем, и мы их уже выбиваем. Еще когда писал стихотворение, знал, что оно слабое, но писал от души, с чувством. За эту искренность ценил его, ради нее теперь и включил в сборник. Не Сталину боялся изменить. Себе.
Он теперь, дальше больше, чувствовал себя так, словно именно на нем сфокусировалось все, что люди говорят и думают о Сталине и его времени, — на нем одном.
Невозможно было, как ни старался, решить для себя, так оно было на самом деле или же все это — плод фантазии. Явь могла в любую минуту обернуться наваждением и наоборот.
Прямые нападки не пугали. Намеки вызывали снисходительную усмешку. Пришло сочувственное письмо от участника его встречи со студентами МГУ в Комаудитории в конце марта того же 53 года. Доброхоту показалось, что его там совсем затюкали, на этой встрече. Он ему ответил: «Вы правы, в некоторых выступлениях был оттенок «молодечества», хорошо мне знакомого по собственным студенческим годам, желание показать, что, дескать, там, небось, ему все курят фимиам, а мы тут резанем ему правду-матку, не побоимся, даже с пересолом... Обижаться на это, — утешал он своего корреспондента, — конечно, может только литературный индюк. Люди же, к каким причисляю себя, сохранившим душевное здоровье и молодость, не могут обижаться на такого рода горячность, ибо в ней настолько больше хорошего, чем плохого, что даже и соразмерить одно с другим нельзя».
Все было вроде правильно в этом ответе — и насчет душевного здоровья, и насчет отношения к критике, даже если она с пересолом... Но почему-то это письмо он в отличие от многих других не продиктовал стенографистке, а написал от руки... Написав, перечитал. И перечитав, решил не отправлять. Если уж дошло до таких бодряческих самохарактеристик, значит дело пахнет керосином. Проще говоря, дрянь дело. Симптом куда более неприятный, чем сама эта читательская встреча, действительно не похожая на те, что у него были еще совсем недавно. И, положа руку на сердце, он не выглядел на встрече столь уж неуязвимым. Стрелы в него летели весьма острые, а некоторые даже, может, были и ядовитые.
Что-то большее, чем обыкновенная студенческая бравада, в чем он пытался уверить своего корреспондента, послышалось ему в вопросах, репликах и даже выкриках молодежи.
Он привык к открытой полемике с читателями. Как правило, на встречах его критиковали степенные, традиционно мыслящие люди. Они порицали его за нарушение всякого рода канонов, всяческих границ, и излюбленной мишенью такого рода аудиторий была, конечно же, его любовная лирика, объектом же порой бестактных, порою просто вызывающих вопросов — его отношения с Валей. Он отвечал без секундной заминки — о праве поэта на самовыражение, о неприкасаемости интимных отношений, о святости, неповторимости каждой, отдельно взятой «любови», о необходимости уважать эту неповторимость. Чувствовал, что многие реплики звучали в его устах как откровение и вызов, но не смущался. Он сокрушал ортодоксов и неизменно срывал аплодисменты и восторженные возгласы у самой отчаянной части аудитории, которая все еще зачитывалась его военной лирикой, цитируя ее наизусть: «какой была ты сонной-сонной, вскочив с кровати босиком...», и придирчиво, требовательно допрашивала, почему он стал писать меньше стихов.
Теперь, наверное, впервые ощутил он, стрелы полетели с другой стороны. Он вдруг увидел себя отнесенным к какому-то совсем иному, чуждому ему стану.
Было это на самом деле или только мерещилось — кто-то хочет изолировать его от потока новой жизни, который с каждым днем набирал силу. Создать впечатление, будто все, что происходит — противно воле и желанию Симонова, будто в нынешнем ходе событий заложено нечто такое, что противоречит его представлениям, его убеждениям, его «так верую». Порою казалось — невозможно бороться с этим наваждением ни вокруг, ни внутри себя. Сражаться можно с чем-то реальным, материализовавшимся в людях, поступках, заявлениях, в статьях и речах, наконец. Как бороться с тем, что обступает тебя невидимо и неслышимо, словно колдовские огни на болоте, словно адановские вилисы на кладбище.
Нелепо было бы все связывать с тем «выбросом» Хрущева. В конце концов, о нем знали только Сурков да десяток чиновников-перестраховщиков, на которых он никогда не обращал внимание. Способ отринуть от себя эту нежданную напасть, эту обескураживающую напраслину был только один — идти тем же курсом, которым шел всегда, только еще более уверенно. Из Красноярска вернулась Нина Павловна с мужем. Заранее о своем приезде не сообщила, но в Москве позвонила прямо с вокзала. И прямо с вокзала он привез их к себе домой. С мужем Нины Павловны он встретился, как с родным человеком. Гости, даже Нина Павловна, после столь долгой разлуки сначала чувствовали себя неловко, скованно. Постепенно отходили, оттаивали... Зазвучали, как сказочная мюнхаузеновская свирель, принесенная с мороза в тепло, слова благодарности, признательности. Гордон, Юз, как его звала Нина Павловна, все твердил, что, мол, никогда не забудет всего, что сделал К.М. для его жены. Нина Павловна молча переводила сияющий взор с мужа на вновь обретенного шефа. Он же, гудя и картавя, стремился перевести разговор на будущее. О том, где жить, куда обращаться, кому писать.
Бывало, что и раньше, при Сталине, люди, в том числе и его знакомые, возвращались оттуда, но так вот близко, у себя дома, он никого из них до сих пор не видел. Он ловил себя на том, что ему хочется коснуться Юза рукой, потрогать на ощупь бурую, залоснившуюся ткань его потерявшего форму пиджака, следить за движением его исхудавших, иссиненных вздувшимися венами рук, вылезавших из коротких рукавов рубашки.
Ему не в чем было укорить себя по отношению к этим людям. И то, о чем Гордон благодарно говорил вслух, а Нина Павловна молчаливо подтверждала, все было правда. Не будь его поддержки, а потом постоянной и самой разнообразной помощи, она не смогла бы поехать в Красноярск и выжить там одна, на положении «декабристки». Без нее, наверняка, погиб бы, не выдержал своей последней ссылки и Юз.
Раньше каждое такое возвращение воспринималось им как закономерное и неизбежное исправление случайной, пусть и жесточайшей несправедливости. Теперь впервые подумалось о том, что закономерность, дикая и до сих пор не поддающаяся объяснению, была в другом — в непрестанной и неутомимой работе той силы, которая по какому-то одной ей ведомому принципу выхватывала людей и метила их тюремной решеткой и колючей проволокой... Что же все-таки это был за принцип? Ему и раньше приходило в голову, что и он мог бы быть схвачен и унесен этой силой. Не на это ли совсем недавно намекал Сурков, цитируя письма в ЦК? Но лишь теперь где-то в глубинах подсознания мелькнуло что-то вроде сожаления, что этого все же не случилось. Сейчас он предпочел бы видеть себя не начинающим седеть смуглым бодрячком в уютной душегрейке и мягких заграничных брюках, хозяином уютного и обжитого жилья, а таким, как Юз, странником, еще и сейчас не знающим, куда же ему идти из этой теплой и гостеприимной квартиры...
Самым ненавистным, самым презренным всегда было для него слово «ташкентец», но сейчас, вопреки, казалось бы, всякому здравому смыслу, ташкентцем оказывался он...
Стоило только повториться, мелькнуть в очередной раз такой мысли, как все в нем, столь же искренне и негодующе, восставало против. И контрдоводы казались ничуть не менее убедительными, чем доводы.
Нет, он не мог, никак не мог признать все случившееся с Юзом как закономерность, характеристику эпохи, пусть все очевиднее становилось, что таких, как он — тысячи и тысячи.
Миллионы — поправит Константина Михайловича К.М. годами позже. Да, миллионы, согласится он. Но это — дьявольская воля Берии и его предшественников, которым изуверством, коварством и авантюризмом удалось подчинить себе волю Сталина.
Час, когда Константин Михайлович услышал по радио, что с Берией покончено, стал для него праздником, тогда же ему понятна стала и вспышка Хрущева, которая чуть не стоила ему поста редактора «Литературки», места в руководстве Союза писателей и самой репутации.
Хрущев мог увидеть и наверняка увидел в передовой «Литературки» призыв к сопротивлению тем изменениям, которые он уже тогда задумывал и которые только теперь, с уничтожением Берии, стали заметны и понятны.
И уж кто-кто, а он-то, Симонов, за эти изменения горой, всей душой. Нелепо даже и предполагать, что это не так.
Доклад Хрущева на сентябрьском пленуме ЦК партии покорил его. Да и сам Первый секретарь начинал все больше нравиться. С каждым его выступлением становилось психологически понятнее, почему все-таки, имея во главе партии, народа, государства такую гениальную фигуру, как Сталин, мы многого не успели или не смогли сделать, а многое делали с ошибками, порою — роковыми...
Конечно, играли роль объективные обстоятельства. И правильно, что Хрущев никогда не забывал упомянуть о них — война, послевоенная разруха, вражеское окружение, Холодная война, объявленная Черчиллем и Трумэном.
Но справедливо — и все чаще, и все настойчивее говорил Хрущев и о субъективных факторах. Не всегда впрямую, не обязательно с упоминанием имен, лиц и фактов. Однако имеющий уши да слышит. Не ему, Константину Михайловичу, привыкать разгадывать ребусы в руководящих речах.
Хорошо, что Хрущев не упускал случая, пусть и эзоповским языком, сказать и о собственной ответственности. Хотя, разумеется, всем понятно, он находился от Сталина дальше, чем иные его соратники. Например, Маленков, в чей огород камешки из хрущевской пращи летели чаще всего.
Все это так. Но главное, чем взяла речь Хрущева на сентябрьском пленуме, — это перспективы, размах планов и замыслов, которые были так же необъятны и романтичны, как целинные земли, о которых он говорил.
В этом докладе Хрущева, в его последующих речах, а выступал он часто и в самых разных аудиториях, Симонову послышался призывный звук трубы, по которому давно уж стосковалось его ухо. Он не мог не воспользоваться первой же подходящей возможностью — это был пленум писателей Украины, чтобы высказаться.
Он призвал немедля, не откладывая на потом, поставить в центр всех писательских забот величественную программу, выдвинутую партией, подумать о том, как воплотить ее в произведения. Ведь в жизни-то, говорил он, уже происходят реальные факты... Реальные люди уже едут в деревню на работу, оставляют город, оставляют обжитые квартиры, хорошо нагретые места, а подчас расстаются с семьями. И в то же время происходят действия другого рода, люди совершают другие поступки: цепляются, не хотят ехать, ловчат, бегают по знакомым... И проблема еду-не еду по призыву партии — не есть просто проблема еду-не еду, а есть проблема человека, какой вырос человек.
Видит Бог, он немного колебался и всякий раз делал некую внутреннюю паузу, прежде чем назвать фамилию Хрущева, и каждый раз, когда это было возможно, подставлял слово — «партия»... Но в то же время никуда ведь не уйдешь от того факта, что именно Хрущев сделал этот доклад на сентябрьском пленуме ЦК, именно ему принадлежат идеи, которые поистине кружат голову своим фантастическим размахом и одновременно полной реальностью.
Он вовсе не рассчитывал на то, что кто-то там, за пределами киевской аудитории, услышит и откликнется на его слова. Подспудно все же жило желание встретиться с Хрущевым, поговорить, объясниться. Но сигналов «оттуда», таких, которые свидетельствовали бы о встречном желании, не поступало. Ни от «самого», ни от его помощников.
Оказаться на обочине тогда, когда в жизни происходят именно те изменения, о которых ты мечтал, которые ты приближал... Когда дело, которому ты предан и служишь не за страх, а за совесть, начинает очищаться, как лодка Маяковского, от всяких ракушек... В такую ситуацию ему еще не приходилось попадать. Ощущение было, как в первые дни войны. Даже тяжелее, пожалуй. Тогда судьба милостиво хранила его от окружения... Теперь он почти физически чувствовал, как кольцо неприязни и предубеждений все теснее и теснее смыкается вокруг него.
Он не собирался сдаваться ни живым, ни мертвым. Живые и мертвые. Не тогда ли замаячило в его сознании это название? Название для будущего романа, одного из эпопеи, которую он задумал и начал уже «Товарищами по оружию».
Работа над этой вещью становилась единственной отдушиной, хотя дело подвигалось туго. Все отвлекало, мешало. Больше всего — внутреннее состояние.
«Товарищи по оружию» появились в печати еще в конце 52 года. Роман не ругали, даже хвалили. Было много рецензий, как правило, кисло-сладких. Плохи ли, хороши ли в глазах критиков и читателей были его предыдущие вещи, но каждая из них становилась событием. С годами он привык к гулу признания, казалось, даже не замечал его. Так не замечает мерного шума моря живущий на его берегу. Но попробуй он прерваться...
Первое его поползновение было — чистосердечно признаться себе в своей неопытности романиста. У него на памяти еще была дружеская, хотя и болезненная трепка, которую ему задали Федин и особенно Твардовский, когда он послал им роман еще в рукописи.
Первым, как и ожидалось, откликнулся Федин. От Твардовского ответа пришлось ждать дольше, и это тоже было нормальным.
То, что написал, а потом сказал при встрече Константин Александрович, обескуражило. В конце концов, он, Симонов, не новичок в прозе, хотя с романом связался впервые. «Особенно в начале рукописи бросается в глаза, как много употреблено лишних слов, обычно это мало что выражающие газетные речения, не несущие никакой службы... «В сущности», «тем более», «по меньшей мере»... «Как ни странно», «разумеется»... Художнику не следует допускать широко распространенных фразеологических оборотов, если этого не требует характеристика героя.
У вас есть обороты, идущие от ораторских приемов: «Немалая и даже очень немалая роль». Есть, наконец, даже своеобразные фигуры кокетства, не могу назвать их иначе: «умер и его нельзя возвратить к жизни как раз потому, что он умер». Такая фигура не только алогична, она неостроумна и плоха по вкусу. А вот еще на стр. 118: «Представление о расстоянии не мог дать ни один возвышающийся в степи предмет. В степи не было никаких предметов».
Письмо содержало не одни лишь уколы. Федин писал: «Если устранить фразеологию, то язык Ваш мне нравится. Он энергичен, прост, мускулист и точен... Читать Вас приятно. Это определение, возможно, чересчур вкусовое, но я — дегустатор... Однако у меня определенное чувство, что Вы пишете роман не во весь голос, и Ваши возможности в этой части романа еще не развернулись...»
Как опытный наставник, а Федин был им отнюдь не только на семинарах в Литинституте, Константин Александрович самые сокровенные рассуждения приберег для личного разговора. И хотя много им было сказано и едкого, и привередливого, общий его тон, его несомненная доброжелательность, его искреннее желание придти на помощь молодому собрату по перу, а для Федина тридцативосьмилетний Симонов был молодым, полностью примирили его со стариком.
— У вас все данные для того, чтобы можно было говорить о стиле Симонова, — неторопливо рассуждал Федин, сидя в необширном кабинете на даче в Переделкине, листая рукопись и то и дело низко склоняясь над листом.
Он-то полагал, что такой стиль уже существует.
— Не поймите мои подробные замечания — и в письменном виде, и сейчас вот — как учительство, — неторопливо продолжал Федин. — Писатель — всегда ученик. На вашем романе я тоже учусь, поэтому так въедливо его читаю. У вас, в натуре вашей, много богатств. Среди них — богатство прозаика, способного писать с большой образной силой.
Мэтр был обезоруживающе строг и великодушен в одно и то же время. Спорить с ним было невозможно и бессмысленно. Надо было просто садиться снова за рукопись и разгибать все те крючки, которые он в изобилии расставил на ее полях. В конце концов, не такая уж это неприятная работа.
«В конце концов», — поймал он себя на слове. Опять фразеологический оборот. И тут же по-мальчишески расплылся в улыбке.
Замечания Твардовского выстраивались в том же направлении. Даже слово «фразеология» присутствовало в рецензии: «с перышком надо пройтись, фразу за фразой... Вот к этому и сводится мое предложение насчет отшлифовки, очистки от всякой словесной перхоти, причем иногда и фразеологической». Не удержался Саша и от всегдашнего своего бунта против всяческой механизации писательского труда, ведущей, по его твердому убеждению, к роботизации. «Она, быть может, хороша на производстве, на каком-нибудь «Калибре», но никак не в таком тонком и сугубо интимном деле, как процесс писательства».
В конце — самое больное, то как раз, над чем и приходится задумываться сейчас: «Я решительно прошу, настаиваю, не доводи до такого, что «да здравствует Сталин» говорит японец, военнопленный, которого увозят в самолете. Не надо этого. Это — через».
Об этом, только другими словами, более обтекаемо говорил на обсуждении в «Литературке» и критик Тарасенков.
— Пусть он скажет что-нибудь революционное, но не так далеко идущее. Пусть выразит настроение международной солидарности.
Он тогда подумал и убрал это место, вернее, переработал его. И теперь признателен и Твардовскому, и Тарасенкову.
О Федине тоже с благодарностью думал, когда дорабатывал рукопись, прежде чем отдать ее в набор. Все, что старик написал и сказал, было справедливо. И правильно он сделал, что подошел так круто. Не постеснялся задеть авторское самолюбие, хотя отдавал себе отчет в том, что имеет дело не с мальчиком, не с новичком. Хорош новичок — с шестью медалями сталинского лауреата. Он со времен «Генерала» не чувствовал себя подмастерьем. Фазу ученичества проскочил почти незаметно. Как любимая его Монголия, из феодализма в социализм, минуя стадию капитализма. Из начинающих попал сразу в знаменитости. Оказывается, быть знаменитостью и мастером — не одно и то же. Роман попал, как пуля неопытного стрелка, в молоко, прошел мимо читательского сознания. Людей волновало другое. Другие страсти, другие боли. Еще одно напоминание о монгольском эпизоде, который казался ныне таким далеким и даже незначительным — после войны-то с фашистами, после Японии, после пережитой со смертью Сталина травмы, — мало кого привлекло.
На одной читательской конференции, которые давались ему, как ни храбрился, все тяжелее, встал парень, по виду или студент-старшекурсник, или аспирант, явно не москвич, а откуда-нибудь из нечерноземной России, может, даже из любимого его Смоленска. В руках у парня были две книжки. Одна — он ее сразу узнал — очередное издание «Друзей и врагов», другая — тонюсенькая. Как оказалось — Евтушенко.
— Вот, — непринужденно начал парень. — Читаю у Евтушенко, и мне это понятно: — Я разный, я разнообразный, трудолюбивый, праздный... Словом, в этом духе. — Хочу жить в Лондоне, пройтись Парижем... И читаю у вас — «Речь моего друга Самеда Вургуна»...
Симонов сразу же подумал о заключительных строках:
Не слыша, как сам Сталин молча
Во время речи встал за ним...
Встал и стоит, и улыбается —
Речь, очевидно, ему нравится.
Но его громкоголосого читателя не устраивало в его стихах что-то еще. Он стал читать с самого начала.
Мой друг, Самед Вургун, Баку
Покинув, прибыл в Лондон.
Бывает так — большевику
Вдруг надо съездить к лордам.
Студент прочитал эти строки и победно оглядел зал, и в зале возник согласный ропот. Константин Михайлович никак не мог понять, чем же теперь не устраивали его читателей эти строки, которые столько раз звучали уже и по радио, и в живом исполнении, и приводились к месту и не к месту на различных собраниях, вплоть до дружеских застолий.
— Почему вы считаете необходимым как бы извиняться за своего героя? Вот, мол, вроде и не хотелось за границу ехать, к этим треклятым лордам, а надо — обязали...
Или вот еще:
Все о свободе принимали билли
И стали до того свободными,
Какими видим их сегодня мы,
Свободными до умиления —
И их самих, и населения.
Ей богу, не понимаю, над чем здесь издеваться?! И вообще — как будто вы не к вчерашним союзникам приехали, не к тем, с кем вы вместе, сами же пишете, воевали, а к заклятым врагам... «Стоит мой друг над стаей волчьей...»
Нетрудно было бы ответить этому парню. Так, чтобы зал вместе с ним посмеялся бы незлобиво над незадачливым критиком. Но — устаешь уже этим заниматься! Отовсюду, из каждого угла, выглядывал этот цинизм. Не выстраданное, а с порога... Отрицаю лишь потому, что признано...
Можно отшутиться, когда стрелы летят прямо в твой адрес. Но не до шуток, когда под сомнение ставится святое. Из театра, его любимого театра Ленинского комсомола, с которым столько связано, ему присылают пьесу Финка, его тезки Кости Финка, явно с расчетом на одобрение ее и поддержку. Он же до сих пор остается чем-то вроде заведующего литературными делами этого театра. И кто присылает? Софья Владимировна Гиацинтова... Что поделаешь, надо садиться за перо и писать. Софья Владимировна — старый, верный, надежный друг, которому можно без экивоков раскрыть душу. Он пишет: «Странная происходит история в целом ряде пьес. Выходит так, что у людей среднего поколения — заевшихся, запутавшихся, разложившихся, переродившихся, ставших карьеристами... расту! хорошие... чистые, принципиальные дети, осуждающие своих отцов и матерей. Возникает сразу два вопроса. Во-первых, что это за мнимо переродившееся поколение и с кого портреты эти пишут?.. Откуда такое представление о целом поколении, которое, между прочим, доблестно провело войну, приняло на плечи всю ее тяжесть... Почему же это поколение из пьесы в пьесу изображается в кривом зеркале? В чем тут дело?
Второй вопрос — откуда у этих, таких плохих и беспринципных, судя по некоторым пьесам, людей такие хорошие, принципиальные, судя по тем же пьесам, дети? Кто воспитывал этих детей? Откуда такая странная, чтобы не сказать больше, концепция?»
Начав с А, он, если был убежден, договаривал все до конца, до последней буквы алфавита.
В эти же дни, быть может, даже «разогретый» своим письмом Гиацинтовой, он уже в живой аудитории, в Доме литераторов высказал в запальчивости те же мысли, в еще более острой, пожалуй, форме. Пьеса Леонида Зорина «Гости» представлялась ему концептуальной, и он выстраивал в противовес свою собственную концепцию. «Пьеса вызвала у меня чувство внутреннего протеста, мне показалось, что тут есть какое-то дешевое, демагогическое противопоставление людей бедных и богатых, натравливание одних на других. Мне показалось, когда я читал пьесу, что этот разговор о том, что власть портит людей — все это неверно, все это звучит фальшиво. Ему, Зорину, зачем-то нужно было сопоставить два поколения, работников партийного и государственного аппарата, Москвы и провинции».
Словом, и в этой пьесе увидел Константин Михайлович камешек, какое там — целый булыжник, брошенный в то самое поколение, к которому он принадлежал и которым гордился.
Как и почему это происходит? Причину видел в образе жизни таких молодых драматургов, как Зорин. В бедности и однобокости их жизненного опыта. «Такому человеку нужно менять жизнь, — убежденно говорил он, — такому человеку, закрутившемуся в колесе Союза писателей — в театр, туда и обратно, и так далее... Я лично не верю чтобы Зорин мог написать хорошую новую пьесу, если он не переменит и своей жизни».
Говорил страстно, остро, откровенно, а отклика, он чувствовал по настроению в зале, не возникало. Того, к какому он привык. Слушая потом других ораторов, он из президиума, ярко освещенного, вглядывался в полутемный зал и вновь и вновь старался понять, почему так происходит. Удивляться было нечему. Зал был заполнен, образно говоря, такими же Зориными. И глупо было не сообразить это с самого начала. Есть какая-то странная закономерность у всех писательских дискуссий, и он начал улавливать ее лишь только сейчас, когда все чаще оставался в одиночестве. На очередную «рубку» приходят и берут слово, как правило, те, кто заранее чует, что «его» или «их» берет верх. Те, кому сегодня «не светит», либо отмалчиваются, либо вообще голосуют ногами... Он, Симонов, тут рубаху на себе рвет ради своего поколения, а что-то никого из этого поколения в зале и не видно...
Неутешительно было сознавать все это. Но, однако ж, и складывать оружие не было никаких оснований. И очередной повод скрестить шпаги представился довольно скоро, всего через несколько дней. И был он, пожалуй, посерьезней всех предыдущих.
В Центральном Комитете партии, в отделе пропаганды, у Поликарпова, его познакомили с переданными «Би-би-си» высказываниями Зощенко. Он сделал их в беседе с делегацией молодых парламентариев Англии. Из этих высказываний, если, конечно, они не были перевраны, вытекало, что Зощенко отказался признать справедливой критику, которой он вместе с Ахматовой был подвергнут в известных партийных постановлениях и докладе Жданова.
Товарищи в ЦК рекомендовали Симонову, как одному из руководителей Союза писателей, поехать в Ленинград, где как раз намечалось писательское собрание, посвященное подготовке ко второму съезду ССП.
Когда, через несколько месяцев после выхода постановления, Зощенко прислал в «Новый мир» свои «Партизанские рассказы», Симонов прочитал их первым и загорелся — печатать, печатать, во что бы то ни стало. Что с того, что кое-кому рассказы кажутся слабоватыми, разве в этом сейчас дело. Важна их направленность, важна сама эта здоровая реакция писателя на критику. Как же не поддержать, не подать ему руку в такую минуту. В конце концов, и есть, и пить, и семью содержать писателю тоже ведь надо...
Предостережения осторожных, а как на это посмотрят наверху, ведь критика Зощенко шла по прямому, непосредственному... не останавливали, а наоборот, подхлестывали его. Он был уверен, что как раз там-то, наверху, поймут и одобрят. Ну, и чтобы уж не было никаких сомнений, послал машинописный экземпляр рукописи со своим коротким письмецом в ЦК. Реакция была быстрой и неожиданной. В один прекрасный день, как раз когда он дежурил в союзе как заместитель Фадеева, ему позвонили по «вертушке» и попросили не отлучаться, с ним будет говорить товарищ Сталин. Кто? — Симонову было известно, что Сталин знает его и о нем, внимательно следит за его творчеством, но он еще ни разу с ним не разговаривал. «Товарищ Сталин, — сдержанно, но приветливо повторил голос в трубке, — не отходите от аппарата».
Вскоре телефон зазвонил снова, и Симонов с холодком почувствовал, что сейчас услышит Сталина. Разве его голос, его акцент спутаешь с чьим-нибудь другим. Поприветствовав его как старого и доброго знакомого и не дав прорваться с ответным залпом, который грозил быть сбивчивым и пылким, Сталин поинтересовался, по каким именно соображениям Симонов считает, что рассказы Зощенко, направленные им, Симоновым, в ЦК, должны быть напечатаны. Он от волнения чуть было не совершил бестактность — начал было о том, что свои соображения изложил в письме, но тут же, прервав самого себя, перешел к существу и четко, ясно, короткими, но эмоциональными фразами изложил свою точку зрения.
— Согласен с вами, — после длившейся несколько секунд, но казавшейся бесконечной паузы сказал Сталин, — если так считаете, можно пускать.
И положил трубку. Рассказы были напечатаны в следующем же номере, и их появление было здоровой сенсацией, прибавило авторитета и журналу, и его редактору.
Что ж, теперь у него будет полное моральное право сказать все, что он думает. Все, что его последнее время так беспокоило и удручало, и вправду как бы выстраивается в один ряд и даже увенчивается этой акцией с Зощенко, представляющей, по сути дела, вызов принципам партийного руководства литературой.
С такими мыслями и чувствами, взбудораженный, не выспавшийся в душном купе «Голубой стрелы», приехал он в Ленинград.
Когда привычно прошел в президиум, сел на отведенное ему рядом с председательствующим, руководителем ленинградской писательской организации Кочетовым место, увидел битком набитый зал, прихлынула вторая волна раздражения.
Повестка дня собрания была сформулирована безбрежно, но с каждой минутой становилось яснее, что людей занимает лишь то, что будет сказано о Зощенко и что скажет он сам. Окинув натренированным глазом зал, тут же обнаружил главное действующее лицо. Невысок, небросок: той особой неброскостью — сработало в нем автоматически его писательское естество, — которая сильнее всего привлекает к себе внимание. И место его, сбоку, где-то в седьмом или, может быть, девятом ряду, уже кажется центром этого маленького, туго населенного мироздания. Чем-то он вдруг напомнил ему Гордона, мужа Нины Павловны, — такой же аккуратный, подобранный, четко очерченный и словно отделенный этой своей очерченностью от остальных. И так же, как тогда при встрече с Гордоном, когда Нина Павловна прямо с вокзала привела мужа на квартиру к своему дорогому и не бросившему их шефу, мелькнуло неподконтрольное и необъяснимое чувство зависти, чуть ли не желание поменяться местами.
Слово предоставили Зощенко. Надо было уметь так заворожить этот враждебно настроенный зал. Поначалу показалось, что он просто крутит, несолидно и неправдиво. Я, мол, возражал не против того, что сказано в постановлениях, а против того, что приписал мне Жданов. Я вовсе не отрицал огульно критику в свой адрес, а только отметил, как и в 46 году в письме Сталину, что не могу согласиться с критикой всех моих работ, что не все они таковы. Я не согласен с тем, что я не советский писатель... Потом мало-помалу, с подкупающей скромностью и простодушием повел речь так, что вообще все, что говорилось о нем, его поведении и о его творчестве — это сплошной бред и выдумка, плод чьего-то воспаленного воображения... И из Ленинграда-то он в войну не хотел уезжать, его заставили, чуть ли не силком вывезли... И в редколлегию «Звезды» потом чуть ли не так же, силком затащили. Алма-Ата и Ташкент? Их точно и совсем не существовало. Что же прикрываться орденами прошлой войны, если от этой ты сам себя изолировал. Выводила из равновесия поза оскорбленного в лучших чувствах человека, который, брезгливо отводя одно обвинение за другим, как бы возвращал их собравшимся. «Что вы хотите от меня? Чтобы я признался, что я трус? Вы этого требуете? По-вашему, я должен признаться, что я мещанин, пошляк, подонок, что у меня низкая душонка? Что я бессовестный хулиган?»
Произнося эти свои «вы», он, как показалось Симонову, чаще, чем прежде, поворачивался лицом к президиуму, а в президиуме — к нему, Симонову.
— Этого требуете вы? — оратор с надрывом повторил свой вопрос, и зал замер, затих заворожено.
Тот самый зал, который только что, в начале выступления Зощенко, то и дело отвечал на его эскапады слитным гулом толпы, охваченной азартом погони — и тут все симпатии Константина Михайловича были безраздельно на стороне оратора, этот же самый зал вдруг погрузился в такую невыносимую тишину, от которой пронзительно зазвенело в ушах. Константин Михайлович почти физически ощутил, как все взоры обратились к нему. Теперь ему предстояло вступить в единоборство с этим залом, который вдруг каким-то непонятным образом из «чудища обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» вдруг превратился в сгусток волновой энергии, чье поглощение и излучение обладало неожиданной для него избирательной силой.
Оратор, от которого привычно ждали в заученных фразах покаяний, по сути бросил вызов своим уже состоявшимся и предполагаемым обвинителям.
Зал напрягся вновь, когда Симонов из президиума шагнул к трибуне, еще не зная, с чего и какими словами начнет. С удивлением прислушиваясь к самому себе, обнаружил, что начал вовсе не с Зощенко, а с того, что наболело, что носилось в воздухе и чему вся эта новая история с Зощенко была лишь еще одной иллюстрацией.
«Все-таки, друзья, самое интересное на земле — это хорошие, героические, настоящие люди. У них самый могучий характер, самые сильные страсти, самые горячие слова. Любые, даже архиколоритные мерзавцы должны бледнеть и теряться, когда на авансцену выходит настоящий, взятый из жизни положительный герой».
Об этом ему давно хотелось сказать — полно, во весь голос, с вызовом, как манифест. Все не удавалось, не получалось — до этой минуты.
— Вот пришла, — продолжал он, — на одной читательской конференции записка — упрекают писателей, что они забыли об указании партии развивать критику. Справедливое напоминание. На эту записку отвечать следует так же недвусмысленно, как она написана. Призыв показать теневые стороны жизни, дурных людей-хапуг, приспособленцев, трусов — важен и актуален. Но это — не самодовлеющая задача, и нельзя забывать о цели, о том, ради чего это делается. Сила положительных идеалов художника должна стать в произведении во весь рост. Мы должны чувствовать, как художник содрогается от ненависти и презрения к той дряни, которую он вынужден, да, вынужден изображать, ибо удовольствием это не назовешь, вынужден выводить за ушко да на солнышко, в нашем еще несовершенном обществе. Выводить, чтобы уничтожать, а не коллекционировать.
— А у нас порою объективизм протаскивается под лозунгом борьбы за правду жизни. И это называют почему-то искренностью.
Здесь он совсем близко подошел к тому, что особенно задело его в последних публикациях, к тому шуму, который поднялся вокруг статьи Померанцева, напечатанной Твардовским в «Новом мире».
— Начинают говорить об искренности, как о некоем самодовлеющем требовании. Как будто бы хотят подменить этим само понятие партийности в литературе, само понятие метода социалистического реализма...
И наконец вырвалось наружу — то, что болело так долго, с каждым днем все сильнее:
— Когда это понятие искренности выдвигается как некое открытие, то я считаю для себя глубоко оскорбительной такую постановку вопроса на тридцать восьмом году Советской власти... Когда об искренности говорят как о некоем нововведении... Что же, мы были неискренни, когда писали романы и стихи о первых пятилетках, о строительстве, о Комсомольске-на-Амуре?! Что, мы были неискренни, когда в войну работали и писали все, начиная с листовок и кончая романами и пьесами?
А что, прикажете мне стыдиться очерков, написанных в 41 году, в лихолетье? Что, мы нетипичные вещи показывали? Это были типичные вещи, типичные люди. Что же, мне теперь раскаиваться, что я или другие, я в данном случае говорю о тысячах военных корреспондентов, лакировали действительность? Почему Померанцев нас должен учить искренности? У него психология ташкентца.
Отсюда, от понятия «ташкентец», уже совсем было просто и естественно перекинуть мостик к Зощенко. Он чувствовал, как, вылезая из трясины и зыбкости, ступает на твердую почву разговора о войне и военной литературе.
— Когда человек сидит в Алма-Ате и в журнале выходит его повесть «Перед восходом солнца»... В разгар войны, в которой погибают миллионы жизней, во время блокады Ленинграда печатается гробокопательская вещь... Нужно было понять это и почувствовать, а не писать такую вещь в 43 году, во время Курской дуги...
Никто не требует от человека выходить на трибуну и бить себя в грудь, кричать — я подонок, — но ты пойми глубину своей вины, и что, может, самые резкие слова, адресованные тебе, еще недостаточны... Он тут говорил, как будто его убивали и убьют, невесть что с ним произойдет, а я могу напомнить, что через одиннадцать месяцев после того, как его критиковали резко в партийном решении, я помню это очень хорошо, я был тогда редактором «Нового мира», через одиннадцать месяцев поверили Зощенко, через одиннадцать месяцев были напечатаны его «Партизанские рассказы» в крупнейшем журнале страхи... Так это или не так?
Видит Бог, он не хотел специально напоминать о своей роли, но тут дело принципа, сидевшие в зале не знали или забыли уже эту историю, помнят только критику. А Зощенко не напомнил...
— Что же изображать из себя жертву Советской власти, советской литературы? И в союз, когда он подал заявление, его приняли заново, и о том хорошем, что было в работе, сказали, о переводах сказали высоко... Что же жертву из себя изображать?
В Москву он возвращался той же «Стрелой», чуть ли не в том же вагоне и купе — места были по депутатской брони, — и с той же головной болью. Всю ночь с самоедской дотошностью перебирал, фраза за фразой, свою речь... И все, что так свободно, так искренно вылилось из сердца, теперь вызывало глухое, нарастающее недовольство собой, почти стыд... Он копался в себе и не мог постичь, в чем тут дело, но оно сидело в нем это чувство, сидело физически, темным твердым комком где-то под ложечкой, вызывая легкие, кружащие голову приступы тошноты и озноба...
Выступал он в Ленинграде не по писаному, но, как водится, на заседании велась стенограмма, и через какое-то время ему ее прислали для сверки. Перечитал, и снова показалось, что все на месте. Подивился тому, как полно, без сбоев все записано. Но править стенограмму и отсылать ее в ленинградское отделение Союза писателей не стал.
Много лет спустя, когда Зощенко не было на свете, но уже существовало «Все сделанное», К.М., разбирая с Ниной Павловной архивы, вновь наткнулся на эти несколько страниц на машинке, заглянул в них и скривился, как от зубной боли. Не став дочитывать, протянул рукопись Гордон: «В том за 1954 год!..»
— Еще один донос на самого себя, — сокрушенно пробормотала она и, не смея ослушаться, препроводила запись туда, где я ее обнаружил после смерти К.М.
В Москве он вплотную засел за доклад о прозе, который по поручению секретариата ССП должен был сделать на предстоящем II съезде писателей. Если съезд состоится, как решено, в 1955 году, его будет отделять от Первого горьковского — 21 год. Не показывая виду, в глубине души он гордился тем, что его не обошли такой честью. Особенно в этой обстановке. Он с удовольствием согласился встретиться с членами возглавлявшейся тогда Паустовским московской секции прозаиков и обсудить с ними основные тезисы доклада.
О своем предстоящем участии в обсуждении уже заявили помимо Паустовского — Либединский, Мариэтта Шагинян, Давид Заславский, Сергей Антонов, который был тогда в зените своей славы, вспыхнувшей с появлением рассказа «Дожди», Александр Бек, Вениамин Каверин, Леонид Кудреватых, сотоварищ по памятному путешествию в Японию.
Тон задала своей невоспроизводимой экспансивностью Мариэтта Шагинян. Слегка запоздав, она вступила в бой, не присев даже к столу, за которым расположились подобные ей персоны первой величины.
В темном балахоне, призванном, по всей вероятности, выполнять роль платья, с маленьким черным снарядом в вытянутой правой руке, как оказалось, — микрофоном, она стремительно передвигалась по залу и с такой же стремительностью извергала вспышки слов. И уже первая такая вспышка содержала не больше, не меньше как требование исправить... ошибки горьковского доклада на I съезде писателей, том самом, хрестоматийном: «Национальные республики делали свои доклады, пусть это было скучно, они делали подробные информационные доклады о том, что произошло за годы до съезда... А когда дело дошло до русской советской литературы, то ни в докладе Горького, ни в содокладах не было никакого анализа того, что произошло в советской и русской литературе в 20 — 30 годы, и это было настолько убийственно для нас, настолько тяжело, что я прекрасно помню все разговоры, которые тогда были».
О событиях двадцатилетней давности она говорила, как о вчерашнем. Константин Михайлович во избежание осложнений усиленно кивал, слушая ее, и усердно записывал в книжицу все, что она говорила, хотя в зале находились две его стенографистки. Несмотря на грозный вид и повелительный тон Мариэтты, слушать ее было приятно и весело, тем более, как он догадывался, что это было отнюдь не самое страшное, что ему предстояло услышать.
Либединский поднял вопрос о резком и опасном снижении мастерства в послевоенной прозе. Сергей Антонов, подхватив его тезис, выразил обеспокоенность, что в докладе Константина Михайловича эта проблема отодвинута на третий план. Тут Каверин поспешил вставить, что докладу вообще не хватает мыслей, идей.
С особым ожесточением набросились все на Бабаевского, который был упомянут в его тезисах добрым словом. Досталось Софронову, Бубеннову, Сурову с его пресловутой «Зеленой улицей», хотя речь о драматургии в принципе не шла.
Оборонялся, как мог:
— Я не принадлежу к числу больших поклонников Бабаевского, но в его романах есть какой-то отклик на то, что интересовало читателя в то время. Читатель хотел знать о современной деревне.
— И что же он узнал? — выкрикнули из зала.
Не называя конкретных имен, Каверин заметил, что интересно было бы сказать несколько слов о замолчавших писателях. После войны они перестали писать. Почему?
Сергей Антонов предложил сказать в докладе о форме и формализме: «Мы видим на примере с живописью, как борьба с формализмом превращается в борьбу с новыми формами, что совершенно неверно».
Увы, не встретило поддержки и самое заветное — специально приведенные здесь в систему рассуждения о статье Померанцева в «Новом мире».
Разговор получился долгий, неприятный, колючий. Самое тяжкое было в том, что стороны обозначились не только по формальному, что ли, признаку — есть докладчик и есть его оппоненты. Ему виделось и слышалось что-то другое.
На съезде все, что таилось по углам, все, что могло показаться лишь плодом раненого воображения, выплеснулось наружу. Он выступал на съезде не раз: и с докладом, и в прениях. Затрещин, хороших, увесистых, раздал, быть может, даже больше, чем получил сам, но удовлетворения от этого не почувствовал.
Кто-то уловил и использовал в своих групповых интересах то, что он сам называл аллергией на него Хрущева. Ему теперь казалось, что она родилась куда раньше, чем злополучная передовица о Сталине. Может, еще во времена их мимолетных встреч на войне, может, подполковник Симонов, чувствовавший себя всегда чем-то большим, чем просто подполковник, не выказал при встрече должного почтения вспыльчивому генерал-лейтенанту.
Иные просто пользовались возможностью взять реванш. Шолоховское снисходительное «Шей, Костя, себе кафтан покрепче» стало одним из тех мотто, которые пошли гулять по творческим домам, клубам и салонам.
Вслед за первыми предощущениями, а потом и открытыми нападками и обличениями последовали, как у нас водится, некоторые оргвыводы. К ним он, привыкший вариться в бюрократической каше, относился, скорее, с юмором. После съезда он уже не обнаружил себя среди заместителей Генерального секретаря ССП. Он просто был выбран — в числе доброго десятка других — секретарем союза без каких-то определенных обязанностей.
В самый канун съезда ему, правда, предложили в ЦК вернуться в «Новый мир». Поначалу он решил, что это обычные штучки Фадеева, который любил тасовать карты в руководящей колоде. Например, только что отправил Софронова в «Огонек», отодвинув его подальше от сладкого секретарского пирога, в который тот впился уж слишком сладострастно. То, что стояло за его нынешним перемещением, было сложнее. Предстояло сменить Твардовского, как некогда тот сменил его. Саша впал в опалу и в немалой степени из-за статьи Померанцева. Он ни за что бы теперь не согласился пойти на его место, если бы тот сам не зашел к нему в «Литературку» и не попросил его об этом. Он тем не менее не преминул еще раз подчеркнуть свою позицию по больному для них обоих вопросу. Не «ташкентцу» Померанцеву учить его искренности...
В том же 1955 году он из разряда всесоюзных был переведен в депутаты Верховного Совета РСФСР. Как говорится, труба пониже, дым пожиже... Не был он избран и делегатом XX съезда партии, которого ожидали в стране с беспрецедентным интересом. Участвовать в его работе довелось гостем, на правах кандидата в члены ЦК КПСС, избранного предыдущим съездом, который уже все чаще называли последним сталинским.
То, что он услышал на заключительном заседании из уст Хрущева, было непостижимо. Несравнимо со всем тем, что уже к тому времени говорилось о Сталине, в том числе и самим Хрущевым в его отчетном, открыто произнесенном и на следующий день опубликованном докладе.
Слова, складывавшиеся в невероятные, невозможные, нестерпимые фразы, хлестали по лицу и по сердцу словно струи колючего, со снегом дождя, обрушивались водопадом, превращали его, как и сидящих рядом, в какое-то месиво, одно сплошное мокрое, без форм и очертаний пятно...
Казалось мгновениями, что уже никто и ничто не способно будет заставить его продолжать собственное существование, встать, задвигаться, заговорить. Прозвучали последние слова. Перевернута последняя страница. Докладчик вытер большим платком свою необъятную лысину. Вместе с зародившимся и нарастающим в зале гулом застучала, запульсировала кровь. Зарозовело, словно омытое изнутри теплой влагой, лицо, отогрелись, задвигались, поправляя галстук и рубашку, руки.
Беспощадная, но благодетельная ясность сошла на него.
Как ни тяжка, как ни фантастична была изображенная Хрущевым явь, но это была явь, это была правда, сказанная партией на ее высшем форуме, устами ее высшего руководителя.
Какое значение могли иметь личные репутации, страсти перед лицом того главного, что только что пророкотало над головами и душами всех, кто сейчас шевелился и гудел, словно от обморока очнувшись. В этом зале, который в воображении миллионов был неразрывно связан с обликом человека с усами, в военном кителе, с правою рукою, знакомо заложенной за борт.
Ясность, какого бы рода она ни была, всегда приносила ему облегчение, рождала приток душевных и физических сил. Он понял, что три минувшие, оставшиеся теперь за чертою года были мучительны именно своей неопределенностью.
На съезд партии он прилетел из Кисловодска, где, получив в союзе шестимесячный творческий отпуск, находился уже два месяца.
Рукопись романа о войне, не имевшая еще названия, — просто продолжение «Товарищей по оружию» — достигала едва ли не сорока листов. Он уже не помнил многих сцен в движущемся как будто бы к завершению повествовании, путал имена иных второстепенных героев. Ему каждый раз надо было преодолевать себя, чтобы взять эту махину в руки.
Но первая мысль, когда он пришел в себя от услышанного на партийном съезде, была об этих сорока листах. То, что накапливалось и зрело в нем последние годы, неотвязные и мучительные мысли о ходе войны, о поражениях, о бессмысленных жертвах, об отношении к бывшим военнопленным, все, что бушевало в сердце, а на бумагу выплескивалось скупо, как паста из тюбика, теперь вдруг, в одном мощном порыве потребовало выхода.
Отпуск, прерванный партийным съездом, оставался в силе. Формально его никто не отменял. Он решил «смыться» из Москвы немедленно, — но уже не в Кисловодск, а в Ленинград, а оттуда в Репино. Промедление, прекрасно отдавал он себе отчет, «смерти» подобно. Он почти физически осязал, как с каждым часом, каждой минутой нарастает, вот-вот захлестнет кабинеты редакции вал поручений, запросов, вызовов, просьб о выступлениях и откликах. То, что всегда сопутствует событиям такого ранга, как съезды партии. Вчерашнему же событию ранг подобрать просто невозможно.
Через день, отдав Нине Павловне, которая должна была последовать за ним, самые необходимые распоряжения, он отбыл «Стрелой» в город на Неве. Еще через несколько дней встречал ее на Московском вокзале, откуда повез, в память о недавних днях в Кисловодске, в ресторан «Кавказский» на Невском проспекте, где их уже ожидали несколько ленинградских писателей. Ресторанчик в меру своего названия был достаточно задымлен и благоухал ароматами жареной баранины и лука. На Константина Михайловича, как всегда, оглядывались, и он, как всегда, замечая это, не подавал вида.
История, которую он вдруг начал рассказывать, далека была от кисловодских воспоминаний. Скорее, была навеяна съездом.
Один ученый, специалист по чумным бактериям, нечаянно проткнул ножиком резиновую маску на лице. Чтобы спасти себя от чумы, он опустил руки и лицо в раствор сулемы и держал их там двадцать минут. Затем открыл глаза и, держа веки руками, снова опустил лицо на мгновение в сулему. Он спас себя от чумы, но оставался слепым два года. Сейчас видит через сильные очки.
Нина Павловна и раньше обращала внимание, что К.М., так его все чаще называли близкие, всегда сильнее, чем других, задевали такого рода истории. Высшие, пиковые проявления человеческой воли и духа завораживали его.
В Кисловодске они работали много. Однако, как убедилась вскоре Нина Павловна, тот темп не шел ни в какое сравнение с тем, который он задал в Репине. Работали с самого утра, но вечером он диктовал ей часа по три сряду. Диктовал бы и по четыре, если бы она могла выдержать. Если он был и совой и жаворонком одновременно, мог лечь спать после часа ночи и встать, как ни в чем не бывало, часиков в шесть утра, то ее ночные бдения приводили в полное изнеможение. Она могла выдержать и выдерживала, куда денешься, любые лишения — физические и духовные, но она не могла бодрствовать в ночные часы. Это обнаружилось впервые, еще когда она работала с Кольцовым. Тот пытался брать ее вечерами в «Правду» и диктовать в ожидании газетных полос свои фельетоны. Фельетоны могли быть смешными и злыми, издевательскими, любыми. Но перо валилось из ее рук. Держать его было выше ее сил. Она засыпала.
Так она умудрилась однажды заснуть и здесь, в Репине, где-то в двенадцатом часу ночи, в самый разгар диктовки, когда ее обожаемый шеф, войдя в раж, говорил с нею голосом то одного, то другого своего героя.
— Нина Павловна, — театрально-драматически воскликнул он вдруг после короткой паузы, от которой она и очнулась, —да вы спите?!
— Ну да, — пробормотала она, ничего не соображая, и тут же, не с испуга, а от смущения стала говорить, что все слышала и все записала...
Уж повеселились они потом, разбирая по деталям этот казус и вспоминая другие, ему подобные. Ему доводилось «загонять» своих помощников одного за другим, как при езде на перекладных.
Его комната-кабинет в коттедже была завалена грудами бумаг, в которых ему самому невмоготу было уже ориентироваться. От бесконечного сортирования документов, выписок, заготовок возникала резь в глазах. В горле саднило от бумажной пыли.
Чтобы всегда держать самое нужное под рукой, он заказал несколько больших настольных рамок — как для фотографий. И все привез с собой. В них втыкал различные вырезки и выписки, которые конвейером сменяли друг друга. Друзьям, кому доводилось попадать в кабинет, служивший одновременно и спальней, объяснял вполне серьезно — вожу с собой портреты родственников.
Настроение было хорошее. Казалось, наступило полное слияние желаний и воли. По молчаливой реакции Нины Павловны он видел, что ей все больше нравится текст. У него в это время как раз шли картины обороны Москвы. Самые тяжкие дни. Нину Павловну потряс известный ей по рассказам и ранее, но только теперь написанный во всю силу эпизод — гибель одного за другим тяжелых советских бомбардировщиков безнадежно устарелой конструкции. Словно Иисус Христос на Голгофу, они поднимались в небо, мужественные и беззащитные, чтобы на виду у выбирающихся из окружения соотечественников превратиться, один за другим, в столбы огня и дыма... Минует несколько лет, и эта страшная сцена станет одной из главных в фильме Столпера «Живые и мертвые».
Уже появилось чувство, что все получится как надо. И по мере того, как такая уверенность, поощряемая молчаливым одобрением Нины Павловны, росла, возвращался аппетит к повседневной активности. Звонки из Москвы — первой по их уговору трубку всегда брала Нина Павловна — уже не оставались без ответа. Письма из редакции, из союза не валялись более нераспечатанными. В немногие часы, когда Нина Павловна получала увольнительную и направлялась в Ленинград — «пошататься по музеям и эрмитажам», как это они называли с К.М., его комната превращалась в настоящий редакционный кабинет. Возвращаясь, она записывала поручения, проекты писем, ответы на просьбы выступить или что-то написать, рецензии на рукописи, которые пошли уже бандеролями и сюда.
Через полтора месяца чаша весов, на которой скапливались его редакционные и другие организационные заботы, стала угрожающе тянуть вниз. Они пришли к выводу, что надо прерваться — возвратиться в Москву, «провернуть в темпе» все дела и улететь на юг, в Гульрипши, продолжать работу над романом.
В «Новом мире» на его редакторском столе, на самом видном месте, лежали горкой три рукописи — пьеса Назыма Хикмета «Иван Иванович», роман Дудинцева «Не хлебом единым» и «Доктор Живаго» Пастернака.
Это не было для него неожиданностью. Каждая из этих вещей была им уже прочитана. Назыму он написал перед самым отъездом в Ленинград. Тот внес по его просьбе кое-какие поправки. Не меняя поистине сенсационного естества пьесы, они делали ее все же более проходимой. Беда состояла в том, что в его отсутствие Кривицкий взял да и отправил рукопись в ЦК, Поликарпову. Ответа пока не было. Но разведка, по словам того же Кривицкого, который сам был смущен своим, в старом духе, поступком, доносила, что у Поликарпова «возникли вопросы». Положение усугублялось тем, что Хикмет, отчасти из-за нервотрепки с пьесой, слег. У него тут же открылась тьма застарелых болезней, каждая из которых могла свести в могилу иного незакаленного человека.
Перечитать пьесу, посмотреть еще раз, что в ней поправил Назым, — можно будет использовать как аргумент в разговоре с Поликарповым, сесть за письма им обоим — было, таким образом, первой его заботой.
Проще было с Дудинцевым. Роман К.М. нравился. По части содержания — как раз то, он был уверен, что нужно сейчас — и читателю, и журналу. Смелое произведение бескомпромиссно бичевало хронические недостатки той эпохи, которую партия назвала периодом культа личности. Резкость постановки больнейших вопросов современности не переходила, по его убеждению, в смакование язв общества. Заостренность образов не становилась шаржем. Книга написана с глубокой и выношенной верой в могучие силы нашего строя, которые сейчас, после долгого периода своеобразного оледенения, разворачиваются с небывалой мощью.
Размышляя в таком духе, К.М. не мог удержаться, чтобы не поиронизировать над собой: словно бы уже пишет объяснение в ЦК. Так оно со временем и случится.
Продиктовав письма Хикмету и Поликарпову, отправив рукопись романа Дудинцева в набор с указанием разослать потом верстку членам редколлегии, он укатил, захватив с собой «Доктора Живаго», в Гульрипши. Снова встречал в Сухумском аэропорту Нину Павловну, которая была нагружена бумагами, как маленькая верблюдица, по родившемуся у них определению.
Глядя на К.М., Нина Павловна глазам своим не верила: как может человек преобразиться за какие-нибудь несколько дней! Загорел, бодр, весел и в своей новой брезентовой курточке — она еще не знала слова «джинсовая» — выглядит лет на десять моложе, чем неделю назад в Москве.
Он всегда преображался, когда покидал столицу, но на этот раз в его перемене было что-то разительное. Вначале Нина Павловна готова была приписать все «окружающей среде». Дорога в Гульрипши, сама эта словно из-под земли выросшая каменная дачка — три комнатки внизу, одна — наверху, — ощущение такое, словно попадаешь в рай.
Лучшая комната отведена под кабинет. В кабинете, когда она впервые вошла в него, пылал камин. Никакой реальной нужды в этом, правда, не было — в комнате и так было светло, тепло и сухо, но таков уж шеф. Окна выходили на море. Оно плескалось не более чем в пятидесяти шагах. Если закрыть глаза, то кажется, волна подбегает тебе прямо под ноги. Запах магнолий и свежих водорослей. Вдруг захотелось, чтобы этот миг, когда она, сопровождаемая К.М., обходила дом и затем направилась к отведенному ей пристанищу — маленькой двухкомнатной пристройке во дворе, — длился вечно. По дороге шеф успел шепнуть ей с виноватым видом, что завтра прилетает Валентина и будет ее соседкой...
В ответ, еще не успев осмыслить как следует это сообщение, спросила, откуда здесь можно позвонить Юзу. Оказалось, что для этого надо ехать в соседнюю деревушку и что связь бывает только по утрам. Так что придется подождать до завтра. Она в сердцах больно упрекнула себя за то, что не дала телеграмму сразу из аэропорта в Сухуми — так уж у них было заведено: если расстались, сообщать о себе друг другу при каждой возможности. Теперь Юз будет ждать вестей от нее и волноваться понапрасну.
Словом, два этих сообщения мигом вернули ее на землю, в привычную, всегда царившую вокруг К.М. атмосферу деловой и сосредоточенной суеты. С обычным для него стремлением все сразу прояснять, все ставить на свои места. К.М. добавил, что телеграмму о прилете Валентины и ее сына Толи — от первого мужа, летчика Серова — он получил только вчера. И сразу же взял им обратные билеты на Москву. Валя останется здесь всего на одну ночь, и Толя разместится по соседству.
На следующий день К.М. снова ездил в аэропорт. Весь день провели с гостями в городе. На даче появились лишь к вечеру. Сразу сели за стол. Ужин приготовила все та же Мария Акимовна — Маруся. На мгновение могло показаться, что вернулось прошлое. Может, и Вале так казалось? К.М. был разговорчив, шутил, подливал в бокалы ароматной «Изабеллы». После ужина сразу ушел к себе в кабинет. Валя, словно бы упустив этот момент, потерянно, с ее неповторимой слабой улыбкой, оглядывалась вокруг. Потом, обратившись к Нине Павловне и назвав ее по старой памяти Нинкой, сказала, что пойдет к себе, то есть в их маленькую пристройку. Через десять минут, сменив платье на сарафан, благо вечер был теплый и благоухал магнолиями и туей, Валя вышла на берег и прислонилась — ну, просто как в кино, — к росшей у самой воды березке. В эту минуту она показалась Нине Павловне такой же тонкой и одинокой, как эта березка. Она зачарованно смотрела на Валю из окна столовой. Ветер трепал концы наброшенной на голые плечи косынки. В это время в комнату вошел и остановился рядом шеф, и, похоже, тоже загляделся на эту косынку.
— Нина Павловна, — вымолвил он тихо, — у меня к вам большая просьба. Подите скажите Валентине Васильевне, чтобы шла отдыхать. Объяснения не будет.
Что было делать? Нина Павловна пошла, чувствуя себя палачом. Сказала. Та усмехнулась, знакомо повела головой и ушла к себе.
Наутро К.М. отвез ее на аэродром, а вечером сообщил Нине Павловне, что хочет познакомить ее со своей будущей женой. Так вот оно что! Тут она сообразила, откуда это преображение, так поразившее ее в первые же минуты их встречи в аэропорту Сухуми. Не догадываясь, о ком идет речь, и удивляясь сообщению, она в сердцах воскликнула:
— Константин Михайлович, куда вы торопитесь?
Он изумленно посмотрел на нее. Ему, понятное дело, непривычно было получать советы по таким поводам. Тут же, как и следовало от него ожидать, свел все на шутку:
— А что делать, Нина Павловна? Если не женюсь, буду бегать по бабам и пить.
Через день он познакомил ее с Ларисой. Вдова недавно умершего известного поэта-фронтовика Семена Гудзенко, дочка не менее знаменитого генерала Жадова.
Оказалось, отношения их уже имели определенную историю, хотя, конечно же, все началось после того, как К.М. ушел от Валентины. С улыбкой то ли смущения, то ли недоумения он поведал Нине Павловне, что отец Ларисы, узнав о планах дочери, запретил ей иметь какие-либо отношения с этим «писателем» — не хватит нам одного поэта, что ли? Когда она осмелилась ослушаться, тогда проклял и выгнал ее из дома с трехлетней дочерью Катей.
Быть может, оттого, что К.М. слишком явно подчеркивал, как он ценит и уважает Нину Павловну, Лариса при первой встрече взглянула на нее хмуровато. Было ощущение, что они при той первой встрече не очень-то понравились друг другу.
Нина Павловна совсем иначе представляла себе ту, которой предстояло занять место Валентины. К тому же как-то очень быстро и просто, казалось ей, все совершилось. Лишь стремление безукоризненно и подчеркнуто следовать «кодексу» поведения секретаря, как она себе его представляла, да отчасти еще не каждый день встречающаяся ситуация с изгнанием Валентины из дома, удержали ее от какого-либо выражения эмоций. «Твое дело — карандаш с тетрадкой да машинка», — напомнила она себе.
Лариса между тем легко и естественно вошла в их размеренную рабочую жизнь. Немногословная, властная, порывистая, если не сказать резкая, в жестах и разговоре, она без излишних комплексов освоила роль хозяйки дома, причем такой, которая не вмешивается в бытовые мелочи, в дневное расписание мужа, но в то же время все видит, подмечает и старается держать под своим контролем.
Диктовал шеф так же много, как и раньше. Он вовсю раздраконивал первые дни войны, показывал, как это все на самом деле было. А было страшно, ужасно, и не только потому, что враг был так силен. Об этом знали и говорили раньше. Теперь, наконец, во весь голос заговорили о нашей неподготовленности к войне, о бессмысленных, бестолковых, особенно на первых порах усилиях главного командования, включая самого Сталина, заткнуть зияющие дыры героизмом и самоотверженностью людей, которые в те первые дни, недели и месяцы в таком числе гибли, по существу, понапрасну.
Все оборвалось сообщением о смерти Фадеева. Поначалу и то, что вдруг услышали по радио, и то, что потом сообщили ему из Союза писателей по телефону, выглядело как скоропостижная смерть. Позднее, когда он уже вернулся из Москвы после похорон, не похожий на самого себя, она узнала, что это было самоубийство. «Как все страшно!» — вырвалось у нее. Так она это и записала в своем дневнике, который, будучи в Гульрипши, начала вести. Много-много лет спустя она прочитала в письме Слонимского, адресованном Константину Паустовскому: «Дорогой старик, о Фадееве ничего не пишу — слишком тяжело и страшно...», — и подивилась сходству слов, пришедших тогда в голову.
А вдруг все только начинается? Что начинается? — спрашивала себя. Отвечала нехотя, через силу и тоже себе самой: — Расплата...
Не было в этом слове и в этой ее мысли, — говорила она мне, — ни злорадства, ни мстительности — ничего, кроме констатации неминуемого. Фадеев расплатился за все, что было у него в прошлом. Это был жуткий, но мужественный шаг. Какая чушь называть самоубийство трусостью, малодушием. Самоубийство — это бунт против себя, против обстоятельств, против самого провидения, против Господа Бога, если он есть... Она тогда подумала с испугом, что пример Фадеева может оказаться заразительным, как некогда пример Есенина. Она хорошо помнила ту пору. Только там были юнцы, ничего не испытавшие в жизни. А тут...
Сказав Нине Павловне и Ларисе, которая тоже оставалась ждать его в Гульрипши, что Фадеев застрелился, К.М. не стал вдаваться в подробности. На другой день сообщил, что будет диктовать статью о Фадееве, в почти готовую уже шестую книжку «Нового мира» за 1956 год.
Нина Павловна приготовилась было к ночному бдению. Он продиктовал статью на удивление быстро. Заняла она восемь страничек на машинке. Константин Михайлович был если не самым близким другом, то ближайшим соратником Фадеева по работе в союзе. И сколько лет! Нина Павловна возносила благодарения — кому, она того и сама не ведала, что таким вот близким сотрудником Фадеева шеф стал все-таки после войны, а не в страшные предвоенные годы, когда поддержки акциям Сталина от руководства Союза писателей требовали совсем в других формах. Она твердо знала, что ему, по крайней мере, ничего не приходилось подписывать. Выступать, клеймить — да... Этим он теперь и казнится. Но подписывать... Нет...
Одно место в статье Нину Павловну тем не менее насторожило. Это когда К.М. диктовал о первом издании «Молодой гвардии». О том, как хорош был этот вариант и напрасно критика его ругала. Словно упреждая ее вопрос, он продиктовал: меня могут спросить: а где же ты раньше был, почему молчал об этом раньше? И тут же ответ: и не по таким, и не только по литературно-критическим поводам молчали раньше... И не он один!
— Но ведь не только молчали, — тут уж Нина Павловна не могла удержать возгласа вопреки всем ее принципам и правилам. — Ведь была же двухподвальная статья в «Литературке», после того как вышло второе издание, которое К.М. хвалил, подвергая критике то первоначальное, что было исправлено.
Непроизвольная реплика ее произвела на Симонова впечатление, которого она никак не предвидела. Он мог бы резко возразить. Мог согласиться. Но он просто замолчал. Ушел в себя. Вернулся к разговору лишь несколькими часами позже, по собственной инициативе.
Как Нина Павловна не смогла понять, вытекало из его слов, что тогда его статья была именно в поддержку Фадеева! Она появилась, когда о выходе второго издания пресса молчала, словно воды в рот набрав. В те годы людям, более-менее близким к литературной кухне, не трудно было догадаться — почему. Все ждали, что и кому, в какой форме скажет о новой редакции Сталин, который и был инициатором переделки романа. Он, Симонов, взял на себя инициативу и смелость — да, и смелость, — упрямо повторил он, глядя Нине Павловне прямо в глаза, — высказаться о вышедшей работе положительно и этим задать тон. Фактически он с риском для себя пришел на выручку Фадееву... И добился своего. Ну, а уж логика подсказывает, что если ты хвалишь то, что получилось в результате переделки, ты не можешь не сказать и о том, от чего автор отталкивается. Кроме того, новые главы о Лютикове, на которых он и делал свой акцент, действительно ему нравились и нравятся сейчас...
Нину Павловну не убедило это его объяснение, хотя она и видела, как оно нелегко ему далось. Она повторила — откуда только такое нахальство взялось! — что если уж тогда пришлось поступить таким образом, то зачем сейчас-то делать вид, что этого не было. Сейчас-то ведь другие времена. Наверняка придет сотня, а то и другая писем, в которых люди спросят, почему вы тогда писали одно, а сейчас совсем другое.
— Ну и пусть... — только и нашелся что ответить К. М.
— Зачем, вообще, надо было Фадееву переделывать «Молодую гвардию»? — задала вопрос Лариса.
Они с К.М. не заметили, как она вошла в кабинет за своими бумагами и стала невольным свидетелем их короткой дискуссии. Нина Павловна подумала, что шефу неприятно будет возвращаться к разговору, а он, наоборот, отнесся к вопросу жены с видимым облегчением. Ему, видимо, все-таки хотелось объясниться до конца и именно в присутствии Ларисы. Он повторил, что у Фадеева не было другого выхода, потому что книга не понравилась Сталину. По его высказываниям была составлена та статья в «Культуре и жизни», которая изничтожала «Молодую гвардию».
— Ну написал бы Фадеев письмо в редакцию, ну не согласился бы с критикой, отказался бы переделывать. Его вызвали бы на секретариат ЦК. Если бы он и здесь продолжал упорствовать, его бы выкинули из ЦК, из руководства союза. На секретариатах шутить не любили, — тут он усмехнулся чему-то известному ему одному, — да и сейчас не любят. И где бы он был тогда? И что было бы с союзом? Кто бы им руководил? Софронов? Первенцев?
— Счастье еще, — тут он сделал паузу, словно бы прислушиваясь с удивлением к собственным словам, — да, счастье, как ни странно, в том, что он верил Сталину, верил больше, чем самому себе. Искренне пытался понять, в чем недостатки романа, искренне стремился их поправить. Написал немало хороших новых страниц.
Конечно, роман — дело особое. Тут Фадееву пришлось пережить невероятные страдания. В организационной работе по руководству союзом на такого рода компромиссы приходилось идти практически каждый день. И не ему одному, — он бросил взгляд на Ларису, которая с непроницаемым видом продолжала рыться в бумагах.
— Меньшее приходилось приносить в жертву большему.
И тут он неожиданно стал рассказывать — в какой уже раз? — ту историю с его выступлением на собрании московской писательской организации относительно борьбы с космополитизмом. Историю, которую Нина Павловна в 1949 году пережила вместе с ним.
Если бы он тогда ушел в кусты, не взялся бы за этот доклад, не вырвал бы его из рук Софронова, он бы, конечно, теперь выглядел намного лучше. Вообще, это бывает с людьми, не умеющими отсидеться незаметно в жесткие минуты общественной жизни, чтобы потом претендовать на роль вечных правдолюбцев.
Это было почти буквальной цитацией из статьи о Фадееве, которую он только что отдиктовал. Там эти слова именно к Фадееву и относились.
— Ну, конечно, — продолжал он с его неизменной привычкой всякую мысль доводить до конца. — Был и другой выход. Несмотря ни на что. Положить голову на плаху. Проку в этом не было бы, но такой выход, такая возможность всегда остается для человека, и он об этом должен помнить. Я понимал, что такая возможность есть, но на плаху голову не положил...
— А, может быть, и был бы прок, — сказала Лариса, выпрямилась, оторвавшись от своих бумаг, строптиво тряхнула коротко стриженой головой.
Первое, что пришло на ум Нине Павловне, было чисто женское, бабье: «Стояла бы тут сейчас, голубушка, с этим пузом, если бы так и произошло».
Быть может, вот такая женщина и нужна была К.М. с самого начала? — это было следующее, что пришло ей в голову. И вопреки всякой логике с острой жалостью подумала о Вале. Всего несколько дней назад она стояла здесь — косынка вокруг голых, неповторимой линии плеч — и смотрела на море. Нет, не будь Вали, не было бы стихов. Они уже принадлежат вечности. Вместе с нею, Валентиной Серовой, плоха она или хороша.
Это был тот момент, когда Нине Павловне почудилось — такое случалось с нею и раньше, не часто, не более двух или трех раз за всю жизнь: что-то, не принадлежащее этому реальному, окружающему ее сейчас миру, прошелестело рядом. И расслышала этот звук она одна.
Симонов как-то странно, искоса посмотрел на Ларису.
— Может быть, и стоило, — повторил он, то ли соглашаясь, то ли вопрошая.
Нина Павловна, выходя из комнаты, думала, что только сейчас и состоялось ее знакомство с Ларисой. Им еще много раз предстояло удивлять и огорчать друг друга, пока не наступило единение, осенившее их лишь после его смерти. У гробового входа, как говорили в старину.
К.М.
Его возвращение в Москву совпало с появлением на столах читателей голубой книжечки журнала «Новый мир» за июнь 1956 года. С его статьей о Фадееве. Он не верил в ясновидение, но каждый раз, как выходило в свет что-то из его работ, такое, чему он придавал особое значение, ему казалось, что он воочию видит, как в сотнях, тысячах кабинетов, квартир, читальных залов люди, среди которых очень много знакомых ему лично, открывают именно те страницы, которые занимает его статья «О Фадееве». Он как бы снова и снова «проходился» по ней то с Поликарповым из ЦК, то с Твардовским или Сурковым, то с самим Никитой Сергеевичем Хрущевым. И то, что казалось великолепным, когда он перечитывал статью, например, с Долматовским, вдруг начинало задним числом пугать или шокировать, когда он ощущал себя в компании с Поликарповым или, наоборот, с Кавериным, с Назымом Хикметом.
О Фадееве шел тогда особый разговор повсюду, и особые занимали людей думы.
Голубая новомировская тетрадка за июнь была нарасхват.
Статья его, первая попытка всерьез поговорить о Фадееве и о том, что с ним произошло, — у всех на устах. Слова одобрения перемежались в прессе и на бесчисленных совещаниях руганью и проклятьями.
В Москве, как раз к его приезду, выяснилось, что руководить союзом кроме него некому, хотя он уже и не занимал должность первого зама. Сурков заболел, один из его заместителей нацелился в творческий отпуск, другой был в зарубежной командировке. Деваться было некуда, и он снова нырнул в сумятицу и неразбериху союзписательских и новомировских дел.
Диктовать Нине Павловне роман успевал теперь только ранними утрами, а на ее замечания и сетования относительно замотанного вида отвечал, оправдываясь и успокаивая ее:
— Люблю власть для добрых дел.
Нужно было пробивать бумагу для сборников «Литературная Москва» и «Тарусские страницы». Писать и подписывать письма в верховные суды Союза и республик, в прокуратуры и прямо в «места не столь отдаленные» с ходатайствами, напоминаниями, а то и требованиями ускорить рассмотрение дел и реабилитацию, редко — при жизни, чаще — посмертно, того или иного замечательного и просто писателя.
Надо было встречать и привечать возвращавшихся «оттуда». Заставлять аппарат союза хлопотать для них о прописке и жилье, беседовать с ними часами в кабинете или в ресторане Дома литераторов. И горькую радость испытывал он от того, что в его власти было помочь не только возвращению людей и имен, но и их произведений.
Анне Берзинь, вдове Бруно Ясенского, чьим романом «Человек меняет кожу» он зачитывался в молодости, написал, что к ее возвращению из Польши, наверное, сможет вручить очередную тетрадку «Нового мира» с не публиковавшимся ранее романом Бруно. «Бойтесь равнодушных!» Призыв сгинувшего в бериевско-сталинских лагерях писателя будет в те дни у всех на слуху. И кто-то скажет, что сегодня это такой же пароль всех порядочных людей, как в войну слова «жди меня...»
Власть для добрых дел... В те же летне-осенние дни 56 года он — в письмах и хождениях в Моссовет и его управление внутренних дел — продолжал хлопоты о Нине Павловне и Юзе, которые по-прежнему не имели в Москве ни жилья, ни, соответственно, постоянной прописки. Какой-то заколдованный круг: не прописывают, потому что нет жилья, хотя ясно же, что оба — потомственные москвичи, и не от хорошей жизни сменила Нина Павловна свою московскую комнатушку на «хоромы» в Красноярске. О жилье же и не заикайся, пока не имеешь постоянного вида на жительство.
Много времени отняла история с публикацией пьесы Назыма Хикмета, который тоже ощущал себя теперь в положении реабилитированного.
После первых бурных манифестаций в его честь, громогласных, но холодных, как бенгальский огонь, Назым и сам, надо отдать ему должное, не искал ласки и расположения у Сталина и его окружения.
Естественное чувство самосохранения, воспитанное годами в турецких тюрьмах, побуждало держаться подальше и от барской любви, и от барского гнева.
Зато он одним из первых откликнулся на происходящие перемены. Написал всем на удивление сатирическую пьесу «Иван Иванович». И принес ее в «Новый мир».
А его зам возьми да и отправь ее в ЦК. Из-за этой оплошки Кривицкого приходилось вести утомительную переписку с Поликарповым, а заодно и с Назымом.
Сколько бы ни иронизировал он над своими «с одной стороны» и «с другой стороны», не мог не констатировать, что и та и другая с неизбежностью присутствовали в том, что составляло предмет его редакторских и гражданских забот.
«Я не считаю себя вправе умалчивать, — писал он Поликарпову — что, вернувшись в Советский Союз в 1951 году, такой человек, как Хикмет, во многих смыслах испытал чувство разочарования, очень часто у него возникало чувство, и не могло не возникнуть: за это ли я боролся, за это ли я сидел? И сейчас, после XX съезда, после того, как были вскрыты те чудовищные извращения, которые имели место после смерти Ленина, нам должно быть понятно это чувство, и мы не должны его игнорировать».
Он убеждал Поликарпова, что если в пьесе Хикмета и преподносятся нам горькие пилюли, то это лекарство, выписанное знающим, деятельным и дорожащим здоровьем пациента врачом. Он противопоставлял Хикмета, например, Андре Жиду, который говорил в избытке ласковые и слезливые слова, пока был у нас, а потом, издалека, поливал нас грязью. «Я гораздо больше верю тем, кто ругается, когда им хочется ругаться, если им что-то не нравится, чем тем, кто источает елей по всякому поводу».
Он защищал Хикмета даже от Суркова, который усмотрел в пьесе неблагоприятное влияние Эренбурга. «Эренбург — мелкобуржуазный интеллигент, который иногда может попадать в точку, а Назым — коммунист, который может иногда заблуждаться».
Было бы полезно и даже необходимо поговорить с Хикметом в руководстве КПСС именно как с коммунистом. От него можно услышать много важных и нужных замечаний, и часть своих мыслей он как раз и изложил в художественной форме в пьесе.
Заклинал Поликарпова прислушаться к его, Симонова, словам: «Я тебя лично очень люблю и очень уважаю и считаю своим другом, и именно это не позволяет мне кривить душой перед тобой». Уверял его в том, что «Хикмет обязательно сделает и учтет все то, что он посоветовал ему, но после этого мы можем и должны напечатать пьесу».
Хикмету он не признался, что дополнительные замечания, которые он вынужден был сделать как бы от своего имени, подсказаны «сверху». Инстинкт бывалого уже редактора, который хочет не отфутболить под благовидным предлогом, а напечатать спорную вещь, подсказывал ему, что хотя бы из психологических соображений он должен взять это на себя: «Прежде всего сейчас, когда я прочел пьесу уже в верстке, мне кажется, что те некоторые дружеские советы, которые содержались в моем прошлом письме, были на пользу дела. Это во-первых. А во-вторых, внимательно прочитав пьесу, теперь уже в верстке, с карандашом в руках, хочу посоветовать тебе сделать некоторые сокращения. Кроме того, в ней есть места, на мой взгляд, художественно неудачные и два-три места, где стоит подумать над лучшим решением». Воспроизводя замечания «товарищей из ЦК», но выдавая их за свои, он предлагает Назыму, например, не смеяться над глупыми директорами московских магазинов, которые выставляют в витринах гусей и поросят из папье-маше: «К сожалению, у нас в Москве, а особенно за ее пределами, мы еще год или, может быть, два не сможем выставлять настоящих гусей и поросят — и не по глупости директоров магазинов, а потому что их пока нет и без крутого подъема животноводства пока некоторое время не будет. Так над чем же тут, в сущности, смеяться?»
Пока он вел эту переписку, правдами и неправдами проталкивая на страницы журнала пьесу Хикмета, в редакционном портфеле продолжали лежать рукописи романов Дудинцева и Пастернака.
Впрочем, дудинцевский не лежал, а двигался... Машинописная рукопись превратилась постепенно в корректуру, корректура в верстку, верстка в сверку. Роман был на выходе, и К.М. уже предвкушал сенсацию.
Он никому не показывал и никуда не посылал эту рукопись, ни с кем не обсуждал ее, кроме членов редколлегии. Не вмешался, слава Богу, и Главлит, что дополнительно убеждало его в здоровом, партийном настрое произведения... Чем ближе подходил к своему появлению в свет «Не хлебом единым», тем яснее становилось ему, как поступить с «Доктором Живаго».
Он прекрасно представлял себе, какую бучу вызовет роман Дудинцева. Нет, не представлял, а предвкушал это, и уже видел себя и отвечающим по телефону, и пишущим письма, и дающим интервью, и выступающим на различных писательских форумах и читательских конференциях, где под аплодисменты большинства он будет отстаивать перед самыми «упертыми» справедливость и необходимость решения, принятого редколлегией «Нового мира».
Точно так же он ни минуты не колебался в своем отношении к «Доктору Живаго», когда перевернул последнюю страницу рукописи.
То, что славившийся болезненной ранимостью Пастернак прислал свой роман именно в «Новый мир», льстило редакторскому самолюбию К.М.
Дальше все было сложнее.
Природа рукописи, где действие поначалу развивалось так неторопливо, эпически, была такова, что даже профессиональному читателю нелегко с ходу войти в нее. Зато когда К.М. вошел, радость его быстро померкла. Сказать об этой вещи, что она непроходима, значило ничего не сказать. Непроходимо то, что ты как редактор хотел бы, да не можешь, не в силах напечатать, пробить. Такое чувство на какие-то мгновения появлялось у него с тем же «Иваном Ивановичем» Хикмета или со статьями молодого, дьявольски талантливого Марка Щеглова.
Тут же было совсем другое. Напечатать эту вещь — значит расписаться в том, что все, чему ты служил в жизни, — чушь, пустота, зловещая ошибка.
И в «Новом мире», и в «Литературной газете» он сознательно шел на то, чтобы печатать вещи, с которыми был не до конца согласен или вообще не принимал. Но чтоб такое, что идет вразрез с его, как писателя, как редактора, как гражданина, представлениями... Печатать такое он не способен. Против восставало все его существо, и это даже облегчало его задачу в объяснении с Пастернаком. Не надо даже в малом кривить душой, не надо будет, как в случае с Хикметом, выдавать, пусть и в благих целях, чужие мысли и замечания за свои. Притворяться идиотом, короче говоря…
Он не просто вернет рукопись автору... Не просто скажет, что она журналу не подходит. Он напишет Пастернаку письмо, где подробно и аргументированно изложит все, что думает о романе, прежде всего о его идейно-нравственной сущности. Сам прозаик, К.М. понимал, что такие вещи не переделываются и не исправляются после того, как они написаны. Их или печатают, или бросают в корзину. Пастернак, конечно, ничего бы и никогда не согласился переделывать в своем романе по его, Симонова, или чьей-либо еще подсказке. Но все-таки, все-таки, теплилась в нем надежда, если глубоко и искренне написать, он, быть может, хоть что-то поймет, и это, возможно, окажет определенное влияние на весь его дальнейший творческий путь. Как бы то ни было, но нельзя не отдать ему должное — поэт до мозга костей, а отгрохал на склоне лет эдакий романище. Это был творческий подвиг, но это была и трагедия. Трагедия человека, который лучшую часть своей жизни прожил в мире, в котором ничегошеньки не понял. Он перечитал давние, довоенные стихи Пастернака:
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И тем, что всякой косности косней...
Вот эта вот живучая и ползучая косность и придавила поэта.
Утвердившись в своей мысли о письме Пастернаку, он решил, что садиться за него все же нельзя, не обсудив роман на редколлегии. Коли так, то и письмо автору должно пойти от редколлегии, по крайней мере, от некоторых, наиболее выдающихся ее членов. То, что его соратники по журналу разделят его оценки романа, у него не было сомнений. Не тот это случай, где можно ожидать кардинального расхождения во взглядах.
Он подготовил набросок письма. То есть он это так называл — набросок, когда поставил роман на обсуждение редколлегии. По существу же это был готовый документ, даже статья.
Написать эти страницы было все равно что — сходить на исповедь. Пастернак поставил своим романом под вопрос правомерность Великой Октябрьской революции. На чашу истории он бросил всю историю народившегося осенью семнадцатого года первого в мире социалистического государства. Его трактовке истории надо было противопоставить свою. Для этого хотя бы мысленно надо было заново пережить ее. Благо твое собственное появление на свет, по существу, совпало с Рождеством революции. Конечно, он был на целое поколение, если не на два, моложе Пастернака, четверть века разделяла их, но в этом, может быть, и его историческое преимущество. Старорежимное воспитание, меланхолические воспоминания о прошлом с его боннами и гувернантками не висели, как у Пастернака, гирями на его ногах. С другой стороны, никто не мог бы сказать, что он и его близкие, особенно старшее поколение, были баловнями строя.
Арест отчима, дворянское происхождение матери и судьба ее сестер, о чем приходилось упоминать при каждом заполнении анкет, — а это случалось чуть ли не каждый год — накладывало свой отпечаток и на его судьбу, давало обильную пищу для клеветы и наветов, в том числе и в последние годы жизни Сталина, когда многим он, должно быть, казался его любимчиком.
Перипетии личной судьбы никому, однако, не дают права только на основании их судить прошлое, героическую историю своей страны. Художник, если он действительно масштабен, не может жить и творить, выглядывая из-за частокола собственных обид и злоключений.
В таком русле текли его мысли, когда он готовился к заседанию редколлегии. Кое-что из этого, опуская, естественно, подробности своей биографии, он сказал вслух. В письме, подписать которое вместе с ним согласились Федин, Лавренев, Агапов и, конечно, Кривицкий, было: «Суть нашего спора с Вами не в эстетических препирательствах. Вы написали роман сугубо и, прежде всего, политический. Роман-проповедь. Дух Вашего романа — дух неприятия социалистической революции. Пафос его в том, что Октябрьская революция и гражданская война не принесли народу ничего, кроме страданий, а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально... Как люди, стоящие на позиции прямо противоположной Вашей, мы, естественно, считаем, что о публикации Вашего романа не может быть и речи».
Как ни уверен был Симонов с самого начала в справедливости своей позиции, поддержка редколлегии, в первую очередь Федина, окрылила его. С тем большей тщательностью он уже с пером в руке работал над стилем. Когда позиция выработана и утверждена, надо сугубо позаботиться о слоге, о том, чтобы бескомпромиссность выводов, формулировок нигде не отдавала бы грубостью, неуважением к автору, который при всех его глубочайших заблуждениях оставался одним из крупнейших русских поэтов.
Письмо не предназначалось для печати, но это обстоятельство нисколько не умаляло ответственности его авторов за каждое слово, за каждую букву в нем.
Свои небольшие поправки внесли и соавторы. Письмо было отослано поэту вместе с рукописью. Реакции не последовало. Только однажды всеведущий Кривицкий, таково уж было его амплуа в журнале, обмолвился, будто бы «Доктор Живаго» был предложен его автором в сборник «Литературная Москва» — Каверину, Алигер и другим, но и там его, естественно, не взяли, сославшись, правда, лишь на объем, не подходящий альманаху.
Время и мысли К.М. теперь были заняты другим. Октябрьской книжкой «Нового мира» завершена была публикация романа Дудинцева «Не хлебом единым».
На глазах К.М. разворачивалась ситуация, которую он про себя называл эффектом «Капитанской дочки». Это когда ямщик сказал Гриневу, кочевавшему по белоснежной, сверкающей под ослепительным солнцем оренбургской степи: «Барин, беда, буран». И указал кнутовищем на светлое облачко на краю неба, похожее на отдаленный холмик.
Гринев не поверил: «Ветер показался мне не силен».
Но уже через считанные минуты это облачко, к изумлению Гринева, «превратилось в громадную белую тучу, заслонившую небо. Вскоре стало совсем темно. Снег повалил хлопьями. Ветер завыл. Сделалась метель».
К.М. в этой начавшейся сумятице чувствовал себя одновременно и Гриневым, и ямщиком. Он и предвидел эту круговерть в печати и в общественных буднях, и дивился ей. До поры до времени знал, как и куда направлять кибитку.
Роман был необыкновенно острым. Иных читателей, особенно из числа сановитых, влиятельных, которые не стеснялись сердито и недоуменно звонить редактору по мере выхода новомировских тетрадок, он приводил в состояние шока. Посасывая с удовольствием чубук трубки и стараясь оставаться серьезным, К.М. в таких случаях рекомендовал перечитать закрытый доклад Хрущева, который у такого рода деятелей еще лежал красной книжицей в сейфах.
На редколлегиях, которые он тогда проводил чуть ли не раз в неделю — обозреть почту, взвесить коллективно читательскую реакцию, — он рассуждал, и Нина Павловна, ютившаяся, как всегда, незаметно в уголочке, записывала за ним:
— Интересный феномен. Если о зле и пороках общества нам говорят в партийном документе, мы воспринимаем это как должное. Засучиваем рукава и принимаемся выметать мусор... А если о том же самом говорит писатель, писатель-коммунист, действующий и творящий в духе того же самого документа, тут же начинают приклеивать всякие неизящные ярлыки, вроде очернительства, клеветы на действительность, политической слепоты и т.д.».
Почта журнала, о которой подробно докладывали на редколлегиях, частые встречи с читателями, в которых он теперь снова и с удовольствием принимал участие, показывали, что неразбериха царит в головах отнюдь не одного только начальства. Наряду с глубоко трогавшими его письмами, в которых люди буквально со слезами на глазах благодарили автора, редакцию и его, редактора, приходили, и во множестве, такие, от которых мороз по коже пробегал. Казалось, встреть такого оппонента где-нибудь один на один, он тебе перегрызет горло. У массы людей кумиром оставался Сталин.
Жаркое лето 1956 года. Москву знобило от этой жары. Когда-то, при Сталине, на знакомство с газетами уходило не более получаса. В них или было что-то, или не было ничего. Под «что-то» опытные читатели подразумевали нечто, связанное со Сталиным, как правило, не названным по имени. То есть его имя десятки раз упоминалось на каждой газетной или журнальной странице. Не увидеть его имени в какой-нибудь статье, тем более на целой газетной странице было все равно что обнаружить, что из текста исчезли знаки препинания. Но схватывалось не то, что говорилось о нем — тут всегда было примерно одно то же, а то, что исходило от него. Угаданное между строк моментально становилось злобой дня, как, скажем, упоминание о том, что нам нужны собственные Гоголи и Щедрины.
Теперь наоборот. Главным было именно то, что говорили и писали о нем, прямо или косвенно. Газеты и журналы, тонкие и толстые, были переполнены этим, и надо было все читать. В служебных кабинетах, в редакциях газет, в трамваях и такси, на улицах и пляжах, в домашнем кругу только и слышалось:
«А вы читали?»
А в ответ сладострастное: «А как же?!» — что предвещало возбужденный, порою лихорадочный обмен мнениями. Преображалась на глазах пресса, рождались, как грибы, новые издания... Вышли «Тарусские страницы», подготовленные Паустовским. Вслед за ставшим сенсацией первым сборником «Литературная Москва» ожидался выход второго. Все говорили о Яшине, его «Рычагах», Тендрякове с его «Ухабами», о только что зазвучавших именах — Жестеве, Троепольском. На страницах «Нового мира» Гранин поднял общественную температуру своим «Собственным мнением». Начинался бум в театре и в кино. Зашевелились во глубине своих мастерских непризнанные художники и скульпторы. Но и в этом половодье истинных или поддельных сенсаций роман Дудинцева выделялся как дредноут среди канонерок, звучал контрабасом на фоне альтов и скрипок.
Неповторимая была пора. Дискуссии переполняли периодические издания. Гремели в аудиториях. Одинаково интересно было говорить как с теми, кто тебе аплодирует, так и с теми, кто не согласен. Исчез десятилетиями сопутствовавший разным публичным проявлениям душок проработки, который побуждал, слушая очередного оратора или вперяясь взглядом в газетную статью, лихорадочно соображать, а что же теперь будет с тем-то, тою-то или с тобою. Критические соображения, даже самые резкие, потеряли криминальный привкус. Шло невиданное по размаху, непривычное по тону и содержанию сопоставление мнений.
Для К.М. пиком этого процесса стала встреча с участниками межвузовской конференции преподавателей литературы в Москве. Вместе с ним в МГУ были Дудинцев, Каверин, Эренбург.
Переживший волны обожания, испытавший сразу после смерти Сталина холод и отчуждение части своих неисчислимых поклонников, он предвкушал удовольствие оказаться среди читателей-профессионалов, для которых изучение литературы — дело самой жизни, а общение с теми, кто ее творит сегодня, — явление рабочее.
Со словесниками можно говорить, как с самим собой. Он ощущал себя тяжелеющим, набухающим ливнем облаком, жаждущим излиться. И он излился.
Был рад нелицеприятности вопросов, без которых, наверно, не рискнул бы коснуться некоторых тем. Например, печально известного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград».
Начал он с того, что заступился за западную, так называемую буржуазную литературу, в отношении которой в докладе Жданова прозвучало огульное отрицание, что в немалой степени способствовало потом разгулу обличений в период борьбы с выдуманным космополитизмом.
Говоря об этой кампании, которая особую силу набрала после появления известной редакционной статьи в «Правде», инспирированной непосредственно Сталиным, он напомнил, к каким тяжелым последствиям она привела, и признал, что тогдашние руководители Союза писателей, в том числе и он сам, Симонов, в докладе на Московском собрании драматургов, поплыли по течению. Стали не только отстаивать все сказанное в статье, но и усугубили ее вред своими собственными высказываниями, дополнительными примерами, грубыми, несправедливыми оценками деятельности многих театральных и литературных деятелей, которые потом все практически лишены были на длительные сроки возможности работать в литературе. Заявка на откровенность не осталась без ответа.
— Как известно, вы получили дюжину сталинских премий за культ личности, какое же у вас право выступать сегодня таким радикалом? Вы оглупляете высказывания Жданова и призываете под видом борьбы с лакировкой действительности к копанию в наших недостатках и просчетах. Скажите лучше о своих ошибках.
Он ждал такого поворота. Повторив вслед за автором записки строки из своей «Суровой годовщины»: «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?», он заявил, что не стыдится того чувства, которое у него было к Сталину в 1941 году, потому что это было честное чувство.
— Теперь же, после всего того, что я узнал о Сталине, после того, что я узнал много страшных вещей, связанных с его именем, такое, что невозможно ни забыть, ни простить, я не хочу больше ни перепечатывать это стихотворение, ни даже перечитывать его.
Тут он глянул в притихший, напряженный зал и, разряжая обстановку, добавил со своей миллионам знакомой, симоновской улыбкой:
— И сегодня я это делал последний раз.
Зал дружно выдохнул и разразился аплодисментами. Теперь можно было переходить в наступление. И не было благодатнее повода для этого, чем роман Дудинцева, автор которого сидел тут же, за столом президиума и, перечитывая десятки записок из зала, в числе которых было немало ругательски-ругательских, ждал, наверное, что скажет теперь редактор.
— Я считаю, что роман Дудинцева «Не хлебом единым» — смелое произведение, резко бичующее недостатки в жизни нашего общества и полное веры в наше светлое будущее, — рубанул К.М., специально выбрав для ответа такую записку, где вопрос о его отношении к роману «после критики его в партийной печати» был поставлен ребром.
— Если бы я был согласен с автором записки, я бы тем самым считал, что это роман антисоветский, и голосовал бы как редактор журнала «Новый мир» против его печатания. Однако я не считаю этот роман таковым, да и Дудинцев, каким я его знаю, не написал бы такого романа.
Получив потом от Нины Павловны стенограмму этого собрания, он засел в Красной Пахре на несколько дней и написал на ее основе статью «Литературные заметки». Там была исповедь в живой аудитории. Теперь его аудиторией станет вся читающая публика. Пройдет много лет, и, возвращаясь, тоже публично, к этой своей работе, он скажет, что если бы тогда, в 1956-1957 годах, он не сказал во всеуслышанье о своих и других руководителей Союза писателей ошибках, ему бы теперь было еще труднее стоять перед лицом своих читателей. Но до этого времени еще далеко, а до того, как в «Новом мире» будут опубликованы его заметки, — всего три месяца. Короткие и такие мучительные.
Пока писал их, жил впечатлениями того бурного вечера в МГУ. Снова и снова перебирал в памяти каждое слово, сказанное им самим, его оппонентами и теми, кто сидел с ним рядом в президиуме. Ощущение было такое, словно только что выскочил из санпропускника — с чистой, розовой, почти до дыр протертой кожей на лице и теле — и теперь натягиваешь на себя выстиранное и выглаженное раскаленным утюгом до ожогов «бэу».
Пожалуй, он выглядел и «звучал» даже лучше Дудинцева, хотя тот, по идее, должен был стать героем дня — разговор крутился вокруг его романа. Симонов, в конце концов, был всего лишь редактором, рискнувшим напечатать эту вещь, наделавшую столько шума.
Наблюдением, что Дудинцев выглядел разочаровывающе бледно на этом диспуте, поделился с ним Каверин, который на встрече отчитывался за свои выпуски «Литературной Москвы». К.М. не стал комментировать. Его лично устраивала такая позиция — или поза? — Дудинцева. Предстояли еще, он чувствовал, новые, куда более ожесточенные схватки вокруг романа, и автору, уже сделавшему свое дело и к тому же весьма неопытному в литературных баталиях, правильнее было уйти в тень, чтобы не наговорить каких-либо благоглупостей. От Дудинцева он знал, что уже возникли какие-то препятствия с публикацией романа в издательстве «Молодая гвардия». Рукопись затребовали в ЦК. Симптом неприятный. Чего же требовать рукопись, когда вот они, одна к одной, лежат голубые тетрадки «Нового мира».
Выдержки и «смирения» Дудинцеву хватило ненадолго. Вскоре после межвузовского совещания состоялось обсуждение романа в Доме литераторов на улице Воровского. Устроителем был «Новый мир». Договорились давно, когда еще трудно было предполагать столь бурное развитие событий. Симонов решил на это обсуждение не ходить. Он сказал свое слово тем, что напечатал роман. Сказал он его и на встрече с учителями. Теперь надо было поберечь силы для кабинетной борьбы, которая того гляди начнется. Для назревавшей уже переписки с ЦК, в которой он в последнее время весьма поднаторел. Он писал в те дни Овечкину: «Мне иногда начинает казаться, что благодаря упорной и длительной работе над этим литературным жанром он, в конце концов, начинает у меня выходить лучше всего остального».
Это была ошибка, что он не пошел в ЦДЛ. Предоставленный самому себе, возбудившийся видом толпы, рвущейся в зал, и конной милиции, которая с трудом сдерживала натиск, наслушавшийся панегириков и анафем, вдохновляемый боевым азартом Паустовского, который председательствовал на встрече, Дудинцев Бог знает что наговорил. Теперь предстояло это расхлебывать.
Между тем в Москву просочились слухи о «событиях» в Венгрии, после того как Эрне Гере сменил Матиаса Ракоши, который многие годы представлялся Симонову рыцарем без страха и упрека, одним из железной когорты революционеров-антифашистов.
Уход Ракоши с политической арены в московских кругах оценивался по-разному. Одни считали это победой реакционных сил, которые подняли и неизбежно должны были поднять голову в Венгрии да и других странах народной демократии после того, как с такой бесшабашностью полоснули по Сталину. Другие полагали вполне естественным, что вслед за Сталиным покидают сцену те деятели, которые стояли к нему особенно близко.
25 октября слухи обернулись официальным сообщением ТАСС: «Янош Кадар сменил Эрне Гере на посту первого секретаря, Политбюро назначило премьером Имре Надя». И еще одна фраза из тех, которые предназначаются для успокоения, а на самом деле лишь пробуждают беспокойство: «Порядок восстановлен. Жизнь постепенно входит в нормальную колею». Восстановлен. А кто, когда и почему его нарушал?
Еще через день или два газеты аршинными заголовками возвестили о новом повороте событий.
Наши танки вышли из Будапешта, наши танки вернулись туда снова... Янош Кадар сменил на посту премьер-министра слабохарактерного — или беспринципного? — Имре Надя, который сдавал контрреволюции позицию за позицией. В столице Венгрии было опубликовано Воззвание к венгерскому народу Революционного рабоче-крестьянского правительства.
Социализм оказался в опасности и в Польше. Однако контрреволюции не удалось достичь своих целей. Кризис в обеих странах, пусть и ценою пролития крови, был преодолен.
Чутье и опыт подсказывали К.М. с несомненностью, что все это так или иначе окажет свое влияние и на общую атмосферу в СССР. Не может не оказать. Ответственность коммуниста побуждала заново, с новых позиций осмыслить происшедшее, вглядеться в будущее более суровым и проницательным взглядом. Контрреволюция хорошо сумела сыграть на самокритике при социалистическом строе. Реакция, как он считал, поднимала голову повсюду.
События, разразившиеся вокруг Суэцкого канала, интервенция Израиля, Англии и Франции против Египта — с минимальным отрывом во времени от событий в Польше и Венгрии — были наглядным тому свидетельством.
К сожалению, размышлял он, не избежать здесь и шараханий из стороны в сторону. Перестраховщики, как это всегда бывает в экстремальных обстоятельствах, тоже зашевелятся. Постараются заново прочитать и услышать все, что было сказано и написано в последнее время. Будут искать «параллели».
Не случайно активизировались кочетовский «Октябрь», софроновский «Огонек». В этих условиях нужна особая осторожность. Не дать повода, не спровоцировать выступлений против «безответственной интеллигентской болтовни». Он опасался, что Дудинцев дал уже такой повод в Доме литераторов. К.М. почти ничего не изменил в верстке статьи для «Нового мира», разве смягчил категоричность формулировок относительно постановлений ЦК сорок шестого года. Из тактических соображений он сместил основную тяжесть удара с официальных документов на доклад Жданова. Закончив «Литературные заметки», он, слегка поколебавшись, послал их в ЦК, Поликарпову. Для сведения.
Предчувствия его между тем начинали, шаг за шагом, подтверждаться. Сообщения в прессе продолжали публиковаться тревожные. В Австрии прятался сбежавший от расплаты Имре Надь. В самом Будапеште, в американском посольстве скрывался, быть может, самый опасный враг, который и теперь не сложил оружия — кардинал Мидсенти. Под влиянием однобокой, а то и просто дезориентирующей информации, в силу собственного политического недомыслия, в общем-то естественного для интеллектуалов Запада, на Советский Союз ополчилось большое количество виднейших зарубежных деятелей науки, литературы, искусства. Читая приходивший к нему, как к редактору центрального журнала, «служебный ТАСС», сообщения советских послов, он был информирован больше, чем, скажем, основная масса писателей, те же Дудинцев, Каверин или Паустовский... Знакомился со всякого рода манифестами, протестами и «отречениями» вроде истеричного сартровского документа. Понимал, что все это, просачиваясь тем или иным способом в нашу страну, доходя нередко в искаженном, извращенном виде, не может не воздействовать на умонастроения людей, возбуждая и даже воспаляя одних, настораживая и озлобляя других. Активизировалась в этих условиях, задвигалась, зашевелилась бюрократическая заседательская машина — в партийных органах, в писательских. Зазвучали ссылки на многочисленные письма и запросы трудящихся... Он получил приглашение на совещание в ЦК на 19 декабря. Алеша Сурков решил, что вслед за этим совещанием соберется на свое заседание секретариат Союза писателей, а там и пленум. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»
Не нужно было обладать особым даром предвидения, чтобы предположить: «Новый мир» и его последние публикации станут одной из доминирующих тем на всех этих собраниях. В печати усиливалась и с каждым днем становилась все злее критическая метель вокруг романа Дудинцева. В «Огоньке» «незлым тихим» словом поминались блестящие статьи молодого новомировского критика Марка Щеглова, тем более, что в последнем номере «Нового мира» он разделал под орех всю драматургию Толи Софронова. На совесть, кстати говоря, разделал. На все лады, с туманными ссылками на гнев высшего начальства, склоняли в ежедневной прессе рассказ Гранина «Собственное мнение». Хороший, правильный рассказ кое-кому пришелся прямо-таки не в бровь, а в глаз... Доставалось и К.М. за его статью о Фадееве. Критиковали с обеих сторон — справа и слева. На выходе был двенадцатый номер «Нового мира» с его «Литературными заметками».
Состоялось, наконец, это растянувшееся на четыре дня совещание в ЦК. Гудящая, как растревоженный, лишившийся матки улей, редколлегия «Нового мира» в день окончания заседания решила ждать своего шефа хоть всю ночь напролет. Как ни уговаривал многоопытный Кривицкий «разойтись по домам», дать К.М. спокойно выспаться, принять душ, побриться, собраться с мыслями. Пришлось-таки прямо из ЦК ехать поздно вечером в редакцию и докладывать. Впрочем, может быть, это к лучшему. Иногда, чем больше готовишься, тем хуже получается.
Задача была — донести во всем объеме, ничего не скрывая, всю остроту критики, зачастую справедливой. Нельзя не признать, да-да, дорогие мои друзья, нельзя не признать, и давайте честно в этом сознаемся и не будем валять ваньку там, где это нам не пристало...
С другой стороны, сохранить лицо, не дать коллективу впасть в уныние, не посеять панику.
— Ну, попало, попало, — внешне спокойно, только голосу доверив усмешку, начал он. — Не так чтобы уж до смерти, но попало, преимущественно от нашего же брата писателя.
Литераторов на совещании в ЦК было больше, чем партийных работников, и вели они себя куда более активно.
По испытанной временем и литературными баталиями привычке начинать с самого плохого Симонов рассказал сослуживцам, что линию журнала характеризовали от неправильной до гнилой. Последний эпитет — изобретение Василия Смирнова. Кочетов пришел на последнее заседание, потрясая свежим номером «Нового мира» с его, Симонова, «Литзаметками». «Такой я ему сделал щедрый подарок!» Кочетов заявил, что автор, к тому же еще и редактор столь уважаемого издания, ревизует ни больше ни меньше — постановления ЦК. К нему, правда, в более галантной форме присоединились Сурков, Рюриков и Поликарпов.
Их эскапады, которые К.М. излагал дословно, были столь очевидно заушательскими, что небольшая аудитория, которая ловила в мертвой тишине каждое его слово, встречала их даже не возмущением, а злым смехом, издевательскими репликами. Это была не совсем та реакция, на которую он рассчитывал. В конце концов, ему с этими же людьми продолжать делать журнал. Многое из того, что было сказано за эти долгие четыре дня, нельзя просто отмести с порога. Говорилось немало и справедливого. И он стал потихоньку, незаметно подводить своих слушателей к пониманию этого.
Начал с себя. Чушь, конечно, называть статью ревизией постановлений ЦК. Интересно, кстати, отметить, что сверхинформированный Кочетов цитировал даже те абзацы, которые в последний момент были сняты по требованию Главлита. Но нельзя не признать, что со своей критикой некоторых положений постановлений, то есть официальных партийных документов и доклада Жданова, он, Симонов, выступил перед беспартийной вузовской аудиторией. На это еще раньше обращалось его внимание, в связи с чем он даже посчитал нужным направить объяснительное письмо в ЦК. Статью в журнал, однако, он писал с учетом этого своего невольного промаха.
Далее. Ерунда, конечно, он и сегодня так считает, — называть роман Дудинцева или рассказ Гранина вредными. Он не согласился также с тем, что эти вещи противопоставлялись очеркам Овечкина и Тендрякова, кстати, напечатанным не где-нибудь еще, а в том же «Новом мире». Он так и сказал об этом с трибуны и повторил теперь:
— Эти разговоры о вредности романа уже и раньше раздували люди, которые хотели поживиться за счет скандала, использовать любой свисток, в который можно засвистеть, чтобы высказать свое недовольство происходящим. А чем они, собственно, недовольны? Художественной иллюстрацией нравов культа личности, о которых сказала партия?
— И роман Дудинцева, и рассказ Гранина, — продолжал он, — взятые сами по себе, — острые, но с партийных позиций написанные произведения. Хотя надо подумать, почему их так единодушно критиковали... Но что мы, наверное, действительно неправильно сделали, это то, что напечатали их рядом, подряд. А тут еще пьеса Хикмета. Получилось густовато. Если серьезно, мы не можем, конечно, не учитывать ситуацию в мире, которая возникла в связи с событиями в Венгрии и в Польше... Надо, видимо, жестче относиться к редактированию того, что публикуем. Серьезные писатели нам за это только спасибо скажут. Журнал не почтовый ящик. Что в него опустили, то и неси читателю. И надо резче откликаться на клеветнические статьи за рубежом. Мы говорим о наших бедах, потому что хотим изменения к лучшему. И надо показывать, как многое уже изменилось. Сколько восстановленных в правах, сколько реабилитированных людей. Идет восстановление самой законности. А еще в 52-м году людей хватали и сажали без суда и следствия. Будет неправильно, если мы не будем показывать всех этих изменений и не будем давать самый резкий отпор всем за рубежом, кто спекулирует на нашей откровенности. Иногда создается ощущение, что мы боимся, как бы вдруг там кого-нибудь не обидеть... А то, что нас обижают, это как будто бы и не страшно. Мы слишком большие, нас нельзя обидеть, мы великая держава...
С редколлегией, в конце концов, договориться было не так уж сложно. Здесь люди понимали друг друга с полуслова, и если кто и пофрондирует поначалу, так это только на пользу — для гимнастики ума и воображения.
Труднее ему пришлось через день на многолюдном собрании в союзе, где подводились итоги совещания в ЦК.
Суркова слушали с обостренным вниманием. Как только он закончил доклад, Симонов пошел к микрофону.
— По вопросу о журнале «Новый мир». Я не могу признать и не признаю, что линия журнала «Новый мир» была гнилой линией... Что касается романа Дудинцева «Не хлебом единым», я не считал и не считаю его антисоветским.
Гул в зале. К.М. вновь подумал об этой странной особенности литературных аудиторий, в которых прошла чуть ли не половина его сознательной жизни. Здесь всегда витийствует какая-нибудь одна сторона. Та, что чувствует, что сегодня на ее улице праздник. Где они были, эти вот, гудящие, когда здесь же, в Доме литераторов конная милиция с трудом сдерживала рвущихся в битком набитый зал поклонников и почитателей Дудинцева? И где теперь эти поклонники и почитатели, когда Дудинцева тут разделывают, как бог черепаху.
— Не могу не признать, — продолжал он между тем, — что мы, возможно, немного недоработали с автором, в частности, вокруг образа Галицкого, который мог бы быть противовесом Дроздову. Согласен, что и в целом в журнале, кроме, может быть, овечкинского Мартынова или Саши — Тендрякова — маловато положительных героев, за кем можно было бы пойти... За это нас справедливо критиковали. Мы на это мало обращали внимание, а это необходимо.
Закончил он совершенно искренним заверением:
— Могу сказать только одно — рисовать одной черной краской нашу жизнь мы не дадим. В этом мы вполне единодушны. Это безусловно для меня, как и для других моих товарищей по работе в «Новом мире».
Его лаконично, но весомо поддержал Корнейчук:
— Хорошо, что Симонов не бил себя в грудь, но сказал очень серьезно, что прислушается к критике, что хочет разобраться... А то раньше договорился до неверного положения насчет критики как рвотного...
Поддержка оказалась тем более приятной, что была неожиданной. Отношения с Корнейчуком после войны были натянутыми. Желая показать, что принимает протянутую ему руку, К.М. выкрикнул с места:
— Это просто было глупое выражение.
Слава Богу, что на свете существуют заграничные командировки! Два месяца назад он с трудом дал себя уговорить полететь в Индию по линии советских организаций, борющихся за мир. Теперь эта поездка оказалась как нельзя кстати. Он надеялся, что повторится то, что бывало с ним и раньше. Дорога, словно могучий летний ливень, смоет в одночасье, унесет все одолевающие его проблемы.
В полной мере, увы, этого не произошло. То ли уже возраст сказывался, — где ты, моя былая бесшабашность? — то ли новые семейные обстоятельства — Лариса была на сносях, то ли сами проблемы таковы, что их уже не ливнями смывать, а каким-нибудь скребком сдирать и только вместе с кожей. И все же, все же — благословенны вы, пути-дороги.
Он многое, улетая, оставил незаконченным, но не испытывал по этому поводу угрызений совести. В конце концов, он не в Гульрипши укатил и не по собственной воле, а по прямому поручению ЦК. Он будет выступать, заседать, читать стихи, объясняться с индийским читателем, который, говорят, уже осведомлен о нем по выходившим не раз переводам стихов и прозы. Ну, а о чем он при этом будет думать, какие планы будет строить насчет своей дальнейшей жизни, до этого никому дела нет, тут он никому не обязан отчитываться.
Мудро кто-то заметил, что в многолюдье порой легче оказаться наедине с самим собою, чем когда ты в полном физическом одиночестве. Уж чего-чего, а людей в Индии хватало. В те немногие недели, которые провел он там, он сам себе напоминал индийского слона, нагруженного самым разнообразным скарбом. Спокойно и деловито, направляемый почти неощутимыми прикосновениями руки погонщика, движется гигант среди людского полноводья по улицам Дели или Калькутты невозмутимо вышагивает вдоль бамбуковых посадок или пробирается непроходимыми с виду джунглями — вместе со всеми — и в полном одиночестве.
Ничто не мешало ему здесь размышлять вволю о дальнейшем.
Подсчитывая синяки и шишки последних месяцев, К.М. приходил к выводу что жизнь все же не так плоха и безнадежна, если не опускаешь руки и продолжаешь управлять ею сам. Как бы ни повернулось дело с журналом, линия которого признана верхами, ну, если не гнилой, то все же и не самой благонадежной, свет клином на редакторстве не сошелся. Десять лет он уже варится в этой каше — журнал, газета и снова журнал. Настал, пожалуй, момент поставить точку. Если не навсегда, то, по крайней мере, на время.
Вот-вот должна была выйти книга прозы, в том числе доработанный «Дым отечества». Он был уверен, что повесть не пройдет незамеченной. Критики вспомнят, что это та самая повесть, на которую десять лет назад обрушилась печальной памяти «Культура и жизнь». Для кого-то, особенно из молодых, это, возможно, будет даже неожиданностью. Для тех, кто все еще пробавляется мифами о том, что в годы культа на него сыпались одни лишь награды да ласки.
В числе первых, кому он пошлет экземпляр книги с дарственной, будет Овечкин. Его радовало деловое, принципиальное сотрудничество, налаживавшееся у «Нового мира» с автором, у которого столь нелегкая, переменчивая судьба.
Валентин стал более критично относиться к Шолохову, прежде всего, конечно, к его публицистической деятельности, которая, увы, по-прежнему протекает под заметным влиянием всякого рода Шехмордановых... Взять хотя бы его выступление на XX съезде. Овечкин по этому поводу даже носился с идеей опубликовать в «Новом мире» некое «Открытое письмо» Шолохову, от чего К.М. его всячески отговаривал. Он и сам, после речи Михаила Александровича, посвященной, как всегда, избиению руководства писательского союза, сел за ответ ему, наполовину даже написал, потом бросил. Шолохов— это Шолохов. К нему надо просто относиться как к природной стихии, которую нельзя ни предвидеть, ни предотвратить.
Грел душу и предстоящий выход первой книги литературно-критических статей. Попытка собрать воедино все стоящее из написанного показалась ему вполне закономерной. Редактировать книгу он попросил Караганова, новообретенного, но надежного друга. Получился солидный том.
Готовя рукопись к печати, он и сам стремился, и Караганову наказывал — не приглаживать и не причесывать однажды написанное. Как что было сказано, так пусть и остается. Если что-то устарело безнадежно, лучше просто выбросить. Они этим делом с Карагановым занимались на всех стадиях работы. После первой сверки выбросили еще четыре статьи. Теперь кошки чуть-чуть скребли на душе — правильно ли сделал, что оставил статью об «Оттепели»? Бывает, напишется такая вещь, где все по сути верно и в точку, а по какому-то другому измерению выходит, хоть и верно, а не надо было об этом. Правильнее было бы просто промолчать. Как решил он, в конце концов, промолчать по поводу шолоховского выступления.
Как бы то ни было, уже и книга прозы, и книга критики — пусть и со статьей об «Оттепели» — дело сделанное. Остается получить авторские экземпляры, закупить еще по сотне-другой каждой — и только успевай надписывать.
Другое теперь — дальше больше — занимало его помыслы. Рукопись более тысячи страниц на машинке лежала на письменном столе в Красной Пахре и манила к себе. На славу или на погибель? Этого он не знал, и об этом старался не задумываться. Знал одно — если первоначально и можно было сооружать ее урывками, пусть даже иной раз это были и два, и три месяца непрерывной работы, заканчивать начисто ее можно, лишь открестившись от всего остального. В этом, благоприятном, случае на работу уйдет все равно не меньше года. Не случайно в своих «Литературных заметках» он обрушился на давнюю статью «Культуры и жизни» по поводу «Молодой гвардии» Фадеева, особенно на рассуждения насчет того, что, мол, «хотя и не все шло гладко» в июне 41-го года и последующие несколько месяцев, «война советского народа против фашистских захватчиков с первых дней приняла организованный характер».
Он издевался над этими измышлениями, думая не только о прошлом, но и о ближайшем будущем. Он прокладывал дорогу правде о войне, которой и будет посвящен его роман. Все, что он написал о войне до сих пор, базировалось на том, что он видел непосредственно как участник ее. Сначала — хаос, отступление, окружения, гибель и страдания людей, потом — собирание сил, сопротивление. Первая проба сил под Москвой, великое противостояние под Сталинградом, битва на Курской дуге, выход к границам, взятие Варшавы, Будапешта, Белграда, Берлина наконец... Шумное, с дьявольским треском и грохотом, падение самого этого адского монстра — гитлеровской Германии. И на этом событийном фоне — с первого дня до последнего — героизм, самоотверженность наших людей — воинов, рабочих, колхозников, сыновей, матерей, отцов, детишек.
Теперь перед ним распахивалось иное, каждый день приносил новые открытия. Героизм, самоотверженность, сам итог вселенской схватки — всемирно-историческая победа советского народа, — несомненны. Но какою ценой? Этот вопрос выходил теперь на первый план. Вот вопрос, отвечать на который — поколениям и поколениям писателей, историков, философов...
Никогда раньше не было, чтобы события текущей жизни так влияли на его собственное восприятие уже сделанного. То ему казалось, что рукопись надо брать в охапку и, не теряя ни дня, ни часа, бежать с нею в «Знамя». Однажды он поддался искушению и отнес, предупредив: «Это просто — почитать».
То он вдруг открывал для себя, что роман невозможно длинен, скучен, полон повторов, общих мест. В один из таких моментов он обнаружил в романе две совершенно самостоятельные повести — о Пантелееве и Левашове. Не колеблясь, К.М. вынул их оттуда, поскоблил, «зачистил концы» и тоже отправил в журнал. Это, по его мнению, можно было печатать хоть сейчас. По многим причинам ему хотелось, чтобы это произошло, и как можно раньше. Важно было показать — кому? — что он продолжает писать, работать и не только над докладами и статьями. Важно было услышать живое читательское мнение, уловить настрой, в соответствии с которым можно было бы скорректировать общую направленность вещи. Как моряк исправляет курс своего парусника, уловив направление господствующего ветра.
Объем работы, который предстояло еще проделать, казался порой необозримым. Это его не пугало. Вот уж, поистине, большому пирогу рот радуется. Главное было, с маниакальной настойчивостью повторял он себе, найти время. Построить ближайшие годы своей жизни так, чтобы можно было сидеть над романом безотрывно.
Кажется, именно под палящим индийским небом, где он слушал гул толпы и вкушал пряные индийские блюда, у него впервые явилась мысль об Узбекистане, о Ташкенте. Сравнительно недавно он побывал там по делам союза.
Когда-то, в войну, Ташкент, ташкентец — были для него символом перестраховки, тыловой болезни. Теперь он именно там собирался выиграть свой главный бой.
Вернувшись, он заболел. Не минула его участь многих, кто возвращается из Индии. Потом захлестнули семейные события, радость пополам с суетой и хлопотами. Давно забытое, но милое, оказывается, состояние. Перебрался с Ларисой из Красной Пахры, где больше года провел безвылазно, отдав жилье по улице Горького Валентине, в новую московскую квартиру, кооперативный писательский дом. Родилась дочка, которую назвали Александрой, Сашенькой, Санькой. Тут уж было не до романа. Снова засосали гибельные литературные дебри. Не успел К.М. поздравить Володю Дудинцева с вышедшей книгой, как пришлось с ним же вступить в ожесточенную полемику на очередном собрании московских писателей. Не хотелось на это идти, но другого выхода не было. Володю снова занесло.
Психологически тут все было как на ладони. Дотравили-таки, завели человека. И слева, и справа постарались. С одной стороны, позорнейшая тяжба с изданием романа в «Молодой гвардии». Казалось бы, если подумать о всенародной, мировой, можно сказать, популярности романа, издательства московские с руками должны были бы отрывать друг у друга право на публикацию этой вещи. Помимо всего прочего, при нормально функционирующей экономике, это ведь еще и колоссальный доход... Выпусти сейчас роман миллионным тиражом, и то будут очереди стоять. Тетрадки «Нового мира» продавались на «черном рынке» по цене, которую даже страшно вслух произнести. Ан нет, заработала «спихотехника». К.М. предлагал, чтобы роман был напечатан в «Советском писателе». Цеховая гордость, в конце концов, должна быть у союза. Но там автору отказали. Не по своей воле, конечно. Не взяли и в «Роман-газете», самом дешевом и массовом издании. Дудинцев по своей инициативе пошел в «Молодую гвардию». Этот путь ему, в прошлом сотруднику «Комсомольской правды», был хорошо знаком, да и его в издательстве знали. Поначалу горячо взялись. Потом верстку затребовали в ЦК комсомола, и машина приостановилась.
Судили-рядили комсомольские секретари, но ни к какому берегу подгрести не могли. Никто не отваживался дать разрешение. С самого «верха» сигналы поступали весьма противоречивые. Там шла своя борьба, своя варилась обжигающая каша в кратере политического вулкана, и выплески огнедышащей лавы опаляли события литературной жизни, деформировали и без того неспокойное ее течение.
Для отделов ЦК партии, для руководителей комсомола и писательских организаций указанием служили как звонок Молотова или Маленкова, так и противоречащие им запальчивые тирады Хрущева. В конечном счете приняли соломоново решение. Конечно, мол, лучше было бы не издавать такой скандальный роман в молодежном издательстве, но раз уж работа над ним зашла так далеко и такие деньги потрачены, то пусть «Молодая гвардия» доводит дело до ума, а марка пусть стоит профессионального писательского издательства. Тираж решено было дать по стандартам «Советского писателя» — минимальный.
Книга была все еще на выходе, а на нее обрушился уже новый шквал разносов. Московские писатели решили собраться и заступиться за коллегу.
Дудинцев не защищался. Он нападал на всю систему руководства литературой, не отличая особенно прошлого от настоящего.
К.М. должен был снова вызвать огонь на себя. Сказав жесткие, но, ей-богу же, справедливые слова, чтобы предотвратить политическое аутодафе. Саркастические выпады Дудинцева, которым софроновы-падерины без особого труда могли придать политическую окраску, К.М. постарался перевести в психологическую плоскость. Он как бы предлагал войти в положение писателя, переживающего в далеко не детском уже возрасте — фронтовик, ветеран молодежной журналистики — первый свой крупный успех. Тут и у более искушенных в литературных баталиях мушкетеров голова бы закружилась.
Серьезно ли, судите сами, что он предлагает нам рассматривать свой роман не как первую свою удачу, не как просто книжку писателя Дудинцева, а как некий программный документ эпохи?! Тут невольно возникает вопрос — как это додумался писатель Дудинцев до такой ахинеи? Или, может, кто-то надоумил его? Кстати, прямо надо признать, нам в журнале это особенно хорошо видно: иудиных поцелуев расточается для Дудинцева сейчас тьма-тьмущая — и нашим, отечественным мещанином, и зарубежными доброхотами. Полагаю, что когда это превращается в сплошной поцелуйный обряд, советский писатель должен задуматься.
Он видел, какими глазами смотрит на него Дудинцев из зала, но продолжал:
— Зачем жаловаться, задним числом, на какие-то трудности с изданием романа? Меня как редактора журнала, который опубликовал роман громадным тиражом, это лично задевает. Теперь вот вещь выходит отдельным изданием и, несмотря на все треволнения, в довольно короткие сроки.
Специально застолбил это, чтобы уже не было с книгой хода назад.
Хотел тут было упомянуть, что его собственная, например, повесть «Дым отечества» ждала первого книжного издания десять лет после того, как в 1947 году была зверски разругана пресловутой «Культурой и жизнью». Но в последнюю минуту удержался от соблазна.
А это, уж извините, совсем из репертуара конферансье — о некоем ремешке на котором, мол, у нас писателей водят, как в Англии малых детей... Не партийное ли руководство вы под этим понимаете, если отбросить метафору?
— Мне кажется, что Дудинцев до конца глубоко не задумался, что к полному коммунизму есть только один путь — через диктатуру пролетариата со всеми вытекающими отсюда последствиями, о которых нам нет причин умалчивать. Писатель социалистического общества не тяготится, а гордится тем, что он работает под руководством коммунистической партии.
Дудинцева несколько раз прерывали овациями.
К.М. вежливо похлопали только в конце.
Дудинцев, уходя с собрания, демонстративно не ответил на его прощальный кивок, чем доставил немалое удовольствие каким-то неряшливым молодым людям обоего пола, которые окружали его тесным кольцом.
Дома К.М., соблюдая железный рабочий распорядок независимо от всякого рода передряг и треволнений, сел за рабочий стол, чтобы ответить на несколько писем. Нины Павловны, естественно, уже не было в это позднее время, и он писал от руки. В письме Овечкину, который во всей этой истории с Дудинцевым был всегда на его, К.М., стороне, отвел душу: «Дудинцев, который, как ты и боялся тогда, не вынес-таки груза славы и в известной мере повторил сейчас на новом этапе выступление Паустовского».
Скверно, неуютно было на душе. Он любил роман Дудинцева. Публикация его была поступком. Он, не скрывая, гордился им. Почему же, по какой такой проклятой закономерности он теперь оказался с ним чуть ли не по разные стороны баррикад? Кто из них больше виноват в этом? К.М. было знакомо то состояние заноса, в котором, видимо, находился Дудинцев. Он не мог винить его, но и не мог с ним согласиться, хоть ты тут разбейся. В литературных баталиях он был искушеннее и мудрее Дудинцева.
Черт бы ее побрал, эту искушенность. Она начинала сильно отягощать его жизнь. Как-то еще будет выглядеть стенограмма его выступления в «Литературке». Надо будет потребовать верстку до публикации. За Кочетовым нужен глаз да глаз. Снова мелькнула мысль о Ташкенте.
Наутро он диктовал Нине Павловне свою часть доклада секретариата Союза писателей на пленуме, который должен был собраться то ли в апреле, то ли в мае. О социалистическом реализме. Нина Павловна без энтузиазма записывала его рассуждения. Ей, догадывался он, было жаль времени, которое он убивал на работу, доступную завалящему кандидату наук. Лучше бы занимался романом... К.М. угадывал ее мысли, и они ему импонировали. Он не мог бросить диктовку, но на душе становилось спокойнее. Голос звучал увереннее и веселей, хотя слова произносились самые серьезные.
Безостановочное колебание качелей продолжалось. Взмыв в 1956 году вверх, они начинали опускаться вниз.
Хирургическая операция, проведенная в ноябре 1956 года над Венгрией, не принесла ожидаемых результатов. Зловещие признаки метастазов давали о себе знать повсюду. Люди, партии, целые страны вели себя так, будто бы больным был не пациент, а врач. Отступничество, ренегатство на Западе стало массовым явлением. Что там говорить о средних слоях. Растерялись, отвернулись, повернули вспять такие испытанные, казалось бы, в самых критических ситуациях столпы, как Ненни, Д'Астье, Сартр, Веркор, Мориак. Говард Фаст, Ив Монтан, Радж Капур... Кажется, дрогнул Фредерик Жолио-Кюри, стоявший бессменно во главе Всемирного Совета Мира, а Совет в ту пору объединял в своих рядах цвет, гордость человечества.
То же самое — дома.
Партия сказала правду о Сталине, о культе личности, и первый, у кого закружилась голова, словно от избытка озона в воздухе, оказалась интеллигенция. Естественно, это не осталось незамеченным партийной бюрократией. И коль в Будапеште все зло пошло от «кружка Петефи», то и в Москве и в других социалистических столицах стали присматриваться к тому, что там такое происходит в редакциях различных журналов, в писательских клубах, на вернисажах и в «частных салонах», то есть на дачах, на квартирах... Начавшаяся в 54-м году и получившая импульс огромной силы в 1956 году оттепель, как назвал это Эренбург, в мгновение ока обернулась заморозками. При лесном пожаре один вал огня глушат, пуская ему навстречу другой. Волне вольномыслия, набравшей в невиданно короткие сроки немыслимую скорость, преградила путь с такой же быстротой возродившаяся струя бдительности.
К.М. чувствовал себя между молотом и наковальней. Он искал истину и не находил ее. Драма усугублялась тем, что поиск происходил не в тиши академических аудиторий, не в пещере отрешившегося от мирской суеты и питающегося акридами отшельника.
Кампания заседаний, обсуждений, пленумов, речей, заклинаний и анафем была уже запущена на полный ход. От нее деваться было некуда.
К.М. не в диковинку было схватываться с Леонидом Соболевым или Всеволодом Кочетовым, с Грибачевым, с Михаилом Алексеевым, пусть даже их поддержал Хрущев, удостоив «звания» — «автоматчиков» партии. Но на этот раз «автоматчикам» трудно было что-то противопоставить. Кровь защитников социализма на улицах Будапешта была реальностью.
Кто-то должен был остановить вакханалию слов, преградить дорогу разбуженным инстинктам, жажде реванша, зоологической ненависти к социализму.
К.М. выступал и выступал. И, естественно, не мог обойти очевидных теперь ошибок журнала «Новый мир», своих собственных ошибок, которые, по совести говоря, он мог бы осознать и раньше:
— Я считаю своим долгом сказать здесь, на писательском пленуме о том, что мне особенно ясно стало в ходе совещания в ЦК КПСС... О том, что я был неправ или однобок в ряде своих высказываний и ряде своих оценок, вернее недооценок грозной опасности, прикрывающейся фиговым листком свободы творчества... И все это в определенной мере отразилось на том, как велся мной журнал «Новый мир»...
Я, мною... «Якал» он намеренно, желая взять на себя одного всю ответственность за ошибки журнала. На писательском пленуме по рукам ходило стихотворение, авторство которого приписывали Евтушенко, а героем называли его Симонова: «Опять вы предали, опять не удержались...» Один экземпляр оказался и в его руках. Друг ли хотел по-товарищески предостеречь, враг ли — позлорадствовать, выбить из колеи... Кто-то с ухмылкой указал даже на портретное сходство — «располневший, но еще красивый...» Так уж повелось, что красивыми в писательской среде никого, кроме Фадеева и Симонова, не называли. Фадеева нет... Припомнилось — вот она, ирония судьбы, — на днях отправил письмо Полевому, в котором хвастал, что каждый день играет по часу в теннис и чувствует себя так хорошо, как только может чувствовать располневший человек, начавший худеть.
Бывали вы талантливо трусливы,
Вы сами вдохновлялись ложью фраз,
И, располневший, но еще красивый,
С достоинством обманывали нас.
С грустной иронией К.М. подумал о том, что совсем недавно послал в «Совпис» письмо, в котором яростно отстаивал рукопись Евтушенко от нападок в старорежимном духе, доказывал, что острота восприятия действительности у него — от преданности революции, от тоски по чистоте идеалов.
Теперь его молодой коллега, увы, подыграл дешевым страстишкам. Его К.М., или нет имел он в виду — это, в конце концов, дело второстепенное. Главное — что его словами, если это, конечно, Евтушенко, выразила себя эта около литературная накипь. К ней сам Женя отнюдь не принадлежит, но почему-то захотел понравиться. Просто не закален еще, не искушен в литературной борьбе, под которой окололитературная публика понимает пустопорожнюю игру мелких самолюбий, страстишек, фабрику по производству сплетен...
Он не мог не ответить этой шушере, которая комариным облаком лезет всем в рот, нос, уши, выступая с трибуны пленума. Не с Евтушенко он, естественно, воевал и не его имел в виду. Он говорил о рабской, идиотской тенденции — чуть ли не всякого человека, в чем-либо честно ошибавшегося, также честно потом передумавшего свои шаги и взгляды, пересмотревшего то, в чем ошибался, изображать то ли жертвой собственной натуры, то ли жалким трусом. Им наплевать на писателя, будь то Дудинцев или Симонов. Им нужен скандал, который удалось поднять вокруг чьего-то имени.
— Так вот, я вполне сознательно хочу доставить этой своей речью неудовольствие всем дешевым любителям скандалов, которые хотели бы получить от них удовольствие. И добавлю, что доставляю им это неудовольствие с удовольствием.
— Не сомневаюсь, что эти люди, эти литературные обыватели сегодня же будут знать все, что говорится на пленуме. Они всегда все знают, это их вторая, если не первая, профессия. Эти люди, с их визгами и истериками, которые они выдают за смелость, с их смакованием всего того, что у нас болит на душе.
Когда он произносил все это, спонтанно, не по бумажке, ему нравилось то, что он говорил, казалось, что вот он, наконец, настиг своего неуловимого противника, этого видимого невидимку, который преследует его столько лет, пригвоздил его к столбу позора! Во всяком случае, сказал о нем все что думал. Уже через несколько часов судил себя.
— Не надо было, нельзя было до этого опускаться. Какой смысл сражаться с тенью?.. Нет, все, что следовало сказать, помимо неизбежной оценки собственных ошибок, ошибок журнала, — это о своем намерении покончить с литературной и окололитературной суетой, вырваться из ее тенет и заняться главным.
— Главное в нашей писательской жизни — это книги, — говорил он в следующем выступлении. — И мне кажется, что пора это отнести и к самому себе. Я бы даже сказал, давно пора.
Через несколько дней был прием за городом, на правительственной даче. Для творческой интеллигенции. Погода с утра была хорошая, и сначала все бродили по аллеям парка, вдоль пруда живописными группами. В каждой один-два высших руководителя партии и десяток писателей, деятелей искусств.
Ближе к обеду стали подтягиваться к длинным, заблаговременно накрытым столам, предусмотрительно защищенным брезентовыми навесами — на случай дождя, который все время бродил где-то рядом.
Гроза и ливень разразились как раз в тот момент, когда под звуки оркестра и пение солистов с характерным украинским тембром, так любимым Хрущевым, подали закуски и Никита Сергеевич взял слово.
Он начал говорить, и всем стало уже не до закусок, не до заливного зеркального карпа, выловленного, как говорили, в здешнем же пруду, не до черной и красной икры в хрустальных судках со льдом. Природа, то ли одушевляя, то ли пародируя оратора, сопровождала каждую его тираду вспышкой молнии, ударом грома, порывом ветра со струями дождя, который стал просачиваться и сквозь брезент.
Хрущев не замечал ничего этого, увлеченный страстным накалом собственной речи.
К.М. досталось, пожалуй, даже больше других. Ему и Алигер. Да еще Мариэтте Шагинян, которая так порывисто выставляла навстречу оратору свой микрофончик, что, казалось, боксирует с хозяином. Кое-кто улыбался, видя это. Улыбки сменились онемением, когда Мариэтта Сергеевна вдруг резко повернулась и, запихивая в сумку свой микрофончик, пошла прочь, к видневшейся вдалеке стоянке машин.
Кажется, только один оратор в запале не заметил ее ухода. Или не подал вида? Во всяком случае, накал речи Хрущева стал понемногу стихать, и от критики писательских и вообще интеллигентских ошибок он перешел к задачам, стал говорить о тех экономических преобразованиях, которые наметила партия, о планах реорганизации управления промышленностью, которые должны были дать незамедлительный и ощутимый эффект.
На этом приеме, когда уже настала возбужденным гостям пора расходиться, к К.М. подошел Твардовский и, покашляв, похекав в кулак, спросил, правда ли говорят, что он, Костя, собирается уехать, что-то вроде бессрочного отпуска взять для завершения какого-то романа. К.М. молча кивнул. Твардовский, продолжая покашливать, напомнил о том давнем их разговоре, тоже по его инициативе состоявшемся, когда он предложил Косте не стесняться и брать, если предлагают, «Новый мир». Так вот теперь он готов, если в этом есть нужда, оказать Косте такую же услугу и прибрать к рукам их общее любимое дитятко, не дав ему оказаться без хозяйского глазу.
— Разумеется, это все имеет значение только в том случае, если у тебя действительно такие планы, — добавил Трифонович, дабы исключить малейшую недомолвку.
Они взглянули друг другу в глаза. К.М. молча пожал Твардовскому руку.
Встреча Никиты Сергеевича с творческой интеллигенцией не убавила сумятицы в голове, хотя и на заседании редколлегии, и на разного рода сидениях в Союзе писателей К.М. привычно распространялся о «том дружеском и сердечном, полном глубокой веры в силы нашей народной интеллигенции приеме, на котором мы недавно были».
Через месяц после этих встреч состоялся пленум ЦК партии, который объявил о наличии в рядах президиума ЦК партии антипартийной группы, всячески тормозящей выполнение решений XX съезда КПСС, искоренение явлений, порожденных культом личности. Из состава ЦК были выведены Молотов, Маленков, Каганович, а вместе с ними и Шепилов, который в пору борьбы с космополитизмом пытался ослабить силу удара. Снова люди, чьи имена, особенно первых трех, стали почти тождественны слову партия, оказались ее врагами. Повторение прошлого? Нет, шаг вперед! Вместе с культом личности, культом Сталина, рухнула сама презумпция непогрешимости первого руководителя и следом — всего ареопага, стоящего во главе партии, народа и государства. Двадцатый съезд был для них первым шагом вниз с лучезарного Олимпа, пленум об антипартийной группе — вторым. Они — такие же простые, грешные, как все мы, люди, которые могут и должны быть судимы людским судом по тем же самым законам справедливости, что и все на земле. Если и есть тут разница, то она лишь в том, что чем выше ты поднялся, тем больнее тебе падать, тем слышнее грохот падения.
Хрущев, стянув с заоблачных высот сначала Сталина, а потом ближайших и старейших его соратников, и сам вынужден был спуститься вместе с ними — хотел он этого или, может быть, и не хотел. Законы людские, которые с его благословения были распространены на небожителей, оказались властными и над ним тоже.
С каким-то новым чувством раскрепощенности К.М. внимал тому, что происходило и звучало вокруг.
Обвиненный в свое время Хрущевым за злосчастную передовую в «Литературке» в приверженности культу личности, К.М. с недоумением и растущим сопротивлением размышлял над тем, что теперь сам Хрущев говорил о Сталине.
Он вдруг начал славословить его — это после июньского-то пленума, где жестокий, но справедливый урок был преподнесен тем, кто вольно или невольно восставал против идей XX съезда партии. Ну, хорошо, когда Никита Сергеевич выступал на торжественной сессии Верховного Совета по случаю сороковой годовщины Октября, причиною его дифирамбов мог быть сам повод, по которому собрались, — по праздникам не очень-то хочется вспоминать лишний раз дурное. Может, присутствие загадочного и неподвижного, как Будда, вождя китайской революции сыграло свою роль: «Как преданный марксист-ленинец, стойкий революционер Сталин займет должное место в истории».
Однако еще раньше, в августе, когда было опубликовано с большим опозданием сильно доработанное изложение выступлений Хрущева перед интеллигенцией, тоже вытекало, что Сталин все же в основном делал полезное дело, и это нельзя вычеркивать из истории борьбы рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, из истории советского государства.
Некоторое время назад он, К.М., быть может, и приветствовал бы такой подход. Фигура Сталина, что там ни говори, слишком крупна и сложна, чтобы ее оценивать без щепотки диалектики. Теперь он видел, как за эти тактические маневры Никиты Сергеевича ухватились наши доморощенные ястребы.
Их мишенью сразу же стал он, Симонов. Вернее, две его повестухи, которые он сделал из больших кусков романного текста, оказавшихся как бы лишними в нем, — «Пантелеев» и «Еще один день». Они были опубликованы в апрельском и июньском номерах «Москвы» за 57-й год, у Евгения Поповкина. В июле в редактируемой Кочетовым «Литературке» появилась издевательская рецензия Ильи Кремлева. Как в только что проявленной фотопленке, с которой еще не сделано ни одного отпечатка, в этой заметке лишь смутно просматривались те обвинения, которые «проступят» позднее...
В августе в «Литературке» напечатали статью Ивана Стаднюка. В ней черным по белому было написано, что в повестях Симонова перед читателем предстает и идеализируется «целая галерея идиотов и трусов, носящих различные воинские звания».
Пришлось самому браться за перо, писать письма и в «Литературку», и в «Москву», а также и «по другому адресу». Он посетовал в письме Борису Полевому: «Пока мы тут с тобой переписывались, в «Литературке» меня еще раз огрели оглоблей, предварительно вымазав ее в г..., как будто бы одной оглобли было недостаточно».
Написав в «другой адрес», то есть Хрущеву, он тут же пожалел об этом. Это была дань прежним традициям. Но поправить дело уже невозможно было, так что он постарался забыть об этом письме. Съездив в две-три зарубежные командировки, погрузился в подготовку к печати третьей повести — «Левашов», которая тоже предназначалась для «Москвы» и тоже должна была послужить ответом на подлые инсинуации.
Когда ему позвонили и сказали, что Хрущев готов его принять, он не сразу понял, что это — в связи и по следам его письма. Сообразив же, сказал себе, что это — перст судьбы и что говорить он будет, конечно же, не о критических нападках на него, а о своем желании оставить Москву и уехать в Узбекистан — прикоснуться к жизни, набраться новых впечатлений, вспомнить свою журналистскую профессию, которой он никогда не изменял. Например, поработать специальным корреспондентом «Правды». Главное — завершить наконец роман, вернее, первую часть новой трилогии о войне, которая сама в то же время явится как бы продолжением его «Товарищей по оружию». Если будет возможность, спросить Никиту Сергеевича, что же он все-таки окончательно думает о Сталине? И как быть с этой «фигурой» тем, кто собирается обратиться к ней в художественных произведениях?
Он шел на встречу в приподнятом настроении. Возвращался, хотя и добился главной своей цели, в смутном.
Хрущев принял его не в Кремле, не в знакомом по встречам со Сталиным кабинете, а в ЦК. Беседа была короче, чем К.М. мог предположить. Никита Сергеевич, в украинской косоворотке, указал мясистой рукой на стул перед большим письменным столом. Стол был завален бумагами, а также пучками колосьев, пробирками с чем-то темным и сыпучим. Откинувшись в кресле слегка назад и вбок, Хрущев стал молча и выжидающе смотреть на К.М. Он заговорил о журнале, о Ташкенте, и Хрущев, словно бы он именно этого и ожидал, ободряюще кивнул. Тут же спросил, кого К.М. предлагает на свое место, и, услышав, что Твардовского, снова согласно кивнул, как показалось Симонову, с облегчением. Поднимать другие вопросы в такой обстановке было бы неуместно. К.М. поблагодарил и стал прощаться. Хозяин, словно спохватившись, пожелал ему вдогонку успехов в творчестве. Это было на полудороге к двери. Когда К.М. закрывал за собой дверь, он увидел, что Хрущев уже потянулся к телефонной трубке.
Шагая к машине, которая ожидала его на площади Ногина, у наркомата угля — у первого подъезда ЦК стоянка не разрешалась, — он не знал, радоваться ему, горевать или смеяться. Шел и невольно сравнивал Хрущева со Сталиным. Приглашение к Сталину и встреча с ним — это было настоящее священнодействие, со своим ритуалом, своими жрецами, которые, начиная еще со Спасских ворот, куда ты входил под испуганными вопрошающими взглядами случайных прохожих на Красной площади, передавали тебя, что называется, из рук в руки, пока ты не оказывался в компании с неизменным Поскребышевым и теми своими немногими коллегами, которые тоже были приглашены, перед той самой дверью... Ну, а уж за нею начиналось такое, что можно было сравнить только с явлением Христа народу, как с легкой иронией, народившейся в последние годы, вспоминал он теперь. Каждое слово, каждый жест, каждое дуновение сквознячка, пробивавшегося сквозь фрамуги, движение каждого завитка дыма, исходившего из трубки единственного курившего в зале Сталина, было преисполнено особого значения, сразу же на каких-то невидимых скрижалях вписывалось в историю. В практическом плане слова вождя уже на следующий день, если не раньше, преломлялись в делах и судьбах книг, людей, целых народов.
С Хрущевым... Словно он не у главы государства и партии побывал только что, одержавшего гигантскую политическую победу, а у председателя какого-нибудь не первой руки облисполкома, в лучшем случае секретаря обкома — с его переполненной приемной, не умолкающими телефонами, затурканностью.
Визит Симонова к Хрущеву не остался в секрете.
Вскоре на дачу в Красную Пахру заглянул, вроде бы ненароком, Твардовский и поведал, что ему официально предложили журнал. О подробностях разговора K.M. с Никитой, как теперь все чаще называли Хрущева, он, человек деликатный, не расспрашивал.
Все было улажено, но именно теперь-то К.М. решил не торопиться, подготовиться основательно. Хорошее состояние духа, которое всегда приходило вслед за ясностью в важных вопросах, вернулось к нему.
Пришло давненько уже не посещавшее его ощущение согласия с самим собой, при котором ему и море по колено.
На различных более или менее широких писательских и иных форумах он теперь без устали повторял, что главное дело писателя — писать. Да, писать.
— Мы, писатели, недостаточно хорошо знаем жизнь, но относим это ко всем другим, кроме себя. Мне лично, например, в последние годы, чем дальше, тем больше, кажется, что мне не хватает глубокого знания жизни, что я как писатель живу за счет старых запасов, накопленных в те годы, когда я был военным журналистом, много ездил и много видел. Мне хочется, и я надеюсь, не откладывая в долгий ящик, выполнить свое желание, снова, не на месяц, не на два, а на более серьезный срок вновь сделаться газетчиком, оказаться в качестве газетчика таким же участником мирного сражения за коммунизм, какими многие из нас с пользой для литературы были в отгремевшем великом сражении с фашизмом.
Слетав в Ташкент — разведка боем, он вернулся оттуда еще более воодушевленным. В писательской среде, да и везде в республике, его приезду, он почувствовал, радовались, его ждали... За считанные дни он умудрился там впрячься сразу в несколько возов — взялся переводить новую повесть Абдуллы Кахара, обещал прочитать лекцию в военном гарнизоне, провести семинар для молодых журналистов в республиканской газете, отправиться по заданию «Правды» на строительство газопровода «Бухара-Газли».
Дома тоже царило воодушевление. Лариса радовалась отъезду, понимала: он поможет мужу сразу порвать со многим, что отягощало жизнь, тянуло в прошлое. Шурка росла не по дням, а по часам и уже ходила, держась за палец. Катька бойко зубрила гаммы и французский. Старики и с той, и с другой стороны стали чаще навещать «молодых» перед предстоящей разлукой.
Только Нина Павловна грустила, и ему дорога была ее печаль. Они впервые разлучались так надолго после ее отъезда в 1950 году в Красноярск к ссыльному мужу.
Жилья в Москве Нина Павловна с Юзом по-прежнему не имели. За четыре года, прошедшие со дня возвращения из Красноярска, сменили восемь адресов. Одно из последних писем, написанных им перед отъездом в Ташкент, было по этому поводу начальнику московской милиции. Описав нарочито казенным языком историю злоключений Юза и Нины Павловны и сделав особый акцент на том, что, отправляясь к мужу в ссылку в Красноярск, она «обменяла принадлежавшую ей комнату в Москве на площадь в Красноярске», он затем дал волю эмоциям, рассказав, «как они мыкаются теперь в Москве, не имея ни кола ни двора». «Какая у меня к Вам просьба. Есть двое людей, хорошо и честно работающих, уже немолодых и проживших большую часть своей жизни в горькой и незаслуженной ими разлуке. Теперь они наконец вместе, у них обоих есть работа, но им негде жить. Нельзя ли, учитывая, как сложилась у них жизнь и сколько они хлебнули горя, пойти им навстречу решительно и устроить их так, чтобы они уже не думали на эту тему до старости лет, то есть, попросту говоря, дать на этих двух хорошо работающих людей скромную однокомнатную квартиру. Если это можно будет сделать, они будут счастливы, а они, по-моему, это заслужили».
Нет повести печальнее на свете... Сколько уж лет он пишет эти письма в разные инстанции и словно бы прикасается, опять и опять, обнаженным сердцем к страданиям двух дорогих ему людей.
С другим настроением сочинял депешу в Абхазию старому другу, поэту Ивану Тарбе. Посетовав на то, что по непонятным причинам в Москве отсутствуют остродефицитные подушки (тот самый ширпотреб, грядущее изобилие которого он недавно предрекал Назыму Хикмету), а в Ташкенте нужда в них, по-видимому, возникнет, он в связи с этим «загадочным обстоятельством» просит обязать кого-нибудь в Гульрипши запаковать имеющиеся на месте и направить из одного южного уголка в другой почтовой посылкой. Послание свое, не преодолев соблазна, завершил советом поменьше обитать в недрах Союза писателей, а побольше сидеть в Гульришпи и увязывать, согласовывать, в основном, не казенные дела, а рифмы с рифмами: «Главное счастье, видимо, в этом!»
Еще одно письмо было — в управление по охране авторских прав — кому, куда и сколько переводить из поступающих гонораров. Среди реципиентов, наряду, естественно, с матерью и отчимом, с сыном Алексеем, которому стукнуло уже к тому времени восемнадцать, с дочерью Машей, которая была двумя-тремя годами его моложе, в этом списке была единственная уцелевшая после тюрем и ссылок его тетка Людмила Леонидовна Телеман-Оболенская, а также мать Валентины, бывшая его теща, актриса Клавдия Михайловна Половикова.
1450 рублей ежемесячно он поручил платить Нине Павловне, которая вместе с ним ушла из «Нового мира» и теперь назначалась его личным секретарем.
— Раньше вы были моим секретарем в изгнании, теперь я буду вашим боссом в таком же положении, — пошутил он, и она почувствовала, что в этой шутке есть для него немалая доля правды.
Передавая смущенной его заботами Нине Павловне письмо для отправки в Моссовет, он попросил ее до их возвращения из Узбекистана «или хотя бы до тех пор, пока эти письма, наконец, сработают», жить с Юзом в его квартире, в кооперативном писательском доме.
— За квартирой, знаете ли, глаз нужен, — объяснял он с серьезным видом, не допускающим ни отказов, ни благодарностей, но со смешинкой в голосе.
В самый канун отъезда, дома, перед прощальным ужином, на который были приглашены самые близкие люди, он взял экземпляр верстки «Избранные стихи» и написал на титульном листе: «Дорогой Нине Павловне в последний день десятилетней совместной работы, эту последнюю, еще не вышедшую книжку, с дружбой (старой) и верой в совместную деятельность (новую)».
Прощай, Москва! Прощай, «Новый мир»! Прощайте все, близкие и далекие. Здравствуй, новая жизнь.
Багаж отправили по частям раньше, он, наверное, уже там, по новому адресу: Ташкент, улица Алишера Навои, общежитие Совета Министров Узбекистана. Там уже хлопочет Маруся.
Предвидя, что всякого рода организационные хлопоты ждут его на первых порах и в Ташкенте, он решил вылететь сначала один. Лариса с дочками могут прибыть позднее. Лариса, правда, бурно протестовала против такого решения, но он настоял на своем.
Было у него испытанное средство справляться с бытовыми передрягами, никогда не откладывать ради них настоящие дела. Встреченный в аэропорту Ташкента собкором «Литературки» Хамидом Гулямом, он выгрузил с его помощью из самолета многочисленные корзинки, картонки и чемоданы, которыми наградила его Лариса, доставил их в дребезжащей «Победе» Хамида на улицу Алишера Навои, 14, где в общежитии Совета Министров ему предстояло обосноваться на первое время, и утром следующего дня отправился в сопровождении того же Хамида Гуляма, на той же его таратайке в Голодную степь. Пусть никто не усомнится, что звание спецкора «Правды» он возложил на себя не ради красного словца и полагающиеся ему в этой роли зарплату и командировочные намерен отрабатывать честно.
Он еще вчера не верил до конца, что улетит в Ташкент, до последней минуты боялся — или надеялся? — что вот-вот стрясется что-нибудь такое, что задержит его: то ли посланец от Хрущева объявится, то ли из ЦК или из Союза позвонят и скажут: «Надо ехать, больше некому» — в какую-нибудь Боливию или в Египет, на очередную встречу борцов за мир. Теперь на какое-то время он был вне досягаемости. «Победа» Гуляма, мобилизовав все свои силенки, бодро бежала по начинавшей уже пылить дороге. Вокруг расстилались такие милые его сердцу, такие пронзительно знакомые еще с первого его приезда сюда в конце 1942 года места, которые даже не знаешь, как и назвать, если мерить российскими мерками, — поля, степи, пустыни... Нескончаемые квадраты черной, еще голой, с осени не вспаханной земли — хлопковые карты, обрамленные поясочками едва зазеленевшего тутовника, журчащие у корней деревьев арыки, В поселках — непрерывные глинобитные дувалы, за которыми — загадочная, недоступная пониманию европейца, сколько ни пытайся проникнуть в глубь ее, жизнь. Врывающиеся в машину звуки — блеяние овец, воркование голубок, запахи — то дымком саксаула, то вызывающим слюнку плавящимся бараньим салом.
— Свобода, свобода! — беззвучным криком звучало в груди.
Душу грела мысль о заботливо припасенном НЗ, лежащем в багажнике. Единственный, кроме трех экземпляров рукописи «Живых и мертвых», багаж, с которого ни в самолете, ни по прилете, на улице Алишера Навои, не спускал он глаз. Гостеприимством узбеки славились. Но по старой фронтовой привычке он всегда предпочитал прибывать на место событий, будь то осажденный врагом Сталинград, или только что взятая Варшава, или сам господин Берлин, со своим горючим в неизменной фляге приличной емкости и харчем, обязательно не совпадающим с тем, что ему могут предложить.
По мере приближения к столице Голодной степи ландшафт незаметно менялся. Просторы вокруг становились все пустыннее, земля — голой, белесой. Страна жила в те годы подъемом целины. Эпицентр событий был, разумеется, в Казахстане, на Алтае, но и здесь супеси и солончаки Голодной степи решено было распахать под хлопок.
Внезапно появившийся перед ними Янгиер ничем не напоминал привычные узбекские поселения. Ни дувалов, ни садов, ни арыков, ни собачьих мохнатых стай, клубком катящихся за машиной.
Посреди и вокруг этой несколько обескураживающей неустроенности бросалось в глаза обилие недавно высаженных деревьев. Он легко узнавал, хотя никогда не считал себя знатоком природы, тополя, ели, сосны... Названия других заботливо подсказывал всезнающий Хамид: чинара, карагач, туя...
Землянки, вагончики были неизбежной и естественной приметой освоения новых мест, новых земель. То, что строители с самого начала позаботились о том, чтобы посадить деревья, привлекло внимание особо.
— Там, где растет дерево, будет жизнь, — сказал он часом спустя в кабинете главного хозяина этих мест, начальника организации с причудливым, с ходу просящимся в очерк названием «Главголодностепстрой», Акопа Саркисова, который возгласами и объятиями приветствовал гостя.
Хамид Гулям на следующий день уехал — дела, задания «Литературки». Он остался, поселился в щедро выделенной ему землянке и с удовольствием повел забытую жизнь спецкора. В кирзовых сапогах, в брезентовой спецовке, в каком-то немыслимом картузе, предложенном ему Саркисовым, его, как принято было писать в производственных романах, можно было увидеть и в ключевых, и в самых неожиданных пунктах гигантски размахнувшейся стройки. Приходили на помощь старые навыки, восстанавливались, казалось бы, утраченные и забытые навсегда рефлексы. Душа вела себя, как мышцы некогда тренированного, а потом начисто забросившего физические упражнения человека, — она побаливала, поламывала, отходя и оживая вместе с воспоминаниями. Сама эта боль, как здоровая физическая усталость, была и отдохновением, и радостью. Приходили в голову несвязные, тоже уже полузабытые обрывки собственных стихов предвоенной и военной поры.
Он, мельком оглядев свою каморку,
Создаст командировочный уют.
На стол положит старую «Вечерку»,
На ней и чай, а то и водку пьют.
Сколько же лет тому, дай бог памяти, были написаны эти строки? Никак не меньше двадцати. Куда была та командировка — уже и вовсе не припомнить — в Среднюю Азию, на Магнитку, на Кавказ?
Мужчине — на кой ему черт порошки...
И все-таки, все-таки верно сказано, что в одну воду дважды не войдешь. Сколько ни таись, сколько ни притворяйся рядовым московским корреспондентом, все равно тебя узнают, достанут, пригласят в гости, устроят читательскую конференцию, заставят читать стихи и в первую очередь, конечно же, «Жди меня», и «Ты помнишь, Алеша...», и «Если бог нас своим могуществом...»
Его на все хватало в недели, проведенные в Голодной степи, в гостях у матерого строителя Саркисова. Как бы ни затягивалась иной раз читательская конференция, он ни разу не позволил себе отказаться от непременно следовавшего за ней угощенья. И поскольку в самой столице целинной «посидеть» в сущности было негде, выезжали на машинах поближе к старым, давно обжитым местам. Хмурые, неприступные дувалы оказывались не такими уж хмурыми и неприступными. За открывавшимися радушно воротами оказывались уютные, засаженные вишней, черешней, грушей, карагачем дворики с тандырами, узбекскими печками для выпечки лепешек, с топчанами-караватами, устланными пестрыми стегаными одеялами. Они стояли либо у небольшого бассейна, хауса, либо оседлывали весело журчащий арычок, в котором так удобно было охлаждать «Столичную». Расходились после неторопливых, полных скрытого значения бесед, порой за полночь. Но рано утром, в положенный час, он направлялся по заранее намеченному адресу пешком или на машине — в аккуратной спецовке, с неизменным блокнотом, которого, как правило, хватало на один день. Взял себе за правило сразу же — по мере созревания замысла и накопления материала — отписываться. Передавал материалы в «Правду» по телефону, терпеливо, по буквам, как в незабвенные фронтовые времена, повторяя по требованию редакционной стенографистки узбекские имена и названия, либо с оказией, через Гуляма.
Очерки К.М. публиковались в «Правде» под рубрикой «Что такое Голодная степь». Когда в Янги-Ер пришел номер газеты с первым его очерком, он радовался, как новичок. Опасался рекламаций, но слышал вокруг себя одни восторги, которые предпочитал относить не столько на счет истинных достоинств своей публицистики, сколько на счет общего своего реноме.
Ни разу не пожалел, что не тотчас же уселся за роман, а приехал поначалу в Голодную степь. Сейчас ему не нужно было для работы над романом ни рукописи, ни даже стопки чистой бумаги. Беседы с целинниками, сидение над очерками о Голодной степи не могли ни приостановить, ни замедлить непрерывной работы, которая шла в нем. Он знал, что он вычеркнет по возвращении в Ташкент, что переставит местами. Он мог бы с ходу, в любое время дня и ночи продиктовать Нине Павловне новые мысленно написанные им главы. У него не было опасений относительно того, что он может что-то забыть или спутать. Таким было его состояние в те три без малого месяца в Голодной степи. Он купался в нем и, боясь неосторожно прервать его, не торопился в Ташкент.
Все хорошее в нашей жизни, так же как, к счастью, и плохое, рано или поздно кончается. Должна была приехать Лариса с девочками. Из Ташкента сообщали, что местные власти подобрали ему квартиру, куда можно переезжать из совминовского общежития. По словам Маруси, с которой он поговорил по телефону, квартира была ничего себе, но она категорически отказалась туда перебираться, пока он не посмотрит ее своими глазами.
Через несколько дней после звонка Маруси он уже трясся на той же неувядаемой Хамидовой «Победе» в Ташкент. Он ехал, вспоминал дорогой теплые — с обязательными шашлыками, мантами, пловом — проводы, которые ему устроили строители, и думал о том, что такой поры у него уже больше не будет.
Домик на Полиграфической улице, предоставленный любезно в его распоряжение по указанию первого секретаря ЦК партии республики Мухитдинова, был невелик для его разросшейся семьи. К тому же Лариса тоже настроилась на работу, твердо решила закончить здесь большой искусствоведческий труд, что никак не удавалось ей в Москве. Она привезла с собой немалый архив и нуждалась хоть в небольшом, да кабинете. Пришлось уступить ей комнату, которую он примерял для себя.
Выручило то, что в доме было большое и сухое подвальное помещение, По сорокаградусной жаре, которая установилась в Ташкенте с конца мая, прохладный этот подземный чертог, как называл его К.М., был просто спасением. Преобразовать его в рабочий кабинет, то есть побелить, снабдить самым необходимым из мебели — стол, стулья, кресло для отдыха, маленький столик для магнитофона — было уже делом несложным. Здесь, в этой почти монашеской келье, без телефона и радио, изолированный от всех шумов и сигналов мира, он проводил ежедневно, если не выезжал в командировки, по несколько часов.
Остальные радости и горести земные, выпадавшие и здесь на его долю, были лишь приложением к этим часам. Удалось наладить тот идеальный в его представлении ритм жизни, к которому он всегда стремился, но который так редко удавалось осуществлять. Заботы о чадах и домочадцах, игры с девочками, продолжительные собеседования с Ларисой по поводу ее труда, который по-прежнему шел у нее туго, — это тоже свободно и естественно укладывалось в порядок жизни, не усложняя, а дополняя, гармонизируя ее.
— Хоть пиши обо всем этом отдельный роман а-ля Кочетов, — пошутил он однажды, выходя с женою и дочерьми на ташкентские бродвеи, наполненные яркими красками цветов, фруктов, пестрых женских платьев, гулом разноязыкой, на высоких тонах речи.
Каждый узнавал его, но, о прирожденный такт Востока, люди старались не дать ему это заметить, не отвлечь уважаемого гостя от его высоких дум.
Первым и ощутимым толчком, в результате которого столь надежно, казалось бы, выстроенное здание новой жизни дало трещину, были завезенные каким-то московским литератором вести — или слухи? — из Москвы. Роман Пастернака «Доктор Живаго», отвергнутый два года назад редколлегией «Нового мира», его «Нового мира», и столь жестко отрецензированный им, Симоновым, и его соратниками в форме открытого письма автору, будет печататься или уже напечатан в каком-то итальянском издательстве, кажется, Фильтринелли, куда он попал незаконно, но с ведома автора.
Сколько ни прислушивался К.М. к себе, сколько ни размышлял, никак не мог понять, почему эта весть так задела его. И только когда через некоторое время, ближе к осени последовал по этому поводу звонок из Москвы, он понял, что же его так тревожило и тяготило. «Старое начинается сызнова», — подумал он словами шолоховского Якова Лукича. Из Москвы запрашивали его согласия на публикацию в журнале этого самого письма Пастернаку. Сказали, что все остальные авторы — Федин, Лавренев, Агапов — согласие уже дали.
Его отношение к роману за два года не изменилось да и вряд ли изменится. Поступок Пастернака, а из Москвы подтвердили, что все было именно так, как ему раньше рассказывали, только усугубил положение. Так что у него нет возражений. Решать это не ему, решать это самому «Новому миру», в котором теперь Саша Твардовский. Где сам Саша, почему он не позвонил? Он, — ответила Москва, — в заграничной командировке. Но он в курсе.
К.М. положил трубку на рычаг и постарался позабыть о разговоре. Это оказалось не так-то легко. Из Москвы продолжало погромыхивать. Настоящая гроза, он чувствовал это нутром, еще впереди. Он поймал себя на том, что уже без прежнего нетерпения и удовольствия ожидает почту из Москвы. Как ни велика была в нем, говоря ленинскими словами, благородная страсть печататься, он знал, что грядущая публикация радости ему не принесет.
Когда же поступил в Ташкент номер «Нового мира» с полузабытым уже текстом коллективного письма Пастернаку, те же противоречивые чувства охватили его, что и год назад, когда кто-то положил перед ним на стол листок со стихами Евтушенко. Он запоздало подумал, что следовало бы посоветоваться с Ларисой, прежде чем давать согласие на публикацию документа. Так сложилось, что он никогда не советовался с Валентиной о своих литературных делах. С Ларисой — другая ситуация, но былые рефлексы все же срабатывали. Чутье подсказывало ему, что она была бы против, как, наверное, воспротивилась бы и тому, чтобы вообще писать подобное письмо. Если бы она была рядом... Но тогда ее еще рядом не было.
Правда, несогласие ее только бы усложнило ситуацию. Хорош бы он был в глазах соавторов, да и в своих тоже, если бы отказался теперь печатать письмо. В критический момент, когда на Западе и у нас вокруг Пастернака началось политическое кликушество, никакого отношения к литературе не имевшее! Их письмо было серьезным разговором писателей с писателем, по большому счету — о жизни, о революции, о судьбах родины, о прошлом и будущем народа. Разговор мужской, лишенный оттенка какого бы то ни было обличительства. Автор прислал в редакцию свое детище на суд, редакция дала свою оценку — спокойную и нелицеприятную. Просто сказали, что нам это не подходит, и объяснили почему. В отношениях между редакцией и автором есть — никуда от этого не денешься — деловая сторона, фактор купли-продажи. Он предлагает, она берет или не берет, мотивируя, естественно, свое решение. Чем больше ясности в таких делах, тем лучше.
Ну, а когда автор сделал новый шаг, прямо скажем, необычный, некорректный шаг, — отдав роман за рубеж, когда там, на Западе, стали писать и говорить, что в СССР, мол, было отвергнуто гениальное произведение, надо было, хочешь не хочешь, и редакции прояснить свою позицию, что она и сделала.
Тот факт, что письмо было опубликовано нынешней редколлегией «Нового мира», лишь укрепляло авторитет документа. Теперь уже и новая редколлегия во главе с Твардовским как бы поставила под ним подпись.
К.М. бросил журнал на письменный стол в рабочем кабинете. Решил, что сам заговаривать на эту тему с Ларисой не будет. Хотел ли он, чтобы она проявила инициативу? Пожалуй, хотел. Весь этот внутренний монолог, в конце концов, был предназначен ей и прежде всего ей. Она молчала, хотя наверняка заглянула в журнал, и ее молчание, дальше больше, становилось красноречивее слов. Ход событий осенью 58-го года приносил из Москвы чуть ли не ежедневно такие вести, создавал здесь, в Ташкенте, такие ситуации, в которых не заговорить о Пастернаке казалось просто физически невозможно.
Она молчала.
В октябре стало известно о присуждении Пастернаку Нобелевской премии. Роман оказался просто-напросто игрушкой в руках чуждых сил. Это настолько очевидно, что всякие сомнения насчет правомерности публикации письма сами собой рассеивались. Действие не могло не родить противодействия.
Облегчение от этой мысли, однако, было сиюминутным. В Лужниках выступил комсомольский вождь Семичастный. В присутствии Хрущева. На торжественном собрании, посвященном сорокалетию комсомола. Бог мой, что было общего у двух событий? Разве площадная брань, которую К.М. собственными ушами слышал по радио, имела хоть какое-то отношение к юбилею комсомола? Отвратительный рецидив, казалось, канувших в лету заклинаний 37–38-го годов. Самым ужасным было то, что молодежь самозабвенно аплодировала оратору, самым беспардонным его перлам: «Свинья не сделает того, что он сделал... Он нагадил там, где он ел...»
Собрание московских писателей, состоявшееся следом, 31 октября, не транслировалось ни по радио, ни по телевидению. Но те же телефонные звонки моментально донесли до К.М. все в подробностях. Писатели в красноречии не уступали бюрократу. Первого ноября резолюцию писательского заседания опубликовала «Литературка», где теперь командовал Кочетов. В резолюции были такие, например, места: «Давно оторвавшийся от жизни и от народа, самовлюбленный эстет и декадент Б. Пастернак сейчас окончательно разоблачил себя как враг самого святого для нас — советских людей...» Или вот, о Нобелевской премии: «Окончательно став отщепенцем и изменником, Б. Пастернак протянул руку к тридцати сребреникам».
Счастье еще, что в резолюции не было ссылок на новомировское письмо. Хотя ему говорили, что ораторы на этом собрании на него прилежно ссылались. И он не удивлялся этому. Хорошо изучил психологию толпы, даже если она состоит из литературных светил первой величины.
То, что должно было служить одной лишь цели — убедить Пастернака в его роковой исторической неправоте, — респектабельность подписей, взвешенность и глубина аргументов, — теперь служило прямо противоположному.
Нервы у него не выдержали. Улучив вечером момент, когда Лариса была в своем кабинете «наверху» одна, он вошел к ней и плотно закрыл за собой дверь. Он откровенно признался, что боится... Боится того, что Пастернака могут арестовать. Но еще больше он боялся, что того же самого боится Пастернак, который, не выдержав напряжения, может наложить на себя руки. Имена Дантеса и Мартынова не назывались в том их затянувшемся разговоре, но дух их витал в тесной комнате. Ему стало легче, когда разговор перешел в практическую плоскость, и они решили, что завтра, вернее, уже сегодня утром он пойдет на телеграф и пошлет в Москву телеграмму. Они все не могли договориться, по какому адресу — К.М. склонялся к Старой площади, а Лариса— к улице Воровского, — с протестом против безобразной вакханалии. После чего надо будет попросить у здешнего Первого секретаря разрешения поговорить по «вертушке» с ЦК — на как можно более высоком уровне.
Спать они в ту ночь легли на рассвете. Утром услышали, что по радио передают напечатанное в «Правде» письмо Пастернака. Внимая словам диктора, он, наверное, выглядел как заблудившийся в песках Сахары путник, который набрел на последнем издыхании на оазис.
Пастернак не отказывался от своего романа, и нелепо было бы ожидать этого. Он отказывался от премии, говорил, что не хочет далее быть поводом и предлогом для нападок и инсинуаций на его народ, на его Родину, ее прошлое, славное настоящее и будущее.
Совершенно нежданным было его обращение к их письму: «Редакция «Нового мира» предупредила меня о том, что роман может быть понят читателями как произведение, направленное против Октябрьской революции и основ советского строя. Я этого не осознавал, о чем сейчас сожалею».
Сколько камней с души может упасть в течение каких-нибудь нескольких минут?! Письмо Пастернака в «Правду» возвращало все на круги своя. На какое-то мгновение показалось, что его строками воссоздан тот идеал отношений в литературе, о котором он всегда мечтал. Когда полемика — это соревнование интеллектов, сопоставление взглядов, вкусов — и ничего более. Пастернак как бы отодвинул одним брезгливым жестом руки все наносное, всю эту грязную пену, взбитую корыстной и ничтожной суетой и там, и здесь, у нас. Признав, что не только романом, но и поведением своим подал-таки повод для всей этой свистопляски, явил то мужество, которое он, К.М., больше всего ценил в мужчинах.
Внимательный, таящий в себе загадку взгляд Ларисы, которая после того, как умолк голос диктора, не произнесла ни слова, вернул его с небес на землю.
Какой там чистый спор, какая схватка интеллектов, какое мужество! Пастернака просто заставили написать все это, покаяться... И он не нашел в себе сил устоять против этого... Положил голову на плаху.
Нет, она не осуждает Пастернака. Но и восторгаться его вынужденным, вымученным покаянием не собирается. Ей теперь ясно — писать и обращаться к кому бы то ни было уже поздно. Пастернака не тронут после его письма. В остальном ему уже никто помочь не в состоянии. Он и не принял бы такую помощь. Тем более от него, от Симонова. Ни Лариса, ни он не произнесли этих последних слов, но когда они грустно, с горечью посмотрели друг на друга, эти слова стояли между ними.
Он во всем — почти во всем — был согласен с Ларисой. Но никто не мог лишить его права доспорить с Пастернаком строкою прозы.
Когда вез с собой в Ташкент рукопись будущего романа, он полагал, что главная его задача теперь — убрать длинноты, избавиться от второстепенных линий, поставить акценты на ключевых фигурах. Он тешил себя мыслью, что сделать это будет не так уж трудно. Проштудировав основательно текст, он с удивлением обнаружил в нем сразу три начала. И, собственно говоря, ничего больше. Действие крутилось вокруг первых месяцев войны, вокруг старых его и читателя знакомых — Синцова, Полынина, Артемьева. Они поочередно входили в войну на разных ее направлениях, попадая в сходные, иначе и не могло быть, перипетии, испытывая во многом похожие, и это тоже было естественно, чувства — растерянности, горечи, гнева, озлобления. Герои поочередно прощались с близкими, отправлялись на фронт, по дороге попадали под бомбежку или оказывались в окружении, в рядах отступающих войск. Судьба военная, по воле автора, то и дело сталкивала их друг с другом, они размышляли и говорили о происшедшем, но ничего особенно путного из их разговоров не вырастало.
В чем же дело? К.М. стало ясно: напрасно он столь ревностно придерживался тезиса о том, что новая вещь — продолжение его предыдущего романа «Товарищи по оружию». Понапрасну связал себя со всеми героями той вещи, многие из которых хотя и остались живы после войны на Халхин-Голе, психологически исчерпали себя полностью.
Другая ошибка: слишком широкой оказалась география романа. Воображая себя эпиком, он просто не поборол соблазна пройтись еще раз по всем местам, где однажды побывал. Трассы его героев пролегали по тем самым фронтам и направлениям, по которым он сам прошел в первые месяцы войны и о чем тогда же написал — сначала серию газетных очерков, потом публицистическую книгу «От Черного до Баренцева моря (записки военного корреспондента)». Вот она, Золушка, лежит перед ним в спартанском издании 1943 года.
Третий просчет был, пожалуй, самый обидный. Задумав ни много ни мало эпос о Второй мировой войне, он самонадеянно положился только на личные впечатления, личные записи. С одной стороны, они уже были основательно пущены в оборот, а с другой — были мелковаты, во всяком случае, недостаточны. Солидная временная дистанция пролегла между той порой и сегодняшним днем. И не только временная.
Строго говоря, писатель не должен полагаться целиком и полностью на чужие мнения даже самых близких ему по духу людей. В конце концов, если бы кто-то из них в точности знал, что хорошо, что плохо, что нужно, что нет, мог бы сам сесть и написать твой роман.
Твое собственное представление о вещи тоже может быть обманчиво. Тебя бросает из одной крайности в другую. И то, что сегодня кажется совершенно законченным, имеющим самостоятельную ценность произведением, завтра представится лишь ворохом мало связанных друг с другом эпизодов.
Правильно он сделал, что «вынул» из рукописи, доделал и напечатал как повесть «Левашова» и другие куски, что бы ни говорили по этому поводу кочетовские прихлебатели. Начатая «автоматчиками» травля, а иначе это не назовешь, возродила к нему симпатии массового читателя. Народ любит гонимых. Во многих письмах обвинения в очернительстве ему предлагали воспринимать как награду. До каких пор вместо правдивых характеров в реальных обстоятельствах от писателя будут требовать манекенов? Побуждать его приукрашивать ход войны, особенно ее начало, предлагать восхищаться полководческими деяниями генералиссимуса, который, обагрив свои руки в крови, выбил перед самой войной три четверти командного и комиссарского состава армии! До каких пор? Таков примерно был лейтмотив читательской почты, среди которой были, однако, и письма в духе Стаднюка и Кремлева.
Его размышления над этими письмами, заметками в печати, устными откликами тоже были работой над романом.
Он сам рвался к этому — познавать и писать правду о войне. Но он и представить не мог раньше, как велика жажда истины, неприукрашенной правды у читателей, у всех — у молодежи теперешней, которая лишь краешком, лишь ранним детством зацепила войну, у ветеранов, у тех бывших пехотинцев, моряков, летчиков, штабистов, с которыми он беседовал в Москве под стенограмму и магнитофонную запись.
Правды, той самой правды, которой проблеск его читатели заметили в «Левашове», все еще не хватало его детищу. С короткого эпизода войны — один спрос, с эпопеи — другой. Он уяснил простую истину — до нее каждый художник дозревает в одиночку, — что эпичность повествования — это не панорамность событий и не «многолюдье». Это — мера проникновения в глубь событий, характеров, судеб, самой истории.
И тогда-то, уже в Ташкенте, полетели из его гигантской рукописи, которую он про себя называл Голиафом, не только лишние два начала, но и многое другое. На первый план вышел один герой — Синцов, который в силу трагических и одновременно обыденных для начала войны обстоятельств: окружения, ранения, гибели целых частей — сменил авторучку сначала на трехлинейку, а потом на автомат. Герой, воюющий лишь «с лейкой и блокнотом», сужал возможности. Автору нужен был взгляд не со стороны, пусть он и сам прошел всю войну именно таким образом, а изнутри. Так, неожиданно для него самого, роман «Живые и мертвые», который раньше назывался «Зимой 1941 года», из панорамы трагических событий начала войны стал зеркалом всего нескольких судеб — Синцова и тех, с кем свела его война.
Первым и самым крупным среди них станет комбриг Серпилин — тот самый полковник Кутепов, с которым он встретился в июле 1941 года под Могилевом и в котором увидел прообраз той силы, что, невзирая на все, сомнет и уничтожит фашизм. Синцов прошагает рядом с Серпилиным без малого всю войну. Кое-что он изменит по сравнению с Кутеповым и в биографии Серпилина. Введет сталинский лагерь, из которого героя «выручит» востребовавшая его война. Так было со многими военоначальниками, самым ярким представителем которых был, конечно же, Рокоссовский.
К.М. обнаружил, что, сидя над рукописью, он постоянно сравнивает себя сегодняшнего с тогдашним, вернее, тогдашними — Костей и Военкором. Они ожесточенно спорили друг с другом. Константин Михайлович, который в равной степени принадлежал и тому, и этому времени, пытался стать судьей, посредником в споре. Но хладнокровия ему недоставало...
Так что верх как будто бы брал К.М. Ему, современнику двадцатого съезда, о минувшей войне, ее тайных и явных пружинах было известно несравнимо больше, чем очевидцу войны. Повзрослевший физически всего на каких-нибудь тринадцать-восемнадцать лет, а духовно — на целую эпоху, он дивился и становился в тупик перед наивностью и легковерием Кости и Военкора. Странно, что тогда они ничему не удивлялись, даже самому невероятному. И за некую доблесть полагали способность принимать все происходящее, как бы оно ни было ужасно, за должное, за реальность — как подобает мужчине, солдату, коммунисту: мерехлюндии оставим для хлюпиков, баб и штафирок.
Когда там было размышлять и рефлектировать, парировали Костя и Военкор, враг лютый за считанные недели докатился до пригородов Москвы, и долг был в одном — трубить о смертельной опасности, звать на последний смертный бой, повторять бесчисленное количество раз, на все лады: УБЕЙ немца.
Сколько раз увидишь его,
Столько раз и убей!
Нет, ни тот, ни другой Симонов отнюдь не спешили поднимать руки вверх перед ним нынешним — К.М., чья мудрость задним числом порою представлялась им лицемерной. Было в этой мудрости и в этом всезнании что-то оскорбительное для великого подвига и великих страданий народа. Бунтовал в Косте и Военкоре не только человек, но и поэт, творец, чей голос был услышан народом, страной. Это тоже была реальность, которую ничем не дано заслонить. То есть на какой-то короткий срок такое может случиться. Но — слово твое жило годы, его находили в мятых, залитых кровью солдатских треугольниках, его, как молитву, твердили в окопе на передовой, в партизанской землянке, в лагере смерти. Строки твои и сегодня повторяют влюбленные. Для этого нужен чистый замес и дрожжи, которые, быть может, упали с неба.
О чем шел спор? О том, что помимо главной, очевидной, безмерно страшной, но всем понятной и объяснимой беды, которая обрушилась на страну в июне сорок первого, с ней-то и схватились Костя и Военкор, помимо этой смертельной опасности существовала другая, дьявольская напасть, невидимая и вездесущая. Еще до того, как пришла явная и объяснимая драма, она высасывала из страны живительные соки, уносила, словно тать в нощи, людей, обезлюживала города и веси, иссушала плодородные нивы и напускала такого дурмана, что лютый враг казался людям самым дорогим и великим другом, а друзья — врагами народа. Ты — во всех твоих ранних ипостасях, ничего этого не видел и не замечал? Убаюканный собственной песнью? Чем же она в таком случае была лучше того самого дурмана?
Не замечал, не знал или не хотел замечать и видеть? — вот к чему все в конце концов сводилось. К.М. отдавал себе отчет, что именно на этот вопрос он обязан прежде всего ответить — и себе, и читателям.
Ответа, который был бы убедителен, все не приходило. Может, его вообще не существует в природе? Правдой было и признание своей слепоты, и ее отрицание. Потому что и в жизни в слиянии пребывало зло и добро, высоты духа и бездна падения, верность и коварство, величальная человеку и неслыханное издевательство над ним. Можно без конца продолжать эти пары. Приказ № 227 «Ни шагу назад!» воззвал к святая святых в человеке и тут же поставил за рядами наступающих шеренги загранотрядов, чтобы стреляли в затылок тем, кто при броске в атаку замешкается хоть на мгновение.
Высокое и низкое, прекрасное и отвратительное — они всегда были вместе на земле, но никогда еще, ни в одной стране, ни в одну эпоху не вступали в такое немыслимое, сатанинское переплетение. Поистине, только бес мог такое придумать на погибель людям — и правым и виноватым. Пробегала кощунственная мысль — даже в гитлеровской Германии было проще — там, по крайней мере, любое дело не расходилось с мерзким словом. Там евреев истребляли, объявив во всеуслышание низшей расой. Да и русских, всех славян отнесли, не стесняясь, к недочеловекам.
Здесь же воспевали — и в речах, и в поэтических гимнах равноправие, единство и дружбу, «союз нерушимый республик свободных», а целые народы срывали с родной земли, гнали, как скот, на чужбину, истребляли на месте. Под ликующие звуки Победы возвращались недавние узники фашистских концлагерей, и тут же под самыми изощренными предлогами, чуть ли не походным строем их отправляли в лагеря, за колючую проволоку.
Хотелось теперь все это выкрикнуть разом. Крик застревал в горле. Так появилась и окрепла мысль, что роман должен быть не итогом, а процессом познания, этапом на пути к истине. За первым будет второй, а может быть, и третий... Первый роман — как первый круг ада. Настанет время — и Синцову, и Серпилину — остановиться, онемев над бездной, поразмыслить над лицом и изнанкой жизни. Но сегодня они воюют и почитают за честь, что есть у них это право воевать. И недосуг им, сгибаясь под ратной ношей, рассуждать о силе, которая чуть было не лишила их этого права — один пришел на войну из сибирских лагерей, другой вернулся на нее, выйдя из окружения, что повлекло за собой унизительное расследование и исключение из партии.
Война, распадающаяся на десятки и сотни малых и больших сражений и схваток, всегда кровавых, всегда беременных смертью и то и дело разрешающихся ею, составляла и содержание и образ жизни его героев, входила в повествование, чтобы до конца остаться в нем главным действующим лицом. Одна на всех, она заслоняла собой всяческого рода индивидуальные подробности: зоны за колючей проволокой, военные трибуналы, загранотряды и пыточные. Но только до поры. Потому что эти так называемые подробности, эти ужасы и мерзости, ничего общего не имеющие с лишениями и страданиями самой войны, не канули бесследно. Они живут в человеке и неотвязно, словно ржавым гвоздем, колют его душу и сердце, которые, оттаивая постепенно в «нормальных» фронтовых обстоятельствах, становятся все чувствительнее к этой боли.
Герои его прежней военной прозы отличались от нынешних тем, что у них как бы не было биографии и вся их жизнь состояла из двух этапов: сегодняшнего — война, и вчерашнего — подготовка к войне.
Там тоже были люди разные — честные и криводушные, сильные и слабые, храбрые и не очень. Но все эти качества существовали как бы сами по себе, как нечто изначально данное. Там если награждали, то всегда достойного, если отдавали под трибунал — то труса или негодяя. Если и хорошего человека наказывали, то задело, как Сергея, например: не прыгай через реку на танке!
Здесь жестко спать, здесь трудно жить,
Здесь можно голову сложить.
Здесь, приступив к любым делам,
Мы мир делили пополам.
Милый, милый, такой правильный, такой понятный, но, увы, без остатка растаявший мир.
И непонятно задумавшимся над ним Косте, Военкору, Константину Михайловичу и К.М., жалеть ли об этом или радоваться. Всякий со своей правдой в голове, каждый тянет в свою сторону.
Как ни очевидна была теперь для К.М. пагубность сталинского всевластия и подозрительности, не мог он позволить себе приписать это всезнание своим героям, свести все страдания и тяготы военного лихолетья к этому одному обстоятельству, как бы страшно оно само по себе ни было. Было что-то возникавшее независимо от его воли и сознания, что удерживало его от нагромождения ужасов такого рода. Если солдаты и шли в бой с возгласом «За Сталина!», то сражались и погибали-то они за народ свой, за Родину, за близких, за отчий дом, за дым отечества... И если и маячил перед тем же Серпилиным отвратный лик Бастрюкова или какого-нибудь другого уполномоченного СМЕРШа или особиста, все же главную опасность в его глазах представляли тогда не они, а те ефрейторы, обер-лейтенанты, генералы, от которых мы драпали в первые месяцы войны и которых потом выкуривали, как крыс, из блиндажей и землянок под Сталинградом.
Его героем, он снова и снова повторял себе это, будет обыкновенный человек на войне, а сама война будет показана, как она есть, без всяких прикрас и оглядок на соображения идейного плана, с какой бы стороны они ни исходили. Правда — вот высшая идейность. И во имя нее он не давал себе воли, когда так или иначе подходило к тому, чтобы живописать мерзости сталинского произвола и лишения его жертв. Он не мог, не имел права сказать больше того, что способны были подумать и сказать тогда его герои.
Подобное воздержание — автора и его героев — представлялось К.М. своеобразным актом мужества. Уж так много развелось сейчас в среде пишущей братии любителей, говоря о минувшей страшной войне, разменять ее истинную трагедию и величие, сам подвиг солдатский на ужасы сталинско-бериевских застенков.
Так это все ему представлялось, когда он заканчивал «Живых и мертвых», сидя по утрам в полуподвальном, свежевыбеленном кабинете на тихой ташкентской улице.
В этот же период с рукописью в чемодане он ненадолго съездил в Москву, на III съезд писателей. Его впервые за много-много лет не избрали секретарем союза. Он сам удивлялся, как мало это обстоятельство оказалось способным испортить ему настроение. Тем более, что в эти же дни ему сообщили в «Знамени», что роман начинают печатать в ближайших же номерах. Впрочем, он и к этому сообщению отнесся с философским спокойствием. Отдав наконец рукопись в журнал, он порешил свое дело законченным.
Время сеять и время убирать. В жизни его теперь начиналась знакомая, но каждый раз пьянящая пора. Частые звонки из редакции, дискуссии по телефону о том или ином абзаце. Пакеты самолетом из Москвы в Ташкент, из Ташкента в Москву — сначала с версткой, потом сверкой. Иногда с очередной порцией рассыпающихся, пахнущих еще типографской краской листов прибывал кто-нибудь из редакционных мужей или дам. И тогда — застолье чуть ли не до утра — за шашлыками, им собственноручно изготовленными, с выбором и разрезанием яично-желтой, каждый раз с особым ароматом дыни, специальный ритуал, который он тут досконально освоил. Ну и, конечно, она, родимая, те самые боевые сто граммов, чарка за чаркой, с лукавой оглядкой на Ларису, которая сухого закона не соблюдала, но и к излишествам относилась нетерпимо.
Конвейер работал четко и споро. За первой журнальной тетрадкой, в апреле 1959 года, последовала вторая, потом третья. «Роман-газета» попросила разрешение напечатать «Живых и мертвых» полностью, а это означало чуть ли не миллионный тираж. Из «Международной книги» сообщили, что поступают заявки на издание романа за рубежом, в частности в Англии. Это был пока лишь первый, из девяти возможных, вал внимания, но в его поступи он уже слышал гул следующих.
И любо ему было по горячим следам, не откладывая, отвечать своим корреспондентам, откликаться на упоминания романа в периодике, а они становились все чаще.
«Дорогой Боря, — написал он, расчувствовавшись, Полевому, — был рад услышать в «Комсомолке» твой голос о «Живых и мертвых» и рад еще тому вдвойне, что это первое, что я услышал в печати. Сейчас все ладно и складно». Он уж забыл, когда у него что-нибудь подобное вырывалось. — «...Теперь отдыхаю немножко, остальное время сижу на заводе «Ташсельмаш». Там есть интересные люди, думаю посидеть месяца полтора».
Он чуть-чуть бахвалится своим ничегонеделанием. Приятное занятие для человека, который дня без работы не может прожить: «Сейчас я выдоен военным романом и только еще месяца через два начну прочухиваться». А второй из пресловутых девяти валов внимания уже накрывает его с головой. Письма читательские. Нина Павловна шлет их из Москвы пачку за пачкой. Он с одинаковым рвением прочитывает и целые школьные тетрадки пожилых любителей «разобрать» прочитанное по косточкам, и короткие, наспех составленные записки с изъявлением как восторгов, так и негодования.
Поток советов, вопросов о прототипах. Почти в каждом письме — о Сталине. Он буквально заболевал от иных, пугая Ларису и друзей отрешенностью, упадком сил.
«Ваши герои гадают, доложили Сталину или не доложили, знал товарищ Сталин или не знал... Мне неясно другое — почему Вы, большой писатель, говорите о Сталине в каком-то прощупывающем аспекте... Мне кажется, что Вы еще не свободны от того угара «всенародной любви», который витал над нашей страной целые десятилетия. Но Вы ведь лучше нас должны были бы знать, что любовь эта — плод обмана и воображения журналистов и писателей, результат манипуляций деятелей из ближайшего его окружения, вроде Маленкова, Молотова или Кагановича... Еще задолго до войны погибли лучшие наши военачальники, хозяйственники и наиболее способные государственные и политические деятели. Об их гибели он знал. Он санкционировал их гибель. Он оставил армию с одними Барановыми и Куликами. Вот почему немец оказался под Москвой...»
Или еще другое письмо: «Простите, что буду писать Вам неприятные вещи моему любимому писателю. Не для того, чтобы испакостить Вам настроение, а потому что не могу молчать. Ваш Сабуров, слушая речь Сталина в начале войны, думал о том, что он без раздумья пошел бы на смерть чуть ли не за одно дыхание Сталина. Сабуров мой сверстник. Я простила ему (не ему, Вам) эту чудовищную мысль по вполне понятным обстоятельствам. Попробовали бы Вы не написать такую вещь тогда, в 43-м или в 44-м. Ого! Найдись такой, — сказал Твардовский. Но вот прошло шестнадцать лет. Хрущев сделал свой доклад на съезде партии о культе личности... Правда страшная. Полетели под ноги в клочья разорванные портреты и черепки разбитых статуй... Чем же Вы объясните, что Синцов сидит и повторяет те же слова, что говорил Сабуров? Синцов — тоже мой ровесник. Я могу представить, о чем мыслят мои современники... Почему ни у меня, ни у моих друзей и знакомых не было этого идиотского желания отдать свою жизнь за одно дыхание... А у Синцова оно — чуть ли не главный жизненный двигатель. Отнимите у него эту молитву — и он заблудится... А ведь он — журналист, писатель!» Ясно, что женщина — автор письма, хоть она и объяснялась в начале в любви, метила не в героя, а в автора.
«Он должен был много ездить, много видеть и, следовательно, много думать. Иначе какой же он писатель? А он даже собственное свое несчастье не мог осмыслить. Не смел подумать даже наедине с собой об истинном виновнике народных бедствий. И за это я, его современница, его презираю. Ну, да бог с ним, с Синцовым. В конце концов, это лишь образ, выдумка. Но Вы-то, Вы-то, с первого до последнего выстрела находившийся среди солдат, как Вы-то не поняли этого?»
Его корреспонденты обычно мало сообщали о себе. У этой вот мелькнуло, что учительница. О других и того не узнаешь порой. Но адреса, адреса!.. Петропавловск, Казахской ССР, поселок Майский в Кабардино-Балкарии... Из какой глухомани пишут люди! Может, из глухомани-то оно виднее?
Читая подобные письма, он доходил порой до того, что впору было рассылать письма по издательствам и требовать остановить стук многочисленных типографских машин, печатающих по всей стране, на разных уже языках, его роман «Живые и мертвые». Он готов был поручить своим секретарям в Москве звонить по книжным магазинам и киоскам с тем, чтобы прекратили продажу книги.
Но та же почта приносила и другие письма, и их было неизмеримо больше. «Я, как и все советские люди, радовалась нашим успехам и достижениям, гордилась, что наша страна выстояла и победила мрачные фашистские орды. Вместе со всем народом я, маленькая песчинка в огромном океане, плакала у репродуктора, потрясенная смертью Сталина. А потом состоялся XX съезд. Я не могла ни понять, ни принять его. Так нас воспитали. Любовь к этому человеку, которого я никогда не видела, вера в него, гордость за него настолько прочно вошли в каждую клеточку нашей души и сердца, что вырвать ее было равносильно смерти. А нужно было жить. Долго я не хотела верить фактам, не хотела читать газет. А потом появилась Ваша книга «Живые и мертвые». Я впитала в себя каждую строчку этого замечательного произведения. Я полюбила его мужественных героев... Я плакала. И я выздоравливала. Ваша книга была тем лекарством, которое так необходимо было моей душе... Осколок вынут, и рана, хотя еще кровоточит, но уже не смертельна».
Взглянул на адрес — Эстонская ССР, город Валга.
Он вдруг подумал, держа в руках два этих письма, учительницы из Казахстана и этой женщины из Эстонии: его роман нужен, нужен как анестезия, которую делают больному перед операцией. Второй роман будет этой операцией. Его первый роман для таких, как эта женщина из Эстонии. Второй будет для всех.
То, что осенило его и уложилось в короткую, из двух предложений формулу, не раз в те дни ложилось на бумагу в самых различных вариантах. Он без устали, и еще в Ташкенте, и позднее, в Москве, в этом духе отвечал своим корреспондентам и все определеннее отдавал себе отчет, что уже началась работа над продолжением «Живых и мертвых».
«Да, правда о Сталине — это правда сложная, в ней много сторон и ее в двух словах не скажешь. Ее и надо писать и объяснять как сложную правду, только тогда она будет подлинной правдой».
«Я считаю, что наше отношение к Сталину в прошлые годы, наше преклонение перед ним в годы войны, а оно было, наверное, примерно одинаковым и у Вас, и у меня, что это преклонение в прошлом не дает нам права не считаться с тем, что мы знаем теперь, не считаться с фактами...» Это он уже отвечает своему критику с другой стороны, ветерану войны, который упрекает его в том, что, написав в страшном сорок первом «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?», он теперь «поливает его грязью».
Он сочинял и диктовал письма, давал интервью, но про себя понимал, что и в них, увы, тоже нет еще всей правды. Где она, в чем она? Он надеялся найти ее в работе над вторым романом, который будет называться «Солдатами не рождаются».
Пружиной его будут не внешние события, но духовная эволюция главных героев. Отстоявшим Сталинград, окружившим и уничтожившим группу армий Паулюса, им будет легче подойти к пониманию противоестественности той второй войны, которую Сталин вел против своего народа, то есть против каждого из них.
Сам же он теперь начинал осознавать, что и в ту пору, перед Сталинградом, и гораздо раньше его были люди, которые отдавали себе отчет в происходящем. Была ли слепота и глухота, поразившая и его вместе с другими, невольной или добровольной — вот на что он должен будет теперь ответить своим следующим романом. И прежде всего самому себе.
Ощущение, что ташкентское его сидение логически подходит к завершению, становилось все острее. В Москве Столпер затевал фильм по роману — требуется его присутствие. На выходе несколько книг из старого и из нового — сборник очерков о Голодной степи. Зовут дела в комиссии по литературному наследию Булгакова, в которые он как следует влез только здесь, в Ташкенте. Ларису с ее рукописью ждут в издательстве «Искусство».
В Москву, в Москву...
Приятно было вновь убедиться в своей популярности, привлекать всеобщее внимание. Куда ни появись — всюду вокруг тебя людские круговороты. Он не был обременен никакими казенными обязанностями, должностями, присутствиями и т.д. Существовали только обязанности долга, чести — с помощью Нины Павловны отвечал на письма, охотно выступал на читательских конференциях, хлопотал за давних и новых, дальних и близких друзей, рекомендовал и проталкивал в многочисленные редакции рукописи о войне. В своих «внутренних» и для печати рецензиях предрекал наступление новой волны мемуарной литературы, которая ничего общего не будет иметь с полулубочными сочинениями, что появились сразу после войны.
Одна за другой «набегали» заграничные командировки. То в Болгарию, то в Грецию, то в ГДР, то в Соединенные Штаты — столько-то лет спустя.
Том «Живых и мертвых» — очередное издание — неизменно лежал на его письменном столе, как псалтырь перед священником. Всегда можно с ощущением счастья прикоснуться к нему рукой — словно бы и не было ничего до этой книги.
Гаррисон Солсбери, знакомый по первой поездке в США, откликнулся на выход «Живых и мертвых» в нью-йоркском издательстве «Даблдей». Статья его в приложении к «Нью-Йорк Таймс» называлась «Народ все вынес», и многое К.М. в ней импонировало. Приятно, что это именно Солсбери. Небезразлично, что о нем, Симонове, вновь заговорили в Штатах, где после войны его книги со стихами, пьесами, прозой были бестселлерами. Когда-то Гаррисон называл его «русским Хемингуэем».
Подошел XXII съезд. К.М. на нем не присутствовал, но отчеты публиковались широко, да и было кого расспросить. Казалось бы, еще раз, и теперь уж навсегда, внесена ясность в заклятый вопрос о культе. Ясность эта нравилась ему. Новые и новые факты о злодеяниях Сталина, в том числе в отношении кадров военачальников, офицеров, выплескивавшиеся в речах, а затем и на страницы газет, лишь укрепляли в том, что он намеревался сказать своим вторым романом. Но сразу же за съездом последовали встречи с интеллигенцией, которые оставляли двойственное впечатление. Опять получалось: что позволено политикам, негоже художникам.
Из уст в уста передавалось: вскоре после того, как Василий Гроссман отправил рукопись своего нового романа в «Знамя», у него дома учинили обыск. Явились двое — нам поручено изъять роман. Забрали оригинал вместе с блокнотами, черновиками.
В КГБ вызвали машинистку: сколько экземпляров напечатали, кто еще работал? Конфисковали все 17 копий — вплоть до лент с пишущих машинок.
Испарился и тот экземпляр, который был в журнале. Кожевников хранил по поводу этого мрачное молчание.
Василий Петрович Гроссман. Вася Гроссман — его коллега по «Красной звезде» военных лет. Мешковатый, среднего роста человек, всегда, кажется, только тем и занят, что протиранием толстенных стекол своих очков в простецкой оправе, какие носят старики — мастера на заводах. Застенчивый, непритязательный, всегда будто сконфужен чем-то. До застенчивости скромен, до умопомрачения упорен, как говаривал о нем Давид Ортенберг.
У Гроссмана все, что ни рождалось, пробивало себе дорогу со скрипом. Очерки, опубликованные в «Красной звезде», ему не всегда удавалось собрать в книгу. Книжка, если появлялась, вызывала кисло-сладкие рецензии, а то и разнос. Между тем очеркист он был, положа руку на сердце, от Бога. Первую крупную повесть о войне написал именно он. «Народ бессмертен» — хорошая повесть.
Начались его неурядицы еще раньше, со «Степана Кольчугина». Роман был выдвинут на Сталинскую премию, как только они были учреждены, в начале сорок первого. К.М. еще не был лично знаком с Гроссманом, и вся эта история прошла мимо его внимания. Потом, в «Звездочке», во время ночного бдения в редакции, Гроссман поведал ему, уже дважды лауреату, трагикомическую, по Васиным словам, эпопею с несостоявшимся увенчанием. Гроссману четко сообщили, что он прошел все круги утверждения и стоит в списках, которые видел Сам. Вечером, накануне ожидаемого объявления в печати, была масса звонков, поздравлений. Корреспонденты, ссылаясь на имеющиеся у них поручения редакций и ТАСС, приезжали фотографировать и расспрашивать о подробностях биографии. Он на радостях заказал... нет, не банкет, дороги в ресторан он просто не знал, а билеты в театр Революции, что на улице Герцена, для огромного числа близких ему людей. А наутро имени его в газетах не появилось.
— Оказался я, знаете ли, вроде того... с вымытой шеей, — все еще, видимо, страдая от неловкости происшедшего, смущенно развел руками Гроссман. К.М. помнит, что испытал неловкость за две свои лауреатские медали.
В театр несостоявшийся лауреат все же вынужден был пойти — билеты-то все были у него. Стоял у входа и раздавал их друзьям, которые, он с благодарностью это ощущал, чувствовали себя еще более сконфуженно, чем он.
Гадать, почему так случилось, не приходилось. Право изменить все в последнюю минуту — в худшую или лучшую сторону — было лишь у одного человека, имя которого не было в той ночной беседе в «Красной звезде» названо вслух.
Тень того же неприятия гналась за Гроссманом с тех пор по всем дорогам, военным и мирным. В 52-м году в «Новом мире» Твардовского был напечатан роман «За правое дело». Еще до публикации пришлось изменить его название. Гроссман хотел назвать его «Жизнь и судьба», как и этот, теперешний, конфискованный. Не дали. Не пришлось выбирать — роман или заголовок.
Тетива была оттянута, и первая стрела полетела тут же, в феврале 53-го года — разгромная статья Бубеннова. Импульс, заданный все тем же Лицом, был так силен, что и после его смерти стрелы продолжали сыпаться. Самым большим сюрпризом для автора была статья Фадеева в апреле. Он, К.М., тогда еще Константин Михайлович, пытался отговорить Сашу, тот не послушался, как всегда, и потом каялся с трибуны второго съезда писателей. В 1954 году. Человек действий, тут же постарался хотя бы отчасти исправить нанесенный им ущерб. По письму Фадеева в Воениздат роман довольно быстро вышел отдельной книгой.
Позднее К.М. редко встречался с Гроссманом. Знал, что тот продолжает работать над вторым томом эпопеи и что в основе его лежат события Сталинградской битвы, то есть тот же, в сущности, материал, что и у него.
Иногда беспокоило, а вдруг роман Гроссмана появится раньше? Однако даже в самом кошмарном сне не могло ему присниться, что их невольное соревнование окончится так ужасно.
Он ломал голову: что же, собственно, могло так напугать «заинтересованные организации» в рукописи Гроссмана?
Нелепый контраст: «Живые и мертвые» совершали свое победное шествие по стране и миру, а детище его коллеги стало жертвою акции в духе заклейменных сталинских времен.
Что могло быть в его рукописи такого, чего не было у него, Симонова, в «Живых и мертвых»? Не советскую же власть он призывает там свергать?
Он не знал, почему и за что так обошлись с Гроссманом. Не ведал и мог только гадать, какой силы был этот разлученный с его создателем роман. Клялся себе, что какая бы судьба ни постигла его собственное произведение, он будет стремиться лишь к одному — не лукавя, сказать о войне ВСЮ ПРАВДУ, без прикрас и без утаек. Без оглядок. Уж кто-кто, а он-то знает цену этим оглядкам. И не только на «верхи».
Всю правду... Нет, всю правду о войне может сказать только народ. Одному художнику, даже самому великому, будь то хоть Лев Толстой, дано сказать лишь малую толику ее. Была бы толика эта своей, незаемной, незамутненной.
Он перелистывал страницы своего большого интервью «Перед новой работой» журналу «Вопросы литературы». Заманчивой показалась возможность «остановиться, оглянуться» между двух больших работ.
Рассуждения о поиске композиции, о трех началах, о типе современного романа. Роман семьи, роман судьбы, роман события. О том, что будто бы от правильного выбора типа романа и зависит его успех.
Так ли это? — спрашивал он теперь себя.
Есть лишь два типа романа. Роман-правда и роман-неправда. Все остальные различия имеют значение лишь для преподавателей литературы да педантов-критиков.
С мыслью о правде он писал «Живых и мертвых». Но многого, что знает сегодня, после XXII съезда партии, он не знал еще и тогда, хотя позади уже был судьбоносный двадцатый. Знал, не знал — это даже не то слово. Просто не представлял себе, не имел инструмента, которым можно было бы измерить всю глубину той пропасти, к которой Сталин подвел страну и народ перед самой войной. Не заглянув в нее, не охватишь и величия подвига народного.
Может быть, Гроссман заглянул?
Говорили, что он написал письмо Хрущеву. Это было логично. Что, в конце концов, могло быть в романе такого, что не разоблачено с трибуны съезда?
Позднее стало известно, что по поручению Первого секретаря писателя пригласил к себе Суслов. Попоил чайком, сказал: такую книгу только лет через триста можно будет издать.
К.М. сам недавно продиктовал в письме адмиралу Исакову, над мемуарами которого шефствовал: «Все еще неизвестно, как об этом писать. Я тоже не знаю и не уверен бываю, когда думаю об этом, до чего можно дотрагиваться, а до чего еще невозможно, учитывая все, что происходит в мире...»
Перечитал письмо, прежде чем отдать Нине Павловне для отправки, и задумался. Кажется, нечто подобное уже приходило ему в голову, нет, не ему, К.М., — Военкору, без малого два десятка лет назад, когда в 43-м он взял и вынул в последнюю минуту из «Дней и ночей» главу с воспоминаниями капитана Сабурова о его друге Соломине, сгинувшем в 1938 году. Нина Павловна по его просьбе разыскала этот заботливо спрятанный в свое время кусок рукописи. Без всякой правки он дал его перепечатать. Готовился к выходу 27‑й том «Литературного наследства», посвященный советской литературе в период Великой Отечественной войны, и он решил послать отрывок туда со своими комментариями.
Впился в эти страницы, глазам своим не верил. Если бы не лежащий рядом оригинал, он бы и сам, пожалуй, усомнился, что они были написаны в 1943 году, что они вообще могли быть написаны. Именно им, тогдашним.
Его Соломин рассуждал не про себя, вслух: «Оказалось, много гадов кругом, но не вышибить у меня из сердца того, что под эту гребенку сейчас еще больше хороших людей чешут. Есть гады, но почему за это должен садиться сосед по квартире, я этого не понимаю и не пойму...»
Соломин рассказывает Сабурову — одна история за другой, — как исключают из партии и сажают ни в чем не повинных людей, среди которых и близкие ему люди. «И вот его исключили, идет собрание, а я не могу в его защиту слова сказать, потому что если скажу, за это меня самого исключат...»
Однажды попробовал и ходит теперь со строгим партийным выговором.
Но и строгачом дело не кончилось. «Когда однажды Соломин не вернулся домой (его арестовали по дороге с работы) и на следующий день было собрание партийное... Сабурова спросили, он ответил, что не понимает, почему мог быть арестован Соломин... И на вопрос председателя, желавшего дать ему выпутаться, что он подразумевает под своими словами, он, Сабуров, повторил слово в слово только что сказанное...»
Не без горькой иронии подумал, что будь на месте Сабурова живой человек, реальная личность, он, несомненно, угодил бы туда же, куда исчез и Соломин. Сабурову было легче. Он был всего лишь литературным героем. И он был нужен ему, Симонову, живым и свободным, иначе не было бы и повести «Дни и ночи». В той неопубликованной главе его лишь переводят на другое место работы. Сплавляют, проще говоря. Вскоре он даже встречается с освобожденным Соломиным, который, как подтвердилось, был арестован по недоразумению.
Концовка — сугубо облегченная, размышлял он теперь. Явное свидетельство того, что он подумывал все-таки тогда включить этот кусок в общее повествование. Почему же не включил?
«Почему же я тогда не включил этот кусок в «Дни и ночи»? Для этого было много причин...» Перечисляя их в диктофон — спешка, размеры повести и без того уж непомерные — истинную причину он все-таки не назвал. Она самая простая. Он побоялся. И не в том даже дело, что побоялся. Просто понимал всю невозможность предложить это для печати. Всю бессмысленность такого, гипотетически представимого все-таки, поступка. Видел его необратимые последствия. Он-то как раз, в отличие от Сабурова, был не вымышленным персонажем, а реальным человеком, и для него история вряд ли заготовила бы счастливый конец.
Опасался последствий, и обоснованно. Считал нереальным предлагать, вот и не предложил. Не положил голову на плаху.
К.М. взял томик с повестью в руки. Его первая повесть. И поныне — его любимая вещь. Как бы она выиграла, в случае...
По английскому законодательству, человек, свидетельствуя в суде, клянется на Библии, что будет говорить правду, только правду, всю правду.
Отстукивая на машинке в том страшном и славном сорок третьем «Дни и ночи», он писал правду и только правду. Он и сегодня мог смело взглянуть ей в глаза. Все, о чем рассказано, что случилось с капитаном Сабуровым, с медсестрою Аней — все так и было. Боль, подвиг, страдания, отчаяние, любовь, смерть, самоотвержение и трусость... Ему и сегодня не казалось вычурным или претенциозным посвящение: «Памяти погибших за Сталинград».
Два из трех обязательных условий были им соблюдены. Третье — нет. Вот оно, третье условие, лежит в запечатанном, но не отправленном еще конверте. В необычайной, пронзительной простоте встал перед ним вопрос: можно ли правду резать на куски, как колбасу, например? От колбасы сколько ни отрезай, оставшаяся часть будет того же вкуса и запаха, что весь кусок. А правда? Вот этот отрывок. Всего-то десяток-другой страниц. Двадцатая, если не тридцатая, часть повести. Какая это часть правды? И каковы они сегодня, без этой одной двадцатой или одной тридцатой, вкус и запах всего куска?
У него были и другие поводы рассуждать об этом. Один из них, в виде письма Василия Ажаева, лежал сейчас перед ним.
Готовился к переизданию роман «Далеко от Москвы», и Василий Николаевич просил о предисловии. Естественная, логичная просьба, тем более, что в письме он возвращался к памятной им обоим полосе работы над рукописью романа, пришедшей в «Новый мир» от никому тогда не известного автора с Дальнего Востока. В 1948 году. Ажаев прислал ее в «Новый мир», упомянув, что роман уже был однажды опубликован. В журнале «Дальний Восток», который выходил так редко и столь крошечным тиражом, что его можно было не брать в расчет. Над вещью, если ее публиковать, надо было, по дружному убеждению всей редколлегии, еще много работать. Работать хотелось. У К.М. у самого чесались руки. Уж больно свежо, непривычно, ярко все написано. И как раз то, что нужно. Героический труд советских людей в самую первую и самую лихую годину войны. Подвиг в тылу, на трудовом фронте — это, как справедливо отмечалось и во многих партийных документах, была та страница великой битвы с фашизмом, которая еще не развернута с необходимой силой в литературе.
Вопрос был не в том, согласится ли автор на доработку — легко можно было предположить, что согласится: «Новый мир» все-таки... Но потянет ли? Не переписывать же за него.
Вызвали Ажаева с Дальнего Востока. Он сразу же рассеял все сомнения. Умный, твердый, интеллигентный человек, явно изголодавшийся по общению с людьми того цеха, к которому только теперь, на четвертом десятке, сподобило его приобщиться... Замечания схватывал на лету, впитывал их как губка и работал над рукописью с веселым остервенением. Шел, верный признак творческой личности, гораздо дальше того, на что ему указывали. Не мелочился, вымарывал огромные куски, писал новые главы, в которых даже самым занозистым словоманам не к чему было придраться. Словом, к породе тех ильфо-петровских героев, которые все время кричат — курсив мой, курсив мой, его не отнесешь. Он мог и упереться, и тогда уж его с места не сдвинешь, что не убавляло, а наоборот, лишь прибавляло к нему уважения.
И ни с чем другим не сравнимым удовольствием для Константина Михайловича было лицезреть, как буквально в одночасье, в одно прекрасное утро родилась знаменитость. Просто-таки как в сказке, по щучьему веленью, по моему хотенью...
Трудно назвать что-то из появившегося тогда в литературе, что могло тягаться по популярности с «Далеко от Москвы». Даже «Кавалеру Золотой звезды» Бабаевскому это было не под силу.
Константин Михайлович с добродушной улыбкой мастера-наставника наблюдал, как рожденный его журналом автор управлялся с нахлынувшей на него славой. Справлялся, надо заметить, весьма достойно.
Всеобщее ликование царило и в журнале. Теперь уж и не вспомнить, возникла или не возникала тогда мысль об истинных прототипах ажаевских героев.
Всем была известна судьба самого Ажаева, его прошлое. Мысль о том, что публикация романа в «Новом мире» будет хоть и частичной, но компенсацией тех горестей, которые выпали на его, лагерника, долю явно вследствие роковой ошибки органов, витала в редакции. Разговора напрямую об этом тогда не заходило и не могло зайти. Догадок о том, что за картиной, нарисованной обаятельным автором, может стоять какая-то другая действительность, не возникало. Хотя о том, что на Дальнем Востоке имеются лагеря, и в немалом количестве, было, ясное дело, известно. Дальстрой. Он видел, кстати говоря, такие лагеря и в Монголии еще в пору Халхин-Гола. Однако, как представлялось ему тогда, лагеря — это одно, а нормальная жизнь нормальных людей — это другое.
Лавина откровений после двадцатого съезда многое расставила на свои места. Но с романом Ажаева все это как-то специально не связывалось. Возможно, потому, что он давно вышел из поля его зрения.
После «Далеко от Москвы» Ажаев практически ничего серьезного не опубликовал, так, несколько рассказов, но имя его продолжало фигурировать во всех литературных обоймах, докладах и обзорных статьях. В раннюю послевоенную пору именитый, увенчанный званием лауреата автор одного произведения был довольно распространенной фигурой.
К тому же Ажаев, как и многие подобные авторы, активно включился в организационные заботы писательского Союза. В отличие от иных коллег был доброжелателен, независтлив, эффективен, в результате чего на каком-то этапе, не без его, Симонова, руки стал рабочим секретарем союза. У К.М. не раз появлялась мысль, что на этом посту Василий Николаевич ведет дело так, как вел его он сам, когда еще находился «у руля».
Теперь, получив письмо, К.М. поинтересовался у друзей, чем занимается сейчас Ажаев. Как сформулировал всегда щеголявший едкими афоризмами Саша Кривицкий, Вася просто переписывает свой роман заново, переводит его, так сказать, из позитива в негатив.
На поверку оказалось не совсем так. Новый герой Ажаева девятнадцатилетний Митя Промыслов, оказавшийся еще в 1934 году в Бутырке, а потом в «вагонзаке», т.е. в двигающемся на восток эшелоне для заключенных, к концу этого кошмарного, апокалипсического путешествия, как и к концу романа, лишь добирается до тех самых мест, где его героические современники, если верить «Далеко от Москвы», с таким энтузиазмом будут строить в войну стратегически важный нефтепровод. Но становится ясно, что эти героические современники, эти самоотверженные советские люди прибыли на Дальний Восток тем же эшелоном, а многие, быть может, и тем же вагоном, что Митя. Вот такое дело...
Как к этому относиться? Странно было бы делать вид, что это для тебя полный сюрприз. Кто поверит, что в свое время ты не то чтобы не подозревал, но просто не задумывался о существовании второго, страшного фона, который теперь-то и выходит на первый план. Ему, Симонову, теперь в самую пору было бы не предисловия писать, а обвинения предъявлять Ажаеву в том, что он ввел в ужасное заблуждение и его, и редакцию, и своих многомиллионных читателей. Многие, в том числе и знакомые ему люди, даже близкие, именно так на его месте и поступили бы. А кое-кто уже и поступил, — пока, правда, не публично, а методом недомолвок и перешептываний, которые и до него, и до Ажаева наверняка уже дошли.
Нет, для него Василий Ажаев теперь стал еще дороже, ближе и понятнее. И все же... Все же было бы нелепо, неприлично писать предисловие или послесловие к «Далеко от Москвы» так, как будто ты не ведаешь о существовании «Вагона» и этой стыдной связи между ними. Конечно, «Вагон» еще не опубликован, и бог весть когда будет опубликован, так что говорить о неизвестном пока читателю романе тоже, согласитесь, абсурдно. Он уже диктовал на пленку ответ Ажаеву. Признался, нимало не кривя душой, что по-прежнему любит его первый и пока единственно известный читателю роман, «но вот сегодня целый день бился над этим послесловием и так и не написал его, и в конце концов понял, что написать его не смогу. Причина — Ваш «Вагон». ...Если понадобится написать послесловие или предисловие к «Вагону», я непременно скажу и о «Далеко от Москвы», и скажу с глубоким уважением к Вам, как к писателю и человеку, вопреки всем и всяческим появившимся уже суждениям... Я знаю, что сказать о «Далеко от Москвы» в связи с Вашим новым романом и в какую связь поставить обе эти вещи, которые обе считаю двумя главными поступками Вашей писательской жизни...»
Человек слова, когда подошло время, он сел и написал предисловие к «Вагону». Рассказав об истории появления «Далеко от Москвы» в «Новом мире», как и обещал, подробно расшифровал фразу из собственного письма: «Я знаю, в какую связь поставить обе эти вещи...»
Трудно было найти оправдание Ажаеву, даже принимая во внимание весь его мученический путь из студентов в зэки, из зэков в литературу. Но К.М. был абсолютно искренен в своих поисках. Нашел.
Залогом его искренности был его собственный, прожитый литературный и человеческий путь. Верный принципу «Иду на вы», он сформулировал в предисловии вопросы, на которые ему предстояло ответить: как же это так можно было написать о лагерном строительстве времен войны, изобразив его как нелагерное?.. А коль скоро это так, коль строительство было действительно лагерное, «может возникнуть вопрос, почему в романе не было рассказано всей правды о характере строительства?»
Коротко ответил: у всякого человека, который помнит те времена, просто не может возникнуть такой вопрос. Не мог — и в этом суть.
Возникал, однако, и другой вопрос, который тоже вправе задать читатель: зачем, зная, что ему не удастся рассказать всю правду об обстановке и характере строительства, Ажаев все-таки написал свой роман? На это ответить было всего труднее. Мысль о том, что его можно было бы отнести и к его творчеству тоже, доставила ему боль. Неумолимый закон самопознания.
Вслед за Ажаевым подумалось о Казакевиче.
Сталин при обсуждении в Кремле «Весны на Одере» удивленно спросил, а почему, мол, «нет в романе маршала Жукова, почему не видно командующего фронтом? Показан Рокоссовский, показан Конев, но главным фронтом на Одере командовал Жуков. Есть в романе член военного совета Сизокрылов, который делает то, что должен делать командующий, заменяет его по всем вопросам. И получается пропуск, нет Жукова, как будто его и не было. Это неправильно».
В фадеевском кабинете, где Симонов разговаривал на эту тему с Казакевичем — почему-то Сталин именно ему это поручил, — тот скрипел зубами, охал и матерился. Вспоминая вслух эпизоды так называемой редакционной работы над романом, рассказывал, как его мытарили, заставляли убрать не только фамилию Жукова, но и должность командующего... К.М. искренне сочувствовал, не зная, как помочь Казакевичу — роман-то уже вышел в журнале и в издательствах. Как и автор, злился на редакторов, на чертей-главпуровцев, но не подумал тогда о вине самого Казакевича, о том, что ведь, если нельзя настоять на своем, можно просто не отдавать вещь в печать. На одной чаше весов лежал риск не получить еще одну Сталинскую премию — теперь он ее все же получил, на другой — репутация такого человека, как Жуков. Его, автора «Звезды», репутация.
А собственная, пресловутая «Чужая тень», сляпанная на основе нескольких листочков, которые Сталин держал в руках во время очередной встречи с писательской верхушкой? «Добирая материал для пьесы», он и не подумал перепроверить обвинения в адрес ученых, лишь постарался «вжиться в тему», освоиться с незнакомой ему терминологией. Даже выехал «на натуру», в родной свой Саратов. Позорище!..
...В годы моего студенчества существовал такой журнал — «Молодой большевик», и почему-то напечататься в нем было заветной мечтой каждого из нас на факультете журналистики МГУ. Удалось это первому мне. И начиналось все прекрасно. Журнал — это тебе не газета, рассуждал один мой приятель-сокурсник. В газете напишут твою фамилию один раз, да еще внизу, и вместо полного имени — инициал, и привет. А в журнале сверху, полностью и несколько раз. Перелистнул страницу: слева — название, справа — имя. Глазки — лапки. Перевернул еще раз — снова глазки — лапки...
Командировочное удостоверение — на Кубань, в Курганинский район, было напечатано на твердой атласной бумаге. Название журнала выведено на нем веселящим душу красным цветом, перед которым, как я скоро убедился, не могли устоять ни кассирши железнодорожных вокзалов, ни администраторши в гостиницах.
Героя моего ожидаемого очерка мне назвали в редакции — Михаил Салмин, секретарь комсомольской организации колхоза. Передового. О других очерков тогда не писали. С Михаилом мы провели той весной несколько чудесных дней, разъезжая по бескрайним кубанским полям и весям, сначала на санях, а потом, когда вдруг резко потеплело, на его «бедарке». Мокли вместе, мерзли вместе и согревались вместе чем придется, в основном самогоном. Ночевали, где выпадет.
Расстались мы с ним просто братьями, но когда я вернулся в Москву, заведующий отделом, который посылал меня, сказал, отводя мою руку со стопкой листков, что о Михаиле писать нельзя.
Я просто остолбенел:
— Но вы же сами мне назвали адрес и фамилию. И еще говорили, что по согласованию.
— Вот именно там, где мы согласовывали, нам теперь и сказали, что нельзя, — ответствовал журнальный босс, словно дивясь моему непониманию. — Родственника у него забрали, — добавил он нехотя. — То ли проворовался, то ли брякнул что-то не то...
И замолчал, словно спохватившись, что и так сказал лишнего.
— И о колхозе нельзя? — задал я вопрос, за который и по сей день корю себя.
— Почему нельзя? — оживился зав. — Про колхоз можно. Он на всю страну знаменитый. Ты же не с одним Салминым там виделся.
Короче говоря, написал я новый очерк. Да если бы новый. Просто отнес все, что касалось колхозного комсорга, к бригадному, у которого мы провели два дня «на бригаде». Благо он тоже мне показался.
Очерк в журнале понравился. Заведующий, когда я снова явился к нему, одобрил его с таким видом, словно того разговора вовсе и не было.
Пока очерк «шел», главное было в том, чтобы он появился. Весь мир, вся жизнь казались мне тогда поделенными на две части — до появления очерка к после.
А когда экземпляр журнала в одно прекрасное время оказался у меня в руках тонкая тетрадочка в шершавой желтой обложечке, я обнаружил, что никакой радости не испытываю. Меня поздравляли, я благодарил, смущался, а про себя холодея животом, все отсчитывал дни, когда журнал дойдет до Краснодара, а там и до станицы Курганинской. Сначала был страх. Вот-вот придет в журнал письмо от Михаила. Потом все сильнее заговорила совесть. Я уже хотел, чтобь письмо пришло и дало бы мне возможность покаяться, излить душу. Но письма не было. А когда несколькими годами позже я уже корреспондентом «Комсомольской правда» наведался в станицу, Михаил, к тому времени уже бригадир, сначала попробовал вообще отказаться от встречи, а когда это ему не удалось, категорически дал понять, что не намерен обсуждать мои душевные муки. Так я и остался не прощенным. И поделом.
Несопоставимо по масштабам? Но я не мог не маяться моей собственной виной, перелистывая страницы «Всего сделанного», посвященные драме Ажаева Казакевича и самого К.М.
А Фадеев? — продолжал размышлять он. — Сначала написал одну «Молодую гвардию», потом другую... Какая же из них была правдой? Существовало партийное руководство комсомольской подпольной организацией или его все же не было? И оно было сначала придумано Сталиным как долженствующее быть, а потом это «должное» было талантливо воплощено Фадеевым. Так талантливо, что Симонов первым в «Правде» поздравил Сашу с творческой победой... Справедливости ради, надо признать, что во второй раз подобный номер с Сашей не прошел. Когда он понял, что подброшенная ему история с «историческим» открытием в области металлургии — липа, он бросил на полудороге новый роман, которому уже сулили великое будущее.
Как же все-таки ответить на этот проклятый вопрос: зная, что не можешь сказать правду, всей правды, зачем ты все-таки пишешь и зачем отдаешь печатать?
С ним такого уже не будет никогда! Но в Ажаева он не мог бросить камень. Не ему, «счастливчику», кидать камень в бывшего зэка. Он позвал Нину Павловну, продиктовал: «Видимо, тут могут родиться разные ответы, но если бы этот вопрос задали мне, я бы ответил на него, по своему разумению, так: «Очевидно, Ажаев испытывал глубокую внутреннюю потребность в той или иной форме все-таки написать о том, чему он был участником и свидетелем, о людях, которые тогда, в военные годы, построив нефтепровод, совершили, казалось бы, невозможное. В этой книге он и о заключенных сказал как о свободных людях, как о советских гражданах, которые в нечеловеческих условиях внесли свой собственный вклад в победу над фашизмом. И сделал это... желая своим романом поставить памятник их усилиям, их мужеству, их преданности Родине».
Вот как получается: он только что поклялся никогда больше не кривить душой и опять слукавил. Неправда заключалась не в том, что он приписывал Ажаеву иные, чем им двигали, мотивы... Лукавство состояло в том, будто бы сегодня это можно как-то оправдать. В глубине души он не оправдывал ни Ажаева, ни Казакевича, ни Фадеева, ни самого себя. Но если это и была ложь — только что продиктованное им, — то ложь во спасение, во спасение человека, у которого ничего другого не оставалось в жизни, кроме тюрьмы, лагеря, ссылки и этих двух романов.
По злой иронии судьбы Василий Ажаев целые десятилетия оставался в представлении читателя автором одного романа, того, что принес ему сначала славу и почет, а потом презрение окружающих и угрызения совести, от чего он, наверное, и умер так рано... Второму его роману, открывшему правду, суждено было пролежать вместе с предисловием Константина Симонова в журнале «Дружба народов» четверть века — не по вине редколлегии, конечно.
Они были опубликованы в 1988 году — роман и предисловие к нему, когда обоих авторов уже не было в живых. И промелькнули незаметно на фоне слепящей правды, той, что уже поведали нам Василий Гроссман, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Лидия Чуковская, Евгений Гинзбург, которые никогда не были лжесвидетелями.
Можно ли наказать писателя больше, чем наказан за свой грех Василий Ажаев? Он при жизни искупил вину, но ему не позволили поведать об этом людям.
...Его роман «Солдатами не рождаются» появился на сломе времен. Первая часть — в последних номерах «Знамени» за 1963 год. Вторая — в конце 1964-м. Публикация завершалась в новую эру — после октябрьского 1964 года пленума ЦК КПСС.
Еще ничего нигде не говорилось больше того, что можно было прочитать в сообщении о пленуме. Еще никто не рисковал публично расшифровывать формулу «в связи с уходом на пенсию по состоянию здоровья», хотя никто в нее не верил. Каждый расшифровывал ее наедине с собой. Задачка не из легких. Не хотелось бросать задним числом камень в старого человека, у которого столько поистине исторических заслуг перед страною и народом. Но и того нельзя не признать, что последние годы груз ошибок и промахов того же самого свойства, против которых Хрущев и поднял меч в начале своего «великого десятилетия», все более тянул чашу весов вниз. Подумалось о написанном и отправленном в издательство за три месяца до случившегося — в июле того же года письме. Это была «внутренняя рецензия» на коллективный труд — мемуары группы авторов, ветеранов войны, бывших командиров и рядовых Юго-Западного фронта, членом военного совета которого был Хрущев. К.М. отдал должное заслугам Никиты Сергеевича, подтвердил, что его знали и даже любили в войсках, но в то же время предостерег от преувеличения его роли в Великой Отечественной войне, тем более, что в этом нет никакой необходимости: заслуги Хрущева в войне, истинные, а не мнимые, хорошо известны. «Производит только неприятное впечатление навязчивое стремление упомянуть о Хрущеве к месту и не месту. Мне кажется, что авторы в данном случае делают одному из героев своих воспоминаний медвежью услугу».
Был, был у него и личный счет к Н.С.! Прежде он не давал себе воли подумать об этом. Нахлынуло, выплеснулось то, что лишало покоя все эти годы.
Обидно и больно, что в глазах Хрущева он с самого начала стоял как бы по другую сторону баррикад. Тот считал его человеком из стана процветавших при Сталине и «кадивших». А позднее — перекрасившихся.
Во времена Сталина человека преследовал страх. При Хрущеве страх исчез. Тем нестерпимее жгло чувство одиночества, отъединенности от главного и светлого, что происходило в стране... Не потому ли, когда начал Никита спотыкаться, давать сбои, появлялось, помимо воли, злорадство. К.М. ловил себя на том, что не будь этого личного мотива, он судил бы о причудах Никиты добрее, объективнее, с большим пониманием и сочувствием. Но Хрущев находился высоко и далеко, у него свои советчики, фавориты, сонм подлипал, которые подхватывали любое шевеление его руководящего перста. К.М., положа руку на сердце, не видел особых причин сочувствовать зарвавшемуся лидеру.
Другое дело теперь. Теперь речь шла уже не о личностях и не о личном. Xорош ли, плох ли Хрущев, велик он или смешон, но это именно ему и никому больше было уготовано историей совершить сравнимый, быть может, только с самой Октябрьской революцией поворот в политике партии и государства, а вместе с тем и в наших умах и душах. Теперь он ушел, точнее его ушли, и треба разжуваты, какая же все-таки во всем этом собака зарыта. И, пожалуй, не стоит спешить с выводами. Вот когда К.М. вновь ощутил преимущества своего бесхозного положения, о которых столько уже лет распространялся вслух письменно. Ему не надо было теперь ничего организовывать, ничего одобрять, принимать, никого ни в чем заверять. Существовала опасность, что попросят откликнуться в «Литературке», а то и в «Правде», где он по возвращении из Узбекистана все еще числился спецкором. Не откладывая в долгий ящик, он написал в «Правду» письмо с просьбой снять его с «вещевого довольствия», поскольку каждодневной отдачи, как в Средней Азии, от него теперь уже нет и не может быть... Одновременно дал распоряжение Нине Павловне и своему секретарю по юридическим вопросам Келлерману и всем близким на все «подозрительные» звонки отвечать, что его нету. Нету и все. На отдыхе, в «подполье» за работой над следующим романом, где угодно, но вне пределов досягаемости. Хватит, наоткликался...
Он сидел на даче в Красной Пахре, один — всех близких отослал в Москву — и думал. К себе допускал только Нину Павловну и то в качестве курьера: она привозила из Москвы почту. Он с жадностью набрасывался на газеты.
Первое побуждение, давний, сидящий уже, кажется, в крови рефлекс — принять всерьез, поверить. Не тому, что старый джентльмен сам попросился на пенсию по состоянию здоровья. Те, кто сочинял этот «некролог», то бишь сообщение о пленуме, вряд ли рассчитывали на то, что им кто-нибудь поверит. Наоборот, на то как раз и рассчитывали, что именно не поверят.
Поверить хотелось в другое. В то, что речь идет лишь о выправлении курса, заявленного XX съездом, об очищении его от всего наносного, от волюнтаризма — удачное слово! — который действительно вставал уже на пути развития страны. Хотелось поверить, что возобладает надежный, основательный, не зависящий от одной чьей-то воли, от беспрерывных колебаний и зигзагов курс. Люди устали от шараханий, от упований на какое-то очередное сверхчудесное средство, будь то кукуруза, торфоперегнойные горшочки, органическая химия или даже целина.
В какой-то момент К.М. поймал себя на том, что вроде бы уже и поверил. Усилием воли и разума прервал поток рассуждений, которые уже начинали складываться во что-то подобное первому отклику, тому, от чего он и удрал на дачу в осеннее, шумящее желтеющей и опадающей листвой одиночество. Он сказал «стоп», запретил себе делать какие-то, пусть и первоначальные, наброски.
Газеты приносили, на первый взгляд, неплохие новости. Новое руководство — Брежнев, Косыгин, — судя по скупым официальным сообщениям, действовало неторопливо, но уверенно. Отменили нелепое деление партии, вернее, ее комитетов на городские и сельские. Абсурднее этого трудно было что-нибудь вообразить! Люди насочиняли массу анекдотов по этому поводу. Ну, например: обнаружили в областном центре труп мужчины. Убийство. Проломлен череп. Заявили в милицию. Там спрашивают: «Чем убили? Если молотком — к нам относится. Если косою или серпом — идите в милицию сельского облисполкома».
Логична отмена совнархозов, особенно в национальных республиках. Вспомнилось, как прохаживался насчет Средазсовнархоза, Средазбюро и т.п. со столицей в Ташкенте обычно осторожный таджик Мирзо Турсунзаде: «Есть у нас старший брат — русский народ, хорошо. Но зачем нам еще средний брат — узбек?»
Из прессы ушло славословие. Сколько издевок на этот счет, сколько мучений, он знал, было у редакторов газет, фотокорреспондентов. Фотогеничным Никиту никак не назовешь — приходилось почем зря заниматься ретушью. Ретушь — это почти всегда накладки. То что-нибудь лишнее пририсуют, то забудут что-то затушевать. Однажды в «Советской России» Хрущев появился о двух шляпах — одна в руке, другая на голове. Суслов — и при Хрущеве высший шеф всей идеологии — созвал редакторов, тряс перед их лицами газетой и грозно вопрошал своим скрипучим голосом: «Это что у вас? Первый секретарь или шут гороховый?»
Те потом расходились и качали головами: не попало бы за такие гипотезы и самому оратору.
Брежнев на первых порах выступал редко. Если и выступал, то, как правило, на всякого рода закрытых совещаниях в ЦК, о чем в прессу попадали лишь упоминания. В тех редких случаях, когда Брежнева показывали по телевидению, сразу бросалось в глаза, насколько его манера произносить речи отличается от хрущевской. Он, нимало не стесняясь, не отрывался от текста, читал неторопливо и размеренно.
В хрущевские еще времена Сурков, выступая в Кремле на очередном идеологическом совещании, живописно обрисовал два типа ораторов. Первого уподобил петуху: клюнет зерно, поднимет голову, проглотит, опять клюнет... Второй тип, по его словам, подобен лошади: как сунет морду в кормушку, так и не выглядывает оттуда, пока все начисто не сжует... Зал покатывался со смеху, когда следующий за Сурковым оратор, привыкший читать, что ему напишут, то пытался оторваться от текста, то снова нырял в него, в результате чего получалось что-то среднее между петухом и лошадью. Даже председательствовавшему секретарю ЦК Ильичеву, с его автократической манерой ведения собраний, нелегко удавалось восстановить порядок в аудитории.
Что касается манеры Брежнева, то К.М. не спешил делать по этому поводу какие-либо выводы. Можно было объяснить его строгую и несколько бесцветную манеру говорить чувством ответственности, желанием любым способом подчеркнуть вновь подтвержденный пленумом принцип коллективности руководства. Может, сказывалась еще неопытность — как ни высоки были все предыдущие посты, Первый секретарь, «номер один» в СССР — это гигантский качественный скачок. Может, все проще — ординарная личность? Недаром шла молва: Брежнев — фигура проходная, временная, и скоро его заменит Шелепин.
Кроме двух-трех дежурных встреч в Казахстане, на целине, Симонову не приходилось вплотную сталкиваться с Брежневым. У него раньше не было повода, да, собственно, и потребности разобраться, что скрывается за явной не броскостью нового руководителя партии.
Он не раз размышлял над таким парадоксом: при Сталине и после войны головы летели и с секретарей ЦК, и с членов политбюро — вспомнить хотя бы Вознесенского или Кузнецова. Тем не менее фигуры, окружавшие «отца родного», пользовались немалой популярностью, имели биографию, даже имидж — тот же Молотов, Каганович, Ворошилов, Буденный. При Хрущеве, особенно после разгона антипартийной группировки, все вокруг, кроме разве вечного Микояна, стали выглядеть статистами. Появлялись на миг на авансцене истории и уходили в небытие какие-то Кириченки, Сабуровы, Первухины, Поляковы, Беляевы, Титовы и иже с ними. Брежнев представлялся ему одним из них. Тогда. А теперь?
Безусловно, импонировало К.М. в новых руководителях их демонстративное, подчеркнутое уважение к ветеранам, к памяти героев и жертв Великой Отечественной. Было объявлено о подготовке к празднованию двадцатилетия Победы.
Странно, но Хрущев, который сам отстоял вахту войны от звонка до звонка, последние годы стал относиться к ее событиям и участникам, живым и мертвым с каким-то нарочитым и от того еще более обидным пренебрежением. Может борьба за мир и разоружение не укладывались в его сознании с воспоминаниями о великих битвах, прославлением победителей? То ли причиной тут — его отношение к Жукову, которого, как раньше Сталин, Хрущев неожиданно для всех отправил в почетную ссылку, посадил, по существу, под домашний арест. Говорить о войне — значит говорить о Жукове... О нем да еще о Сталине, тут уж никуда не денешься...
В «Литературке» появилась статья Сергея Сергеевича Смирнова, где он открыто выложил все, что наболело у миллионов: о бедственном положении большинства ветеранов и инвалидов, о нищенских их пенсиях. О том, что перестало быть праздником и просто выходным днем Девятое мая, что запущена работа по розыску без вести пропавших. Что само это выражение «без вести пропавший» до сих пор — источник унижений, бедствий духовных и материальных для десятков и сотен тысяч людей. Написал Смирнов о пренебрежении к памятникам погибшим. К.М. в свое время тоже приходилось говорить и писать об этом — бессчетное число раз. Все как в прорву.
Статья Смирнова оказалась, как яичко к Христову дню. Она родила целое народное движение, и К.М. включился в него от всей души. Посыпались заявки на выступления устные и письменные, участились телефонные звонки, в том числе и сверху, оградить от которых его не могла даже Нина Павловна. Очередной раз его отшельничество как-то само собой сошло на нет, и он уже не сожалел об этом.
Апрель-май прошли, как во сне. Волнующие, неповторимые события и встречи, речи, письма, манифестации... Самым знаменательным было появление маршала Жукова во всем блеске звезд, лент и орденов в Кремлевском дворце съездов, в президиуме торжественного заседания, посвященного двадцатилетию великой Победы. Как встал тогда зал в едином порыве, как аплодировал! Это транслировалось напрямую на всю страну, на весь мир. Славя своего маршала, поклонившись своему герою, люди раскрывались навстречу лучшему, что целомудренно хранили в себе, укрывая от недобрых глаз.
В докладе Брежнев упомянул Сталина, и правильно, что упомянул. Это было бы неправдой обойти его несомненные заслуги в годы Отечественной. Но аплодисменты — не такая, конечно, лавина, как в честь Жукова, но все же заметные, даже вызывающие, — встревожили.
Вскоре он получил возможность убедиться, что аплодисменты услышаны не только в залах Кремлевского дворца съездов. В «Совписе» шло первое книжное, после журнального, издание его «Солдатами не рождаются».
В этом издательстве все — от вахтера до главного редактора — его старые знакомые. Здесь помнили еще те времена, когда он был «большим начальником» в Союзе писателей. Здесь не кривили перед ним душой. Если и «придирались», то всегда давали понять, что это не от себя, прозрачно намекали, откуда что идет. Правда, когда здесь выходили первым изданием «Живые и мертвые», редактора иногда «вопросили» текст по собственному разумению. И ему приходилось всерьез доказывать, что нельзя, как они того хотели бы, вообще выбросить имя Сталина из книги, обойтись без него. И Синцова или Серпилина нельзя заставить думать о Сталине так, как мы теперь с вами думаем. Вот погодите, принесу вам следующую часть трилогии, дойдет дело до сорок третьего, сорок четвертого года.
Время пришло. Он принес им «Солдатами не рождаются». И опять рядом с каждым упоминанием о Сталине — вопрос, только теперь уж совсем с другим, противоположным значением. И лица у редакторш, умных, толковых, все понимающих теток, совсем другие. Потупленные или, наоборот, возведенные горе очи, пожимание плечами, разведение рук — давно знакомый и безошибочно прочитываемый язык жестов. Мол, не от нас зависит, не нами придумано. А кем же? Зав. отделом? Снисходительные улыбки. Главный редактор, директор издательства? Задумчивое покачивание головами, что означает — бери выше.
Возник разговор вокруг того куска, который ему дороже всего в романе. Вызов Серпилина в Москву, к Сталину, их беседа о репрессированном Гринько, недовольство Сталина и смятение Серпилина. Тяжкие откровения Ивана Алексеевича. Этими страницами он отвечал на вопросы своих читателей. И хотя оппонентов у него после журнальной публикации романа не поубавилось, он чувствовал, что попал в точку. Он был искренен, когда писал эти строки, и люди поверили в его искренность — независимо от того, согласны они с ним или нет.
Нет, теперь он не поправит здесь ни строки, не тронет ни одной запятой, пусть даже придется для этого дойти до самого верха. В конце концов, он еще не забыл дорогу туда, и путь ему туда не заказан.
Так и сказал в издательстве — без моего согласия не менять ни слова. Хотите — печатайте так, не хотите — останавливайте производство, несите убытки. Только уж расплачивается за них пусть тот, кто даст такое указание. Он лично не намерен платить за чужие страхи и благоглупости.
Его твердость принесла плоды. Ему позвонили из издательства и сказали, что замечания снимаются. Попросили зайти и подписать верстку в печать. При встрече редакторши туманно, не без торжества, намекали, что, мол, вопрос решался «на самом верху». К.М. заговорщически ухмыльнулся. Вслух сказал, что его это не касается. Ему важно, чтобы книга вышла в его, а не в чьем-то еще варианте. До остального ему дела нет.
На самом деле ему было небезразлично, при чьем непосредственном участии решался этот частный, но весьма принципиальный вопрос.
Случившееся настраивало на оптимистический лад. Захотелось подумать об этом вслух. В его кабинете на даче вновь появилась со своей тетрадкой Нина Павловна. Заметки он назвал просто «Год нынешний и год минувший».
«Мне кажется, что самое главное и самое важное — это решительное всеобщее желание, подкрепленное решительными действиями, изменить тот нездоровый климат, в котором не только гнили на корню хлеба, но все чаще начинали подгнивать души. Ибо атмосфера, в которой желаемое все чаще начинает выдаваться за действительное, есть атмосфера, способствующая загниванию душ — в той же мере, как накопление застойных явлений в хозяйстве...»
Нина Павловна по его просьбе перечитала абзац вслух. Сказано правильно. Но это, по существу, переложение на более публицистический лад того, что прозвучало уже в официальных документах и в передовых. Если уж начал, договаривай до конца.
«Я не хочу задним числом бросать камень в старого, имеющего в прошлом немалые заслуги перед страной человека, но в то же время, вспоминая недавние годы, я не могу не сказать, что человек, главным пафосом деятельности которого стало постепенно стремление выдавать желаемое за действительное, не мог оставаться у руководства страной, которая может и хочет идти вперед, не закрывая глаза на правду, в том числе и горькую...»
Развивая эти мысли, он порадовался тем первым новациям, которые уже произошли и еще произойдут в жизни страны. Особый акцент сделал на переменах в настроении людей, в духовной атмосфере общества. Тому свидетельство — печать. Газетчики стали резче, бескомпромисснее критиковать недостатки, слабости, изъяны нашей жизни. Взять хотя бы нашумевшую статью Аркадия Сахнина в «Комсомолке» о Солянике. Ужасные факты. На поверхности — славная флотилия и человек — Герой Труда во главе ее. На деле — чуть ли не невольничьи корабли. Плавучие тюрьмы. Издевательство над людьми, хищническое истребление ценнейших животных. Обман государства. Соляник — человек, в какой-то мере соединивший в себе черты Сталина и Хрущева: деспот и демагог. Тиран и рубаха-парень. Не культ, а культик, культяпка личности... Хорошо показана механика формирования такого рода деятелей.
Перечитал отпечатанный Ниной Павловной текст. Все правильно. Но зачем все это? И для кого? Нет, не в смысле органа печати — тут проблем бы не возникло. Для какого читателя? Не для руководящего ли? Того, от которого зависит, например, дать ему, Симонову, журнал или какое-нибудь другое дело, которое из кустаря-одиночки — как любит выражаться рвущийся к власти в Союзе писателей Георгий Марков, Макеич — превратило бы его опять в организатора, горлана-главаря. Что греха таить, он уже скучал по такому делу. При Хрущеве, особенно Хрущеве последних лет, он не стал бы об этом и заикаться. Теперь, кажется, наступала пора, когда требуется послужить отечеству и на литературно-организационной ниве.
Признавшись себе в этом, он тут же ужаснулся. Что же это за сила в нем сидит, которая снова и снова втягивает его в ту же воронку? И как он будет выглядеть, если отдаст все это в печать? Судить можно по Нине Павловне. Она ни слова не сказала, пока он диктовал ей текст, тем не менее на протяжении всей диктовки каким-то одним ей свойственным способом умудрялась давать понять свое отношение.
Этот абзац о Хрущеве, о старом человеке, который в прошлом имел немалые заслуги. Начнем с того, что именно этот-то абзац непременно вычеркнут. И тут уж никакое вмешательство верха не поможет. Парадоксальная ситуация! С одной стороны, он сказал нечто такое, за что должны были бы ухватиться верхи, произнес вслух то, на что там не решались. Тайное сделал явным: не в пенсии тут дело и не в состоянии здоровья. С другой стороны, он напомнил о былых и неотъемлемых заслугах этого человека, а об этом тоже ничего не было сказано — ни в информационном сообщении о пленуме, ни позднее. Имя Хрущева начисто исчезло со страниц всех газет — консервативных, вроде той же «Савраски» или «Красной звезды», и прогрессивных, вроде «Комсомолки». В «Новом мире» Твардовского этого имени тоже не встретишь: законы Главлита для всех одни.
Так вот какие времена настают! Времена недомолвок, умолчаний, анонимности.
Оставалось подивиться тому, к каким выводам он пришел: начал за здравие, кончил за упокой.
Нина Павловна откровенно ликовала, когда он предложил ей отправить этот текст прямиком во «Все сделанное за 1965» — минуя стадию публикации.
Он вглядывался в себя, сравнивал. Раньше он ощущал какой-то дискомфорт душевный, когда обнаруживал себя в разладе с властью, в ком бы она в данный момент ни персонифицировалась. При Сталине это мог быть даже инструктор отдела пропаганды ЦК, вроде того же Маслина. Тогда никто никогда не говорил от себя. Не важно, кто передал тебе указание или замечание, кто подписал статью в «Культуре и жизни», важно, что и кто за этим стоит. Всегда и за всем в конечном счете стоял один человек. Хозяин.
При Хрущеве все сильно изменилось. У этого все на виду. Торопыга, он просто не успевал передоверить кому-то свои мысли. Чаще всего они слетали с его языка еще до того, как он их сам-то хорошенечко обдумает.
Сталин предпочитал доводить свои установки, особенно в области литературы, через ближайшее окружение. При Хрущеве окружение стремилось использовать шефа в качестве рупора собственных вкусов. Благо круг общения у него был значительно шире, чем у Сталина, он не любил уходить в тень и лаконизмом не отличался. У Сталина было — сказал, как отрезал. При Никите истина в последней инстанции становилась очевидной не сразу, к ней вели зигзаги, дорога петляла, взмывала резко в гору, стремглав уносилась вниз.
К.М. при этом нередко заносило, а то и выбрасывало в кювет. Были случаи, когда он искренне, хоть и ненадолго, верил, что вся рота идет не в ногу. Потом приходило отрезвление, осознание собственных ошибок, и в таких случаях он не скупился на покаяния, не исключая и публичные.
Его швырнуло было опять на амбразуру, да вовремя спохватился. В нем все еще сидело то, чем Пастернак отмаялся в тридцатые годы:
Хотеть в отличье от хлыща
В его существованьи кратком
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.
И заодно с правопорядком... Похоже, Пастернаку так и не удалось решить эту задачку, что-то вроде квадратуры круга. Ему, Симонову, тут повезло, кажется, больше. Ну, и кто же в конечном счете в выигрыше?
Впервые после 1956 года, когда они с Фединым, Кривицким и другими писали Пастернаку письмо и отослали ему его вместе с рукописью романа, у него шевельнулось желание перечитать «Доктора Живаго». В одной из зарубежных командировок, кажется, в США, он посмотрел фильм. Неплохой фильм. Только в нем мало что осталось от романа, кроме имен и общего антуража. Но прекрасна музыка в фильме! Он часто, без тени неловкости, признавался, что ничего не понимает в музыке. Эту не понять невозможно. Это даже и не музыка, а экстракт настроений, ностальгических движений души. Лежать на спине и, глядя широко открытыми глазами в бесконечность над тобой, плыть в прошлое. Не во вчерашнее и не в позавчерашнее, а в то, которое существовало еще до тебя и живет в тебе неслышным дыханием генов. Это прошлое было его родным отцом, российским офицером, которого он никогда не видел, потому что тот пропал без вести на германской, когда сыну не было еще и года. Прошлое было его тетками, княжнами Оболенскими, которые со своими чадами и домочадцами были сосланы в 1935 году, после убийства Кирова, из Петербурга в оренбургские степи, а потом сгинули там почти все, одна за другой. Три Леонидовны. Леониды по-гречески — поток падающих звезд, наблюдаемых осенью в созвездии Льва. Так что не роман, а фильм по нему, а главное — музыка помогли ему увидеть почти сюжетное совпадение того, что случилось с сестрами матери, с некоторыми событиями в романе. Каждая из них, особенно старшая, Людмила Леонидовна, самая красивая, могла оказаться Ларой. Не тогда ли, когда К.М. посмотрел далеко-далеко от родных краев этот фильм, в нем впервые шевельнулось что-то похожее на раскаяние?
Физически он уже вышел из анабиозного состояния, давно покинул свою комфортабельную отшельническую келью о двух этажах в Красной Пахре. Но продолжал оставаться наедине со своими думами.
Что-то мешало ему вплотную засесть за третий роман трилогии, которую он всю теперь называл «Живые и мертвые».
С Серпилиным, Синцовым, с Таней Овсянниковой он расстался во втором томе в разрушенном, но победном Сталинграде. Впереди еще была целая война. Но казалось порой, что ему уже нечего сказать об этом времени. В конце концов, кому какое дело, как сложатся судьбы его героев, если главное — исход самой войны уже предрешен.
Быть может, на это настраивали его письма читателей, приток которых с появлением новых и новых изданий «Солдатами не рождаются» снова увеличился. Он все чаще ловил себя на том, что восторги и похвалы почти не трогают, не проникают глубоко в душу, так же как комплименты в прессе. Каждый же упрек, просто неудовлетворенность глубоко ранят. Особенно если это письма фронтовиков. С разочарованием он убеждался, что описания встречи Серпилина со Сталиным, а потом разговор о ней с Иваном Алексеевичем, генштабистом, который вплоть до сталинградской катастрофы гитлеровцев встречался по службе со Сталиным чуть ли не каждый день, эти страницы, которые, по его замыслу, должны были стать нервным центром всего романа, не произвели того впечатления, на которое он рассчитывал.
Обижаться на читателей? Дуться, даже злиться можно на критику, благо она таких поводов предоставляет сколько угодно. А на читателя пенять нечего.
Выход в том, чтобы снова обратиться к прошлому, к первым дням войны и всему, что ей предшествовало. «Пройти» эти годы еще раз, если не для читателя, то для себя.
Такую возможность сулила работа, связанная с расшифровкой военных дневников. Эта мысль засела в голове в конце 1965 года, после того, как он намыкался по журналам и по издательствам со своим докладом, сделанным в канун двадцатилетия Победы. Слушали, аплодировали, восторгались, жали руку, обнимали, печатать же не дают. А это, может быть, и есть то, чего не хватает читателю в его романах. Та страшная правда, которую ему удалось, кажется, выразить в публицистической форме, но которая еще не дается ему в руки в романной. Значит, надо подождать. Дать заговорить документам.
Чертыхнувшись после очередной и окончательной неудачи с публикацией доклада, он сказал себе весело и зло: не хотят печатать двадцать пять страниц, будут иметь дело с пятьюдесятью печатными листами дневников.
Когда он извлек из архивной пыли первые свои блокноты и тетради, прочитал их и продиктовал заново Нине Павловне, прокомментировал и отнес в «Новый мир», история повторилась. Только теперь вместе с ним чертыхаться пришлось и Твардовскому. Его, К.М. «Стадиям», посвященным первым, самым страшным месяцам войны, суждено было пролежать в редакционном портфеле журнала по крайней мере десять раз по сто дней. Были гранки, была верстка, были письменные и устные рецензии историков, ветеранов войны, полководцев, не хватало пустяка — визы Главлита. Тихий, скромный, интеллигентный человек, который сидел в таком же скромном и тихом кабинете в «Новом мире» — уполномоченный этого самого Главлита, разводил руками и отсылал в Китайский проезд, штаб-квартиру, где восседала уже целая гирлянда таких человеков, которые сами тоже ничего не решали и все кивали куда-то наверх. Наверху, то есть в самом главном кабинете этого учреждения, призванного хранить государственные и иные тайны от их проникновения в печать, царил Романов Павел Константинович. Паша, как позволяли себе называть его старые друзья, среди которых сам главный цензор, как ни странно, числил и его, Симонова. При встречах всегда называл Костей, крепко обнимал и целовал взасос. К чести Паши, обладавшего прямоугольной, в виде параллелепипеда, головой короткой в тугих кольцах стрижкой римского императора, глазами навыкат и громоподобным голосом, было то, что он никогда никого никуда не отсылал, а все решал сам, т.е. убеждал, что надо подождать, уверял, что сейчас не время и что вообще-то, честно говоря, не то ты, Костя, задумал, не то сейчас нужно...
В эту же пору и, по иронии судьбы, тоже с Романовым, только на этот раз сидящим в Госкино, завязался другой узелок — с фильмом, который он, К.М., затеял вместе с режиссером Ордынским и старым, по фронтовой корреспондентской жизни, знакомцем — журналистом и прозаиком Евгением Воробьевым.
Снимали ленту о битве под Москвой, по сути о тех же событиях, что и его «Сто дней». Замысел настоян был, естественно, на тех же его идеях и представлениях, которые Ордынский и Воробьев полностью разделяли. Сделали фильм как полудокументальный, полуигровой и посвятили приближавшемуся двадцатипятилетию великой битвы, что, по соображениям авторов, могло бы служить ему чем-то вроде пропуска на экран. Не тут-то было. На пути фильма возникли те же препятствия, что и с дневниками.
Все яснее становился почерк нового времени. Ему лично никто ни в чем не отказывал. Не было такого кабинета — в Главлите, в Главпуре, в Госкино, даже в ЦК, где его не приняли бы, как говорится, с первого предъявления, не напоили бы чаем с лимоном и сушками, не отдали бы должное его заслугам и «необыкновенной популярности», не пообещали бы рассмотреть, вернуться еще раз, снова встретиться, если потребуется. Он рвался в бой. Как стрелы, оттачивал аргументы, облекался в кольчугу источников, свидетельств и документов, выстраивал, как опытнейший тактик, запасные позиции, на которые в крайнем случае можно было бы отступить, а его встречали комплиментами и чуть ли не объятьями, лили елей и заверяли, что никаких проблем не будет.
Правда, у Романова из Госкино стиль все же иной, чем у его однофамильца из Главлита. Он никогда не слышал, чтобы киношного Романова кто-нибудь даже заочно называл просто Лешей, но обязательно по отчеству — Алексей Владимирович. Манеры у него были вальяжными, голос, хоть и баритон, но не рыкающий, а скорее медоточивый, аргументы свои он черпал, как правило, в публикациях «Правды» и «Коммуниста».
Собрав и сопоставив однажды вечером, сидя в одиночестве на даче в Красной Пахре, услышанное от того и другого Романова, Симонов пришел в ужас. Шла, по сути дела, ревизия всего, что было сказано на XX съезде и в постановлении 1956 года «О культе личности». Если свести все к одному знаменателю, то ему, Симонову, повторяли, правда без прямых ссылок, то, что было сказано Сталиным, а потом написано в приснопамятной статье «Культуры и жизни» относительно фильма «Молодая гвардия». Никакого беспорядочного отступления в первые дни и месяцы войны не было, не было окружений, не было растерянности, неподготовленности, не было и жутких неправдоподобных потерь. Короче, ничего такого, о чем Фадеев, пусть и в смягченной форме, написал в самом конце войны, о чем К.М. теперь, опираясь на факты, исследования, собственные дневники и свидетельства сотен участников войны, им лично опрошенных, от рядового до маршалов, пытается рассказать — спустя двадцать с лишним лет после победоносного окончания войны, в канун четвертьвекового юбилея московского сражения, десять лет спустя после XX съезда, через пять лет после XXII. Что же это такое делается? Что они творят? И догадывается ли об этом новое руководство?
Вопросы, которые он задавал себе по поводу художеств одного и другого Романова, отнюдь не были риторическими. Кого они представляют и олицетворяют? Кто они, собственно, такие? Аппаратчики, начавшие формироваться еще при Сталине и достигшие степеней известных уже при Никите. Поддакивали его, как это теперь называют, волюнтаризму, а втихомолку зубоскалили, копили зло, как это умеют делать только придавленные и вынужденные терпеть свою придавленность люди. И вот воспрянули духом, полагая, что уже одна их зоологическая неприязнь к Хрущеву — проходной балл. Из аппарата их, как и многих других, видно, в благодарность за какие-то невидимые глазу услуги, которые только и могут оказать такие незаметные с виду аппаратчики, двинули теперь на самостоятельные участки, и они там вполне самостоятельно, благо, что у нас теперь провозглашено уважительное отношение к кадрам, стали душить именно то, что следовало бы сохранить от эпохи Хрущева. Медвежью услугу оказывают и делу, и новому руководству.
У него впервые появилась мысль написать письмо и попроситься на прием к Брежневу.
Задумано — сделано. Письмо продиктовано Нине Павловне, тщательно отредактировано — здесь и общие вопросы, и его личные боли и недоумения. Все как будто уравновешено. Он пока еще мало представлял себе внутренний мир, наклонности, пристрастия адресата и потому особенно старался быть деловитым и убедительным. Опасности возрождения культа личности Сталина было уделено особое внимание. Там, наверху, должны, не могут не понять, что все эти слухи и недомолвки, бесчинства аппаратчиков бросают тень на импонировавшую всем объективность, беспристрастность, с которой на торжественном заседании в Кремле 9 мая 1965 года было названо имя Сталина. Письмо решил отправить самым ординарным способом: вышел из дома и бросил его в почтовый ящик. На ожидание ответа положил не менее трех недель. Пока дойдет до ЦК, пока пропутешествует через все инстанции в секретариат Первого, пока там ему доложат. Если доложат...
Через неделю раздался телефонный звонок, и человек, назвавший себя странным именем Александрова-Агентова «из секретариата Леонида Ильича», спросил его вежливым, но напористым говорком, сможет ли он придти в ЦК — «это по поводу вашего письма Леониду Ильичу». Когда? «Ну, например, завтра, во второй половине дня, часика эдак в три?»
Может ли он? Еще бы он не мог. Расспросил — какой подъезд и на какой этаж. Все оказалось ему знакомым, Брежнев сидел в том же кабинете, что и Хрущев, когда он находился на Старой площади, а не в Кремле. Тот же, соответственно, первый подъезд и пятый этаж.
Спеша на следующий день на машине в центр, Симонов не рассчитывал на встречу с Брежневым. Скорее всего, этот Александров-Агентов, он еще раз отметил про себя непривычность фамилии, хочет побеседовать с ним предварительно, прощупать, прежде чем отважиться на доклад и рекомендации шефу.
Все произошло гораздо проще. Из маленького, заваленного ворохами «белого ТАССа» кабинета хозяин его, небольшого роста, весь из быстрых нервических движений и коротких, скороговоркой произносимых фраз, человечек повел Симонова прямо в приемную шефа, где уже ожидало в нарочито непринужденных позах несколько персон. Перекинувшись парой коротких быстрых фраз с секретарем, Александров-Агентов, как бы извиняясь, попросил Симонова несколько минут подождать и бросил успокаивающий быстрый взгляд на остальных в приемной. Дверь в кабинет скоро отворилась, выпуская посетителя, который, как успел Симонов подметить, чем-то неуловимо напоминал всех остальных ожидающих, словно они были сделаны по одной колодке. Секретарь пристально взглянул на шеренгу телефонных аппаратов, выстроившихся перед ним на столе. По какому-то одному ему ведомому признаку определил, что хозяин кабинета сейчас ни с кем не разговаривает, и кивнул Александрову. Тот буквально подтолкнул К.М. к двери: «Идите!» Единственное, что он успел в этой суматохе уловить, было: «Письмо ваше Леонид Ильич читал, вы можете быть с ним совершенно откровенны».
Вот и Брежнев. Солидного роста, с широко, по-гвардейски развернутыми плечами, с густыми бровями, которые тогда еще не стали, но скоро станут как бы эмблемой, фирменным знаком лидера. Движения спокойные, шаг, которым он, встав из-за стола, двинулся навстречу гостю через длинный свой кабинет, неспешный, уверенный. Голос низковат, чуть-чуть как бы даже в нос, но произношение отчетливое.
Хозяин крепко пожал гостю руку, а потом как бы даже приобняв его, подтолкнул к длинному заседательскому столу со стаканами с чаем и тарелочками с сушками и кружками лимона. Сели, и Брежнев вдруг без всякого предисловия стал рассказывать своим низким, слегка гудящим голосом, как он не то в конце сорок второго, не то в конце сорок третьего года, в Крыму, жалел, что не смог увидеть Симонова, который находился тогда в войсках 18-й армии. К.М. в войну не был в расположении этой армии, не подозревал тогда о существовании Брежнева, начальника политотдела армии, генерал-лейтенанта, но сказал, что ему тоже очень жаль. Брежнев продолжал в том же духе. Упомянул, конечно, о том, как они, политработники, использовали в войну его стихи, особенно «Жди меня» и «Убей немца». На мгновение что-то сместилось в сознании К.М. Показалось, что это не он, писатель, пришел по важному государственному делу к первому в стране человеку, а его, писателя, поэта, «прихватил» со своими восторгами случайный читатель, из ветеранов войны, и вот-вот попросит автограф.
Улучив паузу в этом неторопливом потоке воспоминаний, он выразил удовольствие, что Леонид Ильич, несмотря на всю понятную занятость, смог познакомиться с его письмом, да еще так быстро.
Брежнев, кажется, нисколько не обиделся, что его прервали. Посерьезнел, даже посуровел лицом, встал из-за стола. Прошелся взад-вперед по ковровой дорожке, положил успокаивающе руку на плечо попытавшемуся было встать гостю. Сказал спокойно и с силой, без всяких предисловий, словно бы только об этом и шла у них речь все двадцать-тридцать минут:
— Пока я жив, — он тут же неспешно и с достоинством поправился, — пока я в этом кабинете, крови не будет.
Он еще раз прошелся по ковровой дорожке в ту и другую сторону, замедлив свое мерное движение около двери. Но К.М. и без этого, весьма деликатного, отметил он про себя, намека, понял, что разговор окончен. Он встал со стула, теперь уже безо всякого возражения со стороны хозяина кабинета, и, двигаясь тоже по направлению к двери, стал, как водится, извиняться, что побеспокоил, благодарить. Брежнев крепко пожал ему руку, на какой-то момент даже задержав ее в своей большой, мягкой руке. Он ни слова не добавил к сказанной фразе, точно, произнеся ее, исчерпал себя до дна. Только кивал и теснил гостя к двери, за которой его поджидал Александров-Агентов.
Ни о чем не расспрашивая, так уж, видимо, было здесь заведено, помощник Первого секретаря проводил его до постового, который, не спрашивая ни документов, ни фамилии, кивнул приветственно и снял со стоявшего перед ним, как мачта под парусами, гвоздя белую бумажку и кинул, надорвав, в небольшую коробку рядом.
— Вы удовлетворены? — бросил все же на прощанье Александров, и это было вопросом и утверждением одновременно.
— Вполне, — ответил он и в ту минуту был абсолютно искренен. Сидя в машине, рядом с неизменным Толей, который в отличие от тактичного Александрова-Агентова засыпал его вопросами, сообразил, что о главном-то, о судьбе его вещей, о чем он тоже упоминал в письме к Брежневу, не было сказано ни слова.
Позднее, когда он убедился, к собственному изумлению, что в темпах прохождения их через цензурные рогатки ничего не изменилось, у него было время подумать, почему, собственно, все так произошло. И думал, и анализировал он не столько поведение Брежнева, сколько свое собственное. Это был третий лидер партии и страны, с которым ему выпало непосредственно общаться. Вроде бы не в диковинку ему встречи с сильными мира сего. В чем же дело, почему он ушел, не только ничего не добившись, но и не получив никакой дополнительной ясности.
«Все дело в этой брежневской фразе», — говорил он себе. Человек до болезненного объективный, он и много лет спустя, когда у него уже не оставалось никаких иллюзий в отношении Брежнева, признавал, что эта его фраза: «Пока я в этом кабинете, крови не будет», достойна лидера. Такие фразы входят в историю, и даже нет необходимости заносить ее в какие-либо дневники.
«Услышав такое, — продолжал он размышлять, — нелепо, бестактно заводить речь о своих проблемах, как бы они ни были важны. Эта фраза была ответом на главную боль, с которой он обратился к первому в стране человеку. И коль эта боль снята, все остальное, подразумевалось, должно решаться уже само собой. Ведь ясно же, что именно тому, чтобы не повторилось страшное прошлое, и служили его, симоновские, вещи, о которых он написал и вот пришел поговорить с Брежневым».
Он допускал и другое объяснение. На него снова, в который уже раз, гипнотически подействовала вся эта обстановка, окружающая власть, это странное, неповторимое чувство, которое охватывает человека, когда он вдруг оказывается лицом к лицу с тем, кто ее олицетворяет. О великая и коварная магия приобщения! Даже такому человеку, как он, который сам вызывал похожие чувства и метаморфозы у миллионов своих поклонников, трудно было противостоять ей.
То, что не воспоследовало каких-то конструктивных указаний сразу после визита, еще можно объяснить. В конце концов, он сам виноват. Не заикнулся о своих вещах Первому, не задержался после беседы у Александрова, не поделился с ним. Трудно было понять и объяснить глухое молчание потом, когда, потеряв терпение, он снова обратился с письмом к Брежневу, а потом еще и еще раз.
Нина Павловна с унылым видом записывала их под его диктовку, расшифровывала и отправляла вторые экземпляры в очередную папку «Всего сделанного» сначала за 1966, потом — за 1967, 68-й годы. Если и был, по ее мнению, какой-то смысл в этих обращениях, то именно в том, чтобы сохранить для истории свидетельства их полной бесперспективности. Когда дело дошло уже до телеграмм — одна из них касалась фильма «Если дорог тебе твой дом», — она почти уже с мазохистским удовольствием вместе с экземпляром текста вложила во «Все сделанное» и квитанцию об ее отправке. Текст был голосом вопиющего в пустыне: «Очень прошу Вас лично помочь решению вопроса с выпуском нашего фильма на экран. Без решения этого вопроса стало невыносимо жить и работать...»
Ответа не было, как не было его и от Александрова-Агентова, которому он послал, в расчете на передачу или, по крайней мере, для доклада Брежневу, новомировскую верстку «Стадий». В очередной раз задержанную Романовым из Главлита уже после нескольких редактур, которые они со скрежетом зубовным учиняли вместе с Твардовским.
«Оттуда» поступали сигналы другого рода. Он, например, никак не мог не увязать со своим походом к Брежневу то, что на IV съезде Союза писателей, в мае 1967 года, как раз в разгар всех его мытарств с фильмами и дневниками, он был избран в правление союза, а потом, на пленуме, и секретарем правления ССП, пусть и среди сорока двух или сорока четырех. И чем больше глубокомысленного тумана напускал в предварительных беседах с ним Георгий Марков, уже почти единолично правивший союзом при больном Федине, тем яснее К.М. становилось, что без «пятого этажа» тут не обошлось. И это при том, что на этом съезде он, Симонов, вслед за Олесем Гончаром с открытым забралом выступил против цензуры, против «невидимок с красным карандашом», как их убийственно, надо отдать ему должное, припечатал Олесь Терентьевич.
Говорил К.М. на съезде следующее: «Если мы не будем писать полной правды о прошлом, мы никогда не завоюем полного доверия молодежи. Но порою на этом пути правды истории у нас возникают помехи, иногда серьезные, иногда анекдотические». Под смех и бурные аплодисменты съезда он в лицах рассказал, как в 1963 году у него из романа вычеркивали слово Сталинград, хотя речь-то в романе шла как раз о Сталинградской битве, не Волгоградской же ее называть. А теперь из дневников, все еще не опубликованных, во фразе о том, как «корреспонденты встретились в подземном сталинградском штабе с командующим фронтом Еременко и членом военного совета Хрущевым» вычеркивают совсем наоборот. Снова — смех в зале.
До каких пор это будет делаться? Когда мы, наконец, научимся относиться к истории серьезно и ответственно, не шарахаясь из стороны в сторону? В паруса истории должен дуть только один ветер, ветер правды, другого ветра у истории нет и не будет, а все остальное — это не ветра истории, это сквозняки конъюнктуры.
Перечитывая и правя потом стенограмму, он подумал, правда, что этих фраз можно бы избежать: отдают высокопарностью, маслом масляным, можно бы закончить там, где раздался смех. Но сказанное есть сказанное. Вычеркни теперь — скажут, убоялся.
Что же до избрания секретарем союза, то, хотя в письме Овечкину он и пошучивал относительно сорока двух богатырей, вся эта ностальгически знакомая процедура не осталась ему безразличной. Приятно убедиться, что в правление он тайным голосованием избран почти единогласно, увидеть потом на состоявшемся тут же первом заседании правления лес рук, поднятых за него при выборах секретарей.
В отличие от многих других писатели на своих форумах, как и академики, даже в сталинские времена никогда не церемонились и заваливали посредством тайного голосования, бывало, даже официальных фаворитов.
Самое же главное в его новом, вернее, частично вернувшемся старом положении было то, что возможности как-то влиять на литературный процесс, который начинал помаленьку принимать довольно странное направление, увеличивались. Что ни говори, а бланк секретаря Союза писателей прибавлял веса его многочисленным обращениям.
Госкино после еще нескольких месяцев волокиты разрешило-таки премьеру фильма «Если дорог тебе твой дом» и согласилось затем пустить его в прокат, хотя и не первым экраном. Чуда тут не было.
Спасибо «Комсомолке» — устроили у себя просмотр и обсуждение на традиционном «четверге», никого не спрашивая. Благодаря заметке об этом «четверге», которую прочитали даже на пятом этаже Старой площади, дело и двинулось вперед. Фильм выразили желание посмотреть несколько членов Политбюро. Смотрели у себя на дачах, отзывы, даже по признанию киноглавка, были благожелательные. С большинством поправок Симонов с Ордынским решили согласиться. Например, добавили парад Победы. Чтобы не слишком приуныл, значит, наш зритель при виде потерь, которые несли советские войска под Москвой в 1941 году, не ударился бы в панику, пессимизм. Показывать поражения, оказывается, можно, но так, чтобы одновременно не забыть и о счастливом конце. Ладно, пошли на это, хотя в фильме теперь стало четыре парада — два предвоенных, ноябрьский сорок первого и парад Победы.
После этого премьеру все равно дважды откладывали, хотя, ко всему прочему, появилась положительная статья в «Правде». Как скала встал Епишев, начальник Главпура. Потребовал убрать кадры об уничтожении высшего командного состава перед войной. Не постеснялся даже, говорят, сходить по этому поводу к Брежневу. Во всяком случае, с пятого этажа последовал звонок с добрым советом «пойти навстречу». Пришлось пойти, хотя, может быть, правильнее было проявить характер, наложить вето на выход фильма. Но жалко того, что в нем все-таки осталось — с такой беспощадностью о катастрофе первых месяцев войны в кино еще никто не говорил. После фильма, может быть, и «Сто дней» покажутся не такими уж страшными.
Да и как воспротивиться выходу фильма? Фильм ведь не книга. Его делают десятки людей. Как лишить их результатов труда? Дополнительной доли заработка? Се ля ви...
Знать бы К.М., что двадцать лет спустя, через семь лет после его смерти, на старте очередного политического катаклизма, названного на этот раз перестройкой, так же будут мыкаться со своим фильмом о нем сын его фронтового спутника Павла Трошкина и обретенный на склоне жизни друг. И так же уступят, по тем же, в сущности, причинам, чуть ли не тем же персонажам. Тому же Паше Романову, и тому же Георгию Мокеичу, и тому же боссу телевидения Лапину, основные схватки с которым у К.М. еще впереди. Только второго Романова не будет. Он оставит свое место Ермашу, который достойно разовьет традиции предшественника.
С одним куском К.М. расставаться было особенно невмоготу. Гениальная режиссерская придумка: из кадра, выполненного на манер коллективного портрета — так тогда любили сниматься после окончания военной академии, училища или после какого-нибудь крупного мероприятия, исчезали лица, словно бы растворялись в наплывающем тумане — лица комкоров, командармов второго ранга, первого, лица маршалов... Из этих пяти исчезали трое — Тухачевский, Егоров, Блюхер. Оставались двое — Ворошилов и Буденный.
В таком, кастрированном виде и вышел фильм на экраны. И все же что-то полезное К.М. извлек из всей этой катавасии: еще более укрепился в мысли о том, что бороться можно и нужно. Вцепляться и руками, и зубами...
На премьере вокруг Дома кино на Васильевской, недалеко от Белорусского вокзала, толпы людей выспрашивали лишний билетик. Он сам с трудом прорвался сквозь кордоны. Порадовала публика. Нормальный, интеллигентный народ — из кинематографической, из литературной среды, много студентов, возможно, даже вечерников, ветераны войны, специально приглашенные им, Воробьевым и Ордынским.
Когда он третьим, вслед за своими соавторами, поднялся при представлении творческого коллектива на сцену, аплодисменты явно усилились. Вообще все, что здесь происходило, отдавало демонстрацией, и он ловил себя на том, что в отличие от прошлых лет не чурался, а радовался.
К тому времени он проник уже в таинства механизма, заработавшего после октябрьского пленума ЦК КПСС в идеологической сфере. На первый взгляд, вообще никакой специальной политики в области науки и культуры не было. Главные люди, включая и самого Брежнева, избегали высказываться конкретно, с употреблением тех или иных имен и названий, как бы предоставляя событиям развиваться имманентно, а людям и институциям поступать так, как они сами считают нужным. Писатель пусть пишет и предлагает, что хочет, но и цензор пусть действует на свое усмотрение. Рассказывали даже, что вновь назначенный заведующий отделом культуры ЦК, бывший партизан Шауро к вящему изумлению своих подчиненных запрещал им ходить на премьеры спектаклей и фильмов, на вернисажи, не рекомендовал высказываться по тем или иным спорным вещам, дабы отделу всегда было обеспечено своеобразное алиби на случай возникновения серьезных коллизий.
Завзятые остряки при упоминании об этом отделе и его руководителе принимались напевать куплет популярной песенки из репертуара входившей в моду Эдиты Пьехи: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».
Словом, образовался — трудно было пока сказать, по каким причинам — своеобразный вакуум, который первыми, увы, поспешили заполнить, весьма преуспев в этом, чиновники типа тех же двух Романовых. И они, за редкими исключениями, тяготели, разумеется, к запретам. Философски это можно объяснить. Запрет — такая же обязательная и неотъемлемая часть снаряжения бюрократа, администратора, как кортик — униформы морского офицера. Искусно орудуя им — тут как в каратэ, вовсе не обязательно наносить удары физически — бюрократ добивается расположения в верхах и утяжеляет свой вес в глазах творческого люда, который, увы, с пиететом относится только к откровенным проявлениям силы. Оставалось диву даваться, как споро формировалось это новое поколение бюрократ-чиновников, как быстро тут люди разных возрастов находили друг друга и, взявшись, образно говоря, за руки, создавали новые и новые заслоны.
Премьера их с Воробьевым и Ордынским фильма оказалась ласточкой, которая не сделала весны. Столпер, снявший второй фильм по его романам, подвергался моральным истязаниям в различного рода управлениях, комиссиях и коллегиях Госкино. Верстка «Ста дней» неподвижно лежала в Главлите, Главпуре и у Александрова-Агентова, а соответственно у Твардовского. Поставь он дневники без спроса в номер, уполномоченный Главлита не подпишет сигнал к печати.
«Я уже просто перестаю понимать, — вырвалось у него в письме вдове Казакевича, которая пожаловалась ему на безобразия, которые чинятся при публикации дневников ее покойного мужа, — я уже перестаю понимать, что у нас может быть напечатано, а что не может, что пропустит цензура и чего она не пропустит, да и вряд ли вообще кто-нибудь сейчас в состоянии понять, что у нас в этом смысле делается».
Оставалось развести руками, на что и уповали многочисленные его оппоненты во всех тех учреждениях, где полеживали его вещи, дожидаясь, по словам тех же оппонентов, своего часа. Мол, дайте срок, не горячитесь, все уляжется, все станет на свои места, и тогда все разрешится благополучно. Об этом же можно было услышать и от иных друзей, которые при удобном случае укоряли его, что он никак не может заставить себя сесть за роман. В комитете по госпремиям, мол, ждут не дождутся, когда он, наконец, закончит свою трилогию, чтобы увенчать его Ленинской премией. Пора, давно пора.
«Если дорог тебе твой дом» наконец на экране, — отвечал он завзятым болельщикам своей прозы, — а два фильма и дневники все еще в воздухе, и пока с ними не решилось, засесть за роман не хватает сил».
Нина Павловна, через которую, как всегда, шла вся его переписка и с властями предержащими, и с редакциями, и с читателями, одобряла, как он догадывался, его линию.
— Счастливая у вас, К.М., натура, — как-то вырвалось у нее. — Если уж вы за что-то беретесь, то обязательно доводите до конца.
Достаточно изучили они друг друга за все годы, чтобы понять: это не только одобрение, но и совет. Он действительно любит доводить каждое дело до конца и находит в этом особое, быть может, даже не всем и доступное удовольствие. Препятствия только раззадоривают его, прибавляют сил. Со злым азартом распутывает и предугадывает он ходы противника, обмозговывает и наносит ответные, а то и превентивные удары. Схватки за фильм об обороне Москвы, увенчавшиеся наконец успехом, стали для него хорошей школой. Противник не стесняется в методах, спешит укрепить свои позиции. Значит, и нам надо не теряться и действовать теми же средствами, благо цель у нас, в отличие от них, благородная.
Нам — а кому, собственно, нам? — задает он себе вопрос. И, задумавшись, обнаруживает с некоторой неожиданностью, что последние годы — да, начиная, наверное, с отъезда в Ташкент — действовал скорее как одиночка, чем представитель какой-то группы, организации или хотя бы течения. После того, как столько лет он ощущал себя частью литературной машины, пусть и весьма существенной, ему был в охотку этот вольный поиск. Чем-то он напоминал сам себе характерного для любимой им американской литературы героя, который всего на свете добивается исключительно собственными усилиями, вопреки всем обстоятельствам. И либо приходит к победе, либо терпит крах, за который ему тоже некого винить. В первую очередь он имел в виду, конечно же, героев старины Хэма, но такие же типы встретишь и у Фолкнера, и у Апдайка, и у Артура Миллера или Теннесси Вильямса, и у Роберта Пенна Уоррена... Собственно, это даже не литературная традиция, а склад национального характера, отражение самой судьбы уникальной нации в ее литературе.
В конце концов, эту традицию можно вывести еще из Фенимора Купера и его «Зверобоя». Все эти годы он и чувствовал себя эдаким Зверобоем или Звероловом, Следопытом, прокладывающим свою рискованную тропу в джунглях и прериях человеческого общежития.
Теперь настала пора оглянуться вокруг. Поискать, нет ли поблизости других таких, как ты, протянуть им руку... Предложить пойти вместе.
Смолоду жизнь складывалась так, что вокруг него было много друзей. Ему ли, кто тем и популярен, что воспел и создал культ мужской дружбы, не иметь вокруг себя соратников. Но жизнь не стояла на месте, а время не уставало собирать свою жатву, редактировало страницы его телефонных книжек. Ушел Фадеев. Еще раньше — Горбатов. Федин одряхлел и уединился у себя на даче в Переделкине, как в башне из слоновой кости. Давид Ортенберг, честно скажем, уже не тот... К.М. отдалился от Суркова и Кривицкого. Не без удивления он открывал, что рядом не оставалось уже людей, которые были бы старше его. Нет, не по возрасту только. По масштабу, по авторитету, по влиянию... В том не было, он уверен, высокомерия, что именно так он думал о многочисленных своих близких друзьях, с которыми не один пуд соли съеден вместе. Так уж получилось, что все, кого литературная, вернее, окололитературная молва причисляет сейчас к симоновскому клану, иногда употребляют выраженьице и похлеще — мафия, все пришли и задержались около него в результате каких-нибудь литературных и житейских передряг, в которых ему довелось помочь им. Те же Лазарь Шиндель-Лазарев или Саша Караганов, Шура Борщаговский или Женя Воробьев... Не говоря уж о тех, кто много моложе: Юлиан Семенов, Борис Панкин — с недавних пор редактор «Комсомолки»... Тут, естественно, и друзья-сотрудники — Нина Павловна с Юзом, Марк Келлерман, совершенно незаменимый человек в кляузных юридических делах.
Его потянуло к тем, чье превосходство над собой он признавал свободно, непринужденно, без каких-либо комплексов. К Твардовскому, к Овечкину, которые друг с другом были, пожалуй, даже ближе, чем каждый из них с ним. Это он тоже признавал и тоже без какой-то горечи в душе. Значит, так уж надо, так уж получилось.
С Твардовским историю отношений он вел от давнего, в разгаре войны, письма своего по поводу «Теркина», хотя хорошо знакомы они были и раньше. Ответ Твардовского, немного как будто менторский, с ноткой покровительственного удивления по поводу его, симоновских, излияний, при первом чтении вроде бы и покоробил. Но только при первом чтении... Тогда литературные да и прочие дела Военкора были на таком взлете, что, честно говоря, мало что могло серьезно задеть.
Ниточка, которая в ту пору протянулась между ними, никогда уже не порывалась. В послевоенный период в литературных да и иных кругах немало судачили по поводу того, как и почему они не однажды сменяли друг друга на посту главного редактора «Нового мира». Не обошлось, конечно, и без попыток позлословить, к чему прикладывали руку и поочередно сменявшие друг друга редакционные команды. На их отношения это не влияло. Они-то двое знали, при каждой перемене, где собака зарыта.
Теперь вахту несет Саша. Без малого десятый год уже несет. С той самой поры, как, сдав ему журнал, он уехал в Ташкент. Разговоры о том, что, мол, «чендж» состоялся не без влияния Хрущева, не укрепляли, конечно, Сашиных тылов после падения Никиты, тем более и линию он продолжал гнуть такую, которая у тех же романовых и иже с ними, этих самозваных ревнителей культовых традиций, поборников реставрации, восторга не вызывала.
Приближавшееся сорокалетие «Нового мира» было как нельзя более удобным поводом — без декларации, без театральных жестов — ненарочито выразить свою солидарность. Подумав хорошенько, он решил к «красному дню» приурочить два послания. Одно, чуточку построже, поофициальнее, такое, что, в случае чего, годится и для печати, — адресовать редколлегии журнала. Второе, сугубо личное — Саше!
«Дорогой Саша... Ты поддержал честь и достоинство нашей литературы своей речью на съезде партии (это еще раз и не случайно о XXII съезде КПСС), а теперь вновь сказал о том, чем должна и чем не имеет права не быть наша литература. И право так говорить тебе дала не только твоя собственная литературная работа, но и то, как ты на протяжении долгих и трудных лет ведешь "Новый мир"».
Сам он надежнее и увереннее себя чувствовал оттого, что если уж суждено его «Стадиям» отлеживаться в запасниках редакционных, то лежат они, худа без добра не бывает, именно в «Новом мире», и брешь они в главлитовской «линии Мажино» пробивают с Сашей двойною тягой.
Прочитав его рукопись впервые, Твардовский только сказал «берем», считая, видимо, излишним распространяться о ее достоинствах. В разгаре же их мытарств по пробиванию дневников в печать бросил Жене Воробьеву, что «Сто дней», быть может, самое лучшее из того, что написал Симонов.
Как К.М. понял, такая похвала Воробьеву показалась сомнительной, и он не сразу рискнул пересказать ему свой разговор с Твардовским. Желая, видимо, подсластить то, что представлялось ему горькой пилюлей, стал даже приводить свои возражения Твардовскому, который, тем не менее, вынужден был констатировать... Женя стоял на своем: очень может быть, что дневники окажутся долговечнее романов.
Вот так с Твардовским всегда — то ли радоваться его похвалам, то ли досадовать. Никогда не знаешь, чего от него ждать. Он решил, однако, успокоить своего разволновавшегося не в меру соавтора по фильму:
— Не зря ты обиделся? Вдруг Александр Трифонович прав?
В конце концов, то, что напечатано, — уже прошлое. Дневники — будущее. То, что лежит в «Новом мире», — только начало. То, что он успел расшифровать и прокомментировать. Будет не сто, а тысяча с лишним дней. Столько, сколько была война.
Вскоре это и у него самого прорвалось — в письме к Овечкину: «Два с половиною года я работал над книгою, которую считаю лучшим из всего написанного мною...»
Послал это письмо по тяжелому поводу. Последние годы складывались у Овечкина особенно грустно. Что-то не шло в печать по цензурным соображениям. Что-то просто не получалось, на что ему, автору и члену редколлегии «Нового мира», Твардовский вынужден был указывать нелицеприятно. Он сердился, жаловался К.М., становился все более нелюдимым. И в одну далеко не прекрасную минуту взял и выстрелил себе в висок из старого охотничьего ружья. Выстрел оказался не смертельным, и, чуть поправившись, Овечкин, рассорившийся в пух и прах с местным партийным начальством, двинулся в Ташкент, в немалой степени под влиянием его, К.М., писем и рассказов об этом «городе хлебном».
Фраза о «Дневниках» в письме Овечкину заканчивалась следующими словами, ради которых и была начата: «...Теперь эта книга полтора года лежит в цензуре и неизвестно, через сколько месяцев или лет она появится в печати...»
Для К.М., который вечно изводил себя самопопреками, непрестанно искал и находил в себе душевные изъяны, словно власяницу носил на себе репутацию счастливчика и баловня судьбы, Овечкин, известный всерьез одними только «районными буднями», — но зато как известный! — служил олицетворением совести писательской. Импонировала его колючесть, бескомпромиссность, весь его облик трудяги-бессребреника, на которого, как на бедного Иова, сыпалась одна беда за другой.
Отвечая Овечкину на его письмо-поздравление по случаю отпразднованного в ноябре 1965 года пятидесятилетия, он в шутливой форме рассказал, как прошли все эти мероприятия.
Тот душевный порыв, который продиктовало ему поразившее многих юбилейное слово, то самое, что сам он не раз называл потом исповедью и программой своей на вторую половину жизни, не мог быть исчерпан одной речью и теперь выплеснулся на страницы письма Овечкину: «Недавно, разбирая по случаю предъюбилейной ностальгии архив, нашел в нем копию твоей большой статьи в "Правду", которую ты, когда-то написав, прислал мне в копии почитать. Прочитал ее снова и снова подумал, какой же ты мужественный, хороший, настоящий человек. Человек, которому большинству из нас, я бы добавил, почти всем, есть чему поучиться».
Рассказывая другу о ходе четвертого съезда писателей, объясняя, почему при общей у них теперь с Овечкиным аллергии к «окололитературной суете» он согласился все-таки, чтобы его избрали секретарем союза, он по сути дела излагает свою нынешнюю стратегию и тактику — борьба одиночки, который должен полагаться прежде всего на себя. Словно бы предчувствуя, что жить Овечкину оставалось недолго, К.М. не скупился на добрые слова и как бы вскользь, но со значением упоминал, что и с трибуны съезда, и в кулуарах многие снова и снова вспоминали автора «Районных будней», как пример стойкости и мужества.
Что касается литературных своих перипетий, то писал о них вскользь, как бы не желая огорчать Овечкина мелкими, преходящими передрягами: происходят, мол, разные схватки, возня и метания то туда, то обратно, но где-то под этим есть чувство, что все эти туда-обратные движения происходят все-таки на конвейере, который движется хоть и медленнее, чем хотелось бы, но все-таки в одну и при этом в правильную сторону.
На самом деле время и события постепенно убавляли его оптимизм. «Ни один человек, — сообщал он ташкентскому затворнику, вовлекая его исподволь в орбиту своих забот, — который воевал и пережил всей душой 41-й год, не станет, конечно, смаковать все ужасы этого периода, это ему не доставит удовольствия. Скорее наоборот, об этом тяжело вспоминать, но вспоминать об этом нужно...»
Говорил, что не видит опасности в том, чтобы отдать должное Сталину там, где он действительно заслуживает этого, а это касается и обороны Москвы. Гораздо опаснее тенденция замалчивать все отрицательное, что связывается с этим именем. И вот с этой тенденцией он будет бороться, сколько хватит сил. Был бы очень самоуверенным тот человек, который сегодня заявил бы, что знает всю правду о Сталине, но, с другой стороны, немыслимо ждать, когда вся эта правда будет известна, а до тех пор молчать.
Куда плодотворнее, — убежден он, — позиция, согласно которой писатель старается, во-первых, узнать как можно больше, а во-вторых, рассказать об этом в меру его способности и порядочности...
Пробивая «Сто дней» вместе с Трифоновичем, о котором расспрашивал в письмах Овечкин, упоминал, что «состояние духа у него бывает разное, иногда неплохое, иногда трудное, со всеми вытекающими отсюда последствиями, дискуссии у нас теперь ведутся не после, а до публикации книги или выхода фильма на экран, такие дискуссии, что один стоит, словно с кляпом во рту, а другой разглагольствует и размахивает руками. Если бы только размахивал. Он еще и шурует этими самыми руками, так что каждая новая встреча с твоими собственными произведениями — как свидание с неожиданностью.
Протестуешь — не слушают. Грозишь снять свою фамилию из титров фильма — никого это не трогает».
Тут еще из «Детгиза» прислали верстку книги стихов Маргариты Алигер. С его предисловием. Прочитал и ахнул. Поэма Риты «Зоя» на месте, в том числе и строки о Сталине: «Где сейчас находится Сталин? Сталин на посту», а двух страниц в его предисловии относительно нынешнего отношения к Сталину и автора книги, и его, Симонова, как не бывало. Из издательства торопят: типография ждать не может. Да и он понимает — не от издательства идет это самоуправство. Решил не мучить ни их, ни себя. Отправил в дирекцию письмо с просьбой снять вообще его предисловие. Если кто-то считает, что решения XX съезда отменены, это его дело. Он с этим согласиться не может и никогда не согласится. Другое письмо продиктовал Нине Павловне для Риты. Просил Алигер понять его и не жалеть о предисловии — Бог даст, мы еще напечатаем его как рецензию. Без вивисекций. Рекомендовал не принимать в качестве предисловия ничего, что предложит издательство. «В конце концов, твои стихи сами за себя говорят».
Закончив диктовать, победно посмотрел на Нину Павловну. Она ответила ему взглядом, исполненным понимания. Сколько лет уж, подумал, этот взгляд для него — высшая награда. Не так уж часто он его удостаивается. Последние годы — чаще. Никому бы не поверил, если бы ему сказали раньше, что можно вот так, платонически, бескорыстно, дружить с женщиной. Еще несколько лет назад что-то сдерживало, сковывало его. Скорее всего — разница их судеб. Думая об этом, он часто спрашивал себя, можно ли, есть ли право быть счастливым, когда другие несчастны? Впрочем, не о счастье он... Счастливым он, если по правде, никогда не был. Всегда, даже в лучшие годы, находилось что-то, что точило душу. Но преуспевающим... Да! Черт его знает, как и когда оно пришло — это преуспеяние. Он, во всяком случае, никогда и ничего специально для этого преуспеяния не делал. Деньги были просто производным от его каторжного труда, которому самым близким свидетелем была как раз Нина Павловна. Его забота была — распорядиться ими по-человечески. И видит Бог, ни о чем кроме сносных условий для этого самого каторжного труда он при этом не думал. Что поделаешь, если для этого ему нужно больше, чем другому, кто просто ходит на работу и с работы. Книги, рукописи, архивы, письма. Сколько ни расширяйся, а пространства для них все равно не хватает. Домик в Гульрипши — один сплошной кабинет. Жить там можно только тогда, когда его, хозяина, там нет. Дача в Красной Пахре — ничего не скажешь, большая, удобная, вся почти собственными руками сделанная — тоже лишь приложение к рабочему кабинету. Ну, а «верхний» кабинет в квартире превратился просто в верстак после того, как он установил здесь письменный стол, изготовленный по его собственным чертежам, придал ему форму лекала. Так называемый «нижний» кабинет, в доме по соседству, на первом этаже кооперативного писательского дома — ему позволили приобрести его — по существу его приемная и одновременно — рабочая комната для Нины Павловны, когда она не сидит в «верхнем» кабинете, для машинистки Татьяны Владимировны, для Марка Александровича.
В его четырехкомнатной кооперативной квартире у них с Ларисой даже спальни собственной не было, пока Катя не вышла замуж и не переехала к мужу.
Так это видится ему. И так оно и есть на самом деле. А как все видится окружающим? Он не Нину Павловну, конечно, имеет в виду. Она-то все прекрасно понимает. Задумавшись однажды, он взял попавшую ему под руки при разборах архива собственную фотографию времен начала войны — лихой интендант в военной фуражке — и написал на ней: «Такой шпаной я был буквально накануне нашего с Вами знакомства. А каким потом приличным человеком стал — только подумать!». Подумал и добавил, словно бы оправдываясь: «А все — Вы! 1 ноября 1966 года».
Фотография была сделана Павлом Трошкиным. Не о ней ли когда-то с нежной иронией писала ему мать из эвакуации? Двадцать пять лет назад. И двадцать один год уже как Павла, его фронтового друга, нет на свете. Зато ходит по земле его сын, как две капли воды похожий на отца. И занимается почти тем же, что и отец. Снимает. Только в кино.
Но, положа руку на сердце, больше всего его занимал сейчас тот парень, фотографию которого он подарил только что Нине Павловне. Кто он, какой он был? Хорошо бы с ним познакомиться. Дикая мысль — познакомиться с самим собой? Не такая уж дикая — на поверку. Вспоминая себя в прошлом, он порою действительно не узнавал себя.
Рядом с той, двадцатипятилетней давности фотографией положил нынешнюю, сделанную недавно Халдеем, вспомнились стихи Ходасевича. «Перед зеркалом»:
Я. Я. Я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого,
И всезнающего, как змея?
Он снова взглянул на свои портреты. Нет, мама, наверное, все же любила больше того, в фуражке, а не этого — желто-серого, полуседого. А вообще — внешнее сходство есть. Насчет внутреннего — утверждать затруднительнее. Никогда он не мог сказать о себе — всезнающий. Наоборот, мучило незнание... Вернее, осознание его, всегда приходившее позже... Когда что-то делал, что-то писал, воевал с трибуны — всегда был уверен в правоте. И говорил только о том, что, казалось, изучил до основания. Время проходило, и наступала пора дивиться собственной наивности, неосведомленности, доверчивости. Опять-таки почти по Ходасевичу:
От ничтожной причины — к причине,
А глядишь — заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.
Стремление разобраться в себе становилось навязчивой идеей. Может быть, это еще и дневники виноваты, разбирать которые, невзирая на затор с первой порцией, он продолжал. Они возвращали его к самому себе, тогдашнему, пожалуй, даже с большей достоверностью, чем вот это, принадлежащее уже Нине Павловне фото.
Он замечал, что с трудом заставляет себя садиться за роман, над которым начал-таки помаленьку работать. Зато мог часами, забыв о времени, об усталости, о том, что уже в мыле две сменяющие друг друга стенографистки, вглядываться и вчитываться в свои побуревшие тетради в дерматиновых и клеенчатых обложках. Здесь каждое пятно — то след земляночной сырости, капель дождя, сохранившийся, как цветок в гербарии, то круг от поставленного неаккуратно в ходе дружеской пирушки стакана. Каждый вычерк, каждая складка или вмятина на листе были напоминанием о событиях такой давней жизни.
Он передиктовывал эти записи, строго следуя принципу — ничего не изменять в них. И тут же вслух, тоже для стенографистки, комментировал, прокладывая мостик между теми временами и этими, а внутри — неподвластный его воле и невидимый даже для Нины Павловны шел другой процесс — строились и тут же разрушались, как карточный домик, мостики между ним тогдашним и теперешним. Часто концы никак не сходились с концами. Рождался замысел пьесы — быть может, это будет просто серия монологов одного лица — я нынешний, вчерашний, позавчерашний... Постепенно определилась первые вехи — 1937 год, 1947, 57-й, 67-й... Он и сам удивился, расставив эти даты: как РИТМИЧНО работает история, как ровно расставляет вехи. Можно, впрочем, и сдвинуть пограничные столбы на год — 36, 46, 56, 66-й... Получишь тот же, а быть может, и еще более разительный результат. Конец 36-го — это уже первый из «больших» процессов— над Каменевым и Зиновьевым... 46-й год — постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». 56-й год — XX съезд партии...
Как странно, возникла и задержалась мысль, что, думая о своем прошлом, он меряет его событиями политической жизни страны. Украшает ли его это? Какое-то время назад он, пожалуй, не задумываясь, ответил бы — да. И может быть, даже написал бы по этому поводу стихотворение. Покопаться в памяти — не было ли и написано такое. Сейчас он колебался в выводах.
Странно или, наоборот, естественно, — продолжал он диалог с собой, — что человек может так меняться. И неужели еще через десять лет, где-нибудь в 76-м, он снова не узнает себя — нынешнего?
Впрочем — что десять лет? Время, он чувствовал, уже наваливалось на него, как медведь, с новыми испытаниями. Шла весна 1968 года. Вести из Чехословакии — один партийный пленум за другим, ратующие за научный подход, демократизацию, свободу критики, стали сменяться тревожными — там начали поднимать голову националисты, сепаратисты, ревизионисты всех мастей. Трудно было уловить, в какой же именно момент сменились ветры.
Наиболее голосистыми, как можно было судить по нашей прессе, по впечатлениям побывавших в Чехословакии, оказались, конечно, писатели. Как, впрочем, и в Польше, где тоже неспокойно. В ответ зашевелились, заклекотали ястребы в наших литературных рядах. Соглашаться с ними не хотелось, но и возражать было трудно — без опоры на собственные наблюдения. Самый верный способ — поехать и взглянуть на все своими глазами. Ведь это — Чехословакия, его Прага, Злата Прага.
В апреле 68-го года в секретариате Союза писателей, со ссылками на ЦК, ему и предложили поехать вместе с Борисом Полевым и несколькими другими литераторами в Прагу и Братиславу. Он охотно согласился. Даже тем, что в делегацию был включен в числе прочих Грибачев, которого Хрущев когда-то поименовал автоматчиком, не озаботился. В конце концов, будет с кем схватиться. Истина, как известно, приходит в спорах.
Апрель 1968 года в Чехословакии. Чем-то он сразу напомнил ему другую, двенадцатилетней давности, весну в Москве. Прага превратилась в один сплошной дискуссионный клуб. Спорили и митинговали в союзе писателей, в ресторанах и пивных, на бесчисленных встречах с читателями и прямо на площадях и улицах. Было ли в этом что-либо угрожающее? Он не находил. Парадоксально, но факт — к ним, советским людям, советским писателям спорщики, будь то знакомые или незнакомые люди, относились, казалось, с еще большей нежностью, чем раньше. Словно ты приехал в дом друзей в ту пору, когда там разгорается ссора — беспричинная, на первый взгляд, как большинство семейных ссор. Стороны одинаково милы тебе, невзирая на жуткие разногласия между ними, а ты одинаково мил им, и оттого еще труднее взять чью-либо сторону. Говоришь с одними — они правы. Другие с такой же проникающей пылкостью тут же убедят тебя, что нет, правда на их стороне... Попробуй разберись во всем этом в клубах табачного дыма, под звон стеклянных и керамических кружек, которые прямо дюжинами тащит и с грохотом обрушивает на стол расторопный официант где-нибудь «У чаши», под портретом императора Франца-Иосифа, засиженным всемирно известными мухами. Или «У Томашека» с его черным хмельным пивом, или «У Флека» со знаменитыми топинками — ломтями серого хлеба, поджаренными с чесноком.
Поначалу, с его точки зрения, все это ничуть не отличалось от бесконечных споров, которые идут сейчас, да и всегда шли, по крайней мере с 1956 года, в Москве — по творческим клубам, а больше по квартирам, на кухнях — только не под пиво, а под водочку, а значит — еще ожесточеннее и непримиримее.
Проблематика та же. Сталин, Готвальд, Бенеш, Хрущев, Масарик, Мюнхенский сговор, советско-германский пакт, февраль сорок восьмого, XX съезд, венгерские события. Оценки расходились порой на сто восемьдесят градусов, а то, что об этом до поры до времени не разрешали говорить вслух и писать, еще больше разжигало страсти. Особенность и привлекательность момента, с точки зрения К.М., была в том, что новое руководство во главе с Александром Дубчеком постепенно снимало эти запреты — то ли по собственному разумению, то ли под растущим давлением партийных и беспартийных масс.
Постепенно эта терпимость сама стала поводом для дискуссий — в том числе и в рядах небольшой делегации советских писателей. К.М., поддержанный Полевым, заявлял, что это как раз то, чего нам самим не хватает. Смотрите, о чем здесь говорят открыто, и что страшного? А я через Романова не могу пробить «Дневники» с правдой о сорок первом годе, о которой давно уже все всё знают или догадываются.
Бессмысленные запреты как раз и создают избыток напряжения. Свобода слова его снимает.
И у него, лично, нет оснований сомневаться, что руководство КПЧ держит обстановку под контролем, разумно регулирует весь процесс.
У Грибачева при звуках этих речей наливались кровью, становясь похожими цветом на раскаленную плиту, шея и затылок. Затылка, собственно, просто не было. Столб шеи — длинный и цилиндрически правильный — переходил прямо в черепное покрытие. Разрубая ритмично движущейся рукой воздух, кивая в такт этому движению головой, Грибачев убежденно квалифицировал аргументы собеседников как проявления обычной интеллигентской расслабленности и близорукости. Сколько, скажите, надо вам еще примеров? И неужели история ничему не учит? Смута и контрреволюция всегда начинались с такой вот либеральной болтовни, интеллигентской дрисни, извините за выражение, которой переполнены клубы и пивные Праги. Фашизм, в конце концов, тоже зародился на пивных дрожжах в Мюнхене. Ах, преувеличение?! Ах, вас такое сравнение шокирует? Тогда вспомните Будапешт 56-го года, вспомните «кружок Петефи». Разве здешние «клубы 66» и тому подобная дребедень, призванная бить на чувства, не то же самое? Безответственные эстетствующие болтуны, все эти Пеликаны, Когоуты, Гольдштюкеры возбуждают народ, а потом прячутся в кусты или, того хуже, бегут за кордон, к своим покровителям. Грибачева особенно бесило то обстоятельство, что среди самых отъявленных радикалов было немало таких деятелей, которые ранее, по его словам, отличались особой силы ортодоксальностью. Весьма типичная ситуация, — почти хрипя, заканчивал он свои филиппики и кидал мрачные взгляды на К.М. Нынешней новомировской редколлегии, этим молодцам вроде Виноградова, Лакшина или Лебедева, которые, Матвеевич убежден был в этом, заморочили голову Твардовскому, доставалось от Грибача на полную катушку. Благодаря им Солженицын в последние годы Никиты чуть было не получил Ленинскую премию за свои, за свои... Он даже не находил слов, чтобы охарактеризовать писания Александра Исаича, при одном воспоминании о которых «автоматчика» отнюдь не фигурально бросало в дрожь.
Он пугает, а мне не страшно, — толстовскими словами думал К.М. о беснующемся у него на глазах человеке, но невольно поеживался. Какой-то след убежденность Грибачева все-таки оставляла.
Теоретически правда была на его, Симонова, стороне. Ну, какие они враги, какие контрреволюционеры — все его давние друзья-писатели?! Многих он знает еще с военных лет, с тех пор, когда формировался корпус Людвига Свободы. Да и сам Свобода — его старый и добрый знакомый. Все эти годы, приезжая в Прагу, он встречался с ним. Выпивали добрую чарочку в память погибших, во славу живых. Какое-то время назад Людвиг стал киснуть. Особенно когда его, министра обороны, назначили заместителем председателя правительства. «Меня повысили вниз», — парировал он с грустной усмешкой поздравления К.М.
Действительно, он как в воду глядел. Его скоро освободили от обязанностей министра обороны, и зампредство его превратилось в чистую фикцию.
В этот раз они тоже повидались, правда, накоротке, но Симонов успел почувствовать, что настроение Свободы изменилось в лучшую сторону. Бодрый голос, живые глаза. И главное — дел по горло. Это тоже настраивало на оптимистический лад.
Говоря о радикальных переменах, которые происходили у них в стране, старые друзья пылко, пожалуй, еще более пылко, чем раньше, объяснялись в любви к Советскому Союзу, к коммунистической партии, к своим товарищам по перу и по оружию... Воспоминания о вместе пережитом лились рекой. Нет, нет и нет! Все, что происходит в Праге, никак не направлено против Советского Союза, против социализма, боевого братства социалистических стран. Наоборот, речь идет об укреплении этого братства, но на настоящей, здоровой основе, об очищении идеалов социализма, который у них в стране болен бюрократизмом, покрывается догматической коростой. Надо убрать все наносное, сбросить с пьедесталов ложных кумиров, восстановить имена настоящих патриотов, интернационалистов. Надо убрать из отношений между нашими странами остатки неравноправия, эти рецидивы сталинских времен. Реформы в политической жизни, несомненно, повлекут за собой подъем в экономике, которая буквально задыхается в тисках предписаний и всякого рода перестраховочных регламентации. А сильная экономика — это здоровье народа. Если решить эти задачи — еще сильнее засияет солнце нашей дружбы.
Для Симонова это звучало логично и искренне. Не беда, что, желая сильнее подчеркнуть свои чувства к нам, друзья порой невольно впадали в риторику. Тут еще надо делать поправки на язык. Славянам редко удается достичь в русском совершенства. Тут именно близость, сходство мешает.
Для Грибачева эти речи отдавали лицемерием, политиканством. Он призывал судить не по речам, а по поступкам, следить за ходом событий.
События эти, черт бы их побрал, как будто бы сговорились подтверждать прогнозы Грибачева. Это стало особенно заметно после того, как они вернулись в Москву. За короткий период, пока он готовил свой отчет о поездке, многое изменилось. И в речах его пражских друзей, если верить чехословацкой прессе, вернее, переложениям ее статей в наших газетах, прозвучали такие пассажи, которых он не слышал, пока сам был в Праге. Так что в своем письменном отчете он был вынужден признать завихрения, туман в голове у многих его коллег в Чехословакии.
И все же главного вывода Грибачева он не мог, не желал принять — того, что вся эта заваруха родилась в злокозненных головах интеллигенции, которая морочит голову рабочему классу, пытается и, кажется, уже не без успеха сбить его с толку.
Так в жизни не бывает, пора нам уже научиться это понимать. Если такие массы народа пришли в движение, значит, что-то все-таки за этим стоит, и неуклюжая защита основ социализма, которой занимаются в Праге чехословацкие Грибачевы, только подливает масла в огонь. Но в любом случае, если кто-то там из наших друзей и ошибается, пусть даже серьезно, — их ни в коем случае нельзя отталкивать, нельзя изолироваться от них. Надо на все смотреть открытыми и ясными глазами, ни в коем случае не валить всех в одну кучу, не расширять круг людей, с которыми мы не хотим иметь ничего общего.
Это он уже вслух, на заседании секретариата, при их отчете, говорил, возражая Грибачеву, который заявил, что, мол, не о чем спорить с бронированными головами. Не странно ли, подумал про себя К.М., услышать такое выраженьице именно от Грибача.
Теперь, после его отчета в союзе и схватки на заседании с Грибачевым, следить за событиями в Чехословакии оставалось только по газетам. Слушать «голоса» он как-то не приучился, да и хлопотно было, жаль времени вертеть ручки радиоприемника в тщетном стремлении отделить отвратительные звуки глушилки от человеческой речи. Поездки из Москвы в Прагу и из Праги в Москву резко сократились, да и от тех, кто там побывал, добиться чего-нибудь путного было почти невозможно.
От чтения газет становилось все тревожнее. Наибольшее беспокойство вызывали те периоды, когда на два-три дня на неделю они вообще не писали о Чехословакии. Он хорошо знал этот десятилетиями отточенный принцип — о братских странах или хорошо, или ничего. Молчание — уже само по себе плохо. Даже легкие уколы по поводу тех или иных событий или лиц в братской стране — это уже предвестники серьезных событий. Так было с Венгрией, так потом стало с Китаем, с Албанией.
Каждая очередная пауза обрывалась все более шумным и тревожным потоком сообщений, из которых явствовало, что в Чехословакии все заметнее поднимают голову антисоциалистические силы. И кое-кто из тех, кого он, можно сказать, защищал на том совещании в союзе и потом в ЦК — Гольдштюкер, Павел Когоут, Циссарж, Сморковский, оказывались чуть ли не в первых рядах возмутителей спокойствия. Грибачев при редких их встречах в Доме литераторов посматривал на него победно и саркастически.
Сам он часами сидел над сообщениями газет и, когда уж совсем было невмоготу, звонил и отправлялся к кому-нибудь из знакомых редакторов читать «белый ТАСС», сообщения зарубежной прессы.
От «Нового мира» в эти дни инстинктивно старался держаться подальше. Атмосфера там, как можно было судить по редким в эту пору разговорам с Твардовским, соседом по даче в Красной Пахре, все более сгущалась, и накалял ее Александр Исаевич Солженицын. Он безоговорочно взял сторону самых крайних экстремистов.
События в Праге между тем все больше развивались по сценарию, предсказанному Грибачевым. От слов крайние силы перешли к делу. Из залов и кабинетов дискуссии выплеснулись на заводы, а там уже и на улицы. Беспрерывно бурлило Вацлавское наместье, круглосуточные сходки у Прашной браны — Пороховой башни, у памятника Яну Гусу — все знакомые места... Трудно, невозможно было поверить, что люди, которых он так хорошо знал, со многими дружил, могут выступать против принципов социализма, за реставрацию масариковской республики, за смычку с правыми силами в ФРГ. Между тем дело, хочешь верь, хочешь не верь, шло как будто бы к этому. И самое страшное, партия, руководство партии, Дубчек и другие утрачивали власть над событиями. Естественно, что наше руководство не могло смотреть на это равнодушно. Одна за другой последовали встречи партийно-государственных руководителей стран Варшавского договора. На них присутствовали и новые чехословацкие лидеры. Там люди как будто понимали друг друга, принимали согласованные коммюнике, а разъезжались по своим столицам — и события продолжали развиваться своей угрожающей чередой. Витали в воздухе, неслышно и незримо, предположения о возможности ввода войск.
К.М. предлагали откликнуться на происходящее в Чехословакии, осудить ренегатов. Он уклонялся. Бросать в воздух голые призывы — он уже вышел из того возраста. Говорить и осуждать конкретно кого-либо из деятелей — у него недостаточно для этого материала. У него твердый принцип — досконально знать то, о чем говоришь. Хватит с него Югославии — этого, впрочем, он гостям не сказал, просто подумал про себя.
Еще круче обошелся он с явившимся к нему домой вообще без предварительного уведомления генералом Григоренко. Тот пришел чуть ли не на следующий день после ходоков из Союза писателей, попал, что называется, под горячую руку. Предложил подписать коллективное письмо в защиту «Пражской весны» — обращение к нашему правительству проявлять сдержанность и хладнокровие, не позволить втянуть себя в опасные акции, не дать пролиться крови. Под письмом уже стояли подписи многих видных деятелей науки, искусства, литературы... Была там, он сразу это отметил, подпись Твардовского... Была и Солженицына.
К.М. не стал спорить с аргументацией, тем более, что она совпадала с ходом его собственных мыслей.
— Не имею обыкновения, — сказал он, — подписываться под коллективными письмами. Чувствуешь себя так, знаете ли, словно ты присвоил чьи-то чужие мысли. Или тебе их приписали. Обо всем, что меня волнует, предпочитаю высказываться сам.
Григоренко ехидно усмехнулся. Забрал со стола коллективку, принялся шумно, с хрустом, сворачивать ее, прятать в карман потертого, уж не со времен ли войны сохранившегося кителя.
К.М., терпеливо поджидая, когда он закончит эту процедуру, вспоминал тем временем все немногое, что ему было известно об этом человеке. Во время войны — генерал и, говорят, боевой, отчаянный. Дальнейшая его судьба была мало примечательна — служил в разных округах, потом ушел в отставку. Вновь фамилия его всплыла и сразу зазвучала, главным образом, в различных кулуарах как раз в связи с развитием событий в Чехословакии. Он писал письма в ЦК, в творческие союзы, потом размножал их под копирку и рассылал по личным адресам, объясняя такую активность тем, что не получает от инстанций никакого ответа. Странно было наблюдать генерала в роли диссидента — новое словечко, которое начало входить в моду, кажется, после суда над Синявским и Даниэлем, но и причислить его к забубённым антисоветчикам что-то мешало. Поколебавшись, К.М. бросил уже вслед незваному гостю:
— Быть может, вам это безразлично, но, между прочим, такой же ответ я дал и ходокам из Союза писателей, которые готовят коллективное письмо для «Правды». Как вы понимаете, совсем другой направленности, — закончил он не без иронии.
Сказал и тут же пожалел о сказанном, ирония до собеседника явно не дошла. Григоренко лишь на мгновение замедлил шаг и, повернувшись, бросил на К.М. странный взгляд, в котором ему почудились и издевка, и снисхождение.
Получилось, что он как бы оправдаться перед этим Григоренко попытался, задобрить.
Когда та, «правильная» коллективка поступила в «Правду», его пригласил к себе Зимянин, новый главный редактор ЦО. Уговаривал подписаться. Говорил с ним как «фронтовик с фронтовиком», как «давний поклонник его таланта», бывший посол в Праге, который прекрасно знает подоплеку этого так называемого обновления...
Письмо за это время претерпело изменения. Точнее, все, что от первоначального текста осталось, были подписи, среди которых, однако, по-прежнему не было его. Непоправимое к тому времени совершилось, войска стран Варшавского договора вошли в Прагу, и авторы письма призывали своих коллег из братской страны оказать поддержку вновь сформированному руководству, поддержать здоровые силы.
У К.М. просто голова шла кругом. Он внутренне признавался себе, что не знает, ну просто не знает и все тут — что верно, что нет. И как надо было бы поступить по-другому, чтобы не дать разгулявшимся антисоциалистическим силам, сумевшим, видно, оболванить немалую часть населения, в первую очередь молодежь и интеллигенцию, одержать верх в Чехословакии.
Разбирая потом скрупулезно, один за другим мотивы, которые побудили его ответить отказом на уговоры Зимянина, он не без удивления обнаружил среди них и воспоминание о визите Григоренко. Сработала, видно, и горькая пилюля, которую пришлось недавно проглотить в связи с «делом Синявского и Даниэля».
Вот он работает над пьесой «Мои четыре Я». У него там разделенные десятками лет спорят Алеша с Майором, Майор с Рябининым и так далее. А он, К.М. сегодняшний, не может понять и простить себя же двухлетней давности.
Он роется, роется в памяти и не может найти в себе тогдашнем хоть каплю сомнений в виновности двух этих молодчиков, как он их тогда называл, Синявского и Даниэля — Абрама Терца и Николая Аржака. Ему в одном только важно было удостовериться — в том, что все эти писания, которые ему дали прочитать в ЦК, действительно принадлежат им, Синявскому и Даниэлю, особенно то, что у Терца — Синявского — о Ленине. Даниэля он не знал, а с Синявским, столь почтенно и благообразно выглядящим литературоведом, приходилось встречаться. С особым интересом, хотя и не во всем соглашаясь, прочитал его статью о поэзии Пастернака — предисловие к однотомнику в Большой серии Библиотеки поэта. Живо представил себе, как этот импозантный человек разгуливает по редакциям, заседает в различного рода ученых советах, говорит и пишет правильные, весьма убедительные слова о долге художника перед народом, а потом, где-то у себя дома или в каком-нибудь потайном месте, воровато прислушиваясь к голосам и скрипам снаружи, строчит свои пасквили на Ленина на советскую власть, на всю нашу жизнь... И идет, так же воровато озираясь, с кем-то передать всю эту пачкотню за кордон.
Лариса была первой, с кем он поделился своим возмущением. Она, однако, как с ней и раньше не раз бывало, отнеслась к его излияниям весьма сдержанно, добавив, что не худо бы дать ей самой почитать эти вещи, коль скоро ему интересно узнать ее реакцию. Прочитав, сказала, что, собственно говоря, не видит здесь ничего такого уж страшного. Что же делать, в конце концов, если люди так считают. И уж во всяком случае тут не за что судить. Дико в наши дни судить за мысли, за слова.
— Если бы не было этих добропорядочных статей и книг Синявского, — гнул он свое.
— Ну, это уж, извини меня, — дело их совести, а не забот прокурора, — заметила Лариса.
По-прежнему не соглашаясь с ней, он не мог не залюбоваться ею в ту минуту. Говорит и держится спокойно, а сама заалелась, голову вскинула, словно бы перед каким-то высшим судом ответ держит. Прямая, высокая... «Коня на скаку остановит», — подумалось о ней словами Некрасова, ибо не раз уж так бывало, что одной-двумя репликами она замедляла ход его мыслей, а то и вообще рушила, словно это здание из кубиков, заботливо выстроенную им пирамиду рассуждений.
В одном он уже тогда должен был с ней согласиться— нельзя, глупо их судить. Дальше пошли собственные мысли: должно же у нас хватать ума не делать из этих двурушников мучеников. Создавать им ореол борцов за идею.
В «Комсомолке» в те дни появилась статья Аркадия Сахнина о некоем Тарсисе. Тоже литератор и даже член Союза писателей, возомнивший себя на склоне лет правдолюбцем и забросавший зарубежные издательства своими, на грани шизофрении, рассказиками, по сравнению с которыми писания Терца и Аржака — просто шедевры.
Так вот нашел же Сахнин вместе с редакцией выход — предлагает не судить этого слабоумного, а просто взять и выслать его за границу, туда, где его согласятся принять... К.М. даже черкнул Сахнину несколько строк: «Вы написали в "Комсомолке" отличную, умную и верную статью. В самом деле — пусть едет...»
Через несколько дней в газете появилось сообщение, что Тарсис выслан в Грецию. Эта заметка окончательно определила позицию К.М. по отношению к Синявскому и Даниэлю, и это принесло ему чувство облегчения, потому что со всех сторон уже напирали на него, ждали, как он поступит. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Увы, он каждый день убеждался в неодолимой справедливости этого афоризма. Теперь он, по крайней мере, не кривя душой, мог сказать то, что думал — и о Синявском с Даниэлем. Он согласился выступить по этому поводу на московском собрании писателей, которое проходило накануне уже объявленного суда. К.М. здесь не жалел слов осуждения по адресу двух злополучных сочинителей. Тем больше оснований у него было возражать против суда над ними: надо просто-напросто выпроводить их из страны, как Тарсиса, из общества людей, которое они не уважают и мелко ненавидят. По сути они с Тарсисом — три сапога пара, оттенки только в литературной квалификации.
Многие ему аплодировали. На фоне сурового тюремного заключения, которое грозило обвиняемым, предложение казалось и обоснованным, и гуманным.
Когда суд все-таки состоялся и закончился суровым приговором, он направил письмо в секретариат ССП, Маркову. Напомнив о своем выступлении перед московскими писателями, а также о том, что он, разумеется, подал там голос за исключение Синявского из ССП, он предложил, чтобы правление писательского союза «ходатайствовало о замене вынесенного судом приговора на иной, более соответствующий характеру и тяжести совершенных деяний».
Свое предложение «не сажать, а выслать», изложенное в документе, предназначенном для сугубо внутреннего пользования, он тут же подкрепил интервью для АПН: «Я придерживался этого взгляда до суда над ними и продолжаю придерживаться его и сейчас». Посылая текст в АПН, сопроводил его письмом председателю агентства, редактору «Комсомолки» военных лет Борису Буркову: «Все, что я сказал, несколько раз тщательно обдумано мною и способно принести пользу именно в этом виде, без всяких вариаций или, наоборот, смягчений». Поставил для верности дату — 26 февраля 1966.
Что говорить, он тогда чувствовал себя чуть ли не героем. Пошел против течения. Ему не приходило в голову тогда, как видно, и «Комсомолке», что высылка из страны, тем более лишение гражданства — наказание ничуть не менее страшное, чем тюрьма, лагерь. Он впервые услышит об этом от Ларисы, к которой явится с отчетом о своих деяниях и тайной надеждой заслужить похвалу. То же самое, будто сговорившись, скажет ему потом и Нина Павловна в ответ на его сакраментальный вопрос: «Ну, что я еще плохого сделал?»
Когда он задавал этот вопрос, все вокруг, все его «боярско-еврейское подворье», как он в шутку называл своих друзей и близких, знали: К.М. дошел до ручки.
Так оно и было. Вместо ожидаемого одобрения он услышал от Ларисы нечто прямо противоположное. Слова были те же по сути, что во время их первого разговора по этому поводу.
Что же касается сакраментального его вопроса, то на него, по бытовавшему среди его окружения поверью, ответить, не отводя глаз, могла только одна Нина Павловна. И она ответила.
Нет, это не был монолог. Он мог, конечно, представить себе Нину Павловну произносящей монологи. Да еще какие! Темперамента ей было не занимать. На этот раз она обошлась несколькими фразами, к тому же не кряду сказанными. Но каждая отдавалась в нем так, словно это удар молотка по гвоздю, вбиваемому в тело. Но не был он Христом, скорее уж благочестивым разбойником рядом с ним, вдруг прозревшим всю бездну своих прегрешений.
Нина Павловна всегда была для него глазком, стеклышком, сквозь которое прозревал он существование другого, почти невообразимого, но еще недавно до жути реального мира, в котором она провела недобрую треть своей жизни.
Ей рассказывали, что суд превратился в своеобразную словесную дуэль. Это был диспут профессионалов-филологов с юристами, которые в этой сфере чувствовали себя, как коровы на льду. Им не в чем было уличать подсудимых — ведь они подтвердили, что эти книги действительно написаны ими. Только не признавали в этом никакого преступления.
— К.М., — вдруг взорвалась Нина Павловна, — но разве это не фантастика! Ведь вам же тоже не дают напечатать ваши «Сто дней». Что говорят, как мордуют вас. И еще неизвестно, сколько будут мордовать. Вас, с вашими регалиями, вашим именем и репутацией! Вы говорите, что это во славу подвига народного, а они, — тут она показала движением головы куда-то вбок и наверх, — твердят, что это — поношение. Выходит, они считают, что и вы против советской власти, что ли?
— Говорят, и Синявский заявил судье, что у него с советской властью чисто стилистические разногласия, — заключила, словно извиняясь этой шуткой за свою вспышку. — А судья ему в ответ: «Может быть, через двадцать лет так оно и окажется, а сейчас вы — преступник, и мы вас будем судить...»
— Вы откиньте-ка, К.М., двадцать лет. Что мы получим?
Он откинул. Он откинул их даже не от сегодняшнего дня, а от 1956 года, года XX съезда. Получился 1936 страшный год.
Судья, наверное, и сам не представлял, какой приговор он произнес этим своим доводом. И кому — себе!..
Тридцать шестой, пятьдесят шестой — годы действий двух его Я из не написанной еще пьесы. Между ними лежала пропасть. Он не мог не задумываться о том, каким будет его следующее Я в году, скажем, 1976. И как будут люди судить о человеке, который осуждает тех, кто в сущности делает то же самое, что и он.
Уйдя глубоко в себя, он уже не знал, кто это сказал — он сам или Нина Павловна. Очнулся, встряхнул головой, чтобы отогнать наваждение. Да нет, как можно сравнивать. Он выступает с открытым забралом, «иду на вы», он готов перед любым судом, вплоть до божьего, отстаивать каждое свое слово. А эти встают в позу, потому что их поймали за руку. Он публично ведет серьезный разговор о больных вещах, а они компрометируют саму возможность этого своим фиглярством, ерничаньем. Это все он тоже, естественно, сказал про себя, и ввиду того, что уже ни помочь, ни изменить случившееся ни в ту, ни в иную сторону уже было невозможно, просто похоронил в душе, — надеясь, что навсегда, — само воспоминание об этом эпизоде.
Теперь на фоне драматических чехословацких событий все возникло вновь.
В разговоре с Зимяниным в «Правде», когда он уже почти готов был пойти на уступки, он вдруг понял, что мешало ему всю жизнь. Почему-то последнюю границу между добром и злом он всегда позволял проводить за себя кому-то свыше. Словно бы какую-то кнопку в нем нажимали в нужный момент. И тогда — конец колебаниям, раздумьям, все решается само собой и остается только идти, по возможности, быстрее и тверже по указанному пути. Так было с космополитами и с «Чужой тенью», так было потом, совсем уж в другую эру, в разгар венгерских событий... Так случилось, черт побери, и с Синявским и Даниэлем... На грани этого он оказался и теперь...
Почувствовав бесполезность дальнейшего разговора, Зимянин, маленький, взъерошенный, нахохлившийся, как воробей, вдруг спросил сердито:
— С женой, небось, посоветовался?
— И с женой, — упрямо качнул головой К.М., подумав про себя, что с женой советоваться, пожалуй, все-таки правильнее, чем с казенным дядей.
Впервые в его жизни между его позицией и позицией партии — именно от ее имени говорил с ним Зимянин, а уж он-то умел, как никто другой, придать своим утверждениям необходимую словесную экипировку — возник некий зазор по его, К.М. вине, вернее, инициативе. И оттого набегало, вновь и вновь, непрошеное и гонимое прочь чувство одиночества, неприкаянности, какого-то сиротства. Еще не поздно сказать шоферу, чтобы развернулся у Белорусского и остановил машину у подъезда «Правды». Подняться на пятый этаж и подписать у Зимянина это самое письмо. Облегчить душу. Снять камень с души.
Тяжелый, ничего не скажешь, был разговор у Зимянина. Но сколько их было у него в жизни! И каждый раз в конце становилось ясно и очевидно, как божий день, что другого решения, другого пути, другой истины, чем та, на которую тебе указывают в очередном высоком кабинете, существовать просто не может. И если ты еще час или минуту назад возражал, спорил, что-то чему-то противопоставлял, то только потому, что до этой самой минуты чего-то не понимал, не знал каких-то фактов и обстоятельств, которые как раз и играют решающую роль. И тогда тебе только и оставалось, что взять, образно говоря, под козырек, повернуться на сто восемьдесят градусов и четким военным шагом идти и исполнять. Нет, не из-под палки, не под нажимом, а добровольно и сознательно, со вкусом и со всем присущим тебе мастерством. Не на этом ли ките и стоит все твое творчество?! — разгулялась было вырвавшаяся из-под контроля мысль, влетела с разбегу в запретное и отпрянула.
Он умел взять себя в руки. Сейчас надо было думать не о прошлом, а о будущем. Его будущее — это «Сто первых дней», которые под его рукой превращались в тысячу...
Отныне — делать и писать только то, в чем ты абсолютно, на сто процентов уверен! Работа над дневниками давала такую уверенность. Он имел тут дело с тем, что видел и пережил сам. И он мог прокомментировать теперь увиденное четверть века назад с точки зрения своего сегодняшнего видения. Это было увлекательнейшее, ни с чем не сравнимое занятие. Пока пьеса «Мои четыре Я» варится в твоем воображении, ты сопрягаешь времена, сидя над этими видавшими виды тетрадками и блокнотами.
Здесь его кредо, здесь его ответ. И Григоренко, и Зимянину.
Первое, что он сделает, вернувшись домой из «Правды», — сядет за очередное письмо Брежневу. В нем еще раз напомнит Генеральному секретарю злополучную историю своей рукописи. Как в октябре 1966 года он впервые обратился в ЦК КПСС, лично к нему в связи с произволом Главлита, который запретил печатать «Сто первых дней» и остановил производство почти готового к печати номера «Нового мира». Как потом секретарь ЦК КПСС Демичев, после его, Симонова, встречи с Брежневым, в ходе которой, правда, прямо не упоминалось о рукописи, обнадежил его, сказав, что он не должен считать свою работу запрещенной и что речь идет просто о внесении некоторых корректив, о которых надо поговорить.
В ожидании этого разговора прошло десять месяцев. За это время он дважды перечел свою собственную работу и даже сделал, идя навстречу возможным замечаниям, некоторые купюры.
Он упомянет об этих поправках Демичеву, после чего пройдет еще пять месяцев — и опять полное молчание.
Пришлось, — писал он теперь Генсеку, — снова обратиться в высшую инстанцию. И в этом обращении были, между прочим, такие слова: «Мне с каждым днем все тяжелее жить и работать. Я не могу понять, кому и зачем нужно ставить советского писателя во все более безвыходное положение и делать при том вид, что ничего особенного не происходит».
«Не скрою, я не ожидал скорого ответа на этот мой вопль души, но дал себе слово, что в любом случае не напомню Вам о себе раньше чем через год, и вот этот год прошел...— диктовал он Нине Павловне.— Мне передавали, что Вы обещали решить затянувшийся вопрос с книгой, лично прочитав ее, и я отправил Вам через товарища Александрова-Агентова экземпляр верстки вместе со вступлением к вещи и списком использованных в ней материалов и архивных документов...
Со времени моего первого обращения к Вам пошел третий год. Я хорошо понимаю всю меру Вашей занятости, но как же мне быть, если без Вас этого вопроса никто решить не может и не хочет?..»
Программа-минимум была — выбить все-таки разрешение на публикацию «Ста дней», без чего он просто не мог, несмотря на всю хваленую силу воли, заниматься чем-либо другим. Программа-максимум — быть еще раз принятым Генсеком и поговорить о Чехословакии. Напомнить ему его слова о крови...
Иногда казалось — скажи ему кто-нибудь наверняка, так, чтобы он свято поверил, что надо делать, и он будет это делать, чего бы ему ни стоило. Оставит дом свой и семью свою, если надо. Отречется от всего, что делал до сих пор, и все будет делать наоборот, по-другому, по-новому, если надо. Изменит свои привычки, будет ходить в рубище, будет сидеть на воде и хлебе, если надо.
Со стороны глядя, казалось, чего, собственно, ему не хватает для того, чтобы жить в комфорте, проще говоря, кататься как сыр в масле до конца дней своих, долгими они будут или короткими. Денег не занимать. Если предположить, что с сего дня он больше ни слова не напишет или, что более правдоподобно, напишет, но не сможет напечатать, то и тогда одними переизданиями, ну и тем, то на счету, он сможет содержать себя, семью, всех своих близких и даже не очень близких, но зависящих от него, до скончания века... Нет, ему и тогда, когда он начинал, не надо было, как Булгакову или Мандельштаму, одалживаться у знакомых, просить о какой-нибудь должности, пусть самой скромной, лишь бы оплачиваемой... Тем более теперь. Есть, кажется, все. Есть люди, которые за зарплату не скромнее той, что они получали бы от государства, с удовольствием помогают ему в его делах и работе, и в хлопотах по дому, и в разъездах по стране. В качестве секретарей, стенографисток, юридических консультантов. Расставшись понемногу со всеми казенными, то есть оплачиваемыми службами, он, не заметив того, сам стал учреждением. Недаром близкие любят повторять: К.М. — это не человек, это институт. Пожалуй, английское «инститьюшн» даже точнее передает, во что он превратился.
Так вот, если бы было надо, если бы кто-либо уверил его сегодня, что это правильно, он порвал бы со всем этим и повел бы совсем другую жизнь. Но получалось, что она-то, жизнь, как раз и убеждала его — каждый день заново, — что вести ее внешне надо так же, как он и ведет. Только чтобы все это — его силы, его средства, его опыт, его положение и авторитет — служили одному — искать и писать правду и творить добро. Довольно дорогое занятие, так что все, что у него есть, ему отнюдь не мешает.
Прометей был прикован к скале. К.М. же чувствовал себя так, словно его нанизали на струну времени. Туго натянутая, словно парусный фал на ветру, она, как и он, колеблется и дрожит от каждого порыва и дуновения, сотрясая все его существо и существование.
Обнаружив себя автором сразу нескольких лежащих «на полке» писаний, он стал лучше понимать состояние тех его великих предшественников, наследие которых взялся опекать. То состояние, в котором он оказался на шестом уже десятке лет, а они обретали, в сущности, всю свою жизнь.
Булгаков... Ему теперь уже невозможно было дать себе отчет, как случилось, что именно он много-много лет назад оказался председателем комиссии по литературному наследию Мастера.
Нина Павловна, по его просьбе, повозившись в архивах, положила перед ним толстую папку с надписью «B.C.» за 1961 год с закладкой на странице 143. Здесь копия его письма в секретариат Союза писателей. Тогда как раз застопорилось в очередной раз издание однотомника Булгакова, и Симонов, пробивая это дело, счел необходимым напомнить историю своих взаимоотношений с Булгаковым: «Я никогда не был лично знаком, и по характеру моей собственной работы в литературе Булгаков был мне достаточно далек, но когда мне предложили стать председателем этой комиссии, я согласился, потому что независимо от моих литературных симпатий и пристрастий существует творчество Михаила Булгакова как объективная и достаточно большая литературная ценность...» Тогда ему казалось, что эдакое своеобразное алиби сделает убедительнее его возмущение по поводу проволочек: «Если секретариат решит не издавать этот однотомник, давайте считать тогда комиссию по литературному наследию Булгакова распущенной».
Резкость помогла. Но перечитывая теперь письмо, он с грустью обнаруживал, что помимо таких строк, которыми можно было только гордиться, в письме были и другие. Подумать только, помогая изданию однотомника Булгакова — грех было бы упустить такой повод, как семидесятилетие писателя, — он предлагал включить в него «Дни Турбиных», «Бег», «Последние дни господина де Мольера», «Записки юного врача», но в то же время считал нецелесообразным издавать роман «Белая гвардия».
Пяти лет не прошло, к счастью, как вышел второй однотомник с «Театральным романом» и «Белой гвардией» под его, К.М., редакцией и с его предисловием.
Да, роман вышел, а письмо останется в этой папке навсегда. Увы, из письма, как из песни, слова не выкинешь.
Что же, пусть тогда потомки прочитают и другое письмо — Семену Ляндресу, отцу Юлиана Семенова, который и познакомил его со своим родителем, некогда помощником Бухарина, только после двадцатого съезда вернувшимся в Москву из мест не столь отдаленных. За этим письмом далеко в архивы лезть не надо. Оно было написано и отправлено с год назад и потому не успело еще попасть в надежно переплетенные фолианты «Всего сделанного». Вот оно, это письмо, и вот они, те строки, которые он имеет в виду: «Надо рано или поздно напечатать все, что вышло из-под пера Булгакова, чтобы была ясна полная картина его творчества, его взглядов, и никакая избирательность ни в какую сторону тут не полезна. Она может быть полезна только для конъюнктурщиков — сегодня для одного, завтра — для другого».
Хорошо сказано. Жаль только — будем откровенны с самими собой, — что весь этот пыл — по поводу булгаковского «Батума», пьесы о молодом Сталине, которая, по мнению некоторых ханжей-чистоплюев, выставляет Мастера якобы в неправильном свете. Но тут, наверное, снова уместно вспомнить: из песни слова не выкинешь. И вообще, если уж всерьез говорить и писать о Булгакове, темы «Сталин в жизни Булгакова, в его судьбе» никак не минешь.
Он отогнал от себя дразнящую мысль, что, может, эта тема и была когда-то той, что особенно потянула его к Булгакову. Потом пропала, но вернулась вновь. Нет, никуда, видно, не уйдешь от признания: окружающий нас мир — лишь зеркало, в котором мы все время видим себя.
Судьба Булгакова пугающе притягивала его непохожестью на его собственную. Хотя они оба были из дворянского племени, голубой, или гнилой, как любила называть Лариса, крови. К.М. пытался вспомнить, что же он в молодости знал о Булгакове и как к нему относился. Всплывало в памяти само это словосочетание «Дни Турбиных», почти сливаясь с другим — Художественный театр. И еще — неумение примирить два, казалось бы, полностью исключающие друг друга обстоятельства — уничтожающую брань по адресу Булгакова в прессе и перманентное присутствие его пьесы в репертуаре «главного театра» страны.
Так что председательствовать в комиссии по литературному наследию Булгакова он в 1956 году согласился скорее по инерции, в силу безотказности своей. Привлекали его по-читательски прежде всего те вещи, которые и с точки зрения цензуры были проходимее. Такие же его вещи, как, к примеру, «Собачье сердце», или «Зойкина квартира», или «Роковые яйца», казались какой-то досадной гримасой в его творчестве. Ему, кто всегда шел по гребню событий, торопился первым откликнуться на самую что ни на есть злобу дня, хотелось угадать, что же побуждало Булгакова выбирать, одну вслед за другой, такие далекие от реального хода вещей темы, к тому же заведомо непроходимые.
Настоящее же «включение» произошло лишь тогда, когда Елена Сергеевна, Маргарита, познакомила его с булгаковским «письмом правительству», помеченным началом апреля 1930 года. Пожалуй, даже и не само письмо, а состоявшийся вскоре после его отправки в Кремль телефонный разговор Булгакова со Сталиным тут виною. Все, что было связано со Сталиным, обладало для Симонова своего рода отрицательным обаянием. Притягивало даже своей отталкивающей стороной.
Что-то наконец приоткрылось для него в Булгакове, показалось близким, когда он слушал рассказ Елены Сергеевны, внимал ее не притуплённому временем волнению. Само это волнение подстегивало его интерес. Складывалось впечатление, что вдова художника, всю жизнь страдавшего от того отношения к искусству, которое насаждалось в сталинские времена, не склонна винить во всем только Сталина. Была скорее благодарна ему за то, что Мише после этого звонка дали все-таки работу, он мог продолжать писать. И если результаты этого разговора с вождем были тем не менее столь скромны, больше виноват был, может быть, даже сам Миша, который растерялся и не смог сказать всего, что надо было, что его мучило. По свидетельству Елены Сергеевны, он этой-то своей растерянностью и казнился больше всего. Она била по его самолюбию, которого Михаилу Афанасьевичу было не занимать. Елена Сергеевна, волнуясь, рассказывала, К.М., сопереживая ей, слушал. Но каждому в этой истории слышалось свое.
В пору, когда состоялся разговор Сталина с Булгаковым, его, Симонова, Я, можно сказать, еще не существовало. Не случайно, раздумывая над своей будущей пьесой о четырех Я, он в качестве первой точки отсчета взял 1936 год. А что — 1930? Долговязый пятнадцатилетний подросток, сочиняющий в ФЗУ, куда он ушел из средней школы, первые беспомощные стихи — подражание то Некрасову, то Киплингу.
За десять лет, которые отделяли этот разговор от смерти Мастера в 1940 году, были написаны три его романа из четырех. Сам Костя за эти же годы превратился из гадкого утенка во что-то вроде молодого лебедя. «Генерал», «Парень из нашего города», очерки, репортажи и стихи из Монголии, Халхин-Гол.
Боже мой, какие же разные они были, эти десять лет, у него и у Булгакова! Какие непохожие друг на друга миры и какое разное восприятие их. А между тем это была та же самая Москва, та же самая страна, да и сфера обитания та же самая — московские литературные круги... Как будто бы стояли в одной и той же зеркальной зале, смотрели в одни и те же зеркала, а видели разное. Булгаковские зеркала — из комнаты смеха. Это совершенно ясно, это — так задумано. Беседуя с Еленой Сергеевной, он понимал, что Мастер просто не мог воспринимать и отражать жизнь иначе, чем гротесково. Точно так же, как он сам не мог видеть и писать ее иначе, чем романтически. Соблазнительно было утвердиться в выводе, что все дело в этой манере видения, в том, как поставлен у тебя хрусталик в глазу. Быстро входивший в моду глазной хирург Слава Федоров не раз разъяснял ему физическую природу тех аномалий, в результате которых человек иной раз видит все окружающее вкривь и вкось.
Увы, в их с Булгаковым случае было нечто другое. Упрямо напрашивался вывод, что кто-то из них двоих был попросту слеп. Добросовестность, сидевшая у него в крови, требовала признать, что этим слепцом был он сам. Добро бы — только в это, последнее в жизни Булгакова, десятилетие, когда он, Симонов, был, в сущности, еще несмышленышем.
В «Мастере и Маргарите» его больше всего привлекали сцены бесчинств Маргариты в квартире критика Латунского.
Боже мой, сколько же натерпелась от этой «критической» нечисти наша литература и вся культура! Сколько баталий с ней имел и он, Симонов, на протяжении последовавших за смертью Булгакова десятилетий. И сколько раз он вольно, а чаще невольно, по недоразумению, недомыслию подыгрывал ей. И все годы в скромной квартире, под опекой этой все еще неотразимой женщины, красавицы, если вспомнить любимое слово Булгакова, хранилось такое, что одним махом давало ответы на прошлые и будущие вопросы.
Да, да, этой книгой все было предсказано на многие годы вперед, на десятилетия. Созывались съезды, пленумы, читательские конференции, совещания то по одному, то по другому ужасно новому и актуальному вопросу; устраивались проработки «в закрытом кругу». Сколько раз он сам на них ораторствовал со святою уверенностью, что являет миру некое новое слово. Тут уже заранее и наперед была припечатана изначальная абсурдность и бесчеловечность всех этих людоедских «идеологических битв», которые начинались с призывов «ударить и крепко ударить» по очередной «пилатчине», по «воинствующим старообрядцам», которые «протаскивают» ее в печать, а заканчивались «стуком в окно».
Перечитывая рукопись, К.М. представлял себе, с каким, должно быть, мстительным наслаждением выписывал уже смертельно больной Булгаков сцены расправ и возмездий, учиненных голой, намазанной какой-то колдовской мазью Маргаритой сначала в квартире пресловутого Латунского, у которого, конечно же, имелся прототип в жизни, а затем во всем доме Драмлита, начиненном бесчисленными, как крысиное племя, латунскими из так называемого Массолита, то есть «одной из крупнейших московских литературных ассоциаций» — Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников... Маргарита с жадностью читала на дверях квартир таблички с именами и под свои собственные хищные задушенные вопли, с трясущимися от нетерпения руками, нагая и невидимая, крушила с обретенной по волшебству сатанинской силой все, что ни попадалось ей под руку: рояль так рояль, который истошно выл под ударами молотка; зеркальный шкаф так шкаф, который она вместе со всем гардеробом ненавистного критика залила густою струей чернил. И все ей казалось, что мало, что результаты получаются какие-то мизерные.
Он, К.М., испытывал то же жгучее наслаждение, что и Маргарита, видя, как она бьет застекленные фотографии, кухонным ножом режет простыни и, открыв на кухне и в ванной все краны, учиняет в доме вселенский потоп, а потом и один из знаменитых булгаковских пожаров. Когда зараженные ее примером Коровьев, Кот и Азазелло нечто подобное стали творить в ресторане писательского клуба, известного как дом тетки Грибоедова, К.М. ощущал себя одним из рыцарей этого неописуемого воинства Воланда. Ликовал, когда из расстрелянного милиционерами примуса Бегемота ударил столб огня и, гудя, как будто его кто-то раздувал, пошел внутрь дома.
Порою всерьез подумывалось, что, будь этот последний и самый главный роман Булгакова напечатан при своем рождении, многое страшное из того, что им предсказано миру культуры, могло бы не случиться. Когда он поделился этими мыслями с Еленой Сергеевной, живой булгаковской Маргаритой, она зарделась и не сказала ни слова. Когда он о том же самом поведал Ларисе и Нине Павловне, они только что не подняли его на смех. Лариса откровенно, Нина Павловна, естественно, деликатнее. Это была пора, когда его, как председателя комиссии по литературному наследию Булгакова, стараниями подошла наконец очередь напечатать в СССР и этот роман, давно уже изданный на Западе. И Боже мой, что же вытворяли с рукописью в журнале «Москва»! Нет, не Поповкин, конечно, и сотоварищи, а там, «наверху», в кащеевом романовском царстве, где он, К.М., не первый уже год безуспешно сражался за свои дневники.
Кое-чем он уже поступился, например, наотмашь отрицательной трактовкой молотовско-риббентроповского пакта 1939 года. С документами в руках, Бог ведает их достоверность, латунские из историко-архивного управления МИД убедили-таки его, что, мол, тут он хватил через край. Своим распоряжаться проще, потому что это свое, тут достаточно посоветоваться с самим собой. Но как быть с этой булгаковской вещью, которой впервые предстояло явиться очам советских читателей. Стоять насмерть и, быть может, еще на неизвестное число лет отложить свидание рукописи с читателем? Или все же пойти на кое-какие уступки? Постоянно приходилось держать совет с Еленой Сергеевной. И неистовая Маргарита, которая с такой силой презрения крушила в романе фантасмагорические миры латунских, тут поникала своей все еще пышной, все еще золотистой главой и шептала: «Купюры — это еще не так страшно, потом можно будет все восстановить, главное, чтобы не было искажении, вписывании».
Условились, что роману будет предпослана рубрика: журнальный вариант. Как бы странно это ни звучало — с опозданием более чем в четверть века — и журнальный вариант!
И это еще не все. Получалось так, что в предисловии к роману, которое Елена Сергеевна попросила написать Симонова, надо было обязательно как-то оговорить, почему, мол, в Москве конца двадцатых годов, «когда уже и первая пятилетка, и коллективизация, и борьба с уклонами», Булгаков не смог увидеть ничего, кроме воландовской шайки, писательских свар, обывательских предрассудков рядовой публики. К.М. надо было как-то объяснить это и для себя. Ведь именно в ту пору, когда Булгаков работал над своим «Мастером», появились его, симоновские, «Генерал», «Северная песня» — «Мужчине — на кой ему черт порошки», «Парень из нашего города». Так что когда он писал, что «это — один из примеров, говорящих об ограниченности взглядов писателя на современность», он сам не мог себе дать отчет, что значат его строки — своеобразный «пароль», без которого роману невозможно будет пройти в зону публикаций, или — искреннее отражение его размышлений по этому поводу. Подумав, дописал: «Мы иногда колеблемся произнести слова «ограниченность взгляда», говоря о большом таланте. И напрасно. Ибо они, не умаляя таланта, отражают реальность, помогают понять действительное место писателя в истории литературы».
Львиную долю своего сравнительно короткого вступления к роману он отдал... образу Понтия Пилата. Роман в романе, «беспощадно точный рассказ об одном дне римского прокуратора Иудеи». Ничтожное, с точки зрения масштабов его императорской ответственности, событие — встреча с нищим проповедником Иешуа и приговор ему — становится провиденциальной вехой в жизни и судьбе всесильного наместника Рима. Оказывается, впрочем, что он не так уж и всесилен. В душе ведь Понтий Пилат симпатизирует Иешуа и его наивной вере в силу доброго людского начала, убежден в его невиновности и хотел бы спасти оклеветанного доносчиками странника. Но не осмеливается это сделать, ибо Иешуа обвинен фарисеями и начетчиками в оскорблении императорской власти, а потворство такому преступлению может стоить, как минимум, карьеры самому прокуратору. Злоба дня здесь сталкивается с предчувствиями трансцендентальных последствий. Сиюминутное, суетное стоит на пути у вечного блаженства и... побеждает.
«Нравственная дилемма, — пишет К.М., — заставляющая читателя думать над собой и собственной жизнью, думать о том, что такое, с точки зрения высших нравственных критериев, мужество и трусость и где и как определяется в нашей жизни мера того и другого».
Перечитав эти строки, К.М. подумал было, что у него они звучат, пожалуй, слишком пылко и оттого наивно. Но не стал их вычеркивать. С некоторых пор начал приучать себя не бояться и не стыдиться исповедальности. Так, видно, было ему на роду написано, чтобы по его писаниям и... деяниям люди и в будущем могли судить о времени, которое он прожил и о нем самом заодно. Не будем же ничего таить от них.
Брошенные как бы вскользь блаженным проповедником Понтию Пилату слова о трусости — одном из самых главных человеческих пороков — задели его не меньше, чем булгаковского Пилата, у которого они всплывали потом в памяти с маниакальной навязчивостью.
О чем думал Понтий Пилат при этом? О чем думал он, К.М.? И о чем, вернее, о ком думал Булгаков? Почему, собственно, привлекла внимание Булгакова фигура полумифического Понтия Пилата, коль скоро в жизни он был так занят Сталиным? Уж что-что, а угрызения совести были присущи Сталину меньше, чем кому бы то ни было. Вернее, вообще не были ему присуши. При мысли о Сталине в воображении Булгакова должны были возникать совсем другие видения: Чингиз-хана, например, или Тамерлана.
Как раз в это время К.М. одолевал «Историю государства Российского» Карамзина. В пятом томе, в главе, посвященной хромому Тимуру, наткнулся на такие строки: «Он в первом цвете юности замыслил... избавить отечество от неволи — восстановить величие оного, наконец, покорить вселенную и громом славы жить в памяти веков. Вздумал и совершил. Явление сих исполинов мира, безжалостно убивающих миллионы, ненасытимых истреблением и разрушающих здания гражданских обществ для основания новых, ничем не лучших, есть тайна провидения. Движимые внутренним беспокойством духа, они стремятся от трудного к труднейшему, губят людей и в награду от них требуют себе названия великих».
Напав на эти строки, он почувствовал, как у него зашевелились волосы на голове, — такое немыслимое предвидение! — и окончательно утвердился в своем представлении о Сталине, как о великом, но страшном. Он потом не раз вкладывал эту фразу в уста своих героев, повторял ее в письмах и выступлениях. Логично было бы и у Булгакова, испившего свою чашу в пору пышного цветения культа личности, встретить такое отношение. С тем большим недоумением погружался он, благодаря рассказам Елены Сергеевны, благодаря массе архивных материалов, в историю работы Мастера над пьесой о Сталине, которая шла практически в ту же пору, когда он создавал самое дорогое для него, да и для всех его читателей творение — роман «Мастер и Маргарита».
По мере того как К.М. переваривал все эти материалы, среди которых была и сама пьеса «Батум» о молодости Сталина, чувство недоумения сменялось своеобразным облегчением. Как и всегда, разбираясь в других, он начинал больше понимать самого себя. Сегодняшний Симонов, К.М., вглядывался не только в медленно уходящего Булгакова, — в Костю, в Военкора.
В самом деле, сколько пришлось ему за последние полтора десятка лет услышать тайных и явных издевок и оскорблений, наветов по поводу небескорыстного, мол, увлечения Сталиным, которое-де потом подозрительно быстро сменилось безоговорочным его осуждением. Легко, дескать, да и безопасно пинать мертвого льва. Объективно говоря, канва его биографии дает основания для таких обвинений. Если, конечно, скользить по касательной, не делая попыток заглянуть вовнутрь. Но кому сейчас досуг заглядывать вовнутрь? Он замечал, что многие, будь то справа, будь то слева, все более приучались следовать первому впечатлению, не давая себе труда углубляться в «за» и «против». Литература, например, как и в прежние, сталинские или хрущевские времена, была полна манекенов. Только те, что раньше разгуливали со знаком плюс, теперь были заклеймены минусом. И наоборот. Это в равной мере относилось к персонажам тех или иных художественных произведений и к их авторам. У него, Симонова, были ярые апологеты, которые вопреки даже его настояниям каждый раз поднимали в прессе бучу, если кто-то пытался покуситься на их кумира. Но были и зоилы, тоже, кстати, справа и слева, которые пользовались каждой возможностью, чтобы облить его грязью. Порою ему казалось, что стихотворение «Если родилась красивой, значит, будешь век счастливой» он написал не о Серовой, а о самом себе: «Если напоказ им не рыдала, даже не заметят, как страдала». Говорил же Флобер: Эмма — это я.
Что ж, пускай. Но вот Булгаков. Для него пришла уже пора явиться на суд потомков. В том числе и за «Батум». Те, кто возражает против обнародования пьесы Булгакова о юности Сталина, видят в ней, видимо, что-то зазорное, что-то компрометирующее неподкупного Мастера. Старая игра в плюсы и минусы, эффект черно-белого телевизора. Вольно или невольно, но они хотят к Булгакову приложить ту же мерку, какой иные доброхоты давно уже измерили его, Симонова — мол, как и все в ту пору, Булгаков писал о Сталине и с совершенно определенными целями.
Как тогда быть с тем, что Елена Сергеевна и сегодня, не без вызова в голосе, заявляет, что страшно любит эту пьесу Булгакова, жалеет, что она не была напечатана, как только написалась?
Пьеса не произвела на К.М. особого впечатления. Не тот это случай, когда Булгакова можно узнать по любой строке. Главное тут было в самом факте, в том, что такая пьеса была написана. И почему написана. По словам Елены Сергеевны, первая мысль о ней появилась у Булгакова еще в 1936 году. С момента первого и последнего телефонного разговора Булгакова со Сталиным прошло тогда уже более пяти лет, а воспоминания были живы в сознании Мастера. В том, что из разговора этого не воспоследовало особых результатов, он склонен был скорее упрекать себя. Слишком уж неожидан был этот разговор, и голос Сталина в трубке звучал почти неправдоподобно знакомым. Приходилось все время делать над собой усилие, чтобы продолжать верить, что это никакой не розыгрыш, а именно со Сталиным разговор.
Сталин все понимал, хотел и мог бы помочь. Но он не знал да и не мог знать всех интриг, тонкостей и хитросплетений.
На ту же волну, по рассказам Елены Сергеевны, настраивал Булгакова и другой опыт общения со Сталиным — правда, косвенный. В одну страшную минуту, в 1935 году к ним пришла Ахматова и сказала, что у нее ночью арестовали мужа и сына. Сели за машинку писать письмо Сталину. Написал его, по существу, Булгаков: Анна Андреевна была не в себе. Она потом только перебелила письмо от руки. Скорый и основательный успех письма — и Пунин, и Лев Гумилев были выпущены на свободу — порадовал сам по себе. Но он еще и укрепил в Булгакове уверенность, что он и Сталин способны понять друг друга.
Дела у Михаила Афанасьевича тогда вообще шли так, что они могли не представляться ему безусловно ужасными, как нам теперь. Да, в театрах по-прежнему шли только «Дни Турбиных». Булгакову по-прежнему не удавалось ни строчки напечатать. Но многое было на мази. И Михаил Афанасьевич, по словам Елены Сергеевны, иногда сам себе напоминал тучу, которая вот-вот прольется благодатным дождем, разразится буйною и озорной грозой с молниями и громом. Что же касается тех громов и молний, которые в эту пору бушевали на страницах печати, получалось, что они-то как раз били по врагам Булгакова. И то сказать, ненавистников в мире искусства и литературы у него было столько, что в кого ни попади удар, направляемый сверху, все будет его враг. К.М. читал в дневниках Елены Сергеевны, которые она великодушно предоставила в его распоряжение: «В "Правде" одна статья за другой, в которых вверх тормашками летят один за другим. ...Да, пришло возмездие. В газетах очень дурно о Киршоне и об Афиногенове... Тренев рассказал, что на собрании драматургов вытащили к ответу Литовского...» Не прототип ли пресловутого Латунского? Ведь занятия романом и пьесой «Батум» шли параллельно. Все эти люди, — и сейчас еще волновалась Елена Сергеевна, — они же травили Мишу. Он открывал газету и с торжеством находил там имена своих врагов среди избиваемых.
К.М. осенило. Постойте, сказал он себе, да ведь образ Сталина, каким он Булгакову представлялся, и надо искать в романе! В романе, а совсем не в пьесе, которая задумывалась в одну пору, писалась в другую, а заканчивалась в третью, всего за полгода до смерти Мастера. От такой догадки кровь ударила в лицо. Дело было на даче в Красной Пахре. Он вышел на волю. Стояла зима. Лютовал мороз. От прерывистого дыхания мгновенно заиндевело все: ворс на его старой меховой ушанке, выбившиеся из-под нее короткие волосы, усы. Ресницы, превратившиеся в крохотные сосульки, тянули веки вниз. Казалось, перед ним — сплошное, подернутое морозом стекло. Мысли же его и воображение, продолжавшие лихорадочно работать под воздействием счастливой догадки, были глазком в стекле, проделанным дыханием, сквозь который ему вдруг стало видно далеко-далеко.
Быть может, впервые что-то похожее на симпатию к Сталину Булгаков испытал тогда, когда тот обрушился на Троцкого. С Троцким у Михаила Афанасьевича были связаны самые мрачные ассоциации. В ранние послеоктябрьские годы он не раз выступал против Троцкого публично. Ненавидел его и пользовался, очевидно, взаимностью. Собственно говоря, все то, что пугало его в революции, связывалось именно с Троцким — такому дай волю, он всю страну превратит в сплошную казарму по-аракчеевски, нары заселит представителями духа, а останутся места — теми, кто еще не разучился или хотя бы мало-мальски научился думать. В надсмотрщики, в фельдфебели даст им шариковых. О Троцком он думал, когда писал «Собачье сердце» и «Багровый остров». Его же он поместил и в «Белой гвардии».
Выступить против Троцкого, когда его портретов и изваяний было едва ли не больше, чем ленинских, мог только недюжинной воли и смелости человек. В чем-то при этом он сам должен быть сродни этому бесу революции — иначе не хватит куража вступить с ним в смертельную схватку. Вся история восхождения Сталина для Булгакова была историей его борьбы с Троцким. Только если Сталин думал, что, отправив Троцкого в ссылку, а потом выслав его за границу, он его одолел, он ошибался. Но и то, что он способен был таким образом ошибаться, лишь увеличивало к нему симпатии. Жизнь от этого, увы, не делалась проще. Все, кто травил Булгакова, все так или иначе были троцкистами. Авербах, Литовцев, Керженцев и иже с ними. Вурдалаки, которым только бы напиться крови человека из чуждого им политического клана. Можно было только удивляться их приспособляемости и живучести. Их кумир повергнут, а они процветают да еще и топят в чернилах всех, кто не похож на них. Удивляться ли тому, что начавшаяся на стыке двадцатых и тридцатых годов физическая расправа Сталина над ними рождала, по воинственному и сегодня свидетельству Елены Сергеевны, что-то вроде торжества. Словом, у него, Булгакова, со Сталиным — общие враги. Но у Сталина есть средства с ними бороться, а у Булгакова нет. И остается — выводить их в книге да апеллировать к Самому. Но у того, в его титанической работе, в этих бесконечных схватках с бесчисленным племенем пигмеев, своекорыстно вызванных Троцким к жизни, до него, Булгакова, просто не доходят руки. Хотя он, как и Булгаков, чувствует, постоянно ощущает невидимую нить, которая их связывает. Неслучайно он так часто бывает на «Днях Турбиных», не случайно сказал Ливанову, как ему нравится в его исполнении Алексей Турбин — «даже во сне снятся ваши коротко подстриженные усики».
Трудно утверждать, — продолжал фантазировать Симонов, — есть ли в романе Троцкий. Скорее всего нет. В ту пору, к которой относится действие в романе, тот уже сошел с открытой политической арены. Но повествование кишмя кишит его последышами и духовными детьми — эти латунские, степы лиходеевы, римские, сеплеяровы, алоизии могаровичи. Куда ни обрати свой взор, они всюду — в конторах, главках, киностудиях, домоуправлениях, партийных комитетах, театрах, проектных организациях. Они, быть может, даже и не подозревают о своем родстве с Троцким, но они — плоть от плоти, кровь от крови его, вызванное им к жизни племя — без глаз, без ушей, без обоняния, одни лишь рты да запах.
Если человек, тем более с таким могучим воображением, как у Булгакова, ненавидит что-то, он должен персонифицировать объект своей ненависти. Если он еще на что-то надеется, он ищет, с кем бы связать свою веру. Булгаков — и тут он был, увы, не единственный — связал ее, по крайней мере, на какое-то время со Сталиным. Трагический парадокс — или фарс? Получалось, что акции возмездия в отношении общих со Сталиным врагов совершались на фоне других событий, которые измученным воображением Мастера невольно воспринимались как знаки надежды. В сентябре 1935 года в армии были восстановлены чины. Дорогое Булгакову слово «офицер» вернулось в обиход, а такие слова, как, например, «капитан» или «полковник», слышались теперь не только со сцены, когда там шли «Дни Турбиных», но и в повседневном общении. Через год была «разрешена» милая его сердцу еще с детских киевских лет новогодняя елка, которая на протяжении семи предыдущих находилась, можно сказать, под арестом.
Это хорошо помнил и Симонов. Это все производило впечатление и на Костю, хотя чуждый, несмотря на свое дворянское происхождение, предрассудков прошлого, он больше ценил отмену карточек, чем появление новых офицерских чинов. Но общее ощущение подъема было — Бог ты мой! — папанинцы, челюскинцы, метро в Москве, Турксиб, Магнитогорск, республика в Испании, защищать которую Костя-Алеша рвался всей душой. А тут какие-то последыши, двурушники, троцкисты. Всякие Зиновьевы и Радеки тянут в прошлое, ставят подножку шагающему вперед гиганту.
Умел, умел «вождь всех народов» спекулировать на естественной и необоримой тяге людей к созиданию, гуманизму, просвещению:
Кто там шагает правой?
Левой! Левой! Левой!
Как тут не восславить, не обратить взоры к Сталину, который всегда впереди — и там, где стройка, и там, где схватка за воспетый в Интернационале «новый мир», не на жизнь, а на смерть... Смерть троцкистско-зиновьевско-бухаринским выродкам!!!
Теперешний Симонов не мог бы поручиться, что Костя ни разу не выкрикнул в какой-нибудь хорошо организованной толпе такой или подобной фразы. Быть может, даже и голосовал раз, другой за исключение из комсомола детей очередного разоблаченного врага народа. Нелепо было бы, конечно, предположить нечто подобное относительно Булгакова. И все же какое-то время — Елена Сергеевна тому живой и беспристрастный свидетель — и он был на стороне карающей длани. И у него рождали оторопь и неприятие стихи Мандельштама:
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усищи,
И сияют его голенища.
— Он же написал такое ужасное стихотворение, — с почти не остывшим негодованием восклицала Елена Сергеевна.
Ссылка за такое воспринималась чуть ли не как акт справедливости. А последовавшее затем временное смягчение участи Мандельштама — как акт гуманности, милосердия.
А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Сколько раз К.М. перечитывал это стихотворение с тех пор, как оно впервые попало ему в руки. И только сейчас пришло в голову — а не явилась ли вся линия Воланда и его свиты в романе своеобразным переосмыслением мандельштамовских строк? Даже спором с ними? Там, где поэт видел лишь злую прозу жизни, прозаику и драматургу виделось что-то сатанински-великое.
Нет, Сталин отнюдь не был в глазах Мастера этаким жрецом справедливости. Он был из того же племени, той же веры, что и его враги, но ему дано было возвыситься волей и духом над этой страшной стаей, которая все время пыталась уравнять его с собой. И он бился с тем самым злом, из которого вышел, в котором родился. Такие битвы бывают по-особому люты и непримиримы. В таких битвах не разбирают, куда ударить. Тут бывает просто невозможно отличить правого от виноватого, своего от чужого. Нет, Сталин не был в воображении Булгакова ангелом. Но не был им и Воланд. Он был сатаной. Сатана — это все же поэтичнее и возвышеннее, чем нетопырь или вурдалак. И свистящая, мяукающая, хнычащая свита его тоже не ангелы — полулюди, полубесы, полуживотные. И отнюдь не одни только добрые дела, если разобраться, творят они в лежащей у их ног Москве — все зависит от того, что прикажет Мессир. Отнюдь не ради помощи Мастеру и Маргарите они к нам прибыли, а просто провести в урочную пору ритуальный бал и найти для этого бала царицу, которая обязательно должна называться Маргаритой. Только познакомившись поближе с Мастером и его возлюбленной, они ненароком вступили на стезю справедливости, воздавая по заслугам и правым, и виноватым. Само это слово «Мастер» не из разговора ли Сталина с Пастернаком пришло, когда тот переспрашивал поэта по телефону об арестованном уже Мандельштаме: «Ведь он — мастер, мастер?»
В Булгакове, видно, жила, как и в каждом художнике, неизбывная вера в союз поэта и государя, заключаемый, как и счастливый брак, на небесах волею свыше. Вера, которой отдал дань Пушкин. А в наши дни, то есть в булгаковскую пору — и Пастернак, да и тот же Мандельштам, да, да, Мандельштам с его попыткой оды о Сталине.
Глядя на те времена сквозь свой счастливо обретенный «магический кристалл», К.М. все больше постигал теперь тот дьявольский механизм, с помощью которого можно было мистифицировать не только такого несмышленыша, каким был в свои двадцать три-двадцать четыре года Костя, но и такого мудреца, как Михаил Афанасьевич Булгаков.
О, эти сталинские звонки и письма! Сталин позвонил Пастернаку и спросил его, Мастер ли Мандельштам. Пастернак тут же рассказал окружающим об этом разговоре. Он был единственным источником информации, говоря по-нынешнему, и молва осудила не Сталина, который стер с лица земли поэта-дитя, а его, Пастернака, за им же процитированную собственную фразу, «что хотел бы говорить о другом». Пастернак и произнес-то ее единственно потому, что уверен был: с Мандельштамом теперь все в порядке, коль скоро сам Сталин звонит и спрашивает о нем. И тот постарался утвердить молву в этом: перевел Мандельштама из Чердыни в Воронеж, а затем даже отпустил его в Москву. Чтобы там неожиданно арестовать снова и уже навсегда.
А его слова о Маяковском, после которых великого поэта, как кукурузу при Хрущеве, стали насаждать с такою же истовостью, с какою прежде изгоняли? К.М. совсем недавно, от Лили Брик, с которой сблизился по тем же причинам, что и с Еленой Сергеевной, с превеликим изумлением услышал, а потом и увидел, что эти слова — «лучший, талантливейший...» были начертаны в виде резолюции Ежову на ее письме Сталину.
А резолюция Сталина на письме Иосифа Абгаровича Орбели, будущего директора Эрмитажа, а тогда хранителя его восточного отдела? Академик обращался к тому, по чьей воле с прилежностью гильотины работали во всей Западной Европе аукционы с шедеврами величайшего национального хранилища России. По чьей воле любой толстосум из Америки мог придти прямо в музей и, указав пальцем на показавшуюся ему вещь, буркнуть, как чеховский Ионыч:
— Заверните!
Сталин милостиво разрешил не трогать сокровища Востока, и та же небрезгливая молва тут же нарекла его спасителем национальной святыни, хотя освященные его именем бесчинства продолжались. Елена Сергеевна не помнила этого эпизода, но вполне возможно, что Булгаков слышал о нем. И поверил молве, не в силах преодолеть колдовство им же очерченного вокруг себя магического круга.
Сталин виделся Булгакову не творцом и вдохновителем травившей его саранчи, кем он на самом деле был, а сокрушителем ее, как Воланд. И как Воланд, закономерно презирая тысячи, он мог возлюбить одного! Много званых, но мало избранных. Однако мог и не найти, не узнать того избранного...
Булгаков надеялся и верил, что рано или поздно искра пробежит между ними, от художника к самодержцу и обратно, и соединит их, подобно вольтовой дуге. И то, что заставляло себя ждать в реальной жизни, он воплотил в воображении, в романе. Не случайно в его разговорах с Еленой Сергеевной, Люсенькой, все время фигурировало выражение «представить роман». Пока надежда на вольтову дугу теплилась, он не мыслил себе первым своим читателем никого, кроме Сталина.
Пьеса? Пьеса была попыткой выразить то же самое, только на другом языке, на языке политической публицистики, который был абсолютно противопоказан Мастеру. И она не удалась, что бы там ни говорила Елена Сергеевна — милая, трогательная, обаятельная, но увы, пристрастная, как все любящие женщины.
Аналогии, которые К.М. проводил между своим восприятием Сталина и булгаковским, если и помогали ему понять свое собственное отношение к «вождю и учителю», то странным и неожиданным образом. Он всерьез начинал думать, что, может быть, у Сталина действительно была какая-то сверхъестественная сила, которая действовала на людей. Что тут невероятного? Существуют же на свете гипнотизеры, фокусники, экстрасенсы всякие. Пусть природа их силы остается неразгаданной. Но то, что она присуща иным, что она существует в природе, это же несомненно, это мало кем отрицается. Кстати, и ему недавно советовали показаться одному такому экстрасенсу в связи с усилившимся нездоровьем легких. Он все чаще простужался, все быстрее уставал, то и дело без особого на то повода покрывался предательской испариной.
Если вернуться к Сталину, то почему не представить себе, что человек со свойствами экстрасенса приобретает политическую власть над людьми. Сам он о своей сверхъестественной силе или не догадывается, или скрывает ее. Окружающим это тем более в голову не приходит. Подчиняясь кто магии внушения, кто обаянию этой силы, кто просто грубому насилию, они приписывают все характеру, личности.
Не в этом ли разгадка? Сверхъестественная сила, которая, поколебавшись, как стрелка весов, в конце концов указала в сторону зла. Наверное, действительно это случилось не сразу. И не было фатально предопределено. Кто знает, быть может, до самого конца крупицы добра и попадали каким-то неведомым образом в этот сосуд зла и растворялись в нем, придавая ему особый, коварный и гибельный аромат?
Его самого и теперь, когда он говорит или пишет о Сталине, все тянет сохранять пресловутую объективность.
«Последнее лето». Последний из его трилогии роман, работа над которым подходила к концу. К.М. не без удивления обнаруживал, что Сталин занимает в нем не меньше места, чем раньше, хотя непосредственно, в качестве персонажа, он здесь не появляется.
Ну, а как же тут быть, рассуждал про себя К.М., если Сталин такую роль играл в судьбе Серпилина, считай, на всем протяжении его жизни? Да и после смерти. Сталин перед самой войной, по ходатайству нескольких друзей Серпилина, дал команду отыскать его там, где он тогда находился, то есть в лагерях, и вернул его в армию.
Осенью сорок первого, получив письмо от Серпилина из госпиталя, Сталин, следуя его просьбе, приказал не посылать его после ранения на подготовку резервов, а дать дивизию и отправить на фронт. Сталин же вызвал его к себе, по письму о комкоре Гринько — понравилась, видно, смелость Серпилина, можно ведь было и самому оказаться там, где Гринько, — и поставил на армию.
На кляузы Львова, читай Мехлиса, не обратил Сталин внимания... А когда погиб Серпилин, именно он, Сталин, распорядился похоронить его не в Могилеве, как предлагал недолюбливавший командарма Львов, и не в Минске, по предложению близких Серпилину людей, а в Москве, на Новодевичьем.
Это же факт, это же было, говорил про себя К.М., а вернее — Константин Михайлович, не замечая, что уже диктует эти строки, как частицу эпилога, Нине Павловне. Словно бы это не он сам придумал Серпилина. И не по его воле отношения между ним и Сталиным складывались именно так, а не иначе.
Память о том, что случилось с Серпилиным за четыре года до того, как Сталин нашел его и вернул в армию, не могла, не должна была, конечно, уйти из романа, из размышлений ближайших сослуживцев Серпилина, — это уже воля К.М. То, что случилось с Серпилиным в тридцать седьмом, гибель комкора Гринько в мыслях соратников Серпилина тоже имели отношение к Сталину, были связаны с ним и мешали им думать об одном только хорошем. «И если бы Захаров (член военного совета армии, которой командовал Серпилин) знал больше, чем он знал, и мог бы поглубже задуматься... мысль его, наверное, потеряла бы свою спасительную прямоту и ясность. Но он не задумался, а только на минуту приостановился перед чем-то невидимым и непонятным. И мысль его осталась такою, какой и была первоначально, — мыслью о том, что Сталин делал Серпилину в его жизни одно только хорошее».
Колдовство, колдовство да и только, говорил себе К.М., перечитывая и подправляя косметически на заключительных страницах романа «Последнее лето» все то, что думал Захаров о Серпилине и той невидимой простым взглядом нити, которая связывала командарма — «так уж случилось» — со Сталиным. Не та ли самая волшебная нить, которую так и не удалось протянуть Булгакову между собой и Им.
На столе у Симонова лежало его годичной уже давности предисловие к журнальному изданию «Мастера и Маргариты», вышедшему в Москве в 1969 году. Теперь неустанными трудами Елены Сергеевны и его пробивною силою готовился к изданию уже более полный, почти идентичный оригиналу текст романа, который должен был выйти одной книгой с «Белой гвардией» и «Театральным романом». Охотников написать вступление к такой знаменательной книге — пруд пруди, но Елене Сергеевне хотелось, чтобы это был снова он. Вот и решил, прежде чем сесть у диктофона, перелистать свое прежнее предисловие, которое называлось «Последняя книга Булгакова».
Глаз задержался на строчках о Понтии Пилате: «...той высшей решимости, которая нужна для того, чтобы, спасая жизнь другого человека, поставить на карту свою собственную, в Пилате нет. И он понимает это... у него недостаточно власти над самим собой для того, чтобы бесстрашно пойти навстречу возможным последствиям этого решения». Он не мог бы поручиться, что сознавал это, когда писал, но теперь исповедальность строк резанула его. С ним это случалось и раньше — приходила мысль и поражала в самое сердце. Тогда все вокруг начинало светиться недобрым светом. Жизнь виделась прожитой напрасно, все сделанное — горою мусора. Когда впервые читал в рукописи «Мастера и Маргариту» и дошел до сеанса черной магии в Варьете Варенухи и Степы Лиходеева, до того места, когда бумажки и игральные карты начали превращаться в настоящие червонцы с самыми верными и праведными водяными знаками на них, а потом наоборот — в наклейки с нарзанных бутылок, померещилось: не про него ли?
Нельзя застраховать себя от безжалостных озарений. Поистине, они приходят, не ожидая зова. Но есть средства оградить себя от их дальнейшего воздействия. Сесть за новую работу или укатить куда-нибудь в командировку. Позвать друзей и закатить пир. Поджарить на углях шашлыки. Наконец, просто выдуть стакан водки наедине с собою.
Помогало. Возвращаясь к повседневной жизни, он снова видел все в нормальном свете, а не в мертвенно-сером, словно бы потустороннем сиянии.
С недавних пор перестало помогать. Вернее, он просто не гнал теперь от себя страшные мысли. Раз уж нельзя от них избавиться насовсем, лучше приглядеться к ним поближе. Он писал однажды сыну, Алеше, теперь уже чуть ли не пятнадцать лет назад: «Если ты имеешь ныне удовольствие иметь живого и здорового отца, а не могилку и воспоминания, то помимо воли случая это потому, что я никогда не рисковал сдуру... когда была реальная опасность, хотя и не бегал от нее».
Пекло, в которое он теперь, помимо своей воли, все глубже погружался, казалось жутче военного. Вся его работа над пьесой «Мои четыре Я», которая шла лишь в голове, была сплошным перебиранием и обсасыванием тех самых мыслей и ощущений, которых он раньше чурался.
Он снова глянул на странички своего первого предисловия к «Мастеру и Маргарите». Прямолинейными, чужими показались строки об «ограниченности взгляда писателя на современность» со ссылкой на то, что, мол, главным полем для сатирических наблюдений Булгакова послужила московская обывательская, особенно окололитературная и околотеатральная среда конца двадцатых годов. И что более широкого поля для наблюдений в романе почти не чувствуется. Хорошо, если это писалось ради проходимости романа, подумал он неожиданно и постарался вспомнить, а как он тогда действительно считал.
Он не знал, радоваться ли тому, что за год пройден такой путь, или досадовать, что как ни выдавливаешь по капле собственную ограниченность, убеждаешься, что все еще немало в тебе от генерала Захарова. И от Военкора, и от Константина Михайловича. Конечно, интересно оглянуться и сравнить свои сегодняшние чувствования и воззрения с их внутренним миром. Но, кажется, пристальнее всего К.М. следует присмотреться к себе самому, то бишь к сегодняшнему Симонову, ветерану.
Строки о Понтии Пилате возвращали к давнему разговору с Ларисой, в котором, так случилось, участвовала и Нина Павловна. Надо или не надо было «положить голову на плаху», другими словами, делать или не делать этот проклятый доклад о космополитах. «Надо было», — изрекла, как отрубила, Лариса. Имея в виду голову. «Но ведь можно было и потерять ее», — вступила в разговор Нина Павловна после нескольких минут тягостного молчания.
Что сделано, того уже не переделаешь. Сколько раз устами своих героев он убеждал читателей, что никогда не надо оглядываться, надо всегда смотреть вперед. А вот его собственные думы вертятся как заколдованные все вокруг давнего. Покаяние не меняет однажды уже содеянного, но оно очищает душу, предостерегает против новых ошибок. Сколько их еще было после того злополучного доклада.
Его мучила мысль о природе этих ошибок. Тезис «знал, не знал» все больше терял в его глазах былую убедительность. Сколько можно кивать на это? — говорил он себе, хотя в ответе на иное читательское письмо и трудно оказывалось назвать иную причину рождения тех или иных его строк.
При мысли о трусости все в нем восставало, как у булгаковского Игемона, когда тот разговаривал со своим осведомителем, пересказавшим ему последние слова Распятого. Ради того, в чем он убежден, в чем уверен, он пошел бы и на крест, и на плаху. Да, да, и на плаху... Если бы поволокли... Красивые и вызывающие жесты претили ему.
Напрашивался еще один, пожалуй, самый тягостный и обидный вывод — он всегда чего-то не понимал в окружавшем его мире. Что-то и, похоже, очень важное всегда ускользало от него. Но что? Он пытался разгадать эту загадку, все дотошнее приглядываясь к тому, что делает Лариса. Вместе с ней в его жизнь ворвалось и прочно обосновалось в ней нечто такое, что заставило на многое вокруг взглянуть по-иному. Не потому ли, шутил он наедине с собой, что она искусствовед, к тому же еще занимающийся авангардом, ее рассказы и объяснения просто перевооружили мой глаз?
Сколько раз он, бывало, ничтоже сумняшеся и письменно, и устно признавался в полном своем невежестве относительно музыки — слон, мол, на ухо наступил, относительно живописи, а как-то в разговоре с Евгением Воробьевым даже относительно природы.
Ехали через лес на машине, К.М. на заднем сиденье, обложенный, как всегда, рукописями и гранками. Женя, сидя за баранкой, беспрерывно восторгался открывающимися видами и дивился безразличию спутника. К.М. отшучивался:
— Я после войны специально права потерял, чтобы за рулем не сидеть и смотреть не по сторонам, а в рукопись.
Давно, когда они еще только «женихались» с Ларисой втайне от ее родителей, он у нее на туалетном столике увидел керамическую фигурку — женскую головку с вдохновенным профилем и словно бы срезанным сзади затылком.
— Что это? — спросил он, взяв статуэтку в руки, и, услышав сердитый, как ему показалось, ответ Ларисы «не вертите», поспешно поставил вещицу на место.
Как ему было нехорошо потом, когда, догадавшись о своей ошибке, такой предательской, если верить Фрейду, он рылся в учебниках и энциклопедиях, чтобы узнать все о прекрасной египетской царице.
Всю жизнь читаешь, смотришь, познаешь и вот на тебе, то и дело обнаруживаешь такие белые пятна в своем образовании, что только диву приходится даваться.
Круг интересов и занятий Ларисы, который он сначала с любопытством, потом с неподдельным интересом, а там и с оттенком почтения стал постигать, неумолимо втягивал его в свою воронку. Знала она удивительно много, особенно, конечно, в своей сфере, в области изобразительных искусств. Писала, на его вкус, плохо, вяло, с массой не столь обязательных терминов и неуклюжих наукообразных оборотов. В Ташкенте, где она, как и он, часами сидела, согнувшись над машинкой в своем кабинете, ему приходилось, по существу, переписывать все, что она успевала «натюкать», как выражалась Нина Павловна. Поначалу она не хотела ему давать свои листочки. К замечаниям, весьма тактичным, относилась, пожалуй, даже с враждебностью. Ей казалось, что они продиктованы просто его незнанием предмета. Но так как он, прежде чем побеседовать с нею, старался прочитать, что было под рукой на соответствующую тему, постепенно стала относиться к его замечаниям внимательнее. А там и вообще поняла, что профессионализм литератора — такая же объективная реальность, как методика исследований для ученого. Благодаря своему ремеслу профессиональный литератор может грамотно и увлекательно написать практически на любую тему. Она училась у него литературному письму и была способной ученицей, а он все с большим рвением вникал в перипетии ранее безразличных ему пластических искусств.
Он не заметил, как и когда это случилось, что мир ее интересов стал неотъемлемой частью его существования. Предметы, люди, страсти этого мира. Явное и невидимое. Всевозможные рифы и подводные камни.
Оказалось, и в этом мире есть свой «гамбургский счет», тот самый, что ввел в обиход Виктор Шкловский, и на который он, Симонов, некогда издевательски обрушился.
Он недоумевал, видя, как пофыркивает пренебрежительно Лариса, когда разговор между ними заходил, например, о передвижниках. Для него-то было как дважды два, что они — вершина русского изобразительного искусства. Он, может быть, и затруднился бы перечислить с ходу, что они там написали, — Маковский, Поленов, Шишкин, Саврасов, Перов, но уже само звучание их имен отдавало для него чем-то классическим, непререкаемым. Для Ларисы все это отдавало обыкновенным «писанизмом». Словечно, которого он раньше не слышал. У нее был совсем другой отсчет. В прошлом для нее на Западе существовали одни импрессионисты, все эти Мане, Моне, Гогены, Ван Гоги... В русской живописи и скульптуре все начиналось с Врубеля и полузабытого Антокольского. Потом шли Бенуа, Лансере, Добужинский, Серебрякова, Гончарова и Ларионов, Кандинский и Малевич...
Он, конечно же, добросовестным образом перечитал то, что ему рекомендовала Лариса, и о Кандинском, и о «черном квадрате» Малевича, и о Фернане Леже, и о Шагале, и о Пикассо, которого он знал лично.
Когда в дом приходили друзья и единомышленники Ларисы, он старался не обременять их своим присутствием. Так он им и заявлял, вызывая этим бурные, но не очень настойчивые протесты. Присесть где-нибудь сбоку на десяток минут, повозиться с трубкой, отпустить пару-другую реплик в привычной полушутливой манере — и по своим делам. Коротких этих минут Ларисе и ее компании хватало однако, чтобы загрузить его массою просьб-поручений. Получалось, что в их мире бедолаг, непризнанных гениев, всякого рода неприкаянных бунтарей было еще больше, чем в досконально известном ему мире словесников. Он хлопотал и за живых, и за мертвых, писал в Моссовет и министерство культуры, в различные музеи, архивы, редакции газет. Многих из тех, за кого приходилось ходатайствовать, узнавал сначала по именам, по перипетиям их многострадальной, часто уже свершившейся жизни, а потом уж по их картинам, скульптурам и другим творениям. Так было с грузином Пиросмани, с москвичом Татлиным.
На выставку в Манеже в 1962 году, в подготовке которой активно участвовал весь Ларисин круг, он попал вместе с ней еще до официального открытия и, соответственно, до сенсационного появления там Хрущева.
Явился туда, имея в кармане заказ «Известий», где недавно выступил, первым в советской печати, с рецензией на «Один день Ивана Денисовича». Аджубея, который теперь попросил его рассказать о выставке, он по обычаю предупредил, что ничего в изобразительном искусстве, тем более авангардистском, не понимает. Аджубей в свойственной ему наступательно-эмоциональной манере заявил, что им, мол, и не нужен узкий специалист, который, как известно, подобен флюсу. Пусть они пишут себе в «Декоративное искусство» или еще куда-нибудь. Для «Известий» нужен именно такой вот якобы дилетант, знаменитый писатель, который мог бы схватить идеологию события, его политическую суть. Ведь все это десятилетиями лежало под спудом, запрещалось. Напор Алексея Ивановича был мощен и не лишен очарования.
Выставка ошеломила его. Всего было так много и все было настолько неожиданным, что без Ларисы он, пожалуй, просто потерялся бы в этой карусели картин, скульптур, чертежей, макетов, схем, каких-то диковинных, вообще ни на что не похожих предметов. Спокойные, лаконичные объяснения Ларисы, которая с удовольствием играла роль гида, в то время как он с таким же увлечением изображал из себя экскурсанта — так было надежнее, словно бы упорядочивали кипение форм и красок, придавали им стройность и гармонию.
Он так и решил назвать свои заметки «С позиции писателя». В каком-то смысле это будет продолжением его размышлений о повести Солженицына. Скажет о чувстве радости, которое нельзя не испытывать при виде всего того, что выставлено в Манеже, при осознании того, что стало возможным вытащить все это из запасников, а то и вовсе с чердаков и из чуланов, где, погибая, ждали своего часа эти неувядающие свидетельства могучих художественных потенций нашего народа... А потом скажет и о чувстве обиды и горечи по поводу того, что так много лет все это обреталось втуне, в то время как перед глазами маячило поверхностное, конфеточное, «правильное»... Скажет с искреннею болью человека, который как раз не был обойден вниманием в те годы, был много и порой даже незаслуженно хвалим, в результате чего возымел сильно преувеличенное представление о собственном месте в художественной жизни общества. К.М. полагал необходимым упомянуть об этом. Каждый раз, когда он так делал, наступало какое-то, пусть и кратковременное, облегчение душе. У него было ощущение, что этими признаниями он зарабатывает себе право говорить о своих сегодняшних представлениях о мире, о роли творческого деятеля без оглядки, без комплексов.
Теперь этим так и не появившимся в «Известиях» размышлениям о выставке работ московских художников в Манеже уже более семи лет. Когда статья была почти готова, на выставке побывал Хрущев. К.М. при этом не присутствовал, а Аджубей, естественно, был. И позвонил ему, помнится, сразу же после просмотра, еще до того, как в печати появились какие-либо упоминания об этом походе. Поход... Это сейчас ему на ум приходит сие иронично звучащее словцо. Тогда думалось совсем о другом. О посещении выставки руководителями партии и правительства. Он жадно слушал рассказ Аджубея, желая проверить свои впечатления и размышления тем, что было сказано при обходе. Чувствовалось, что Аджубей не договаривает, дипломатничает, и все же, догадываясь, видимо, о направленности статьи К.М., определенно дает ему понять, что выставка Никите Сергеевичу не понравилась. Странно, это сообщение не огорчило его тогда. Слушая Аджубея, читая потом официальные сообщения, появившиеся вслед за этим статьи художников, он начинал понимать, что, конечно, переусердствовал в своих восторгах по поводу выставки, опять подвела его пресловутая добросовестность. Хотелось-то что? Хотелось восславить сам факт появления этой выставки, выхода на свет божий всего того, что десятилетиями было скрыто от глаз людей. Казалось, что о художественных достоинствах произведений, о творческом пути художников, как бы возвратившихся из небытия, как тот же Фальк, чьи толстые голые женщины отнюдь не приводили его, К.М., в восторг — можно и нужно будет толковать и спорить потом, когда мы попривыкнем к ним, когда они перестанут быть сенсацией. Тогда и нужно будет сказать трезвое, взвешенное, профессиональное слово. Хрущев решил перешагнуть этот этап, и, наверное, на то у него были свои основания. Как главе государства и партии, ему положено видеть дальше и лучше. Он сразу же и высказался, естественно, в свойственной ему манере: с шуточками, поговорками, с солью и перцем. Что греха таить, он, К.М., чуть было не сыграл в поддавки. Кому охота слыть сейчас этаким брюзгою? Уж лучше перехвалить, чем недохвалить, коль скоро речь идет о проявлениях новаторства, пусть даже некоторым из открытий уже полвека. Политический же руководитель должен уметь возвыситься над привходящими обстоятельствами. Ему в каком-то смысле и труднее, и легче. До него не доходит, а если доходит, то отраженно, весь тот гул и рокот, который Писарев назвал когда-то общественным мнением, а теперь зовут литературной молвой. Он свободен от него, оттого и смотрит в корень.
Аджубей, когда звонил, не отменил заказа на статью, он только попросил повременить с нею, «вслушаться в звучание дней», то есть дать страстям улечься. Когда энное время миновало, родилась продиктованная Нине Павловне первая фраза статьи, которую он со второго захода решил назвать «Явления и люди»: «Я много думал об этом, много спорил и с другими, и с самим собой, и, видимо, на эту тему надо высказаться откровенно и вслух, без недомолвок».
Конечно же, было сказано, вернее, повторено о значимости самого события, факта появления такой выставки. Он крепко ударил по статьям Александра Герасимова и Лактионова, которые решили воспользоваться обстановкой и попытаться вернуть себе, казалось бы, навсегда утраченное монопольное положение в искусстве.
Теперь о другом. О том, что ему, возможно, претит не меньше, чем Герасимову или Лактионову, хотя он и предлагает подойти к этому совсем с другого бока. Об абстракционизме, о том, что он был всегда глубоко чужд ему, всегда — не по нутру в любом виде искусства, так же, впрочем, как и натурализм.
«...Когда меня пытаются убедить, что та или иная комбинация красочных пятен означает мысль, или любовь, или ненависть, или что-нибудь еще, то я не желаю, чтобы при помощи этого шаманства меня пытались увести от действительной любви и ненависти, от действительных проблем в действительном мире».
Он признавал, что в этой сфере трудятся и талантливые люди, и халтурщики. Одни в своих поисках заблуждаются, другие — просто обманывают. Увы, именно талантливые люди своими принципиальными ошибками создают питательную среду для шарлатанов. «Если говорить о наших доморощенных абстракционистах, то большинство того, что я видел лично, по-моему, просто подражательная и неталантливая или малоталантливая мазня. Тревожит, конечно, количественный размах этой мазни, но куда больше волнует тот принципиально неверный, чуждый реализму путь, по которому тронулся было и довольно далеко зашел, например, такой талантливый человек, как Эрнст Неизвестный...»
Совсем недавно — с помощью Нины Павловны он формировал очередной том «B.C.» за 1962 год — К.М. наткнулся в бумагах на эти строки. Какое счастье, что они так и остались в виде страниц на машинке. Спасибо случаю. Нечаянно — а может, по подсказке Нины Павловны? — они попались на глаза Ларисе. Он вспоминает теперь, что она чуть ли не на колени тогда перед ним встала: «Не надо, не посылай, прошу тебя! Это будет ужасная ошибка. Ты будешь жалеть».
Поначалу он вовсе не склонен был с нею соглашаться. Не будь это Лариса, его жена, он после такого взрыва эмоций, пожалуй, лишь сел бы и дописал еще несколько абзацев. Охарактеризовал бы этот феномен восприятия, на который он ополчался всю свою сознательную жизнь. Почему люди могут быть так односторонни? Даже такие вот умные, эрудированные, глубоко мыслящие, как Лариса? Почему не видеть всю правду? Все ее грани? Ларису возмущают нападки на выставку как таковую, которые посыпались сразу же после того, как на ней побывал Хрущев. Действительно, газеты словно соревнуются между собой, кто больнее укусит. Но разве из его, К.М., опуса не вытекает ясно, что он против такого подхода? Против необоснованных запретов, против ведомственных амбиций? И разве это не дает ему право, не обязывает сказать и о другой стороне — что не все, что запрещалось, непременно хорошо. И теперь, будучи разрешенным, не может оставаться вне критики.
— Почему именно ты должен это говорить? — упорно твердила Лариса, и он поначалу видел в ее словах лишь стремление оберечь его самого от подкалываний и усмешек ее друзей.
— Но не сказав этого, я не смогу сказать и другого, высказаться, например, против запретов. И пойми, кроме меня уж никто этого не скажет.
— Ну и не надо, — упорствовала Лариса. — Никому и ничему это сейчас не поможет. А время все расставит по своим местам.
Он тогда согласился, вернее, покорился ее воле. Благо, что и Аджубей не особенно настаивал. «Известия» к тому времени уже напечатали пару откликов, которые были вполне в духе общей кампании. И возможно, Алеша предвидел, что с симоновской статьей у него могут возникнуть проблемы.
Так бы оно, наверное, и случилось. По сравнению с тем, что тогда выплескивалось и в печати, и на различных собраниях, его статья прозвучала бы просто вызовом официальной точке зрения. Так что расскажи он тогда кому-нибудь из друзей эту историю с несостоявшейся публикацией, наверняка заслужил бы от них упрек в трусости. Он, кстати, приводил и этот довод Ларисе. Но она была непоколебима. Чисто по-женски, естественно. Образно говоря, продолжала стоять передним на коленях до тех пор, пока он напрочь не отказался от этой затеи, как она это называла.
В пору открытия выставки и визита Хрущева в Манеж родилась злая байка, которая живописала «расхождения» между убежденным соцреалистом Александром Герасимовым и такими авангардистами «хормалистами», как Борис Жутовский или Павел Бунин. Стою я, — рассказывает якобы Герасимов, — в Третьяковской галерее, в зале Виктора Михайловича Васнецова и любуюсь его бессмертным шедевром — картиной «Богатыри». И вижу, идут хормалисты. Чего, говорят, ты, Сашка, ею любуешься, ведь в ей воздуху мало, пленеру, по-нашему. Эх, говорю, господа хормалисты, а ведь если бы в ней было больше пленеру, воздуха, по-нашему, в ней было бы меньше богатырей».
Смешно и грустно! Тем более, как выяснилось, нечто подобное, согласно рассказу очевидца, которому К.М. доверял на сто пятьдесят процентов, произошло действительно на самой выставке. Никита Сергеевич, и вся процессия вместе с ним, остановился у картины Жутовского. Понять, что было на ней изображено, ему было трудно. На помощь пришел автор, маленький, смуглый, подвижный. Он просто прочитал название картины: «Речной порт в Горьком». Никита Сергеевич вытаращил глаза. Обернулся к сопровождавшему его зампреду Совета Министров РСФСР Михаилу Тимофеевичу Ефремову, который еще недавно работал в Горьком первым секретарем обкома: «Михаил Тимофеевич, у тебя там разве такой порт?»
— Да что вы, Никита Сергеевич! Как можно. Это ж сплошное издевательство. У нас современное, высокомеханизированное предприятие. Мы краны портовые закупили за границей, с вашей помощью валюту получили.
Н.С., не дослушав его, повернулся к художнику: «Ты что, педераст?» А как он потом в Кремле, тут уж К.М. сам был свидетелем, орал на Вознесенского?! Того, бедный парень, словно ураганным шквалом бросало от одного края трибуны к другому.
Нет уж, минуй нас пуще всех печалей... И все же постепенно приходило понимание: Никитины времена, когда, как в романе американца Митчелла Уилсона, жили с молнией, были раем для художника по сравнению с тем, что происходило нынче. Особенно после чехословацких событий, с постоянными ссылками на них.
При Никите молния отсверкает, гром отгремит, смотришь и солнышко выглянет, свежим ветром повеет, обдаст весенним теплом и влагой. А тут словно бы туман какой, вязкий, серый, окутал небо и землю, стоит, не колышется. То ли замереть и ждать, когда он рассеется, то ли двигаться. Но если двигаться, то куда? Когда сам черт не разберет, где тут фронт, где тыл, где фланги...
В таком-то душевном состоянии ему довелось посмотреть во второй раз «Обыкновенный фашизм» Ромма. То есть, что значит — довелось? Импульс был самый определенный и, увы, горький — смерть Михаила Ильича. На К.М. все тяжелее стали влиять уходы людей, которые подобно Твардовскому уносили с собой в могилу целые пласты жизни. Роммовские «Девять дней одного года» были для него своеобразной визитной карточкой просыпающегося времени. В его Гусеве он угадал что-то от своего Сергея Луконина. Та же цельность, несгибаемость, фанатическая отданность идее. Такой же однолюб. А ведь эпоха совсем другая. Он только покачивал иронически головой, когда ему пытались доказывать, что знамением времени является герой Смоктуновского. Кстати, и Баталов импонировал ему больше, чем Смоктуновский. Он хотел бы увидеть Алешу в одном из своих фильмов.
Посмотрев «Обыкновенный фашизм» первый раз, шесть лет тому назад, он и тогда сказал себе, что это — самый важный фильм о войне. Он так и написал об этом в своих заметках, которые назывались «Без иллюзий».
Теперь, когда Ромма не стало, фильм смотрелся по-особому. Ведь после него Михаил Ильич ничего уже не снял. Последние годы, К.М. догадывался, были для него тяжкими. С одной стороны, фимиам без меры от радикальной киношной и околокиношной публики. С другой — открытые письма Каплера, что Ромм убрал из титров «Ленин в Октябре» и «Ленин в восемнадцатом году» его имя, когда его посадили за роман со Светланой Сталиной. Ну, и беспардонная травля со стороны юдофобствующих, которые после смерти Эренбурга в Ромме видели почему-то главного сиониста.
Сидя в маленьком просмотровом зале студии документальных фильмов, где К.М. попросил прокрутить ему «Обыкновенный фашизм», он ясно видел, вовсе не о Гитлере, во всяком случае не только о Гитлере, этот фильм. И не в сионизме или антисемитизме тут дело. В атрибутике нацистской Германии виделись и приметы окружавшей Сталина жизни. Предвидел ли сам Ромм такой эффект? Добивался ли он его сознательно или так вышло? Эти марши, эти духовые оркестры. Залы, переполненные восторженной, обожающей фюрера публикой. Истерика оваций. Грандиозные «народные торжества», парады физкультурников, когда сотни, тысячи, десятки тысяч людей одновременно, по команде делают одни и те же упражнения, восторженно глядя при этом на вождя. Невыносимо было смотреть встречи Гитлера и Геббельса с интеллигенцией, писателями, художниками. Видеть счастливые, верноподданнические лица облагодетельствованных им творцов. Выставки живописи и скульптуры, где, как и в киносъемках, доминировали изображения сильных, красивых, исполненных мощи людей, которые либо маршируют, либо делают гимнастику, либо неистово, со светящимися глазами аплодируют фюреру и его окружению. И Гитлер, Гитлер, Гитлер. В масле, мраморе, гипсе. На трибуне, в цехе, на фоне колышущихся злаков. «Утро Родины»?
Творцы этих шедевров, с упоением ожидающие суждения Самого. Журналисты с блокнотами в руках, готовые занести на скрижали каждое междометие фюрера. И его то ласковый, то суровый взгляд, мгновенно, на глазах у зрителя переходящий от благодушия к гневу.
Был, оказывается, такой узаконенный термин — искусство фашизма. Были сгинувшие без следа его творцы. Все сразу, без разбора. Со своими монументальными скульптурными группами, олицетворяющими незыблемость рейха, со своими жизнерадостными, брызжущими половодьем красок полотнами, со своими, в твердых обложках, фолиантами, наверняка оптимистического, жизнерадостного звучания. А тоже ведь, наверное, делились на разные школы и группы, вели между собою полемику. Кто-то слыл либералом, кто-то консерватором. Кого-то увешивали наградами, кого-то поливали грязью в газетах. И если сегодня одни были наверху, то завтра — другие, а послезавтра, смотришь, снова поменялись местами.
Сгинули без следа все до единого — со всеми своими различиями, оттенками, наградами, премиями и выговорами, со своим восторженным или сдержанным, просвещенно скептическим отношением к рейху. Никаких этих оттенков не сохранила историческая память. Звучат и помнятся, живут и поныне в сознании потомков лишь те, кто отринул всякую связь с рейхом. Бежал как от чумы от свастик, марширующих болванов, карающих и осчастливливающих фюреров, пропагандистских лакеев геббельсовской своры, от сладкой отравы их писаний в прессе. Или ушел в подполье, присоединился к немногочисленному, но все время существовавшему невидимому фронту, солдаты которого, обливаясь кровью, погибая в застенках, вели свой счет фашизму и получали с него. Генрих и Томас Манн, Вилли Бредель, Анна Зегерс, Эрнст Буш...
Часто бывая после войны в Германиях, как в одной, так и в другой, он понемногу изучил историю антифашистского движения и особенно то, что касалось художественной интеллигенции. Со многими участниками Сопротивления был знаком лично, вел переписку с давних, на грани войны и мира лет. Лишь сейчас, после «Обыкновенного фашизма», увиденного как бы новыми глазами, вдруг подумал: при всей, с нашей точки зрения, изначальной очевидности звероподобия Гитлера и его камарильи, не каждый из тех гигантов, имена которых он теперь перебирал в памяти, отвернулся от этой клики сразу и безоговорочно. Сколько раз приводил он в своих статьях, декламировал вслух при встречах на немецкой земле слова Томаса Манна: «Если бы немецкая интеллигенция, если бы все люди с именами и мировыми именами... единодушно выступили тогда против этого позора... многое произошло бы не так, как произошло».
Это ведь касается не только немецкой интеллигенции и не только Гитлера.
Растревоженное фильмом сознание воспроизводило, словно на экране, имя за именем. Готфрид Бенн, Мартин Хайдеггер, один из отцов экзистенциализма, Эмиль Нольде... Увы, как бы ни отвратителен был деятель типа Гитлера, всегда найдется в нем нечто, что, смотришь, и привлечет к нему людей поистине незаурядных. Кощунственное сравнение, но в упоении, с которым эти трое славили приход «новых варваров» и призывали растворить «постыдное», индивидуалистское Я в «тотальном, в государстве, в расе», почудилось ему что-то от блоковского воспевания скифов. Что же это за рок такой тяготеет над мудрейшими из мудрейших, проницательнейшими из проницательнейших, что они снова и снова, на каждом новом историческом витке блуждают между трех сосен и не могут распознать того, что с первого взгляда очевидно для простого смертного. Тот же Готфрид Бенн вступил в ожесточенную полемику со многими из своих друзей и почитателей, бежавшими из Германии «куда глаза глядят» при первых же звуках фашистского Хорста Весселя.
Интересно, был ли искренен Готфрид Бенн тогда. Позднее пришлось ему со ссылками на архивы в Германии и Англии доказывать свое чистопородное арийское происхождение, доброкачественность своей «наследственной массы». «Новым варварам» все-таки не по душе было с ходу признать за своего интеллектуала, поэта-экспрессиониста. Но когда все начиналось? Взять полемику Томаса Манна и Эрнста Бертрама, поэта и филолога, некогда бывших друзьями. Бертрам призывал Манна вернуться домой, чтобы принять участие в строительстве «новой Германии», признать величие Гитлера, ведущего народ к национальному возрождению. И что ему отвечал Манн? «Что Вы способны принимать мерзейшего в мировой истории шута за «спасителя» — это для меня постоянное горе... Начали ли Вы видеть? Нет, ибо кровавыми руками Вам закрывают глаза, а Вы куда как довольны такою защитой...»
Поистине, Ромм околдовал его, К.М., и он теперь, куда ни глянь, видел в событиях и понятиях их другой, потайной смысл.
О том же Бертраме, быть может, только потому и вспоминают сейчас, что в его биографии была дружба с Томасом Манном и полемика с ним... Что же говорить о деятелях пониже рангом? Таких, какими полны страницы романов Фейхтвангера «Успех» и «Изгнание»?
Фейхтвангер, его книжка «Москва 1937». Это воспоминание придало размышлениям К.М. новую направленность. Костя впервые прочитал ее в том году, когда она вышла, моментально став сенсацией. Если у него, тогда двадцатидвухлетнего бурно начинающего поэта, и могли бы возникнуть какие-либо подозрения относительно происходящего вокруг, по поводу исчезновения, например, людей, которые еще вчера казались ему идеалом гражданина и революционера, то тут они развеялись бы как дым. Книга Фейхтвангера стала манифестом, евангелием в его кругу. С Фейхтвангером в руке сокрушали нытиков и маловеров. Страстный антифашист, утонченнейший писатель, философ-романист пропел осанну стране Советов и ее вождю. Чем откровеннее говорил писатель о своих первоначальных сомнениях, чем искреннее сокрушался всеми тяготами, которые вынужден был преодолевать народ, тем убедительнее звучала его здравица. Даже беглое упоминание о странной улыбке Радека, которой тот, приговоренный к пожизненному заключению, проводил своих друзей, осужденных на очередном процессе на смерть. Призванная как будто бы посеять сомнение в справедливости приговора, она, эта деталь, на самом деле лишь еще больше утверждала правомерность происходящего.
Можно рассуждать об искренности Готфрида Бенна, но как, даже и теперь, усомниться в искренности Фейхтвангера? Ведь он-то уж совсем не зависел от Сталина. Наоборот, зная, что многие с ним не согласятся, а другие, быть может, и отвернутся от него, положил на весы свой авторитет, свое славное и незапятнанное имя.
Чем больше думал К.М. о роковой ошибке истинного гуманиста, тем меньше отдавал себе отчет, обескураживает она его или подбадривает. Сама возможность такой ошибки в самый трагический год, убеждал Костя, говорит, что не все просто и однозначно было и тогда в нашей жизни. Эти доводы Кости мешали целиком согласиться теперь с Роммом, поставить на одну доску Гитлера и Сталина. Сам он, К.М., столько раз ошибался в одном направлении, что было бы теперь просто идиотством шарахнуться очертя голову в другом.
Явилась на мгновение, но успела проникнуть глубоко-глубоко мысль — ну, а что было бы, если бы победил Гитлер, завоевал нашу одну шестую и помирился бы со всем остальным миром? Что ж, тогда бы, наверное, эти суетящиеся на экране «творцы» ездили бы по миру вместо нас, вели бы возвышенные споры, собирали бы съезды и конференции, увенчивали друг друга орденами, премиями, званиями, раздавали собрания сочинений, однотомники и двухтомники, принимали бы гостей, присутствовали бы при встречах властей предержащих. И никому бы из них, здравствующих и процветающих, и в голову не пришло, что они в сущности мертвецы. Живые, ходящие, суетящиеся мертвецы.
Метафора, предложенная режиссером, продолжала жить. Ну, а если бы и у нас, как в Германии, Сталин ушел не естественным, биологическим путем, а в результате какого-то катаклизма, внутреннего или внешнего? Что тогда случилось бы со всем созданным и рожденным при нем?
Если бы Сталина и весь так называемый сталинизм смело или еще сметет единым порывом, ураганом, что останется? Не смоет ли и нас всех одним потоком, в одну и ту же яму небытия — со всеми нашими оттенками и различиями, которые сегодня кажутся такими явными? И кто тогда отличит Симонова от Софронова, Александра Герасимова в живописи от Сергея Герасимова в кино? А кого же запомнят? Кто останется, подобно тому, как и сейчас живут Брехт и Томас Манн, Герман Гессе, Ремарк... Кто? Один Солженицын?
Одна закономерность тем не менее была очевидной: художника в человеке оставалось тем больше, чем последовательнее он противостоял попыткам превратить его в «подручного», как выражался Хрущев о журналистах. Ромм останется. Во всяком случае «Обыкновенный фашизм». Невзирая на «Убийство на улице Данте» и вымаранное из титров его ленинских фильмов имя Каплера. Покаяние — вот что такое этот фильм Михаила Ильича Ромма. Если К.М. память не изменяет, Ромм родился в 1900 или в 1901 году. Ровесник века. А фильм этот, последний свой фильм, сделал в 1965 году. Прикинул по-мальчишески свой возраст. Ему сейчас ровно на десять лет меньше, чем было тогда Ромму. Значит, не все еще потеряно. Он вымученно улыбнулся: не все еще потеряно.
Так, в какой-то степени неожиданно, а в какой-то и подготовленно, этот сеанс для одного зрителя в маленьком, душном просмотровом зале ЦДФ, где он столько часов провел, экзаменуя собственные фильмы, стал вехой в жизни. Событием, от которого он повел особый отсчет своим дням.
По привычке не откладывать задуманное К.М. произвел своеобразную ревизию всему тому, что было сделано за последнее время и что предстояло еще сделать. Инстинктивно искал в своих планах такое, что по духу и по значимости, по назначению своему могло бы сравниться с фильмом Ромма. Дело было не в том, чтобы просто повторить Ромма средствами литературы. Суть в том, чтобы так же сполна, чтобы ничего не оставалось в загашнике, высказаться о жизни, которой ты жил и которую, в сущности, уже прожил. Прожил? Снова вспомнились подсчеты, которыми он не раз и не два занимался то с Ларисой, то с Ниной Павловной, доказывая им, что на самом-то деле ему вовсе не пятьдесят пять сейчас, а считай, за семьдесят, потому что многие годы его жизни надо принимать по меньшей мере за два. Та же война.
Говорил это не рисовки ради, а в объяснение, почему он так торопится, почему работает, как они утверждают, на износ. Надо спешить, надо торопиться.
И непременно — видеть себя со стороны. Внешнему миру был явлен без всяких его специальных усилий на то облик Мастера, живого классика, купающегося в любви и приязни — редчайший случай! — верхов и низов, начальства и читателей, дома и за рубежом. Мало кто, кроме самых близких ему людей, мог видеть его расстроенным, растерянным, мятущимся. Неторопливая речь, спокойная, чуть ироническая улыбка, размеренные жесты. И непритворное внимание каждому, кто к нему обратился. Вспомнилось, как возмущалась, как только она умеет, Нина Павловна, когда однажды, вернувшись из ФРГ, он попросил ее, откликаясь на просьбу помогавшего ему там советского дипломата, заказать в Книжной лавке писателя несколько, как он выразился, изданий. Это «несколько» обернулось на поверку «посылочкой» в три десятка томов, которые пришлось к тому же разыскивать по всем книжным складам и магазинам, в том числе и букинистическим, Москвы.
Его переписка с сотнями и сотнями, если не тысячами адресатов — эта его «невозможная привычка» (тут он посмотрел на себя глазами Нины Павловны) отвечать на каждое письмо. Не всегда, правда, удавалось это делать вовремя. Но рано или поздно он прочно усаживался вместе с нею или Татьяной Владимировной, вторым его секретарем, за свой необъятный письменный стол в «верхнем» кабинете и, беря в руки из груды, лежащей перед ними, письмо за письмом, диктовал, диктовал, диктовал, почти каждый ответ начиная с извинений за задержку. Ну, например: «Прошу извинить, что с опозданием отвечаю на Ваши вопросы, но я был в долгом отсутствии. На все вопросы я ответить не готов, надо перечитать Лескова, а по пятому вопросу надо перечитать и много другой литературы — я сейчас не могу это сделать. Поэтому позвольте ответить на первый, второй и четвертый вопросы». Июнь 1971 года, Москва, директору Орловского государственного музея имени Тургенева...
— Это уж слишком, — всем своим видом показывала Нина Павловна.
Ему доставляли своеобразное удовольствие и эта диктовка, и ее негодование. Он испытывал наслаждение при виде того, как от письма к письму тает лежащая перед ним гора конвертов.
Вчуже оглядывая круг своих забот, не без доли самолюбования, он отдавал себе отчет, что со стороны может показаться невероятным, что со всем этим способен управляться один человек. Беседуя с коллегами-журналистами на гостелерадио, рассказывал: «Часиков эдак в шесть, а когда припечет, то и пораньше, встаю, занимаюсь гимнастикой, пью чашечку кофе, ем овсяную кашу, а потом сажусь работать часов до четырех дня: первый присест часа четыре, не меньше. Потом перекусываю слегка и работаю часов до семи, до половины восьмого. Потом — рюмка водки. Ужинаю легко, если без гостей, потяжелее, если с гостями. Хозяин должен подавать пример. Иначе гости обидятся. Если без гостей, после ужина смотрю вашу программу «Время» (оживление, естественно, в зале), потом, когда в большом запале, снова немного работаю...»
Хоть он и не занимал никакой должности и казенного стула нигде не имел, пришлось в конце концов и прием посетителей поставить на регулярную основу. Нина Павловна с Татьяной Владимировной Дубинской принимают, так сказать, заявки главным образом по телефону, потом показывают ему свои записи. А тут еще и прямые обращения к нему, Ларисина клиентура, депутатские обязательства. Словом, к нему всегда очередь. Еще поездки по стране и за рубеж. Как-то подсчитал: по-прежнему примерно треть жизни проводит в дороге. Так что порой всерьез удивляешься — как это еще удается тянуть одновременно столько нитей. И в литературе, и в кино, и в публицистике.
Слава Богу, закончено с «Живыми и мертвыми». Три тома. Чуть ли не сто печатных листов. Несколько папок с рецензиями. Вороха читательских писем. Тома переписки с ними. Первая книга появилась в «Знамени» в 1959 году, последняя в том же «Знамени» в 70-71-м годах. Пятнадцать лет ушло на это. Строго говоря — главный труд жизни. Недавно был удостоен за нее Ленинской премии: что скрывать, приятно! Снова пролился дождь поздравлений. Такие слова о себе довелось прочитать, что хоть носом хлюпай. Будь он немного сентиментальнее, так, наверное, и хлюпал бы...
Тогда в просмотровом зале подумал: нет у него своего «Обыкновенного фашизма». Как ни старался, а все же не с самого еще донышка зачерпнул правды. Не удалось. Сам понимает, да и в письмах-откликах нет-нет да прозвучит это надорванной струной.
Почему? На потом откладывал? Или мастерства не хватило? Может, потому, что романы снова получились не о солдатах, не о народе, а об офицерстве? Впрочем, что такое народ? Почему офицеры не народ? Он сам, Симонов, не народ? Как-то, философствуя вслух на читательской конференции в Минске, он сказал по поводу своих только начинавшихся тогда телебесед с военачальниками: «Я, как видите, не противник того, чтобы мы расспрашивали о войне руководителей ее, полководцев, — это тоже важно и нужно, но это только часть дела, а про всю войну может рассказать только весь народ, и его и надо расспрашивать о войне...»
Сказалось — и забылось, фразу между тем подхватили. Называют ее крылатой. Всю правду о войне может знать только народ...
Он и задумал теперь расспросить его. Но всех солдат не расспросишь. Кого выбрать? Мелькнула счастливая мысль — расспросить кавалеров орденов Славы. Это тоже не под силу. Тогда обладателей всех трех степеней. Как известно, молва приравнивала в войну три ордена Славы к Звезде Героя. Но звезду мог получить каждый — от генералиссимуса до солдата. А орден Славы — только солдат. Вот его и расспросим. Заявка на серию фильмов, которые будут состоять из таких интервью, уже лежит в Центральной студии документальных фильмов. Дело движется к очередному юбилею Победы. Так что отказать ему в этом никто не решится, и он уже исподволь раскручивал маховик предстоящих хлопот. По принципу — глаза боятся, а руки делают.
Мысль об этой работе и пугала, и радовала. Страшила необъятность трудов. Ведь задуманное — целое предприятие. Предстоит отыскать по всей стране, вытянуть в Москву героев-солдат, побеседовать, записав на пленку, с десятками, какое там десятками — с сотнями людей. И это только часть дела. Дальше — работа собственно над фильмами.
Радовался же тому, как ни странно, что работа предстояла в известной степени механическая. Ну, может быть, это и не самое подходящее определение, но все же. Ему порой начинала казаться тягостной необходимость все время думать. Думать, осмысливать, анализировать, пытаться, часто тщетно, отыскать подноготную явлений. Слишком многое вокруг — и сегодня, и в прошлом — имело, как обнаруживалось, второе дно. Чего ни коснись. Слишком часто, хоть в этом была не вина, а беда его, изнанка событий являлась ему не с первого, а то и не со второго даже предъявления. Все чаще приходила мысль, что его дело, его теперь миссия — не вещать, не проповедовать, не учить, а свидетельствовать. «Сделай, что можешь, большего никому не дано...»
Что может быть беспристрастнее, очевиднее, чем рассказы бывших солдат, записанные на кинопленку. Важно только разговорить их, чтобы чувствовали себя не на сцене, а в кругу своих, среди «корешей» погодков, одноокопников. Он почувствовал, что это ему удается, когда один из них далеко уже не первый, сказал, как бы извиняясь и перед ним, Симоновым:
— Днем и ночью живешь на фронте. Надо человеку жить там. Вот иногда я вспоминаю, к нам приезжали артисты. И эти артисты приходили на самую что ни на есть передовую и давали концерты. Это нас очень воодушевляло. Теперь вот тоже смотрю телевидение, по радио слышу выступления артистов. С такой гордостью они говорят, что они были на передовой. Они были, а солдату надо было жить там... Война-то была четыре года. За четыре года в мирное время вуз кончали.
Военные дневники, над обработкой которых он продолжал корпеть, должны были, по его мысли, служить тому же делу — свидетельствовать. «Разные дни войны» — одних только надиктовок, сделанных в промежутках между командировками на фронт, набиралось более тысячи страниц. Да фронтовых блокнотов, которые он стал разбирать и отдавать на машинку, — страниц на пятьсот.
Читатели его третьего романа одолевали меж тем письмами. Ждали продолжения. Протестовали против того, что похоронил своего Серпилина в зените войны, когда войска наши, включая и серпилинскую армию, только-только выходили к государственной границе. А ведь обещал, сетовали, довести его до Берлина...
Действительно, обещал. Но вот не сделал. Позволил шальному осколку сразить командарма в самый канун перехода его войск в наступление, которое было так добросовестно и с таким блеском им подготовлено. Кручинились не только читатели, но и зрители. Еще с первого столперовского фильма полюбился им сыгранный Папановым Серпилин. Да он и сам, честно говоря, когда писал «Последнее лето», все время видел перед собой Папанова. В чем не раз признавался — и ему самому при редких встречах, и публично — читателям и почитателям своих трудов, все еще весьма многочисленным. Если из солдат самый любимый, безусловно, Теркин, то из генералов, пожалуй, все же Серпилин. Верный принципу «не задирать нос», он тут же относил этот успех на счет Столпера и Папанова. Делил его с ними.
Но что же все-таки побудило его «завязать»? Читателям это объяснить было, пожалуй, все же легче, чем самому себе. Он довольно бодро диктовал Нине Павловне: «Серпилин погиб у меня в романе не только потому, что так случилось, что примерно так погибли другие люди, ну, скажем, к примеру, командующий 3-м Белорусским фронтом Черняховский погиб в расцвете сил и таланта, когда уж совсем близкой казалась окончательная победа. Серпилин погиб не только потому, что так бывало, что это правда. Он погиб у меня в романе еще по одной причине. Дело в том, что война до последнего дня была трагедией. И тогда, когда мы стали побеждать немцев, громить, окружать. И вот для того, чтобы это показать, чтобы читатели это почувствовали, мне пришлось расстаться на поле боя с самым дорогим для меня в романе человеком».
Он не кривил душой, когда так или примерно так отвечал своим корреспондентам — и в 1971 году, сразу после выхода «Последнего лета» отдельной книгой, и в 1972 году, и позже. Но со временем, тем не менее, все более отдавал себе отчет: это еще не вся правда. Он все острее ощущал, что писать о войне, которая вышла за пределы страны, шагнула за рубеж, подняв и подновив столбы на государственной границе, он не готов. Слишком многое пришлось бы передумать, переосмыслить. Для этого не хватало уже ни физических, ни душевных сил. Кому-то из досаждавших ему на этот счет друзей он в сердцах ответил однажды совсем коротко:
— Это уже совсем другая война. Это не моя война. И не мне о ней писать. — Сказал и самому понравилось. Сказанное было чистой правдой.
Насовсем порвать с прозой было ему все же не под силу. Он потом и сам не мог себе объяснить, как это у него началось — с «Двадцатью днями без войны». С ним бывало такое — так глубоко задумается, так прочно уйдет в себя, что, очнувшись, никак не может понять, как это он попал сюда, какими путями ехал или шел. Не успев задуматься как следует над тем, что должна представлять из себя его новая повесть, он обнаружил, что уже сидит и пишет ее.
Дневники возвращали его к прошлому головой, мыслью, но была, видимо, потребность обратиться к нему и душой. И некоторые реальные события «так называемой личной жизни» поспособствовали этому.
Все ощутимее давало о себе знать нездоровье. То сердце прихватит. То головные боли. Спазмы сосудов. Замучили гриппы и ангины. Старость? Иногда ему казалось, что он стал чаще думать о ней под влиянием... Маяковского. Поэт был сейчас на первом плане в его заботах. Выступил в «Комсомолке», поддержал идею проведения Дней поэзии Маяковского, подобно тому, как проводятся Пушкинские дни в Михайловском или Некрасовские в Карабихе. Взялся восстановить выставку «Двадцать лет работы» и показать ее в Доме литераторов, где она собственно и находилась в тридцатом году. Ввязался — тут не обошлось без Ларисы, которая познакомила его с Лилией Юрьевной Брик, — в тяжбу относительно музея Маяковского. Выступил вместе с Сурковым против попыток прикрыть музей в Гендриковом, на Таганке, там, где Маяковский жил много лет в одной квартире с Бриками (это-то и пугало новоявленных пурристов), регулярно встречался с самой Лилией Юрьевной, с ее мужем Катаняном, которого он когда-то довольно крепко обложил в «Литературке». Познакомился с ней в Париже, когда был там с Эренбургом. Лилия Юрьевна часто рассказывала о том, как Маяковский боялся старости. Начал ее бояться еще в конце двадцатых годов, в тридцать с небольшим лет! Об этой его боязни-болезни, иначе ее и не назовешь, Лилия Юрьевна подробно писала в своих воспоминаниях, которые давала ему читать. В надежде, кто знает, что он поможет их редактировать и вообще — продвинуть в печать. Придется, видно, и этим заняться.
Странные психологические ситуации возникали теперь то и дело в его жизни. Стоит один раз помочь человеку, пойти ему навстречу, как и он, да и ты сам начинаешь чувствовать себя обязанным продолжать дело. Так было да, собственно, так и есть со вдовой Булгакова, со вдовой Каххара, теперь вот с Лилей Брик. На вдов ему особенно везло. Так вот Лилия Юрьевна убеждена, что именно боязнь старости толкнула Маяковского на самоубийство. И развивала эту мысль весьма убедительно.
— У вас, К.М., — в сердцах вырвалось как-то у Нины Павловны, — та же мания. И вы делаете то же самое. Убиваете себя работой.
Нина Павловна была права.
Только это было лекарство не от старости. Он даже про себя не хотел выговаривать, от чего. Но и он, и Нина Павловна знали, от чего. Однажды только, когда они разбирали архивы пятидесятых годов, она воскликнула, как всегда темпераментно:
— Вас душит этот доклад. Он душит вас, К.М.
Сама испугалась своих слов. Замерла и смотрит на него большими, не подвластными фальши глазами. Эх, Нина Павловна, Нина Павловна, а сама-то ты что думаешь об этом докладе? На «ты» он называл ее только мысленно. Да разве только в докладе дело!
В 1973 году, в июле, провожая К.М. в больницу, в Кунцево, куда его забрали чуть ли не сразу после открытия выставки Маяковского, где он был и швец, и жнец, и на дуде игрец, Нина Павловна воскликнула:
— За тридцать лет нашей с вами работы первый раз, К.М.! — И отвела глаза, будто боясь, что он прочитает в них что-то не очень обнадеживающее.
Он не в глаза ее, а в зеркало на стене посмотрел. Ну и видок. Глаз затек, лицо какое-то темное, опухшее, словно он не с официального торжества вернулся, а с попойки по-черному... Ну да ладно.
Год с небольшим прошло, и его снова уложили в больницу. На этот раз дело было серьезнее — воспаление легких. А то, что послужило причиной этой болезни, было еще тяжелее, несоизмеримо даже — смерть матери. Недавно ушел отчим, а теперь вот и мать, оставив его следующим в очереди. На похоронах матери, вернее, на процедуре кремирования — ждали у морга, потом у дверей крематория, он и простудился. Вернулись с похорон, выпили дома по рюмке. Погрустили. Тут его и разобрало. Поднялась температура. Бил кашель. Приехали врачи: банки, уколы. Особенно запомнились переживания Нины Павловны. Александра Леонидовна в ее судьбе была особым человеком. На поминках она эмоционально, как это у нее всегда получается, в красках рассказала, как мать прислала ей букет цветов сразу после того, как Юза арестовали вторично и отправили в Красноярск. А дело было как раз 28 ноября, в его, К.М., день рождения и ее с Юзом день свадьбы. Такое совпадение. Букет с запиской и такими словами: «Вместо того, кто силою обстоятельств не может сегодня это сделать».
Через год и Валя ушла в мир иной. С ней, чем ближе было к концу, все тяжелее было, все страшнее. И хотя с тех пор, как в 1956 году расстались с ней в одночасье, и почти не встречался, все о ней знал, тянул ее, ее сына от Серова, Толю, ее мать, актрису в прошлом. Растил дочь Машу. Девочке было нелегко с такой матерью, и все же она беспокоила его, пожалуй, меньше других детей. Спокойная, уважительная, какая-то по-особому собранная, с повышенным чувством ответственности за все окружающее. С детьми, которые растут в таких ненормальных условиях, как Маша, — с одной стороны, дом полная чаша, ни в чем нет отказа, к ее услугам — домработница, шофер, любящая ее до безумия бабушка — мать В.В., тоже известная актриса, с другой стороны, вечный ералаш в доме, гости отца, гости матери, постоянные объяснения, а то и ссоры родителей, потом полный разрыв — случается по-разному. Иногда вырастают дремучие эгоисты, маленькие садисты, терроризирующие все и вся вокруг, в конечном счете сбивающиеся с пути. Или, наоборот, получаются такие вот человечки, как Маша — иногда даже хочется пожелать ей чуть больше легкости, беззаботности, раскованности в отношениях с окружающими.
Не было особых хлопот с первенцем, родившимся до войны, Алешей, сыном от первого брака. Мальчику никто ничего специально не разъяснял, и он, спасибо его матери, жил с ощущением, что ничего необычного в образе жизни его семьи нет. Что это так и надо, что его отец, писатель и вообще — знаменитый человек, как он начал осознавать с годами, постоянно в разъездах, странствует и потому живет вдали от дома и появляется на глаза лишь изредка. Зато уж каждое появление — праздник, которым не только наслаждаешься сам, но и гордишься перед друзьями.
К.М. угадывал этот настрой сына, понимал его и не упускал случая как бы подыграть ему. Дарил книги со своими автографами и посвящениями классу и школе, где учился Алеша, любил иногда и подкатить к школе или к дому на Сивцевом Вражке, где сын жил с матерью, на машине так, чтобы побольше детского народцу было тому свидетелем...
С той поры, как Алеша пошел в школу, между ними завязалась переписка, и К.М. поговаривал иногда, сам не зная, шутя или всерьез, что если бы их переписку издать, получилось бы что-то вроде современного «юности честного зерцала».
Впрочем, последний раз такое настроение и даже охота шутить по этому поводу появились у него довольно давно. Теперь же, перечитывая иные свои письма сыну, — он и в этом случае, как и в других, всегда оставлял у себя копию — испытывал даже что-то вроде неловкости. От этих, например, строк 1953 года. «Проезжая дважды в неделю мимо нового здания университета, я всегда думаю о том, что придет время, и ты будешь учиться в нем с тем, чтобы потом начать трудовую жизнь — поехать туда, куда тебя пошлет государство. Радостно думать об этом, дорогой, и радостно работать для этого — для того, чтобы такая судьба ждала и тебя, и миллионы таких ребят, как ты...»
Так и случилось. Сын вырос, окончил успешно школу, пошел, правда, не в университет, а во ВГИК, окончил его, стал режиссером. Словом, в какой-то мере пошел по стопам отца, как и Маша, которую после института потянуло в газету.
Когда встречались, а теперь это происходило даже чаще, чем прежде, им не приходилось предпринимать каких-то особых усилий, чтобы возникла непринужденная обстановка. Напрочь вышел из обихода тот несуразный язык, которым было написано то, да и не одно оно, письмо сыну.
Хорошо складывалось и с Катей, дочерью Ларисы и рано умершего Семена Гудзенко, К.М. удочерил ее официально сразу после того, как они с Ларисой поженились. У девочки рано прорезалась страсть к наукам, был талант к языкам — единственное, чему он завидовал в жизни. Всем было ясно, что по окончании университета ее ждет аспирантура, а там и карьера ученого-лингвиста, филолога, специалиста по Японии — не посторонней для него стране.
Проблемы назревали с младшей, с самой любимой, как водится, с той, которая была единственной из его чад, кто с самого рождения жил и воспитывался в атмосфере нормальной, благополучной, тьфу, тьфу, семьи — с отцом, матерью и, до поры, бабушками и дедушками с обеих сторон. Девчонке пошел всего-то четырнадцатый или пятнадцатый год, когда у нее завелись дружки какого-то балаганного, богемного плана, а также появилась, явно связанная с этим, независимость, вернее, бесшабашность — в манерах, а главное — в суждениях. Из них вытекало, что чуть ли не все из того, что для него, К.М., было при всех великих перетрясках последних лет свято, для нее оборачивалось пустяком, ничем. Поначалу это не очень его беспокоило, иногда даже забавляло. Радикализм ее высказываний он относил за счет естественных поветрий возраста, полагая, что достаточно его вполушутку-вполусерьез комментариев, чтобы выветрить дурь из головы. Дурь, однако же, не проходила, а укоренялась с годами. Родительские, вполне тактичные, проникнутые любовью и заботой замечания все чаще встречались в штыки, а скептицизм в отношении ценностей того мира, в котором она жила и росла, все больше распространялся на то, что сделал и продолжал делать он.
Когда К.М. впервые отдал себе ясный отчет в этом, ощущение было такое, словно в сердце его ввели тонкую стальную иглу и оставили там. Нельзя шелохнуться — такая боль. Так он впервые в жизни убедился, что боль физическая и душевная могут быть одним и тем же. Боль физическая, однако, со временем проходит. Душевная поселяется в тебя навсегда. Это — медленная пытка.
Если бы эта пресловутая богемность выявляла себя лишь в каких-то внешних выходках — всякие там рок-н-роллы, экстравагантные моды, даже выпивки, чем черт не шутит, даже чрезмерный интерес к вопросам пола. Если бы это была какая-нибудь «золотая молодежь», стиляги, хиппи, он бы знал, что делать. Это бы его не убило и не обезоружило. Но нет, на этих сборищах, часто они проходили и у него дома — в Москве или на даче, они не столько пили и танцевали, сколько рассуждали и, видно, в этих рассуждениях доходили до геркулесовых столбов. Молодцы и девицы, дети людей того же примерно круга, что и он. Один — сын дипломата, другой — физика, третья — художника и т.д. Можно было себе представить, какие шпильки они отпускали по его поводу. Прозевав беду, он пытался все же, когда она пришла, говорить с Саней всерьез. Натыкался на стену. Его всегда бесила в людях предвзятость, эдакая запрограммированность, когда заранее все знают, не хотят слышать никаких аргументов, когда одни, априори, всегда и во всем правы, а другие — точно так же нет. Он всю жизнь, не щадя живота своего, сражался с людской безапелляционностью, в какие бы тона она ни окрашивалась. Оказывается, больнее всего встретиться с этим в родной дочери. То, что Санька — его любимица, ни для кого не было секретом, в том числе и для старших его детей. Они знали, что он любил их всех, но Саньку — обожал.
Нина Павловна и эту драму шефа переживала как свою. Убеждала его при всяком удобном случае: не надо было без конца таскать девчонку по заграницам. Ломается ритм жизни, распорядок учебы, она видит все происходящее там только с праздничной, туристической стороны. Грешила она больше на Ларису, потому что именно она, как правило, была инициатором всех семейных поездок по миру, они иногда длились неделями, а то и месяцами. Существо Санькиных радикальных воззрений Нину Павловну не пугало. Ей ли, прошедшей с мужем круги сотворенного Сталиным ада, заботиться о сохранении декора и переживать по поводу того, что у молодых спадает с глаз пелена? Задевало — и это как раз и было в ее глазах следствием молодости и неустойчивости суждении, — что свое неприятие казенных ценностей дочь переносила на отца, как губка впитывала в себя все то, что слышала в своих высокоумных компаниях. Когда могла, она пыталась втолковать все это Саньке, с которой была очень дружна. Порою вроде бы это удавалось. Жалко, что нельзя поделиться своими наблюдениями с К.М., с которым никто по этому поводу не осмеливался заговаривать. Санькина неуправляемость была, конечно, предметом обсуждений в доме, но никогда не упоминалась при этом самая чувствительная нотка.
Дети К.М. часто встречались и как будто бы вполне ладили друг с другом. Разговора об отце и матерях предпочитали вовсе не заводить. Смерть Вали отпустила что-то в его душе. Странно, чужой уже в сущности человек, совсем-совсем забытый, а ушла — и словно закрыла за собой дверь из одной половины жизни в другую, и оттого та, первая, почти уж нереальная, вдруг потянула к себе. Он окончательно понял, что допишет две повести, которые одновременно просились на свет божий. Собственно, вместе с кое-чем написанным ранее это будет роман в повестях. И назовет он его в соответствии со своими нынешними настроениями «Так называемая личная жизнь».
Нина Павловна могла быть довольна. Шеф опять начал диктовать. И слава Богу, не справки какие-то, не объяснения, не доклады на разных литературных форумах, даже не сценарии бесконечных фильмов о кавалерах орденов Славы, а снова — прозу. Она ревновала его к кино, хотя сама-то пришла к нему некогда работать как раз из кино. И Юз всю свою сознательную, вернее, всю свою вольную жизнь работал в кино. И дело К.М. делает благородное. Этого она не могла отрицать. Вот уж действительно — оставить для потомства зримую летопись войны, от ее первого дня до последнего. Даже ее сомнения насчет того, будет ли это интересно телезрителю, были благополучно посрамлены. Люди смотрели и первую, и вторую, и четвертую, и седьмую картину. Смотрели и старые, и малые. Писали и звонили те, кто имел к этому самое прямое отношение — ветераны Великой Отечественной, родственники, знакомые кавалеров, киношники, журналисты. Из-за рубежа письма идут навалом, от наших и иностранцев, чего давно уже не было. Нет, К.М., как всегда, оказался прав. И его поистине лошадиное упорство, все эти гигантские усилия, которые он затратил, не прошли даром. Дали свои плоды и еще какие! Его рукой, его волею еще одна из страниц истории заполнена.
И все-таки, все-таки его дело — не фильмы снимать, а писать. И не очерки, не мемуары только, а прозу.
К.М. угадывал настроения Нины Павловны. Нет, живому человеку, да еще и одному из самых близких, диктовать сокровенное — это совсем не то, что остаться наедине с чуркой-магнитофоном. Тот более пригоден для предварительных набросков, для документальной прозы. Приступая к первой части своего романа, которую он назвал «Двадцать дней без войны», он с самого начала нуждался в чутком, благодарном, понимающем и переживающем все, быть может, больше, чем он сам, читателе. Та жизнь, в которую он теперь был намерен вернуться, была и ее жизнью.
С тех пор, как он впервые уловил больно задевшие его настроения дочери, стремление «глубже копнуть самого себя» становилось все сильнее, грозило превратиться в манию. Ради этой, скорее всего, последней в его жизни прозы, он даже отложил работу над пьесой «О моих четырех Я». Не думать отложил, а писать. Думать себе не запретишь. Просто пьеса — дело еще более высокого пилотажа. Две задуманные им повести, которые он решил наконец-то довести до ума, виделись своеобразным прологом к пьесе. Главным действующим лицом тут будет журналист и писатель, военный корреспондент некой военной центральной газеты, в которой читатели, кому досуг, конечно же, узнают «Красную звезду». Фамилия корреспондента будет Лопатин. Она уже знакома читателю. Это будет попытка не просто пережить, но прожить еще раз однажды уже прожитое. Войти второй раз в ту же воду. Лопатина он и сделал чуть ли не вдвое старше, чем он сам был в ту военную пору. Это будет Майор и Алексей Иванович сразу.
Вещь писалась, вернее, диктовалась споро и сложилась сравнительно легко. И быстро привлекла к себе внимание читателей, которые тут же завалили его письмами: кто тот, а кто этот? А правда ли, что Лопатин это... А генерал Ефимов...
Из Грузии спрашивали — ну, Виссарион, это ясно — Ираклий Абашидзе. А кто Варлаам?
Галя Волчек, сменившая в «Современнике» Олега Ефремова, который ушел во МХАТ, закинула удочку насчет пьесы по повести. И пьеса эта скоро получилась у него.
Настоящим праздником стала премьера. Галя Волчек затянула с работой, но уж все сделала на славу. Хорош был долговязый Гафт в роли Лопатина. С ним, подумалось тогда, попадание, прямо как с папановским Серпилиным. Сплав иронии и лирики — тот эффект, к которому он всегда стремился и что не всегда получалось. Ника Марины Нееловой — «само олицетворение любви, чистоты», — воскликнула прямо в театре Нина Павловна. Ну и, конечно, Добржанская, взятая Райхельгаузом «напрокат» в театре Советской армии, замечательна в роли Зинаиды Антоновны. В зале, он чувствовал, продолжался спор, начатый еще при появлении в печати самой повести — то ли Раневскую имел в виду автор, то ли Серафиму Бирман.
В Лопатине все, конечно, узнавали его, Симонова, в «бывшей жене» его бывшую жену, кого ж еще. Ну, а вот с Никой в воображении зрителей происходила, видимо, заминка. В антракте, когда они с Ларисой степенно прогуливались в фойе, люди, он видел это, останавливали взоры на ней с немым вопросом и, судя по тому, как отводили глаза, не находили ответа. Замечал это не он один. Замечала Лариса. И замечали девчонки, Катя с Санькой, которые в конце концов отбили у него мать и, взяв ее с двух сторон под руки, водили по фойе с таким видом, как будто бы кроме них троих на этом свете вообще никого не существовало.
Эх, Лариса, Лариса, и любил он ее, и ценил. И покорился ей так, как никому еще не покорялся в своей жизни. Но в стихах ее не было, и в прозе вот тоже не вышло. Было, правда, одно стихотворение, положенное на музыку Модестом Табачниковым и исполненное на пятидесятилетнем юбилее, теперь уж почти десять лет назад:
Там, где старые пожарища,
Видно, счастью не бывать,
Как звала тебя товарищем,
Так и дальше буду звать...
И на сцене, и в зрительном зале, и потом в ЦДЛ, на банкете, где за стол приглашены были помимо родни и актеров все, кто задержался в те поздние часы в Доме литераторов, какая-то особая, полузабытая атмосфера воцарилась. Банкет, где они с Гафтом, так до утра и не вышедшим из роли, сидели во главе стола, казался продолжением спектакля, а сам спектакль — ожившим вдруг прошлым, которое всегда так прекрасно и элегично, когда на него смотришь издалека.
Ему запомнилось восклицание Нины Павловны. Как странно, писал Нику он, а угадала и, если хотите, подсказала ему ее истинную суть Нина Павловна. Да, в какой уже раз, скорее всего, уже в последний, он попытался воплотить свою мечту о любви. Все прочие попытки были в стихах. Он знал, что цикл «С тобой и без тебя» живет в людской памяти. Но там — непрерывное столкновение, борьба и в конечном счете — неразделенное, горечь любви:
Видно, та, что звал любимою,
Не женой — бедой была.
Теперь этой своей новой вещью он сжег, чему поклонялся. Но нет, не поклонился тому, что сжигал. Поклонился своему идеалу, который так и остался мечтой. Все его стихи — о противоборстве в любви, о муках ее, сводящих с ума, доводящих до исступления. Идеал — это гармония, самопожертвование с обеих сторон, и если борьба, то борьба благородств, соревнование в высоте чувств.
Именно этим объясняется многое и в Лопатине. Кое-кто умудрился в этом образе обнаружить попытку самоидеализации. Видит Бог, как он далек от этого!
Знаю, жизнь недаром прожита,
Всем смертям в глаза глядел.
Ну, а все же, что же, что же ты
Так безбожно поседел.
Чем ему и дорог образ, созданный Гафтом. Симоновский Лопатин — немного резонер, чересчур уж, пожалуй, правилен, отчего временами скучноват — и для окружающих его, и, возможно, для читателей. Гафт добавил как раз то, чего ему и не хватало, поставил последнюю точку в глазу портрета. Гафт прибавил своему Лопатину то, от чего хотел уйти он, Симонов, и, видно, зря — малую, самую малую толику любования собой. Даже не собой, а своим местом на войне, своей погруженностью в нее, что заставляет и других — спутников и собеседников в эти двадцать дней без войны — признавать его необидное превосходство. Короче говоря, он увидел в Лопатине то, что действительно жило, как ни прячь, и живет в нем самом, Симонове, что, должно быть, и составляет и силу, а может быть, и слабость его. Гафтовскому Лопатину угаданное актером придало, кажется, то очарование, которого не хватало персонажу из повести. Но не убавило ли глубины?
С тем большим интересом, даже волнением откликнулся он на предложение Алексея Германа, который вскоре после премьеры в «Современнике» выложил идею делать фильм по «Двадцати дням». Итак, вслед за модным «Современником» — модерный кинорежиссер. Невольно он усмехнулся тому, как со временем все меняется на этом свете. Давно ли, кажется, — увы, все-таки давно — корифеи театра и кино гонялись за ним, восходящей звездой, считали за честь и великую удачу для себя заполучить право на работу с той или иной его вещью. Вспомнить Пудовкина, Серафиму Бирман, самого Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Теперь его сердечко екает оттого, что, видишь ли, сразу два представителя «новой волны» в искусстве взглянули благосклонно в его сторону... В долгом разговоре с Германом дотошно и придирчиво выяснял, а что же, собственно, привлекло его в повести, какие истины он намерен выразить своим фильмом.
Герман в разговоре не выявил признаков какой-либо застенчивости, но и открытостью не отличился. Просто говорил, что он давно присматривал такой материал, который дал бы возможность ему, человеку, не воевавшему в силу возраста, рассказать о войне. И самое для него естественное было бы, он сразу понял это, прочитав повесть, именно показать войну не на войне и даже не глазами человека, который воевал, как Лопатин, а такого, как ваша эта Зинаида Антоновна.
— В какой-то мере, — сказал Герман и, кажется, впервые улыбнулся, раздвинув мясистые щеки, — в какой-то мере мы с вашей героиней в одном положении. Не имея, по возрасту, шансов участвовать в войне, — не в силах от нее глаз отвести.
К.М. понял, что если фильм у Алеши получится таким, каким он его сейчас видит, то это именно будет война глазами Зинаиды Антоновны. Забавно, забавно... Но уж совсем не забавной показалась ему сообщенная Германом напоследок затея позвать на роль Лопатина Юрия Никулина. Настоящий артист! Но амплуа? Клоун из цирка, кинодурачок из гайдаевских комедий. Герман напомнил ему, правда, что Никулин играл еще и в лирико-меланхолическом фильме «Когда деревья были большими» одного исправляющегося алкоголика и блудного отца. Да, фильм был классный, К.М. согласился с определением Германа. Работа Никулина была хорошей. Но уж больно далек фактурой от того образа, каким он видел Лопатина. Тут Герман возразил ему и резонно, что ведь, как можно понять из его же, симоновских, публикаций, ему и Папанов на роль Серпилина тоже казался поначалу — ни в какие ворота. Что верно, то верно, тут возразить трудно. И вообще, этот настырный вьюноша, видно, твердый орешек. В этом надо было отдать себе с самого начала ясный отчет. Впрочем, и с ним, Симоновым, этому доброму молодцу тоже будет не так-то легко. Что ж, может, из их ошибок и сколотится что-то новенькое. Но путное ли?
Он недавно смотрел «Первого учителя» Андрона Михалкова-Кончаловского по повести Айтматова. Повесть эту К.М. любил. С самого начала разгадал зашифрованную судьбу ее героя, Дюйшена. Очень тонко, однако, поступил Айтматов, лишь намекнув на трагическое в его судьбе. Оттого и вьется этот горьковатый дымок грусти над каждою строкой повести, оттого и подкатывает ком к горлу, когда лишь тень бывшего Дюйшена скользит за окнами богатого большого дома, где чествуют его бывшую ученицу, ныне академика Алтынай, приехавшую на открытие новой школы. Ключом к повести для него были брошенные вслед старику с издевкой слова: «Чего только не затевал тогда Дюйшен. А мы-то всерьез считали его учителем».
Из фильма Кончаловского все это ушло. На экране неистовствовал, бушевал, насильно загоняя людей в колесницу счастья, молодой фанатик с выпученными глазами и визгливым голосом. Персонаж, к которому, чувствовалось, ни режиссер, ни актер ни на йоту не испытывали ни симпатий, ни сочувствия.
Он готов был при всей своей сдержанности чуть ли не с кулаками наброситься на режиссера, удержало только показавшееся совсем необычным спокойствие, даже благость какая-то Чингиза Айтматова, который казался совершенно довольным лентой. Его, Симонова, эмоции были бы тут просто неуместными. Он в сдержанных словах поздравил авторов и постарался поскорее покинуть зал.
Ему была хорошо знакома и всегда претила эта манера молодых, а иногда и не очень молодых, так вот брать и наизнанку выворачивать произведение в угоду каким-то собственным, с первоисточником никак не связанными концепциям. Сколько за последнее время было произведено экзекуций и над классикой, и над современными вещами и в театре, и в кино! Что-то подсказывало: Герман из таких же вивисекторов. К.М. писал жизнь и людей, какими их видел. И если критика находила, что героям его свойственна эдакая приподнятость духа, одержимость высокими моральными устремлениями, принципами, о которых они считают неловким рассуждать вслух, — что ж, это не выдумка, это правда.
Везло ли ему в жизни на таких людей, видел ли он то, что от других сокрыто? Или просто домысливал в угоду своему идеалу? Страсти к настоящему?
Потому-то и война была и остается главной героиней всех его писаний, что на войне все обнажается. И противостояние добра и зла очевиднее и драматичнее, чем в обыкновенной мирной жизни. В отличие, скажем, от Василия Быкова его всегда больше влекло рассказать об этой борьбе, когда она идет между своими и чужими, чем когда среди своих. Хотя образов трусов, предателей, перестраховщиков, просто идиотов и эгоистов было и в его прозе предостаточно. И все-таки это только фон.
У этих же новых, к которым он невольно причислял и Германа, какое-то особое, не вызывающее, честно говоря, зависти зрение. Словно бы они жизнь, людей, предметы, природу видят всегда такими, какими они выглядят либо в ранние сумерки, или, наоборот, перед самым рассветом. Все вокруг какое-то серое, дымчатое, плоское, лишенное красок и жизни. Невелика будет радость, если вот так же, волею этого начинающего гения, будет обессочен, обесцвечен облик его героев.
Когда начались первые пробы, первые прикидки, а там дошло и до первого просмотра более или менее скомпонованного материала, он испытал тот же шок, что и с «Первым учителем». Но там была чужая вещь. А тут — своя. И ощущение такое, словно тебя остановили посреди улицы, попросив прикурить, и обчистили как липку. Обобрали и не признаются. Именно так себя и вел Герман на первых обсуждениях — со скучающим, отсутствующим видом слушал его, К.М., возражения, всем своим видом показывал, что они его нимало не интересуют. Тем более, что уже с самого начала стали раздаваться восторги, истерические ахи и охи, которые с некоторых пор усердно культивируют модные критики и критикессы. Самое обидное, что такие восторги, порой даже вызывающие, слышал он и от Саньки, да и от Ларисы. Он не постеснялся выразить свой скепсис, но остался в сокрушительном меньшинстве, если не сказать — в единственном числе. Пришлось кое в чем уступить, кое с чем согласиться. А когда выяснилось, что цензура, которая на удивление спокойно приняла к печати его повесть, тут словно бы взбеленилась, вся цензура — и ведомственная, в виде худсовета студии, и универсальная, что в Китайском проезде, — тут уж вообще пришлось поворачивать пушки на все сто восемьдесят градусов. В боях с цензурой они с Германом оказались единомышленниками, и это примирило их в работе над фильмом. Премьера наконец состоялась, и овации, которыми встретила публика и режиссера, и писателя, довершили дело.
Явилась идея еще одной повести, последней в цикле, которую по завершении он назвал «Мы не увидимся с тобой». Само уже название, по его мысли, должно было стать вызовом нарочито приземленному, прозаизированному отношению к жизни, из которого молодежь, а порой и пожилая молодежь, пытаются сотворить себе кумира.
Итак, снова Лопатин, снова бывшая жена, Ксения, снова Ника, Гурский, Редактор, но уже совсем в других ипостасях. Двадцать дней без войны кончились. Война, вышедшая уже на границы Родины, поставившая на свое место сваленные, а то и взорванные пограничные столбы, продолжается.
Он начинал эту повесть, никак не предполагая, что работа над нею растянется почти на пять лет, в таком полемическом запале он за нее принялся. Все время что-то отвлекало. Очень трудно было найти для этой вещи временную нишу. Ведь шутка сказать, сколько в те годы опять шло всего сразу. В апрельской книжке «Дружбы народов» за 1974 год вышла первая порция «Разных дней войны».
Правда, это пока не то, вокруг чего сыр-бор полыхал несколько лет подряд, не «Сто суток», но — лиха беда начало. Он чувствовал, что недалек тот день, когда поступит разрешение и на первую, самую принципиальную и самую дорогую для него часть. В этой связи решил наконец забрать верстку из «Нового мира».
Косолапову, преемнику Твардовского, подсластил пилюлю, упомянув, что лежащие в «Новом мире» пятнадцать глав, посвященные сорок первому году, сделаны теперь во многом по-новому. На самом деле он не столько переделывал эти главы, сколько отсекал все, связанное с предвоенным периодом, с пактом о ненападении.
Это было соломоново решение. Его новая книга — о разных днях войны. А пакт и прочее — это предвоенный период. Это будет уступка не цензорам, а логике, если всю предвоенную часть он уберет. До лучших дней, до той поры, когда удастся вновь вернуться к архивам и изучить этот период досконально.
Подпирали его теле- и киноинтервью с кавалерами ордена Славы. Тут, чем больше делалось, тем больше оставалось, но уже ни бросить, ни ограничиться какой-то частью было невозможно.
Продвигалась и другая серия — цикл интервью с полководцами Великой Отечественной, с теми, кто оставался еще в живых. В первую очередь, конечно, с Георгием Константиновичем Жуковым. Его тянуло защитить тех, живых и мертвых, кто был обижен, недооценен, претерпел опалу. Все больше одолевала мысль, что это — его долг, может быть, последний долг — как можно больше добыть таких свидетельств и оставить потомкам.
Так каждый раз он успокаивал себя, когда неделями, а то и месяцами не мог улучить время для повести.
Он все больше сомневался в том, что она у него напишется. Все меньше был уверен, что и предыдущая-то получилась, что удалось в ней сказать именно то, что хотелось сказать, что надо было сказать. Хотя она по-прежнему нарасхват. И у читателей, и в театре, и в кино. Недавно, хочешь смейся, хочешь плачь, из ГДР даже запрос на либретто для оперы поступил. Он писать отказался наотрез. Увольте. Чего не умею, того не умею. И учиться не собираюсь. Тем более — медведь на ухо наступил.
Как ни сопротивлялся, ни воевал сам с собой, а на первый план в его новой повести все время выходила Ксения, Жена. И поскольку ни у кого не было ни малейших сомнений в том, кто же реально стоит за этим образом, то получалось, что он вроде бы сводит теперь счеты за прошлое: фигура возникала не очень-то привлекательная.
Он перестал диктовать повесть Нине Павловне. Не доверял вполне даже диктофону. Много писал от руки, чего давно уж не делал. Но и рука останавливалась, когда осеняла очевидная мысль, что коль скоро он сидит над этим, то рано или поздно ведь и закончит. А раз закончит, то и напечатает. Как тогда все это будет воспринято? По-мужски ли все то, что он делает? Пока пишешь, не оглядываешься — главное выложить все, что у тебя на душе так, как оно есть. Потом еще будет время подумать и взвесить. Когда же написано, отдаешь в печать, мол, раз уж написано, негоже исправлять в угоду рассудку и осмотрительности.
Был, конечно, выход — событийно уйти от навязчивой идеи, занять Лопатина чем-то другим, более важным, чем «так называемая личная жизнь». Пожертвовать Гурским, хотя прототип его — всем хорошо известный Саша Кривицкий, был живехонек и исправно посещал все премьеры в театре и все читательские и зрительские конференции. «Расправа» с Гурским убивала сразу двух зайцев. Во-первых, лишала Кривицкого возможностей красоваться. С ним в последнее время отношения испортились. Порою приходило в голову, уж действительно не получал ли он некогда заданий в отношении его, как намекали ему. «Если и так, — отшучивался он, — то всегда лучше знать, кто на тебя стучит». С другой стороны, его «исчезновение» из повести позволяло вывести на авансцену еще один персонаж, еще один женский образ создать — матери Гурского, чудесной, доброй, старой еврейки, истинной патриотки советской Родины. Сколько он таких женщин в своей жизни встречал, и всегда в нем жило чувство неисполненного перед ними долга. Этот образ ему удался. Но не он, естественно, не этот образ был главным. Куда бы по его, автора, воле ни забрасывала судьба Лопатина, Ксения, словно тень, следовала за ним. То звонком из Ташкента, то письмом, то рассказом Гурского или редактора, то собственной персоной, наконец.
То, что думал о себе, отдавал Лопатину: «Чем беспощаднее он думал сейчас о своей жизни с Ксенией, тем яснее ощущал, что одно из двух — или безнравственно вспоминать так о женщине, с которой прожил пятнадцать лет, или, раз не можешь вспоминать о ней по-другому, значит, безнравственно было жить с ней — если не с самого начала, то с какого-то дня и часа».
И ни автор, ни герой его не могли разрешить для себя эту дилемму. И оба признавались: «Есть что-то непростительно рабское в многолетней власти чужого тела над твоей, чужой этому телу, жизнью».
Лопатину еще было легче. Былое господство Ксении над ним было действительно господством только тела. Он не писал и не посвящал ей стихов, и ему не приходилось поэтому ежедневно и ежечасно видеть эти книжки со стихами у себя под носом или слышать, как они звучат по радио — часто его, Симонова, голосом, как исполняют песни, написанные на эти стихи. У его Лопатина не было соблазна после долгого-долгого, чуть ли не двадцатилетнего перерыва вдруг прочитать «Жди меня» в огромном зале на телестудии «Останкино», где записывали его творческий вечер. Он, К.М. читал, волновался, даже губы, черт возьми, дрогнули, на виду и на слуху у всех, в том числе Ларисы и Саньки.
Когда поставил последнюю точку, вернее, многоточие в финале повести и написал вслед за этим «конец», задумавшись на минуту, проставил и даты 1956— 1978. Да, именно этим годом, 1956-м, годом его ухода от Вали, неожиданного для нее, но окончательного, он пометил начало работы над повестью.
Лариса своего отношения к этой работе, как и к предыдущим из того же цикла, не выразила. Он на это и не рассчитывал. Нине Павловне составленный из повестей роман нравился. Именно тем, быть может, что многое было щемяще знакомо. Столько всего, что было отнесено К.М. к военному времени, произошло уже при ней, после войны. Она ловила себя на том, что в разговорах с ним нередко называла его героев: Кривицкий, Ортенберг, Вы — вместо Лопатин ну и так далее. И не было случая, повторяла она мне, чтобы он ее не поправил. Терпеливо, спокойно, но твердо. Хотя чертики в глазах при этом прыгали. Только Ксению она Валей ни разу не назвала. И он это тоже заметил.
...После смерти Твардовского К.М. оказался во главе комиссии по его литературному наследию. Он мог бы, конечно, напомнить, что и так уже заведует чуть ли не десятком комиссий этого профиля — Мандельштам, Горбатов, Булгаков, Фадеев... Но ему даже в голову не пришло на это сослаться. Тут был долг совести. Он так и сказал Марии Илларионовне, которая первой обратилась к нему. Потом уж потянулись Марков, Верченко, Беляев...
Интересно, а кого они назначат ведать его комиссией? От этой мысли ему тут же стало не по себе. Слишком уж натурально, по-рабочему она ему явилась. Нашел о чем заботиться. Надо думать о Трифоновиче, распутывать все, что по злой, а то и доброй воле было сплетено вокруг его имени. Начиная от пресловутых «одиннадцати» в «Огоньке» во главе с Михаилом Алексеевым и кончая Солженицыным. Был тут еще один неожиданный казус. Из журнала «Коммунист» ему как председателю комиссии переслали на консультацию статью некоего Сиводедова. Одна фамилия чего стоит, особенно в сочетании с приставками доцент, кандидат исторических наук. Щедрин да и только.
Сиводедов назвал себя близким другом Твардовского и, судя по некоторым фактическим данным, приведенным в статье, а потом в письме, которое он прислал К.М., был вправе претендовать на это. С Сашей он был знаком с 1923 года — вместе учились в школе второй ступени, которая находилась в нескольких десятках километров от Загорья, родного села Твардовского, и даже жили, пишет, вместе, в одной комнате захудалого общежития. Вместе с Твардовским приезжал он в ту пору не раз в Загорье, познакомился с матерью, братьями и, конечно, отцом Трифоновича, о котором и речь в письме. Потом, как уверяет, до самой смерти Твардовского вел с ним переписку. Хранит у себя его письма, накатал триста страниц воспоминаний.
Речь в статье шла об отношениях молодого Твардовского с отцом, который был раскулачен и сослан в первые месяцы коллективизации. Движимый, по его заявлению, благородным стремлением восстановить истину, Сиводедов вступает в полемику с критиками, которые, по убеждению Сиводедова, фальсифицируют характер отношений Твардовского с отцом, изображают их неправдоподобно идиллическими, в то время как сын порвал с отцом по принципиальным соображениям.
История этих взаимоотношений была К.М. хорошо известна. Это было больное, чувствительное место для Твардовского. К.М. этой темы в разговорах с ним никогда не касался. Хотя случаи для этого были. Они как-то оказались в одной больнице, было это уже незадолго перед уходом Твардовского из «Нового мира». Саша предложил, что зайдет к нему, К.М., в палату и почитает... новую поэму. Несколько главок из нее были напечатаны в «Новом мире». Теперь Трифонович объявил вещь законченной.
Заявившись к нему в палату, Саша известил, что еще вчера вечером пригласил и Мирзо Турсун-заде, их давнего общего друга, и он вот-вот подойдет. Ждали-ждали, нет Мирзо. Решили, что, видно, врачи неожиданно смешали его планы, и Трифонович, поколебавшись, предложил все-таки отложить чтение. К.М. оставалось только согласиться. Мирзо подтвердил вечером, что попал в медицинскую облаву. Когда же эта ситуация повторилась, один к одному, через день, они печально посмотрели друг на друга и больше не стали откладывать то, ради чего встретились.
Поначалу, пока шли строки и строфы, уже знакомые К.М. по публикациям, он не столько слушал, сколько потешался внутренне над той картиной, которую они сейчас собой являли для постороннего взгляда. Благо, никто их кроме время от времени заглядывающих сестер и нянечек не видит. В бурых пижамах, в халатах такого же приблизительно цвета, седые, лохматые, как два понурых дрозда на жердочках. Между тем, черт побери, по общему признанию — два классика современной советской литературы, два широко известных в мире деятеля.
Твардовский читал, то и дело поправляя полы расходившейся на голой волосатой груди пижамы, и явно нимало не заботился о том, как это смотрится.
Глуховатый, чуть окающий говорок Трифоновича. К.М. с жадностью схватывал и смаковал каждую строку, торопясь насладиться ее звуком и вкусом, прежде чем придет ей на смену следующая.
Дивился знакомому чуду — превращению у тебя на глазах самой обыкновенной человеческой речи на самые обыденные, житейские темы в чистое золото поэзии. Оттого-то, может, и думали непосвященные, что так писать, как пишет Твардовский, — легко. Оттого-то, видно, было у него столько подражателей, прямых имитаторов. Сколько «Василиев Теркиных» наряду с единственным блуждало в военные годы по свету!
Читал Саша по верстке, присланной ему из редакции, и К.М. подумал, что обязательно попросит ее на память, с автографом. Мало на свете людей, у которых пришло бы ему в голову просить автограф. Ему, который сам дал их тысячи.
Что-то стало его задевать, тревожить в продолжавших мерно звучать строках. Он до сих пор так до конца и не уяснил себе, что же такое она была — коллективизация. То, что допущена тьма перегибов, то, что людей «раскулачивали», т.е. разоряли и ссылали ни за что ни про что, за лишнюю коровенку, за какого-нибудь сезонного помощника, — это ясно. Но чтобы коллективизация сама по себе, изначально была ошибкой, такого ему в голову не приходило. Когда доводилось читать подобные суждения в зарубежной и эмигрантской прессе, привычно относил их к антисоветской риторике. Теперь слышал это от Саши.
Не в горячечной, при легком подпитии беседе звучало, а в чеканную поэтическую строку было отлито, составляло самую суть поэмы. Он в который раз уже подивился редкому дару Твардовского — его безрассудности, которая побуждает писать и действовать, абсолютно не задумываясь о проходимости и приемлемости твоих строк, их суразности что ли, с точки зрения господствующих представлений... Поэма двигалась дальше, словно Микула Селянинович шел за плугом, подбадривая ретивого коня и взрезая острым лемехом набухшую соками землю. Подошли строки, от которых и у него, прожженного письменника, всеми ветрами веянного, всеми дождями мытого, ком вставал в горле. Это было и про него, про то, чем он жил и мучился все последние годы.
Втолкуй, зачем и чья опека
К статье закрытой отнесла
Неназываемого века
Зловещей памяти дела.
Иль о минувшем вслух поведав,
Мы лишь порадуем врага.
И кто сказал, что взрослым людям
Страниц иных нельзя прочесть?
Иль нашей доблести убудет
И на миру померкнет честь?
Отзвучали последние строки. К.М. бросился обнимать Сашу. Сердце, однако, подсказывало ему, что долго-долго еще всему, что он только что услышал, не видать белого света.
Какой в порядок не внесенный,
Решил за нас особый съезд
На этой памяти бессонной
На ней как раз поставить крест?
Верстку Твардовский ему пожаловал. На первой странице начертал: «К.М. и Л.А. Симоновым — А.Т. Твардовский. 30 июня 69 года». Коротко и ясно. Между ними издавна повелось — без излияний. Если кто и способен был согрешить на этот счет, то скорее он, Симонов. Твардовский, тот нет, кремень-мужик.
Ощущение растущей близости прибавило и особой ответственности за судьбу Саши.
Дали бы ему, Симонову, сейчас журнал, действовал бы он так, как Трифонович? Что гадать, коли журнала все равно нет. Но есть голова, есть руки, есть совесть и злость, и все это он готов был отдать на алтарь того дела, которое делал Твардовский.
Перипетии с поэмой и его «Ста днями», которые все еще лежали в «Новом мире», как бы заново сдружили их.
Когда сходились на дачных дорожках, было о чем поговорить. Дорого было ему причаститься снова к турбулентной новомировской кухне, которой столько было обоими отдано.
В одной из таких прогулок он узнал, что где-то в недрах ЦК, в дружном взаимодействии с верхушкой Союза писателей, идет деятельная подготовка к изменениям в составе редакции и редколлегии журнала. По-своему, это был хитрый тактический шаг — коль скоро нельзя убрать самого Твардовского, почистим его окружение, а там, глядишь, и он, гордый человек, взбунтуется и уйдет.
Началась атака с коллективки в «Огоньке», которую скоро стали называть «письмом одиннадцати». Знакомые все лица: Михаил Алексеев, Викулов, Анатолий Иванов, Проскурин... Вся далеко не джентльменская обойма. И письмо — не полемика, а оглобля. Концепция тоже хорошо была знакома — борьба с неким тлетворным западничеством, которое на страницах «Нового мира» покушается на исконно русское начало.
К.М. немедленно продиктовал Нине Павловне письмо Твардовскому. Отправив его, понял, что остановиться на этом нельзя. Написал открытое письмо в «Литературку». Звонивших ему в те дни Исаковского, Суркова, Тендрякова, Сергея Сергеевича Смирнова, Сергея Антонова и других увлек присоединиться к его протесту: тех-то, как ни говори, одиннадцать. Увы, «письмо семи» вызывало «в верхах», видимо, меньше энтузиазма, чем «письмо одиннадцати». Чаковский — старый друг называется, пробы негде ставить! — не спешил его печатать. Видно, команды не получил. Или, наоборот, получил, но противоположную. Как тут не вспомнить характеристику, которую дал Чаковскому в общем-то нелюбимый Симоновым Катаев: «Всегда держит во рту вонючую сигару и любит шиться в сферах».
Не получив от всеопытнейшего Александра Борисовича вразумительного ответа, К.М. написал Маркову. Знал по опыту: если разговариваешь с ним, значит и с «верхами». Тут очень к месту было напомнить и о своем собственном официальном положении. Как-никак, а снова — секретарь союза. «На каком основании, — грозно вопрошал он, — не печатается «письмо семи»? Является ли «письмо одиннадцати» официальной точкой зрения, и если да, то кто ее вырабатывал? А если не является, то почему одиннадцати литераторам можно было выразить свою личную точку зрения, а семерым другим своей точки зрения выразить нельзя? Следует ли считать журнал «Огонек» директивным органом, которому поручено осуществлять партийное руководство литературой и искусством?»
По тому, что и Марков хранил молчание, К.М. понял: дело совсем худо. И не ошибся: вслед за «письмом одиннадцати» появилось совсем уж хулиганское «открытое письмо» некоего рабочего, явно не им написанное, в котором тот, обращаясь уже прямо к Твардовскому, обзывал его чуть ли не предателем Родины.
За словом последовало и дело.
12 февраля 1970 года К.М. узнал, что решением секретариата ССП произведены сокрушительные изменения в редколлегии «Нового мира». Из нее, вопреки категорическому несогласию Трифоновича, были выведены четверо его сподвижников, а с другой стороны, было введено пять новых членов редколлегии, в том числе два заместителя главного редактора, которых Твардовский не знал и знать, естественно, не желал. И весь этот абсурд освящен волей секретариата ССП, членом которого были К.М.
Опыт «старого бюрократа» подсказал ему, что врага надо бить его же оружием. Разговор, по существу, бессмыслен. Он двинулся по процедурной колее. Снова и снова возмущался тем, что его, секретаря союза, отстранили от решения такого важного вопроса, который, в сущности, предопределяет уход из журнала Твардовского. Он вдоволь поиздевался над данным ему устно разъяснением, что вопрос, мол, решался не секретариатом, а бюро секретариата: он туда не входит, вот и не позвали. Но кто позволил бюро из шести человек, созданному для текучки, определять принципиальную политику, подменяя секретариат? Хорошо памятные приемчики... Тут и пленум правления был бы не лишним, если уж на то пошло.
Адресовав письмо официально «рабочему секретарю» Воронкову, он тут же дал команду Нине Павловне размножить его и разослать каждому из 42 секретарей союза. Вот когда пригодилась методика Солженицына, пошутил он, подписывая последнюю копию. Почти каждую из них он сопроводил индивидуальной припиской. И самой горькой была та, что адресовал Федину. Вспомнилось ходившее в писательских кругах выражение, что они с Твардовским, словно древние иранские шахи, попеременно водружали на себя корону «Нового мира»: «Эх, Константин Александрович, ведь я когда-то был редактором "Нового мира"... и притом в нелегкие времена. Неужели у Вас даже не шевельнулось желания поговорить со мной обо всем этом?»
Он писал так, хотя и догадывался, что старого и больного председателя союза и самого-то не поставили в известность о том, что он, якобы, решил. Что ж, пусть почитает, по крайней мере, будет знать, что вытворяют за его спиной.
Ему не терпелось продиктовать, подписать и отправить письмо. А московским адресатам так просто развезти его на машине. Поздно вечером, когда «это безумие», по выражению Нины Павловны, закончилось, на нем лица не было. Он надрывно кашлял, зяб, у него трещала голова. Но настроение было самое воинственное, и это давало силы. Даже Нина Павловна, которая все чаще и недвусмысленнее выражала свое неудовольствие, когда т.н. организационные дела отвлекали его от главного, на этот раз не возразила, лишь поторапливала окружающих, и это было для К.М. верной приметой того, что он делает праведное дело.
Через два дня, встретившись с Твардовским на заметенных снегом дорожках Красной Пахры, он узнал от него, что тот уже подал заявление об отставке, что решение его бесповоротно. К.М., который собирался было поведать Саше, чтобы хоть как-то приободрить его, о своей эпистолярной деятельности, остановился на полуслове. Придет время, узнает об этом и без него.
Еще через несколько месяцев, в июле того же, семидесятого года, он написал Твардовскому, поздравляя его с шестидесятилетием: «Значение того, что ты сделал в «Новом мире», не может быть отменено тем, что ты его больше не редактируешь, как значение того, что сказал «Теркиным на том свете», не может быть снято снятием спектакля в Театре Сатиры. И никуда этого не деть и не переложить, кто бы и какую ловкость рук для этого ни употреблял...»
Он знал — не только вокруг, но и в самом «Новом мире» были люди, в том числе близкие Твардовскому, которые рады были бы их поссорить, ткнуть лишний раз тому в глаза его, К.М., былые ошибки, просчеты, колебания. Твардовский упомянул как-то, что самые крайние позиции тут занимал Солженицын. В его представлении Симонов — эдакий нувориш, пролаза, который-де хочет служить одновременно и Богу, и кесарю. К.М. напряженно вслушивался в короткие отрывистые фразы, которые как бы с трудом рожал собеседник. Ждал, не скажет ли, как он сам-то — возразил ли своему автору? Напомнил ли, например, о том, что именно он, Симонов, первым выступил в «Известиях» у Аджубея, теперь тоже опального, в поддержку «Ивана Денисовича».
Нет, ничего такого в беседе не промолвил Твардовский. И Симонов ни о чем его не спросил. Будем считать, подумал про себя, что им с Сашей без слов очевидна вся пристрастность рассуждений Солженицына.
Он давно заметил — слава, если она приходит вовремя, делает человека добрее, великодушнее, расположеннее к окружающим. Если запаздывает — озлобляет. К.М. принуждал себя не серчать на Солженицына. Не в его это было правилах — судить о человеке по тому, как он к тебе относится. Что настораживало и огорчало, так это то, что Саша, всегда величественный и чуть-чуть вельможный, у которого в крови, кажется, было либо покровительствовать окружающим, либо являть им свое откровенное презрение, небрежение, когда заходил разговор о Солженицыне, терял привычную уверенность слов и жестов, становился задумчивым, рассеянным.
В день похорон Твардовского Симонов видел Солженицына в последний раз.
Он сидел на гражданской панихиде в Доме литераторов в первом ряду. Внезапно поднялся, перепугав организаторов церемонии, подошел к гробу, склонился над ним в молчании, перекрестил и поцеловал ритуально Александра Трифоновича в холодный бледный лоб. Что можно было возразить против всего этого?.. К.М. не оставляло ощущение какой-то преувеличенной картинности жестов и движений Солженицына. Работа на публику, на историю, на вечность? А может быть, просто усилившаяся в этот момент стрекотня фотографических затворов, участившиеся вспышки блицев навели его на такие суетные мысли?
Он вернулся к ним поневоле, когда в руки ему попали чьим-то радением главы из солженицынского «Бодался теленок с дубом». То, что, рассказывая о своих столкновениях с литературной элитой 60-х годов, автор сих мемуаров прошелся, словно утюгом, по нему, можно было оставить без внимания. Беседы с Сашей морально подготовили его к этому. И в «Круге первом», который «Новому миру» совершенно напрасно не дали напечатать, один из непривлекательных персонажей явно был выписан с намеком на него, К.М.
Он давно уже приучил себя спокойно относиться к подобным экзерсисам. Нет в мире человека, который судил бы его строже, чем он сам, чем его Ветеран, персонаж все еще не дописанной пьесы. Но эта книга, судя по тем кускам, которые ему удалось достать и прочитать, метила и в Твардовского. И прием, невольно или сознательно, был выбран самый оскорбительный— ирония, да не злая, не колючая, а добродушная, свысока. Этакое похлопывание по плечу, что для Саши, будь он жив, было бы горше самой лютой брани.
И у Марии Илларионовны сложилось такое же обидное донельзя впечатление. И у Владимира Яковлевича Лакшина, который выглядел в книге неким злым духом редактора «Нового мира».
Иного от Солженицына и ожидать было бы трудно, умалял собственный пыл К.М. Он был даже убежден — дело тут не только во взглядах. В душевной конституции. Солженицын был из неистовых, как Белинский, хотя он и его не жалует. Из пассионариев, если пользоваться термином, запущенным в интеллектуальный обиход Москвы Львом Гумилевым, сыном расстрелянного после революции Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Чтобы вести себя так, как Александр Исаевич, надо истово уверовать, что ты избранник провидения, мессия, призванный вывести человечество на правильную дорогу. Человек с таким характером обречен идти до конца в том, что выбрал. Он лбом любую стену прошибет. И ни перед чем и ни перед кем не остановится. К.М. одобрил намерение Лакшина высказаться публично. По этому же поводу пришли к К.М. посоветоваться Мария Илларионовна с дочкой Олей, художницей. Они написали письма, которые были опубликованы дома и за рубежом. У Лакшина получилась небольшая книга. Все это дошло, естественно, до Солженицына, и он не заставил ждать ответ.
К.М. крепился, сам инициативы не проявлял и от предложений поступавших уклонялся. Уж больно неприглядного сорта они были. То коллективку подпиши, то дай интервью для АПН.
Цековцы устроили настоящую охоту за автографами видных деятелей. Москвичей отлавливали на службе или в домах творчества. Альберт Беляев из отдела культуры устраивал набеги на гостиницу «Москва», где обычно останавливались по приезде в столицу видные писатели. Выпивка и закуска за счет настигаемых, естественно.
К.М., отбиваясь, объяснял, что ввиду повышенного внимания Солженицына к его собственной персоне он, К.М., может быть заподозрен в небеспристрастности.
Напрасно, однако, он думал, что «там» не понимают его тактики. Однажды пришел к нему в «нижний» кабинет Вася, муж Кати, военный, в чинах уже, а с виду щенок дога — долговязый, неуклюжий, стеснительный. На этот раз он был в непривычном для него возбуждении, которое с трудом подавлял, пока «нижний» покидали один за другим немногочисленные сотрудники К.М. Когда они остались вдвоем, тот поведал, бросая взгляды то на потолок, то на телефонный аппарат, что его вызывали «туда». Куда «туда» — было ясно без слов.
— И что хотели?
— Спрашивали, К.М., как вы относитесь к Солженицыну...
— И что же ты сказал?
Тут во взоре простодушного Васи плеснулось злое лукавство:
— Я, К.М., сказал, что вы его терпеть не можете за то, что он довел до смерти Твардовского...
К.М. с любопытством посмотрел на Васю. Он не думал, что его простодушный зять может быть столь проницательным и находчивым одновременно. Он взял его за руку и повел, удивленного, в ванную. Здесь, пустив на полную мощь воду, шепнул:
— Будут еще... вызывать, говори, что хочешь, только ничего не подписывай.
Через день он послал в «Правду» письмо. Оно называлось «В защиту доброго имени Твардовского».
Сидя теперь над иезуитским письмом кандидата наук Сиводедова, К.М. глубже начинал понимать, почему столь необычным было отношение Твардовского к Солженицыну. Была, была у Саши своя вина перед прошлым, своя боль. И бывший зэк — живое, непрерывное напоминание о ней.
В статье Сиводедова прошлое Трифоновича было расписано с дотошностью человека, который, творя зло, искренне убежден, что делает доброе дело.
Обрушившись на литературную критику, которая «из кожи лезет вон», чтобы доказать, что все лучшие человеческие качества да и творческий заряд Александр Твардовский получил от деда Гордея и отца Трифона Гордеевича, Сиводедов восклицал, что этого не могло случиться, потому что и дед, и особенно отец поэта были отнюдь не скромными и безответными тружениками сельскими, как их изображают критики, а кулаками и стяжателями. Слово кулак Сиводедов отнюдь не ставил в кавычки, а мытарства, выпавшие на долю семьи Твардовских в пору коллективизации, без тени сомнения характеризовал как справедливое возмездие мироеду за эксплуататорские замашки. В свидетели своей правоты призывал не кого-нибудь, а самого Александра Твардовского, второго по старшинству сына Трифона Гордеевича, который еще в середине двадцатых годов сбежал первый раз из дома, не желая мириться с образом жизни отца.
При этом Сиводедов основательно покопался не только в собственной памяти, но и в архивах, в подшивках областных газет той поры.
Например, стихотворение семнадцатилетнего поэта, опубликованное в смоленской газете «Юный товарищ» 16 марта 1927 года, так и называлось «Отцу-
богатею».
У тебя в дому во всем достаток,
Ты богат — и это знаю я,
У тебя среди крестьянских хаток
Пятистенка лучшая — твоя.
Были ли перегибы на Смоленщине в период коллективизации и ликвидации кулачества как класса? — риторически вопрошал Сиводедов и отвечал сам себе: — Да, были. Но данный случай никакого отношения к перегибам не имеет. — И снова ссылается на Твардовского, на его теперь уже совсем забытую поэму «Вступление». Поэт рассказывает в ней о «кузнеце Гордеиче», то есть о Трифоне Гордеевиче и о его знаменитой, по-своему, загорьевской кузнице:
Вскоре кузнец
Говорит с зевотой:
Что мне Сухотов,
Я сам Сухотов...
Заказчиков невпроворот.
Коровы не пожалею,
Сведу со двора коня,
Открою свою бакалею,
Мой покупатель у меня.
Далее Сиводедов пускался в рассуждения о том, что, мол, в русском давнишнем быту кузнецом было принято называть, например, и рабочего тульского оружейного завода, и владельца мелкого предприятия-кузницы, с помощью которой кузнец эксплуатирует окружающее население, что наглядно и убедительно показано было тогда же младшим Твардовским. Так что не приходится удивляться тому, что собрание бедноты единогласно постановило раскулачить и выслать Трифона Гордеевича из Загорья вместе со всей его семьей. Не о чем тут, — продолжал Сиводедов, — и сожалеть, как и не сожалел ни о чем младший Твардовский, единственный в семье, кто избежал участи ссыльного:
Старик в бараке охал и мычал,
Молился богу от тоски и злобы
С открытыми глазами по ночам,
Худой и страшный, он лежал бок о бок.
— Это, — фарисейски напоминал Сиводедов, — уже не двадцать седьмой год, это — год 1954, Гослитиздат, «Стихотворения и поэмы в двух томах. Издание 2-е». Цитирую, — добавлял он, — по этому изданию, потому что в последовавших четырехтомнике и пятитомнике последние четыре строки опущены.
Вот такой подарочек в один прекрасный день получил К.М.! То, что есть на свете такая вещь, как эволюция взглядов, трансформация не только мыслей, но и чувств, что может произойти переворот в душе человека, этого таким троглодитам, как Сиводедов, до сих пор тоскующим по великому вождю и учителю, не понять. Для них любое колебание, любое отступление человека от давних слов или поступков — измена, соглашательство, продажность.
Впрочем, что ему, К.М., до воззрений Сиводедова. Не ради же ответа ему он сидит сейчас и ломает голову над этим десятком страниц. Свойственная каждому поэту привычка думать стихами — своими или чужими — снова вызвала в памяти строки Твардовского.
Когда серьезные причины
Для речи вызрели в груди,
Обычной жалобы зачина,
Мол, нету слов, не заводи.
Все есть слова, для каждой сути...
Для каждой сути. Для каждой боли. Нет, видно, для этой боли слова у Саши так и не вызрели. До самой смерти. Может, они-то, невыпевшиеся, и унесли его в могилу?
Вот она перед ним, подаренная Твардовским верстка его неопубликованной поэмы «По праву памяти». Со всеми сталинскими злодеяниями самой отборной монетой рассчитался в ней Александр Трифонович. Целая глава, собственно сердцевина поэмы — «Сын за отца не отвечает».
Сын за отца не отвечает, —
Пять слов по счету, ровно пять,
Но что они в себя вмещают,
Вам, молодым, не вдруг обнять.
Сколько еще раз, словно загипнотизированный их звуком и смыслом, повторит Саша эти слова в различных комбинациях на протяжении всего лишь пяти страниц журнального текста.
Он говорил: иди за мною.
Оставь отца и мать свою.
Все мимолетное, земное
Оставь и будешь ты в раю.
Не рай, а ад — физический и душевный уготовили поколению сыновей эти слова:
И душу чувствами иными
Не отягчай, себя щадя.
И лжесвидетельствуй во имя.
И зверствуй именем вождя.
По правую сторону от диктофона, за которым он сейчас сидел, — верстка поэмы, по левую, на машинке, — статья Сиводедова, тоже переполненная строками Твардовского. Он не мог, не получалось, запретить себе их сравнивать.
У Твардовского в поэме «По праву памяти»:
Те руки, что своею волей —
Ни разогнуть, ни сжать в кулак:
Отдельных не было мозолей —
Сплошная. Подлинно — кулак.
У Сиводедова, со ссылкой на газету «Юный товарищ» от 16 марта 1927 года, стихотворение Саши «Отцу-богатею»:
Нам теперь с тобой не поравняться,
Я для дум и слов твоих чужой.
Береги один свое богатство
За враждебною межой.
Куда-то далеко, далеко ушел, исчез из глаз Сиводедов с его жалкой попыткой восславить раннего Твардовского и доказать, вопреки всякой логике, что он, мол, каким был, таким и остался, и тем хорош и славен. Жгли душу строки самого Твардовского. К.М. хорошо была ведома эта страшная, убивающая сила сопоставлений — строк давних и нынешних. Он не раз сам мазохистски производил эту церемонию над собой.
Давние строки... Саша, видно, не мог ни забыть их, ни вернуться к ним, чтобы, покаявшись, растворить их в своем сознании, как растворяются, бывает, почечные камни в пошедшем на поправку организме. По христианскому поверью душа отлетает в то мгновенье, когда умирает тело. Вспоминая теперь Сашу в последние дни и недели его короткой болезни, он думал о том, что душа поторопилась, оставив тяжелое и беспомощное, но живущее еще тело блекнуть, терять одну живую краску за другой, обугливаться и усыхать. А может быть, может быть — наоборот? И она, душа, ушла в такие глубины, глубины чего — сознания, подсознания? — что ей, смотрящей на мир Сашиными небесной лазури глазами и не видящей его, дела нет до ненужного и брошенного ею тела.
И вот — облысевшая почти начисто голова, высохшее лицо, истонченные, белые, словно на китайских лаковых миниатюрах руки.
Ставший совсем маленьким рот, к которому Саша беспрерывно, в очередь с сигаретой, подносит рукой какую-то баночку, сплюнуть. Тогда К.М. еще не ведал, что такая баночка — для собирания мокрот ожидает и его.
А давно ли Женя Халдей запечатлел их в Красной Пахре поутру у колодца, брызжущих друг на друга ледяной водицей и беззаботно хохочущих.
Все происходившее с Твардовским в последние месяцы жизни, его смерть, это надгробное целование Солженицына и его же потом полемика публичная с родными и близкими Саши — все это было словно не из жизни, а из жития, некий знак, ноумен, истинное значение которого он силился и не мог разгадать.
Все, что случилось с Твардовским, он даже не называл это про себя смертью, принимал как часть собственной своей судьбы, жизни, которой, что-то подсказывало ему, тоже оставалось не так-то много.
Нет, не Сиводедову рассуждать о Твардовском, не ему быть его судьей или адвокатом. Тут — никаких колебаний.
Не показать письмо Сиводедова Марии Илларионовне было, однако, нельзя. И он послал ей копию, хотя и представлял себе, как тяжело будет ей все это читать. Послал со своими соображениями, вернее, возражениями против публикации, которые он намерен был довести и до сведения «Коммуниста». Мария Илларионовна согласилась с ним, а что касается Сиводедова, то решила сама, мужественнейшая женщина, ответить ему. Симонова попросила лишь переправить ее письмо. К.М. так и сделал и вскоре получил ответ от Сиводедова, который, как и следовало ожидать, обрушивался с нападками на Марию Илларионовну — не хочет считаться с правдой, приспосабливает мужа к своим собственным воззрениям. И, конечно, на него, К.М.: ушел, мол, в кусты, выставил вперед слабый пол.
В этом втором письме концепция выкристаллизовалась особенно четко. Критики, мол, из кожи вон лезут, чтобы доказать, что выдающийся советский поэт А.Т. Твардовский получил свои лучшие человеческие качества от деда Гордея Васильевича и особенно от отца Трифона Гордеевича. А этого, мол, никак не могло быть, потому что какие же могут быть у кулака, произошедшего тоже от кулака, лучшие качества. Если позднее под влиянием конъюнктуры А.Т. Твардовский и изменил, мол, свое отношение к отцу, хотя ему, Сиводедову, об этом ничего не известно, то это, как все знают, не пошло ему на пользу. Вот так, черным по белому. Отказ, отречение от отца — благо, добродетель, а то, что он к отцу вернулся — чуть ли не предательство всех святых идеалов коммунизма.
К.М. содрогнулся.
Ну, Бог ему судья, а статья в «Коммунисте» все-таки не будет опубликована. Редакция согласилась с ним и с Марией Илларионовной.
В ту же пору он узнал, что есть у Твардовского другой судия — его собственный брат Иван. На четыре года моложе Александра. В свое время сполна испил вместе с отцом, матерью, с братьями и сестрами чашу страданий. Сполна.
Услышал он о нем от Лакшина, который был секретарем комиссии по литнаследию. Тот — от Буртина, тоже работавшего у Твардовского в «Новом мире». Иван Трифонович писал и посылал куски своих воспоминаний Буртину, он показывал их Лакшину.
Картина страданий семьи Твардовского, нарисованная в воспоминаниях ясно и ярко, сродни «Вагону» Ажаева. Хотя все происходило значительно раньше. В какой-то степени, с иронией подумывал К.М., можно это рассматривать и как своеобразное продолжение «Поднятой целины». Судьба Титка и других, кого в один не прекрасный день сгребли со всеми пожитками, что удалось собрать за два-три часа, погрузили на подводы — тут с ними и расстались читатели Шолохова — и повезли сначала в райцентр, в тамошнюю каталажку, а потом на станцию, в эшелон. Те же страдания несказанные в товарняке — с муками голода и стыдобою естественных отправлений в дырку в полу, прорезанную Трифоном Гордеевичем. Такая же выгрузка после многодневных мук на мокрый и грязный от мазута снег, только не на Дальнем Востоке, а на Северном Урале. Такая же жизнь, ничем не похожая на человеческую, на лесной окраине в бараке, душном и прогорклом летом, промерзающем зимой, где каждая семья, располагаясь табором, ничего не имела в своем обзаведении, кроме куска пола. Лошадиная работа на лесоповале. Попытки бегства, возвращения по своей воле или под конвоем и снова побег, вернее, уход, только теперь уже всей семьей — и старые, и малые. Детей было, сынов и дочерей, семеро в семье Трифона Гордеевича, и все, кроме Александра, были тогда при нем.
Все сильно, жестко описано, но самое тяжкое было в той обиде, которую питал Иван Трифонович к старшему брату. Обида эта, видно, не становилась мягче с годами: вся семья, отнесенная к кулацкому сословию, маялась, и только один Александр жил себе «припеваючи» в Смоленске да еще и слагал вирши о торжестве коллективизации.
Был в воспоминаниях рассказ о встрече с Трифоном Гордеичем, обретавшимся тогда вместе с младшеньким своим, Павликом, в «бегах». Александр якобы не только отказался помочь, но и пригрозил еще и силой отправить обратно, если отец с братом не возвратятся добровольно.
Убежденность в правоте и неизбежности происходящего, как бы порой жестоко и даже бесчеловечно оно ни было, ему знакома. Вспомнился лозунг, цитата, кажется, из Хрущева, который был развешан одно время в Москве и почему-то в основном перед въездами в туннели на автодорогах, «Победа коммунизма неизбежна». Коммунизм представлялся чем-то сказочным и сверкающим, но дорога к нему, как и ко всякой радости, была тяжкой, исполненной препятствий и испытаний — это тоже казалось естественным. Не такова ли и дорога в рай для тех, кто верит? К.М. тоже приходилось отрекаться от вчерашних единомышленников своих, предавать их публичной анафеме в полной убежденности, что так нужно для общего дела и что иначе просто нельзя, как нельзя заставить землю вращаться в обратном направлении.
Подумалось по обыкновению о Шуре Борщаговском, которого он уволил с работы после той статьи о космополитах в «Правде», но которому тайно помогал в то же самое время как мог: и материально, деньгами, которые тот, чудак, все отказывался брать, и советом, протекцией с изданием романа.
Вот и Саша все же приехал в маленький городок на Вятке, куда после многолетних мытарств перебралась с Северного Урала его семья, и в конце концов вывез их всех в Смоленск. В тридцать седьмом году! Да-да, в том самом. Самом гибельном, кажется, в нашей истории. До 53-го, до 56-го года еще ой-ой сколько... И тем не менее и сегодня, в семидесятые, не зажила в груди у Ивана Трифоновича свербящая боль. Не она ли, который уж раз подумалось, и брата его, хоть и примирился с отцом, и обогрел его старость, свела преждевременно в могилу?
Разве только отцовская судьба не давала покоя позднему Твардовскому? Весь его многолетний, ежедневно и ежечасно исполняемый подвиг в «Новом мире» — не есть ли подвиг покаяния!
Благодарение Господу, ему, К.М., жизнь не представила такого выбора, как Саше. Когда арестовали отчима, он, пятнадцатилетний подросток, только о том и думал, как облегчить страдания матери. Иного от него никто не ждал и не требовал. В ФЗУ, где он учился и куда немедленно, по слову матери, сообщил о случившемся, к нему как относились раньше, так и продолжали относиться. Только отложили на время прием в комсомол. Когда случилась беда с сестрами матери, они с отчимом тоже, не раздумывая, создали семейный фонд, посылали посылки, дважды снаряжали Александру Леонидовну на Оренбургщину. Было это в том же самом треклятом 37-м году, когда Твардовский вызволял своих из Вятки в Смоленск. Вот как все переплелось и перепуталось. И ему оставалось теперь честно, только честно ответить на последний вопрос: «Ну, а как бы ты повел себя, если бы все это случилось с твоей матерью или с отчимом, только не так, как было — отпустили и извинились, а всерьез?» И, как от миллионов других, потребовали бы «дать оценку» случившемуся, признать отца и мать врагами народа? Ему было неловко, мучительно неловко перед Сашей, перед его памятью, но он твердо знал — тут бы через себя не перешагнул. Это было бы сильнее его, его сознательности, его святой — или слепой? — веры в торжество коммунизма. Тут-то бы он положил голову на плаху. Тогда, с докладом о космополитизме, не положил, а тут бы положил. В противном случае она была просто ни к чему ему, его голова. Он не смог бы жить.
Тут же повторил себе еще раз, что это совершенно не относится к Твардовскому, потому что у него были совсем иные обстоятельства. Но и другое подумал — это мы, его друзья, так судим, это мы его не виним. А он себя?
С ожесточением продолжая двигать Сашины посмертные литературные дела, он словно бы себе самому старался что-то доказать. Или продолжал полемику с Солженицыным? Даже добрые намерения никогда не бывают в один слой.
Со смертью Твардовского в прессе — каскад статей, воспоминаний о нем, рецензий. Все, естественно, в самой превосходной степени. Писали все, кому не лень, и больше всего — вчерашние его гонители, то ли замаливая свои грехи перед ним, то ли заметая следы. И все, конечно, не о Твардовском-редакторе, а о Твардовском-поэте. Редактора как будто и не существовало. Так было принято. И тут все — о «Стране Муравия» да о «Василии Теркине», произведении действительно гениальном. Но зачем же делать вид, что кроме этих двух поэм Твардовский ничего больше не написал. «Василия Теркина на том свете» вообще не упоминали.
«Вынули из текущего плана и перевели в резерв собрание сочинений Твардовского, — вырвалось у него в письме в издательство «Художественная литература»,— с чем я не могу примириться и не примирюсь, и мне придется этим заниматься, и заниматься много. А голова одна, времени 24 часа в сутки и на все не хватает». Это он извинялся, что затянул с редактурой собственной книги.
Жалоба была на Госкомиздат, всесильную верхушку издательской империи, где было совершено это надругательство, правда, пока на уровне одного из главков, которых в этом надкнижном царстве-государстве было видимо-невидимо.
Понятно, почему заело с собранием сочинений: хочешь не хочешь, надо будет печатать и «Теркина на том свете», а там, глядишь, вопрос и о новой поэме возникнет, которая до сих пор не опубликована. К.М. написал письмо новому председателю Госкомиздата Стукалину. Он знал, что тот ждет его письмо. И почти наверняка пойдет ему навстречу, хотя сам же, небось, и давал указание о переводе «в резерв». Тишайший, как называли Бориса Ивановича в литературных и партийных кругах, не поторопится содеять что-то хорошее по своей инициативе. Но уж если другого выхода нет, обязательно повернет так, чтобы это доброе было приписано ему. Таковы были правила в этом мире, который он, познакомившись недавно с «Процессом» и «Превращением», иначе как кафкианским теперь не называл.
После двух или трех недель размышлений — наверняка не обошлось без хождений «на самый верх», уж по крайней мере к Суслову — Стукалин дал команду вернуть все на свои места. Что ж, теперь, по правилам игры, надо поблагодарить его, выразить надежду на поддержку и в будущем. Нина Павловна пишет под его диктовку: «Спасибо за Ваше письмо и за Вашу помощь. Поэтому именно Вам и писал, что именно от Вас и ждал. Крепко жму руку».
Повода для новых обращений ждать особенно долго не пришлось. Конечно же, «Василий Теркин на том свете». Когда дошло до него, очередной том застопорился. На этот раз даже его изощренному чутью не угадать было, откуда пришла опасность и где она таилась. Впору было искать ответы на эти вопросы в самой поэме:
Кадры наши, не забудь,
Хоть они лишь тени,
Кадры заняты отнюдь
Не в одной системе.
Стукалин при встрече лишь провел ладонью над своей пышной еще прической — дескать, выше головы не прыгнешь.
Самое обидное, что из-за этого несколько обострились отношения с Марией Илларионовной. Серьезная дама, ничего не скажешь. В какой-то степени она переняла от мужа ту неуловимо покровительственную нотку, которая всегда звучала при встречах с К.М. О женщины! Даже самые серьезные и яркие из них, в конечном-то счете, лишь эхо собственного супруга.
К.М. никогда не оставляли воспоминания о том, что он был однажды против публикации «Василия Теркина на том свете». Черт его теперь знает почему, но было. Случилось даже так, что сначала, слушая поэму в отрывках, хвалил ее, а когда Твардовский завершил и встал вопрос о том, чтобы ее печатать, высказался против.
И конечно, понимал, что не он один помнил и помнит об этом. Несколько лет стояло это между ним и Сашей, и теперь вот Мария Илларионовна, судя по некоторым ее намекам, подозревает, кажется, что он не все возможное делает, недостаточно настойчив в «пробивании» поэмы. А уж он, быть может, именно из-за этого «пятна единого» чего только не предпринимал! Еще до собрания сочинений поэма должна была пойти в однотомнике «Библиотеки поэта». Таково было одно из немногих предсмертных пожеланий Твардовского. К.М. писал директору «Советского писателя». Писал редактору серии. Возмущался тем, что как председатель комиссии не может добиться, чтобы ему показали состав сборника, дали бы познакомиться с предисловием и комментариями. Все как в бочку бездонную. Письма ответные приходили, но ответа в них не было. Он исправно отсылал их Марии Илларионовне. Выдрав наконец из кого следует этот самый «предварительный состав» тома, он, как и ожидал, «Теркина на том свете» там не нашел. Тут уж он взорвался и разослал, опять методика Александра Исаича сгодилась, письма всем членам редколлегии «Библиотеки поэта», а в нее входили Ираклий Абашидзе, Петрусь Бровка, Кайсын Кулиев, Михаил Луконин, Мирзо Турсун-заде, Николай Тихонов. Ну к кому, скажите, еще апеллировать?
Многие из его адресатов не торопились с ответом. А иные ответы, хоть и пришли вовремя, были неутешительными. Против публикации решительно выступил Грибачев. Ну что ж, от этого странно было бы ожидать иного. Но вот и Луконин написал что-то такое несусветное!
Кое к кому, в том числе к Ираклию, к Кайсыну пришлось обратиться по второму разу. В их позиции он не сомневался, но раскачать их было не так-то просто. Ответы начали поступать дружнее, и он мог порадовать Марию Илларионовну довольно уверенной поддержкой «потустороннему» Василию Теркину.
Она восприняла его сообщение как должное. Словно бы иначе и быть не могло, коль речь идет о Твардовском, а чрезмерное беспокойство, она не произнесла слова «суета», вроде бы способно лишь заронить ненужные сомнения. Вот тебе и на! И как будто бы ей неведомо, какой мощный заслон поставлен перед поэмой, какая глубокоэшелонированная оборона выставлена.
Но можно и понять настроение Марии Илларионовны. С тех пор как зазвучали в эфире «голоса» с откровениями Солженицына, и ей пришлось заняться полемикой с ним, она стала нервознее и, как часто это бывает, в смятении била по своим.
Когда К.М. узнал, что назначена дата сбора редколлегии однотомника, он немедленно обратился к директору издательства Лесючевскому с требованием разрешить ему присутствовать на этом заседании.
Не подвели, как он и надеялся, Ираклий Абашидзе, Кайсын Кулиев, Эдуардас Межелайтис, Микола Бажан. Но большинство все же выступило против публикации поэмы. Многие изменили в этом духе первоначальную точку зрения. И кто? Тихонов, Сурков, Бровка...
На дворе стоял 76-й год. Не 46-й, не 49-й, не 53-й, не 57-й или 68-й, наконец. Никаких особых внешних обстоятельств, которые бы давили на людей, не существовало. Давненько уж не слышно было каких-нибудь проработочных кампаний. Год с небольшим тому назад страна отпраздновала сорокалетие со дня первого, горьковского съезда писателей. Десять самых выдающихся, как писала пресса, мастеров пера были удостоены звания Героев. По принципу: всем сестрам по серьгам. Был среди удостоенных Грибачев, но был и К.М., были те же Сурков и Чаковский... Орден Ленина, естественно, получило еще больше народу. Ну а уж другие знаки отличия — чуть ли не бывшие диссиденты их удостоились.
И вдруг такой афронт! С тяжелым сердцем собрался К.М. звонить Марии Илларионовне. Она, конечно, была расстроена, поражена, подавлена и все твердила, что можно же было что-то сделать. Она уверена в этом, поверить не может, что нельзя было... К.М., объясняя, старался не терять хладнокровия, попробовал даже пошутить, что, мол, ситуация с «Теркиным на том свете» действительно какая-то сверхъестественная. Но она не приняла шутки. Выслушивая ее рацеи, К.М. нечаянно бросил взгляд на Нину Павловну, которая присутствовала при разговоре. У нее губы вытянулись в ниточку, скулы обтянуты, лицо словно каменное. Негодует и переживает за своего шефа.
К.М. повесил трубку и вытер вспотевшее лицо платком. На Нину Павловну старался не смотреть. Только попросил ее взять блокнот и карандаш. Продиктовал письмо Марии Илларионовне. Снова рассказал, с самого начала, как все было. Не оправданий, а истории ради. Закончил твердыми словами, при которых несколько смягчилось выражение лица суровой Нины Павловны: «Голосование было демократичным. Правила не были нарушены. Поэтому возражать очень трудно. Я, впрочем, остался при своем твердом мнении. Теперь дело за Вами, как за наследницей, — разрешить публиковать том в том составе, как его утвердила большинством голосов редколлегия, или вообще запретить его издание».
— Вот пусть и решает, — злорадно, непохожим на нее голосом сказала Нина Павловна, которая тут же уселась за машинку расшифровывать надиктованное.
Он догадывался, о чем она думает. Она не раз уж заводила разговор о том, что нельзя так все же... Вы ведь не мальчик и не обслуживающий персонал, К.М. Твардовский — да, Твардовский — огромная величина, но кто же еще сделал для его памяти столько, сколько вы? А если дать оседлать себя, то можно и собственное достоинство уронить, а ведь вы — Симонов, Константин Симонов!
Хлопоча об однотомнике стихов Твардовского и о его собрании сочинений, подгоняя себя с воспоминаниями о нем в готовящийся сборник, он еще работал над фильмом о Твардовском и уж тут отдыхал душой. Перед тем как взяться за это, написал большое письмо Лапину в Гостелерадио, в котором изложил программу целой серии фильмов под рубрикой «Литературное наследие». Обосновал, почему именно с Твардовского он хотел бы начать ее, не утаил, что намерен сказать и о его редакторской деятельности. Возражений не последовало. Договор с ним на студии документальных фильмов подписали без проволочек, даже текста сценария от него не потребовали, согласились с тем, что он напишет его, когда фильм будет снят. Михаила Александровича Ульянова он позвал почитать стихи Твардовского, и когда тот с готовностью согласился, предложил, чтобы он сам выбрал, какие именно. «Сам, сам, — подтвердил он со своею, «симоновскою» улыбкой, которую узнавал и любил в себе, потому что она приходила к нему только в немногие хорошие минуты суетного существования. — А ничего, что не знаком со сценарием. Я сам с ним не знаком по той простой причине, что его не существует пока в природе», — тут снова не мог сдержать той же улыбки и, чтобы скрыть сантименты, с превеликой сосредоточенностью затянулся трубкой. Врачи уже запрещали курить, но он все же нарушал их указания: «Мужчине — на кой ему чёрт порошки...»
— Выберите, и мы обсудим. Смотришь, и фильм с этого начнем.
Я сам большой,
Я сам дойду до всех моих ошибок.
Не стойте только над душой,
Над ухом не дышите!
Когда Ульянов прочитал эти стихи, К.М. понял, что отныне у фильма будут два автора. И это будет не монолог, а диалог. Просто они будут вдвоем беседовать. Читать время от времени Сашины стихи. Ему, Ульянову, понял К.М., ему, а не камере, он может сказать все самое сокровенное, все-все, что давно просится наружу. Он просто расскажет Ульянову историю их отношений, в которых как в зеркале отразилась добрая четверть века литературы да и вообще жизни.
Когда же, предваряя «Слово о словах» в исполнении Ульянова, сам заговорил о поздней лирике Твардовского, о тех стихах, которые после смерти его были впервые опубликованы Борисом Панкиным в «Комсомолке», испытал что-то вроде катарсиса, если он правильно понимал, что имели в виду древние греки:
— Его лирика последних лет — это, я думаю, безо всяких преувеличений можно сказать, одна из вершин русской лирики во все времена. И как в них продумано о жизни, как прочувствована эта жизнь, с какой силой заданы вопросы человеку, читающему эти стихи. Как ты живешь?
Я вот с таким потрясением читал, когда был молодой, первые главы Теркина. И вот в гораздо более заскорузлом возрасте, вот уже в эти годы, читал с таким же потрясением стихи последних лет. И думал, что же, как жить?
Произнося эти строки перед камерой, он знал о себе, что был предельно искренен. Но как это получится? Поверит ли зритель? Не улыбнется ли скептически, поздновато, мол, тебе, дедушка Симонов, на исповедь-то да еще при всем честном народе. Раньше, мол, надо было бы...
Вспомнились слова какого-то мальчишки, где он их слышал — в жизни, в кино? Вычитал в какой-нибудь книге? «Когда правда, у меня как бы жар в голове». Теперь была правда, и у него был жар в голове.
— Как жить? Как работать? Что Я? Как Я? Так же думает, наверное, каждый читатель, слушая эти стихи. Как Я? Какова цена моих дел? Моих слов перед лицом этой лирики?
Он был уверен, что и Ульянов, слушая его, а потом читая стихи, думал не только о Твардовском, но и о нем.
Он захватил Нину Павловну с собой на телевидение, когда настал час первого, в узком кругу создателей и советчиков, просмотра фильма о Твардовском. Он без слов понял, что фильм ей понравился. По дороге из Останкино она все порывалась выразить свои чувства. Большего бескорыстия двух больших людей в отношении третьего, кого они не колеблясь признают крупнее себя, невозможно ни представить себе, ни передать. Это, в свою очередь, ставит их обоих на уровень того, о ком они говорят, а может быть, и выше. Вот так, если суммировать, Нина Павловна выразилась, и ему потом долго еще было немного совестно вспоминать о том, что он растерялся и не прервал ее.
Постарался перевести разговор на деловую ноту. Хорошо, что фильм закончен. Будут, конечно, еще мытарства с приемкой, будут заставлять что-то переделывать, доделывать. Но главное ощущение — фильм есть. Теперь можно заняться другими обязательствами.
С ноября 75-го года начнет отсчитывать свой срок седьмой десяток его жизни. Черт бы побрал эти юбилеи. Сколько времени, сколько сил они отбирают. А в осадок что выпадает?
Вспомнилось прошлое. Ноябрь 65 года. Время было особое, переломное. Невозможно было еще разобраться, какие силы взяли верх, какие пошли на дно. К добру или во зло устранение Хрущева. Ясно было одно — настали перемены, грядут события, в которых ты не можешь, не имеешь права ощущать себя пешкой. Что бы ни случилось, куда бы ни повернуло колесо. С этим ощущением он слушал все, что говорилось на его пятидесятилетии, с этим ощущением выступал сам. Получилось что-то вроде исповеди и клятвы одновременно. Так это все присутствующие и восприняли. Текст его речи, записанной кем-то на магнитную пленку, долго еще гулял по стране.
Итак, что же последовало за великим десятилетием Хрущева? Втайне К.М. надеялся, что именно об этом может зайти речь на нынешнем юбилейном действе. Потом осталось только издеваться над собой, над своей неубывающей наивностью. Вечер прошел по принципу — два притопа, три прихлопа. С легкой, вернее, тяжелой руки Альберта Беляева, который, видимо, имел указание вести его так. Имел, имел — по меньшей мере от Зимянина. Старого воробья на мякине не проведешь. Нельзя сказать, что в зале и на сцене не было уважаемых и уважающих его, юбиляра, людей. Были, все были — и коллеги-письменники, и друзья-однополчане, и кавалеры солдатского ордена Славы, и академики, и литературные критики, литературоведы, симоноведы... Вспоминали минувшие дни, пели песни на его, К.М., слова, скандировали хором — «От Москвы до Бреста...», разыгрывали сценки из спектаклей по его пьесам и пародии на них. Вешали на него лавровые венки из синтетики, надевали таджикские халаты, преподносили тюбетейки и узбекские керамические вазы с его портретами. Было, все было...
Только субстанции во всем этом не было, и душа события как будто бы отлетела. Одна дряблая оболочка трепыхалась в душной, разряженной атмосфере. Печать времени. Печать минувшего десятилетия. Панкин попытался сказать что-то, да и того Беляев, увидев в его руках стопку листов, предупредил, вроде в шутку, но строго: ты давай покороче, не разводи.
Президиум собрания в Доме литераторов, демонстрируя отказ от казенщины, на этот раз восседал не за обычным длинным столом, покрытым, как водится, красным или зеленым сукном, а в низких креслах, вокруг небольшого журнального столика. Он, К.М., естественно, находился в центре дуги, и ему хорошо было видно, как маялся со своими листками, готовясь к выступлению, Панкин. Почувствовав, что выпадает из тона, он все же не хотел да и не мог уже расстаться с написанным, но в то же время опасался, видимо, как бы не оказаться тем прапорщиком, который один шагает в ногу. Похохмить на околосерьезные темы, непревзойденным мастером чего является, конечно, Сережа Михалков, — самое разлюбезное дело.
С бумажкой теперь все больше выходят на сцену авторы сатирических текстов, Жванецкий, например, или Александр Иванов со своими пародиями. От Панкина пародий не ждали, и зал, увидев в его руках листки, отрешенно загудел. Оратор, почувствовав настроение аудитории, заторопился. Однако уловив его, К.М., пристальное внимание, приободрился. Он как раз говорил о своей и своих сверстников, мальчишек военной поры, влюбленности в его, К.М., раннюю, предвоенную и военную лирику, продекламировал полузабытые автором строки:
Я бы взял с собой расстояния,
Чтобы мучиться от разлук...
Потом, почувствовав нарастающее внимание зала, увереннее подошел к нашим временам.
«Все главные герои Симонова, — читал Панкин, — в чем-то главном похожи друг на друга, а в целом — на него самого, вернее, на того идеального человека, рыцаря без страха и упрека, каким он, несомненно, хотел всегда и хочет быть сегодня. И то, что не стал таким, — тут зал замер, — то, что не всегда хватало сил и мужества следовать идеалу, — почувствовав, что оратор нажал слегка на тормоза, зал разочарованно гуднул, — было и остается его драмой. — Опять тишина в зале. — Но в том, что эта драма есть, то, что он способен на нее, — в этом источник и сила его творчества, которое одно лишь способно искупить если не все, то хотя бы малую толику наших вин и бед».
На этом Панкин закончил и направился на свое место в президиуме под аплодисменты, которые были и громче, и выразительнее, чем те, которыми его встретили. Когда он сел и рассеянно бросил на столик, весь еще во власти столь знакомых К.М. ораторских страстей, листки своего выступления, Симонов увидел, как много там зачеркнутых мест. И протянул за ними руку. Панкин подвинул листки в его сторону.
Вечер между тем, сделав этот непредвиденный зигзаг, покатился бодро-весело дальше по испытанной, наезженной колее.
Сам он, увы, тоже не удосужился сказать ничего знаменательного.
После вечера был, естественно, банкет, стоячий, персон эдак на пятьсот. Единственной изюминкой его было приглашение, написанное им от руки и размноженное на ксероксе. Эта техника тогда только входила в обиход, и не всем секрет ее был известен. Зато каждому, он знал, будет приятно похвастать личным обращением юбиляра.
Колготились чуть ли не до утра. К каждому надо было подойти, с каждым перекинуться парой слов, хлопнуть по плечу, отдать дань воспоминаниям. Совсем уж собрались уходить, как явились два дагестанца, прямо с самолета, с огромной черной лохматой буркой от Расула Гамзатова. Снова коньяк, снова речи и восклицания.
На следующий день к вечеру, накануне отъезда в Испанию, собрались у него дома в узком кругу. Были только, как любил выражаться Марк Александрович, «свои». Вот теперь-то, как он же и провозгласил, и начинается настоящий день
рождения. Не юбилей, а день рождения.
Выпьем, выпьем, пока тут,
На том свете не дадут.
Ну, а если и дадут,
Выпьем там, и выпьем тут.
Как ни была тепла и непритязательна атмосфера этого второго, келейного застолья, той пустоты в душе, которая поселилась после вчерашнего вечера, она не могла заполнить.
Неладно что-то было в датском королевстве, то бишь в Союзе Советских Социалистических Республик. И если и был какой-то смысл во всей этой суматохе, связанной с его пятидесятилетием, то только тот, что он лишний раз и крепко над этим задумался.
Круглая дата поневоле настраивала на философский лад. Десятилетие, предшествовавшее его полувековой отметке, верный приспешник Хрущева Ильичев назвал великим. Как назвать истекшее?
Он бы назвал его странным. Потому что странные, противоречивые вещи случались в течение этого десятилетия. И, судя по всему, будут еще случаться.
Хрущевская пора воспринималась теперь под знаком волюнтаризма.
Как только старый джентльмен избавился от тех, кто вставлял ему палки в колеса, так и начал спотыкаться. Что там его, симоновское, боярско-еврейское подворье! Вот где настоящая дворня образовалась.
Так называемая пресс-группа, консультанты, помощники. Малый совнарком, который творил что хотел. Если культ личности был оригиналом, волюнтаризм — пародией на него.
На долю Хрущева выпало грандиозное, ни с чем не сравнимое. Он поднял руку на божество, назвав его дьяволом. И его не испепелило, земля под ним не разверзлась, геенна огненная не поглотила. Он рисковал всем. Не только жизнью и свободой, но именем, честью, будущим своей многочисленной семьи, которую так любил. Вот уж кто действительно положил голову на плаху. Что им двигало, чем он руководствовался? Это — целый роман, который не ему уж суждено написать. Когда Хрущев умер, К.М. счел своим долгом послать письмо Раде Никитичне, дочке Хрущева, с которой отношения были ближе и надежнее, чем с ее мужем. В письме он сказал о том великом, что совершил ее отец. Не сказал другого, и это было естественно в той ситуации, о том, что Никита Сергеевич не раньше времени ушел, а дольше, чем нужно, задержался на своем посту. Разоблачение Сталина и было его миссией на земле.
Казалось, что и у Брежнева есть своя миссия. По-своему не менее рискованная. Он пришел, как понимал это вначале К.М., чтобы очистить от наслоений то дело, которое начал Хрущев. Пусть даже ценою избавления от него самого. Бывает и так на крутых поворотах истории.
Но ему, кажется, дано было исполнить лишь часть миссии.
Странная вещь — жизнь. Казалось бы, вот она — рядом с тобой, простая, естественная, понятная. Ее можно потрогать, попробовать на вкус, понюхать. Можно угадать и предвосхитить ее ток и направление.
Она как река, банальное, но вечно правильное сравнение: крохотный, едва заметный ручеек у истоков; набирающее силу, поражающее прихотливостью своих петель и зигзагов русло; кажущееся безбрежным устье. И как эта река, она то до удивления проста и понятна, то загадочна и неуловима. Вернее, так: только что она казалась тебе простой и понятной и вдруг обернулась загадкой, тайной, болотным маревом каким-то. Только что была рядом — пологий речной берег, такой уютный, домашний, — и вдруг капризное речное русло вильнуло и удалилось в неизвестном направлении. Так с жизнью, так и с истиной о ней.
Он, например, не считал себя и не был знатоком производства, сельского хозяйства, вообще экономики. Как ему сказал однажды кто-то из очеркистов «Правды», где он долго состоял в штате, хотя и без зарплаты: «Хуже всего, когда хорошо делается то, что вообще не надо было бы делать». Черт бы ее побрал, эту формулу! После того как он услышал ее да призадумался над ней, ему повсюду мерещилось ее торжество.
Получалось, что с самого начала, с того самого времени, когда он возомнил себя летописцем современности, происходило что-то такое, что вначале всячески и повсеместно прославлялось, а затем, подобно забракованному очерку, летело в корзину. Взять хотя бы тот же самый Беломорско-Балтийский канал. Или те же гигантские электростанции на Волге и Волго-Донской канал после войны. Как могла появиться хотя бы тень сомнения в их необходимости и благодетельности? Целина, Голодная степь. Это потом уже появились разговоры и публикации о пыльных бурях, о монокультуре, об истощении земель, о том, что первоначальный, очевидный и видимый выигрыш обернулся гигантскими потерями, объемы и последствия которых даже трудно измерить. Прилив людских масс, прежде всего молодежи, в эти края сменился оттоком, энтузиазм — унынием.
И в почтенном возрасте К.М., словно новобранец любезной его сердцу газетной рати, устремлялся на зов трубы то в Красноярск, то на Дальний Восток, то в дремучие глубины мещерских лесов. То туда, где пуск, то туда, где закладка... Писал для «Правды» и «Литературки» очерки, которые издавал потом сборниками. Славил новое, ополчался на всяческие недостатки, рассказывал о чудесных людях, встречавшихся ему на пути, их судьбах, радостях, одолениях и потерях. А спустя какое-то время, взяв в руки опус какого-нибудь публициста «из новых», вроде Черниченко, или Лисичкина, или Толи Аграновского, обнаруживал, что все было, оказывается, не так в тех местах, где и он в свое время побывал. Многого он не понял, а то и просто не углядел.
Что ни говори, а его пресловутая известность и популярность были не только удовольствием, но и бременем. Трудно, почти невозможно было ему, приехав в Усть-Илимск, к первостроителям БАМа, вести ту самую жизнь рядового корреспондента, о которой он всякий раз мечтал, собираясь в дорогу. Торжественная встреча, торжественные проводы с неизбежными возлияниями в промежутке — посещение первого лица, и всюду, куда ни направишься — за тобой свита из обкома, из горкома, начальство местного объекта да еще кто-нибудь из братьев-писателей, журналистов. Вытаскивать в таких условиях блокнот и авторучку, пытаться вести разговоры по душам или дотошно расспрашивать — выглядело бы просто, по его ощущению, позерством. Получалось, как некогда на фронте, что все основные беседы — с начальством разных масштабов: мысли, впечатления — о них же... Докопаться до сути можно, в конце концов, в каждом деле, убеждал он себя в этой, не ахти какой хитрой истине. А пока не докопался, не спеши слово молвить. Тем более, если к тебе прислушиваются.
Он снова и снова, становясь то Алешей, то Майором, то Алексеем Ивановичем или Ветераном образца семидесятых годов перебирал натруженной памятью все свои явные и не такие уж явные ошибки и заблуждения, пытался добраться до пружин, которые заставляли его вольно и невольно грешить против истины. То, что персонифицировалось для него сначала в Сталине, потом, но не в такой уже мере, Хрущеве, а теперь, совсем слабо, Брежневе, было на самом деле преклонением не перед личностями, как бы ни велико было исходящее от них притяжение властью, а перед идеей.
Да, вот чем это было. Пока жил Сталин, идея и личность были слиты воедино. С появлением Хрущева изображения стали расходиться, как в плохо наведенном фотообъективе. Ну и так далее...
Назвать идею просто коммунистической было бы неполно.
Твардовский любил слово державный. Державность. Признавался, что позаимствовал эту приверженность у Пушкина. Перечитай, говорил, «Медный всадник». Блок тоже отдавал дань этому понятию.
Державность! Тут даже не знаешь, с чего начать. С того, что это порог, через который нельзя, невозможно переступить? То есть, конечно же, есть люди, которые через него переступают. Иногда даже с легкостью необыкновенной. Иногда просто по неведению. Страшнее всего, когда человек переступает его сознательно и цинично. Это — ужаснее, чем отречься от родного отца.
Саша поступился родным домом ради идеи. Тем сильнее был удар, невыносимее боль, когда понял, что императив выбора был порочным. Нелегко было это понять. А каково пережить?
Жить по своей правде. Ни на кого не равняясь и не оглядываясь.
Хоть бы на исходе жизни научиться не делать ничего ненужного, тем более вредного. Он сказал себе, что не будет писать о том, в чем до конца не уверен. Он будет писать о войне. Писать, говорить, снимать. Нет, не прозу, нет. Когда он подарил Борису Панкину свой том «Так называемой личной жизни» и попросил его прочитать и сказать, стоит ли ему еще писать прозу, он уже знал ответ. Свой собственный: «Не стоит!»
Когда-то, лет двадцать назад, колокол звонил по его стихам. Теперь пора расстаться и с прозой. Такой, как этот пухлый роман, состоящий из четырех повестей. Прозой с сюжетом, завязкой и развязкой, с восходами и заходами, всякими там вздохами и пейзажами. Для этого тоже есть другие. Например, Василь Быков. Или Виктор Астафьев. После недавней встречи с ним у себя дома он по-настоящему поверил в него. Было время, когда относился к нему с предубеждением. То есть его художественный дар всегда был для него вне сомнения. Выстраданное знание жизни, помноженное на талант художника. С сюжетом, может быть, и не всегда он в ладах, но краски, характеры, типажи... И язык — какое разнотравье! И лепка фразы, и интонация! Ну а уж лексика, половодье народной речи...
Но получалось так, что вещи Астафьева — как бы сами по себе, а он, как человек, — сам по себе. К.М. долго воспринимал его скорее не как отдельно взятую личность, а как представителя некоей группы, весьма ему несимпатичной. Что-то вроде тех самых «одиннадцати», что подписали письмо против Твардовского. Они задавали общий тон, придавали особый аромат этой группе. С ее антисемитским душком, который совершенно понапрасну называют русофильским, славянофильским. Для него не было тайной, что ребята эти лихие его не любят. И даже подозревают в принадлежности к пресловутому жидомасонскому сообществу, которое для них причина всех зол в мире. Может быть, былая смуглость его тому причиной, может быть, нос с горбинкой или то, что в свое время, о чем уж почти никто и не помнит, он тоже прибег к псевдониму, вместо Кирилла стал называться и подписываться Константином, к вящему неудовольствию матери. Может быть, сработало то, что всем был известен его отчим, а об отце, погибшем в Первую мировую, никто не знал и подозревать можно было что угодно. Может быть, и оттого, что среди его друзей и близких действительно было много евреев. И жена у него была еврейка, и сын его, первенец, Алеша, таким образом, наполовину еврей.
Письмо, полученное несколько лет назад от Астафьева, его заинтриговало. Вместе с этим письмом Астафьев прислал рукопись новой книги, своеобразного документально-художественного повествования. Об Александре Макарове. Совершенно непредставимое сочетание. Поддержал когда-то старый циник Макаров молодого волчонка Астафьева, вот и подружились, и поддерживали эту дружбу до самых последних Сашиных дней. И об этом Астафьев необыкновенно трогательно, пронзительно написал. И захотел узнать его, К.М., мнение перед тем, как отдавать рукопись в издательство. Почему? Может быть, потому, что они с Макаровым тоже были когда-то до известной степени близки?
Как только он прочитал «Зрячий посох», который ему действительно понравился, написал Астафьеву, похвалил, не скупясь, предложил встретиться, не откладывая, поговорить о самом главном, о войне, о том, как о ней пишется. Были потом еще письма от Астафьева, была встреча.
Он, К.М., все больше о его, астафьевской, прозе говорил тогда, о том, что за той, за солдатской прозой будущее, а тот — о недавно виденном по телевидению фильме «Шел солдат», о том, что хотел бы свою прозу писать на таком же вот честном, простом и доходчивом уровне. После этой встречи он с еще большим рвением занялся съемками фильмов о кавалерах солдатского ордена Славы. Изнурительная работа, а без нее тем не менее он теперь просто бы не мог жить. Иногда трудно было даже самому себе объяснить, в чем тут, собственно, дело. Встретиться, познакомиться, разговорить и тогда — снимать... И так — десятки и десятки людей. Кто-то заболел, кто-то закапризничал. Иной, хоть режь его, не способен выдавить из себя ни слова перед оком киноаппарата. А кто-то, еще хуже, как только зажигаются лампионы, начинает нести такую высокопарную, трескучую чушь, что просто перед молоденькими ребятами и девчатами из киношной команды совестно. А ведь только что говорили по-человечески. И вздыхали, и страшное, и смешное, и жалостливое вспоминали. И всплакнули, и насмеялись вдоволь. Ну, попробуем еще раз.
Он замечал, что даже бывалые люди, те же военные фотокоры, вроде Халдея или Халипа, или бывшие фронтовые операторы, которые, прослышав, заглядывали на съемки, и те удивлялись ему. Быть может, даже и задавались про себя вопросом — не заклинился ли случаем Костя, не произошло ли у него какого сдвига? О Нине Павловне нечего было и говорить. Она всем своим видом показывала, что не этим, не этим бы ему теперь заниматься! А чем? Нина Павловна, чем? — невысказанный вопрос.
Нет, только сидя рядом с очередным ветераном, он и мог чувствовать себя самим собой. Только такая беседа, только такой кадр, такая запись и способны дать тебе чувство уверенности, необходимости, несомненности, правоты того, что ты делаешь. Не случайно так оценил это Астафьев. Как он себя назвал? Да, «окопная землеройка».
— Товарищи солдаты, товарищи кавалеры солдатского ордена Славы трех степеней, вспомните, что для каждого из вас было самое трудное на войне.
И идет, тянется цепочка ответов, безыскуснее, правдивее и художественнее которых ничего нет на свете.
— Самое трудное? Как перенести всю тяжесть этой войны. Самое трудное — это, конечно, в пехоте. Крыши над головой никогда не бывало — ни зимой, ни летом. Пришли уставшие, так что когда легли — так и не почувствовали, как примерзли до окопа.
— Но война была не только трудная, а еще и страшная. Что же все-таки для вас лично было самым страшным на войне?
— С первых дней войны все было страшно.
— Страшно было на Курской дуге. И в Сталинграде страшно было.
— На фронте, конечно, все страшно было. Но я, вот лично сам, страшнее всего я боялся, чтобы не попасть в руки немцам живым.
— Шел и вижу, что села уже нету, страшно, конечно. Вижу, расстреливают за селом скот: коров, лошадей, овец — страшно. Все лежат свеженькие — страшно.
— Две, по-моему, я помню две виселицы человек по десять — как шли мы колонной — висит наш русский человек. Страшно.
— Самое страшное было, когда прицеливаешься и убиваешь живого человека.
— Самое страшное — подняться в атаку, выйти из окопов.
— Самое страшное, знаешь, это, ну, рукопашный бой.
КПД — сто процентов, выход — чистое золото, смотрите, слушайте, внимайте, впитывайте в себя истинную, не приукрашенную и не разбавленную никакими умствованиями и оглядками правду о великой войне, товарищи зрители, сегодняшние и завтрашние, послепослезавтрашние. Позаботьтесь о сохранности отснятой пленки, товарищи киношники, а истина и здравый смысл, мудрость — и житейская, и философская, впряженные в эти кадры, будут живы вечно.
Позаботьтесь, товарищи киношники. Долголетний опыт сотрудничества с ними побуждал принять и собственные меры. Слишком уж беззаботная, безалаберная публика. С начальством их, что в Госкино, что на телевидении, пуды бумаги, водопады слов истратишь, пока о чем-то договоришься, что-то запустишь в производство. Снимающая братия горазда делать, работать. Но судьба ленты волнует их лишь до тех пор, пока фильм не вышел, пока его не показали пару раз на телевидении. А там — хоть трава не расти. За одно он может ручаться — за сохранность текстов. Их — собрать, отсортировать, проклассифицировать, отмаркировать, и в ЦГАЛИ. Он представил себе, как ахнет Нина Павловна, прикинув объем предстоящей работы. Но делать нечего. Придется делать. В конце концов, это — лишь часть забот по подготовке и сдаче архива.
Охо-хо, вот она, эта работа... Полнометражный документальный фильм «Шел солдат». Шесть таких же телевизионных фильмов под общим заголовком «Солдатские мемуары». Да еще две больших телевизионных передачи «Солдатские мемуары—письма». Конечно, главное, чтобы в госкиноархивах сохранились ленты. Но сценарий и синхронная запись на бумаге всей звуковой дорожки фильма — это тоже документ, с которым и будут в основном работать будущие военные историки и Львы Толстые.
Рядом с его кавалерами ордена Славы, вечными рядовыми великой войны по улицам городов страны еще ходили ее полководцы, маршалы и генералы, командующие армиями, фронтами, дивизиями. Кто все еще в мундирах с блестящими золотом погонами, кто — в скромных костюмах, габардиновых или нейлоновых плащах. Кто-то вчистую уже ушел со службы, кто-то числился в так называемой «райской группе» министерства обороны. Увы, время так же беспощадно к ним, как и к другим. Как пуля или осколок снаряда, оно не разбирает, где маршал, а где ефрейтор.
Он встречал их больше по праздникам, в президиуме какого-нибудь торжественного заседания по случаю Дня Победы или очередной годовщины Советской Армии, на премьерах своих фильмов и спектаклей, иногда — на читательских конференциях. Встретишься, обрадуешься, перекинешься словцом-другим о Первом украинском или Втором белорусском, о форсировании Днепра или танковом побоище под Прохоровкой, договоришься непременно видеться чаще, а там, смотришь, и черная рамочка в газете очередная...
А к мертвым выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет...
Когда беседуешь с солдатами, войну видишь, что называется, перед носом. Словно через увеличительное стекло. Пространство в поле зрения — крошечное, но все предметы в нем кажутся крупнее, чем на самом деле. Нет, пожалуй, наоборот. Просто убеждаешься в том, что казавшееся тебе малым на самом деле велико. Беседы с маршалом — взгляд с высоты птичьего полета. Поразительно, как далеко и как много можно увидеть таким образом. Необъятные дали открываются — леса, горы и долы, окутанные дымом пожарищ. Багровые, черные облака взрывов. Бесконечные, уходящие и в глубину, и в ширину полосы заграждения. Рвы, надолбы, валы, землянки, бункеры. Скопления людей и техники, словно туманности Млечного пути. Разглядит ли с такой-то дистанции орел тот крошечный плацдарм, о котором только что поведал перед микрофоном сержант или ефрейтор, «окопная землеройка».
Словом, не жизнь у него теперь была, а сплошное кино. Растянувшееся на дни, ночи, недели, месяцы, годы.
К каждой съемке с Жуковым готовились, как к празднику, на дачу к нему ехали, как в церковь в светлое Христово воскресенье.
Он для всех — святыня, икона. Маршал, правда, и сам ничего не предпринимал, чтобы как-то сократить дистанцию между собой и окружающими. А может быть, просто не замечал ее? Или считал естественным, что малые небесные тела, спутники, планеты вращаются вокруг большого светила на заданных раз и навсегда орбитах? Может быть, в этом одна из тайн его полководческого гения?
Полководцу необходим характер. Если уж в писательском деле характер — это половина дела, то какую же часть составляет он в полководческом гении?! Особенно если последнее слово, как это и было всю войну, все-таки не за тобой. Какой нечеловеческой волей и верой в себя нужно обладать, чтобы держать в струне тысячи, десятки, а то и сотни тысяч людей и мановением руки посылать их в огонь, в топи на заведомую, неизбежную смерть. Сколько раз уже и в этих их беседах, спустя годы и годы после отгремевших сражений, маршал как о чем-то естественном, как о рабочем моменте упоминал о необходимости дать противнику сегодня перемолоть одни твои части, чтобы другими, свежими, раздавить его завтра, измотанного в предыдущих боях.
Кажется, еще труднее было ему скрещивать свою волю с волей того одного, который стоял над ним и назывался Верховным Главнокомандующим и в качестве такового вообще вел счет не на живые души, а на боевые единицы, начиная, в лучшем случае, с дивизий и корпусов. Потери, тем более в живой силе, для Сталина вообще ничего не значили. Жуков тоже, видимо, не считался с ними, когда был уверен, что действия командования целесообразны и необходимы. Для Сталина же эта целесообразность и необходимость всегда состояла в одном — ни пяди не отдавать, никогда не отступать, двигаться только вперед, чего бы это ни стоило. В этом — одна из причин того, что мы столько потеряли и столько отдали в первые же дни и месяцы противоборства. По этой линии у них и возникали стычки, когда выход у Жукова был один — либо беречь себя и поддакивать Сталину, как это делали всегда сидевшие рядом с ним «тонкошеие вожди», либо, рискуя тем, что завтра «поедешь пить кофе к Берии», стоять на своем. Не оттого стоишь на своем, что ты такой уж гуманист, а оттого, что элементарный здравый смысл — тоже совершенно необходимое качество для полководца — не велит тебе бросить под огонь тысячи людей, которым по твоему замыслу уготовано погибнуть совсем в другом месте и с совсем другим коэффициентом полезного действия.
— По своему характеру я в некоторых случаях не лез за словом в карман, — рассказывал теперь Жуков. — Случалось даже, что резко отвечал на его грубости, потому что надо было спорить, иначе я не смог бы выполнить свой долг.
Другому, услышав такое, К.М. бы не поверил. Решил бы — рисуется. Все сказанное Жуковым — без позы, без нажима — принимал один к одному. Надо было понять, пережить, как это — возражать Сталину! Главное — дорасти до понимания того, что и Сталин может быть неправым. Ему самому это при жизни вождя не удавалось.
С тем большим рвением он «разговаривал» своего собеседника в этом направлении. Легко ли, например, было, спрашивал, собраться с духом и намекнуть Сталину, что многие беды и как раз в самые первые трудные дни происходили из-за того нелепого распорядка дня, которому вождь следовал уже много лет, по крайней мере, с тех пор, как стал Сталиным. Ложится чуть ли не под утро, встает к двенадцати дня. А не доложив ему обстановки и не высказав своих предложений, нельзя принять решение. Когда же утвердишь его, с утра — у наркома Тимошенко, днем — у Сталина, поезд уже ушел. К тому же весь ареопаг не мог позволить себе покинуть служебные кабинеты прежде, чем Сталин уляжется спать, то есть далеко за полночь. Вставать же в отличие от него приходилось ранним утром. В конце концов люди вообще переставали спать и соображать что-либо.
Да, подтвердил Жуков, ему пришлось говорить на эту тему с «самим». И что же? Тот удивился или сделал вид, что удивился, но в конце концов вынужден был на кое-какие коррективы пойти. Правда, были они вполне в его, сталинском, духе. Он, конечно, не изменил свой распорядок, но ни разу с тех пор за всю войну не позвонил Жукову после двенадцати ночи. И отменил двуступенчатость в докладах начальника Генштаба: наркома Тимошенко послал командовать одним из фронтов, а себя назначил и наркомом, и Верховным Главнокомандующим.
Обманываться насчет уступчивости Сталина не приходилось. Если он и уступал, то только очевидной необходимости, только непреодолимым в данный момент обстоятельствам. И не жаловал тех, кому был этим обязан. События послевоенных лет, угроза, висевшая над Жуковым до самых последних дней жизни Сталина, показали, что тот хорошо запомнил все, что ему пришлось выслушать от своего заместителя в дни войны. Не мог не знать и не подогревать эти настроения Берия. Так что легко представить себе, Жуков рассказывал ему об этом, с каким удовольствием взял за шкирку Лаврентия Павловича на историческом заседании президиума ЦК.
В 1965 году, в ноябре, Жуков поздравил К.М. с пятидесятилетием. Прислал письмо, в котором были строки, тронувшие до слез. Закончил его такими словами: «Желаю Вам, дорогой Костя, крепкого здоровья, многих лет жизни и успехов в Вашей творческой деятельности». Дорогой Костя... Что это? Проявление отцовского чувства или деликатное приглашение окончательно перейти на дружескую ногу? Во всяком случае, когда он писал маршалу ответное письмо, ему и в голову не пришло обратиться к нему просто по имени. Он ответил просто: «Я горжусь той оценкой моей писательской работы, которую Вы дали в своем письме. Поверьте мне, что я сделаю буквально все, что в моих силах...»
Размышляя над темой «Жуков и Сталин», К.М. ловил себя на мысли, что существует и другая тема — «Жуков и Симонов». Наверняка это ухватил уже кто-то из киношников, ведущих съемки. Может и книга появиться. Со временем. Интересно было бы прочитать такую книгу. Что неугаданный им пока автор напишет о Жукове и что о нем. Этот маршал-солдат, при всей его видимой монолитности, куда более загадочен, чем иной раз раздвоенный интеллектуал вроде него. И поводов для размышлений насчет плахи — положить голову или нет — у него было предостаточно. Каждая встреча со Сталиным, а они виделись или говорили по телефону практически каждый день во время войны, была таким поводом.
В конце июля сорок первого один такой «бунт» стоил ему поста начальника Генерального штаба.
Речь шла ни много ни мало... о судьбе окруженного и обреченного, по убеждению Жукова, Киева. Он предлагал по этой причине оставить город с тем, чтобы, не расходуя понапрасну людские резервы и боевую технику, своевременно занять более удобный для обороны плацдарм.
Отступить, оставить — сколько времени прошло, пока Сталин не понял наконец, что эти слова вовсе не всегда обозначают бегство, трусость и предательство. Киевский урок, когда все равно пришлось и город сдать, и целые армии оставить в окружении, не пошел ему впрок. Вскоре он с бранью обрушился на Конева, решив заменить его под Москвой Жуковым. Пришлось снова объяснять ему, что такими действиями ничего не исправишь и никого не оживишь. За Киев расстреляли генерала Павлова, а что толку? Он не справился с тем, с чем и не мог справиться.
Со стороны глядя — в армии просто. Командуй теми, кто ниже тебя, и подчиняйся тем, кто выше. Выше Жукова был только Сталин, ниже — все остальные. Казалось бы, в высшей степени удобное, привилегированное положение. Исполнение его приказов срабатывает автоматически. Рассуждать — это для штатских. Но вот Молотов — по штатской линии он для Сталина был вроде бы то же, что Жуков по военной. Уж он-то как раз Сталину никогда не противоречил, только поддакивал и укреплял того в его намерениях и суждениях, какими бы чудовищными они ни были.
Жуков должен был в итоге подчиниться тому или иному, неправильному с его точки зрения, указанию, но только исчерпав предварительно весь заряд доводов. И все взлеты и падения, все зигзаги в его жизни зависели не от его поведения — оно всегда было одним и тем же, а от отношения к нему.
К.М. не так часто встречался со Сталиным, но тоже был небезразличен ему, и, видимо, играл в его замыслах определенную роль. Встречи в Кремле у Сталина, его собеседования с деятелями литературы и искусства, чаще всего в связи с процедурой присуждения Сталинских премий, можно было бы сравнить с теми совещаниями Ставки, которые Сталин проводил во время войны в Кремле или на Ближней даче, в Волынском. Как бы ни был всесилен Сталин, он не мог планировать, разрабатывать и тем более осуществлять свои операции в одиночку. В войну ему для этого были нужны маршалы, генералы, офицеры. В своих маневрах на духовном, так сказать, фронте он тоже нуждался и в генералах, и в маршалах, только уже от литературы, от искусства. Вот он, Симонов, и стал по его воле одним из маршалов. Да, маршалом, не меньше. Ну, может, и не Жуков, эта роль была отведена, по-видимому, Фадееву, но не меньше, чем Рокоссовский.
Жуков между тем продолжал рассказывать о том, как Сталин попытался однажды заставить его признать не совершенную им ошибку. Подводя в присутствии ряда членов политбюро и высших военачальников победные итоги грандиозной Белорусской операции, когда Жуков и Рокоссовский настояли на своем, не совпадающем со сталинским планом ее проведения, Верховный вдруг сказал:
— Вот видите, вы предлагали вначале, чтобы фронты наступали в иной последовательности, я с вами тогда не согласился, и был прав...
Жуков — нет чтобы — смолчать, возразил, что он этого не предлагал, можно по директивам проверить. Сталин достал из стола директивы, дал их читать Жукову, и тот прочитал как раз то место, которое подтверждало его правоту. Сталин вырвал у него из рук бумагу и заставил читать ее сначала Маленкова, потом Берию, но и эти подхалимы при всем своем рвении не могли вычитать в директивах того, чего в них не было. Зато Георгия Константиновича можно было поздравить — одним махом нажил себе сразу трех могущественных недоброжелателей.
Нет, в писательских встречах со Сталиным ничего подобного не случалось. Фадеев как-то заспорил о художественных достоинствах бесконечного романа Коптяевой об Иване Ивановиче, который почему-то нравился Иосифу Виссарионовичу, да и то в конце концов развел руками:
— Воля ваша, товарищ Сталин...
Нередко именно на его, Симонова, долю падало выполнять эту самую волю и нередко по собственной инициативе. Как это было с повестью Казакевича «Весна на Одере».
К.М. открыл Георгию Константиновичу «тайну» сначала исчезновения, а потом появления его, Жукова, среди персонажей «Весны», когда они оказались рядом на обеде в Кремле. Обед был в честь нового Центрального Комитета, выбранного девятнадцатым съездом партии.
Оказался в его составе и Симонов. Попал туда неожиданно для всех и Жуков, линию на реабилитацию которого Сталин продолжал проводить по какой-то одному ему ведомой логике. Жуков с превеликим интересом слушал рассказ К.М. и вдруг прервал его репликой:
— Живые ладно, так и быть, но мертвых-то за что... — Из дальнейших его слов стало ясно, что маршал ведет речь уже не о Казакевиче, а о его «Товарищах по оружию». — Почему не назвали своим именем хотя бы такого героя Баин-Цагана, как комбриг Яковлев, и заменили его каким-то Сарычевым или почему не вывели покойного Ремизова?
Он смущенно пробубнил что-то относительно законов художественной прозы, о том, что назвать героя реальным историческим именем — значит связать себя по рукам и ногам.
Жуков слушал и вежливо кивал, может быть, даже соглашался. Но настроение у Константина Михайловича было испорчено надолго.
Теперь уже не выдуманными персонажами — образами реальных лиц переполнено его сознание. Их данником он себя чувствует. Странный, причудливый хоровод. Маяковский и Мандельштам, Кафка, Татлин, Лилия Юрьевна Брик, Малевич, Сергей Сергеевич Смирнов с его «Брестской крепостью» и ее невыдуманными героями, которых тот, уходя, оставил на его, К.М., попечение. В этой веренице нет ни одной благополучной судьбы.
Только напрасно представлять себе, что это — мир теней. Как быстро, словно на гоголевской тройке, несется время, как плотно все спрессовано в этой жизни! Маяковский, Булгаков — казалось бы, это уже не люди, не имена — медальоны, выбитые на бронзе вечности. Но только вчера он встречался со следователем, который в роковое апрельское утро 1930 года первым по вызову оказался у тела Маяковского. Первым из «казенных лиц» взял в руки лежавшие рядом листки и прочитал: «Товарищ правительство...»
И Лилю Брик, увековеченную в этом посмертном послании «векам и мирозданию», совсем-совсем недавно свезли в крематорий. И дико было слышать, как служащая этого жутковатого для живого человека учреждения сказала, стараясь, видимо, тоже быть «на уровне современных требований»: от имени покойной разрешите поблагодарить всех, кто пришел с ней проститься...
Он стоял и смотрел, как, покорные включению каких-то кнопок, под звуки похоронного марша Шопена — как назло лезли в голову привязавшиеся с детства слова «умер мой дядя...» — сдвинулись с места и сомкнулись над крышкой гроба черные металлические створки... Чего? Даже не знаешь, как назвать это устройство, скрывшее от глаз людских то, что было некогда Лилией Юрьевной Брик. Стоявшие вокруг стали потихоньку расходиться. Кто-то — Лариса, Нина Павловна? — тронул и его за локоть, а он все не мог оторвать глаз от этих черных створок, под которыми началось какое-то новое движение. И он представил себе: недлинная рельсовая дорога, по которой обшитый крепом продолговатый деревянный ящик приближался... к геенне огненной. Ему показалось, что он уже слышит, как рвется и бьется пламя, поглощая останки существа, с которым еще совсем недавно разбирали письма, фотографии, желтые, трухлявые листы рукописей В.В.
Выйдя на улицу, он поискал взглядом крематорскую трубу, ожидая увидеть смолисто-серый столб дыма. Но его не было, и кто-то рядом, нет, не из близких, деловито пояснил, что старый московский крематорий, собственно, не функционирует, что здесь только имитируют похоронную церемонию, а потом гроб везут за город, где и сжигают в топке нового крематория и выдают родственникам урну в соответствии с квитанцией. От этого объяснения все только что происшедшее показалось еще более абсурдным и ирреалистическим. Нет уж, меня извольте сразу за город, — вырвалась оттуда, из подкорки непослушная мысль. А то еще и пепел перепутают.
Не тогда ли пришло на ум Буйничское поле? Да, решено. Он завещает, чтобы его прах сожгли и увезли в Белоруссию и там, под Могилевом, на Буйничском поле, где он встретил свой первый бой, развеяли. Кто? Ну, об этом еще будет время подумать. А что, собственно, думать? Конечно же, Лариса, дети — Алеша, Маша, Санька, Катя, другие близкие люди — Нина Павловна, Лазарь, Марк Александрович. Доберутся туда машинами. Даст Бог, погода будет хорошая... Дорога тоже вроде ничего по Минскому шоссе. Ну а остановиться найдут где, белорусские письменники приютят. Жаль только, что его не будет вместе с ними, и чарку белорусской водки не доведется выпить за упокой своей души. Зубровки, которую он так любил, пока врачи не запретили ему ее начисто. Он тряхнул головой, дивясь принявшим такое причудливое практическое направление мыслям. Увы, подобное с ним случалось все чаще и чаще. Недавно вырвалось в присутствии Нины Павловны, когда они вдвоем дружно переводили дух в ЦДЛ после очередной баталии по поводу музея Маяковского. Взглянул на длинный, покрытый белесой скатертью стол в зале заседаний секретариата и сказал: «Вот уже и хочется полежать!» Бедная Нина Павловна, что с нею было...
У него мысль о смерти не вызывала привычной боли. Как будто речь о предстоящем отпуске. Страданием была сама болезнь — прилипчивая, ползучая, неотвязчивая. Она стояла теперь на пороге всех его пока не осуществленных замыслов. Сколько их еще — Боже мой! Не только написать, но и сделать, заступиться, пробить, доспорить. Превратился в какую-то всесоюзную, если не брать шире, скорую помощь на дому. Если набраться духу и посчитать с помощью Нины Павловны, сколько же на нем висит сейчас добровольно взятых на себя обязательств, но истово тем не менее исполняемых! От одного этого — упадешь. Может, он потому только и не падает, потому и держится, что не подсчитывает, а делает. Глаза боятся...
Недавно ворвалась Лариса в его «нижний» кабинет. Трясет в руках газету: «Полюбуйся, какая чушь! Малевича, Казимира Севериновича, обозвали эмигрантом, утверждают, что он умер-де на чужбине. А он всю свою послереволюционную жизнь провел в Ленинграде. Если и покидал его, то только ради Москвы, вернее Подмосковья, Немчиновки, где каждое лето до самой смерти косил летом сено да писал пейзажи. Видно, кому-то до сих пор не дает покоя его «Черный квадрат». Идиоты!!!»
У Ларисы это очень выразительно получалось: «Идди-оты!»
Малевич... Помнится, еще в первую его поездку в Штаты ему там задавали вопросы о Малевиче и Кандинском. С тех пор они так и стоят в его сознании рядом, эти два имени. Как и Ильф и Петров. Представление об этих художниках у него тогда было очень смутное. Спасибо, рядом был Илья Эренбург. Он выручил. По нему получалось, что это — талантливые, но, увы, недооцененные, незаслуженно забытые в нашей стране мастера. Зная за мэтром эту особенность — щегольнуть при случае своим особым мнением, К.М. там, в США, помалкивал, а когда вернулся домой, постарался найти все, что можно было об этих художниках почитать. Улов был небогатый. Посмотреть, вообще ничего не удалось. Все лежало за семью печатями в запасниках, и добиваться туда пропуска было недосуг.
Разразившиеся вскоре обличительные кампании прочно зачислили эти имена в черный список формалистов, абстракционистов, рабски преклонявшихся перед западными образцами.
Благодаря Ларисе, особенно в пору подготовки выставки в Манеже, он разобрался, что не Кандинский, Малевич, Татлин, Фальк подражали Западу, а оказывается, Запад у них подхватил все эти измы. Сдается, что не Малевич, к примеру, вышел из Пикассо, а Пикассо и Фернан Леже, чья русская жена Надя была ученицей Малевича, вышли из Кандинского и Малевича.
По иронии судьбы в глазах претендующей на новаторство советской власти они оказались реакционерами, проповедниками упадничества, а для «загнивающего Запада» стали синонимами революции в искусстве. И теперь вот в газете эта заметка, которой Лариса потрясает перед его лицом, словно это он, К.М., написал ее. Да, одним сочувствием тут не отделаешься. Пришлось обложиться книгами, репродукциями и написать. О том, как, например, автор нашумевшего до революции «Черного квадрата», который его, К.М., и сегодня повергал в недоумение, после революции делал декорации и костюмы к «Мистерии-буфф» Маяковского в постановке Мейерхольда. Вот уж поистине триада революционеров в искусстве! Придумавший натужный, искусственный, казалось бы, термин «супрематизм» Малевич предсказал вторжение человека в космос «через кольцеобразное движение промежуточных супрематических спутников».
Когда он умер, в 1935 году, даже в те тяжкие времена художники похоронили его с почетом, а в некрологе написали о «заслугах умершего художника Малевича К.С. перед советским изобразительным искусством».
Подходящий случай сказать о художнике, а заодно хлестнуть как следует по крохоборам и невеждам, злоумышленникам от искусства.
Говорят, в архивах Горького после его смерти нашли фразу: «Тысячекратно увеличенная блоха была бы самым ужасным и непобедимым существом на свете». Ягода дико матерился, но мертвый Буревестник был уже ему не подотчетен.
Еще одним его героем, и тут тоже не обошлось без Ларисы, стал Татлин.
Создатель «Башни III Интернационала», апофеоза нарождавшегося, невиданного ранее общества, этим же самым обществом, его руководящими силами был предан остракизму, оттеснен куда-то на задворки. Доживал свои последние дни забытый всеми, в полном одиночестве. Снова и снова К.М. пытался разгадать тайну этого одиночества — добровольное оно или вынужденное? Был обречен на непонимание или сам себя на него обрек? Не смог из этого состояния выйти или не захотел? Внутренний эмигрант, как его пытались изобразить, или..?
Когда он думал о Татлине, возникал перед ним его идеал — человек, согласный с самим собой. Когда-то он таковым считал себя. Теперь уловил разницу... Татлин верил и следовал чему-то главному в себе. Он, К.М., — чему-то тоже важному, но помимо себя.
Одной заметкой о Татлине не обошлось. Сделал о нем документальный фильм и принимал деятельное участие в организации его выставки в ЦДЛ в феврале 1977 года.
После открытия выставки организовал для ее устроителей банкет. Лариса не смогла быть ни на открытии, ни на банкете. Столько усилий приложила, так ждала этого дня, а накануне свалилась с дикой простудой.
Когда поправилась, поехали с ней в Ленинград. На очереди был — Блок. В союзе предложили возглавить комиссию по проведению столетия Блока. Он не отказался. Теперь надо было посмотреть, что стало с квартирой, где последние годы жил и где умер поэт в голоде и холоде. Посмотреть, можно ли будет превратить эту квартиру в музей. Тут его ревностным и неистовым сторонником была Мариэтта Сергеевна Шагинян. Сколько она ему рассказывала о Блоке, о своей переписке с ним, о том, как в этой самой квартире, когда он умер, читала ночь напролет над телом, с разрешения Любови Дмитриевны, акафист.
Узнав, что его назначили председателем комиссии, Мариэтта Сергеевна теперь при каждой встрече заводила разговор о Блоке:
— Блок, он еще в тринадцатом году чувствовал, кто идет рядом с Христом — грубые люди, которые разорят усадьбу, сожгут библиотеку... Его это не страшило. Пока он верил... Что его пугало — одиночество. Разрыв с теми, кто ему был раньше близок, кто не верил, ненавидел... Хотелось всех взять с собой, повести...
Женщина, безумная гордячка!
Мне понятен каждый Ваш намек...
Это — о Зиночке Гиппиус, у которой дома я столько вечеров провела. Мы были подругами. Чудеснейшая женщина. И поэтесса! Вы читали мои воспоминания? Но что поделаешь, революцию она ненавидела, Блока, бывшего своего идола, когда он пошел в «услужение революции», — вдвойне. Для вас это история, легенда, а я-то помню хорошо, как все это было. Как-то увидели друг друга издалека в Петрограде на улице, и она перешла на другую сторону. А он вернулся домой и написал:
Все слова — как ненависти жала,
Все слова — как колющая сталь.
Его это огорчало, но не оскорбляло, не угнетало, пока он верил в свою правоту.
Но вдали я вижу — море, море,
Исполинский очерк новых стран,
Голос ваш не слышу в грозном хоре,
Где гудит и воет ураган!
Вот как он верил. В ураган этот верил, в то, что вместе с господскими усадьбами, на крови людской поставленными, вместе с садами, парками, лирическими воздыханиями праздных людей сметет и смоет он всю несправедливость на земле, за все слезы, за все страдания людей воздаст:
Высоко — над нами, — над волнами, —
Как заря над черными скалами —
Веет знамя — Интернационал!
Брут писал Кассию: «Мы слишком уж боимся бедности, изгнания, смерти». Блок свои «Двенадцать» закончил через три месяца после Октябрьской революции. Он не боялся ни бедности, ни изгнания, ни разорения. Пока верил. Когда решил, что ошибся, заблудился, не с теми пошел, — сломался. Сейчас ведь все врут. Простить не могу Наровчатову. Делал доклад о Блоке. Блок у него прямо-таки живой большевик. Никогда он не был большевиком! Его величие в другом. Он жить был способен только в согласии с собой. А как этого не стало, и уж невозможно было, как ему казалось, восстановить, он начал умирать. Если хотите, то главное в Блоке — это его смерть.
Разволновалась Мариэтта Сергеевна так, что даже слюна белыми комочками пены выступила контрастно на темных как мощи губах. Вынула платок, заботливо обтерла их, спросила простодушно: «Я не плюю? Рот-то старческий...» А он уж почти и не слышал ее, не видел ее самое. Таково было возбуждение от последних ее слов. Смерть — как искупление всех грехов, отмщение, нет, прощение всех обид. Смерть Маяковского, смерть Фадеева, смерть Блока...
Мариэтта Сергеевна, он понимал, вовсе не хотела сказать, что Блок — тоже самоубийца. Просто он не сопротивлялся смерти, потому что незачем стало жить. Незачем жить? Все восставало в нем против этого утверждения. Незачем жить человеку, написавшему в последние дни своей жизни такие строки?
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
А Маяковский? Разве не перед выстрелом написал он самые чудодейственные строки в своей жизни? Фадеев — особая статья.
Он, Симонов, — тоже особая статья? И снова поймал себя на том, что подумал о себе, как об ушедшем. И в какой ряд себя поставил. Самобичевание или гордыня?
Все как будто есть: книги, фильмы, спектакли, не только его книги, но и целая библиотека книг о нем, недавно по его заказу исполнена библиография. Деньги, дом, дача — со стороны посмотреть, прямо как там, у них, «за бугром», — одна под Москвою, другая — на юге, на берегу моря, в Гульрипши... Потомства две ступени — уже у Кати с Васей дочка Дашка родилась. А он сидит вот в «нижнем» своем кабинете, в крохотной однокомнатной квартирке, куда, если верить злым языкам, сплавила его Лариса вместе со всеми его шумными друзьями и делами. Сидит и пытается, не без умысла, проникнуть в тайну смерти двух великих поэтов. И кажется, это ему удается наконец.
Несомненно, в смерти Маяковского и Блока есть общее. У людей такого масштаба, уже при жизни осознавших весомость своего имени в истории, есть интуиция, которая с определенного часа повелевает им жить уже не сегодняшним днем, а завтрашним. Их символическое, неподвластное тлену существование, представляется им истинно реальным, а реальное, житейское — призрачным, ненастоящим.
Маяковский перед смертью показал остающимся язык: «И не сплетничайте обо мне, покойник этого не любил». Написав такое, он еще два или три дня, как свидетельствуют попавшие К.М. в руки документы, жил нормальной, на взгляд окружавших его людей, жизнью, навещал друзей, флиртовал с Полонской, которую уже записал в число своих наследниц, состязался в остроумии с Валюном — Валентином Петровичем Катаевым...
Блок — другое. Своим завещанием он сделал последнее свое стихотворение — «Пушкинскому дому».
Вот зачем в часы заката,
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.
Ему — Пушкину, Пушкинскому дому, Петербургу, звонам ледохода, перекличкам пароходов...
Маяковскому в апреле тридцатого стало вдруг ясно видно, какой выбор ему предстоит. Пожертвовать либо именем, репутацией своей, либо свободой, а вместе с нею и всем созданным.
Он выбрал третье — расплатился жизнью. Если это и малодушие, как принято говорить о самоубийцах, то — особого рода.
Блока убило видение пропасти, разверзшейся перед ним. Смерть была избавлением и преодолением бездны.
Вот так бы и ему, Константину Симонову, перескочить одним махом через пропасть ошибок и глупостей, сотворенных за свою жизнь.
Одним махом. Но таким, чтобы «штаны трещали в шагу». У него оставался еще один способ рассчитаться с прошлым — снова писать о нем. Как сказано в Евангелии: «Доселе я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу...»
Просто рассказать, как все это было. Вернее, как он все понимал.
И как не понимал. Что видел. И что не видел. И почему.
Он вот сядет сейчас перед диктофоном, вставит чистенькую кассету, нажмет на нужные кнопки и начнет: «Я буду писать о Сталине, как человек своего поколения, поколения людей, которым ко времени XVI съезда, когда Сталин ясно и непоколебимо определился для каждого из нас как первое лицо в стране и во всем коммунистическом движении, было пятнадцать лет. Говоря о своем поколении, я говорю таким образом о людях, доживших сегодня до шестидесяти четырех лет... Репрессии тридцать седьмого — тридцать восьмого годов сделали в нашем поколении намного меньше необратимых вычерков из жизни, чем в поколениях, предшествовавших нам. Зато война вычеркивала нас через одного, если еще не чаще...»
Прокрутил ленту назад. Послушал записанное. Он отдавал себе отчет: то, что он сейчас собирается диктовать, не будет опубликовано при его жизни. Сколь бы долго или коротко она еще ни продолжалась. Это диктуется, во-первых, для себя, во-вторых, для будущих поколений, для будущих историков... Опять Маяковский: в такую ночь встаешь и говоришь — векам, истории и мирозданию. Покосился на диктофон — слава богу, не включен. Ему всегда казалось нелепым и нескромным сравнивать себя с великими, но бывало, что нелепой представлялась сама эта скромность. Так ли уж понапрасну жизнь вынесла его на гребень?! Как бы то ни было, теперь ему впервые, да, скорее всего, и в последний раз предстояла работа «в стол», есть такое устоявшееся, но не очень-то признаваемое им выражение. Впервые в стол, впервые для каких-то неведомых ему читателей будущего. О прошлом для будущего. Не назвать ли так будущие записки? Нет, назовем их проще: «Глазами человека моего поколения».
Нажал на кнопку. Продиктовал название. Потом дату, когда начал, — 23 февраля 1979 года. И снова задумался надолго. Некое суеверное чувство подсказывало, что приступить вплотную — все равно что кораблю колумбовских времен отойти от знакомого берега в поисках неведомых стран, без всякой надежды на возвращение.
Погрузившись в это всерьез, он уже ничем не сможет больше заниматься. А у него еще столько долгов. Пьеса «Мои четыре Я». Последняя попытка рассказать о прошлом «художественно». Вот они лежат перед ним, расшифрованные Ниной Павловной шестьдесят с лишним страниц машинописного текста. Первые надиктовки сделаны еще в семидесятом году. С тех пор работа стоит на месте.
Как-то недавно в одном, тысяча первом, наверное, в его жизни интервью он сказал в запальчивости, верный своей самоедской линии, что никакой-такой особой симоновской драматургии не существует. И что понятие «драматургия Симонова», таким образом, неправомерно. Приятно, конечно, было, что собеседница — это была известная писательница из ГДР — возражала ему, но он твердо стоял на своем, и так это в интервью в «Вопросах литературы» и появилось. Теперь вот листает страницы далеко еще не оконченной пьесы и думает: еще наброски, а уже есть настроение. Значит, существует все же особая, его, симоновская, драматургия?
Из чего оно возникает — настроение? Быть может, из того, что неотрывно присутствует время? Встретиться наяву с самим собой двадцатилетним, тридцатилетним, сорокалетним... Возвращение к себе самому, давнему всегда волнует, всегда окутано дымкой грусти. В груди — что-то вроде сбивчивого вздоха или взрыда. Это самое, видимо, и есть настроение.
Майор (тридцатилетний) Алексею Ивановичу (ему же, сорокалетнему):
— Ты все-таки разошелся с ней? Алексей Иванович:
— Разошелся. Ты же этого не сделал вовремя, пришлось мне. И гораздо позже.
Рябинин (они же оба — в пятьдесят):
— Оставим это.
Алеша (двадцатилетний, потому самый рассудительный):
— В самом деле, неумно при девке. Тоня (дочь всех четырех):
— Отец мне рассказывал.
Майор:
— Что он мог тебе рассказывать?
Рябинин:
— Я рассказал ей все, и оставим это...
Вот и фрагмент из этого рассказа Рябинина:
— Завидую людям, которые умеют ссориться, а потом мириться. Не умею. Двадцать лет назад так же, вдруг, расстался с женщиной — мне уж как-то пришлось объяснять тебе, как это было: поднялся со стула, пошел и больше никогда не видел.
Тоня:
— А в суде, когда вы разводились?
Рябинин:
— В суде уже были не мы, не она и не я, а совершенно другие люди. Потерпевшая и ответчик.
Его герои всегда недовольны собой, а на поверку оказываются лучше всех других — прямее, совестливее, самоотверженнее. Чем жестче, нелицеприятнее судит о себе герой, тем дороже он читателям и зрителям.
— Ну, а как ты поступал, когда кто-то из тех, кого ты знал, оказывался там, и надо было ему помочь?
— По-разному: бывало, что и звонил, и писал, и просил.
— А как просил?
— По-разному. Иногда просил войти в положение человека, облегчить его судьбу... Иногда было и так, что писал, что не верю, что не может быть...
— Были такие случаи?
— Да, был один такой случай. Именно так написал. А больше писал, что, конечно, мол, не вмешиваюсь, не могу судить, но прошу проверить... А дальше старался побольше написать всего хорошего, что знал о человеке...
— А еще как?
— А еще как? Ну, бывало, что не отвечал на письма. Два раза не отвечал на письма одному человеку. Поверил обвинениям. Он мне написал, а я не ответил. Он снова написал, я снова не ответил, не знал, что писать, колебался. Не мог. Потом, когда он вернулся, было стыдно...
Не заметил, как изменилось настроение. Когда диктовал это? Лет тому восемь назад. Каким обнаженным, бескомпромиссным казалось откровение героя. Сейчас перечитывает, и просится на язык другое слово — самолюбование.
Он — это был Рудольф Бершадский, зав. отделом фельетонов «Литературной газеты» в ранние 50-е годы, которую тогда редактировал Симонов. Рябинин в пьесе не назвал это имя, но автор так и не состоявшейся пьесы не забудет его до конца дней.
На Бершадского донесли, его посадили за то, что он не дал ходу двум фельетонам, проклинающим врачей-убийц, которых освободили сразу же после смерти Сталина. Еще через полгода вышел на свободу и Бершадский.
Так случилось, что в дубовый зал писательского клуба на улице Герцена он пришел в тот день и час, когда Константин Михайлович, Алексей Иванович в пьесе о четырех Я, выступал перед читателями. Пришел и сел в первом, как всегда в таких случаях, не занятом ряду...
Вот страничка о том, что Рябинину из пьесы, Четвертому, идет много писем из лагерей. Третий, то есть Алексей Иванович, спрашивает Четвертого:
— Что это они тебе вдруг стали писать?
Вопрос, конечно, с подковыркой. Эти четверо не церемонятся друг с другом. Странное это было ощущение — разгадывать свой собственный подтекст. Четвертый:
— Так вышло.
Если отважиться и перелистать сейчас собственные труды, сколько этих «так вышло» попадется на глаза. «Так вышло, что именно мне письма. Быть может, потому, что именно я написал первым рецензию для одной очень популярной тогда газеты об одной повести о лагерях. Повесть написал человек очень талантливый и очень пристрастный...»
— Видно, придется оставить до лучших времен.
Настанут ли они? Закончит ли этот невезучий труд, над которым бился без малого десяток лет?
Кажется, всего одна возможность осталась у него объясниться с временем — и со Сталиным, и с Солженицыным, — это исповедь без всяких там художественных прикрас.
«Прежде всего следует сказать, что рукопись, к работе над которой я сейчас приступаю, в ее полном виде не предназначается мною для печати...»
Подумал и добавил: «Во всяком случае, в ближайшем обозримом будущем». Ключевой, заявочной была и следующая фраза: «В прошлом году минуло четверть века со дня смерти Сталина, а между тем мне трудно вспомнить за все эти двадцать шесть лет сколько-нибудь длительный отрезок времени, когда бы проблема оценки его личности и деятельности так или иначе не занимала бы меня...»
Прежде чем сесть за диктофон, он, как обычно, проделал немалую предварительную работу. С помощью Нины Павловны разыскал в дебрях архива записи всех бесед в Кремле у Сталина. Как с ними работать? Был соблазн все это, перечитанное, подправленное стилистически, отдать на машинку. А там уж, держа перед глазами текст, комментировать его. Так он работал со своими военными дневниками. Но что-то подсказывало ему, что теперь такой путь не годится. Он боялся, что ему просто не хватит времени.
Врачи явно не говорили ему всей правды, но он сам, как никакой врач, знал, что состояние его тяжелое. Знал и тщательно скрывал от окружающих это знание. Толком помочь все равно никто не сможет, а от охов-ахов никому еще легче не становилось. Только наедине с Ниной Павловной, с которой по рабочей необходимости проводил времени вместе больше, чем с кем-нибудь другим, вырывалось что-нибудь рискованное. Не в обиду будь Ларисе, детям, она лучше других понимает его состояние. Пугается его и, чувствуя, что не в силах помочь, буквально трепещет вся при каждом новом ухудшении. Еще недавно сопротивлялась яростно, изо всех своих небольших силенок тому, чтобы он, например, работал с температурой, вставал раньше времени с кашлем и хрипами с постели, преждевременно выписывался из больницы, которая за последнее время, увы, стала почти вторым домом. Благо, в этой новой больнице на Мичуринском проспекте, куда его прикрепили с Ларисой как члена ревизионной комиссии КПСС, палаты как номера люкс в иной гостинице, и здесь вполне можно работать. Даже спокойнее, чем дома или на даче, до тех пор, пока твой очередной телефонный номер не доступен алчущим и жаждущим тебя. Как-то перебирали накопившуюся почту. Он с трудом поднялся.
— Что, К.М., ноги болят? Опять заболели колени?
— Все болит, Нина Павловна, все...
Для бодрости духа хлебнул — нет, не из фляги, прошли те времена — из термоса. Гадость жуткая. Он пьет, а у Нины Павловны, чувствуется, скулы сводит. Но вроде помогает. У него стало правилом считать, что все, что врачи предлагают, полезно. До тех пор, по крайней мере, пока бесполезность не станет совершенно очевидной и не начнет вредить. Как он сказал недавно Нине Павловне:
— Из больницы я каждый раз выхожу поздоровевшим, но мне становится все хуже.
Когда это началось? Формально, вероятно, в 1973 году. Он тогда серьезно слег, а там и угодил в больницу после хлопот с выставкой Маяковского. Открылся сильный кашель. Думали — простудился, надорвался немного с этой выставкой. Оказалось, хуже. Воспаление легких, и сильное. Вот тогда-то при исследованиях врачи и поделились с ним своим странным открытием. Они об этом сказали, как о чем-то ординарном — просто рабочий момент истории болезни. А его их сообщение поразило. Оказывается, его легкие непропорционально малы по отношению к габаритам его уважаемого туловища. Другими словами, их объема недостаточно, чтобы нормально, без натуги обслуживать естественные потребности организма. Так как аппетиты у него, у организма, немалые — это он уже сам себе домысливал, — то бедные его легкие все время работают как бы на сверхрежиме. Он всю жизнь, оказывается, стремился хлебнуть этого самого воздуха больше, чем вмещает грудь, больше, чем способен освоить. Отсюда и его предрасположенность к воспалениям легких, которые как раз после его первого свидания с больницей и пошли, одно за другим.
Но даже не это, не физическая сторона диагноза его озадачила, а то символическое, что послышалось ему в откровениях медиков.
Явившись однажды, мысль эта уже его не оставляла. За минувшие шесть лет и так ее переворачивал и эдак. Каков же итог?..
Все, что у него есть, добыто этими вот руками. Ну, и головой, соответственно. И легкими, если на то пошло. За все платил сам... Изнурительным трудом, к которому сам себя и приковал. За все, что было сделано в войну, и сейчас готов отчитаться. Как поется в его собственной песне: «С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом сквозь ветра и стужу мы прошли». Но приходит понимание, что, может быть, действительно только его поэзия военных лет и останется. Да еще военные дневники. Не драматургия, нет, и, увы, кажется, не проза... Бессмысленно было бы, конечно, даже самоубийственно предлагать в сорок третьем ту главу — из «Дней и ночей» для печати. Только шестнадцать лет спустя опубликовал ее в томах «Литературного наследства». Отпраздновал труса?
Но можно ли назвать трусостью, когда человек стоит на крутой скале, над бездной. Внизу бушующее море. И его тянет прыгнуть вниз. Всего-то качнуться вперед... Кому не известна эта тяга?
И он писал тогда эту главу с ощущением такой тяги, сладостного головокружения, которое делает человека способным на все. Может, в этом кружении и есть тайна творчества? Ну, а когда пришла пора решать, разум, естественно, сказал свое слово. Он не сжег и не разорвал главу, а отложил, хранил ее все сталинские годы.
Когда-то он прочитал: в одной из то ли африканских, то ли южноамериканских стран в деревнях поныне сохранился обычай: каждый юноша должен хотя бы раз взобраться на скалу над морем и броситься в кипящие волны. Императив, естественно, не юридический, а моральный. В конце концов, можно и не подниматься на эту скалу, тем более, что далеко не каждому, кто с нее прыгал, удавалось остаться целым и невредимым.
Он взобрался на скалу. Но не прыгнул...
Гроссман прыгнул. За время, которое минуло с той поры, когда зловещим способом конфисковали его рукопись, выяснилось, что уничтожить все экземпляры не удалось. Прав Булгаков, рукописи не горят. Роман уже после смерти Гроссмана напечатали где-то за рубежом. Он сам купил его, кажется, в ФРГ и прочитал. Поступком было написать такую вещь, хотя со многим он сейчас никак бы не мог согласиться. Поступком было то, что он не положил рукопись в стол, а отдал ее в печать. Взял и отнес, как ни в чем не бывало, в «Знамя». Не мог же он, действительно, не понимать, какую бурю вызовет его рукопись. Что если уж каким-то чудом и рискнет Кожевников поставить роман в номер, а это было практически исключено, то цензура, Романов не преминет устроить из этого скандал, нажить себе кругленький политический капиталец.
К.М. прокрутил пленку назад, прослушал, что получается. Спросил себя, а почему, собственно, это предназначается для каких-то будущих поколений? Почему он намерен послать это не в какой-нибудь журнал, например, в ту же «Дружбу народов», где Баруздин так ревностно сражался за публикацию его военных дневников, а в ЦГАЛИ — на государственное хранение? Он нажал на кнопку и продиктовал еще несколько уточняющих замысел фраз: «Что же касается тех или иных частей этой будущей рукописи, я заранее не исключаю того, что у меня может появиться и желание, и возможность самому увидеть их опубликованными».
За немногие оставшиеся ему месяцы жизни он возвращался мысленно к этим строкам и сардонически усмехался. Все учел, все рассчитал, кроме самого малого — здоровья.
Так с ним всегда. Чуть отпустит, чуть отступит болезнь, и кажется, уж навсегда. С этим ощущением он и диктовал первые страницы своих размышлений о Сталине. Начинал их в темпе бегуна на длинные дистанции. Неторопливо, но уверенно. Вступление, пролог, экспозиция. Несколько страниц о замысле, о сверхзадаче. Потом — о детстве, о юности. С одной стороны, это как бы лишь подход к теме, увертюра. С другой стороны, это твоя жизнь, может быть, самые чистые, светлые ее страницы. Тут не мысль, а чувство увлекает тебя вперед.
А чувство, как известно, стихия неуправляемая. Там, где нужно спешить, оно побуждает задержаться, где надо бы, наоборот, помедлить, не дает остановиться. Это всегда рядом, всегда с тобой — рязанские и саратовские мальчишеские будни, друзья и подруги тех давно канувших в лету дней. Машинально перебирал в руках специально отложенные фотографии той поры. Их немного по сравнению с более поздними временами. Здесь, рядом с его родителями и собственной матерью, — его первая, вернее, намек на его первую любовь. Пройдет несколько месяцев, и они расстанутся надолго, а тогда, когда он, невзирая на недавнюю ссору, пришел к ней прощаться, думалось и вообще — навсегда. В 1955 году они встретились. Вспоминали, как в ту пору повального увлечения самодеятельными спектаклями играли в пьесе об американских неграх, он — легендарного вождя угнетенных Джона Брауна, она — его невесту. Пришли к выводу, что именно такое распределение ролей и предопределило их взаимную влюбленность, которая в таких случаях завязывается как бы самопроизвольно. Обсуждали они эту тему, увы, без малейшего намека на смущение или волнение.
За несколько недель до того, как был сделан этот снимок, произошло то, что имело прямое отношение к теме его нынешних размышлений о Сталине. Вместе с матерью он поехал погостить к двоюродной сестре отчима в небольшую деревушку под Кременчугом и здесь оказался нечаянным свидетелем обыска в доме тети Жени, которая была замужем за бывшим генерал-лейтенантом царской армии, давным-давно уже безнадежно больным, в параличе, человеком.
«Не могу вспомнить, что же я думал тогда, как рассуждал, как объяснял себе все происшедшее, — исповедовался он безразличному ко всему диктофону. — Лес рубят — щепки летят, — так, что ли? Может быть, было отчасти что-то похожее на это самоуспокоение, сейчас кажущееся более циническим, чем оно ощущалось тогда, когда революция, переворот всей жизни общества был еще не так далеко в памяти».
Хорошее состояние духа и тела, с которым он начал диктовать свои мемуары, довольно быстро улетучилось. Появлялась, исчезала и снова появлялась температура. Опять начал мучить кашель. Болело в груди, в боку, ныла поясница. Он пытался просто не замечать этого. Но наступали минуты, когда продолжать манкировать болезнью, названия которой он так и не мог добиться у многочисленных своих эскулапов, уже было невозможно. Видела его состояние добрейшая Маруся, которая одна в эти дни на даче помогала ему по хозяйству. Несмотря на строжайшие запреты со стороны хозяина, она, конечно, известила Ларису, и та прибыла с категоричнейшим требованием вызвать врача, поехать в поликлинику или вообще лечь, хотя бы ненадолго, в больницу. Он-то прекрасно знал, как, впрочем, и она, что означает это — ненадолго. Сошлись на том, что он будет исправно выполнять все предписания, которые были сделаны ему раньше, — ведь ничего нового в его болезни нет. Потянулись дни, которые он делил между диктофоном, градусником, термосом с гадостью, настоянной на травах, и прочими снадобьями, совершенно бесполезными, как он все больше убеждался. Регулярность, с которой надо было принимать все эти лекарства, необходимость постоянно помнить то о пилюлях, то о каплях, то о полосканиях — все это выводило его из себя. Тем более, что, когда он забывал или делал вид, что позабыл об очередном сеансе, ему со свойственной ей железной методичностью напоминала Лариса. Логика ее была проста и непоколебима: если уж взялся лечиться сам, надо лечиться. В противном случае следует лечь в больницу.
Когда в диктовках дошло до сути, до первой его встречи с «живым» Сталиным, он находился в особенно раздрызганном состоянии. Слава Богу, что уже была проделана необходимая предварительная работа: он восстановил фамилии, которые в ту пору обозначал лишь инициалами, воспроизвел по памяти те места в беседах, которые в записях 47-52-го годов были до смешного прозрачно зашифрованы.
Задача, на первый взгляд, была простая: внести, «вмонтировать» в общее повествование текст этих бесед. Но вначале — просто перечитать все залпом, по возможности сторонним взглядом. Представить себе, какое впечатление все это произведет на читателя сегодняшних, вернее, завтрашних дней... Задача оказалась ему не по силам. Дойдя до того места, где Сталин спрашивает попросившихся к нему на встречу Фадеева, Симонова и Горбатова: «Ну, у вас, кажется, все?» — он обнаружил, со смущением и тревогой, что испытывает сейчас абсолютно то же самое чувство, которое владело им тогда, 13 мая 1947 года, и которое он запечатлел в записях сразу же после того, как привел сталинский вопрос: «До этого момента наша встреча со Сталиным длилась так недолго, что мне вдруг стало страшно: вот сейчас все это оборвется, кончится, да, собственно говоря, уже и кончилось».
Хотелось сидеть и сидеть рядом с Ним, в светлом большом кабинете, известном всему миру, смотреть и смотреть на Него, слушать Его и слушать. Теперь подмывало читать и перечитывать собственные строки о тех сидениях.
Но надо было и решать, как быть. Оставить ли все так, как было записано тридцать с лишним лет назад, снабдив, естественно, сегодняшними комментариями? Или вычеркнуть кое-какие, не идущие к сути дела подробности, сократить тексты записей, вообще дать их в пересказе?
Диктовать сейчас все как есть? Еще будет время и додумать, и дописать. Ой, будет ли? Попытаться совладать с материалом, организовать его с самого начала? Ощущение было такое, будто он снова стоит на крутой скале, у подножия которой бушует море. И снова кружится голова, и снова предательски манит к себе белая, пенящая гряда...
Ему предстояло вернуться к шести-семи самым тяжелым и неприглядным годам своей жизни, как это он понимает сейчас.
Радостным, деятельным, наполненным вдохновенным трудом, пусть и изнурительным, как ему все это представлялось, когда он их проживал, эти годы.
Вихрь событий, непрекращающееся пиршество поступков, замыслов, духовного возбуждения, Пора, когда он сделал свои самые страшные ошибки. Творил, ничтоже сумняшеся, то, что потом на всю жизнь лишило его душевного покоя, стало источником никогда не ослабевавшей тяжести на сердце, тоски в глазах, которую не утаить было ни буйными застольями, ни ночными редакционными бдениями, ни речами, ни миссиями за рубеж или поездками в братские советские республики.
А все началось, он теперь ясно видел, с той первой, проклятой, а тогда казавшейся благословенной встречи у Сталина в Кремле. Существо его по мере того, как он читал и перечитывал записи, и теперь раздваивалось. Разумом он был сегодняшний, Ветеран, даже завтрашний, с теми, для кого он все это пишет и кто прочитает все это лишь через много-много лет, душою — в том времени. И даже с тем временем. Алеша, Майор...
Как быть? В его работе немало еще будет, пожалуй, таких мест, где он, отдавая дань то ли ностальгии, то ли собственному упрямству, наверное, не сможет с ходу выразить так свою мысль, как бы это хотелось, чтобы она передала все оттенки его отношения к тому или иному событию или лицу. Невозможно, понимал он, в теперешнем его состоянии — сказать обо всем сразу и точно. А переделать — у него уже не будет времени...
Опять он одинаково деловито думает и о прошлом, и о будущем! О том будущем, в котором его-то уже не будет. Так какое ему дело до всего этого? И чего ради он убивает последнее свое здоровье, мучаясь над проклятущими страницами своей жизни, в который раз переживая их заново. Словно библейский пес, который возвращается на свою...
Но — странно устроен все-таки человек! — думая обо всем этом то вслух, для магнитофона, то про себя, он, упорно превозмогая застарелую, привычную уже усталость и многочисленные боли, продолжал диктовать. И втайне, где-то в глубинах своей души даже гордился собой. Потому что знал — уж на этот-то раз нет в его сомнениях и терзаниях ничего преувеличенного, показного, никакой даже перед самим собой рисовки. Все это — настоящее, такое настоящее, какого еще не было у него в жизни. И то, что происходило сейчас в нем, представлялось ему неизмеримо более важным, чем все, что он написал и еще напишет и продиктует.
Он попытался представить себе, а не могло ли случиться так, что он уже тогда отнесся бы критически ко всему, что говорил Сталин? Тут самый верный способ — попытаться вспомнить тех, кто тогда уже все понимал. Почему они, а не ты? Да и были ли такие? Пожалуй, с уверенностью можно говорить только о Мандельштаме. «А вокруг его сброд тонкошеих вождей...», 1933 год. Солженицын? Но когда его арестовали за переписку с другом, он и сам был удивлен: за что? То есть не видел греха в своем поведении. А там уж пошли особые университеты, лагерные. И там еще он долго был против Сталина, но за Ленина.
В конце концов, вполне могли арестовать и его, К.М., если бы нашли у него эти записи бесед в Кремле. Или даже гораздо раньше, до войны, когда незадолго до процессов мать оставила ему записочку — тебе звонили из «Известий» от Бухарина... Он догадался, что это о стихах, которые он послал, и долго всем показывал эту записку. Гордился. Пока... не грянул гром. Произойди с ним что-то вроде того страшного, что случилось с Мандельштамом и Солженицыным, наверное, и он относился бы ко всему по-другому. Если бы, конечно, ему, как Солженицыну, оставлена была такая физическая возможность.
А Пастернак? Ведь решение развернуть роман так, как это у него в конце концов получилось, пришло к нему не сразу. Скорее всего, после смерти Сталина. Он тоже весьма сурово относился к своему отцу, который был, по существу, эмигрантом. И когда выехал с делегацией на Запад, не захотел с ним встретиться. Трусость? Осторожность? Такой вывод сделать легче всего. На него сбиваются даже поклонники Пастернака.
Он будет, будет расшифровывать записи и диктовать свои воспоминания! Пусть даже и не успеет сказать все до конца. Даже с риском быть понятым превратно. Провести грань между страхом, подлостью, приспособленчеством и искренним заблуждением — мучительными поисками истины — вот в чем сверхзадача.
Почему это важно? Для кого это нужно? Да, для будущих поколений. Вернее, для тех, кто начинает жить сегодня и будет жить завтра. Для Кати важно. И ее Дашки. Для Саньки. Для нее особенно. Когда тебя не понимают — это всегда больно. Если не понимают враги — в конце концов, это их проблема. Если не понимают друзья — это ранит. Если не понимает самое близкое существо, родная дочь — это нестерпимо. С чем это сравнить? Только с кошмарным сном. Но сон рано или поздно кончается. Это же — ужас, который всегда с тобой.
Знакомые у Саньки все какие-то волосатые, расхристанные, как водится теперь у молодых гениев. Всех их просто хочется взять и отмыть. А между тем гонору, самомнения — хоть отбавляй. И разговоры всегда не о ком ином, как о Хайдеггере, Ницше, Маркузе, Гароди, а если из наших, то, конечно же, о Солженицыне, Зиновьеве, Цветаевой, Мандельштаме... И так о них рассуждают, словно это их близкие родственники, а ты, роющий землю носом из-за издания того же Мандельштама или Булгакова, вроде бы даже и не имеешь права к именам-то их прикасаться. Быть может, он преувеличивал. Лариса и Нина Павловна вообще называли все это фантазиями перегруженного воображения. Но он явно ощущал, что дочь отдаляется, уходит, а в кругу своих новых друзей, большинство из них — авторы пресловутого «Метрополя», даже как бы стесняется его.
Тут уж и чувство собственника, феодала начинало в нем пробуждаться. Жить, видите ли, на его счет не стесняется, по заграницам да по курортам с отцом и матерью шастать с отрывом, естественно, от учебы — не колеблется. Отсюда уж недалеко было и от упреков Ларисе. Права Нина Павловна — она всегда уступала просьбам дочери, а то и сама ее соблазняла поездками и покупками. И себя винил — поторопился выделить дочь, купил ей однокомнатную кооперативную квартиру, которую она теперь превратила то ли в салон, то ли в явку для таких же «младотурок», как сама. Младозасранцы — как любил называть такого рода публику Борис Полевой, которому за каждый номер «Юности» голову мылили то в «верхах» за ревизионизм и ересь, то в редакции, на летучках — за беззубость и конформизм.
Когда диктовал, сидя в Красной Пахре, последние фразы «Глазами человека...», физически чувствовал себя хуже некуда. Даже осознание того, что работа, такая важная для него работа, вчерне закончена, не придавало сил. Душил кашель. Выводила из себя мокрота, которую он теперь, по указанию врачей, обязан был сплевывать в специальную, в чехле, бутылочку. Как Твардовский.
Лариса, не в силах видеть такое его состояние, не спрашивая согласия, договорилась с врачами, что его кладут на Мичуринку. Ему объявила об этом как о состоявшемся решении. Ему сразу же почему-то полегчало. Прослышав об этом, потянулась на дачу молодежь. И Катя, и Алеша — совсем редкий гость. И даже Санька, что уж совсем подняло его настроение. Хоть отменяй больницу.
Сговорились провести вечерок в старом добром духе.
Лариса с девочками взяла все домашние хлопоты на себя. Все шло как надо. Радовались, что собрались. О больнице и не вспоминали. Наслаждались теплом, уютом, обществом друг друга. К.М. заставили «сделать мясо» на каминном огне, его «коронное», в лучших традициях. Была картошечка с селедочкой, с грибками, здесь же, вокруг Пахры собранными, под его руководством посоленными. Мясо, как водится в лучших домах Филадельфии, — от старших перекочевало это выраженьице к младшим — запивали красным грузинским, не имеющим, как и подобает настоящему вину, даже названия. Из Кахетии. Друзья прислали. Грузины плохого не пришлют. Ничего общего с тем, что в продаже. Он тоже себе и рюмку, и бокал поставил и даже делал вид, что пригубливает со всеми.
Словом, все шло как нельзя лучше, пока... Пока почему-то не заговорили... о Ницше. Санька, которая с малых лет привыкла читать больше того, что задавалось, наткнулась где-то у подруг на его «Автобиографию», проштудировала ее основательно и привезла с собой на дачу. Спросила его мнение. В вопросе ему послышался вызов. То ли она была не уверена, читал ли он, слышал ли вообще об этом творении Ницше, то ли, наоборот, была уверена в том, что если уж и читал, то наверняка осуждает. Наудачу он прочитал недавно эту вещь. Может быть, даже тот самый экземпляр. Так уж сложилось — книжных долгов у людей его поколения и его круга за жизнь накопилось немало. Теперь бушевала запоздалая страсть ликвидировать их. И когда что-нибудь из забытого, а главным образом — незнаемого попадало в оборот, прежде всего благодаря молодежи, то переходило в писательских «деревнях» из рук в руки. Словом, он был хорошо вооружен. Не только для того, чтобы поддержать разговор, но и чтобы ненароком дать Саньке по носу. Пусть не зарывается. Все как будто бы благоприятствовало такому эксперименту. Он сказал, что в этой работе великого немца много сильных мест, даже откровений, никак, правда, не связанных с основными постулатами его учения. Ну вот, например, прекрасное место о вдохновении, о его природе, о физическом состоянии человека, охваченного им. Но к чему — заключение: «Таков мой опыт в области вдохновения, и я не сомневаюсь, что должны пройти тысячелетия, чтобы кто-нибудь имел право сказать мне — это и мой также опыт».
Лариса, пока он цитировал Ницше, была на кухне. Дети встретили сказанное им вежливым молчанием: Алеше, возможно, это было просто не интересно, девочки, видимо, собирались с мыслями.
— Многое можно себе вообразить, читая эти строки, — продолжал он. — Одного не пойму — всерьез это сказано или с юмором. Хотя юмор, кажется, никогда не был сильной стороной Ницше. Хорошо, если просто с желанием эпатировать читателя. А может, это параноическая уверенность в себе человека, больного телом и духом?
— А зачем воображать, — с неуловимой гримасой превосходства подала реплику Санька, — когда существует по этому поводу огромная и исчерпывающая литература, и все это можно прочитать.
«И ты, конечно, уверена, что я ничего этого не читал?» — чуть было не сорвалось у него с языка, но вовремя спохватился. Во-первых, он действительно по этому именно поводу ничего не читал. А во-вторых, как-то нелепо было втягиваться в вечные пререкания.
— А зачем мне, собственно говоря, все это читать? — продолжал он со смешком, стараясь оставаться как можно спокойнее. — Я же ведь не собираюсь становиться специалистом по Ницше. Вспомни Цветаеву: «Мудрец, пойми, певцом во сне открыты закон звезды и формула цветка». Гипотеза «певца» может оказаться и глубже, и озареннее, если хочешь, ученых выводов всех специалистов по Ницше, этих «мудрецов», как он их сам называл, презирая.
Она сидела насупившись. Знакомая мина человека, которая как бы предупреждает: ты мне тут что хочешь говори, я с тобой все равно не соглашусь. Вся в мать.
Или это его фантазии? Мнительность? Надо постараться повернуть все на шутку. Не пропадать же последнему вечеру перед больницей.
— Словом, шагайте-ка на кухню и принимайтесь за посуду, — примирительно буркнул он, — не ждите, когда мать сделает все за вас.
Это был выход из положения, который они все охотно приняли и радостно сорвались с места. У него остался в душе осадок. Он не покидал его во сне и возник снова, когда собрались рано утром, перед отъездом — на завтрак. Все какие-то хмурые, раздражительные, взъерошенные. Торопливые, словно бы главное в жизни — выпить по глотку на скорую руку сваренного Ларисой кофе и погрузиться в машину. Толя приехал чуть свет и уложил в багажник весь его больничный НЗ, большую часть которого составляли машинка, диктофон и несколько завязанных тесемками папок с рукописями из архива.
Первые минуты, когда машина тронулась, молчали. И чтобы молчание это, которое К.М. все связывал со вчерашним разговором, не было столь заметным и тягостным, он попросил Толю включить приемник.
По радио Алексей Баталов читал «Войну и мир». «Когда человек видит умирающее животное, ужас охватывает его... Но когда умирающее есть человек, и человек любимый — ощущаемый, тогда, кроме ужаса перед уничтожением жизни, чувствуется разрыв и духовная рана, которая, так же как и рана физическая, иногда убивает, иногда залечивается, но всегда болит и боится внешнего раздражающего прикосновения».
«Войну и мир» он знал чуть ли не наизусть. Сейчас пойдет о гибели Пети. Что-то тревожное, предупреждающее послышалось ему в голосе Баталова. В самом этом совпадении... Чего, собственно, с чем? Он не мог бы выразить этого словами, но в том, что совпадение не случайное, для него не было сомнения. Он осторожно повел глазами вокруг себя. К счастью, никто, кажется, — каждый занят своими мыслями, — не услышал Баталова.
«После смерти князя Андрея Наташа и княжна Марья одинаково чувствовали это. Они, нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни. Они осторожно берегли свои открытые раны от оскорбительных, болезненных прикосновений».
— При мне ему операцию делали — по поводу саркомы, — это подал голос шофер Толя. Все в машине встрепенулись, сразу стало ясно, что не один К.М. слушает радио.
— Он почти два года в больнице лежал.
Все в семье знали, что под словом «он» Толя, Анатолий Георгиевич, всегда имел в виду одного и того же человека — Семена Гудзенко, Ларисиного первого мужа, Катиного отца.
— Ему потом еще две такие операции делали на мозге. Под местным наркозом.
Можно было подумать, что в семье не знали этой истории. Что Толя не рассказывал уже ее бессчетное количество раз.
— Он говорит: «Доктор, кончайте демонтаж. Займитесь монтажом. А то вы мне все мозги вытряхнете».
«Княжна Марья... первая была вызвана жизнью из того мира печали, в котором она жила...»
Характер у Саньки был такой, что, если она чувствовала себя правой, она уже не в силах была никогда, никому и ни в чем уступить...
«В конце декабря, в черном шерстяном платье, с небрежно связанной пучком косой, худая и бледная, Наташа сидела с ногами в углу дивана... и смотрела на угол двери».
Сын, Алеша, наоборот, был способен понять правду каждого и интегрировать ее с правдами других. И страдал оттого, что столь очевидное для него ощущение совместимости представлений не мог передать другим. Оттого бывал иногда груб и резок.
«Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что-то отрывается в ней и что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней».
Разуму было понятно, что вот артист Баталов своим голосом, словно бы созданным для толстовского слога, читает по радио страницы «Войны и мира». О том, как Наташа и княжна Марья, каждая по-своему, страдают и скорбят безутешно о гибели князя Андрея. Приходит весть — о смерти Пети.
«Графиня лежала на кресле, странно-неловко вытягиваясь, и билась головой об стену...»
Душой же, внутренним слухом воспринималось совершенно иное. Просто кто-то мудрый и всевидящий рассказывает тебе о состоянии твоей души.
«Наташа стала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее, с неожиданной силой подняла...»
Звуки баталовского голоса набегали волнами со скоростью и ритмом бетховенских аккордов из «Лунной», которую он так любил. Странным и нелепым начинало казаться, как это можно было вчера, да еще и сегодня с утра, придавать значение всяким пустякам, когда есть настоящая боль, когда грядет, быть может, самое страшное и к этому страшному надо подготовить и себя и близких.
Он, возможно, впервые в жизни ощутил настоящую, без подмесов, острую как игла жалость к себе. И к ним ко всем, сидящим в этой машине. Вдруг понял и испугался того, что понял: что все они тоже слушают сейчас Льва Толстого в исполнении Баталова и думают, должно быть, о том же, что и он.
Машина меж тем, минуя деревушки, милицейские будки, дубравы и березовые рощицы, все приближалась и приближалась к Москве и наконец остановилась у проходной больницы. Здесь детям предстояло выйти из машины и подождать, а ему с Ларисой въехать во двор, чтобы отдаться в руки чазовским эскулапам.
Снова больница. Та же палата на том же этаже. Легкий и удобный стол, на который он сразу же водрузил диктофон и папки с бумагами. Телевизор в углу. Но это только вечером. Днем у него на телевизор времени не будет. Врачи задушат процедурами и исследованиями. И работать надо. Под укоризненным взглядом Ларисы, которая помогала ему, облаченному уже в толстую больничную пижаму, устраиваться, он дотронулся до диктофона.
Вот и все. Можно прощаться. Пойти проводить Ларису до проходной. Помахать рукой девчонкам и Алеше.
Он любил оказываться снова в тех местах, где уже побывал однажды. Дико, нелепо, но склонность эта распространилась и на больницу. Вмиг переходишь из одного мира в другой. Полностью изолированный от первого. Потом — кому-то понадобишься ты, кто-то понадобится тебе. Начнутся звонки, визиты. Застучит машинка, закрутятся диски магнитофона. Но это — потом. А пока... Телефон молчит. Нянечки и сестры, неслышно проникающие в палату и так же незаметно исчезающие из нее — словно белые ангелы, навевающие покой и дрему. Ты один. Наедине с собой. Можно предаться мыслям и воспоминаниям. На счастье они далеки пока от всего того, что оставил он за порогом этой обители.
Вот, впрочем, и доктор. Старый знакомый. Невозможно сдержать улыбку. У этого долговязого, чуть ли не в два метра ростом детины прозвище — Малютка. Изобретение молоденьких сестер. Каждую беседу с пациентом Малютка неизменно начинает вопросами: «Ходите нормально? Мочиться не больно?»
Бог его знает, почему именно это так важно для него, но, получив утвердительный ответ, он радуется как ребенок. Право, невозможно пожаловаться ему на что-то — так огорчает его твое недомоганье.
Врач сказал, что сегодня же придет массажистка: начнем с первого же дня. Интересно, кто? О, смотрите-ка, та же самая, вот беда, забыл ее имя — круглая, румяная коротышка, вызывающая представление о надувном спасательном круге. Вместе с нею — смех, напоминающая о зубной пасте свежесть и прохлада молодого женского тела — давно забытое воспоминание, — облаченного в один лишь просторный, круто накрахмаленный халат. Руки у нее не по-женски сильные — массажистка, но мягкие, женские. И главное — речь, которая никогда не перестает литься. Певучий московский говорок, которым она за сеанс успевает поведать ему десятки различных историй, сообщить массу совершенно необходимых сведений. Ей приятно было, что ее слушают, не перебивая. Быть может, усмехался он про себя, она и профессию-то себе такую выбрала, что у партнера, то бишь пациента, нет другого выхода, как слушать. Уж слишком большим надо быть грубияном, чтобы попросить ее помолчать.
Она тем временем перешла к рассказу о муже. Поехал с дружком за город на «Жигулях». Колесо по дороге спустило. Надо менять. Дело позднее. Электровешки расставили, да не заметили, что фонарики не загорелись. Рефрижератор как ахнул — дружку голову как пилой. У мужа, он как раз в кабину сунулся, — перелом спины. «Я его через два дня только в Склифосовском нашла».
Неизвестно было, преследовала ли его старая знакомая своими рассказами какую-либо специальную цель, например, отвлечь пациента от мысли о его собственных болячках, но даже если и нет, ей это удавалось. Так уж он, К.М., устроен: давно утвердил себя в мысли, что его злоключения и проблемы — всегда пустяк по сравнению с тем, что происходит с другими.
— В Склифосовском палаты, Боже мой, — рассказчица загадочно хмыкает, — не то что здесь, у нас. У вас, — поправилась она тут же. — Кто стонет, кто на судне сидит, кто Богу душу отдает. Одному сломанную ногу положили в сырой гипс. Гипс начал сохнуть и давить. Он терпел, стеснительный был. Когда сняли — гангрена. Отрезали. Муж после аварии жизни не рад стал. Меня к себе две недели не допускал. Наложить руки на себя хотел. Кому, говорит, я такой калека нужен. Ничего, говорю, я тебе вне очереди массаж делать буду. Хоть три раза в день. Что ж вы думаете? Поставила на ноги за полгода. Из гаража, правда, ушел, в конторе работает. Нельзя ему тяжелое.
Невольно пришла на память доктор Вера. Героиня его военных романов и повестей. Доктор Овсянникова. Такая же была маленькая, только посубтильнее. Эта войны и не нюхала. Родилась, небось, лет десять после того, как она закончилась. А разве ее жизнь легче? Доктор Вера сражалась, как могла, за счастливое будущее. А такие вот, как эта молодая женщина, почти девчушка, в этом будущем живут. Ты тут лежишь «в сухоте, лепоте», как Маруся говорит, и думаешь, что так везде. Или не думаешь, а просто не вспоминаешь, что в других местах — по-другому. Нет, не зря она поправилась: не «у нас», а «у вас». Тема эта и у Малютки всегда на языке. Субъективно ему, как и массажистке Люсе, приятно было, конечно, работать в Мичуринке. Но чувствовалось, претило то, что создавало этой больнице нелестную репутацию в глазах широкой публики. Он с пламенем в глазах осуждал «еще бытующую тенденцию сбрасывать тяжелобольных — как правило, это престарелые родители ответственных работников — на сторону», т. е. в спецбольницы. И наоборот, с неожиданным юмором рассказывал о массовых заболеваниях жен тех же самых ответственных работников остеохондрозом. Как их словно ветром сдувало, когда им предлагали «для установления окончательного диагноза» — тут Малютка начинал давиться смехом — сделать пункцию спинного мозга.
Мичуринка существует всего два года. До этого была Кунцевская. А еще раньше — спецкорпус в Боткинской, куда его устраивал литфонд. Там все было неизмеримо скромнее. Случалось, что и по два, и по три соседа бывало у него в палате. Вспомнился молодой электротехник. Строго говоря, парню «не положено» было лежать в такой «высокопоставленной» больнице, но он был «из этой системы», и, когда заболел, его по-свойски положили именно сюда. Оказался он «тоже поэтом», и соседство профессионального литератора, которое обычно сковывает начинающих, его, наоборот, только воодушевляло. В своих стихах, которые он писал беспрерывно, главным образом выражал благодарность врачам и сестрам за заботу и внимание к нему, «человеку из народа». Когда его приглашали на укол, он напевал: «Эх, блокадушка, блокада, нам тебя побольше надо». Вновь поступавших встречал приветствием: «Спондилезом страдал один, ребра сломал другой». Себя аттестовал так:
Натурой буйный я бунтарь,
С душою чистой как янтарь
И с головою мудреца,
А с виду — смирная овца.
Тексты свои он прилежно переносил на бумагу, иногда с помощью машинистки из маленькой канцелярии отделения, а потом великодушно дарил тому, кому очередное четверостишие было посвящено. К.М. поразило, что его добродушная попытка подшутить, пройтись по поводу неутомимого версификатора, когда у него спросили его мнение о стихах, не встретила поддержки, наоборот, вызвала даже что-то вроде охлаждения со стороны сестер, нянечек и вообще всей медбратии. Им импонировало, что стихи пишет «свой», из их среды человек, а то, что вирши были пересыпаны благодарностями людям за труд, воспринималось со всей серьезностью. Неудавшаяся шутка К.М. была воспринята как покушение на некий, дорогой для этих людей мир, в который, он понял, ему не было хода.
Еще раз обострилось чувство неловкости за свое обособление от тех людей, ради которых он и трудился до крови и пота всю жизнь, до экземы нервной на руках, до этих зловещих хрипов в легких... Конечно, Боткинская и ЦКБ в Кунцеве — не «спецбольница с поликлиникой», как называют это циклопическое сооружение на Мичуринском проспекте, где он теперь находится. Но все же и они — «спец». И сколько в его жизни было этого спец, черт его побери. Вот бывшие спецпоселенцы, жертвы Сталина, проведшие года, а то и десятилетия в местах не столь отдаленных, гордятся теперь своим спецпрошлым. А ему и его коллегам по этим спецбольницам, поликлиникам, ателье, магазинам, санаториям гордиться, увы, не приходится. И не утешает, не успокаивает, что, собственно, все это было ему нужно для одной только цели — писать.
И как это получилось, что из обтрепанного, голоштанного субъекта — как они с Маргаритой Алигер покупали ему первый приличный костюм из первого гонорара! — из счастливого обладателя пятиугольной крошечной комнаты с покатым полом в довоенной Москве он превратился в некоего спецпотребителя всяческих спецблаг?!
Созерцательное, какое-то отрешенное, быть может, и под влиянием уколов, настроение первых дней в больнице постепенно стало улетучиваться. Как всегда, обнаруживалось, что от хлопот и передряг житейских, от забот его литературных, а главное, от прогрессирующего нездоровья никуда не уйдешь. Надо жить с этим. Жить или умирать? Поживем — увидим!
Потекли дни за днями. Когда болезнь схватывала за горло — и это, увы, был не образ, а мрачная реальность, — усиливался ток мокрот, прогрессировала одышка, становилось нечем дышать, он думал о неминуемой и скорой смерти. Когда болезнь чуть-чуть отпускала, старался заняться делом. Прикинуть хотя бы, что горит. Горели давно обещанные статьи, интервью. Но ничто не шло к рукам.
В одно из своих посещений Лариса обмолвилась о Гурзуфе. И правда, как он мог забыть? Они же должны были ехать туда отдыхать. В санаторий имени Пушкина. Санаторий теперь принадлежит военным, и они всегда приглашают его к себе. Потихоньку от главпура. Епишев не мог простить ему страниц о сорок первом. Да и многое другое.
На дворе — начало апреля. В Москве еще холодно и слякотно, хотя влажные порывы ветра и почки на деревьях в больничном саду уже напоминают о весне. Ну, а там, в Крыму, наверное, уже настоящая благодать. Врачи не возражали, а может быть, уже рукой на него махнули? Если чувствуете в себе силы... Морской весенний воздух вам только на пользу.
Словом, решили и поехали. Все хлопоты насчет путевок, курортной карты, билетов на поезд Лариса взяла на себя. Стоя у окна в купе, он помахивал рукой пришедшим проводить их Нине Павловне, Саньке, Кате, Марку Александровичу. Едет к морю. Отдыхать, набираться сил. На дворе уже вторая половина апреля...
Почти всю дорогу простоял у окна. Словно чувствовал, что на обратном пути будет валяться с температурой на полке. Навстречу бежали пустынные пока подмосковные дачные поселки, синеватые, как весенний снег по утрам под ранним солнцем. Тоже синеватые, но чем-то напоминающие украинские, хатки под Курском. Ничего уже нет, что бы напоминало о невиданных в истории сражениях, разразившихся здесь тридцать пять лет назад. Впереди, все ближе и ближе — Крым, Керченский полуостров, наизусть знакомые места былых боев и походов. Вот наконец и Симферополь, тоже насквозь исхоженный, сильно изменившийся. Не сказать, чтобы к лучшему, всюду эти — стекло и бетон — коробки в восемь, десять, четырнадцать этажей, испещренные рядами одинаковых окон. Единственная дань климату — вместо балконов лоджии, терраски, увитые уже начавшими зеленеть ветвями плюща и дикого винограда. Отсюда на машине — обком прислал — в Гурзуф. Санаторий имени Пушкина, знаменитый своим парком и кипарисом, которым любовался еще Пушкин. Знатоки уверяют, что тот самый. Кипарисы живут дольше, чем люди. Подумать только, что ствола этого могучего красавца касался Пушкин, в ту пору совсем еще мальчик, особенно по нашим нынешним представлениям. Сколько же лет прошло с тех пор, как К.М. побывал здесь впервые? В кипарисе не заметишь невооруженным глазом никаких перемен. Что ему десяток, другой лет! Заметил ли кипарис, во что превратился привязавшийся к нему похожим на дружество, по слову Пушкина, чувством частый его гость?
Добраться бы еще раз до Бахчисарая.
«Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы...»
Так было сказано в стихах. А в прозе, то бишь в «отрывке из письма Д.» все выглядело совсем по-другому: «Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан: из заржавой трубки по каплям падала вода».
То, что увидел К.М., побывав здесь впервые, было что-то среднее между пушкинскими описаниями в стихах и прозе. Хотели сделать эти места достойными поэтических восторгов гения, да до конца дело не довели. Лучше бы было, как при Пушкине.
Воспоминание о фонтане явилось теперь притчей, повествующей о таинствах поэтического восприятия, о праве художника на свое видение жизни. В своих трудах он всегда стремился к тому, чтобы жизнь была «фонтаном живым», а не «заржавой трубкой». Такой он ее видел. Что хотят, пусть то и делают с ним теперь резвые критики. Сегодня и в будущем...
Первые дни, когда самочувствие его, всегда благодарно реагировавшее на перемену мест, было получше, пролетели быстро. Ему опять стало худо. Может быть, оттого, что уехала Лариса. Ей надо было в Веймар на конференцию по Баухаузу. Она, правда, опасаясь за него, хотела было отложить поездку, но он знал, что такое для нее этот Баухауз и коллоквиум по нему, где ей предстояло выступить с докладом, категорически осудил ее капитулянтские настроения и почти силком усадил в машину.
Если говорить откровенно, была еще одна причина, побуждавшая его подталкивать Ларису к отъезду. Надеялся, что оставшись один, сможет и сам приняться за дело. Раньше у него не было такой проблемы. Мотор заводился с полуоборота. Теперь ему приходилось понуждать себя. И тлела надежда на перемену обстановки, окружения. Но вот Лариса уехала, а у него ничего не изменилось.
Время от времени звонила Нина Павловна. Спрашивала все больше о том, как гуляется да какая погода. Он с ней был откровенен:
— Задыхаюсь, ноги болят... И не работается...
— Ну, не насилуйте себя, придет желание...
— Вы думаете, еще придет?
Не надо бы такое, особенно на расстоянии. Знает же, что Нина Павловна все его болести переживает куда острее, чем он сам. И утешить ее некому. Некому предложить пропустить по рюмке водки.
Нет, работать он не мог. Мог только думать, чем и занимался, прогуливаясь в одиночестве по парку, по берегу моря. Мысль как белка в колесе крутилась вокруг оставленной в Москве надиктовки. Мучило, что он никак не мог воспроизвести в памяти собственные рассуждения. Сцены встреч со Сталиным, перенесенные в рукопись почти один к одному, стояли ярко. Наверное, потому все-таки, что он драматург, а не философ. Но ведь то, что он пишет, не роман.
Жалко было, когда диктовал, упустить что-то из деталей. Почему они ему представляются такими важными, эти детали? Большой человек, вот и кажется, что всякая замеченная мелочь о нем важна и драгоценна. Он и сейчас считает его великим. Великим и страшным.
Снова и снова перебирал в уме монологи и диалоги, которые, особенно после диктовок, помнил, казалось, наизусть. Диалогов, впрочем, не было. Самое большее, что они могли позволить себе тогда, — это ответ на вопрос Сталина. Как правило, очень лаконичный, часто, от волнения, сбивчивый.
Он считал, что эту атмосферу, как к ней ни относились, он должен передать. Это и есть то, что называют историей. Задача, однако, состояла в том, чтобы передать эту атмосферу и, одновременно, высказать свое сегодняшнее отношение к ней. Апатия, просто-таки аллергия на работу, его угнетала больше, чем все усиливающееся физическое нездоровье. Быть может, это — воздействие материна? Сопротивление его? Обычно он не испытывал страха перед листом бумаги. Только приняться за дело. То, что не удавалось с первого раза, с первой диктовки, словечко это он все чаще употреблял вместо слова писать, то непременно получалось уже со второго, когда он, бывало, усаживался с текстом в удобном кресле, с трубкой или сигаретой во рту. Пока же получился пересказ событий, прямым или косвенным участником которых он был.
Жаль, нет под рукой текста — проверить себя. Нет, хорошо, что нет. Он все-таки правильно сделал, что не взял его. Иначе опять втянулся бы в его воронку. Никак не предполагал, что то время еще столько власти имеет над ним. Теперь, когда столько пут разорвано, столько слоев пелены сорвано с глаз. Ностальгия? Но можно ли тосковать по страху? Сожалеть о сломанной клетке? Лить слезы по духовным кандалам, которые столько лет срывал, срывал и все не мог сорвать с себя.
Пусть, пусть читают и видят, какими слепцами мы в ту пору были. По крайней мере, меньше будет желающих повторить наши ошибки.
Состояние его, и физическое, и душевное, не становилось лучше. Не радовало прочно установившееся жаркое крымское лето, мерный шум прибоя за окном его просторной палаты, даже старый друг, пушкинский кипарис, все с большей укоризною взирал на него, вопрошая: «А что это ты тут делаешь?»
При очередном звонке Нины Павловны он сказал, что отказался от каких-либо продлений путевки и собирается выезжать в Москву. Уже через день к нему прилетела Санька. Он обрадовался ей, но подумал, что, видно, не он один смотрит так серьезно на свое положение, коль близкие считают, что нужен провожатый в дороге. Решил все же пожить еще в Гурзуфе недельку, чтобы дать Саньке возможность порезвиться в море и на солнышке.
В начале июля были уже в Москве, а дней через десять после возвращения снова угодил на Мичуринский проспект. Что-то ему говорило, что живым отсюда уже не выйти. Нине Павловне сказал бодрым голосом, возвращая ни разу не раскрытые в Крыму папки:
— Вы подождите, Нина Павловна, их раскладывать, они мне после больницы будут нужны. Буду над ними работать.
В больнице в первые дни, как всегда, тишина и покой. По медицинской части — пока лишь анализы, в основном безболезненные и необременительные. Кровь из пальца, кровь из вены. В ванной — стеклянный флакон и горшок. Тоже дело известное и привычное. Кардиограмма, давление каждые три часа и так далее. Продолжительные, но мирные собеседования с врачом. Как обычно с ним бывает на новом месте — ему чуть лучше.
Но он не обманывает себя. Он знает, скоро рекогносцировка врачей сменится тотальным наступлением. Где-то, то ли у Фрейда, то ли у кого-то из его последователей он наткнулся на такое выражение — сублимация. Не находя удовлетворения на главном, избранном им направлении — в работе, в образе жизни, человек ищет компенсации на боковых путях. В работе это может быть хобби, в быту— любовница... У его эскулапов с ним — что-то подобное. Ему нечем дышать. Он беспрерывно надрывно кашляет. Постоянно набегает мокрота, которую он сплевывает в осточертевшую флягу. Казалось бы, ясно. Легкие. Ищите в легких, лечите легкие, дыхательные пути — если можете. А не можете, оставьте в покое. Так нет, они щупают ему печень, интересуются состоянием почек, какими-то длинными резиновыми трубами собираются лезть в прямую кишку. Колоноскопия называется. Назначили на послезавтра. А перед этим, в качестве подготовки — клизмы, бесшлаковая диета. Да, затишью на медицинском фронте приходит конец...
Телефон молчал два дня. Блаженная пора. Потом зазвонил. Не брать, отключить? А вдруг это Лариса — вернулась со своего коллоквиума из Веймара? Или Нина Павловна? Она собиралась поехать в отпуск, захочет, наверное, попрощаться. Не вытерпел, взял трубку. Вот черт, никакая это не Лариса, не Нина Павловна, не Санька. Наум Марр из «Литературки». Вездесущий и всепроникающий. У него задание Чаковского. Хочет напомнить, что приближается юбилей Халхин-Гола. Предполагается, что он, К.М., как и раньше, полетит в Улан-Батор, в редакцию уже поступило приглашение ему от Цеденбала. Так вот, хорошо бы перед отлетом — интервью! «Прилетишь с газетой в руках».
Молодец Наум, что позвонил. Напомнил. А то просто было бы неудобно. Дата-то ведь круглая. Сорок лет. Нет уж, полететь он, видит Бог, никуда не полетит. Но интервью надо будет ему дать. Только вот выдержать Марра в течение часа, другого и в хорошую-то пору бывало невмоготу. Взгляд привычно устремляется на диктофон. Пора, пора уж его распаковывать. Ты вот что, Наум, ты сочини и пришли ко мне вопросы сюда, а я... Впрочем, нет. Сделаем проще. Будем считать, что вопросики свои ты уже задал. Не так уж и трудно вообразить себе, о чем ты собираешься спросить.
Давно забытая улыбка промелькнула под усами. На том конце провода тоже, судя по всему, обозначилась довольная ухмылка.
— Словом, я все это надиктую на машину. Пошлю тебе. Ты послушаешь. Если не хватит, заедешь — доспросишь.
Марр доволен. Он, конечно, огорчен, что К.М. не удастся принять участие в поездке в Монголию — теплая, между прочим, компания собирается, но он рад, что все так хорошо решилось с интервью.
— Будь здоров, старик (у Марра все «старики»), выздоравливай.
Буду, постараюсь! У него на всю жизнь эта слабость к газетчикам.
Через некоторое время снова звонок. После минутного колебания берет трубку. Слава Богу, это Лариса. Вернулась-таки со своего Баухауза. Да-да, там все в порядке. Доклад? Прошел с огромным успехом. Как у тебя? Я сегодня распаковываюсь, привожу себя в порядок. Завтра буду. Пропуск? Да не надо мне никакого пропуска. У меня же постоянный. Ты что, забыл? Да, забыл, грешным делом.
Назавтра приехали вместе с Ларисой Нина Павловна, Марина Бабак и Марк Александрович. Если честно, двух последних он сам пригласил. Были вопросы в связи с фильмом, который они делали о Халхин-Голе. Нина Павловна приехала попрощаться — отправляется в отпуск. В Репино. Счастливые денечки мы там с вами когда-то провели, К.М. Помните? Шутливо нахмурился, покосился на Марину, на Марка Александровича: «Вы хоть не все наши секреты-то выдавайте, Нина Павловна». Все обрадованно засмеялись: шеф шутит, значит, дела не так уж плохи.
От Марка Александровича узнал, что в травматологическом лежит Панкин. Привезли, вот ужас-то, с переломом позвоночника. Оказывается, гонял на лошади где-то на даче у Славы Федорова, глазной знаменитости. И сверзился.
Положил на завтра зайти к нему.
Странное это получилось свидание. Пришел навестить попавшего в беду товарища, а в глазах у него прочитал сочувствие себе. Невольно бросил взгляд в зеркало. Ах, вот оно что. Они довольно давно не виделись. Бог ты мой! Землистый цвет кожи на провалившихся щеках. Обтянутые скулы. Запавшие, словно исплаканные глаза — похож на больную птицу.
— Почему у вас сегодня глаза печальные? — спрашивала часто Нина Павловна.
— А они у меня всегда печальные, разве вы не замечали? — отвечал обычно он.
Что-то толкнуло его почти на пороге палаты поделиться с Панкиным планами своего излечения. Сказал, что настаивает на так называемой выкачке. Ему порекомендовал сделать ее знакомый специалист из Швейцарии. Выкачка — это когда специальным зондом прямо сквозь ребра проникают тебе в легкие и выкачивают оттуда всю эту гадость.
Заметно было, как Панкин, сам только что перенесший вторжение в спинной мозг, напрягся.
— Надо попробовать, — закончил К.М., — надо попробовать. Иначе нет никакого смысла.
Спроси его в ту минуту кто-нибудь, что, собственно, он имеет в виду под этим, затруднился бы ответить: то ли дальнейшее пребывание в больнице, то ли саму жизнь.
Есть нечто завораживающее, притягивающее и пугающее одновременно в подготовке больного к операции. Его предупредили о ней накануне, а на следующий день с самого утра в палату стали входить и выходить люди в белых и зеленых, цвет хирургии, халатах. Взяли кровь, измерили давление, сняли кардиограмму. Он с тревогой ожидал показаний: любое отклонение от нормы может побудить врачей отложить операцию. Сообщают наконец, что никаких противопоказаний нет и операция состоится сегодня, скорее всего, часа через полтора-два. Там, в операционной ему сделают полный наркоз, а пока дают какую-то таблетку — рассеяться, забыться в мыслях, как определила мелькнувшая на минутку вездесущая массажистка Люся. Он быстро впал в странную — полуявь-полусказка — дрему. Через короткий промежуток дали вторую таблетку— оказалось, что операционная освободится чуть позднее, чем вначале предполагалось. Сладостное состояние усилилось. Таблетки, по-видимому, обладали каким-то воодушевляющим воздействием. Он просто-таки видел, как по-молодому заблестели у него глаза, разрумянились, не лихорадочным, нет, нормальным, молодым, румянцем щеки, углубилось, стало легким дыхание... В голове появились высокие, смелые, стремительные мысли. Одна умнее и бескрайней другой. Он тут же пожалел, что не может их записать. Потом ведь забудет. И чуть было уже не сорвалась с его губ просьба о ручке и блокноте. Но поняв, насколько нелепо она прозвучала бы, только улыбнулся. Никто из окружающих даже не спросил, чему это он радуется в такой неподходящий момент. А мысли его продолжали лететь, кружиться, устремляясь, словно жаворонки в весеннем небе, все выше и выше. Самое большое, что он может сейчас сделать, чтобы не утерять их, сосредоточиться на главном, что его сейчас волнует. А что его волнует больше всего? Конечно, «Глазами человека моего поколения». Вот и надо думать об этой работе. Если думать очень настойчиво, главное обязательно останется в памяти, невзирая ни на какой ожидающий его наркоз. Мысли, словно бы обрадовавшись, что им найдено правильное применение, с еще большей силой взмыли вверх. Чем-то все происходившее с ним напоминало полет булгаковских Маргариты и Наташи. Только у тех было желание озоровать, хулиганить, а у него — смотреть и думать. Вся земля, словно гигантская географическая карта, раскинулась теперь под ним, и вся его жизнь была ему видна от начала и до конца. И об этом подумалось без всякой горечи, потому что, в сущности, он уже выполнил свою миссию на земле, плохо ли, хорошо ли, но выполнил. А главное, он теперь знал, каким должно быть его последнее творение. Вот сделают ему сейчас эту операцию, он получит передышку и с чистыми легкими сядет и напишет или продиктует все, что теперь в такой стремительной, но строгой и ясной последовательности приходит ему в голову.
Бог ты мой, как же это было глупо — посвятить свои воспоминания Сталину, вернее, вот так выдвинуть его на первый план. Значит, он до сих пор не освободился от злых его чар, от этого злого магнетизма, который преследовал его всю жизнь. Чепуху говорят те, кто утверждает, что раскусить, мол, Сталина не составляло большого труда, и поклоняться ему, кадить, лить елей, как в таких случаях выражаются, можно исключительно из карьеризма или из жалкого и ничтожного чувства самосохранения. Зачем же тогда он, К.М., написал ту передовую в «Литературке» уже после смерти Сталина, где призвал, он и сейчас это помнит наизусть: «во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех народов»? Зачем он взял из редакции и повесил у себя дома его портрет? Ведь тогда уже ясно становилось, что роза ветров изменилась, что никому он не угождает, а идет явно против течения. Не случайно, когда Хрущев потребовал было немедленно убрать его, К.М., из «Литературки», он, начав уже собирать в кабинете бумаги, чувствовал себя страдальцем за правое дело. Все это были те самые злые чары, то самое колдовство. Как же он счастлив сейчас, когда пелена спала с его глаз, путы, сковывавшие разум, словно железный обруч — голову, ослабли и распались. Он теперь все видит, все понимает. Успеть бы только это понимание донести до чистой страницы.
Он не заметил, как очередная стайка белых и голубых халатов оккупировала палату. Привезли каталку, на которую помогли ему перебраться, хотя он вполне мог бы сделать это сам, без всякой посторонней помощи. Теперь поехали, головой вперед. Миг — и пересечена граница между палатой и коридором. Для сестер, этих вот смешливых девиц, которые везут его и судачат дорогой о кофточках, сумочках и прочих безделушках, происходящее — рутина, для него — бенефис. Он направляется на операцию, которая возвратит ему силы, и тогда выплеснется все то, что сейчас у него в голове и на сердце.
Путь каталки не далек. Первая остановка — лифт. Здесь — на два этажа вверх и через лестничную клетку снова — в коридор. Когда-нибудь, может, понадобится все это описать, поэтому взгляд сосредоточен, память начеку. Справа — окна, слева — череда дверей... Впрочем, нет, нельзя отвлекаться от главного. Главное в том, что он только что открыл. Что же он открыл? Да то, что жить надо было совсем по-другому. Надо было всегда слушаться первого зова души, первого чувства. Оно у него всегда было правильным. Потом уже начиналась интенсивная обработка этой первой реакции. Когда приехал на Беломорканал, он содрогнулся, осознав, что за колючей проволокой здесь находятся совершенно нормальные, порядочные люди, которые не нуждаются ни в каком перевоспитании. Они сами кого хочешь могут воспитать. Вот бы и послушаться тогда этого своего ощущения, ужаснуться и об этом ужасе написать. А когда арестовали его теток, маминых сестер и еще многих из родни? Тут-то что было неясно? Кому не верить? Кого подозревать? Мать, которая рвалась к сестрам в Сибирь и укоряла себя, что не с ними? Как будто бы она была виновата в том, что ее не арестовали — жила в эту пору не в Ленинграде, а в Москве.
Роковой клубок, за один конец которого он ухватился, продолжал разматываться в сторону истины.
Дальше, дальше... К сегодняшним дням скользит разогнавшаяся мысль, выстраивая цепочку бесчисленных фактов и случаев, и каждый вопиет о том же. Догадывался, не мог не догадываться. Видел, знал... Ходил по краю пропасти с пеленой на глазах. Отводил их. Зажмуривался.
Мысли одна отчаяннее другой приходили ему в голову, но ни одна уж, не в пример прошлому, не способна была его напугать. Вот оно. Он и раньше боялся не фактов, не свидетельств, боялся собственной мысли. Даже наедине с собой не отваживался посягнуть на идею. Идеей была революция, новая жизнь, торжество социализма в мире, и Сталин был олицетворением всех этих понятий. Горький сказал, что идея тогда только дорога, когда превращается в чувство. А чувство — это уже реальность, физика. Это боль, наслаждение, тепло, холод. Слезы, биение сердца, давление в сосудах, частота дыхания. Было так: расстаться со Сталиным — расстаться с идеей. Расстаться с идеей — расстаться с самим собой, зачеркнуть все тобою прожитое и сотворенное. Вот оно! Вот на что у него никогда не хватило сил посягнуть, пока он жив. Был жив...
Он потянулся было рукой к диктофону — нажать на кнопку и продиктовать, но рука лежала бессильная. Он, словно во сне, не мог пошевелить и пальцем.
Это и было во сне, только в искусственном. В ту минуту он только-только начал приходить в себя после наркоза. А как доехал на каталке до операционной, как вводили в него этот самый наркоз, и не уловил. Не уловил грани между явью и сном. Казалось, продолжал бодрствовать и мыслить, одновременно легко и лихорадочно, до того самого момента, когда ему сказали: «Ну, теперь попробуйте встать. Голова не кружится?» Теперь явь казалась продолжением сна. Было кружение головы, но он не признался. Своими ногами, с согласия врачей и под их надзором, отправился в палату.
Внутренний заряд оказался сильнее наркоза. То, что накапливалось, собиралось годами, открылось. Прорвало, как плотину или природную запруду в горах.
Он был оживлен и жизнерадостен, прогуливаясь на следующий день по дорожкам больничного парка в компании Саньки, Тимура Гайдара и Панкина, которому разрешили первый раз выйти на прогулку.
— Дышу свободно, знаете ли, а это не последнее дело в жизни! — повторил он со вздохом облегчения.
Жаль, что Лариса, которая тоже на днях попала на Мичуринский, не могла к ним присоединиться: врачи заподозрили у нее микроинфаркт. Когда проходили мимо ее окон, помахал рукой. Мелькнул бледный, размытый стеклами абрис лица. Он шутливо выпятил грудь — увидит, какой он бравый, и полегчает.
Он никому, даже Ларисе не сказал, что следующая выкачка назначена на послезавтра, на пятницу. То есть будет не через неделю после первой, как вначале предполагалось и как все думали, а через два дня. Он сам на этом настоял. Зачем терять время, если подействовало так хорошо? Столько дел впереди.
И снова была палата. Подготовка. Уколы, каталка, щебечущие, как птицы в лесу, сестры... Снова — наплыв, половодье мыслей, одна грандиознее другой. И провал. Из которого он выходил, но так и не вышел. Началась агония, которая длилась две недели...
Когда смерть наконец явилась как избавление от мук физических и душевных, он взглянул ясно и безбоязненно. Ни с чем не сравнимое чувство. Но о нем никому уже не поведаешь — ни Ларисе, ни Нине Павловне, ни диктофону.
Не испытав, мы можем о нем догадываться. А испытав, никому уже не можем рассказать.
ЭПИЛОГ
Чуть свет я включил радио. Траурное сообщение прозвучало ближе к полудню: после тяжелой и продолжительной... видный и выдающийся... лауреат Ленинской и Государственных премий... Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище...
Что было потом, Лариса записала в дневнике: «Девятый день — у нас дома. Урна с прахом стояла в шкафу у него в кабинете, в той же комнате, где мы его поминали.
На десятый взяли ее, сели в машину и поехали завещанным путем — из Москвы через Малый Ярославец, Медынь, Рославль, Кричев... По Могилевскому шоссе, в Могилев, на то поле в Буйниче, где дрался Кутеповский полк, в шести километрах от города. Там на закате солнца, в восьмом часу вечера мы открыли урну, и лично Алеша это сделал, и, взявшись за руки, прошли по полю и развеяли его прах: я, Алеша, Катя, Саня, Вася, Маша, Нина Павловна...»
Было, оказывается, завещание 76-го года, потом января 79-го, потом апреля 79-го... Письмо в Союз писателей несколько раз переделывалось и так осталось недописанным. Пожелание, вернее, воля, чтобы тело было кремировано и прах развеян по ветру в Могилевской области, созрело уже давно и было хорошо известно близким его. Для официальных лиц это оказалось неожиданностью — Лариса не рискнула сказать об этом в Союзе, потому что много было случаев, когда последняя воля нарушалась властями.
Они поехали и развеяли. Когда вернулись, пошла к Зимянину. Кинулась в ножки. Он сам белорус, воевал в партизанах. Хоть и секретарь ЦК, но все понял. В Союзе писателей узнали, когда все уже было сделано. Кто-то ей сказал: «Вы нас обманули».
В год его смерти не было, кажется, человека, который, узнав о ней, не погрустил бы. Весь народ вздрогнул. Прощались со спутником жизни не одного поколения. Многие думали, что он был старше, чем на самом деле. Скорбь была не та, с которой провожали в последний путь Шукшина, а потом Высоцкого — без надрыва и отчаяния. Ровнее, философичнее. «Все трещины социализма прошли через сердце поэта» — на свой лад сформулировал это Женя Евтушенко на страницах «Огонька», где в пределах одного столбца перебрал все взлеты и падения Симонова. Сказанное в прозе он тут же перелил в стихи:
Ко всему, что оплакал и не оплакал,
Возвращался поэт благодарно развеянным прахом.
Ну, а если поэт и виновен был в чем-то когда-то,
То пред всеми людьми дал развеять себя виновато.
У Андрея Вознесенского тот же мотив прозвучал неожиданно в поэме... о Поле Куликовом:
Так русский поэт полтыщи лет
После,
Всей грязи назло —
Попросит развеять его в чистом поле
За то, что его в сорок первом спасло.
Постепенно, и все настойчивее, это уже с началом перестройки, зазвучали другие ноты. Вот Даниил Гранин вспоминает, как уже после смерти Сталина в Ленинграде устроили еще одно судилище над Зощенко, который рискнул опровергнуть десятилетней давности обвинения, и Москва посылает в Питер навести порядок Симонова. Наш брат-фронтовик, — размышляет Гранин, — любимый поэт нашей окопной жизни. Мог похерить эту возню, а он...
Первую любовь не забываешь. Первое разочарование тоже. Вот Владимир Дудинцев снова, как и в пору «оттепели», одаривший нас на старте перестройки бунтарским романом, рассказывает в интервью, как Симонов печатал в «Новом мире» его «Не хлебом единым», каким смелым редактором и блестящим тактиком он себя показал.
Одно интервью автора «Не хлебом единым» и второго, только что опубликованного романа «Белые одежды», другое, третье... Акценты незаметно, как стрелка на часах, смещаются, и вот уже вместо храброго редактора перед нами перестраховщик: роман крамольный напечатал, а автора его за непричесанное выступление раздолбал.
Если уж такой кремень, как Дудинцев, дрогнул... Наши поневоле редкие встречи с Ниной Павловной между тем продолжались. Теперь уже, как правило, у нее дома. Маленькая однокомнатная квартирка в писательском кооперативе, которую для нее с Юзом выбил у Моссовета К.М.
Так она и жила одна, под двумя портретами — один К.М., другой — Юза.
Еще в Красноярске, когда освободили, муж подарил его с надписью: «Моей Маше, почти Волконской от ее реабилитированного мужа». Всю жизнь, с самой свадьбы звал он ее Машей.
Как-то, когда она еще ходила, как на службу, в «верхний» кабинет, она призналась мне, каких ей это душевных усилий стоит — сидеть в полном одиночестве, слушать звенящую тишину.
Последние дни работы находиться в квартире было особенно тяжело. С ночи не находила себе места, когда надо было отправляться туда. Шла уже подготовка к переселению Катиной семьи. Она чувствовала себя, как на крохотном острове весной, в половодье. Словно некрасовский заяц.
— Скоро заканчиваю, — сказала она как-то Васе.
— Давно пора, — подбодрил он ее молодецким полковничьим баритоном.
И понимала, что жизнь она и есть жизнь, и свое берет по праву, и больно было видеть, как исчезают последние следы былого быта.
— Лариса, когда завещала все Кате, была уверена, что кабинет сохранится в неприкосновенности. А там теперь будет комната Даши. Стола уже нет. Стол отправили в Литературный музей. Тумбы оставили, а полотно отправили. Когда стол выносили, у меня было такое чувство, словно второй раз хоронят Константина Михайловича.
Теперь уже каждый наш разговор с Ниной Павловной, по моем приезде из Стокгольма, где я нес службу посла, начинался с ее вопроса, звучавшего почти словами классического романса: читали ль вы?
— Как не читали? Я «Новый мир» не смогла выписать. Мне вчера позвонили и прислали. Золотусский. Это ужасно, просто ужасно, что он пишет...
А он пишет, что «К. Симонов, думая закончить цикл романов о Серпилине битвой за Берлин и намереваясь показать трагедию этого события (так он мне говорил в 1966 году), завершил их случайной смертью своего героя, которому в условиях уже нового исторического этапа (хрущевские свободы кончились) не следовало чересчур много знать и слишком о многом думать».
Мы сидим и разгадываем этот ребус. И я пытаюсь успокоить Нину Павловну рассуждениями о том, что это же нонсенс — критиковать писателя не за то, что он написал, а за то, что он не написал.
— Можно, — говорю я Нине Павловне, — спорить или соглашаться с писателем, рассуждать о его пристрастии к тем или иным темам, но смешно видеть здесь какой-то криминал, хотя бы и морально-литературный. Это уже отдает тем, с чем Золотусский сам борется.
— Вы правы, — говорит слегка успокоенная Нина Павловна. — Но ведь Золотусский не только об этом пишет. Вы все читали? Вы внимательно читали? Он возмущен тем, что романы Симонова, видите ли, стоят в представлении читателя «на одной доске с Гроссманом», Виктором Некрасовым, Василем Быковым...
Я все, конечно, читал, и внимательно. Но просто не хотелось лишний раз расстраивать Нину Павловну. В утешение я показываю ей напечатанное в «Литературке» выступление Евтушенко на съезде народных депутатов, где он в пух и прах разносит «идеологических пожарных», которые «из всех шлангов поливают лучшие книги о войне: «В окопах Сталинграда» Некрасова, «За правое дело» Гроссмана, «Мертвым не больно» Быкова, военные дневники Симонова».
Нина Павловна не видела еще этот номер газеты, что-то слышала по телевидению, и теперь жадно впивается глазами в нонпарельные строчки.
Следующий раз мы с ней вместе читаем интервью Юрия Любимова в «Известиях» о том, как рождался Театр на Таганке и как уже после первого спектакля его попытались закрыть. «Спасла статья Константина Симонова о "Добром человеке из Сезуана". Спасли рабочие двух заводов — "Станколита" и "Борца". Их наши доброхоты позвали на спектакль, чтобы они от имени всего пролетариата, так сказать, заявили, что такое искусство народу не нужно, а они посмотрели и говорят: "Спасибо, нельзя ли это к нам на заводы привезти?"»
Юрий Петрович Любимов, только что вернувшийся из вынужденной эмиграции. Авторитетнее и неподкупнее свидетеля сейчас, пожалуй, не сыщешь, соглашается Нина Павловна. Он не ожидал перестройки, чтобы начать делать и говорить, что думал. Нина Павловна вспоминает, что К.М., по крайней мере, дважды выступал на прогонах можаевского «Кузькина», возмущался тем, что зажимают такую прекрасную смелую вещь, писал письма в инстанции.
Я охотно киваю головой и про себя думаю, что это замечание мэтра тем ценнее, что именно от него в пору «Кузькина», «Мастера и Маргариты», «Дома на набережной» я слышал выражение: «Костю стошнило на финише». Как говорится, ради красного словца... Но этим воспоминанием я с Ниной Павловной не делюсь. Наоборот. Разворачиваю перед ней главу из мемуаров Алексея Аджубея в «Знамени». Ссылаясь на рассказ Микояна, он пишет о послевоенной симоновской «Литературке»: «Острая газета нравилась товарищу Сталину какое-то время, а потом стала его раздражать. Думаю, главного редактора Симонова могли ожидать большие неприятности, если бы Сталин не умер раньше, чем успел дать распоряжение разобраться с газетой...»
Аджубею, как никому, понятна была реплика Микояна, потому что с ним-то успели разобраться после смещения Хрущева. И именно в ту пору Рада Никитична получила письмо от К.М.
Правильно говорят, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
В кругу близких К.М. появилась мысль опубликовать рукопись К.М. «Глазами поколения». Тоже, наверное, атмосфера повлияла. Столько каждый день, куда ни глянь, в журналах, в газетах появляется забытого, неизданного, такого, что иной раз, словно по волшебству, меняет представление о писателе или ученом. И все, главным образом, связано с культом. А тут лежит никому не ведомая вещь с подзаголовком «Размышления о Сталине». Когда дошло до Нины Павловны, она бурно запротестовала. Это будет нарушением воли покойного. Ведь вещь так и начинается: рукопись, к работе над которой я сейчас приступаю, не предназначается для печати...
Ей возразили: но ведь К.М. сделал, по крайней мере, две оговорки. Он сказал, что рукопись не предназначается для печати в полном виде. И — в ближайшем обозримом будущем. Но со времени его смерти минуло уже восемь лет. И каких лет! Тут за месяц происходит такое, чего раньше не случалось десятилетиями. Даже К.М. не мог предвидеть такого.
Нина Павловна твердо стояла на своем: он не мог предвидеть и другого, когда он начал диктовать ей в феврале 1979 года, — что он не успеет уже вернуться к рукописи второй раз. Ведь он просто выложил все, что помнил. И даже не ставил себе задачу как-то осмыслить всю эту фактуру.
Ко мне как к члену комиссии по литературному наследию тоже обратились за советом. Я был согласен с Ниной Павловной.
Публикация станет желанной добычей для охотников за черепами. Их всегда в избытке. Им не до истины. Была бы сенсация.
Когда нас не послушали, я поделился своими соображениями в печати. И как в воду глядел.
«Возьмите записки К. Симонова о Сталине, опубликованные в «Знамени», — писал «Новый мир», — и в «стол» К. Симонов не способен писать все. Боится признать ужас ужасом, боится себя.
Больше всего поразили автора «Нового мира» сцены в Кремле, когда Симонов, Фадеев и другие вместе со Сталиным и его присными обсуждают кандидатуры на присуждение Сталинских премий: «Он пишет без всякого осуждения себя и тех...»
И это было еще самое мягкое из того, что довелось нам с Ниной Павловной прочитать.
Если стихию разыгравшейся гласности сравнить с морем, имя Симонова — что лодочка на морской волне, когда барометр показывает бурю. Но как бы ни разгулялось море, челн все перед глазами: то проваливается стремглав вместе с одной волной в пучину, то взмывает на гребень другой.
Вот и еще один звонок от Нины Павловны, благо я нахожусь в Москве, в отпуске: «Вы читали?»
На этот раз «Московские новости». Альберт Плутник: «О повести И. Эренбурга “Оттепель” и не только о ней». Да, не только и не столько о ней, сколько о статье Симонова о ней и его содокладе на 2 съезде писателей.
Мы с Ниной Павловной хорошо помним и тот и другой документ.
Их копии лежат во «Всем сделанном» за 1954 год.
Там же, только в другом томе, лежит поздняя надиктовка, в которой он, К.М., попытался рассказать, как и почему разошлись его и Эренбурга дороги. Он там прямо говорит, что жалеет, что написал эту статью.
— Но об этом никто не знает, — горестно вздыхает Нина Павловна. — И о том, что он устроил Эренбургу юбилей, когда того ждал арест. И если бы не устроил, его, может быть, действительно арестовали бы.
Нина Павловна резюмирует, что дело не в отдельных эпизодах или упоминаниях о них. Положительных и отрицательных. Нужна какая-то нить, которая связала бы воедино десятки, если не сотни таких эпизодов и эпизодиков. Дала бы цельный образ.
Вот и парижская «Русская мысль» пишет: «Вероятно, история когда-либо взвесит, чего было больше у Симонова: добрых или черных дел».
Эта жесткая формулировка заставляет Нину Павловну вздрогнуть.
Подумав, она истолковывает ее по-своему:
— Объяснить Симонова — объяснить наше время.
— Ну, — говорю я, — Нина Павловна — это прямо вариант эпиграфа к роману.
— Ох, — вздыхает она. — Когда-то вы еще его закончите.
Москва – Стокгольм – Прага – Москва – Лондон – Стокгольм
1985–1997
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


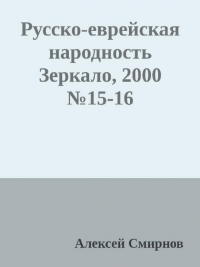




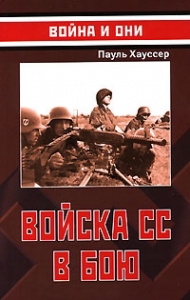

Комментарии к книге «Четыре Я Константина Симонова», Борис Дмитриевич Панкин
Всего 0 комментариев