Глеб Павловский Система РФ. Источники российского стратегического поведения: метод George F. Kennan
© Павловский Г. О., 2015
© Издательство «Европа», 2015
* * *
Автор выражает признательность Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Вена), в стенах которого в основном написана эта книга. Дискуссии с Иваном Крастевым в IWM, а также с С. Г. Кордонским, А. Ф. Филипповым и И. Д. Чечель в редакции Gefter.ru были неизменно полезны (но никто из них не несет ответственность за мои гиперболы и парадоксы). Легко заметить, что источником моих идей в вопросах политической стратегии остается работа над текстами и записями Михаила Яковлевича Гефтера. И конечно, в книге ощутимо сильное раздражение дурацкими вопросами журналистов: почему у вас так все происходит? кто это, и где решал? как вообще такое могло случиться?
От автора
В свой прошлогодней книге «Система РФ в войне 2014 года» я писал: «Основываясь на личном опыте, Глеб Павловский считает нашу слабую государственность стратегически неуязвимой в мирные времена и готовой к военным». Теперь, в военном 2015 году, самое время оценить правоту своих слов либо от них отказаться.
Российское стратегическое поведение сегодня так непредсказуемо и прихотливо, что желающему его толковать придется доказывать полезность занятия. Мы живем в слишком быстром мире, и у всех мало времени: к чему вдумываться в импульсивные и просто глупые действия? Что если там, где мы ищем логику вещи, отсутствует сама вещь? Вот труднейший вопрос данной темы. Пример Джорджа Кеннана вдохновляет – тому было не легче 70 лет назад.
Слава Джорджа Кеннана взошла в 1946 году его Long Telegram об источниках советского поведения. Но через 45 лет Советский Союз развалился. На его месте возникла трудноотличимая от него поначалу Россия и еще несколько полувраждебных странсателлитов. В следующие 25 лет аналитики мира не проявляли никакого интереса к источникам российского поведения. Шли времена «единого пути всех цивилизованных наций», когда различия интересовали культурных антропологов, но не политических стратегов. Отнятие Крыма у Украины обновило интерес (несколько нездоровый) к российскому поведению.
Казалось бы, что такого произошло? На пути цивилизованных наций есть повороты покруче. Но мартовский акт 2014 года травмировал европейские представления о России и о будущем Европы. Вопрос снова ведет к источникам нашего поведения, и Кеннан актуален опять. Но достаточны ли его оценки 1946-го для стратегических разработок в 2016 году?[1]
Автор разрывается между мотивами, где легко угадать конфликт интересов: с государственностью без внеправовой и управленческой логики трудно работать – но происходящее хочется еще и понимать. Действие и понимание, политика и теория почти несовместны в общем порядке действий. Остается надеяться, что счастливые обладатели только одного из двух этих мотивов избегнут моего конфликта и найдут для себя здесь более полезную им группу суждений.
Глеб Павловский, июнь 2015К новому сдерживанию
В политической истории бывает, что – по тем или иным обстоятельствам – одна страна, сила или коалиция приобретает аномальную свободу рук. Историк и философ Михаил Гефтер говорил (ссылаясь на термин Александра Герцена) о просторе отсутствия, толкающем людей искать в нем себе пространство экспансии.
Классический кейс – сталинский СССР в Европе 1945 года. Гигантская военная сила уже заняла позиции сверх согласованных в Ялте и готова без напряжения занять другие. Не найдя применения такому могуществу, Сталин впал в состояние, известное как hybris. Выбрав ложные цели (Северный Иран, армянские земли в Турции, Северная Ливия – странный выбор), он плохой геополитикой враждебно сплотил против себя вчерашних союзников СССР.
Тем не менее союзники продолжали пытаться как-то договориться с Москвой, обсуждали ее цели, строили догадки о «планах Сталина» – ничто не складывалось в ясную картину. Положение быстро ухудшалось. Тогда, как известно, на сцену вышел Джордж Кеннан и в знаменитой «Длинной телеграмме», посланной из Москвы (The Long Telegram, 5400 слов, февраль 1946-го), сказал: ничего из этого делать не надо, и менее всего стоит гадать о «планах Кремля» и заглядывать в «душу Сталина». Инерция поведения, силы и ложной доктрины сильнее генералиссимуса. Препираясь с Москвой, вы только теряете время. Это покажется Кремлю слабостью, но не расположит к снисходительности. Причина не в тайнах Востока, непонятых Западом, причина – в потере предмета, который должен быть понят.
Джордж Кеннан предложил рассмотреть советское поведение как эшелонированную исторически и идейно инертную систему, диктующую правила в поле ее господства. Сам Сталин, выдающийся манипулятор людьми, не в силах преодолеть ее инерции. То, что он и был ее генеральным конструктором, не важно, когда система сложилась.
Отсюда следовало, что не только США, противостоя советскому коммунизму, не знают мыслей противника, но и сам противник может не знать своих намерений. Гадая о планах Кремля, хотят похитить то, чего нет.
Кеннан предложил идею сдерживания Москвы – containment. Сдерживание, понятое как вынужденное включение суперсилы в большую игру с коротким и жестким списком заранее известных табу. В ситуации 1946 года таким «табу» было признано посягательство на изменение государственного, общественного строя и идеологии стран противостоящего блока.
Но философия сдерживания не столь узко ситуативна. Модель Кеннана содержит параметр, крайне важный для РФ сегодня, – связь внутренней и международной политики. В эпоху СССР та обосновывалась идейно – природой коммунистического государства. То, что Советский Союз при национал-имперской политике Сталина не был национальным государством, списывали на «революционное отклонение» от эволюционирования империи в национальную Россию. Советского коммунизма нет, но и национальной России нет также, если не в большей степени, чем в СССР. И вдобавок, новый «простор отсутствия» наметился внутри страны.
Простор отсутствия – 2
Простор отсутствия – 2 тоже ситуативен и также почти случаен. Конечно же, он не планировался никем, и сегодня не вполне комфортен ни для кого, даже для президента Путина. И тем не менее завершается преобразование кремлевского субъекта в самонадеянную силу, нависшую над «простором отсутствия». Пространством экспансии новой несдержанной силы на этот раз стала сперва сама Россия, РФ, а в след за ней – постсоветский Евровосток, раздираемый между Европой и Евразией. Опять всемогущая власть без программ, опять ее более сильные противники ведут обоюдно раздражающие препирательства. Опять аналитики Запада гадают о «планах человека в Кремле». И все это столь же стратегически бесполезно, как было в 1946 году.
Правда, за 70 лет мир далеко ушел. Современная РФ не нависла над Европой как военно-идеологический комплекс. И русские танки не смогут в два дня выйти к Ла-Маншу, даже получив приказ верховного главнокомандующего. Но внутреннее состояние постсоветской России стало глобальной проблемой, как и у Советов времен Джорджа Кеннана.
Самое опасное сходство в том, что Система РФ, подобно Москве 1946 года, но на иных основаниях, отрицает общепризнанные нормы как таковые. И эта нигилистическая воля (в отличие от Сталина, не ведающая, против чего обращен ее нигилизм) почти не встречает возражений в стране. Нормы она отклоняет ссылками на «легитимное большинство», а большинство обеспечивает суверенным насилием – и в этой тавтологии РФ зависла, будто в центре вселенной. Советскую систему тоже обвиняли в идейном аутизме, но до самонадеянности таких степеней она не доходила.
Сегодня, как и тогда, в массе попыток «диалога» или «полемики» с этой не ведающей свои цели силой, слышен рефрен: как жаль, что их вовремя не остановили! И сегодня этот ресентимент столь же пуст, как в 1946 году. Джордж Кеннан ставит вопрос не о том, кто виновен, а о том, как вернуть разрушительную – и саму себя разрушающую – силу в границы реального. Заставив ее эти границы уважать. Но если в 1946 году вопрос так ставился перед администрацией сильнейшей из антифашистских держав, то сегодня его уже неверно ставить как вопрос чьей-либо государственной политики. Здесь главное отличие от эпохи Кеннана.
Сдерживание не может стать миссией какого-то из государств, западных или не западных. Это внутренняя задача для самой Системы РФ, это наша национальная задача надолго.
Часть 1 Подход к проблемам в Системе РФ и ее подход к вашим проблемам
Система РФ создает проблемы (в том числе и вам), а затем справляется с ними неожиданным для себя образом. Живущие в ней люди привыкли к угрозам и бедствиям.
Фронтмен Системы РФ Владимир Путин, выступая в Москве на Васильевском спуске в марте 2015 года, сформулировал это так: «Мы с вами пойдем вперед, мы будем укреплять нашу государственность, укреплять нашу страну, будем преодолевать трудности, которые мы с вами так легко создаем сами для себя в течение всего последнего времени».
В этой части объясняется, отчего Система РФ всемогуща, хотя не умеет принимать управленческих решений.
Глава 1 Система РФ как метод, процедура и государственность
В этой главе вкратце и без теоретического обоснования толкуется Система в целом. Здесь ее наиболее радикальный пункт расхождения с СССР, как тот описан Дж. Кеннаном, но здесь же объяснение непреходящей ценности его подхода. Почему Система преуспевает вопреки логике, прогнозам и провалам, пока не перестанет одновременно преуспевать и существовать.
Система как процедура
Пространство советских аллюзий о российском государственном поведении безбрежно, никто не избежал их. Здесь мы вступаем в царство Джорджа Кеннана, давшего убийственно краткую, но дружественную оценку истоков советского поведения. Кеннан ничуть не нейтрален, он разработчик стратегии для США. Но рисуемая им картина страны – противника СССР более дружественна, чем наши российские описания советского мира.
Перед Соединенными Штатами в феврале 1946-го был сталинский СССР, управляемый ВКП(б) под «светочем идей марксизма-ленинизма». Джордж Кеннан рассмотрел советскую идеологию не как доктрину или политическую веру, а как прагматику оперирования всем в мире – противниками, союзниками и даже самой собой. Что нашел бы сегодня на этом месте Кеннан – ничего? Что заняло опустелое место цели в новой государственности РФ, возникшей после декабря 1991 года? Ответов много, но ключа нет до сих пор. (Не хочу винить почтенные концепты российской демократии, капитализма в России, новой русской клептократии, сырьевого петрогосударства, внутреннего колониализма или мягкой бюрократической автократии.)
На месте, некогда маркированном коммунистической идеологией, находится сама Система РФ – не как государство (которым она не является), а как принцип российского поведения.
Система РФ – процедурный навык обращения со всем в поле ее досягаемости, легко доступный для усвоения чиновниками и любым человеком. Только тут, в точке идейной несовместимости СССР и РФ, мы обнаруживаем их скрытое процедурное родство. Преемственность СССР/РФ не в «тоталитаризме» или «имперской архаике». Она в способе обращения со всеми вещами без исключения, от материальных и финансовых до ментальных, этических и религиозных. В процедуре, обращающей людей – независимо от их прав, статуса и воли – лишь в поводы и ресурсы.
Система РФ не государство, и тем более не идеология. Это развитый ансамбль методов и технологий работы с миром, уникально простой, позволяющей мультиплицировать данное поведение на любое число людей, обучаемых и вовлеченных в ее обслуживание. И нашу обучаемость не сдерживают более доктринальные оболочки и партийные нормы.
Если пренебречь философским вопросом, свободен ли нигилист, можно сказать, что Система РФ – самая свободная государственность в мире. Что, разумеется, нельзя смешивать с либеральной и гражданской свободой.
Искусство быть внезапным
Говоря об источниках советского поведения, Джордж Кеннан говорил о поведении Кремля, объединяя в этом понятии всю советскую номенклатуру, тогда очень жестко вертикально интегрированную. Отсюда сходства и отличия его описаний от постсоветских стратегий Системы РФ. Кеннан, например, ничего не пишет о советской внезапности – этот навык не присущ позднесталинскому человеку. Советскому гражданину не велели быть слишком порывистым. Общество директив не любило импровизаций и неожиданностей на партсобраниях.
Но Система РФ возникла внезапно. Выдуманная по случайному поводу как импровизированная подпрограмма для выборов в Верховный Совет РСФСР 1990 года, новая суверенная Россия уже 12 июня 1990-го объявила о государственном суверенитете (внутри СССР). В эту внезапность свой вклад внесла личность Бориса Ельцина, любившего внезапности по характеру.
Ельцин стал президентом России благодаря тому, что сознательно культивировал порывистость. Так возникла его тактика политического зигзага, то есть политика «загогулины» – внезапного двойного маневра. Создав ситуацию масштабной угрозы, он затем выступал последним спасителем от нее, конвертируя кризис власти в личное первенство. Так политик – источник рисков стал бенефициаром всех выигрышей и всех проигрышей игры. И остановил достойного преемника.
Борьба с нормой и нормальностью
Система РФ изначально находилась в борьбе с нормальностью – нормальная жизнь, как считали, осталась за границей РФ. Ее отождествили с жизнью Европы и Запада. Нормальность стала местом туризма, зато РФ освободила себя от нормативных обязательств.
С 1993 года Кремль развивал технологии поведения, обходящие нормальность, фальсифицируя ее ради простоты достижения целей. Цели были корыстны, но имели достойный мотив – достижения нормальности в будущем финале слияния с «путем всех нормальных (западных) наций».
Отказ от нормальности из технологии превратился в повседневность Системы. Затем перерос в доктринальное презрение к норме внутри РФ – включая свои же нормы. Система легко их преступает и охотно этим бравирует. Поведение силовиков и судебных инстанций в отношении политических противников – всероссийский спектакль презрения к государственной норме. Их месседж – ничтожность закона в отношении людей и организаций, включенных в «стоп-листы» Системы РФ.
Если люди Системы почему-либо захотят придерживаться общепринятых норм (хотя бы в течение 30 дней!), им потребуется отдельное решение на самом высоком уровне. И невероятные усилия по самоконтролю.
Прогрессор именем большинства
Апогей внезапности – внезапная радикализация 2014–2015 годов. Это способность действовать радикально там, где этого не ждут, и почти во всякий момент. Откуда такая гибкость у институционально слабой и управленчески детренированной власти? Отчасти потому, что Система РФ – это недемократический способ строить поведение в расчете на будущее большинство.
В России тема большинства сразу возникла как тема лидера от имени большинства. Мандат лидера сразу после выборов отделялся от конкретного электорального большинства. Поначалу большинство с трудом набирали под этот мандат, и оно было нестойким. Но мандат тогда уже был неограниченным.
А есть и мандат от внешнего мира. Глобальная легитимность – мандат на «процесс реформ», «транзит» и «модернизацию» – укрепляет статус, дистанцируя его от выборного, а значит, сменяемого.
Команда Кремля действует именем прогресса, она «прогрессор». У нее право на защиту правящих элит то от «националистов», то от «региональных сепаратистов». Накапливается масса мандатов, и каждый из них имеет чрезвычайный пункт. Шкала действий власти смещена к радикальности, уже без оглядки на цели мандата.
Раз власть действует достаточно радикально и масштабно, прогрессивные реформы ей уже проводить не обязательно. Масштаб властного маневра дает ей право создавать и создавать большинство. Молниеносный маневр, доказывающий искусство ошеломить, сделав не то, чего ждали, в конце концов приветствуется почти всеми. Кроме жертв.
Выжидательность – не политика мира
Система РФ инициируется экстремальными состояниями. Это нельзя понимать буквально. Кремль не дожидается случайностей, как землетрясений, – он их «организует»[2]. Потенциал чрезвычайщины содержится в теле Системы РФ, и доставаем оттуда при зигзагах-загогулинах курса Кремля. Международный риск в том, однако, что внутренние зигзаги время от времени требуют выбросов вовне. Внешние эксцессы дают нам временное утоление запроса на «тоник экстремальности».
Глава 2 Команда Кремля
Команда Кремля исторически возникла на основе, которая далее забылась, хотя ее кадры и ее предрассудки переходили в следующую фазу. Команда Кремля довольно устойчива, что обеспечивает устойчивость самой Системы. Застойный состав кадров генерирует ауру стабильности в нестабильных состояниях. Команда нуждается в монополии на ресурсы РФ, иначе не сможет продавать свои услуги на мировых рынках, а это беда.
Откуда взялась Команда Кремля
В Кремле 1990 годов сложилась группа, вынужденно имитирующая государство. Это станет одной из главных функций Команды Кремля и администрации президента РФ. Используя свои преимущества и главное из них – контакт с президентом Ельциным, кремлевская группа переиграла игроков более сильных.
Новая Команда Кремля была одним из авторов новых правил – тем более ей незачем было их выполнять. Здесь наметились «ножницы» между созданием правил и импровизацией действий.
Чтобы преуспеть, их поведение должно было быть свободно от правил, – которые тогда едва разрабатывались и вводились с трудом. Новая Россия началась с того, что появились когорты людей, ведущих себя целесообразно, но необычным для советского общества образом. Они практиковали то, что в СССР не позволялось практиковать. (Уже поэтому гипотеза о якобы «советской» природе власти в РФ выглядит сомнительной.)
Зона правил и процедур формировалась медленнее, чем консолидировались активные группы, уже тогда называвшие себя элитами, опережая какие бы то ни было правила.
Россия, взятая целиком, слишком огромна, чтобы равномерно получить доступ к глобальным возможностям развития – это делает эксклюзивной группу, которая такой доступ получит. Население изолирует от мира верткость Команды Кремля – ее действия вне правил при легком доступе к мировым рынкам, финансам и медиа. Открыв себе глобальное поле действия, Команда отключила от него население, а затем от политики вообще.
Положение «резидентуры прогресса» – во многом комфортное положение. Оно в нарастающей степени определило мировые амбиции Команды Кремля.
В чем смысл администрации президента
Система РФ умеет быть верткой, поскольку знает место, где ее легко обратить против собственных правил, не говоря о законах.
АП РФ – организация, упраздняющая силу всех других государственных организаций и норм, шлюз входа в параллельную политику, открывающий обширные возможности действия.
Любая важная организация в России, с какой бы целью та ни возникла, вовремя не закрытая, превращается в институт. АП РФ, возникнув в 1991 году, ни разу не ставилась под сомнение; все ее реорганизации связаны были только с ее укрупнением.
АП РФ возникла импровизированно, как орган защиты президента от остальных конституционных институтов Российской Федерации. Поначалу это мотивировали устарелой Конституцией (РСФСР), угрозой коммунистической партократии, борьбой с Верховным Советом России. Но еще до принятия новой Конституции РФ 1993 года функция АП прояснилась вполне: дуализм легальности. Когда политика стала недоступной для граждан, АП РФ осталась монопольным субъектом политического действия.
Это система надконституционного контроля всех трех ветвей власти. Она все так же нелегальна, как в 1991 году. Отсюда можно запустить сколь угодно рискованную спецоперацию, непоправимо меняющую государственный порядок в стране.
Правительство Медведева
У Системы есть резерв под названием «правительство Медведева», к нему здесь двойственное отношение. Правительство Медведева – это сентябрьская индейка, которую придерживают, чтобы зарезать в любой нужный момент. Номинально правительство есть. Оно обслуживает задачи, которые не умеют обслужить другие. В Кремле не хотят остаться без правительства, ведь новое придется назначать под давлением полуидеологических лобби и безумных воинственных миллионеров.
Без Политбюро
Советское Политбюро было функционально – верхушка партии, управленчески сращенной с государственным аппаратом. Каждый в Политбюро имел под собой действительную власть – вертикаль, доходящую до низу. Люди в Политбюро знали, что, если доживут, они выберут нового правителя страны – генерального секретаря ЦК КПСС.
Никто из друзей Путина не смеет на такое претендовать. Даже в шутку никто не скажет президенту: мы выберем тебе преемника. В Системе РФ нет машины преемственности, и теперь это – фатальная слабость. Команда Кремля в принципе не знает, каким образом ее власть продлится. Она вынуждена настаивать на монополии, а этого мало. Монополия эксклюзивна, и все, кто остался вне, не так заинтересованы видеть Команду в Кремле. Фактор будущего превратился в пункт актуальной нестабильности Системы.
Кремль в ожидании
Команда Кремля всегда выжидает форс-мажоров глобального уровня. Вот и сегодня она дожидается мировых кризисных явлений, которые вынудят ее врагов переключиться с Москвы на другие цели. Антироссийские санкции превращают страну в полигон жестоких испытаний: на что мы рассчитываем?
Эталонная осень 2008 года, спасительное двойное «чудо Обамы». Когда Большой кризис и крах бушизма отбили у Запада интерес к грузино-российской войне. Станет ли успешной политика выжидания на этот раз? При нескольких условиях.
Во-первых, Кремль должен сохранять свободу рук внутри России, несмотря на удары санкций по его социальной базе. Во-вторых, успех выжидания требует исключить все расчеты на уход Команды Кремля или разворот ее в желаемом для Запада направлении.
Встал вопрос о новом порядке управления страной в режиме санкций, его ищут. В русском выжидании заинтересована часть мировых игроков, но как убедить их сделать хотя бы скромные ставки на политику Москвы? КНР не имеет мотива помогать в данной ситуации РФ, но затягивание режима санкций в интересах китайцев. Пекин категорически не хочет капитуляции Кремля перед Вашингтоном и сделает многое, чтобы этому воспрепятствовать. Можно ждать поощрительных китайских жестов в сторону Кремля, ни один из которых не будет ни бесповоротным, ни однозначно антиамериканским.
Глава 3 The Tzar
Путин как персона-мистификация, скрывающая Систему РФ от понимания. Горбачев создал место для Ельцина, а Ельцин – место для Путина. Персонификация – это хозяйское факсимиле Системы. Потеря шефом-хозяином себя в Системе и навязчивые поиски им идентичности.
Система и Tzar[3]
У Кеннана лидер и демиург, Иосиф Сталин, упоминается на весь текст «Длинной телеграммы» только трижды. Парадокс, который должен обратить внимание современных кремленологов: базовый текст, лежащий в основании западных доктрин холодной войны, успешно истолковал поведение системы-противника, не прибегая к персональному аргументу.
Это позволяет нам спросить любого из толкователей российского поведения – для чего вам столько Путина? Как вообще может быть, чтобы в настолько деполитизированной Системе объяснения политики были сверхперсональны? Читателя грузят фамилиями и домыслами об агентах власти без политических позиций, лавирующих среди аппетитных ресурсов Системы. Мы обсуждаем цели и мотивы людей, которые их не имеют в политическом смысле слова.
Рассуждая о шефе Системы РФ, не уйти от парадокса: он всесилен, лишен сдержек и ограничений – и заперт в своей Системе. Его ежедневно испытывают на разрыв между публичным образом Всемогущего и скромным уровнем его управленческих решений. Но фиксации парадокса мало.
Путин как аргумент вполне функционален. Эта функция обрисовалась давно, почти 30 лет тому назад, когда пропаганда гласности опрокинула все прошлые ratio. На смену социальной теории при давно разрушенных советскими идеологами философии истории, политической теории и антропологии пришла воля президента, как ulitma ratio. Так в Системе РФ был впервые придуман царь. (А вовсе не позаимствован из небывалой «русской монархической традиции».)
План Сталина и план Путина
План Путина был планом воссоздания российской мощи на новой основе. Сделав Систему РФ новым держателем могущества, думали сделать Россию неуязвимой. Базой силы стали финансы и кредиты под сырье на мировых рынках. Все лишнее надо убрать – идеологию, экономическую автаркию, принципы и законы. Одно время хотели убрать даже конфликт с Западом. Сталинскую парадигму могущества наложили на финансовую базу глобализации. Приоритет плана стал его слабым местом: мощь не то же самое, что территория, ядерный потенциал или золотой запас.
Дж. Кеннан всегда уточнял, что в политике нет чисто военной мощи, – мощь процессуальна. Она зависит от качества разыгрывания имеющихся потенциалов, даже политически слабых. Например, реальная мощь СССР падала параллельно возрастанию его военно-стратегического потенциала. Последний достиг максимума к 1985 году, как раз когда могущество Союза обнулилось.
Валютные запасы РФ и теперь неплохи, но 2014 год, легко ранив финансовый потенциал Системы РФ, расстрелял ее мощь.
Хозяин – это не диктатор
Все кремлевские коалиции – штатских и военных, «силовиков» и «либералов», «голубей» и «ястребов» – ситуативны и часто тасуются. Решения, которые приписывались «ястребам», принимались голосами «голубей», как было с вторжением Ельцина в Чечню в 1994 году или с решением по Крыму. Дворкович не нужен для обсуждения тактики по котлу в Дебальцево. Но это не значит, что Дворкович (говорю условно) не может стать автором идеи продавать газ в Донбасс в обход Киева и за его счет. Это вполне могла быть идея либерального экономиста, а могла – Игоря Сечина, который тоже экономист.
Когда главной проблемой становится не военное положение Донецка, а упадок экономической базы власти, президент может принимать экономистов чаще, чем силовиков. Но это не говорит о том, в качестве кого он их принимает. Команда Кремля устроена так, что люди, дающие советы президенту и разрабатывающие решения вместе с ним, не станут политическими фигурами. Руководители Государственной Думы, Совета Федерации или премьер-министр Медведев – все выступают только в роли экспертов и порученцев.
Государственное лицо – один президент. Игра Системы РФ в том, чтобы убеждать, будто государственные решения он принимает лично. Поэтому никто, дающий президенту советы, не приобретает политической компетенции. Если у Путина есть ощущение, что от встреч с ним Кудрин усиливается, превращаясь в независимую фигуру, он даст понять, что ориентироваться на это не надо (что и сделал публично во время «разговора со страной»).
Власть Путина как фронтмена Системы – власть Хозяина, а не диктатора. Хозяин вправе в любой момент отменить решение, просто сказав: «Хватит, я передумал». Или: «Не помню, разве я такое обещал?» Диктатор воплощает единство исполнительной власти, но Путин отделил себя и от последней также. Он властвует, разделяя исполнителей, переводя государственность в текучее состояние.
Путин, затерянный в большинстве
В российском государстве потерялось место для всех низовых суверенов, кроме кремлевских. Места жизни людей стали неважны, кроме случаев, когда люди собираются в большинство. Я не видел нравственной трудности, подбирая способы склеивать любые группы в большинство. Казалось, эта игра нисколько не вторгается в человеческую жизнь. Казалось, мы как минимум затянем состояние мира, и если даже ничего лучшего не выйдет, люди получат лишние несколько лет покоя.
Конечно, я знал выражение тирания большинства. Но оно казалось барочно декоративным, неприменимым здесь и сейчас, – что-то из давних страхов аристократии перед народом. Но оказалось, что, если большинство склеить искусственно (для чего придется возвести в культ его мнения, предрассудки, его невежество), – такое большинство само уже потенциальный тиран. Чтобы воплотиться, тирания большинства должна обрести себе имя. И она выбрала имя: Путин.
Сегодня все, что не президент, стало политически неинтересным, а Путин перестал скрывать свое первенство в государстве. Но это первенство – лишь переназванное тираническое большинство. Путин-политик означает общество-неполитик. Бросающиеся в глаза перемены во власти и в президенте – это перемены в подвластном обществе. И спорно, что тут считать следствием, а что – причиной.
Подлинная история Владимира Путина затеряна внутри ненаписанной истории страны, и его карьера является ее крайне упрощенной, примитивной версией. Эта версия находится в обратном соотношении с оригиналом: чем ярче «дела лидера», тем скромнее его личность. Выбрав роль хозяина России и отказавшись от роли «оказывающего услуги населению», он из человека превратился в приборную панель. В шкалу датчиков, закрытых от чужих глаз, в стране, которой он уже не понимает.
Потому и затвердил эти несколько нехитрых аксиом – всего, что якобы «здесь невозможно», и «в России никогда так не будет». Путин не видит, что сам стал одним из запретов, по которым нельзя догадаться, ни что в действительности возможно для России, ни что ей реально грозит изнутри.
Глава 4 Догма «86/14» и подавляющее большинство
Догма «86/14» – отношение большинства, доверяющего властям, к меньшинству не доверяющих; это найденное опытным путем устойчивое распределение, пригодное для любой оценки. При меньшей цифре поддержки «подавляющее большинство» превращается в ненадежное, то есть обычное электоральное. 86 % благ в стране производятся 14 % населения. 86 % затраченного исчезает в никуда, и т. д. С учетом роста «откатов», все расценки завышаются на 86 %.
Его 86 %
Заклинания «86 путинскими процентами» ставят вопрос о бесполезности таких данных при анализе базы поддержки власти. Поддержка относится к Системе, а не к человеку, а язык поддержки не имеет иных слов для выражения, кроме фамилии Хозяина. Но Хозяин не определяет веса позиций Системе. А для описания Системы РФ не нужны домыслы о планах Хозяина. Путин не автор Системы, он пользователь подписи Путина. Его тип первенства совместим с размытой поддержкой при неясности ее источников для него самого. Вопрос: «есть ли у Путина поддержка большинства?» – останется тавтологией до момента ее прекращения.
Путинское большинство как социальная коалиция
Путинское большинство 2000–2012 годов – союз выигравших с проигравшими и миллиардеров с маргиналами. Пестрая всероссийская коалиция, прослоенная малыми группами, – политтехнологи и журналисты; шоу-элиты, старящиеся, не желая сойти со сцены; криминальные группы и госбанки. Невозможная без форсажа со стороны либералов во власти, эта коалиция прожила невероятно долго. Но уже при первом выходе «путинского большинства» на сцену 1999 года оно предоставило Кремлю безразмерный мандат.
Говорят, что дело лишь в гарантиях безопасности Ельцину и его семье – но это был лишь внутрикремлевский пароль. Речь шла о большем, и участники проекта это понимали. Дело шло к повторной перестройке конституционного государства – вслед первой, неудачной. Уже возникла мысль о «санации народа» – перевоспитании граждан, разболтанных за годы выборов, выездов и бесцензурных медиа. Отстранив массы от влияния на процесс, думали исключить риск повторного разрушения государства.
Государство было главным паролем. Его следовало перестроить, сделав неразрушимым, даже если однажды миллионы граждан вновь решат его упразднить. Но вот парадокс! с целью исключить риск распада, небольшой группе людей дали мандат на любые, хоть самые рискованные действия именем государства. Возникла Команда Кремля.
Большинство за «вертикаль власти» оказалось голосованием за неприемлемый риск. И возник первый путинский консенсус. Поначалу он был мягко репрессивен, дружески тесня скептиков внутри коалиции. Здесь уже наметился размен государства на власть. После трех президентств подряд, когда консенсус стабильности устоялся вполне, он вдруг распался, демонтированный Кремлем и Болотной площадью. Но команда риска по-прежнему правит страной, в сомнительных случаях ссылаясь на исторический выбор путинского большинства в 2000 году.
Лидер и гарант «социалки»
Ельцина насмешливо именовали Гарантом. В этом русская страсть к неологизму – тогда это слово впервые попало в массовый лексикон. Путина гарантом не зовут, но он им является, гарантируя элитам безопасность от масс, массам – от элит. Сегодня эту бонапартистскую схему-ампир пора пересмотреть. Сегодня Путин – гарант органического социума власти, обозначаемого иероглифом «социалка».
Путингарант «социалки». В это входят не только бонусы бюджетникам в виде невысоких, но регулярно якобы повышающихся социальных выплат. Он же гарант сервисных структур «социалки» – силовых, перераспределительных и иных кадров. «Социалка» стала постоянным аргументом власти. Именем социального большинства отклоняют любой государственный, стратегический и даже моральный тезис, не говоря о финансовых и макроэкономических: «Это социально неприемлемо». (При этом доказательств того, что именно неприемлемо, не приводят.)
Но в момент кризиса гарант «социалки» и гарант Конституции попадают в конфликт интересов: гарант социалки уже не может остаться гарантом Конституции.
Да и в отношении к последней Путин скорее ее ценитель. Он ценит Конституцию, она ему нравится эстетически. Дискурс президента о Конституции близок дискурсу охраны природы. Это речи об уважении к редким видам, обреченным на исчезновение. Конституция для Путина – это «Красная книга». Он не гарантирует Конституцию, если не гарантирует «социалку». И именно в «социалке» скрыт для него основной закон.
Лояльное антигосударственное большинство
Социальная коалиция, на которую опирается власть (для простоты называем ее «путинским большинством», хотя во многом это уже другая социальная коалиция), – более основополагающий государственный фактор, чем Конституция РФ. Социальная сеть бюджетной Федерации – десятки миллионов бюджетозависимых граждан. Лишенные инструментов конституционной самозащиты, они нуждаются в «путинском» Центре и Команде Кремля – их единственной, хоть ненадежной страховке[4].
Современная российская государственность разрушаема в той же степени, в которой ее опорная коалиция нерушима. При коллапсе «путинское большинство» пожертвует нынешней РФ, чтобы спасти уровень своего обеспечения Системой. Бессмысленны попытки, побудить эту коалицию к протесту против ее собственных интересов. Зато при сохранении ее преторианской основы она однажды изменит государству: корми – и делай, что хочешь!
В этом смысле путинское большинство, пассивное и потребительски конформное по базовым аттитюдам, однажды станет для России апокалиптическим. Оно уже доказало, что ради сохранения своего положения и эмоционального тонуса готово на любые тиранства внутри и вовне страны. Оно уже отбросило ценность международного правового порядка. И, услышав зов более мощной чрезвычайности, оно с готовностью откликнется на него[5].
Часть 2 Что такое Система РФ?
Эта часть книги посвящена рассказу о том, какова процедура Системы в принятии решений для отработки угроз и бедствий. Это поможет каждому понять, как Система обойдется с его проблемами или с ним самим как проблемой. Мы расскажем, что такое «решения» внутри Системы РФ. Правила, которые здесь описаны, возможно, помогут и вам самому действовать наподобие Команды Кремля. Автор предупреждает, однако, что повторение кремлевских трюков без подстраховки может причинить юридический и иной вред.
Глава 5 Принятие решений в Системе РФ
Никто никогда так и не понял, как были приняты главные из решений в Системе. Понятны лишь мелкие, и те не всегда. Все важные решения должны быть приняты на более высоком уровне, чем тот, на котором они прияты. На самом высоком уровне положено принимать все без исключения важные решения. Но там их только принимают к сведению.
Принятие решений в Системе
Система РФ сосредоточена на вопросе о власти, но власть строится так, что место решений в ней скрыто. Система гибридна, и решения в ней «гибридны». Что означает здесь принятие решений?
В первой версии путинской системы, первые двенадцать лет (2000–2012), ее для простоты можно было назвать «управляемой демократией». Решение номинально принималось на самом верху, спускаясь по так называемой вертикали власти. Переходя с федерального уровня на региональный, вертикаль власти прерывалась, расщепляясь в пучок вертикалей – силовых, административных, губернаторских и др., – те торговали объемом решений и тем, кому и на какие деньги его исполнять[6].
В новом режиме все выглядит менее ясно. Путин надстроил над властью недосягаемый этаж, где пребывает один. Некогда первый среди равных, он взлетел над своим окружением. И хотя по-прежнему с ними контактирует, не хочет нести ответственность за решения. Президент играет роль лица, «находящегося в курсе главных решений»[7]. Все решения Команды Кремля из-за этого приобрели условный характер.
Допущенные в окружение ставят его в известность о том, что станут делать. Президент «в курсе», но строит отношения так, чтобы всегда мог сказать: я этого не знал и такого не обещал. Возникает двойной «люфт» маневра, и надо твердо помнить фразу президента, которую можно процитировать в доказательство, что действуешь с его согласия. Но эта фраза не создает должностной ответственности для него самого.
В украинском кризисе явно действовали группы с разными интересами, стратегиями. Если в операции «Крым» еще видна прежняя схема, компактная и военизированная, то с мая 2014 года все происходило иначе. Возникли несколько инициативных групп действия. Среди них – украинские и российские бизнесмены, связанные с Командой Кремля, люди в АП и в самом окружении Путина. Даже губернаторы южных областей, которые и прежде были вовлечены в украинские дела.
Разные уровни вовлеченности вели к тому, что процесс сразу пошел по разным направлениям.
Путину это дает право считать, что он не несет ответственности. Он не приказал отправить на Украину волонтеров – они уже были там. Ему сообщали, что сотни горячих парней рвутся воевать на Украину – и многие действительно рвались. Кто-то мог сказать: границы там нет – и действительно, в регионе Донбасса границы реально не было. Мы не сможем остановить наших парней. Если им запретить, они все равно туда доберутся! Путин мог сказать: ладно, ребят прикрой, но гляди, чтобы все было хорошо.
Является это директивой? с точки зрения Путина, нет. Ведь одновременно к Путину приходит кто-то другой и говорит: на границе бардак. Непонятные люди с оружием. Одни везут его на Украину, другие с Украины, криминальный рынок растет – беда. Путин скажет: ребята там неплохие, но бардак на границе пора прекратить, проконтролируй. Ушедший уверен, что получил указание. Что он делает? Перекрывает трансграничную торговлю, на которой традиционно держалось снабжение Донбасса.
Когда у ополченцев в конце лета 2014 года возник риск полного военного разгрома, хоть тут решения Кремля имели вид приказов? Приказы, наверное, были. Но я и тут не исключаю сослагательной формы решений. Министр может сказать: мой парень, который присматривает за бойцами, говорит, что там плохи дела, а у меня контрактники простаивают, а под рукой сотни две танков лишние. Президент мог сказать: давай, но осторожненько. И возникает наступление под Мариуполем, с потенциалом развития в большую войну в Европе.
Так это было или не так, всякий раз речь шла о бюрократически неполном решении. О решении, не имеющем характера директивы. Все ссылаются на слова Путина, на какие-то его недомолвки. Для наступления достаточно, но отступать так очень трудно. И когда Путин пожелал притормозить, у него в системе не нашлось рычага заднего хода. Тогда создается схема обхода своих же прошлых решений.
Например, дают Суркову временные полномочия навести порядок на Донбассе, политически отстроив там чуть-чуть организованную систему. Но при этом, разумеется, не дезавуируют решений тех, кому прежде позволили слать туда людей. Те идут жаловаться в Кремль: Сурков объявился, приказы раздает. Им скажут: не мешайте, пока делает все как надо. Но присматривайте там за ним, он парень слишком горячий. Тем самым, вдобавок ко всем прежним, Кремль учреждает новую компетенцию.
Внутриаппаратный конфликт вскоре выйдет наружу, как полупубличный. Пойдут публикации в прессе от вовлеченных через их медиаагентов: «Сурков предатель, слил Новороссию». Но все это лишь отражение нерешительности вверху. Аппаратные войны Путина устраивают, пока это «войны за Путина» и ими все поглощены.
Стиль непрямой трактовки
Как выглядит путинский стиль управления? Это стиль непрямой трактовки. Прежде все знали, что при выходе на уровень создания серьезных компаний, слияний, продаж надо идти в первую приемную. Излагать проблему, конфликт, если есть, пожелания – и Путин, приняв решение, его «депонирует».
Сегодня от него уходят с неполным представлением о решенном, стараясь запомнить слова, которые Путин произнес. Чтобы после сказать: «Владимир Владимирович, помните, в такой-то день, тогда-то вы мне сказали: «Что ж, так тоже можно». И эти слова превращаются в право на частную импровизацию. Нарастает броуновское движение, а Путин балансирует над ним, как президент броуновского движения. Но все менее управляемо.
Социальные сбои могут возникнуть скорее наверху, чем внизу. С падением экономики растет пассивность масс, привязанных к территориальной системе распределения. Система «садится на территорию», переходит в режим stand-by, и люди не предъявляют требования – им надо выжить. Нестабильной Система начнет быть вверху. Эта нестабильность уже видна, но пока она поглощалась. Убийство Немцова стало серьезным кризисом Команды, когда Владимир Владимирович понял, что на его заднем дворе хозяин не он, а люди из его же аппарата.
Кремлеречь
В аппарате власти с советских времен развит административно-политический язык (так называемый канцелярит) – язык недискуссионных авторитетных экивоков. Совет Безопасности РФ решает принять необходимые меры по стабилизации положения на границе. Это может означать прямо противоположные вещи: границу с Украиной закрыть или, наоборот, пропускать через границу российские танки. Письменные бумаги имеют такой вид, чтобы их можно было трактовать по-разному. Опубликованная «Новой газетой» бумага о действиях на Украине не «план Кремля», а записка, какие пишут аналитики лоббистов, представленных в Кремле. Кто-то из них и принес эту бумагу в Администрацию, но это не то, на чем пишут «к исполнению». Так конкретно деловые бумаги в Кремле не составляют. Записка формирует аппаратное мнение, а аппаратные мнения – это слухи, которые можно распространять в Кремле ничем не рискуя.
Устные указания здесь важнее письменных.
Без правительства
Говорят, в Системе РФ функция управления фальсифицирована. Действительно, управление в его функциональном виде отсутствует. Приближаясь к Кремлю, мы не находим места принятия решений. Половина громких российских действий прошлого года не были исполнением прямых директив президента. Это ситуативные инициативы лояльных ему групп, располагающих личными и аппаратными ресурсами, во обеспечение его и своих интересов. Такое приводит и к опасным событиям.
Пример – обвал рубля в декабре. Не было центра или человека, который все нарочно устроил. Люди в госбанках играли, беря рублевые кредиты, продавая их за доллары, и затем обратно выбрасывали доллары на рынок. Центральный банк принимал решения, но не мог их реализовать. Казалось бы, на его стороне президент – что еще нужно? и все-таки Набиуллина долго ничего не могла сделать. Госбанки использовали конъюнктуру, но Кремлю наказывать некого.
Вот бытовой пример коллапса исполнительной власти. Представительная власть потерпела фиаско раньше, ее не стало давно. Но обнулилось и единство исполнительной власти. Правительство стало экспертным центром оценки лоббистских предложений. Какие-то оно принимает, какие-то исходят из администрации президента, и одно не сводится с другим. Правительство не может позвонить в Кремль и сказать: «Так не делайте!», зато из администрации можно звонком в Белый дом остановить любое решение.
Исполнительная власть, знаменитая «вертикаль» которой и без того фрагментарна на уровне регионов, лишена верхушки в виде правительства. Кажущаяся управленческая катастрофа? Но мы все еще живы, значит, этой страной можно управлять без правительства.
МИДа тоже нет
Президенту нравится заниматься внешнеполитическими операциями, они надежный мотор популярности. Еще в первые годы президентства, когда положение экономики было плохим, его заслугой люди РФ называли «международный успех России». Внешняя политика – путинский домен, здесь все ориентировано на одобрение или неодобрение Путина. Международная политика, в отличие от внутренней, связана с президентом лично и более консолидирована. Но внешняя политика в Системе не размежевана с внутренней.
Центром политики является не МИД, а администрация президента. МИД как аккумулятор внешней политики живет довольно обособленно, а министр иностранных дел – то ближе, то дальше от окружения президента. Роль Лаврова зависит от игры, которую ведет Путин. Нужен ему Лавров в данный момент или нет? Если нет, Лавров как умный бюрократ отходит в тень, на вспомогательную роль. Тогда, демонстрируя командную лояльность, он говорит резкости в новом хулиганском тоне Кремля или зачитывает бесцельные речи, ни о чем не говорящие. Роль Лаврова – роль личного посла Путина, которого тот направляет или отзывает обратно. Когда личный представитель отозван, он никого не представляет. Лавров не отвечает за курс, проводимый Россией, и в этом смысле министра иностранных дел у нас нет. Однако без дипломатии трудно освоить успехи спецопераций.
Операции на Украине разрушали устойчивые связи России, и когда нужно их восстанавливать, опять появлялся Лавров. Для Лаврова периоды подготовки международных соглашений и принятия их – моменты аппаратного усиления. Он заинтересован в том, чтобы соглашения сохранялись, для него они элемент его устойчивости. Но верно и обратное – он заинтересован и в срыве соглашений. Тогда придется вырабатывать новые решения, и он понадобится опять.
Сурков сыграл заметную роль в подготовке Минских соглашений, не меньшую, чем Лавров. Лавров не договорился бы о чем-либо с военполиткомандирами Луганска и Донецка, это делал Сурков. Опять возник аппаратный конфликт компетенций, но Путин нарочно не разграничивает компетенции. И каждый, стараясь не конфликтовать с коллегой открыто (ведь это повредит им обоим), сам договаривается с ним о разграничениях.
Игры персонификаций
Всякий раз есть кто-то – скажем, Бортников или Иванов, – бывающий у Путина чаще, чем Сурков или Володин. А может, и не чаще, это неизвестно. Слухи, об этом распространяемые, важны, но не имеют отношения к реальности. Это средство усложнения аппаратной конкуренции. Слухи могут распускаться намеренно помощниками или даже самим президентом. Президент может бросить: «Что-то Володин ко мне зачастил». Управленчески неопределенный сигнал – то ли знак доверительности, то ли намек на охлаждение, обдуманно дезинформирующий.
Кто-то сказал кому-то: «в последнее время Сурков не вылезает от Путина». Что это значит? Неизвестно. Может, личное впечатление, а может, как у нас говорят, «разводку»: кому-то хотят намекнуть, что Сурков якобы вырос в значении.
Глава 6 Методика успехов Системы
Поведение российской Системы можно признать успешным, не обольщаясь низкими экономическими показателями. Большую часть черных слухов о России генерируем или гиперболизируем мы сами. Мрачный рассказ о том, как плохи дела «на самом деле», – наш жизненный фон. Но как же Система достигает успеха? Почему ее скромные достижения могут рассматриваться как превосходные? Для этого надо рассмотреть, как Система продает себя внутри и вовне России.
Гибридность как превосходство
Российская гибридность не «крымское отклонение», а принцип государственного строительства со времен империи. Либерал-реформисты перестройки закрепили тренд. Перенеся фокус политики с судебной власти на президентскую, они уже в 1990-е годы ввели РФ в иллиберальное русло.
Решения в Системе РФ – не решения в пределах норм, а решения, как обойтись с нормой. На месте принятия решений мы всегда встретим гибридные импровизации. Но условие эффектности гибридных решений – их заведомая бессудность, заранее известная исполнителю.
Российская патримониальная власть тяготеет к гибридным и/ или сетевым практикам. Патримония Кремля, окруженная рыхлыми недогосударствами регионов, хорошо сочетается с недонациональными элитами и любыми сетями, от социальных до криминальных. Наша власть всеядна. Она гибридизирует разнородные начала, легко синхронизирует архаику и ультрамодерн. Модернизация России оказалась невозможной потому, что гибридизация РФ давно состоялась.
Технология наглости
Исключительно важной характеристикой Системы РФ является ее внезапная наглость. Понимать это моралистически нельзя, здесь технический аспект производства нашей политики.
Наглость Системы связана с ее верткостью. Система легко объединяет воедино провластную повестку с антивластной (всегда в виде препарированных фрагментов). Команда Кремля высмеет любого, кто укажет на логические неувязки – почему бы нет, раз мы так хотим? Стартовый энтузиазм помешал распознать переход от аморального к криминальному. Авангардная привычка к превосходству над противниками – кому интересно, что там с этими вечно отстающими, с группой отстоя? Отсюда все более свирепые разгоны маршей несогласных к концу 2000-х. Отсюда и сепарация русских националистов на беззаконно сажаемых и безгранично коррумпируемых. А в итоге?
Наглость была функцией защиты при обходе витринных институтов. Затем она пересекла черту криминализации, когда передергиваются не аргументы, а законы и правовые процедуры. Если огосударствление НТВ в начале 2000-х производилось сравнительно законными средствами, то экспроприация ЮКОСа не могла быть произведена так – и прибегли к форсажу. Далее сектор политических спецсредств расширялся, а число профессионалов таких дел и доверенных злодеев умножилось. Пока не совпало с понятием лоялист.
Радикализация при виде чужих ресурсов
Когда речь идет о конфликтах, Систему ничто не сдерживает. Она легко обращает чужой цивилизационный потенциал в свой ресурс. Внешние ресурсы лишь повод и инструмент ее экспансии.
Она прекрасно чувствует себя в чрезвычайных ситуациях, которые умеет спровоцировать, не разрушаясь. Система РФ может впасть в бешенство и радикализоваться. Тогда в ней возникают фантастические проекты и вперед выходит бесподобное хулиганье. Сегодня государство опять радикализовано – власть нельзя было представить такой год назад. Чрезвычайщина – вот цена, которую слабая Система РФ платит за российскую antifragility.
Но Система РФ не вечна, а время от времени любая государственность в России перестает существовать. Это происходит не в силу протестов, а в силу принятых властью решений. Роковые для Системы решения принимают там же, где принимались текущие, – столь же непредсказуемые.
Из крушения СССР Система вышла подвижной. Теперь она не ограничена идеологией и легко сочетает закрытость со свободной игрой на чужих активах. Ей не страшно ни что люди бегут из нее, ни что люди сидят в интернете. У Системы РФ высшая степень устойчивости к возмущениям, которые для советской системы стали бы разрушительны. Ее новое основание в беспринципной всеядности – способности инициативно нарушить и преступить любую норму.
Недавно Система освоила даже революцию, правда, на Украине. Не подавляя более чужих революций, как царь Николай I или Брежнев, мы превращаем их в свой стратегический ресурс.
Лидер в срыве правил игры
В борьбе за лидерство на ранее занятых позициях есть две стратегии: предлагать подтверждения лидерства (победы, индексы, услуги, продукты) либо менять его критерии, то есть правила игры. При второй из стратегий импровизация обращена к выгоде отстающих. Внося хаос, Россия открывает другим поля маневрирования для решения прежде неразрешимых задач.
Вторая стратегия опасна. Россия, в 2014 году сломав правила игры в Европе, тут же выяснила, что ее уровень стратегического управления не отвечает масштабу ею созданного кризиса. Летом прошлого года возникла нужда в маневре, и Москва решила на Украине несколько отступить. Начав отступать, Путин увидел, что не все, кто шел на взлом европейских правил, готов отступать вместе с ним. Сломав на Евровостоке правила и затем отступив, Россия не может возразить против импровизирующих аналогично нефтяных шейхов, бомбящих Йемен и предоставляющих нефтяным ценам падать.
Возможный ответ в рамках «тактики ломки правил»: интенсифицировать угрозы на газонефтяном рынке. Но управление потребует более азартных ходов – поставок российских вооружений в Иран, а американских – на Украину.
Тактика ломки правил и force majeur
Тактика ломки правил ведет к коллапсу стратегического планирования. Россия попадает впросак, но впросак попадут и те, кто ставил на стабильность георыночного ландшафта и связанного с ним сырьевого.
Сколько продлится полоса низких цен? а сколько – терпение Кремля, рассматривающего давление на Россию как «спецоперацию»? Сколько еще продлятся годы жизни советского поколения лидеров стран Центральной Азии? Обозревая мировые переменные, мы поймем, что у Москвы есть резон выжидать. Чего именно? Форсмажорного события, которое сломает невыгодный тренд. И зря расслабился тот, кто верит, будто наша способность обрушивать чужие планы сошла на нет.
«Откат» как прецедент хорошего управления
Коррупция связана с неопределенностью и негарантированностью результатов ваших усилий. Отличие «отката» в том, что это перестрахованная форма коррупции: тот, кто имеет процент от вашей сделки, должен ее обеспечить (хотя и это не всегда обязательно). «Откаты» получили распространение в Системе РФ потому, что отличны от взятки как рискованного дарения при неясном результате. Откат упраздняет гиперконтроль, вынуждая сектор Системы к добросовестности, едва ли не «хорошему управлению». Это цена, которую Система выплачивает самой себе за то, что изредка ведет себя как обычное государство.
Но откат требует исключить все системы контроля, включая технический. В космической отрасли такое приводит к риску невозврата экипажа с орбиты.
Глава 7 Восточные слабости
Слабые места у Системы, конечно, есть, они на виду. Вопрос в том, различаем ли мы действительно ее сильные и слабые стороны? Часто приходилось видеть, как неинформированность оберегала Кремль от эксцессов, а бюрократический саботаж директив спасал страну от краха. «Путь вверх и путь вниз один и тот же» – со времен Гераклита в этом мало менялось. Систему часто спасает то, что она идет на абсурдные действия и оказывается не там, где ее поджидало горе. Мы вечно в побеге от долгосрочных стратегий. Но вопрос в том, найдет ли страна наконец безопасное для себя место.
Перераспределение великих побед
Что такое успех? Успех – это плоды. Плоды может принести удачная спецоперация или случайные факторы, которые возникли в другое время и созрели в эти дни. Яркий пример – так называемый демографический рост в России, связанный с демографическим эхом борьбы с алкоголизмом 1980-х годов.
Успех запускает распределительный механизм, встроенный в наш социум власти, наподобие русских checks & balances. Сталкиваясь с избытком удачи, социум власти пытается не запретить его, но перераспределить. А поскольку и прежние операции были связаны перераспределением, кому-то предоставят право преимущественного раздела. Тот, кому предоставлено это счастье, действует на свой страх и риск, даже чувствуя за спиной власть. Он премирует себя плодами чужих успехов. Ресурсы нужны для роста экономики, но еще более интересны для агентов перераспределения. С удовольствием накидываясь на эту поживу, они превращают ее в свой объект.
Здесь тайна будущей неудачи. Пока в фантазиях вождь развивает успех в оглушительный триумф, все, на кого он рассчитывает, включая бойцов, заняты перераспределением прошлой победы. Так заколдована кладовая Команды Кремля.
Импортозамещение однозначностью
Система РФ функционально одновариантна. Будучи довольно сложной и балансируя массу факторов, Система не признает свою сложность, требуя однозначных реакций. Но и под однозначностью она понимает не единое решение, выработанное при оценке вариантов, а нечто, что «носится в воздухе», считаясь мейнстримом. Происхождение такого мейнстрима часто телевизионное. Здесь вышел наружу конструктивный дефект Системы РФ: замещение государства централизованным вещанием на разнородную страну. Вертикаль власти заменяет унифицированный примитив, за который никто не берет ответственности.
При «импортозамещении» Система неспособна к композитным решениям, свободно комбинирующим отечественное с инодоступным. Импровизации требуют подвижного «агента-носителя» синтетических решений – автономные лица или малую группу, мотивированные не одной прибылью, а свободной игрой возможностями. Вместо этого с удвоенным доверием Система РФ обращается к некомпетентным «решалам» и преданным идиотам.
Паника, управляемая паникером
Панические состояния в политике обыкновенны. Паника властей обычно усугубляется паникой в медиа при последующей панике масс. Система РФ в ее новом нестабильном медиамодусе 2011–2015 годов творит искусственные паники масс и затем правит их именем.
Но умеет ли паникер хорошо управлять паниками? Политические катастрофы прошлого года подсказывают отрицательный ответ. Сегодня Команда тратит усилия на сдерживание реакций, возникших из-за ее прошлых решений. Но телегенератор массовых истерий не перестал работать, поддерживая нервозность выше среднего уровня и привычку к этому состоянию.
Прострация взломщика
Стратегия взлома международных порядков имеет условие, не соблюденное Москвой в марте 2014 года. Опрокидывая старые правила, желательно знать ответ на вопрос – куда потом? Возникающее на взломе стратегическое «окно» – краткосрочно и перегрето. Оно подымает волны сопротивления, где трудно держаться импровизатору. Был ли в Кремле поставлен вопрос о цели и дан ли ответ?
Обведем взглядом ландшафт 2015 года: это стратегические руины. Гипертонус власти, вцепившейся в Крым, нагромождая ненужные ей далее избыточные защиты – при тактике шейхов-нефтедобытчиков, ставящих на рост предложения нефти на рынках. Соотнеся лишь эти два обстоятельства, враги могут расслабиться, низкие цены сами работают факторами сдерживания России. Дешевая нефть – неплохой containment, сказал бы Джордж Кеннан, взглянув на происходящее.
Ужас пролонгации
Система наша безудержна и бывает в этом очень удачливой. Удачей было первое избрание Путина, и опыт с кланом Кадыровых в Чечне, и даже кризис в американской экономике 2008 года. Но удачи формируют в удачнике комплекс счастливчика. А безудержные счастливчики под конец проигрывают всё.
Система уязвима там, где ее считают почти всесильной, в пролонгации – в способности саму себя продлевать бесконечно. Но продлевая себя, надо чем-то жертвовать. Выборы в «самый выгодный момент» кажутся выигрышем, но могут вести к растрате ресурса поддержки, а не к его наращиванию.
Медведев и Путин увеличили сроки полномочий Государственной Думы до пяти лет. Смысл очевиден, это жест в пользу несменяемости и неизменности власти. Очередная защита всех, даже небольших потрясений, какими в эпоху стабильности стали выборы. Но выборы Думы в 2011 году породили сильнейшие потрясения, вошедшие в политическую историю России как «митинги на Болотной». А состав Думы подбирали для совсем иной эры, управляемой стабильности.
Протесты начала третьего путинского президентства взломали сцену, политика стабильности приказала долго жить. Возникла новая политика – конструирования врага. Политика «подавляющего большинства». Она не бежит от конфликта, а навязывает поддельный конфликт, диктуя образ врага и твое место «в битве» с ним, если сам не хочешь оказаться врагом. Дума-2011 легко вписалась в новые задачи, превратившись в сообщество, деятельность которого описывают терминами «взбесившийся принтер» и «госдура». Но в 2016 году предстояло ее переизбрание. Новая политика конфликта требует плановых обострений. Выборы зимы 2016 года перенесут на сентябрь, сократив полномочия Думы: фактически потеряв один политический сезон, тот вернется почти к прежним четырем годам.
Что мы видим в этом ходе власти? Отмену предположительной, гипотетической трудности, производимую с реальной затратой доверия сегодня. Это позволяет учесть одну важную особенность российского поведения: Система инстинктивно не терпит преград и препятствий. Они ей отвратительны, более даже, чем кризисы. Ограничения несносны для нас, если даже они непосредственно не мешают.
Чрезмерная сосредоточенность на мнимых угрозах – ресурс реального противника в будущем. Так ложная фиксация антикремлевской оппозиции 1990-х на фигуре Ельцина создала некогда кандидату Кремля Владимиру Путину прочный коридор, в тени которого он пронесся к успеху на выборах 2000 года.
Рейтинги страха и ужаса
Система РФ не терпит мировых рейтингов, особенно растущих коррупционных и снижающихся инвестиционных. Попытка посчитать несравненную Россию нас в принципе возмущает. Эталон мер и весов РФ один, и он хранится в Кремле.
Рейтинги современного мира обслуживают ликвидность его устоев. Они орудие давления на немодные экономики в немодных странах. Это не значит, что цифры кто-то подтасовывает. На спиритическом сеансе блюдечко бегает по столу, подчиняясь кинетике невротизмов участвующих. Рейтинги в экономике объективны постольку, поскольку невротичны. Рейтинг ААА в докризисное десятилетие 2000-х был долгой азартной истерикой желавших, чтобы глобальная экономика продолжала делать подарки. То же скажу и о рейтинге доверия власти в 12-летие «управляемой демократии».
Совсем другой невротизм сегодня – при виде России, забывшей о государственной предсказуемости, правительстве и прочих управленческих пустяках. Проблема рейтингования России не в том, что мы напугали рейтинговые агентства. Проблема в обратном: в нехватке у нас самих чувства опасности, связанной с состоянием страны. Такая Россия – место опасности, где залегание страхов вышло на поверхность, и ни одно мировое агентство не отбросит рисков столь азартной игры с глобусом. Вот почему Россия не имеет шансов быть «честно» измеренной – ни рейтингом агентства S&P, ни «аршином необщим» поэта Тютчева.
Часть 3 Игра на глобусе
Бесконечно ведут дебаты о том, какие из действий Москвы вызваны «внутренними», а какие «международными» соображениями. Этот спор бесполезен, поскольку Система РФ (как и прежде Союз, правопреемницей которого Россия является) имеет двойную идентичность и все главное здесь проходит вдоль границы, разделяющей страну и мир. Система продвигает себя в мире, как монопольного распорядителя Россией. Монополия над страной нужна ей, чтобы продать страну не единожды, а неограниченно и многократно. Мировые операции Системы – экзоскелет внутренней политики.
Глава 8 Глобальность Системы, ее экспансия и продвижение себя
Говорят о «советском и постсоветском (российском) экспансионизме», но сравнение неверно, хотя Система РФ экспансивна. Джордж Кеннан в «Длинной телеграмме» описал прагматику сталинской экспансии, вдохновленной идеями унификации мира. Россия не планирует унификации мира, поскольку ту уже обеспечила глобализация. Зато она навязывает себя глобализации как обременение и ее составную часть.
Глобальная идентичность – наш внутренний двигатель
Постоянную, отчасти выгодную нам путаницу вызывают трактовки действий России на мировой арене внутренними либо внешними обстоятельствами – те и другие всегда на виду. Однако Система РФ не является ни внутриполитическим, ни внешнеполитическим предметом.
Ее можно представить как поисковую систему для данного ансамбля социальных, сословных и этнокультурных образований. Увязывая возможность существования населений на столь большом пространстве с новыми внешними возможностями, она заменяет государственную среду в Северной Евразии. Извлекая из окружающих необходимые ресурсы, она строит на территории РФ временно устойчивые балансы. Эта единственная задача, которая успешно выполняется ею для данного евразийского множества.
Система РФ не геополитическая система. Она связана с ресурсами современной платформы глобализации, как предыдущие России связаны были с прошлыми глобальными платформами (Российская империя – с прогрессом Нового времени, СССР – с эпохой европейского модерна ХХ века). Но не может ни приступить к полноценному nation building, ни перейти в постмодернистскую фазу, наподобие Евросоюза.
Явно и грубо нарушив статус-кво в Европе 2014 года, Россия могла ожидать обвального ухудшения своих позиций, – но обвала не произошло. Режим антироссийских санкций возник, оказался малодействен. Каждый новый шаг усиливает в Европе разнобой, заставляя вспомнить о «Европе разных скоростей».
Политика исключения России несомненна, и со стороны США публично заявлена. Но США не могут зайти дальше, чем готова Германия, а Германия не зайдет слишком далеко, оторвавшись от упирающихся членов ЕС. У несогласных в Евросоюзе есть новый контраргумент – Китай. Легитимность экономических успехов Китая годами поддерживалась мировой прессой. Россия теперь в орбите КНР, и изоляция ее смягчена фактором китайской soft power: Путин принят в игру Си Цзиньпина. Китай не будет защищать Россию, но категорически не даст ей капитулировать перед западным режимом санкций. Политика исключения России – неумолимый каток суммы резолюций, изгнаний, санкций, возбуждения судебных дел – дробится, распадаясь на «казусы». Черный образ путинской России намечен, но, не складываясь в единое мировое мнение, не станет глобальным фактором. Вырастают новые европейские «пропутинские» лобби, часто не зависящие от Москвы. Итак, большая игра выиграна Кремлем? Нет еще. Система РФ снова зашла дальше самой себя. Внешние успехи укрупняют даже такие незначимые трудности, как очередные выборы в зарегулированной системе. Созданная глобальными зигзагами 2014–2015 гг. неопределенность пожирает силы Команды, и на простые задачи их не остается.
Часто трудно сказать, с чем имеешь дело – с государственным кризисом или политическим внутренним двигателем? Схема потери и возвращения внутренней устойчивости при добывании Системой новых ресурсов извне похожа на схему двигателя внутреннего сгорания. Вслед за выгодным для себя нарушением стабильности нарушитель сам теряет устойчивость. И ждет от мира новых подач.
Попытка жить без врага: эра стабильности
Что понимали в РФ под приоритетом стабильности?
«Стабильностью» в РФ 2000-х именовали признание факта, что у РФ нет серьезного внешнего противника. Угрозой, заменяющей прежнего «ГП» – главного противника, могущего уничтожить страну первым ударом, ни Аль-Каида, ни Шамиль Басаев с ичкерийским подпольем не были. Все 1990-е годы новорожденное государство испытывало нехватку врага и потерянную связь внутренней и глобальной политики.
Система не находила такого внешнего зла, которое подсказало бы внутренний мотив. И вошла в режим стабильности, подавляя любой запрос на конфликт – провластный или оппозиционный. То, что назвали «управляемой демократией», или политикой стабильности, было борьбой с конфликтностью, вносящей раздоры. Это было скучное время заморозки конфликтов. Отказ от внутреннего и внешнего врага называли «застоем». Но стабильность нельзя было сохранить на той основе, на которой ее строили. Цифры большинства 2000-х годов означали ожидаемый размер электоральной поддержки. И тем самым стимулировали ожидание выборов.
Путинский консенсус стабильности распался вместе с «тандемом» осенью 2011 года. Виновником не должен был стать Путин – следовательно, им должен стать внутренний враг. В роли врага Медведев был недостаточен. После эксперимента «кампании борьбы с коррупцией в верхах» (опасной неудачи Команды Кремля) врага стали искать вовне. К тому времени стиль массовых истерик уже освоили – на деле Pussy Riot и телеспектаклях после разгона митинга на Болотной. Останкино превратилось в массированное пропагандистское «ультравещание». Понятие истины или факта, кроме эмоционально однозначных, было отменено.
В Систему, обленившуюся за 12-летие стабильности, ввели инъекцию агрессии. 2013 год подкинул Украину; телевидение разыграло ее как врага.
Политика 2000-х не нашла возможности уйти от конструирования врага. В 2013-м почти незамеченной прошла последняя попытка Кремля спасти «управляемую демократию». Миролюбивый путинский Валдай-2013 с декоративной оппозицией, Навальный, допущенный на выборы в Москве, Ройзман – мэр Екатеринбурга и освобожденный Ходорковский. Все это вместе назвали «курсом на повышение конкурентности» – последняя проба вернуться к стабильности перед Олимпиадой в Сочи.
На телеэкранах уже велась «война за Украину», но никто в Кремле не ждал, что звезда сериала Янукович вдруг выпрыгнет из него в Ростов. Брешь мира, возникшая при крахе СССР, закрылась, открылся путь к войне. Стабильность кончилась. Начались телемобилизации масс.
Экзоскелет для внутренних дел
Система РФ не может быть собой в условиях стабильности. Российская Федерация работоспособна в чрезвычайном режиме, ее устройство практикует политику искусственной экстремальности. Главным затруднением власти прошлых 20 лет было то, что у страны отсутствовал реальный враг. Наша Система не знает, что делать, если у нее нет врага, поскольку отвергает человеческую жизнь как приоритет.
Эта государственно слабая система вынуждена искать себе внешний скелет. Экзоскелетом власти стало управление страхом, и экстремальные ситуации создают. Когда их нельзя создать внутри страны или эта возможность исчерпана, требуется экспорт. Вопрос не стоит так, что реальнее – внешняя угроза или внутренняя? В Москве это жестко связанные близнецы. Внешняя угроза нужна Системе по причине ее внутренней слабости. И на Украину Россия полезла не изза украинских проблем, а за собственной идентичностью.
Система РФ борется с внешним врагом внутри страны. Кремль в ответ на дело Магнитского внутри России принимает решение запретить зарубежное усыновление. Могут повлиять на Соединенные Штаты бедствия сирот в России? Шутили, что нашим следующим ответом Америке будет: «Бомбить Воронеж!» Это стало лучшей шуткой 2012 года. А в 2014-м уже бомбили Мариуполь.
Максимум контроля при минимуме ответственности
Правило Системы – стремление к максимуму контроля при минимуме ответственности за происходящее и за последствия. Поэтому контроль ситуации на Евровостоке через президентов – любимейший принцип Системы РФ.
Мотив такой политики Кремля – мотив Александра III, говорившего: «Несчастьем было, когда мы выступали вместе с народами, а не вместе с правительствами». Такой легитимизм не имеет монархического смысла, это восточный прагматизм. Евровосток – пространство без институтов, и ставка на народы и «демократический дух» здесь – ставка на неопределенность. Правительства, каждое из которых биржа обмена выгод на лояльность – единственный транспарентный для нас институт в стране, без этого непрозрачной. Но на Украине это привело к катастрофе.
Стремление к чрезмерному контролю Януковича, наткнувшись на контрконтроль Брюсселя и США, привело к тому, что президент сломался. Вышло из строя бесподобное средство мягкого контроля ситуации на Украине – ее президент. В час побега Януковича минимальная ответственность обернулась паникой в Кремле и (кажущимся) обнулением позиций РФ в Украине.
Санкции и экспорт проблем вовне
Что такое политика экспорта проблем вовне? Система РФ агрессивно обороняется, как только теряет линию отделения «чужих» от «своих» внутри собственных границ. Граница политически приемлемого – черта стабильности. Когда черта исчезает, ее идут добывать вовне, за пределами госграниц. Основа российской политики – бегство, а не атака, не экспансия. Экспансионистские инструменты применяются нами для нужд самоидентификации.
Санкции не причина кризиса, а новый образ мира для Системы РФ. Подобно режиму «капиталистического окружения СССР», глобальный режим санкций – вот имя ландшафта, куда готова вписаться Система РФ, не умеющая не быть мировой. Санкции – повод для новых радикализаций власти. В режиме санкций она будет искать для себя новый путь к глобальной идентичности.
Благодаря санкциям, Система РФ возобновила запас легитимности экстремального тонуса. Исчерпанный прежний мотив страха «народных масс» (в их сомнительной роли врага) заменился Повелителем Санкций – кем-то большим, чем Обама или Меркель. Система возвращается к ее естественной – чрезвычайной – основе.
Заявления Путина о «принуждении России к самоизоляции» – это отказ целиком разделить мифологию «крепость Россия». Миф, который летом 2014-го считал себя победившим, отклонен. Но отказ надо перевести из пассива в наступательную идентичность. Чтобы смиренно пойти на поклон к Западу, надо сперва «надрать задницу пиндосам»! И простой отказ от сползания к самоубийственной войне выдают за подготовку к фантазийному контрудару.
Беззащитная Россия и русское человечество
«Традиционную для России незащищенность» Кеннан объясняет соседством с более сильным, опасным, могущественным и организованным противником. Чувство незащищаемости евразийского пространства – от предстояния Москвы Европе, лучше организованной, чем мы. Кеннан диагностирует архаичность организации, не выдерживающей контакта на равных с системами западных стран. Запад опасен тем, что он управляемее, то есть культурнее. Отсюда он вывел русскую тактику защиты – борьбу на смерть без компромиссов.
Вопрос незащищенности Кеннан упростил. Но он позволяет лучше понять период 1990-х годов, когда угрозы со стороны Запада исчезли, но чувство угрозы не исчезло, а депривировалось. Исчез призрак угрозы Запада, и выяснилось, что в России хотят от Европы чего-то большего, чем безопасность.
Советский «образ врага» скрывал в себе амбицию слияния с Европой. В годы Горбачева они вырвались в утопический запрос, разрушительный для его медлящего реформизма. На рубеже 1980– 1990-х страх и недоверие к миру обернулись утрированным доверием к Западу с запросом на моментальную помощь. Внутри его содержалась скандальная для советского человека просьбак Европе реорганизовать русское пространство.
В начале 1990-х годов страна желала организации извне, силами Европы. Момент был недолог, но важен. Россия готовилась воспринять финальную форму реорганизации пространства, избавляющую ее от «кеннановской» неуверенности. Союз Европы с Россией ментально упразднял бы западную границу, конституирующую для русского оборонного сознания. Опасаясь себя, страна хотела, чтобы на ее пространство была наложена внешняя сетка надежных скреп, но не получила такого предложения.
Европа, объявив себя империей нормы, нормальности и права, возвела разницу в непреодолимый рубеж. Недотянутая президентом Медведевым идея «единого евроатлантического пространства» осталась непонятой даже для Евроатлантики. Идея общего пространства норм, где исчезает граница в ее старинно-русском, травмирующем смысле. Неудача травмировала Кремль дополнительно.
Россия откатилась к уязвленности и новой попытке построения обособленного «контревропейского» пространства. В этом откате заложена ревизия. «Уходя» из Европы, России надо «унести» побольше Европы с собой. Так, чтобы внутренняя территория стала достаточной для России «внутренней Европой». Так можно снова выстраивать новое евразийское или европейское (разницы в этом нет) – свое человечество внутри России.
Оттого любые территориальные компенсации для нас иллюзорны, фиктивны. Завышая ценность приобретения Крыма, ему придают символический вес всего утраченного европейского. Казахстан, Приднестровье, Белоруссия, Крым – лишь фантомные компенсации за похищенную у России Европу. Нам в России нужна Европа – как континуум неразрывного пространства «русского человечества».
Но что строить? Прежняя русская идея европейского человечества для нас уже невозможна – ни в форме коммунизма, ни в форме империи преемников Петра Великого. Россия пошла на смертоносный трюк: попытку собирать земли, не собрав даже прошлой русской культуры. «Сперва территории, потом (та или иная) идея» – так не бывает, и из собирания территорий идея не явится. Необходим новый универсальный мотив.
Глава 9 Глобальный режим антироссийских санкций
Антироссийские санкции, начавшиеся после отнятия Россией Крыма у Украины, встретили со стороны Москвы ответ. К настоящему времени они развернулись в международный режим глобальных масштабов. Режим санкций взбодрил российскую внутреннюю политику, вернув ее в естественное экстремальное состояние. Размен ударами и контрударами, показные и реальные переориентации стратегии в Евразии позволяют видеть в режиме санкций долговременную форму мирового порядка.
Глобальный режим санкций
Политика санкций с московскими «антисанкциями» вместе образуют глобальный режим санкций, вводящий в другое состояние Европы и мира. Хотя не исключено, что новый мировой ландшафт сложился бы и при других обстоятельствах чуть иным образом. Режим санкций испытывает пределы устойчивости современного мира, который мы плохо знали. Одновременно он испытывает пределы устойчивости РФ. Пройдя это испытание, Команда Кремля обновит основание собственной легитимности.
Путинское правило чрезвычайности
Путин (на прямой линии) ясно сформулировал правило чрезвычайности для Системы РФ: «А по поводу того, сколько и долго ли нам терпеть санкции, я бы вообще сказал: не терпеть – нам нужно использовать ситуацию, которая складывается в связи с санкциями для того, чтобы выходить на новые рубежи развития. Мы, может быть, и не делали бы этого».
Вот ясная формула использования экстремальности Системой РФ. Здесь она объединена с презрением Команды Кремля к любым нормативным режимам, которые ее ограничивают. Санкции оценивают вне связи с нарушенной нормой – полемика вокруг последней исключена. Санкции восприняты Москвой как полезный климатический сдвиг, вроде global warming, улучшающего условия навигации за Полярным кругом.
Режим санкций фактически слабо связан с дальнейшими действиями России. Пролонгацией санкций Соединенные Штаты и Евросоюз хотят зафиксировать конфликт на данном уровне и управлять им, не допустив эскалации. Того же хотят в Кремле. Но это не значит, что Кремль знает, как ему существовать в этом новом глобальном режиме санкций.
Тонизирующая политика исключения
Политика санкций, собственно говоря, это политика репрессивного перевоспитания. В основе ее лежит известная философская догма «стимул-реакция», из учения советского академика Павлова. Изолированный объект, на который наложена изолированная репрессия, якобы «учится», меняя поведение предсказуемым образом. Этот бихевиоризм лагеря восходит к сталинскому «пенитенциарному истмату»: так в СССР и РФ перевоспитывают зэков.
В реальности же России важна только широта и емкость коалиции участников санкций. Большинство санкций эпохи холодной войны были бесполезны, ведь коалиция в биполярном билагерном мире была невозможна (Куба – классический пример, ЮАР эпохи апартеида, рассорившаяся с обоими лагерями, – исключение, ярко подтверждающее правило).
В постполярном мире возникла возможность универсальных коалиций, выступающих от имени МОМ: «мирового общественного мнения». США борются за то, чтобы создать и возглавить такую коалицию. Ожидаемый успех антироссийских санкций заключен в намерении снизить коалиционный потенциал той, против кого они направлены. Такая борьба ведет к переменам в глобальном управлении, но едва ли – к успеху.
Систему РФ санкции чрезвычайно тонизируют, но не могут ни уничтожить, ни даже ослабить подвижность («верткость»). Чрезвычайщина стимулирует, вводя нас в знакомый «лагерный тонус» – тревожный, репрессивный, изобретательный. Внутри Системы возникают новые, прежде невозможные союзы. Заметно падение антикавказских настроений в националистической среде после включения сил Рамзана Кадырова в борьбу на Донбассе. Заметно участие активистов недавнего «болотного движения» в поддержке кремлевского курса, а то и прямо в боях на Украине.
Хакерская атака на Систему РФ
Режим антироссийских санкций является попыткой вмешаться во внутренние схемы российского поведения. Намерение властей Запада получить доступ к кремлевскому «программному коду» (В. Путин) дополняется нечеткой постановкой цели у западных «хакеров». Это не новая политика сдерживания, а попытка найти надежный инструмент внешнего управления РФ. Она отчасти удалась.
Легкомысленно осуждая внешнее управление странами, Москва выносила себя за рамки этой угрозы. Но с осени 2014 года мы уже фактически вошли в полосу реактивного управления. Действия Кремля, независимо от оценки их компетентности, явно реактивны. Сегодня Россия лишь реагирует на санкции, пытаясь давать отпор. Что это, как не внешнее управление? Устойчивая реактивность политики государства признак внешнего управления им. Но зависимое реагирование лишь запутывает международные дела страны, делая ситуацию опаснее.
Рефлексивная неясность
Путина тормозит неизвестность возможных будущих действий Запада, а действия Запада сдерживает неясность ответных действий Путина. Но полной симметрии двух неясностей нет.
Путин персонифицирует для Европы старые страхи европейцев перед деевропеизацей Европы извне. Страх деевропеизации Россией глубже теоретических чучел «московского колониализма» и «тоталитаризма» – это страх потери идентичности европейцем. Он подобен русскому страху «окружения и распада страны» – возможно, оба страха возникли одновременно и связаны друг с другом.
Кремль устрашен множественностью центров принятия решений на Западе. Его останавливает неопределимость суммы сложения западных векторов решений, зато эта же плюральность предоставляет соблазнительный простор маневрирования.
Стороны режима санкций взаимно отслеживают впечатление, которое их шаги производят друг на друга. Сдерживая реакции и скрывая страх, они дозируют ответные маневры. (У азартных игроков это зовут poker faced.) Неизвестность обучается быть рефлексивной.
Санкции как проявитель
Режим антироссийских санкций – глобальный режим в двояком смысле слова. С одной стороны, он ограничивает мировой вес России в экономической, технологической и культурной перспективе. В то же время он импровизирует глобальную перестройку, назревшую независимо от России. И мы ждем, что режим санкций выявит места напряжений и откроет путь катастрофизму глобальных последствий. На это и рассчитывает правящая команда: Россия как мишень санкций должна стать бенефициаром их неучтенных революционных последствий.
Невозвратимая норма[8]
Расчет политики выжидания многоцелевой. Во-первых, дождаться выброса скрытых мировых напряжений (которые в Кремле часто оценивают неверно. Например, что-то подобное бойне в Париже Москва ожидала, и именно потому неверно проинтерпретировала как «закат Евросоюза»).
Западная политика санкций не повысит склонность Кремля к прежней норме, а ведь именно это базовый аргумент санкций. Впрочем, очень рискован и наш соблазн воспользоваться деструктивными мировыми последствиями санкций или даже их усугубить.
Контригрой России может стать затягивание процесса при вовлечении в него новых незападных участников. Это подрывает шанс нормализации, толкая всех в противоположную сторону. Если вообще возвращение к норме возможно в принципе.
Новый фактор времени
Особенностью политики антироссийских санкций является непредсказуемость шагов участников конфликта для них самих. Отсюда такой фактор режима санкций, как мобилизация и готовность всех к внезапным разворотам.
Готовность не равна и ограничена материальными и нематериальными факторами. В конечном счете от этого зависит исход игры, но от этого же зависит и масштаб последствий. При отливе, как говорит У. Баффет, «мы увидим, кто был без плавок». Игроки разгорячены рисками, удваивая свое внимание и подвижность. Опасно недооценить азарт, который у них возникает, и особенно панические состояния, которые станут толкать их под локоть.
Возникла необходимость в перерасчете времени. Путин, отвергающий фактор времени внутри страны, для всего мира сам стал фактором, жестко сокращающим сроки. Но режим санкций явно устойчив, и все обдумывают выгоду, которую смогут извлечь. Эта мотивация, оттеснив начальные цели санкций, постепенно становится основной.
Что потом?
Система РФ хотела бы выйти из режима санкций, но не хочет возвращаться к досанкционному ancien régime. Россия не признает своей вины за подрыв порядка, который в украинском крахе показал неустойчивость. С точки зрения Команды Кремля, их крымская игра ничем не отлична от игры саудитов с ценами на нефть.
Кто сегодня реально совершает бесповоротные шаги? Одна Россия. Прочие все еще верят, что смогут вернуться, и только Путин знает: возврата нет. Это делает его заново сильным, для многих опасным партнером.
Глава 10 Ложные друзья аналитика Системы РФ
Система (в отличие от описанной Кеннаном советской) терпит и поощряет неопределенную массу версий своего устройства. От «тоталитаризма» и «колониальной империи» до «геополитики Путина» и «мягкой автократии». Разница концепций политически несущественна, а сами они не соотносятся в поле стратегий. И каждая из версий указывает на реальный неопознанный фактор, но не зная какой.
Геополитика – вот удобный способ «видеть общую картину», ничего ни о чем не зная. Геополитик мгновенно даст правдоподобную версию любой политики, о которой узнал от начальства. Геополитика умеет приписывать врага в сколь угодно нейтральный ландшафт, а тем более в неясную ситуацию. Подделывая факты, Система РФ подделывает и их связь в общей картине.
«Имперские амбиции России» как художественный проект
Есть понятие «ложные друзья переводчика». Когда слово на слух звучит понятно, но смысл его совершенно другой. А есть ложные друзья аналитика, например «империалистические планы России». Дело в том, что скорее все наоборот – при непонятности национальных интересов власть бессильна строить стратегию. У Российской Федерации изначально не было врага – и его выдумывали, а исходя из этого, придумывали себя. Что такое «большой имперский нарратив»? Ведь империи нет, и ни одной реальной задачи, которую решала империя, нет.
Имперский проект России – это литературно-художественный проект. Имперские литераторы имеют влияние. Это влияние всегда лишь отчасти политическое, а более эстетическое. Но люди, которые пишут геополитическую беллетристику, как Проханов или Дугин, – довольно популярные писатели. Такие люди с их эстетикой всегда оказывали влияние на силовые кадры. Имперская беллетристика прямо на политику не влияет, зато влияет на читателя-офицера. Безответственная риторика в сочетании с действиями на Украине пугает, но в ней нет ни имперского, никакого вообще проекта. Даже задача сохранить союзников России противоположна задаче экспансии. При попытке расширения страна потеряет всех тех союзников, что имела.
Кеннан против фантастики
В чем строгость постановки вопроса о России Джорджем Кеннаном? Он отказался приспосабливать стратегию к любым версиям о власти в России, переступив через все объяснения «русским колониализмом» и «наследием царизма». Глядя на игру Москвы, он сказал: русские определились, они не изменят своего поведения ради нас. Отбросив зачарованность персоной Сталина, Кеннан опередил и его самого, так и не признавшего советскую систему законченной. Сталин фантаст, а Кеннан реалист: дело сделано. Советское поведение таково, что бы советские о себе ни мечтали.
Кеннан отец стратегического понимания русского поведения. Игрок его стиля видит чужую игру как поле для своей. Вот почему автор стратегии сдерживания так презрительно чужд геополитике. О пространстве и географии Кеннан говорит лишь как о факторах, политику искажающих, а не «вечных геополитических интересах».
Как фэнтезийное сообщество захватило Генштаб
Чем заполнился наш вакуум дебатов, прежде чем стать фактором стратегического ослабления России? в 1990-е годы Россия потеряла интерес к устройству реальности. Импровизация реформ сопровождалась непониманием их цели и рамок возможного. Программирование сосредоточилось в столь тесном кремлевском кругу, что прочим умам нечем было заняться. И те сочиняли геополитические фэнтези. За 1990–2000-е годы сочинены горы треш-фантастики о ярком военном будущем России. В ней все препятствия отменены силой воли и магии, герои там никогда не отступают. Переполненная картинками великих битв с мерзкими тварями-врагами и беспричинных русских побед на ними геополитфантастика стала любимым чтивом силовой номенклатуры. Ее стратегическое «либидо» подавляет в мозгах аппарата умение видеть границы национальных интересов. В среде секретарей, референтов и кадровиков сформировалось обширное фэнтезийное сообщество РФ. И однажды пишущие о Безупречных Героях, противостоящих Ужасным Демонам Запада, сами превратились в беду. Обученные не верить реальности и критической оценке, их кадры пошли в Донбасс. Мечтая не столько о покорении мира, сколько об отмене его сложности и неподатливости.
Оценим роль имитаций в российской «идеологии момента». Вербуют кадры энтузиастов, мотивированных бросовыми сюжетами из теле-ток-шоу. Вооружают их настоящим оружием – и покидают в реальном непонятном чужом ландшафте, переописанном фэнтезийно как «наш». Стрелковое оружие стреляет, пробивая липовые бронежилеты украинской армии с ее разворованных складов. Отстреливаясь, та испепеляет гипсокартонные перегородки горожан Донецка, вдруг оказавшихся посреди Великой Битвы Магов, в своих квартирах между шахтой и продмагом. Перестав быть смешной, фантастика стала хоррором, предвещая новый глобальный тренд.
Геополитика как искусство «детского мата»[9]
Известная пропагандистская контрпара: «Россия традиционно экспансионистское государство» vs. «Россия всегда лишь оборонялась от злых русофобов». Противоречия тут нет. Россия проводит тактически оборонительную политику, при отсутствии оборонительный стратегии. Отсюда русский маятник от изоляционизма к экспансии и от агрессии к самообвинениям. Отсюда гигантская сила обид в дипломатии Москвы. Нас не понимают ни когда мы боимся, ни когда вдруг огрызаемся.
А геополитика еще и превосходный способ запутать себя и всех. Она с театральным пафосом настаивает на недодуманных интересах. Так, Россия к концу XIX века имела реальные интересы на Дальнем Востоке и в Азии, но священной коровой империи оставались Проливы – где России уже большего хотеть было нечего. Вот и сегодня РФ борется с (безвредными для ее реальных интересов) США, и где? в Донбассе. Не нужном ни США, ни ей, ни, как кажется, самой Украине.
В основе краха стратегий лежат смещенные интересы. Так, мотивом американо-китайского сближения 1970-х – убийственного для СССР – стало довольно случайное событие – ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году. Испуга перед блицкригом Варшавского блока председатель Мао не показал, но предпринял шаги, чтобы заинтересовать собой США – и этого добился. Военно-технически успешная оккупация Праги Москвой опрокинула сценарный финал холодной войны. Мейнстрим разрядки ринулся в американо-китайское русло, и Китай (а не СССР, чего в 1960-е ожидали) превратился в приоритет американских усилий. Геополитическая паника сильного Брежнева из-за слабого Дубчека привела к американо-китайскому альянсу и направила западные инвестиции в КНР – вместо СССР. Так «вежливо» взятая Прага породила китайское экономическое чудо с обнищанием СССР и РФ.
Часть 4 Коммуникации и символическая политика
Система РФ пользуется всеми видами современных коммуникаций, внутренних и мировых, которые применяет странными способами. Все виды использования медиа Россией известны мировой практике, но собраны в необычный ансамбль. Говорят о «российской пропаганде», но перед нами – симбиоз или колония слабых институтов и инвалидных социальных групп, вынужденных прибегать к эффективным мультимедийным протезам. Результат этого не столько цензура печати, сколько цензура мозгов Кремля – «имплозивная цензура».
Глава 11 Имплозивная цензура в Архипелаге Останкино
Радикальное отличие Системы РФ от советской – ее отношение к фактам. За подделку данных при Сталине расстреливали, а при Брежневе исключали из партии и судили. В Системе РФ подложные факты – норма, они ненаказуемы. Факты нужны властям лишь изредка и из чистого любопытства.
Современные коммуникации в России развились при обвале простых средств территориальной связи. Став внутренней коммуникацией власти, сегодня они обеспечивают ее осуществление в РФ. Государственность свелась к сумме рассказов о том, что она существует.
Всемогущее неинформированное поведение[10]
Кеннан писал о «неразгаданной тайне насчет того, кто на этой великой земле получает точную и объективную информацию о внешнем мире… Я не склонен верить, что даже сам Сталин получает объективное представление о политической ситуации в мире». В этом рассуждении он был совершенно прав.
Кеннан первым отметил стратегическую неинформированность Системы. Сегодня мы тем более вправе поставить аналогичный вопрос: куда наиболее эффективно нацелены цензурные фильтры, из Кремля вовне – или из мира в Кремль? Последний ответ мне видится предпочтительным: цензура в Системе достигает максимума в зоне принятия государственных решений.
Российская власть увязана с особым обращением с фактами. Ей невозможно получать релевантную информацию в удобных для действия форматах – какой ее получают конкуренты. Почему в России нельзя выстроить систему обработки информации, аналогично США или Китаю?
Невозможность получения релевантной информации связана с переизбытком нерелевантных ее форматов. Место точной информации занято внутривластными коммуникациями, то есть бреднями. Накапливая и передавая колоссальные объемы ненужных данных, российская власть стала сама для себя «средством массовой информации». Проникнув в частные отношения, она оказалась перегруженной пустыми сведениями об обходе правил и теневых уловках.
Обремененная доносами на свои кадры, их клики и группировки, она подобна мозгу цифроголика, расслабляющегося только «шутерами».
Теневые данные о теневой жизни – вот русские Big Data. Данных всегда слишком много, и они уже упорядочены способом, не дающим возможности их оценить. Все сообщения или оценки маркируются лояльностью или враждебностью источника. Ничто не news – новость всегда уже чья-то. Догма Кремля: «объективных новостей» не бывает – объективны только данные следствия.
Всякая информация есть чья-то дезинформация. Все публикации – «заказные» и выражают частный интерес одного из «кланов».
Зато сведения темного происхождения, исходящие из ближнего круга, имеют более высокий знак доверия – ценность информации определяет аппаратный вес источника.
Где накапливать информацию? По логике Системы РФ – в голове человека «на самом верху». Неаппаратные хранилища информации, к которым аппарат мог бы обращаться наравне с частными пользователями, невозможны. Аппаратная борьба секретоносителей вместо циркуляции сопоставимых данных – в этом вся информационная жизнь Системы.
Новости на ТВ преобразуют в эмоционально шокирующие сериалы, поражающие сознание правящих лиц. Команда Кремля инфицирована своими токсинами, и, загружая в себя фальсификаты, она вынуждает высших лиц страны защищать их достоверность. Особо вредоносно распространение якобы конфиденциальной информации в виде конспирологических слухов. (Такие бумаги неизменно обращают внимание лиц, принимающих решения). «Конспирологемы» выполняют в Системе роль вредоносных компьютерных программ-вирусов. Такой мозг не способен опознать достоверную информацию, даже если случайно с ней столкнется.
Доверенной группе официальных и частных СМИ предоставлены широкие права на любые пропагандистски уместные искажения – их не надо даже предварительно оговаривать. Не запрещено и просто выдумывать факты. Социологические исследования ведут исключительно ради публикации «рейтингов власти», лишенных значения социальных индикаторов. Механизм ответственного анализа и информационной работы внутри власти демотирован. Команда Кремля попала под обаяние ею же распространенных сказок о заговорах и тотальной лживости СМИ – и сама действует точно так же.
Архипелаг Останкино
Комично, что потеря грани между фантазийным и реальным происходит именно с адептами Realpolitik! Именем циничной гипотезы о реальности, Команда Кремля растратила навык опознания реальных угроз.
Цензура в системе управляемой демократии 1996–2012 годов исподволь нарастала как установка власти на информационно-политическое доминирование. Нарастала и тирания постановочных нарративов. «Архипелаг Останкино» вырастал еще со времен кампании Ельцина в 1996 году. Но, как показал 2014 год, нельзя вечно нагнетать пропагандистский нарратив, оставаясь вне его власти. Особенно если речь идет о телевидении. Если даже Путин никогда не включал телевизор, ему докладывают те, кто не выключает. Впрочем, известно, что и Путин заядлый телезритель.
Имплозивная цензура
Кремль – место России, наименее осведомленное о положении в стране и в мире. Здесь особенно глубоко в подкорку внедрены ядовитые мемы и сюжеты Останкино. Добавочные фальсификаты данных поставляют созданные за последние годы сыскные подразделения в интернете (к чему также привлекают и социологов).
Правящий модуль Кремля снабжен сверхсовременными программами фальсификации данных о внешней среде. Цензура на выходе перешла в имплозивную цензуру входов. Пробить ее «сверху» почти невозможно.
Контролируя почти все, Кремль не контролирует контент, поступающий по каналам контроля. Кремль – информационный раб имплозивной фильтрации фактов. Включая факты о том, что творится в черепах его кадрового актива. Опираясь на преданные кадры, вынужден терпеть их безумие. Все активы слегка «не в себе» – близость к центру власти формирует в них комплекс всевластия. Избыток безопасности в опасном русском мире приводит к устойчивой дезориентации.
Как рассказал мне гранд медиарынка, охраняемый ФСО, у него потеряно чувство реальности. Человек движется, не касаясь физических вещей; охрана открывает перед ним двери, она вызывает лифт. Будто в компьютерной игре – если он повернул налево, то и реальность поворачивается с ним вместе. Рассказывавший описывал это как трудную психическую проблему. Сопротивляясь психозу охраняемого, он раз в неделю один без охраны выезжал за продуктами на рынок. Так он спасал память о том, что мир существует в реальности, а не внутри охраняемого периметра.
Безумие охраняемых – один из типов безумия актива, сказывающихся на обработке данных. Люди, критичные к информации и подвижные в рискованной среде, поначалу умели отличать факты от фальшивки. Но, поднимаясь все выше, люди Команды Кремля стали жертвой имплозивной цензуры, потеряв всякую способность неаппаратного различения.
Лидер с некогда трезвым и ироничным умом ежедневно переводит реальность на язык вымысла. Ведь теперь значительная доля обязанностей измышлять реальность лежит на нем. Но один и тот же человек не может анализировать факты, одновременно придумывая фальсификаты, нужные для их сокрытия.
Глава 12 Советские игры для девиантов
Права на советскую идентичность у Системы РФ такие же, как у мыши в амбаре – на славу передовика труда. Большинство схем, построек и словарей Системы скомпилированы из советских комплектующих. Но все это увязано вместе вполне «антисоветскими» методами. Сталкерские умения советских людей в обстановке открытых рынков превратили Систему РФ в глобального сталкера.
Игра в «советское» для отклоняющихся
Советское начало в Системе РФ играет колоссальную, нарочно размытую роль. Мнение, будто в Системе РФ мы имеем дело с перелицованной советской системой, ложно, зато оно идеально камуфлирует ее новую репрессивность.
Лидеры РФ не раз в категорической форме объявили, что Союз невосстановим и бесповоротно утрачен. Но нет и дня, когда те же лица не цитировали советских прибауток и не ссылались на обычаи в СССР как актуальные по сей день нормы. Сохраняя харизму государства-спасителя от реванша советского коммунизма, Система РФ вместе с тем обращалась к харизме государства-наследника СССР – жертвы западного мира и внутренних врагов. Власть ни за что не окажется от этой двойной игры, расширяющей ее маневренность. Но эмоционально Система РФ равнодушна к идейным истокам русского коммунизма и его главной ценности – всемирного братства людей.
Система РФ обращалась к СССР, якобы ограждая Россию и мир от дурных свойств покойного. В глазах мира Российская Федерация извлекала добавочную легитимность, «предотвращая советский реванш». Теперь она перестала это делать: Россию мистически спасают от врагов, погубивших СССР (и для РФ попросту неактуальных). Из-за этого возникли проблемы с легитимностью на глобальном уровне.
Новые карты обид
Советская система после войны провозглашала, что не имеет иных внешних целей, кроме оборонительных. Но ей был несвойственен «дискурс жертвы». Система РФ на разные голоса – от телехулиганов «России сегодня» до оскорбленных ламентацией Путина и Лаврова – выступает как притворная потерпевшая.
Россия здесь жертва обид, обманов и посягательств. Вечно поруганная, она обесчещена и имеет исторические права на компенсации (объем которых несметен, поскольку поругание было бесконечно). В пример ставят известный исторический ряд: Беловежские соглашения, расширение НАТО на восток, систему ПРО, вплоть до революции в Киеве. Даже непризнание отнятия Крыма рассматривают как обиду.
Поднятое знамя обид – новая черта российского поведения: пускай мир заплатит за «наши» несчастья! У «нас» была великая история, «мы» были великой державой, и все это похитили, а украденное хранят где-то на Западе.
Такой ресентимент наметился еще в рамках гласности (Россия, которую мы потеряли). Но то, что носило характер пустой литании, стало нынче государственной доктриной.
Другие отклонения
Поведение советской власти было производным от идеологии и складывающихся условий: официальная идеология недискуссионна – зато на нее можно ссылаться в требованиях к властям. Поведение российской власти уже не связано никакой идеологией и целиком диктуется обстоятельствами. Гражданин не смеет чего-либо добиваться от власти, ссылаясь на принципы.
Советская система создана и видоизменялась людьми, помнившими революцию, гражданскую войну, коллективизацию и террор как личные или семейные воспоминания. Система РФ строилась на основе «киновоспоминаний». Имперское прошлое, революция, Сталин и Победа присутствуют в ней лишь как советские кинообразы, из которых власть склеивает новую общественную память.
Разрыв с Просвещением, криминализация Запада
Коммунистическое движение мыслилось как Страшный суд над миром, именем истины, понятой по-просвещенчески: истина сокрушает старый мир вместе с его нормами. Отсюда следовало, что перверсии капитализма лишь частность и объяснимы «отсталостью»: Запад не виновен в том, что еще не просвещен светом идей коммунизма.
Сегодня в РФ не то. Сегодня власть – носительница норм. Запад если имел отношение к норме, его потерял. Там – тьма, «Гейропа».
Носители и попечители нормальности одни, это мы, Россия. Нормы отдельно от Системы РФ нет и не может быть – вот новая доктрина. Наше поведение не судимо ни по одной мировой норме, ведь мы эталон норм. Нам подсудно чужое поведение, а нас судить нечего. Мы судия миру, мир – не судия нам. Русофобия в нашем понимании тоже отклонение от нормы. Русофобы извращенцы, они больны.
В Системе РФ Запад уголовно виновен. Образ Запада в российском поведении, в отличие от советского, деидеологизирован, но криминализован. Новое основание поляризации рвет с русской политической культурой.
Система РФ – глобальный сталкер
Система РФ работает на мировом рынке, как сталкер. Запад – зона болезнетворных мутантов, где сталкера окружает Зло. РФ тактически открыта, но стратегически недоговороспособна. Это выражено в отрицании реальности мирового общественного мнения и в хулиганской борьбе с ним.
Сталин не отрицал мировое общественное мнение, с тех пор как открыл для себя его полезность – сперва как левый антифашистский ресурс, затем как ресурс пацифизма. После войны Сталин часто и охотно говорил об общественном мнении, умело его используя. (Возможно даже, что он один из творцов послевоенного культа «мирового общественного мнения», МОМ, который к концу века превратился в догму.)
Для России МОМ – враг. Инструмент, которым развалили Советский Союз при помощи диссидентов и других «агентов влияния». Общественное мнение, связанное с мировыми медиа, – противник, от него нужно защищаться.
Цель РФ, в отличие от СССР, не освобождать мир, а очистить Россию от чуждых влияний (навлеченных либералами). Санация России – вот новый проект вместо освобождения. От чего?
В советской культуре была масса подделок, сама практика фальсификации памяти властями РФ унаследована от сталинизма. Но советская Россия мыслила себя проводником освободительной программы русской культуры, ее прямой наследницей. Эта частичная правда стала официальной догмой. (Не было речи Сталина, где тот не процитировал бы русского классика-аболициониста – Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Некрасова или Толстого.)
Под собирательным именем «либеральных влияний» Система РФ понимает именно русскую культуру. В любых ее политических изводах – революционных, консервативных, либеральных – неважно, все они «проевропейские». Вся русская культура XIX века – спецоперация Запада, а Петр Чаадаев вообще агент английской разведки.
Система РФ, в отличие от советской, не стоит на прочном основании. Русская культура несовместима с моделью российского поведения, диктуемой в Системе РФ. Кто-то кому-то должен будет уступить.
Глава 13 Система и оппозиция
Эта небольшая глава включена в книгу более для того, чтобы автора не упрекнули в отсутствии темы российской оппозиции. Это не значит, что тема не может быть рассмотрена специально, как яркий пример деструктивности российского поведения. Нищета оппозиции в Системе РФ – политически циничной и идейно всеядной Системы – не означает, что та не сумела бы потерпеть сильный вариант. Дело в том, что Систему РФ не все в ней умеют готовить.
Где «русский национализм»?
Формирование русского национализма внутри СССР и затем в РФ шло полностью помимо дебатов о национальных интересах России. Русский национализм всегда выступал как факультативный набор приписок к аппаратному верховенству, лишенный веса в стратегических делах. Всегда готовый к участию в грязных полицейских проектах и силовых эксцессах, он стал пятым колесом власти. Не споря о национальных интересах, но дорожа погремушкой «державной мощи», национализм не приобрел своего государственного лица в РФ.
Где оппозиция на этой картинке?
Нет ничего более грустного, чем так называемая российская оппозиция, то есть среда людей, обсуждающих «конец путинского режима» и «Россию после Путина». Этим терминам соответствуют реальные будущие ситуации. Проблема не в том, что перемен не может быть – проблема в том, что перемены происходят в контексте не обсуждаемых оппозицией и ей неизвестных изменений Системы РФ.
Режим санкций делает будущее все менее предсказуемым. Дело может закончиться потерей всякой управляемости в РФ, внешней и внутренней. Но это не значит ни что так исчезнет Система РФ, ни что оттуда исчезнет Путин, а тем более «путинское большинство».
Санкции Евросоюза, очевидно, призваны были сформировать внутри РФ публичную группу их поддержки. Но чем политически стала бы эта группа? Будь она лоббистски эффективна, она не станет проевропейски ценностна. Будь она оппозиция, то столь суицидальный лоббизм и вовсе политически бесполезен.
Проблема оппозиции не в том, что та якобы не умеет «говорить с населением» – она непрерывно тараторит, однако про что? Оппозиция хочет рассказать путинскому большинству о «путинской коррупции»? У нас не верят в существование некоррумпированных людей. Некоррумпированного человека в РФ считают фантастическим зверем. Все используют преимущества, в обмен злоупотребляя правами. Даже порицание коррупции считают знаком причастности в ней. Воровство раздражает и утомляет человека, но люди догадываются, что оно обеспечивает режим распределения рент и бонусов в «социальном государстве РФ».
Еще глупее говорить с «путинским большинством» о Путине, ведь люди всегда готовы о нем поговорить! О его легендарных злодействах, сказочных красавицах-женах, деньгах и дворцах: весь набор сюжетов «Морфологии русской сказки». Мифологичные темы тяготеют к своему мифологическому герою, нисколько его не дискредитируя.
Проблема реальности в Системе РФ укрупнилась, но о ней по-прежнему некому и не с кем говорить. Если найдется кто-то, кто заговорит с бюджетниками о реальности, он и станет оппозицией или, возможно даже, самой властью. Но пока что обе функции совмещает лично Путин.
Часть 5 Большая стратегия либо большая война
2012–2014 были годами Putin’s moment. В 2015-ом настал мировой Kennan’s moment: державы, люди и силы должны выработать стратегию нового мира либо попытаться навязать свою прежнюю остальным. Последнее означало бы войну. Есть ли в России или в остальном мире потенциал для мирного варианта? Неизвестно. Моя ставка – на Систему РФ!
Глава 14 Сдерживание по-русски и не по-русски
Политика сдерживания, как ее понимал Джордж Кеннан (containment), одна из труднейших для теоретиков, а для практиков особенно. Банальная трактовка, когда сдерживание понимают как вид угрожающего поведения и политика изоляции, здесь не рассматривается. Но каждый, кто знает, что такое настоящая сила, и сам ею обладал, понимает: бессильного сдерживания не бывает, а безудержная сила сама найдет свой конец.
Принуждение к расчетливости
В послевоенном американском докладе NSC-68 политика сдерживания обозначена как «являющаяся на самом деле политикой постепенного, расчетливого принуждения». Принуждение и сдерживание трудно политически различимы, само их различие в дозировке. Можно говорить о шкале интенсификации, от одного к другому – от сдерживания к принуждению.
Секрет успеха политики сдерживания заключался в наличии сил принуждения при снижении числа поводов для него. Containtment втягивал противника (в случае Кеннана – СССР) в долгосрочный процесс признания реальности. Контакт с реальностью подрывает утопию, сбивая агрессивный пафос навязывания себя. Глупо же устраивать театр с демонстративным битьем себя в грудь – ввиду американских авианосцев и ракет «Першинг» в Европе. Еще важно, чтобы сдерживаемый помнил, что и он сам также сдерживает противника.
Политика сдерживания должна быть готова к силовому отпору – иначе сдерживание просто блеф, и блеф будет вскрыт. Но симметрии сторон нет. Одна из сторон действует в своем обычном, технически-операциональном пространстве, другая застряла в догмах и сама в них не вполне верит. Москва не смела признаться себе в том, что она не адекватна в определении целей и принятии решений. Она запрещала себе об этом знать.
Сегодня, читая послевоенные дебаты между Кеннаном, Гартманом, Полом Нитце и другими, можно поразиться обилию оправдавшихся пророчеств Кеннана. Но секрет политики сдерживания не скрывали: это ставка на внутреннее развитие, включая развитие стратегического мышления Москвы. Сдерживание принуждало Кремль отнестись к реальности всерьез и начать ее мыслить, но идеологическая структура запрещала исследовать свои политические ограничения. Не вина политики сдерживания в том, что, начав мыслить, рекурсивный мозг Кремля схлопнулся, и Союз исчез.
Сдерживание по-русски
Присоединение Крыма возродило дебаты о сдерживании России. Дискуссия на Западе идет по накатанным процедурам выработки подходов и оценки их перед тем, как прийти к консенсусному решению. Между тем и Россия продемонстрировала вклад в технологию сдерживания.
Назову это сдерживанием по-новороссийски.
«Новороссийская» модель сдерживания предполагает серию ударов по сложившемуся порядку в его уязвимом месте. Незащищенном оттого лишь, что его считают стратегически бесполезным (как Донбасс). Удар нарушает стратегию тех, кто ее имел или полагал, что имеет. Ошеломляет не военный результат (он ничтожен), а неясность уровня дальнейших угроз.
Политика России на востоке Украины от апреля к сентябрю 2014-го – серия странных действий в невыгодных местах, осуществляемых необычными субъектами. Стрелков, батальон «Призрак», Бородай и чеченский ОМОН опрокинули ожидания, создав на Западе страх перед чем-то еще более невероятным. Истерики телеведущих и кровожадные записи в блогах с требованием «идти к Ла-Маншу» (якобы отражающие цели «кремлевской партии войны») – часть той же схемы: пиротехнический спектакль с использованием тяжелых вооружений. Что приносит скорее психологический эффект, чем военный.
То, что выглядит «актом агрессии», по сути лишь дезинформационная операция на выигрыш времени. Вслед за чем в Кремле, вероятно, думали перейти к урегулированию.
Но такое сдерживание – не стратегическое, а тактика слабых. Согласно Генри Киссинджеру в его книге On China, нечто подобное практиковал еще председатель Мао в ранние годы КНР. Но для успеха нужны стальные нервы, дозировка, а главное – готовность подкрепить свой блеф, если уж придется, и прямым военным столкновением. Ничего подобного у Кремля не было, и по уважительной причине, – зачем? Так дорого у нас никто не платит за игру в покер.
Антироссийская коалиция?
Вопреки прессе, вероятным решением Запада не станет ни сдерживание, ни холодная война. По той причине, что Запад не может (как того требовала теория сдерживания) дожидаться внутреннего краха Системы РФ – встроенного модуля глобальной архитектуры.
Сегодня обсуждение стратегий «окружения», «сдерживания» и «разрушения» России ведут в жанре эксцентрических геополитических телешоу. Это мешает обсуждать реальность Большой коалиции против РФ – сама идея кажется безвкусно конспирологичной. Но ведь и прежде коалиции – например, позднее воевавшие в Первой мировой войне, складывались из воображаемых коалиций-призраков, направленных то против России, то против Австро-Венгрии, то против Германии.
Засилье вульгарных версий Большой коалиции не означает отсутствия тенденций, ведущих к ее созданию. Будущая главная сила Коалиции не всегда была ее архитектором, и не на всех этапах. Случалось, что сильный попадал в стратегический плен к слабым партнерам. Которые ему уже были не нужны, но средства затрачены и политически их нельзя потерять. (Что и произошло с Германией, втянутой в мировую войну Австро-Венгрией.)
Сдерживание суррогатами войны
Идея антироссийских санкций читается из Москвы как идея причинения нам страданий. Кому, в какой степени и за что – вопрос вне сюжета санкций для русского человека. Из России санкции считаются как суррогат войны.
Коалиция исключения России, формируемая США и Германией, это полувоенная коалиция. Она достает из Системы РФ мотив сопротивления превосходящей силе. Санкции раскалывают, бьют по российской экономике – но являются подачей Кремлю. Они формируют образ неодолимой силы врага – единственный мотив, заменяющий гражданскую религию в расколотой стране. Разрушающая сила санкций пробуждает наш потенциал сопротивления, создавая бесподобный союз господина с рабом у последней черты.
Результаты непредсказуемы ни для Путина, ни для лидеров Большой семерки. Путин если и потерпит фиаско, то не «в результате санкций», а внутри непредсказуемого сценария русского сопротивления – к которому, возможно, окажется не готов. А есть еще Украина. Сдерживание России с применением Украины, как полуавтономного органа самой России – жестокая игра с открытым финалом.
Расизация России?
Российская пропаганда затрудняет стыдливому человеку обсуждать неприятный, но ощутимый уже тренд неорасизации России. И это не «русофобия» (старинный фетиш культурной антропологии, политически неактуальный).
Медиастандарт современного мира требует ротации модных угроз, обходя аудиторно невыгодные, сложные проблемы будущего. В этот разрыв и ворвется завтра антироссийская мода для глобальной черни. От отставных консерваторов времен Рейгана к молодой еврообразованщине, оперирующей заголовками прессы, как кантианскими императивами. Система РФ для них – это очень гламурная угроза. И работающий генератор новых модных угроз.
Глава 15 По направлению к войне
Сегодня Россия в войне, хоть этого не признает. Беда не в этом лишь, а в нежелании мыслить войну. То российское поведение, которое сегодня представлено стране и миру, стратегически нище, а в военном сценарии самоубийственно. Это не значит, что русские не могут воевать. Но от войны до победы огромное расстояние, и его сперва проходят в уме.
Интеллектуальный провал военной стратегии
Россия, много и страшно воевавшая страна, так и не создала значимой литературы по теории войны (следовательно, и по теории мира). В советское время этот дефицит ограждали цензурой авторов, пишущих о прошлой войне (о будущей писать не позволяли вообще, если не под грифом «Секретно»). Дефицит стратегии компенсировался лишь переводами американской литературы по стратегии войны. А что в РФ? В России, где обожают щеголять военно-стратегической терминологией, нет рефлексии связи политики и войны. Вот почему в войне 2014 года, осуществив блестящую (на взгляд служб тыла!) операцию в Крыму, РФ проиграла Украину заранее. Проигрыш думали возместить «Новороссией на Донбассе», но не преуспели и тут. При этом подорвав машинерию силы – ее экономические, финансовые и государственные институты.
Не выигрывают войны, не приложив к ней ума. Если крымский кейс не положит основание русскому стратегическому мышлению, Россия впредь будет подвержена риску дурацких поражений.
Поражения, тактически выглядящие как успех, нередки и весьма коварны. Они мешают даже такой обычной вещи, как отступление. Символический триумф ошибочных акций порождает инерцию потворства. На ошибке настаивают, как на «висторическом решении раз и навсегда». Дело не только в упрямстве, но и в риске – признав ошибку, вызвать панику. Масштабы которой будут равны разочарованию, возведенному в степень вчерашнего триумфализма.
Поражение во сне и наяву
Второе десятилетие XXI века, возможно, в самую опасную проблему России превращает нехватку стратегии как таковой. Белый квадрат вместо стратегии делает нас экраном проекций извне – враждебных, конспирологических и просто абсурдных. «Тайна стратегии Кремля» – наилучший мотив коалиции против «России-захватчицы».
Отсутствие стратегии дополняет тактика мистификаций. Судьба Саддама Хусейна и Каддафи – верные тому иллюстрации. Саддам, проиграв первую войну, имитировал подготовку к новой, включая видимость наличия у него ОМП. Чем навлек вторую войну, его добившую. Каддафи после десятилетий радикальной политики пытался отползти за мировые кулисы с гордо поднятой головой, но, не имея новой стратегии, кончил, как Саддам Хусейн.
Провокация конфликтов, некоторые из которых ведут к войне, вызвана неотчетливостью стратегических интересов, страхом их артикулировать и тем более проводить. Страх стратегии – психоз субъекта, догадывающегося, что его установки разрушительны для него самого. Многие войны были развязаны исключительно чтобы уцелеть – во всяком случае, так кому-то верилось. Критическое решение часто не было решением о войне – на взгляд того, кто его принимал. Почти всегда это было решение лишь «отреагировать» на применение силы или «превентивно устрашить» того, кто может ее применить. И мы оказываемся в темном лесу игр подсознания с его страхами и проекциями врага.
Казалось бы, чем это отлично от рефлексивной игры блоков времен холодной войны? Бесструктурностью. В классической версии Большая игра Востока с Западом велась искушенными субъектами, которые (дорогой ценой) научились отличать свои страхи – от картинок на радарах РЛС.
Сегодня в лице Системы РФ действует субъект, не унаследовавший с преемством СССР советского инстинкта опасения своих чрезмерных реакций. Страна РФ управляется удачливой командой, но их удачи ограничивались тактическим уровнем. Со стороны Запада преемственность опыта осторожности также изношена с исчезновением «империи зла». Игра стала слишком легкой и часто сводится к проигрышам, поразительным при отсутствии глобального конкурента.
Мы в ситуации сверхриска, где тупики на каждом шагу, а на выходе повышают ставки. Крым – образцовый стратегический узел, созданный российской стороной при хаосе стратегических планов Запада.
Безопасность мимо консенсуса
Политика национальной безопасности предполагает хотя бы частичный консенсус в обществе и в элитах. (Разумеется, любой консенсус всегда оспаривается, подвергаясь испытанию конфликтами). Для России характерен недоконсенсус по безопасности из-за политики опоры на «подавляющее большинство», проводимой властями. Ставка на «подавляющее большинство», то есть внутренняя политика исключения, есть отказ от инклюзивной политики национальных интересов. Отменяя принцип консенсуса, Кремль раскалывает нацию в вопросах ее безопасности.
Экспектация страха
Все власти боязливы (особенно уличающие в «паранойе» других), но важна экспектация испуга. Российская политическая риторика, как нарочно, обнажает миру все, чего мы боимся. Наша внешняя политика стала оглаской наших фобий. Кремлевские СМИ сами экспортируют нарочито экстремальные трактовки целей Кремля. Увязать их друг с другом для иностранца невозможно, да и разумной связи там нет. А объявленная вслух цель всегда оказывается ревизионистской гиперболой, хоть в реальности все не так. Но кто в прекрасном новом мире конспирологий знает, что в России реально, а что нет?
Кремль подорвал интерес к оптимистическим гипотезам о России. Все, что мы говорим вслух о наших мотивах и пожеланиях, усугубляет чувство исходящей от нас угрозы. Наша явная слабость еле смягчает индуцируемый нами страх. Москва распространяет вокруг себя ауру неопознаваемости русских намерений. Россия превращается в стратегический НЛО с потаенными интересами. Извне видно, как этот объект движется без надежной информации о мире, не видя опасностей прямо по курсу. Похоже, и в капитанской рубке крутят «Игру престолов».
Суицидальный соблазн
Механизм антироссийских санкций реакционен, реакционна и политика Кремля. Санкции были так же импровизированы, как вмешательство РФ на Украине. Реагирования Москвы на санкции ждали, но какого?
Фантастический образ успеха политики санкций – поражение и суицид страны-мишени, России. Навстречу этому ожиданию вдруг возникла симметричная фантазия в РФ. Запад удушает, так существовать нельзя – не ударить ли нам в ответ ядерным потенциалом? – эта позиция была ярко представлена скандальным роликом М. Леонтьева и М. Юрьева. Сценарий мечты инициаторов санкций: мишень санкций намерена совершить стратегический суицид. Всхлип в этой форме не означает неприемлемый риск – это вид русского фантазирования, отказавшегося от оценки сил и состава врагов.
Способен ли субъект стратегической паники применить неконвенциональную силу? Едва ли. Придя в такое состояние, он утратит лояльность ближнего круга. В Системе вообще не отдают сильных приказов – одни договорные. Публичная паника отбросит союзников России к сделке с противником, для защиты от явно неадекватного партнера.
Профицит армагеддонов
Привычкой холодной войны было ожидание военного Армагеддона. Это вело к постоянным ошибкам – Армагеддоны оказывались то плохо выбранными, то и вовсе поддельными. Корея, Вьетнам, Чехословакия, Афганистан. Под конец холодной войны явились и Армагеддоны-фальсификаты, наподобие Никарагуа и жалкой Гренады.
Возвращение в политику противостояния, ценность которого в каждом месте неопределима (а значит, неясны и возможные уровни эскалации), вернет к поиску мест для Армагеддона. Тут перспективы фальсификации весьма обширны. Крикливая московская партия, требуя сделать Украину полем глобальной битвы, но не получив влияния на выбор решений, влияет на хозобслугу. Такие влияния всегда трудно оценить в точности. Бывало, что, уйдя от явно проигрышного варианта, впопыхах и под крик «измена!», шли на еще более нелепое и проигрышное противостояние. В основе не только недомыслие политиков, дорожащих популярностью. Здесь еще и сбой стратегической идентичности. Если принимающий решение не видит своей полной инструментальной палитры, он невольно укрупняет свои шаги в ответ на угрозы до ультрамасштабов – сдвигаясь к черте невозврата. Так Джон Кеннеди после провалов в берлинском кризисе и на Плайя-Хирон вдруг решил не отступать – во Вьетнаме.
Риск для драйва
Соединенные Штаты действуют в мире, сохраняя компетенции холодной войны (включая уловки обхода правил). Они используют давно кончившуюся холодную войну как источник легитимности своей политики в совершенно другом мире. Европейская легитимность РФ основана почти целиком на том, что мы – страна-инициатор отмены риска гарантированного уничтожения. Россия легитимна как гарант необратимости ухода от холодной войны. Попытка вернуть мир к ее паттернам делегитимирует и РФ.
Советская культура оценки рисков, хотя и ослабевшая в годы правления Брежнева (Чехословакия, Ангола, Афганистан), была наследницей сталинской осторожности. Советская дипломатия контроля рисков при накоплении преимуществ достигла виртуозности, поздней утраченной. Но Система РФ готова сильно рискнуть. Российский «социум власти» невольно порождает бесконтрольные риски, и, не догадываясь об их глубине, еще и форсирует их с помощью пиар-мероприятий.
«Реконструкторская» версия российской войны с Западом – игровой эпатаж на руинах архитектуры общепринятых правил. Никто уже не знает, есть ли в Системе РФ датчик предельных рисков и где он. Судя по выступлениям глав Совета безопасности или ФСБ, у них лично такого органа нет.
На что вообще сегодня в РФ могла бы ссылаться политика, основанная на идее предела стратегических рисков? Для нее нет ни советских идейных обоснований, ни европейской дипломатической консервативности. То, что правящая команда не рискует даже более радикально, чем рисковала в прошлом году, исключительно ее прихоть и, как полагают радикалы, «преступная слабость». При остром кризисе или испуге наше безволие переходит в убийственно радикальное российское поведение.
Приложения
Путин как факсимиле евролицемерия
1
Путин сегодня самый упоминаемый человек в рассуждениях о России, больше Чехова и Достоевского. Такая частота настораживает – чем она вызвана? Навязчивые повторения говорят о неврозе, а в культуре они верный признак мифологии. Раз человека столько упоминают, значит, скорее всего, говорят не о нем. Но тогда о чем или о ком именно?
2
Один из знаменитейших политических текстов о России – «Длинная телеграмма» Джорджа Кеннана 1946 года с концепцией русского поведения. В тогдашней мировой прессе о Сталине писали не меньше, чем сегодня о Путине, но в тексте Кеннана – объемный документ в 8 тысяч слов – Сталин едва упомянут. Прогнозируя поведение системы, он пренебрег психологией ее господина – у поведения миллионов другая логика. Кеннан даже не знал, насколько прав, ведь сам Сталин брюзжал: «из меня сделали факсимиле».
Но как описать сегодня «путинскую Россию» без Путина? Президент, пожертвовав миссией лидера в пользу имиджа хозяина страны, заперт внутри собственного творения. Система присвоила его личность, и политика имиджей стерла его некогда выразительное политическое лицо. Власть зажила своей жизнью, и хотя подписывается факсимиле «Путин», саму ее проще описать без него.
Система власти в России возникала на виду у всего мира, и что бы о ней ни говорили, это не советская идеократия. Но это система власти неправовой и неформальной, не связанной своими же институтами.
Власть всегда готова к чрезвычайным ситуациям – без них она не знала бы, чем заняться. Катастрофы подсказывают власти, куда двинуться, обеспечивая одновременно массовую поддержку. Кремль боится не санкций, а миротворцев.
3
Особенность русских правителей та, что их правления распадаются на две части: светлое начало с мрачным продолжением. Кажется, что речь о разных людях, столь несовместимы политика молодого царя Ивана IV и старого Ивана Грозного. Теперь и Путин в этом ряду. От восхищенного who is mr. Putin – к образу диктатора, нарушившего мир и порядок золотого века Европы.
Президент пришел в 2000 году в Кремль с намерением остановить катастрофичные зигзаги русской истории, на каждом из которых Россия теряла государство и миллионы граждан. «Не будет ни революций, ни контрреволюций» – говоря это в 2000 году, Путин, кажется, в это верил. Все хотели управления и порядка, одновременно желая потребительских радостей. Команда Путина обещала объединить нацию, но из противоречивых стремлений родилась противоречивая система. Можно ли считать современную Россию государством? Ближе русское понятие «государственность» – синоним политической вещи, обладающей свойствами государства, но им не являющейся. Проклятием лидера слабого государства становится гонка за силой. Глобализацию Путин понял как систему, в которой оружием стали финансы, – и пошел за сырьевой экономикой, которая обещала быстрые деньги сразу.
Путин столкнулся с тем, с чем сталкивается каждый русский лидер, – институтов нет, систему власти надо строить заново. В расколотом обществе всем нужны места в аппарате власти, а программы и законы никого не интересуют. Президент относился к коррупции хладнокровно, полагая, что таким образом он откупается от русской вороватости.
В прессе утвердился образ системы Путина – коррумпированного «петрогосударства». Торговля сырьем плюс массовая поддержка, обеспеченная стабильностью и пропагандой. Потребление в обмен на деполитизацию. Но если б Система обладала столь мелкой глубиной, она бы не дотянула и до 2015 года.
Сегодня за спиной у Путина мрачная, непонятно воинственная Россия, поддерживающая своего президента. Избиратель категорически утверждает, что ни за кого другого не будет голосовать, а если надо, согласен и на военное положение. Путин явно нарушает «первый закон петрополитики», согласно которому при высоких ценах на нефть петрогосударства агрессивны, а при обвале цен становятся умеренны и либеральны.
4
Известно, что Владимир Путин стал свидетелем падения Стены в Восточной Германии, которое единая Европа празднует как день своего рождения. Один из очень немногих в СССР, он еще в 1989 году придал этому значение. Москве было тогда не до новой Европы, ее захватила другая эйфорическая утопия – новой России.
Натяжка ли сказать, что оба проекта чрезмерно нарциссичны? Похоже, эта симметрия амбиций стала причиной их взаимного невнимания к общим интересам.
Евровосток за это двадцатилетие стал для Еврозапада местом экспорта проблем-отходов, свалкой дипломатического мусора и неудачных проектов, вроде «Восточного партнерства». Сегодня Путину читают нотации, где расширение Евросоюза и НАТО на восток описывается как безальтернативное и естественное. Что естественнее отстранения РФ от европейской интеграции при нормальности включения в нее Сербии и Болгарии? Правда, это не вяжется с представлением об универсальной норме. И раз так, почему бы Путину и членам его команды не отбросить идею нормы как лицемерие, считая естественным свое поведение? в памяти его от всей эпохи остались только руины государств – поглощение ГДР единой Германией, война НАТО и финал Югославии, украинская гражданская война 2014 года под руководством России. Не найдя места дебатам, ведущим к сближению, Россия с Евросоюзом встретились над прахом Украины.
5
РФ попыталась интегрироваться в европейский порядок и держалась этого курса довольно долго, больше половины срока своего существования. «Управляемая демократия» Путина гордилась приоритетом стабильности, в котором зря видели одно лицемерие. Политика стабильности была попыткой вытеснить из русской политики идею врага.
Когда холодная война закончилась, штабы ее, Вашингтон и Москва, по-разному пережили стресс исчезновения главного противника. К этому нелегко политически приспособиться, и в России 12-летняя эпоха стабильности (два президентства Путина и одно Медведева) стала таким экспериментом. Решив уйти от поиска врагов, Кремль во имя этого вообще запретил открытые политические конфликты в стране. Это было замороженное, скучное, но мирное время.
В годы стабильности цифры «путинского большинства» обозначали лишь прогноз поддержки власти на будущих выборах. Но тем самым они порождали вечное ожидание выборов. Бесконфликтная победа на скучных выборах достигалась трюками, которые раздражали избирателей. В потрясениях конца тандема «Медведев – Путин» стало видно, что достигнутый уровень электоральной лояльности повысить больше нельзя. Но этим обозначился и предел политики стабильности. Конечно, можно было допустить в Систему нормальный демократический конфликт на выборах с неопределенным исходом. Но для этого надо верить в добросовестность Системы, ее готовность меняться, оставаясь собой. Такой веры у ее хозяина – Путина – нет. Путин совершенно не верит в гражданские добродетели русских. Сталин искоренял непокорных, помнивших русскую революцию, Брежнев боролся с инакомыслящими, а Путин не верит в честное поведение вообще. Он самый большой скептик из всех правителей России.
6
Частичная демократизация законов конца медведевского президентства, совпав с московскими массовыми протестами, поставила Путина перед выбором. Он сформулировал его так: «Нельзя допустить, чтобы они смогли воспользоваться такими замечательными законами». Кто были эти «они»? «Они» это враги. Те, кого на деле не было, но теперь их надо «найти». Весь путинский инструментарий эпохи борьбы с конфликтами ради стабильности брошен на новую цель – изобретения конфликтов с выдуманными врагами. Гигантскую роль в этом играет подконтрольное властям телевидение. Управляемое телевидение времен путинского застоя легко переключили на другой, массированный режим. Российский зритель, привыкший к политической скуке, не имел времени на выработку фильтра против фальсифицированных, но высокоэмоциональных «военных новостей».
Меньшинство стало политически важнее большинства, ведь теперь меньшинство – это враг! И кто не хочет остаться в роли врага, должен явно и убедительно примкнуть к большинству, раствориться в телевизионно-агрессивной лояльности. Подавляющее большинство – вот отныне любимое понятие в политическом дискурсе Путина.
Все еще говоря о стабильности, Путин ничего так втайне не опасается, как возврата к стабильному состоянию. По характеру буржуа, он не склонен к конфликтам, но стабильность отныне исключена. Теперь его имидж – боевой президент, воин, впавший в амок перед боязливой Европой. Это не манера скромного президента, когда-то написавшего в анкете переписи 2002 года: «Оказываю услуги населению».
7
Как ни лицемерно звучат предложения Москвы пересмотреть европейский порядок, недавно ею нарушенный, проблема создана не Москвой. Эти два десятилетия были временем генерации «серых зон» и «замороженных конфликтов» в регионе Большого Черного моря – полусуверенных целей вожделения и добычи. До известного момента Европу это устраивало – разве не лучше, если конфликт холоден, а не горяч? Что за Абхазией и Осетией последует Крым, сказано столько раз, что к этому перестали относиться как к вероятности. Когда конфликт вырвался, остановить его было можно, будь место кризиса ранее признанным местом европейской проблемы. Но в Европе нет лидеров, готовых к риску объяснить неприятные вещи. Путь, не пройденный европейской стратегией, был пройден российскими «вежливыми людьми» в боевой форме без опознавательных знаков.
«Гибридными» формированиями гражданской войны на Украине, дирижируемой из Москвы.
Для системы, отчасти созданной, отчасти унаследованной Путиным, в таком зигзаге нет ничего невозможного. Она привыкла к радикальным броскам из экстремы в экстрему. Но Европе придется понять, с чем она имеет дело на Евровостоке. А Владимир Путин, при жизни став персонажем европейских и русских сказок, пожизненно скован логикой своего поведения. Сам Джордж Кеннан сегодня не нашел бы, что про него сказать.
Опубликовано в журнале Kulturaustausch, 2015Раздвоение Европы
1
Доклад Ивана Крастева и Марка Леонарда необычен – в сущности, это статья с выраженной авторской позицией. Причины, почему Европейский совет по международным делам (ЕСМД) предпринял такой демарш, на вид ясны: тотальный тупик в разрешении так называемого российско-украинского кризиса 2014 года.
Но статья коварна. Она убеждает читателя крепить приверженность ценностям единой Европы – тут же показывая, что эти ценности не универсальны на Евровостоке. В тот самый момент, когда испытываются кризисом, то есть особенно нужны.
Ценностный разрыв – мысль не новая, отсылающая к Хантингтону (а кое-кого – к Дугину и Мари Ле Пен). В Москве ее чтут за догму Уникальности России – местного суеверия, святыми отцами которого полагают Данилевского, Шпенглера и Льва Гумилева. Московский геополитик просто пожмет плечами: ну разумеется, у России и Европы ничего общего! Но мысль авторов не в том.
Крастев и Леонард предлагают взглянуть на конфликт исторически: он не в «архитектуре цивилизации» и не в «генетическом коде». Объединенная Европа, сказал бы историк Михаил Гефтер, – сама историческое событие. Но историческое событие и рождение посткоммунистической России. Конфликт России и Европы – в неудачной синхронизации двух мегасобытий.
Символом рассинхронизации авторы выбрали 1989 год. Юбилей года недавно отпраздновали в Европе – и попросту не заметили в Москве. На этот раз в том не было антиевропейского полемизма. 1989 год памятен и в Москве, но здесь он значит нечто другое. В различии стоит поискать истоки конфликта.
Конечно, авторы идут от европейского контекста. В Европе повторяют как догму – недавно это было еще раз повторено Ангелой Меркель – «Россия нанесла удар (вариант: разрушила) европейский (вариант: мировой) правовой порядок!» Крастев и Леонард сомневаются в том, что Россия была внутри этого порядка; возможно, она не подозревала о его существовании. Зато сама Россия «находилась в поиске нового европейского порядка, который обеспечит выживание ее после Путина». Этот тезис стоит запомнить, тем более что авторы его так и не проясняют.
Итак, конфликт двух иноцивилизаций, любимый фантастами и геополитиками? Но отсюда вытекают прямые политические выводы, авторы их не избегают. Во-первых, аннексия Крыма – не начало кризиса мироустройства после холодной войны, а его конец. (Черчилль бы поправил – «только конец начала».) Отсюда следует, во-вторых, что превращать санкции в субститут войны Европе нельзя. Россия не нападает – Россия обороняется, но обороняется параноидально, преувеличивая свою незащищенность.
2
Крастев и Леонард говорят о европейцах, проснувшихся в мире Владимира Путина, «где границы меняются с помощью силы, и предсказуемость – скорее пассив, чем актив». Сказано красиво и верно, но не полно.
Самообольщение российской позиции заключено в том же, в чем высокомерный hubris Владимира Путина – в нерушимой связи России с Европой. Связи ненавистной, испепеляющей, демонически страстной. Страсти, которую ни одна европейская нация с XVIII по XXI век не могла ни разделить, ни понять. Россия не просто навязывает себя Западу. Она убеждена, что Запад может и должен решать ее проблемы, жить ими – и жить с ней. Здесь русский эрос переходит в амок. И нет ничего более несовместимого с этим, чем описанный Крастевым и Леонардом элизиум европейского постмодерна.
Но что если сам этот постмодерн в такой форме случаен? и Европа – та, чьё имя присвоил себе Евросоюз (еще одно его прегрешение, на русский взгляд), – что если и она случайна тоже?
Крастев и Леонард справедливо замечают, что как раз объединение Германии и стало эталоном объединения Европы. Падение Берлинской стены – Вудсток-1989. Но первичен все же советский Вудсток-1989 на I Съезде народных депутатов. В тот год на поле несбывшегося Армагеддона холодной войны армии Востока и Запада проследовали друг мимо друга в цветном тумане рок-концертов. Европа героически (в своем воображении) сносила Берлинскую стену, которую Горбачев к тому времени (в его воображении) героически уже упразднил. А советское общество безопасно и бескровно (но также в воображении) одолевало номенклатуру, вводя демократию. Как раз в дни сноса Стены началась предвыборная кампания внутри виртуальной же «Советской России», ради чего изобрели небывалый «российский суверенитет». Неудивительно, что участники двух шумных шествий так и остались в неведении о причинах веселья друг друга. Каждому казалось, что параллельная процессия следует далеко за ним, где-то в хвосте.
Геополитическая реальность, возникшая в Европе после падения Стены, так же исторически «беззаконна», как изобретение РФ. Возникла невозможная Европа, не та, о которой мечтали идеалисты пан-Европы в ХХ веке. Европа, которую доклад именует «постмодернистским европейским порядком».
Новый шенгенский постмодернистский рай туристы из новой России обнаружили одновременно с пляжами на Крите и в Анталии – и вне связи с такой русской забытой ценностью, как «священные камни Европы». Постмодернистская Европа в-себе обернулась российской туристской Европой для-нас. Это же время стало эпохой экспансии авторитарно-финансовых «инноваций» на постсоветском пространстве.
Тонко замечание авторов доклада об экспансии с Запада на Евровосток институтов, созданных для обслуживания биполярного мира. Это хорошая иллюстрация к тезису Михаила Гефтера о главной угрозе конца холодной войны: экстраполяции исторических инструментов к решению постисторических задач. Экспансия европейских институтов – попытка обойтись техникой прогресса в ситуации упадка универсалистских институтов мировой истории. И тут универсальное неизбежно становится исключающим.
Вряд ли можно объяснить отношение новой Европы к новой России только невротическим переносом «России-Другой Европы». Здесь проявляется новая энергетика – универсализма как исключительности. Универсальные принципы превращаются в нормы фильтрации, а европейские стандарты – в невидимый, но ощутимый в Москве произвол.
3
Сегодня объединенная Европа, Россия и Украина живут в отравленных клубах измененного сознания, ставшего последней реальностью. Каждый стал шансом, потерянным для другого. Россия не симметрична Евросоюзу, хоть возникла с разрывом в несколько недель (декабрь 1991-го – РФ, январь 1992-го – Маастрихт). Зато симметричны упущенные шансы. Россия пропустила свой шанс стать европейским государством-нацией в момент, когда ЕС упустил возможность дать России стать Европой. РФ как шанс объединенной Европы, потерянный в 90-е годы, породил кошмар для постмодернистов Европы 2014 года.
Россия не встретила серьезного европейского вызова, который заставил бы ее серьезно отнестись к внутренним реформам. Два десятилетия в Москве довольствуются пустым, даже наглым по звонкой пустоте термином процесс реформ. Бездумно доверили реформы случайной «команде Гайдара». Та немедленно породила «команду Кремля», а к 1999–2000 году как ее дериватив – путинскую команду, правящую по сей день. Великолепный пример непрерывности «процесса реформ»!
Европа не стала вызовом для России в 1992 году, и оттого Россия стала вызовом Европе в 2014 году. Сегодня, когда Европа решилась бросить вызов России из-за Путина и Украины, запоздалый вызов грозит перейти в глобальный.
Вызов, для которого у мира, кажется, больше нет лидеров соответственного масштаба.
4
Крастев и Леонард говорят, что Европа ошибочно приняла слабость России и ее неспособность помешать за согласие. Дело, однако, еще хуже. Население государства-остатка СССР, именуемого РФ, сначала и не думало противиться новому порядку, не зная, чего хотеть.
Часть советского общества еще в 70-е годы разочаровалась в ценностных и просвещенческих аспектах коммунизма. Конец истории здесь поняли как долгие каникулы. Заодно с марксистским универсализмом, идеологией равенства и братства Россия отреклась от всякого универсализма вообще – как опасного лжеучения. Место понятий о всеобщем гуманном порядке исчезло в принципе. С этого момента и далее запрос на порядок в мире провоцировал в Москве ложный выбор между чужим(западным, понятым полицейски) – и биполярным«ялтинским» порядком времен холодной войны.
Не имея более единого адреса для жалоб, население погружалось в рессентимент, копило черную злобу. Реванш толпы переживался правящими кругами как вечная угроза себе. «Они нас растерзают, как только смогут!» – слышал я много раз, – но кто эти «они»? Страх сфокусировался в образ населения РФ как источника бедствий. Система РФ выстроилась как суррогат государственности и эшелонированная линия безопасности для элит.
Но даже и тогда новая Россия хотела не победить Запад, а к нему присоединиться. В фантазиях мы «уже» присоединились – долларизацией быта, политики и хозяйства, турпоездками, вещами и потребительскими привычками. Длинным рядом осязательных «аргументов», делающих отказ в равенстве со стороны Запада чем-то непонятным и злонамеренным.
Стресс 2004–2006 годов стал переучредительным моментом для Системы. Фокусирующим термином снова, как в 1990-м, стал суверенитет. Крастев и Леонард тонко замечают новизну понятия суверенитета в России, в отличие от европейского и коммунистического: этот суверенитет энергичен, это импульс активизма. В русской классике суверенитет производен от суверенности – личной независимости, реализуемой в поступке: старинный, XIX века, моральный дериватив здесь переходит в неограниченное право на любое действие, даже имморальное.
Далее пролегает маршрут властной воли к неограниченному расхищению глобализации как возобновляемого природного блага.
5
Путинизм утверждался, в том числе мной, под стягом борьбы с сепаратизмом и во имя «территориальной целостности России». Тема еще тогда навязла в зубах, ее жуют по сей день. Не только в телепропаганде – ее обожает новый Уголовный кодекс РФ. В реальности же риск давно снят и угрозы территориального распада для России нет. Борьба идет за иную неделимость – единый и неделимый авторитет.
«Монолитная нация», о которой говорит Путин, это пароль борьбы за признание диктата надгосударственным правом. Команда Кремля давно превратила себя в институт, но теперь ей важно стать еще и чем-то традиционным, уходящим в глубь веков. Тут из корсуньской ночи выходит князь Владимир – якобы предок по прямой всех правителей Руси, вплоть до президента РФ.
Зато толпа теперь должна растерзать кого-нибудь другого.
6
Стало догмой, будто Путин и Кремль «боятся киевского Евромайдана и европейской ориентации Украины». Объяснение действий Путина страхом тривиально – всякий политик чего-то боится, и каждое второе действие легко объяснить страхом. Но как универсальная отмычка страх политика бесполезен.
В происходившем прошлой зимой в Киеве и вправду было чего испугаться. Конфликт Евромайдана с властями Украины к началу 2014 года перерастал в городскую революцию. Всякая революция в ее развитии имеет вдохновляющий для участника и устрашающий неучастников характер. Устрашаются даже те, кто поначалу сочувствовал.
Начатый в стиле Вудсток и окруженный «титушками» и отрядами «Беркут», Евромайдан преобразился в Вестерплатте. Пули, огонь и лица, озаренные ненавистью. За радикализацию Майдана ответственность несла власть Януковича, что еще недавно признавал даже Путин. Радикализуясь, революция ищет себе язык, стиль и мотив. В 2004 году аппаратной интриге Ющенко хватило модного «помаранчавого» апельсинового обрамления. Но в 2014 году революция, выживая под пулями, вобрала в себя мифологию УПА и националромантику, взятую со склада украинского исторического реквизита.
Театральные декорации вышли на площадь, став хорошо различимым пугалом. Соотношение тех, кто боялся и кто не боялся революции, менялось в пользу напуганных в меру того, как революция шла к триумфу. После бегства Януковича в боящихся оказалось чуть не пол-Украины. Включая лидеров старой оппозиции, потерянных перед стихией Евромайдана. Зато на самом Крещатике боящихся не стало – все здесь прошли пытку страхом и, пройдя, переменились.
Теперь перемены ждали остальную Украину. Когда в Киеве бояться почти закончили, на востоке и юге Украины лишь начинали. В Москве спешили сделать новую ставку, проклиная, что дали играть за себя бездарному игроку – Януковичу.
Чего боялся Кремль? НАТО в Севастополе, Майдана в Москве? Или своей обнаруженной вдруг неспособности оценить факты вовремя? в истоке революций всегда есть видимая на расстоянии цепочка ложных оценок положения. Кремль уже не верил оценкам и решил довериться стихии, став на революционную волну. Кремлевский серфинг успешно открылся в Крыму; и далее самообман Москвы явно был связан с крымским успехом.
То был не страх, а азартный самообман. Катастрофа российской политики лета-осени 2014 года на Украине – хрестоматийный пример hubris’а, а не мнимый «страх перед НАТО».
7
Русские действия на Украине породили нечто новое, неизвестное и саму Россию опять сделали неизвестной для всех. Парадокс постмодернистской Европы: после «конца истории» сталкиваясь с неизвестным, она всякий раз вынуждена применять архаичные инструменты. Другой модели действия никто не знал. Говорят о «недостаточной решимости» европейцев. Но чем вообще является решительное действие – в мире, табуирующем инструменты модерна? Не действия ли это в стиле Путина? Должна родиться новая политика действия, где само решение включало бы участников конфликта ради его исчерпания. Такой политики нет, хотя она нужна всем, даже воюющим в Донбассе. Тем временем новая Европа разыграла старую американскую защиту: идею санкций.
С помощью санкций Европа изображает войну – так же символично, как осенью 2013 года символически изображала европеизацию Украины Януковича. Евростандарты, так и не воспринятые Россией, конвертировались в санкции за их нарушение. Далее уже инструмент диктовал концепцию – как винтовка Мао рождала власть. Санкции начаты были в отчаянии, как попытка символически изобразить что-то решительное. Их начала объединенная Европа, недавно проклявшая политику «окончательных решений», и вот уже санкции индуцировали проект опрокидывания «путинского режима». Так не говорилось, но так делалось и делается. Не имея опоры в «постмодернистской» Европе, санкции зато черпают смысл из риторики московских телеведущих – ах, вы хотите лишить нас Путина? Это III мировая война!
В Европе и Евразии исподволь укореняется дисперсный мировой режим санкций. Началась, естественно, и гонка средств сопротивления этому режиму. Ибо внутри глобального режима санкций Россия выступает как идеальный глобальный партизан Карла Шмитта.
8
Режим санкций стал парадоксальным режимом экстремального благоприятствования кремлю. США и Европа помогли переориентации его международной и торговой политики на Восток, политики лояльности элит – с Запада на родину и, наконец, конверсии экономики мирного времени – в военную экономику.
Авторы заканчивают доклад не вполне ясным перечнем вероятных угроз. Главная та, что Запад «ускоряет крах международной системы, которую пытается защитить». Разумеется, всплывает тема Китая, становящегося хозяином евразийской политики Москвы.
Крастев с Леонардом предлагают Евросоюзу двойное решение. С одной стороны – радикализовать политику ценностей, не отступая перед изгнанием России из Совета Европы, с другой – энергично вести Realpolitik в делах с Москвой и на Украине. Пока Европа сосредоточивается – Украина, Россия и остальные могут подождать.
Москва и Киев за дверью, где идет ревизия всей политики восточных партнерств Евросоюза. Предложено развивать отношения с Евразийским экономическим союзом и, признав его легитимность, не пытаться навязывать европейские критерии.
Принципы Европы не были и не станут универсальны, это утопия. Европейская Россия погребена в Крыму (неведомо чьем), сражаясь в Донбассе в виде призраков армий за призраки несуществующих государств. Европе до этого дела нет. Мир Европы, как во времена Габсбургов, вновь обрывается за восточным выездом из Вены. Там дальше – земли экстремального мира. Иная Европа, которую Евросоюзу теперь предстоит с осторожностью открывать заново и учиться с ней заново сосуществовать.
Опубликовано в «Русском журнале», -povestka/Razdvoenie-EvropyВласти, эмоции и протесты в России
Тему лучше всего начинать с текущей ситуации, когда поддержка президента Путина держится в районе 80–85 %. Причем в первую очередь в крупных городах – в Москве, в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске – базах массового недовольства еще недавно, год-два назад. Среди поддерживающих власть очень заметно преобладание людей с хорошим доходом, образованных. Итак, средний класс, который два года назад был раздражен и с симпатией следил за московскими протестами, сегодня с восторгом присоединяется к власти. Слова, которые при этом произносят, – «Наконец-то у нас власть, которая нас представляет!», «Наконец-то мы солидарны с властью!»
Эти люди два года тому назад поддерживали массовые протесты с либеральной повесткой, а сегодня называют угрозой себе и стране либералов, западников, демократов, какую-то «пятую колонну». Собственно говоря, рост поддержки Путина на 25–30 % за два месяца – это «дельта» за счет прежней недовольной трети населения, которую показывали опросы 2012 года.
Это новое путинское большинство, я его называю новороссийским или посткрымским большинством, состоит не из мрачных люмпенов (в группе совсем бедных граждан рост поддержки был наименьшим). Во главе нового большинства – средний класс и интеллигенция.
А теперь вернусь в прошлое. За 20 лет существования Российской Федерации драйвером политики был страх элит перед революцией, переходящий в технику пресечения возможности появления недружественного власти большинства внутри системы. После двух московских уличных мятежей, 1991 и 1993 года, у правящих страной политиков возник вопрос: допустимо ли вообще в системе РФ спонтанное уличное действие? и демократические элиты сочли, что, скорее всего, нет. Формально оно есть, но доктринально и практически исключено.
Уже в это время в окружении Кремля нарастают практики политического манипулирования протестом. Когда в 90-е годы говорили о «массовых протестах», уже имели в виду, что это – протест мэра Москвы Лужкова или медиамагнатов Гусинского и Березовского, а не самих людей на улицах. Начинает казаться, что с помощью телевидения и масс-медиа нетрудно инсценировать публичную политику. (Эта мысль, перейдя из опасения в убеждение, похоронила лояльность власти к любому независимому телевидению в России. Боялись не разоблачений и не свободного слова – боялись контрудара со стороны медиализированных избирателей, спланированного некоей «теневой силой».)
Уже в это время начинает меняться роль телевидения, во главе которого стояли и по сей день стоят выдающиеся мастера телевизионной информационной драматургии. Один из них, шеф Первого канала государственного телевидения Константин Эрнст, рассказывал мне, как восхищался трансляцией CNN расстрела парламента в октябре 1993 года: «Вспомни, как это было красиво: Белый дом, голубое небо – и танки, бьющие прямой наводкой в прямом эфире! Величайшее шоу в истории телевидения!»
Эрнст говорил об этом с грустью, описывая то, чего как раз тогда его надолго лишили. Именно тогда мы создавали новую систему правления Россией – управляемую демократию. (Говорю «мы» потому, что в этот период я убежденно участвовал в ее создании.) Систему, в которой нет больше места уличным страстям и открытым конфликтам, политическим эмоциям на улице и в парламенте. Мы создавали «антиэмоциональный фильтр» системы стабильности. Спонтанные конфликты удалялись из публичного поля, лояльность исключала публичную их демонстрацию телевидением и политиками. Считалось, что, когда у общества есть причина для протеста, надо обращаться в администрацию президента, а не выходить на улицу. Жалоба властям должна быть изложена «корректно», и тогда есть вероятность, что она будет удовлетворена. Тот, кто нарушит это условие, будет наказан уже тем, что о его протесте не узнают – телевещание об этом гарантированно промолчит. Но Кремль никогда не должен терять свое первенство, свою гегемонию в принятии важных решений: это принцип.
Так было 12 лет – в течение двух президентств Путина и президентства Медведева. Сломалась эта система на так называемой рокировке Медведев-Путин осенью 2011 года. Рокировка исходила из ложного предположения, что управляемая демократия стерпит любые перегрузки действиями власти – опасны лишь действия улицы. Но на этот раз общество отказалось это проглотить. После нечестных выборов в парламент в декабре 2011 года люди вышли на улицу и заявили о себе. Это был спонтанный всплеск эмоций, причем эмоций меньшинства. Я тогда тоже вышел на улицу, впервые с 1993 года. И первое мое ощущение было – что мы здесь делаем? Мы вышли на улицу, но далее делать было нечего. Выйдя на улицу, надо или драться с полицией, или идти домой. Меньшинство, которое оказалось на улице, не имело политических инструментов и никакой схемы действий, не говоря уже о цели.
Но оказалось, что одну работу мы выполнили, создав новую аудиторию для власти. Огромную телеаудиторию, которая разглядела в нас активное и, с точки зрения зрителей, агрессивное меньшинство. Так эта аудитория спонтанно и неожиданно для себя превратилась в опору для власти. Это понравилось в Кремле. Власть стала экспериментировать с аналогичными постановками, всякий раз с помощью телевидения рисуя одну и ту же раскалывающую картину – меньшинство против всех. «Патологическое» меньшинство против здорового, подавляющего большинства. Так на экраны управляемого телевещания неожиданно вернулся конфликт.
Телевещанию как генератору драматизации нужен реальный конфликт, страсти толпы, крики и искаженные лица. Всякий телеканал мечтает показать Армагеддон в прямом эфире. Но для Кремля важно, чтобы все это держалось подалее от его стен. Чтобы зритель, припав к экрану, переживал за «свою» власть, пока Армагеддон развертывается где-то подальше. Вот почему украинский Армагеддон – Евромайдан в Киеве – стал подарком российскому телевещанию.
Для российского телезрителя Украина – это «вторая Россия», но удаленная и условная, где он может безопасно для себя отождествляться с любой из сторон конфликта, не отвечая за собственный выбор и ничем не рискуя.
Я полагаю, к 2013 году российское телевидение перешло грань пропагандистского ресурса власти, оставив далеко позади программную цензуру управляемой демократии. Телевидение стало ветвью власти – равноправной и в чем-то не менее самостоятельной, чем аппараты ФСБ, Генпрокуратуры и Следственного комитета. Погрузив десятки миллионов людей в поддельную реальность, где их устрашают вымышленными патологиями («либералами», «гомосексуальными педофилами», «фашистами» и т. п.), государственное телевещание РФ стало репрессивным патовещанием, замещающим функцию государственной идеологии.
Путин может легко не считаться с Государственной Думой, с Конституционным судом, с ФСБ или прокуратурой, но обязан считаться с патологической картиной поддельной реальности, которую телевещание творит в коллективных эмоциях населения. Когда «патовещание» завладело Путиным, в России исчезло последнее место, где еще отличали инсценировки страхов от проработки политических решений. Ум Кремля одержим эмоциями поддельной реальности. Теперь это одно чувство, одна логика, одно поведение.
Итак, круг замкнулся. Власть, которая попыталась увести протестующих с улиц, чтобы отменить революции навсегда, из заказчика-цензора превратилась в невольницу истеричных телешоу, откуда сама вырваться не может. Массовый зритель вернул себе вкус к спонтанному конфликту и политической эмоции, хотя все его чувства искажены телевизионным «патовещанием» и нацелены на фикции.
Еще три-пять лет назад правила «управляемой демократии» (весьма ограничительные) требовали от желающих создать политическую партию рациональных действий – разработки программы и проекта, стратегии, подбора политических кадров. Все это было затруднено и велось в долгих переговорах с властями. Сегодня политическое событие и его нарратив творятся властями online, из любого «подручного» материала.
Это хорошо видно в восточных областях Украины по составу тамошних российских ополченцев. (Я тут не говорю о массе украинских граждан-волонтеров, участников конфликта.) Российские волонтеры, воюющие в Донецкой и Луганской областях, очень любопытная группа – осколки прежних оппозиционных движений, перемешанные с отставными менеджерами «управляемой демократии» и отдельными идеалистами. Это не дисциплинированные отставники российских военных структур, каких мы видели при овладении Крымом. Это композитная масса среднего класса. Фьюжн идей Белого дома – 1993 и актива массовых антипутинских протестов 2011–2013. (так называемой Болотной площади). Участники русской националистической среды перемешаны здесь с энтузиастами-«реконструкторами» и «ролевиками», то есть волонтерами реконструкции батальных сцен русской истории. Выразительна фигура лидера донецких повстанцев Стрелкова (Гиркина), который еще недавно был среди участников постановки сцен гражданской войны или защиты Москвы в 1941 году. Но тут же и Олег Мельников – активист правозащитных кампаний, участник драк с полицией при столкновениях на Болотной площади в Москве.
В отличие от Крыма, на Юго-Востоке Украины Москва решила проявить сдержанность. Она не использовала регулярные части, но не мешала инфильтрации для участия в украинском конфликте всех, кто хотел воевать. Украинская революция практически обнулила украинскую армию и государственность, и композитные волонтерские отряды неожиданно (думаю, неожиданно даже для Москвы) превратились в правящую силу Донбасса. Сегодня Москва едва ли сумела бы ими управлять, а отказываться от них не дает эмоционально кипящая российская масса поддержки. Те же 85 % поддержки Путина превращаются в этом случае в ограничительный фактор. Если только он захотел бы убрать этих людей из Украины, ему пришлось бы вторгнуться на ее территорию вооруженными силами и, оккупировав Юго-Восток, фильтровать волонтеров и вывозить их в Россию. Помимо того, что это политически немыслимо, Кремль знает – в этом случае он рискует встретиться с ними где-то под Москвой. Ведь они уже вошли во вкус свободы, понятой как решение вопросов с оружием в руках. Сегодня единственная суверенная гражданская сила в России – вне ее пределов: она воюет на востоке Украины.
Я хочу сказать, что попытка бороться с человеческими эмоциями, с человеческой волей к спонтанному поведению безнадежна. Все они вернулись обратно в нашу систему – став зверьми, опасными для дрессировщика, окруженного лжецами.
Выступление на конференции в Берлине (май 2014 года) Опубликовано в интернет-журнале «Гефтер»,Маргиналии о русской геополитике (при чтении диссертации В. Л. Цымбурского «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX вв.»)
Это отрывки моей публикации «Маргиналии о геополитике» для сборника памяти Вадима Леонидовича Цымбурского, включающего главы из его (незаконченной) докторской диссертации по геополитике. Хотя я обычно избегаю геополитических текстов и даже слова «геополитика» – терминов «международная политика» и «мировая политика», как мне кажется, вполне довольно, – меня всегда интересовало влечение некоторых незаурядных людей к этой сумеречной зоне. В интеллектуальной честности В. Л. Цымбурского сомневаться не приходилось, и я воспользовался случаем, чтобы прочесть тот геополитический текст, в котором, как я мог быть уверен, нет ни намеренных передержек, ни, тем более, трескучих пустот на тему «борьбы миров за пространства». Это именно и в буквальном смысле заметки на полях, и публикую я их лишь затем, что, как мне показалось, я догадался, для чего «геополитика» вдруг понадобилась Вадиму. Есть тут и особое личное обстоятельство, о нем я говорю во вводке к «Маргиналиям».
1
У меня есть задолженность перед покойным Вадимом Леонидовичем, о которой, кажется, я так ему и не сказал. В 1994 году он заочно помог мне связать воедино разрозненные и оттого несносные для ума впечатления от событий в России. Перед тем была мучительно долгая пауза 1991–1993 годов, когда я не готов был встретиться с реальностью напрямую. Октябрь 1993-го опустошил словарь, оставив злые, только публицистически выразимые чувства. Но публицистика к этому времени уже была бесполезна – худшее произошло, и неожиданно для себя я попал в рабство данному. Нас поработил ход вещей, который мы не могли изменить, хотя отказывались принять. Большей интеллектуальной отчужденности и вражды к политическому статус-кво, чем в 1993–1994 годы, я, наверное, не испытывал ни разу в жизни. Но это был бесплодный ресентимент, да и мстить, собственно говоря, было некому. Онемение не поддавалось дискурсивной атаке – спорить стало не о чем и не с кем. Страну будто населяло несколько разных народов, отказавшихся говорить друг с другом.
Меня, все еще известного публициста, часто упрашивали «что-нибудь написать» – но я не мог. Начиная, захлебывался собственной желчью и бросал недописанным. В один из таких моментов – шел конец лета 1994 года – я еще раз попытался заставить себя писать. Чтобы от чего-нибудь оттолкнуться, взял номер журнала «Полис» и вышел на балкон. Читая эссе В. Л. Цымбурского «Остров Россия», я поглядывал вниз, во двор в одном из солнцевских микрорайонов.
И неожиданно для себя увлекся этой довольно большой и ученой статьей с солидным справочным аппаратом. Впечатления от чтения странным образом смешивались со звуками, доносившимися снизу со двора, но не нарушали хода мысли – ни моего, ни статьи Цымбурского. Вид с балкона на московскую разруху 1994-го вдруг предстал ландшафтом «беловежской» России, одновременно устрашающей – и нормальной, живой. Теоретически зная, что новая норма часто приходит жуткой, прежде я, видимо, не соглашался с этим. Цымбурский писал о России, не отводя взгляда, но как бы чуть искоса, не придавая значения публицистически явным уродствам. И не я, а мой мозг ощутил призыв взглянуть на вещи прямо, не горбясь от груза русских катастроф. Преступления совершены и уже развернулись в ландшафт. «Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на прежних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его».
То был интеллектуально освобождающий момент. Меня не привлекла собственно геополитическая рамка статьи Вадима Леонидовича, но вдохновил холодный энтузиазм его мысли, непринужденно переходящий в текст. Его постоянные «давайте приглядимся к этому поближе» диктовали курс любой будущей речи о России, открывая ее возможность. Непосредственным результатом стало то, что я «заговорил»! Прямо с того дня я стал писать свое эссе «О беловежских людях», вошедшее (вместе со статьей самого Цымбурского) в сборник «Иное» под редакцией Сергея Чернышева.
Здесь сработала интуиция еще одного скрытого мотива статьи Цымбурского. Мотива, в котором я тогда, по всей видимости, нуждался, как в витамине, – мысль о праве вмешаться в процесс, идущий помимо тебя и по твоему пониманию – беззаконно. Собственно, мотив выражен открыто странной фразой в конце статьи «Остров Россия»: «Для России сейчас очень хорошее время, дело только за политиками, которые это поймут». Отсюда уже недалеко до философии «эффективной политики», которой я вскоре увлекся.
Но собственно геополитическое содержание этого великолепного эссе тогда, в 1994 году, ничуть меня не увлекло. Не увлекает и сегодня. Читая неоконченный труд В. Л. Цымбурского, я пытался уяснить, что именно не нравится мне в геополитике? Эти заметкимаргиналии на полях незавершенной научной работы – мое жалкое приношение покойному другу.
2
Что является исходным пунктом нашего политического мышления об актуально происходящем? То, что мы не способны его мыслить, располагая будто бы всеми прежними средствами и инструментами.
Цымбурский хотел уйти от проклятой приблизительности и метафоричности бесчисленных «взглядов на Россию» – но так, чтобы не попасть в объятия так называемой научности, которая фактически выступала в РФ как импорт терминологических лексиконов. Он хотел помочь русским в интересах России вразумительным образом действовать государственно. Для этого нужно было найти основание этим будущим решениям. Первым ходом многих, столь разных в 1990-е, как я и Цымбурский, было: «теория, дающая советы власти». Отсюда геополитика Цымбурского, отсюда же и то, что я сам называл в 90-е то «прикладной политологией» (след чего остался в наименовании одного из московских учебных заведений), то «политической» и даже «исторической технологией».
У Цымбурского в перечне вопросов о существе геополитики – перечне, местами дискредитирующем предмет, – есть такой: «множество разнородных знаний, методов и идей, сообща служащих целям политики». Не политика ли создала геополитику под себя, в функции прикладной дисциплины, отчасти – суррогатной идеологии? Вернее, то и другое вместе: гаджет, возведенный в ранг науки.
Ядро геополитики по Цымбурскому – это «искусство наложения еще не вполне проясненных для общества кратко– и среднесрочных требований на тысячелетние… ландшафты». Не исключено. Но именно здесь требуются разъяснения, поддающиеся верификации.
Геополитика Цымбурского – это место, которое он оборонял в ожидании появления науки о России. Не страноведения, а наукоучения страны, все теории и школы мысли которой не помогли нам ее понять и не дают ключа к происходящему с нами. Отсюда интерес к проектным аспектам геополитического – что отмечает и сам Цымбурский, говоря, что геополитические тексты выстраивают картину мира из политизированных образов, «закладывая в нее программу действий для России, обычно олицетворенную ее правительством».
3
Цымбурский конструирует российскую геополитику «в ранге второй парадигмальной геополитики» наряду с западной – классической школой. Россия превращается в родину восточных геополитических слонов. В этом не было бы ничего невозможного, если бы западная геополитика давала бы связное представление политики Запада и его дипломатии. Проблема, однако, в том, что такое толкование явно проще и разумнее искать у Макиавелли, Токвиля и Киссинджера, чем у Маккиндера, Гаусгофера или Данилевского.
Политика и история Европы – вот ее истинный ландшафт.
Сам жестокий Цымбурский не удержался от того, чтобы в пику тезису геополитика Спайкмена о географии как самом постоянном факторе политики напомнить реплику Людовика XIV при восхождении Бурбона на испанский престол – «Нет больше Пиренеев!» Собственно говоря, вот кратчайший ответ политики на геополитику.
* * *
Геополитика и этатизм. Цымбурский верно отмечает неприятное свойство, о котором геополитики не любят говорить прямо, – ее махровый этатизм.
Проблема геополитического этатизма – даже не в ставке на государство как ценность, а в нерефлектируемо женственном очаровании властью – при отказе твердо указать, какие именно задачи ей должно решать. Этатизм ставит государство как решение задач стратегической повестки дня – на место самой agend’ы. Но тогда государство лишается разработанного курса, переходя на самообслуживание власти – в которое с радостью включается невостребованный геополитик. Это не добавляет никому необходимых компетенций.
Критически проницательно Вадим Цымбурский констатирует: «Геополитик обычно выбирает в качестве главного определенное политическое отношение – господство, соревнование или кооперацию, – на которые делает основную ставку в своих конструктах». Господство (его мы при проектировании новой власти с Александром Ослоном во второй половине 1990-х именовали обычно доминированием) в личности не нуждается.
Личность в поле конструирования геополитики отсутствует – в отличие даже от полицейского или правового этатизма. Со временем это скажется на выветривании остаточных представлений о суверенитете личности внутри суверенной России. А также на выветривании традиции, кровно связанной с идеей свободной, критически мыслящей личности, то есть русской политической республиканской традиции. Оказывается, без этого русского «хлама» можно было обойтись.
* * *
Геополитика и Weltpolitik. Интересно обращение геополитики с понятием «мирового», отмеченное Цымбурским в связи с Маккиндером. Неотъемлемой от геополитики он считает доктрину «евроазиатского хартленда как ключа к мировому господству». Можно предположить в геополитике убежище для неудачливой Weltpolitik. Геополитика скрывает мировое измерение политик, которыми хочет манипулировать, по возможности не упоминая про «управление миром».
Отсюда такой признак вторичности, как вчитывание образов-корректировок в изменения текущей политики. Такова идея мирового «осевого ареала» Маккиндера, высказанная в 1943 году, в год явного уже перелома в ходе мировой войны. А перед тем – вчитывание Хаусхофером концепции раздела мира по «меридиональным гегемониям» (пан-Европа, пан-Азия, пан-Россия и пан-Америка) – в 1934-м, когда вся Европа была одержима модой гегемонии и господств.
Вообще идея «господ и господств» абсолютно интимна для геополитики. Опять-таки сошлюсь на Цымбурского с идеей «приморья-римленда как инкубатора держав – мировых господ», выдвинутой в 1916 году Семеновым-Тян-Шанским и также отнесенной Цымбурским к числу ключевых для геополитики. Всякий раз мы находим почти мгновенную проекцию моды на глобус.
* * *
Идея господства, неудалимая из геополитики, в XXI веке дожила до момента медийной востребованности. Не в силах принести пользу любой политике – даже гегемонистской! – она штампует образы вульгарной конспирологии в деградирующем поле массового сознания. Не исключая, разумеется, и демократического. Цымбурский предупреждал против «демонов», какими становятся политически заряженные картины мира, «включая сюда и традиционные для нации геополитические коды». Знал бы Вадим, что в демона легко обратить и само понятие «традиционного геополитического кода нации».
Правда, при этом величественная постройка суверенитета лишается внутренней жизни и даже национальной идентичности русского. Здесь справедлив приговор Цымбурского такой геополитике как деятельности, которая «имитирует процесс принятия политических решений, а иногда прямо включается в этот процесс». Добавлю, что включение в процесс происходит на третьестепенных ролях необязательной апологетики кем-то принятых решений, подбора извинений для наиболее идиотских из них и говорящих голов в телешоу.
Но есть ли вообще в геополитике что-либо кроме этого?
4
Цымбурский говорит о парадоксе Российской империи, которая на подъеме выстраивает свое мировое место в мире, уже выстраиваемом другой – европейской цивилизацией, носительницей «другого» христианства. Отчасти верно, но «другое» здесь действует как значок уравнивания в заданной наперед конфронтации. Работает геополитическое спрямление – фиксации миров в их раз и навсегда заданном значении: Запад есть Запад – Восток есть Восток, католичество не есть православие и т. п.
Сквозное у Цымбурского, но отнюдь не только у него, – рассуждение о сближениях и вражде разных мировых «лагерей». Но этот архаизм из военного лексикона стал осмысленным политическим термином только после Ялты, в эпоху холодной войны ХХ века. Коалиции прежних времен были текучи и подвижны, они не были зафиксированными на глобусе лагерями, зорко отслеживающими любое проникновение в свою зону. Внутри геополитики понятие «центра влияния» и «лагеря» постоянно является фактической модернизацией, навязывающей современные страсти другим эпохам, а точнее – вчитывающей их туда.
* * *
У В. Л. Цымбурского ссылка на Паркера, который рассматривает мир из отдельных государств-кубиков. Геополитика же – «учение об узорах и структурах, которые могут быть из них сложены». Здесь мы опять встречаемся с идеей приравнивания реальной политической – то есть внутренней жизни нации и полисов – к константе, к гомогенному наполнителю структуры «вечных интересов».
Пространство выступает внешним по отношению к истории этих миров, как бы заранее им предначертанное, а не проблематизирующее. Смысл борьбы за это стерильное пространство разъясняется через такие же самозамкнутые стерильные понятия «выхода к морям», «незамерзающих портов», «буферных пространств».
Трудно отделаться от впечатления, что геополитическое мышление представляет собой радикальный разрыв с христианским мышлением о государстве. Геополитика антиуниверсальна, и выстраиваемые ею схемы под «центрами» обычно разумеют автономные миры.
Эти миры не самодостаточны лишь в силовых схемах относительно друг друга, представляясь самодостаточными внутренне.
* * *
Геополитика и застывшие мысли. Геополитик вечно рассуждает об «обеспечении положения» и «закреплении преимуществ». При этом, как правило, речь идет о неразложимых ментальных атомах, ибо на деле никакие положения, предмостья, коридоры и, тем более, безопасности не бывают ни вечными, ни даже долговременными. В этом смысле геополитика – одно из худших хобби для серьезного политика и дипломата. Но это наводит на мысль, что бесконечные «пространства», которые конструирует и деконструирует геополитик, подобно ребенку, увлекающемуся лего-трансформерами, скрыто-технологично и близко к идее устойчивой конфигурации техник, операций и представлений о ресурсах. (Отчасти то, что Фуко вкладывает в термин «диспозитив».)
Сюда же относятся и термины, которыми буквально измучивают читателя геополитические тексты, – «естественные границы», «естественные союзники» и «естественные пределы». Все это транквилизаторы, убалтывающие аналитический мозг, будто бы он приобрел немыслимую возможность прямо созерцать реальность, as is.
* * *
Мотивы действий внутри геополитической игры спрямляются – чего не позволяет себе добрый историк. Если политик совершает геополитически значимый ход, это почти никогда не объясняют внутренними обстоятельствами (которыми чаще всего это и объясняется), а игрой на глобусе – созданием угрозы другим «мирам», в рамках той или иной Большой игры. Но почему это вообще геополитика, а не история дипломатии?
5
Геополитика России занята проектированием «большого пространства России», притом что российское пространство давно сложилось, фактически безо всякой геополитики.
Пространство России отождествляется с географическим пространством ее (в виде ли империи, СССР и т. п.), обходя центральность задачи держания пространства, инструментом которого и стал «социум власти» по Гефтеру. Его «конструирование» велось средствами колонизации властью своего же населения, уже внутри российской Гипербореи, рухнувшей на Москву вслед нашествию Степи.
Цымбурский постулирует единый импульс к конструированию «своего особого российского пространства из земель, которые обретались бы за пределами коренной Европы, не входя в ее расклад – или могли бы быть изъяты из этого расклада». Справедливое суждение. Но ведь все это происходит уже внутри большого пространства Московской Руси – России. Сотворенного почти вне сознательного конструирования, тектоническим выбросом со стороны Степи и реакцией на него в XIV–XVIII вв.
* * *
«Российские циклы». В. Л. Цымбурский очень дорожил выявленными им циклами «сжатия и расширения» и вообще геополитического ритма системы «Европа – Россия». Действительно, мало кто вообще из рассуждавших о России в последние 100–200 лет не замечает странной повторяемости. Она часто вынуждает говорящего к уточнению: например, что «шестидесятничество» XIX века – это не «шестидесятничество» ХХ века, а Крымская война – не конфликт с Украиной в 2014 году. Разумеется, возвратный ритм России, явная череда обратимостей, обрывов и повторов развития важна и должна быть разъяснена. Но разъяснит ли его портретная модель – то есть упорядочение задним числом реально протекавших по разным причинам событий и политик, движимых разными мотивами, с привязкой текущего момента к тому или иному месту в цикле? Что это подсказывает нам и нашему действию сегодня? а ведь Цымбурский хотел подсказывать! Стремление, столь понятное для многих из нас после 1991 года, но, как выяснилось, коварное.
* * *
Наблюдения Цымбурского почти всегда тонки и интересны. Например, то, что «с начала петербургского периода сама культурная тема России в сознании ее образованного класса изменяет свой смысл». Речь о зарождении новейшего русского универсализма, отличного от староимперского и раскрывшегося в русской культуре XIX века, а затем ленинским и советским зигзагом русской истории. Но почему и к чему здесь «геополитический опыт империи»?
Точно наблюдение Цымбурского о курьезности того, что до 1917 года термины «Восток» и «восточный вопрос» применялись к землям, находившимся относительно России вовсе даже на юго-западе, – к Проливам, Малой Азии, Балканам. Цымбурский замечает, что и сегодня в нашем словаре «Ближний Восток» остается рудиментом взгляда на мировую карту не из Москвы, а «из Европы». Но ведь это и есть цена того самого петровского универсализма. Извлечь петровский проект и импульс из политики империи XVIII–XIX вв. невозможно, не развалив ее всю.
Что бы сказал (воображаемый) «консервативный геополитик» Москвы конца XVII века об ошеломляющем европейском развороте Петра I? с чудовищной ломкой институтов русской государственной, культурной, социальной и даже церковной традиции? Где здесь «конструирование пространств»? Петр, по поводу которого нам сегодня комфортно рассуждать, – сущий геополитический монстр, «черный лебедь» России.
Революция Петра I при всей ее радикальности была не только насильственной и раскольничьей, но еще и культурно ущербной. Прямая цель и задача Петра – войти в европейский клуб. Но то был клуб господ истории – выработавших свою культурную универсальность стран, а не только военных хозяев положения. Дополнить свою имперскую амбицию адекватной ей культурной программой Петр не мог; не смог и весь XVIII век. Это осталось в работу XIX веку.
* * *
Наблюдения Цымбурского насчет азиатской экспансии России в XIX веке в Центральной Азии остры и важны. Он не преминул заметить, что экспансия движима не планом, а осмосом повседневности – фиктивностью степных границ и нормой «двоеподданства» кочевых обитателей (одно это опровергает само понятие «естественной границы»).
Весьма интересна подмеченная Цымбурским исключительная роль местных губернаторов в этой экспансии, «действовавших при пассивном одобрении (а иногда даже малоактивном неодобрении) правительства». Крайне уместное напоминание тем, кто объясняет все происходившее на Донбассе в 2014 году исключительно кремлевскими планами, обходя активность приграничных властей.
Вообще замечу тут, что геополитическое сознание монофакторно. Как правило, геополитик оперирует каким-то одним фактором в качестве главного. Например, выяснив, что обыкновенный лоббизм на Западе вносит вклад в структуру санкций против РФ, геополитик обращает компонент в субъект: глядите, какие низменные интересы стоят за их так называемыми принципами!
* * *
Геополитика: влияние на мышление. Геополитическое мышление недружественно к реальности. Окидывая взором большое мировое поле, оно подозревает прячущуюся «за всем этим» западню, вражеский камуфляж. Геополитик рвется к «большой шахматной доске», лишь чтобы выискать и вытащить из-под игрового стола спрятанного под ним злого карлика.
Есть восточный терапевтический принцип, общий и всем реалистическим школам мысли: факты дружественны. Но геополитик глядит на вещи искоса, не собираясь с ними дружить, ни даже сосуществовать. Отсюда страна, понятая как пространство страны (первое упрощение), которой мыслит геополитика, лишена автономной негеополитической динамики. Она заранее исключена, вычтена из мира, с которым борется или просто отбивается.
Всемирность – в полном расхождении с большинством русских классиков, учителей и мыслителей XIX века – не есть ни место России, ни ее предмет. Тем самым и XVIII–XIX века России, в их установившемся значении этически императивного русского опыта, ядра русской традиции, выпадают. Русской культуре здесь просто нет места. Взамен приходится конструировать нечто искусственное, суррогатное, замещающее свое.
6
Цымбурский замечает, что объединение Италии может быть описано как проекция международных интриг на национальное строительство. Это заставляет меня выдвинуть догадку, не претендующую, впрочем, на ранг гипотезы.
Уж не несет ли геополитика внутри себя импринт истории середины XIX века? с его устойчивыми проблемами, наподобие «восточного вопроса», с бесчисленными «священными» и «вечными» союзами, нарушение которых предполагалось сторонами уже в момент заключения? с его невероятными суперперсонажами, сто́ящими целых сверхдержав? Таков император Николай Павлович – в непрочном, но программном и роковом для русской культуры союзе с Александром Пушкиным. Таковы оба Наполеона – и последний чуть не более, чем первый. Таков же, разумеется, Бисмарк – любимейшая из кукол геополитиков. Затасканная до потери различимости матрешка гениального тактика и политконсультанта императоров внутри довольно среднего стратега. Не пытавшегося ничего строить на вечные времена.
* * *
Михаил Гефтер в принципе отвергал теоретический статус геополитики. Говоря о ялтинской трагедии мира после 1945 года – как мира, не нашедшего себе адекватного языка и пожранного «чудовищем геополитики», он именует симптом патологии, а не ссылается на науку.
Неудивительно, что такой призрак XIX века, как геополитика, в ХХ веке стал обманщиком и сам был обманут. Геополитика не предвидела сингулярности перехода структуры мира в новое состояние. Но не предвидела она и мощи инерции архаического.
Едва ли создание НАТО было материализацией Больших Пространств Маккиндера и Хаусхоффера. Скорее, само НАТО являлось ожившим архаизмом в умственном вакууме конца 40-х гг. – где мозги Запада и Востока не успели додумать альтернативу открытого мира.
Архаизмом является и сама РФ – осколок сталинской управленческой архитектуры применения внутрисоюзных конструкций к решению мировых задач, безразличных к собственно задачам советского общества.
* * *
Геополитика как оружие обороны. Притом что российская геополитическая макулатура выглядит комично, нельзя не заметить, насколько вся она проникнута идеей защиты. Это акцентуированность, сама по себе подозрительная для теории. Даже в теориях войны и военной стратегии оборона занимает не столь премиальное место. Здесь ярко выступает невротический мотив нашей геополитики, делающий чтение ее истинным пиром психоаналитика.
Склонность прагматики русских пространственных теорий к выстраиванию защит и оборон убийственно разрушительна для решения собственно важной рациональной задачи – защиты пространства. Недаром «выстраивание защит» – известнейший симптом ряда психических расстройств.
* * *
Геополитика как боевое искусство. Тонким надо признать и замечание Цымбурского о «стратегическом блоке геополитики» – преобразующем картины мира в цели и задачи конкретного игрока. Здесь скрытым образом вводится та самая личность, что прежде была изгнана геополитическим этатизмом. Вводится в роли политического потенциала – каковым она и является, часто – в решающей степени. Это сразу убивает интерес к геополитическим кубикам из глобуса, нарезанного на гомогенные доли.
Любопытно его представление терроризма как техники «геополитической акупунктуры – точечных акций, достигающих изменения имиджа стран, регионов и мира в целом». Здесь он говорит о имагинативном начале в геополитике и даже о «минималистской геополитике, не формулирующей собственных программных геополитических образов и сюжетов… сводящейся к реагированию на непосредственно воспринимаемые раздражители». Геополитическая акупунктура террора по Цымбурскому – это, конечно, Шамиль Басаев или Бен-Ладен. Эти люди не только не стремились к «организации Больших Пространств», но явно к их разрушению и отчасти (что касается второго) в этом преуспевали. Они не политики в обычном смысле слова, и не просто бандиты – но кто они? Этот вопрос остается нерешенным и даже неинтересным для геополитики во всех известных ее формах. Зато он обслуживает самую популярную и известную каждому геополитическую конспирологию. Та завлекает миллионы умов «совершенно очевидными» догадками о том, «кого обслуживают» мастера террористической акупунктуры.
7
В сущности, Цымбурский ведет поиск критической теории о России. То есть теории, которая не будет разнесением проблем России по отраслям – с дроблением, теряющим целое, открывая путь для манипуляций. Где каждый может выбрать более удобную ему теорию, а выгода маскируется под выбор концептуальной школы: таковы «институционализм», «монетаризм» и т. п.
Должен признаться, читая рукопись Цымбурского и выдвигая едкие критические догадки в адрес геополитики, я не раз уже через несколько страниц встречал их, уже как критику самого Цымбурского. Это касается и очевидной «проектности» мотивов геополитика, и склонности геополитиков к «вчитыванию политического в неполитические субстанции» (формула самого Цымбурского). Он ясно видит, что конструкции геополитики не обращены к научному сообществу, но к субъектно организованной, политически действующей части общества – так называемому политическому классу.
* * *
Цымбурский признает, что сквозной чертой, объединяющей разные школы геополитики, является ее проектность. В основе – воля проектировать. Действовать именем «самой реальности», не исследуя ее толком. Исследование в политике – всегда лишь демаркация военно-стратегических полей (но тогда полезнее карты Генштаба) либо коллекция примеров, не подлежащих Попперовым критериям истинности.
Геополитика появляется в момент того, что Гефтер именует «уходом исторического» из жизненного мира homo sapiens. Всплески геополитики – в конце XIX – начале ХХ в., в 30-е, затем в 40–50-е годы и, наконец, в начале ХХI века – совпадают с обнаружением тупиков-пределов органичного для homo historicus «историцистского» действия. Определению Цымбурским старта геополитики как «волевого политического акта, отталкивающегося от потенций, усмотренных в конкретном пространстве» недостает продолжения: «…при дефиците ресурсов исторического действия и его инструментария».
Я, пожалуй, согласен с Цымбурским в том, что геополитик «исследует мир в целях проектирования, а часто… и через его посредство». Это попытка удержать конструктивизм исторического действия, нараставший внутри мировой истории от XVIII к ХХ веку, ценой избавления от исторического опыта. Заменяемого политической картой мира.
Весьма иронично приведенное Цымбурским суждение академика Тарле, что геополитика думает «о будущей географии, а не о настоящей». Но будущее никак не может быть проверено, а «реалистические суждения» о будущем абсурдны. Воля и желание – вот мотив утонченного геополитика. Он позволяет себе желать определенных результатов исследования еще до того, как их получит. Здесь обнаруживается некое сходство с коммунизмом, который также торопился изменить мир, исследуя его лишь по ходу и в необходимой для этого степени (отчего его классик Карл Маркс, не утративший навык интеллектуального любопытства, заявлял: «Сам я не марксист»).
* * *
В глазах такого историциста, как я, геополитика, разумеется, выглядит неправомерным вторжением в сферу действия мировой истории и одержимых ею авангардов. Но после того как все без исключения авангарды свернули себе шею, к чему удивляться, что на арену вышли уцелевшие геополитики? Ситуация опрокинулась. Теперь былым «творцам мировой истории» приходится объяснять, что они имели в виду и что именно собирались сделать с нациями и сообществами, превращенными в инструмент будущего?
Геополитик в сравнении с коммунистом ХХ века просто шалун, вроде гопника из предместий, который редко-редко позволяет себе выйти в центр для драки на Манежке. Не геополитики развалили империи ХХ века, как либеральные, так и тоталитарные. Не геополитики несут ответственность за цифры жертв с несчетными нулями. Хотя, разумеется, геополитики очень завидуют историцистам и рвутся изо всех сил на их место – порулить. Но мотив их нисколько не консервативен!
Цымбурского это настораживало. Он предупреждает против геополитического идеализма, убеждающего «народы и государства жертвовать… своим суверенным существованием ради суверенитета Больших Пространств. Сейчас в России этот вид идеализма ярко обнаруживают писания Дугина». Еще раз нужно отметить правоту Цымбурского: визионерство геополитической субкультуры, безвредный пережиток эпохи ар-деко, помноженный на 3D-визуализации XXI века, породило не сон разума, а его умерщвление. Речь уже не об «убеждении суверенитета жертвовать собой», а об обслуживании суверенитетом нужд мелкой текущей политики. (Ей-богу, даже простая геополитическая осторожность не помешала б весной 2014 года в контексте решений о Крыме.) Цымбурский пророчески иронизирует над «крымской геополитикой», не берущей в расчет «снабжение Крыма днепровской водой, радикально осложняющее “островной проект”».
* * *
За последнее десятилетие, а вернее бы сказать – тридцатилетие, назрела и перезрела задача понимания России. Эта задача не покрывается исследованием трудных вопросов русской политики, истории, социальной жизни и онтологии. Скорее, надо говорить о загадочной избирательности взгляда последних десятилетий, который замещал непроясненную и даже непоставленную проблему поспешным суждением и императивной оценкой. Классическим случаем здесь являются события, которые, даже при простом их назывании – и это ощутимо для каждого, – вызывают внутреннюю эмоциональную и недружественную мобилизацию присутствующих, мотивированных при этом по-разному. Достаточно простого упоминания. Например, «реформы кабинета Гайдара», «1990-е годы», «катастрофа СССР», «ваучерная приватизация», «путинское большинство» и «политика стабильности». Сам акт именования этих тем является для многих непристойным и почти порнографическим.
Вероятно, уже описание самих заглушек и табу позднесоветского-постсоветского мышления представляет собой также запрещенную себе нашим сознанием зону. Этих механизмов много, они разнообразны и генерируют различные категории исключенного российским мышлением – либо генерирующего сами эти табу, что не исключено.
Итак, слишком многое говорит, что нам не удается и, весьма вероятно, не удастся продвинуться в мышлении о России сколько-то далее места, где мы находимся – и где находиться далее невозможно ни ментально, ни морально, ни эстетически. Двигаться придется, и движение в его начальной фазе будет происходить, что неизбежно, в почти бессмысленной или абсурдной форме.
Периода интеллектуальной подготовки к тому, с чем мы встретимся в скором времени, а именно к реальности, у нас не будет. Посему программа критической активности, критических разработок или даже исследований, которая бы началась (допустим) прямо завтра, имела бы значение только при обдумывании причин неминуемой катастрофы того грядущего старта, который еще и не начался. Это дало бы шанс на то, что та будущая неудача, которая наступит скоро вслед за эйфорией начала, попадет в должный интеллектуальный контекст, и дитя на сей раз не будет выплеснуто вместе с грязной водой следующей «великой реформы» или «перестройки».
Но здесь же и большая трудность, заключенная в неопределенности и неочертанности поля неведомого. Блажен тот, у кого есть уже импортированная концепция или иной карго-дискурс, а если нет? Именно поэтому, быть может, феноменология современных аутозапретов и аутотабуирования русского мышления помогла бы помочь прощупать это тело неясного, неведомого.
Еще до того, как мы признаемся себе, что чего-то не знаем, нам придется признаться в том, как именно мы не хотим знать и какие именно увертки ума от знания мы уже накопили.
* * *
Цымбурский остановился на пороге преодоления геополитики по пути к науке о России. Он отметил возможность того, чтобы в рамках политологии выделилась отрасль, «занимающаяся геополитикой как изучаемым типом политической мысли и политической практики». Для нее он предлагал название геополитология. Здесь мы возвращаемся к исходной теме – вернее, к исходному вызову наших дней – вакууму понимания России и ее поведения. Здесь В. Л. Цымбурский оставляет для нас важную, не развернутую им догадку.
Ибо такая наука действительно должна быть наукой об изучающих Россию субъектах и о применении ими изученного. Разумеется, она должна была бы изучать в том числе и российскую геополитику, равно как западные опыты с «кремленологией», «советологией» etc. Все это такая наука рассматривала бы в длинном ряду – от «теорий заговора» до НЛП и «пиара», то есть прагматических проекций интеллекта на русскую политику. Равно и политических запросов на интеллект. В этом случае политтехнологии по-российски также оказались бы предметом изучения, причем в контексте их использования, их интервенций в политический процесс и порожденных этим аберраций. Сюда же попали бы и стратегии «медиаполитики», «управляемых медиа», «суверенной демократии» и «подавляющего большинства».
Иными словами, предметом должен оказаться способ мыслящего обращения России с самой собой – с Россией же. Но этим наукоучением едва ли явится геополитика как таковая.
Опубликовано в интернет-журнале «Гефтер»,Неопознанные национальные интересы РФ
Полемические заметки сомневающегося
Ничто не стоит так дешево и не ценится сегодня так дорого, как национальные интересы России. Все только о них говорят, это стало присказкой, как «пожалуйста». Этикетное междометие ничего в реальности не обозначает – но разве и наши интересы виртуальны?
Премьер Дмитрий Медведев грозит конкурентам запретами: «Извините за пафосное выражение, исходя из наших национальных интересов». Здесь еще слышен извинительный оттенок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков двинулся от суверенного пафоса к ренессансу: «Мы хотим, чтобы наши национальные интересы, наше право на суверенность должным образом уважались. Когда это произойдет, наступит ренессанс в международных отношениях». В речах самого Владимира Путина национальные интересы уязвимы, но их защита неизменно тверда: «Россия доказала, что способна отстаивать свои национальные интересы»… «Россия все жестче и жестче защищает свои национальные интересы… Мы хотим уважения наших национальных интересов». Рисуется образ национальных интересов как беззащитного дедушки, которого бережно везут в инвалидном кресле. Эдуард Лимонов поэтически настойчив. Он требует «срочно декларировать наши национальные интересы, разжевав и объяснив их раз навсегда врагам». И вот министр иностранных дел Сергей Лавров, разжевав, бросил в лицо врагу Джону Керри готовность договориться, откатив кресло с дедушкой в угол: «Мы не поступимся своими национальными интересами и принципиальной позицией по ключевым вопросам, но в то же время российская сторона готова к конструктивному взаимодействию с США».
Итак, перед нами вирусный термин, вроде «да, Карл». Само по себе это не хорошо и не плохо. Дела внутри и вовне страны идут, экономика то ли растет, то ли нет. Антироссийские санкции переросли в новую игровую константу – глобальный режим санкций, открывающий маневренные поля для всех, не исключая саму Россию. Один вопрос – при чем тут вообще внешняя политика Российской Федерации, а, Карл?
Место определения интересов
Способна ли РФ заложить основы необходимой ей сегодня внешней политики? Вот заглавный вопрос. Старая внешняя политика, хороша она или нет, сегодня в руинах. И первое, что мы видим, – пустота на месте стратегического диалога о национальных интересах РФ.
Заговорив о национальных интересах, мы лавируем между двумя берегами. Есть гора статей и книг авторов, которые до Горбачёва не знали такого понятия или не решались произнести его вслух. И есть решения, принимавшиеся в Кремле помимо «всей этой макулатуры», со спорами экспертов не корреспондирующие. Не потому ли момент истины насчет интересов страны совпадает у нас с моментами кризисов и катастроф?
Когда однажды раскроются тайны и рты, разнобой трактовок того, кто и зачем запускал «весну Новороссии», сохранится. Есть прецедент: странная тайна ввода войск в Афганистан. Решение, которое сотрясло экономику и позиции СССР, погубило его антиколониальную репутацию, попутно породив вооруженный исламизм. Сейфы давно раскрылись, но там пусто. Где обсуждение столь рискованной операции в контексте национальных интересов СССР?
Концепт national interest возник в США, и даже понятие «национальных интересов России», прежде чем о них заговорили в Москве, появилось в американских дебатах. В разгар политики сдерживания ястребы холодной войны вроде Пола Нитце обязательно учитывали то, как американские интересы выглядят в поле интересов враждебных. Джордж Кеннан учил, что русские не сядут за стол переговоров «в отрыве от своего национального интереса». Трактовка враждебного интереса как чужого национального кажется нам удивительной, но много ли можно сказать о своих национальных интересах вне их связи и конфликта с такими же интересами остальных?
Правда, неизвестно место, где у нас вырабатывается повестка национальных интересов. Если это государственная власть, есть ли место дебатам во внутриведомственных спорах? Аппаратные препирательства накануне решений о Крыме трудно возвести в ранг стратегических дебатов: никто из участвующих не связывал себя определенной позицией. А уяснение аппаратом взглядов начальника, существовавших до спора, – не политические дебаты, даже когда они привели к необъятным последствиям.
В итоге национальные интересы России сегодня лишены центров разработки и политически строгой терминологии. То, что пишут по этой теме, – беллетристика, часто политически безответственная. Мы слышим сказки о всемогуществе с указанием другим странам, что те лишь мишень для наших «Искандеров». Требования признать за Российской Федерацией фантастические статусы – само по себе угроза нашей безопасности. Последнюю трактуют как безопасность «на все времена», навязывая национальному интересу поиск вечной страховки. Но абсолютов в политике нет.
Опасно утрачен интерес аналитиков к поучительным кейсам, где мощь России вдруг переходила в слабость. Вспомним плохую роль, сыгранную в судьбе СССР требованием «стратегического паритета с главным противником». Ложная цель была подсказана травмой поражений 1941 года, но с годами знак потенциала менялся. Оборонительная сверхмощь СССР, достигнув апогея к середине 1980-х, распылилась по зонам влияния и стала сверхслабостью.
Мощь и слабость
Мы описываем Россию как нечто предусмотренное, спроектированное и выстроенное. Такие описания негодны для страны, образованной вычитанием республик из СССР. РФ унаследовала слабость во власти, экономике и ресурсах. Слабость и стала учредительным фактором, а могущество, мощь – мечтой, цель которой не уточняли. Сегодня наоборот – цели подбирают под мощь. Но мощь – это лишь потенция, возможность нации обслуживать свои интересы, сохраняя неистраченной их ресурсную базу. Вне сервисной функции мощь проблематична – ее то слишком много (чтобы оценить риски втягивания в конфликт), то мало (когда придет время платить по счетам). Непроявленность национальных интересов и тут срабатывает на слабость: возвратную слабость страны среди еще недавно сильных ее позиций.
Ранний Путин разделял догму постмодерна о том, что экономическая сила утвердилась на месте военной. Основанием национальных интересов он положил финансовое могущество России и к нему, срезая углы, рванулся самым коротким путем «сырьевой модели». Та несовершенна, но ведь для команды Кремля речь шла о безопасности, а не об экономике. Упрекнуть Путина можно в другом – в неверной ставке на тип глобализации. Российская экономика превратилась в финансовый сверхпузырь, обеспеченный америко-китайско-европейским бумом. Проект Путина – ультраглобалистский проект. Кризис 2008 года его надломил, а украинская революция опрокинула на себя: революция в Киеве раздавлена, но интересы России – слишком дорогая плата за это.
Мы опять видим решительные действия без обдуманных решений и жертвы, принесенные без надежных результатов.
Сновидения вместо тренировок
Дефицит дебатов в украинском кризисе был особенно разрушителен для наших интересов, причем независимо от оценки значения Украины. Мысль, что она исключительно важна, обитала в Кремле давно. Еще Беловежский раздел СССР 1991-го мотивировали украинским референдумом о независимости. Но как украинская доминанта размещена в кремлевском мозге среди всех других задач? Ответ на вопрос дают неизменно литературный, эмоциональный и намеренно непроверяемый. Тем самым и не операциональный. Его нельзя использовать в принятии никаких решений, даже тактических. Чем и объяснима власть прибауток над стратегическим сообществом: «Россия сосредоточивается», «Пока русский царь ловит рыбу, Европа может подождать», «Украинец признает только силу» и т. п. Отсюда же постоянный поиск вредителя в функции упрощения задачи. Борьба с вредителем проще достижения цели и запросто подменяет цель. Москва давно одержима «американской догмой», будто США имеют определяющее влияние – то доброе, то злое (что всегда зависит от текущих маневров) на наши интересы. Источник догмы часто в невежестве. Глядя на глубоко нам непонятную и политически сложную цивилизацию Соединенных Штатов и не будучи с ней в культурном контакте, мы пытаемся угадать свои цели, гадая о кознях противника. Постсоветскому мышлению свойственна криминализация глобальной игры. Все помехи нашим желаниям идут только от злоумышленников.
В текстах российской аналитики украинского кризиса заметно нечто общее – авторы избегают определять желаемое состояние. С легкостью говоря о «военном броске России» до Днепра или Збруча, они не предлагают точной сцены такой эскалации, ее участников – и последствий этого для Российской Федерации. Тяга к радикальным выходкам не привязана ни к обстановке, ни к вероятному поведению игроков. Национальный интерес в таких заявлениях выглядит суицидально.
Не проводя стратегических дебатов, Россия невольно заимствует украинскую модель их фальсификации. Прежде мы свысока поглядывали на киевлян с их вечными спорами о «многовекторности», «пророссийской или прозападной ориентации» – все это выглядело ребячеством. А сегодня тонем в абсурдной полемике о ненужности для русских западной традиции права и порочности свобод. Разве Москва готова ревизовать европейское русло русской традиции, заданное Петром Великим? Для такого понадобится и катастрофа петровских масштабов.
Пишут о «параноидальном страхе Москвы перед Западом», но болезнь тут ни при чем. Это леность. Просто несобранный субъект нервничает в присутствии подтянутого, а его импровизирующий мозг робеет перед стратегически расчетливым. Даже наше клеймо «вашингтонский обком» – всхлип слабости тех, кому обычное управление кажется непостижимой тайной. Увы, демократии Запада – это в точном смысле слова управляемые и управляющие демократии. Они реально обладают свойством, в котором лицемерно (и зря) винят Кремль: управляемостью.
Театр вместо дипломатии
Русско-украинский кризис 2014 года был общеевропейским кризисом стратегического управления. Побег президента Украины оставил недовольных Евромайданом без лидера, и вдруг оказалось, что эту потерю некем заменить. Для деэскалации нужен был Янукович. Пропажа центральной позиции выпятила место Путина, творя миф о глобальном злодее-волшебнике, способном все остановить. Приняв роль, Путин вынужденно демонстрировал «авторство», провоцируя европейцев подхватить игру. И вскоре та перешла в нагнетание антироссийских санкций.
Спектакли демонстративной вражды и встречной непримиримости Запада, мешая оценить глубину кризиса, затрудняли урегулирование. На месте остановленной революции в Украине заработал национал-революционный театр с риторикой крови и подвига. Московский контрреволюционный театр, не менее интенсивный, поддерживали военно-съемочные бригады, высылаемые из Останкино на Донбасс.
Казалось, дипломатии в Европе то ли не стало, то ли она еще не изобретена. Но театральные постановки «усиления НАТО» и «российской стратегической готовности» у всех на виду. И если б не тысячи погибших, в театре нашлось бы много смешного. Не комична ли могущественнейшая военная сила планеты – блок НАТО, крепящий защиту от московского троллинга? Но и Москва перестала отличать троллинг президента Обамы от перемещения танковых подразделений.
Под Мариуполем русские танки чуть не прорвали экран воображения, окончательно опрокинув Россию и Европу в немыслимую реальность. А в основе – лишь упрямое неразличение интересов и инструментов, стратегического и показного. Жестокий театр украинских «киборгов», жестокий театр Игоря Стрелкова, нереальная жестокость сбитого боинга. Те, кто сбил малайзийский самолет, ударили прямо в солнечное сплетение национальных интересов. Обнаружилось, что реальный интерес каждой страны – жизни ее людей и безопасные коммуникации ее рынков. Приоритетен ли этот национальный интерес для нас? Или мы все еще в сомнениях на этот счет?
Русские интересы или интересы «русского мира»
Словосочетание «борьба за национальное самоопределение» помнит всякий читатель советских газет. Давно исчезнувшее, оно вернулось к нам вместе с Крымом. Значит ли это, что Москва пересмотрела постсоветскую незаинтересованность в национальных движениях за самоопределение? Отнюдь нет.
Еще разительней дела с русским миром. Неологизм присутствовал в официальном обиходе как общее название программ стимулирования русского языка и культуры за рубежом, как вдруг он стал обозначать притязание. Настолько основательное, что президент РФ публично отрицает разницу между украинцами и русскими – «это один народ». Значит ли это, что мы размываем Россию в «русском мире», одновременно отрицая нации, возникшие при распаде СССР? Разве нашим национальным интересам отвечала бы повторная неопределенность границ на постсоветском пространстве – fuzzy topology для суверенитетов Северной Евразии?
Русские, представляющие 80 % населения в Российской Федерации, для «русского мира» выступали бы безгосударственным народом, рассеянным по десятку государств. Интересы реальных граждан РФ хотят обменять на разномастные диаспоры, предлагая раздвигать и развивать их, а не Россию. Нонсенс, абсурд? Нет, уже реальная ситуация. Конфликт интересов яро проявляют не только отчаянные бойцы «Новороссии», но и российские государственные телеканалы. Кому пора «подвинуться» – России или «русскому миру»? Чьи национальные интересы приоритетнее?
Легкомыслие в войне и в мире
Генри Киссинджер однажды заметил, что Россия часто предпочитает риск поражения компромиссу. Вот и сегодня Москва рассеянно относится к угрозе военных сценариев развития кризиса. Грозя другим, мы пренебрегаем их восприятием угроз, легковерно надеясь, что те нас не примут всерьез. Послание русского легкомыслия: остановите нас, если можете, а нет, так терпите дальше! Более яркой формулы нестерпимого положения не придумать, но в чем так можно преуспеть? Даже территориальные приобретения не легализовать, не выйдя в пространство общепризнанных норм, с дальнейшим отказом их нарушать.
Под знаменем Realpolitik мы увертываемся от Realpolitik. Из добытого Россией за последние 20 месяцев нет ничего, чего нельзя было получить, комбинируя интриги, давление и переговоры. Истинная конкуренция ждет Россию не в Крыму и не на Донбассе, и пока что мы от нее только бежим. Горизонт стратегического планирования сузился до карт Горловки, Донецка и Мариуполя.
В дни присоединения Крыма, за чем последовали месяцы проекта «Новороссия» и уже год санкций, оказалось, что в стране нет влиятельной силы, способной настоять на снижении потерь от слабых решений. Дефицит умеренности между тем – хорошо известный источник катастроф. Мы хотим вести войны без отступлений, не сравнив и не обсудив ценности атакуемых целей. Войны за что – за спасение бездействующих оборонительных союзов?
В союзы на Евровостоке Россией вложена масса сил, и те приобрели для нас культовую ценность. Но что собственно обеспечивало стратегическую защищенность РФ в первое двадцатилетие – СНГ с ОДКБ или тогдашний баланс сил в Евразии? а ведь сколько усилий Россия вложила в те бесцельные союзы, сколько денег швыряли в Киев, чтобы «сохранить Украину для СНГ»? Сегодня от всего этого мало осталось. Евразийское экономическое сообщество – это не проектировавшийся Евразийский союз. Истлевающий прах СНГ, несколько функционирующих подструктур Таможенного союза и ОДКБ – и все.
Давно известный в политической истории парадокс – неработающие союзы не могут защитить, но тем дороже то, что от них осталось: мотив подменяет цель. И уже не союзы хранят от военной угрозы, а их сохранение угрожает. Наши постсоветские союзники вслед за Украиной – очаги уязвимости России, ее стратегически слабые позиции. Контроль за союзниками становится для нас главной военной заботой.
Сдерживание. Русская модель
Присоединение Крыма возродило на Западе тему «сдерживания России». Дискуссия здесь идет по накатанным процедурам дебатов для выработки подходов и их оценки, перед тем как прийти к консенсусному решению. Между тем Россия уже продемонстрировала свой вклад в технологию сдерживания. Назову это «сдерживанием по-новороссийски». «Новороссийская» модель сдерживания предполагает серию ударов по общепринятому порядку в его неожиданно уязвимом месте, незащищенном оттого лишь, что его считали стратегически бесполезным. Удар нарушает стратегию тех, кто на Западе ее имел или полагал, что имеет. Ошеломляет не военный результат (он ничтожен), а растущая неясность уровня дальнейших угроз.
Политика России на востоке Украины от апреля к сентябрю 2014-го – серия странных действий в невыгодных местах, осуществляемых необычными субъектами. Стрелков, батальон «Призрак», Бородай и чеченский ОМОН опрокинули привычные ожидания, создав у Запада страх перед чем-то еще более невероятным. Истерики телеведущих и кровожадные записи в блогах с требованием «идти к Ла-Маншу» (якобы отражающие планы «кремлевской партии войны») – часть той же схемы, пиротехнический спектакль с использованием тяжелых вооружений. Она приносит скорее психологический эффект, чем военный. То, что выглядело как «акт агрессии», по сути лишь дезинформационная операция на выигрыш времени. Вслед за чем в Кремле, вероятно, собирались перейти к урегулированию.
Но такое сдерживание не стратегическое – это тактика слабых сторон. Согласно тому же Киссинджеру в его книге On China, нечто подобное практиковал председатель Мао в первые годы КНР. Но для успеха нужны стальные нервы, дозировка наглости, а главное – готовность подкрепить свой блеф, если вдруг придется, прямым военным столкновением. Ничего подобного у Кремля не было, и по уважительной причине – зачем? Столь дорого у нас не платят за игру в покер.
Стратегическая зависимость?
Команда Путина, если присмотреться, строит глобальный аналог схемы, ранее сооруженной во внутренней политике, где Путин – защитник цивилизующих элит от якобы националистичной и экстремистской «массы». На глобальном уровне Москва использует страх перед заново опасной Россией – «ревизионистской, ядерной и имперской». Авантюра с проектом «Новороссия» не нарушает этой схемы, а ее укрепляет. Но такая схема – Опасного Гаранта – несет угрозу самой попасть в стратегический плен. Внутри России президент, откупаясь от бюджетников «путинского большинства», давно попал от них во всестороннюю зависимость. Нечто похожее назревает и на глобальной сцене. Кажется, мы близки к стратегической зависимости от КНР, принимая на себя риски, связанные с их тактикой. Что если окажется, что Кремль работал не на себя? «Большой евразийский блок», рисующийся в кремлевском воображении, сочетал бы тактическую деевропеизацию России с ее стратегической десуверенизацией. Дороговато для временного и вынужденного союза. И кто обсуждал, насколько это в национальных интересах России?
Конец «беспримерной» России
Россия прыгнула в украинский кипяток с апломбом неуязвимой беспримерной державы. Это не личная странность ее руководства. За прошлые 25 лет РФ признавалась «страной-особым-случаем». На месте краха СССР на Западе ожидали величайшую из демократий XXI века, и в разное время все лидеры поддерживали эту игру. Евросоюз и США кому только не диктовали жестких норм и правил демократического транзита – кроме России, которую признали необычайной. Строить новую нацию в стране Чайковского, Толстого и Солженицына? Это звучит кощунством! Особый статус был испытан в дни конфликта из-за Ирака 2003 года. Натолкнувшись на сопротивление войне, президент Буш-младший принял формулу «наказать Францию, игнорировать Германию – и простить Россию», хотя одна Россия из той триады не относилась к американским союзникам.
Для России признание за ней особого статуса, закрепленного местом в G8 и смягчением западных стратегий, заменило soft power. Как вдруг, накинувшись на национал-революционный Киев во имя «войны с фашизмом», Россия стала выглядеть просто-напросто опасной страной. Капитал «удивительной и неповторимой» исчез, а с ним и шарм российской soft power. Мы оказались в группе стран риска, в которых нет ничего исключительного. Пора понять, что с переходом в более низкую лигу предстоит изменение статуса.
Россия – не авторитарный донор стабилизации, как прежде, а враг идеи порядка. Никто не хочет испытывать, готов ли Кремль впредь вести себя предсказуемее? Это слишком рискованно. Стабилизационная повестка в Европе отныне противостоит повестке отношений с Москвой. На смену исключительной России с великим прошлым пришла поднадзорная Россия, страна-рецидивист. Правда, это другое «неэксклюзивное» государство добивается нового европейского урегулирования взамен разрушенного. Возможно ли это? Да – но в наших ли интересах?
Риски большой сделки
Требование Москвы в 1990-е – 2000-е годы. стать членом западного порядка с правом голоса было вполне справедливым, однако выгодно ли оно теперь? Вот еще один повод опознать свои действительные национальные интересы.
Часто приводят пример Хельсинкских соглашений 1975 года, навечно признавших послевоенные границы за 15 лет до того, как они переменились. Странный эталон, он более настораживает, чем вдохновляет. Хельсинки лишь углубили стратегические несчастья СССР. Десятилетие предперестройки прошло для Москвы в моральной изоляции под судом Хельсинкских протоколов.
Большой договор Евросоюза и Евразийского экономического союза, если даже возникнет, предсказуемо станет геополитической биржей с фильтрами допуска. Каждую сделку России придется «покупать». Торг пойдет, конечно, вокруг границ и суверенитетов в Евразии, но любые уступки России (а речь отныне только о них, но не о сообществе доверия) обставят и обусловят военно-стратегическими контрфорсами. Формализация правил во всяком случае пройдет за счет сокращения маневренных зон, где у России до сих пор были развязаны руки для сдерживания. Такой договор подстегнет формализацию и еще более опасных для Российской Федерации новелл – при участии России по ходу переговоров может состояться долгосрочная антироссийская «коалиция по умолчанию».
Итак, мы входим в эру неизбежной ревизии национальных интересов России. Может, хоть теперь кто-то захочет узнать их состав? Что предпочтительнее с позиции наших интересов – корыстолюбиво лояльная Москве лицемерная Украина? Или столь же лицемерный новый европейский порядок – неудобный и жесткий, тот, который уже складывается вокруг украинского урегулирования? Но что тогда станет ценой будущего порядка – Донбасс? Украина? Или само нынешнее устройство Российской Федерации?
Ответы на эти вопросы как раз и относятся к сфере национальных интересов России, все еще остающихся неопознанными.
Опубликовано в журнале «Россия в глобальной политике».Май-июнь 2015, спецвыпускПримечания
1
См. «Неопознанные национальные интересы РФ» в Приложениях.
(обратно)2
Сергей Кириенко, генеральный директор Корпорации «Росатом», недавно заметил: «Удивительная вещь, но Фукусима позволила нам резко увеличить объемы продаж. Разговор идет о постфукусимских требованиях безопасности. Это важно, это добавило нам возможности, и мы в разы увеличили объемы своего портфеля заказов».
(обратно)3
См. «Путин как факсимиле евролицемерия» в Приложениях.
(обратно)4
Возможно, здесь тайна деструктивности «тандема», пережившая самый тандем. Закрепив Путина на роли пожизненного лидера бюджетников, «тандем» разбалансировал управленческий верх пирамиды. Гигантский материк «путинского большинства» с безальтернативным лидером во главе – при равнодушии избирателя к конституционным институтам и принимаемым управленческим решениям. Если бы сценарий второго срока президентства Медведева осуществился, он неизбежно выглядел бы как ультра-тандем, но не полноценное президентство Медведева. В роли «аятоллы бюджетников» Путин высился бы над любым президентом. В таком сценарии конфликт 2011 года был бы отсрочен, но произошел позже, и в форме прямого противостояния, где-то в 2014–2015 году.
(обратно)5
Помешает этому повышение цен на пищевые продукты на 30 %? Ничуть, только даст «обоснование» сдвига к чрезвычайному положению. Бюджетная армия Судного дня готова выйти в поход по маршрутам ада; этот козырь у Системы есть. Впрочем, она не обязательно им воспользуется, – и едва ли сумела бы с ним преуспеть, не сломав себе шеи.
(обратно)6
Что это значит? Что серьезные решения должны с ним согласовываться. Каждое решение имело публичную и не публичную часть, и все, что касалось серьезных вопросов, – крупная собственность, внешние контакты, большие проекты, главные кадровые назначения – стало исключительным доменом президента. Путин являлся депонентом этих решений. Они принимались у него в кабинете, либо по его поручению с кем-то согласовывались, а в случае конфликта надо было непременно подниматься к нему.
Большинство их были управленческими сделками. Недаром нашу систему специалисты называют «административным рынком». Решения президента, министра, губернатора имеют исчисляемый вес и ценность, как у ценных бумаг. Соответственно, их можно перепродать, можно переуступить. Когда Медведев, еще президент, принимал решение по созданию экономической зоны на Кавказе, вокруг этого возникла коалиция госбанков, местных административных структур и т. д. Оценив свой доход от решения, они договаривались с западными спекулянтами или инвесторами (в данном случае это одно и то же) о том, какие кредиты получат, – ведь сам президент гарантирует эти суммы. Но Медведев ушел, и возникла проблема. Путин мог делать вид, что не в курсе, и тем, кто однажды платил за контур решений, пришлось платить еще раз либо выйти из игры – с риском попасть под следствие.
(обратно)7
Сегодня об этом напоминает реликтовый ритуал заявлений Пескова «Президент в курсе…»
(обратно)8
См. «Раздвоение Европы» в Приложениях.
(обратно)9
См. «Маргиналии о геополитике» в Приложениях.
(обратно)10
См. «Власти, эмоции и протесты в России» в Приложениях.
(обратно)
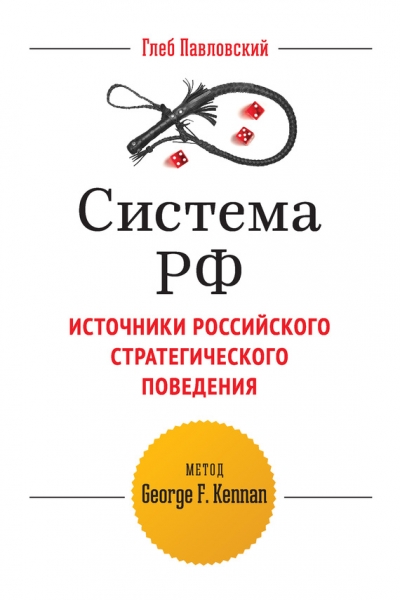




Комментарии к книге «Система РФ. Источники российского стратегического поведения: метод George F. Kennan», Глеб Олегович Павловский
Всего 0 комментариев