Старый дом
РАССКАЗЫ
БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ
1
Жизнь у Петровича чудная вышла.
Еще мальчишкой прилипла к нему уличная кличка «Иванушка-дурачок», которой наградила его бабка Анюта, охочая до всяких прозвищ и злая на язык старуха. С этого и начались с ним приключаться невероятные истории, рассказывать которые он был большой мастак. Выдумывал ли он их, или говорил правду, только слушатели всегда ему верили. А если и врал иногда, то выходило у него очень складно, как у настоящего охотника или рыбака, хотя, по собственному признанию, он не баловался ни тем, ни другим и даже гордился, что ни разу в жизни не брал в руки ни ружья, ни удочки.
Собрался он однажды за грибами, а на дорогу, как водится в таких случаях, выпил. Кто ж ездит в лес трезвым? Но не рассчитал немного сил и проспал свою остановку, электричка прокатала его туда и обратно несколько раз. Проснулся в Ступино поздно утром. Домой вернулся с больной головой и пустой корзиной. Раздосадованный такой оказией и в назидание потомству, взял и послал в управление железных дорог жалобу: почему, мол, в электричке нет проводников, которые бы, как в поезде, будили пассажиров. И добросовестно, на двух страничках из ученической тетради, описал свой случай. Что греха таить, ответа ждал с нетерпением, по нескольку раз на день заглядывая в почтовый ящик. Думал получить благодарность, а под расписку почтальон вручил ему квитанцию об уплате штрафа за безбилетный проезд от станции Барыбино до Ступино, да еще в тройном размере. Долго сокрушался Иван, что за дельный совет отплатили ему черной неблагодарностью, но нет худа без добра. Больше он уже никуда не писал и всегда, когда кто-нибудь с ним советовался по этой части, глубокомысленно изрекал:
— В учреждениях хлеб задарма не едят…
Здесь, конечно, он добросовестно заблуждался. Просто нарвался на остряка-самоучку, и все. Зато после этого случая у него в разговоре появилось излюбленное выражение: «Наградами не унижен»…
Лукавил, однако, Петрович. За участие в войне имел пять медалей и орден. Дорожил он этими реликвиями, и даже во время запоев, когда спускал с себя все, что можно спустить, медали да номерок, который вешают на пятки в вытрезвителе, каким-то чудом сохранял. Но что верно, то верно, совестью Петрович никогда не торговал, или, как еще лучше выразился один из его приятелей, хрен на «вы» не называл…
Но и смолчать умел, когда нужно. Себе на уме был мужик и понимал, что болтать зря бесполезно, да и небезопасно к тому же. Разве что прорывало его в пьяном виде, а по утверждению очевидцев, в горизонтальном положении он находился часто, если не сказать больше — это была его излюбленная поза. И не закладывай он за воротник так шибко, неизвестно еще, как бы сложилась его жизнь. Но когда спрашивали, почему пьет, вразумительного ответа не получали. Обычно он отделывался общей фразой:
— Вся Россия пьет… И потом, надо же как-то поддержать монополию…
Его же дружки в один голос утверждали, что зашибает он с горя, а когда их пытали, что за несчастье приключилось с их приятелем, лишь молча пожимали плечами да бессмысленно смотрели в пространство осоловелыми глазами. Но не зря же говорят в народе: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Наверное, неудачную женитьбу имели они в виду, но опять же — винить должен Петрович только себя да своих закадычных дружков-приятелей, любителей острых ощущений…
Полюбил он в молодости девушку, и она вроде бы отвечала ему взаимностью. Ходила с ним в кино, целовалась в подъезде, а через месяц он ей чин по чину сделал предложение, и они решили сыграть свадьбу, на удивление всему переулку. И удивили. Перед регистрацией невеста узнала, что ее жених работает «золотарем», и из загса убежала. С этим коварством он еще бы смирился, но глупая девка при всех оскорбила его.
— Не хочу, — говорит, — жить с человеком, от которого всю жизнь вонять будет…
Бросился Иван на обидчицу с кулаками и изрядно побил девку. Судили его за хулиганство. От адвоката он отказался, но защищался на суде умно. Цитировал классиков, особенно те места, где у них сказано, что всякий труд почетен. А в последнем слове не забыл ввернуть четверостишие из Маяковского. На вопрос судьи, который намекнул ему, что его шалость могла закончиться плачевно, отвечал одно и то же:
— Я знал, что не убью ее… А от побоев еще ни одна баба не умирала…
Искренность Ивана смягчила суровые судейские сердца, и ему дали только два года лишения свободы. Из зала суда он уходил под конвоем в хорошем настроении, и на то у него были все основания. Нарушенная справедливость восторжествовала!
На Севере, куда попал Иван, начальство лагеря долго смеялось, читая его приговор, а присмотревшись к новому заключенному, поняло, что никакой он не преступник, а свалял дурака, и на первом же году расконвоировали его. Но освободиться от насмешливого к нему отношения так и не смог. К тому же своим поведением он сам, как говорят, подливал масла в огонь.
Улегся спать на горячей печке, а проснулся утром с отмороженной ногой. Дивились люди, но объяснилось все просто. Оказывается, ночью, по пьянке, высунул он одну ногу в форточку, а мороз на дворе стоял немалый, взял и очернил ему всю ступню, да так искусно, что чуть не отхватили ногу.
В другой раз, опять же в непотребном виде, товарищи сыграли с ним злую шутку и сонным едва не спалили его, затопив печь, на которой он очень любил погреться. Так Иван долго понять не мог, что с ним происходит, проснувшись среди ночи, и катался на печи, словно на раскаленных углях. Но умышленно его никто не обижал, разве что по недоразумению.
Вернулся он из заключения, и сразу же, надо сказать, пошутили над ним приятели не лучшим образом. Ложился спать он холостяком, а проснулся семейным человеком. Оженили его по пьянке на здоровой бабе, о которой трезвым он иначе как с удивлением и не думал. Иван искренне верил, что нет на свете мужика, который бы справился с Полиной, а на поверку вышло, что таким мужиком оказался он сам. Тут же утром, с похмелья, и сыграли свадьбу, благо что под рукой нашлось два свидетеля. Зато и Полина в долгу не осталась, уважила всех, три дня и три ночи пили гости, а когда очухался Иван, было уже поздно. Полина деловито хозяйничала в его холостяцкой комнатушке, и он долго еще понять не мог, откуда она взялась, принюхиваясь к незнакомому запаху женского тела.
Но раз женился, жить надо. И хотя вроде бы спали больше врозь, она дома, а он в вытрезвителе, дети были. В первый же год появилась на свет божий дочь Вера, а после войны родила ему жена еще одну девочку. Во дворе всякое болтали про Полину, и что вовсе не от Ивана дети, а от соседа, но больше мололи языком вздор. Блюла себя Полина, да и побаивались к ней подступиться мужики. На Петровича разговоры действовали, и по пьяной лавочке он не раз гонялся за женой с бранью. Особенно же от него доставалось старшей дочери, которая незаметно для отца вымахала с мать, унаследовав от нее рост и статность, и выглядела старше своих лет. Видели ее у казарм с солдатами, и сразу же прилипло прозвище: Верка-гулящая. И хотя в подоле она домой никого не принесла, но неприятно было слышать отцу столь нелестный отзыв о своей дочери. Трезвым он и мухи не обижал, а вот пьяный давал волю гневу. В мороз тридцатиградусный прыгала Верка со второго этажа и бежала в одной рубашке ночью к своей подруге, что жила через квартал, спасаясь от тяжелой отцовской руки.
И все-таки дочь утерла нос и отцу, и всем во дворе, кто плохо о ней думал. Такого себе отхватила мужа, что в доме от зависти чуть не лопнули. И только отец напился с горя, сочтя, что и здесь ему крупно не повезло. У всех зятья как зятья, с ними и выпить можно, и поговорить о жизни, а из его зятя слова и клещами не вытянешь. К тестю и теще обращался на «вы», придет из учреждения, скользнет за перегородку, которой отделили молодых, и уже не выглянет оттуда до утра, все приемник слушает, ловит заграницу, а для Петровича пропади она пропадом, насмотрелся на нее во время войны, век бы о ней не знал.
Но отношение к дочери изменил, хотя и не верил, что у нее может выйти что-то путное с этим тихим, пришибленным парнем в очках, и все ждал, когда он съедет с их квартиры. Но зять не только не ушел, а обзавелся новой тахтой, что лучше всех слов говорило о его намерениях. Больше того, взялся он и за тестя, свел его со знакомым врачом-психиатром, который лечил от алкоголизма гипнозом. Петрович несерьезно подошел к делу и ухмылялся про себя, когда врач внушал ему не пить. На приеме он слушал одно, а выходил на улицу и принимался за старое. Так бы и пропал человек от запоя, не случись маленькое чудо. Иван Петрович удивил всех еще раз. Взял и завязал сам. После этого и пойми что-нибудь в жизни. И случай-то вышел пустяковый, а помог лучше всяких лекарств. В доме и до сих пор не верят Ивану и считают, что он от них что-то скрыл. Но сколько люди ни допытывались у него, он всем, в том числе и своим дружкам, рассказывал одно и то же.
Произошло же с ним вот что. Справлял он со своими приятелями какой-то праздник — кажется, чуть ли не пятидесятую годовщину Великого Октября. А известно, как справляют праздники алкоголики: собрались у магазина, сбросились по рублику и тут же выпили, а потом еще по рублю, и понеслась душа в рай, и так гудят по два, по три дня. Одним словом, перебрал Петрович и домой не попал, что, впрочем, с ним бывало не впервой. Заночевал в сквере, в кустах. Проснулся на рассвете от сырости и холода и обомлел от удивления: рядом с ним, прижавшись, сидел голубь, самый настоящий белый почтовый голубь. С больной головы едва не пнул его, но затем пожалел птицу и посадил ее за пазуху.
Пока добирался до дома, протрезвел немного, но от выпитой накануне политуры болела голова и во рту стоял неприятный запах: поднеси спичку — взорвется. Голубь шевелился под пиджаком, и Петрович невольно подумал: откуда мог ночью почтовый голубь появиться на сквере и почему прибился к нему? Остановился на самом простом объяснении: наверное, ударил птицу сокол, а взять почтового соколу что-то помешало, голубь и прижался от страха к человеку.
Дома, опаздывая на работу, сунул птицу в ящик, что стоял под кроватью, наказав жене не трогать голубя до его прихода. Однако в цехе с ним творилось что-то неладное. Если раньше все его помыслы сводились к одному — как бы побыстрее дождаться перерыва и сообразить на троих для облегчения головы, то теперь к этим мыслям примешивалось непонятное волнение. Он вдруг почему-то вспомнил, что забыл голубю поставить воды, и в обед, сразу же после звонка, расстроив компанию, которая его звала опохмелиться, побежал домой. Беспокоился он напрасно. Жена догадалась покормить голубя и налила ему свежей воды. Вот с этого-то дня Петровича словно подменили. Пить бросил совсем и ходил за голубем, как за малым дитем, а когда выходил птицу, то перевел ее в сарай и купил голубку. Во дворе, не скрывая, смеялись затее Ивана, но он все свободное время посвящал голубям. Мастерил гнезда, вычищал будку, ездил за кормом на Птичий рынок, а вскоре вступил и в общество голубеводов. Полина боялась и верить такой перемене и всячески поддерживала увлечение мужа. Дружки подтрунивали над ним, но он на их шуточки отвечал лишь ухмылкой, и, сколько ему ни предлагали выпить, наотрез отказывался, ссылаясь на слабое здоровье.
По-разному в доме объяснили перемену с Петровичем. Партийный дед Федот подводил под это дело свою философию:
— У человека появилось занятие… Раньше пил, теперь не пьет…
Бабка же Анюта, извечная соперница деда, напротив, видела в этой перемене знамение божье и говаривала всем на лавочке:
— Господь послал в лике голубя ангела за Иваном… Не жилец он на этом свете… Вот увидите, скоро помрет…
На бабку шикали:
— Типун тебе на язык, старая!
Однако Анюта твердо стояла на своем.
2
Шло время, но Иван Петрович и не думал умирать, а вскоре схоронили бабушку Анюту, и о ее пророчестве стали постепенно забывать. И сам он так привык к новой, жизни, что порой удивлялся, как мог существовать по-другому. Да и внешне изменился Петрович, выпрямился, и когда теперь он проходил по двору рука об руку с женой и младшей дочерью, то все вдруг заметили, что мужчина он хоть куда, и ростом вышел, и с лица приятный. А после того как он привез сначала новую тахту, а затем гардероб, люди в доме и совсем успокоились и перестали даже про него сплетничать. Слишком уж он стал походить на других и зажил, как все, от получки до получки…
Однако к птице Петрович привязался не на шутку и только о голубях и думал. За лето развел целую охоту, и забот у него заметно прибавилось. Голуби отнимали все свободное время, и другими делами, если бы даже он и хотел, заниматься было некогда. Вставал он затемно и на цыпочках, чтобы не хлопнуть дверью и не разбудить соседей, облачался в специальную робу: черную куртку, брюки-клеш, каким-то чудом уцелевшие после войны, кирзовые сапоги и спешил на свой пост. Рано утром его уже видели на крыше с махалкой в руках, а высоко в небе сильные и свободные птицы разрезали крыльями упругий воздух и уходили в побежку. Он же, засыпав корм и налив в поюшку чистой воды, часто не успев позавтракать, бежал на завод. С работы, ни на минуту нигде не задерживаясь, кроме случаев, когда на производстве проходило перевыборное профсоюзное собрание, сломя голову мчался домой, к своим питомцам. И голуби так привыкли к Петровичу, что к пяти часам все выходили из будки в нагул и ждали появление хозяина. А заметив его, бились о сетку и не успокаивались, пока он не забирался к ним в нагул. Птицы облепляли его, как снежный ком, а он, беззлобно отбиваясь от них, менял воду, засыпал свежий корм. И лишь затем вспоминал о себе. Но усидеть дома после ужина не мог и, если выдавалась свободная минутка, торопился в подвальчик, в котором размещалось правление клуба любителей-голубеводов, где он встречался с такими же, как он сам, фанатиками, и до хрипоты спорили, чья птица лучше. Петрович больше помалкивал, до поры до времени в разговоры не встревал, мотая себе на ус все услышанное. А на соревновании переплюнул признанных фаворитов. Выведенная им пара голубей, которую он получил, первым выбив чешских почтовых с русскими, пятьсот километров прошла быстрее всех. Голубя-рекордиста вместе с хозяином сфотографировали в журнал, и птицу поместили на выставку.
После этой победы признали Петровича и на Птичьем рынке, где его можно было видеть каждое воскресенье. Приезжал он за кормом, но любил и просто так потолкаться среди голубятников. Слава не застила ему глаза, и он мало в чем изменился. С большой охотой рассказывал, как нужно ухаживать за птицей, а если кто ему давал дельный совет, то тоже не требовал, а с благодарностью принимал. Так и текла его жизнь, размеренно и ровно, на глазах всего дома. И он видел, как живут люди. Любили собираться мужики со всей улицы возле голубятни Петровича. Здесь всегда можно было найти чистый стакан, хотя сам хозяин давно не пил, но посуду держал по старой привычке в исправности, и узнать последние новости. К нему шли все обиженные жизнью, и для каждого он находил нужное слово, всякого мог утешить. Вот почему люди не стеснялись его и выкладывали все как на духу, потому что знали: Петрович не растреплет по ветру словно сорока, а сохранит тайну вернее могилы.
Но кто бы мог подумать, что Василий из третьей квартиры наложит на себя руки? А он взял и отчубучил, повесился. Тихий вроде был человек, пройдет по двору — никто не заметит, кивнет головой, и все. Так он чуть Марью-Бибику из двенадцатой квартиры с собой на тот свет не утянул. Полезла она на чердак посмотреть свое белье, а он и висит, сердешный, рассказывала после Марья, так она со страху даже закричать не смогла и сама не помнит, как сползла с лестницы. Сняли Василия мужики, а он уже готов, отошел, бедняга. И пить не пил, в рот не брал, все в дом нес, как крот, а вот, поди же, не по нраву пришелся бабе. Гуляла Нинка от него. Упреждал ее Петрович, что добром это не кончится, дважды он до этого случая уже вынимал из петли Василия, а тут не усмотрел. Да только разве бабе вобьешь в голову что-нибудь путное? «Пугает он», — отшучивалась Нинка и продолжала гулять, а попугивание-то вон как обернулось. Выходит, не от хорошей жизни ушел Василий из жизни.
Не чище отмочил и дед Федот: взял на старости лет и рассмешил всех, развелся со своей Варварой. Без малого пятьдесят лет прожили вместе, а он связался с молодухой из соседнего дома и ушел к ней. Не помогла даже угроза Варвары пожаловаться в партийную ячейку. Дед Федот лишь рассмеялся ей в лицо:
— Должностей я никаких не занимаю, так что мне не резон бояться твоих угроз, а пожить в свое удовольствие еще хочется… Вон какой я молодец… — и выпячивал при этом свою хилую грудь, пробитую в трех местах пулями, да выставлял вперед потрепанную бороденку.
Не пережила Варвара такого предательства и померла в одночасье, а молодуха обобрала старика и прогнала его с позором от себя. Так теперь весь переулок показывает на деда пальцем, вот он и выглядывает на улицу по утрам и отводит душу в беседах с Петровичем, жалуясь на свою разнесчастную судьбу.
А если признаться честно, то у кого она счастливая? Во всяком случае, среди порядочных людей он что-то не больно много встречал счастливых. У каждого какая-нибудь своя, да боль. Уж как завидовали все в доме мужу и жене со второго этажа! Оба молодые, здоровые, казалось, жили душа в душу, шесть лет за границей были вместе, добра всякого понатаскали, по двору ходили, людей не замечали и только собрались переезжать в трехкомнатную кооперативную квартиру, он взял да и бросил ее с тремя детьми и больше во двор глаз не кажет. Кому она теперь нужна со своими тряпками? Правда, нет худа без добра, молодая стала теперь здороваться с соседями.
У супругов из восьмой квартиры — своя боль. Бог детьми не наградил, так они ходят, маются, бедные, у каких только врачей не лечились, денег уйму потратили — и все впустую. А без детей какой может быть дом? И пошли скандалы, он ее обвиняет, она его.
Но верно говорят в народе: нет детей — беда, есть — еще хуже, горя с ними не оберешься, пока вырастишь. Зачем далеко за примером ходить: соседи Петровича растили, растили малого, всю душу в него вкладывали, а он отплатил родителям — взял в день своего совершеннолетия и магазин ограбил вместе с другими мальчишками, их и арестовали. Мать все глаза проплакала, а теперь только и отрада, что передачи ему сумками таскать в тюрьму.
Однако жизнь есть жизнь, и люди как-то живут, тянутся к солнцу. Взять хотя бы Петровича. Без малого четверть века не видел света белого человек, пил, а считается, что жил. И сколько таких, как он! Каждое утро Иван Петрович встречается с ними. Чего только стоит алкоголик Кулик. Колоритная фигура! А интеллигент Шурик? Да что там говорить, только расстраиваться. Они почему-то выбрали местом своего сбора голубятню. И не успевал он еще открыть будку, а товарищи по несчастью тут как тут, откуда-то приползали по одному, озябшие и беспомощные, как дети.
Первым всегда появлялся Шурик — так во дворе прозвали Александра Ивановича из дома пять. Но многие забыли, что когда-то его действительно иначе как по имени и отчеству не величали, но теперь и стар и млад звали просто Шуриком. А ведь он был уважаемый всеми человек! Два института кончил, свободно мог изъясняться на иностранном языке, пост занимал в министерстве, а в последнее время солидная организация и грузчиком не возьмет. Не одно место работы сменил Шурик, и все из-за нее, проклятой, из-за водки. Пить начал по уважительной причине, от большого ума, и поэтому, когда его корили за пьянство, глубокомысленно отвечал:
— Разве я жил раньше? Гордыня обуяла меня… делал карьеру, боялся, потерять тепленькое местечко, обманывал себя и других и делал вид, что ничего не видел, что творится вокруг, потому как был трезвым… А сейчас я пьяница, а чувствую себя человеком… — и Шурик бил себя в грудь трясущимися руками.
Глаза его, как матовое стекло, при этом ничего не выражали, а землистый цвет лица лучше всяких слов говорил об одном: Шурику очень плохо. Петровичу становилось до слез обидно за него: вот, мол, не за понюшку табака гибнет человек, и никого это не касается, как будто так и надо. Но от лечения Шурик наотрез отказывался и всегда загадочно улыбался, когда ему предлагали лечь в больницу, не забывая добавить:
— Не меня нужно лечить… мой недуг что, захочу и брошу… Лечить следует… — и никогда не доканчивал фразы, оставляя в недоумении слушателей.
Из всех лекарств признавал одно: «живую» воду, которая буквально преображала его лицо. Оно сразу принимало осмысленное выражение, глаза становились умными, руки не тряслись, и, глядя на него, трудно было сказать, что всего несколько минут назад он умирал.
Вслед за Шуриком приходил к голубятне Кулик, тоже личность приметная в своем роде. В переулке он прославился тем, что на спор, за бутылку выпрыгнул с четвертого этажа и не разбился, а отделался легким испугом. И тут же, из горла, при свидетелях, опорожнил содержимое посудины. Пил Кулик, как и раньше Иван, не от избытка ума, а с дури. Получал приличные деньги, появилась лишняя копейка, распорядиться которой правильно не смог, вот и запил. Лишился за короткий срок прав и шоферских и человеческих и теперь на пару с Шуриком работал грузчиком в продовольственном магазине.
Почти одновременно с Куликом выползал из подъезда Серега-музыкант, молодой парень, только что вернувшийся из армии. Ему-то, казалось бы, что делать с ними? Но лихо пил, стервец, наравне с мужиками, и люди не раз слышали, как жаловался Кулик:
— С тобой больше не буду складываться… Ты всегда меня обманываешь, себе больше наливаешь…
Серега презрительно окидывал взглядом тщедушную фигуру компаньона и, похлопав его по плечу, с достоинством возражал на необоснованное, с его точки зрения, обвинение:
— Куда тебе со мной тягаться, дядь Леш… Ты же от одного запаха пьянеешь, а я потомственный пролетарий, на заводе работаю…
И Кулик, под тяжестью столь убийственных доводов, замолкал, протягивая Сереге рубль, и терпеливо ждал, когда тот сбегает за бутылкой. Выпив, Серега добрел, и его тянуло на разговор, как некоторых мужчин после водки тянет к женщине. Он подсовывал Кулику корочку с солью и примирительно говорил:
— Ты, дядь Леш, на меня не обижайся… Ты — человек! Я почему с тобой пью? — значительно умолкал и доканчивал: — Потому что уважаю… С ровесниками-то и пить не резон, одни только бабы на языке да деньги… — И, доведя себя до нужной кондиции, расходились по работам с одной тайной мыслью: чтобы вечером встретиться вновь.
И не успевал Петрович проводить одних, как уже вторая тройка слеталась, а там уже и третья делала заход. И не было у них ни выходных, ни проходных дней. Самое же интересное происходило в воскресенье, когда они собирались все вместе. Чего тогда только не услышишь здесь! Это своего рода дворовая лавочка, на которой сидят старушки и рассказывают всякие выдуманные и невыдуманные истории. Но странное дело, именно среди этих людей Петрович чувствовал себя легко. В семье, честно говоря, он не нашел счастья. Полина, оправившись от первого испуга и поверив, что муж бросил пить окончательно и к старому возвращаться не собирается, повела себя странно. На мужа не обращала никакого внимания, словно он был пустым местом в доме, и больше того, закатывала по всякому поводу и без повода скандалы, а то и того хуже — по надобности и без надобности изводила его голубями. У Петровича сложилось такое мнение, что мстит ему жена за загубленные годы, когда она с ним не видела света белого. Поэтому и отводил он душу на улице. И хотя близко ни с кем из старых друзей не сошелся по причине, которую Кулик выразил с присущей ему прямотой:
— Что с него возьмешь? Даже выпить вместе нельзя…
Но никто и не сторонился его, по старой привычке принимая за своего. А под настроение подтрунивали над ним и приставали хуже, чем с ножом к горлу, чтобы он рассказывал им, как лечился от алкоголизма. И хотя не раз уже слышали из уст Петровича его историю, но все равно хватались за животы и хохотали до упаду, когда он по просьбе слушателей повторял рассказ. Да и как остаться серьезным от такого воспоминания, если даже Шурик и тот от смеха начинал трястись, хотя смешного в его истории было мало.
Шурик недоверчиво и вместе с тем с завистью смотрел на него и тихо произносил:
— Сейчас, говорят, какое-то новое средство изобрели. Врезание. Водку не дают пить, а хирург врезает в тело специальное лекарство, и пока оно не рассосется в организме, пить нельзя. А выпьешь, кровь сразу свернется… Страшные муки человек принимает. Уж лучше помереть своей смертью где-нибудь под забором…
И такой тоской веяло от голоса Шурика, от всего его лица, что Петровичу невольно хотелось пожалеть его и даже обнять, как ребенка. Казалось, нет несчастней людей, чем Шурик, Кулик, Серега, и хотя тут же они начинали хорохориться, а Шурик часто повторял:
— Покажите мне счастливого человека! Нет его, то-то и оно, и не скоро еще на Руси встретишь такого счастливчика… — победоносно обведя слушателей взглядом, неожиданно для всех добавлял: — Я самый счастливый человек! И он, и он, и он, — и тыкал при этом пальцем в Кулика, Серегу, Тихона, а Петровича обходил почему-то, не забывая, однако, добавить: — Был человек и вышел весь. Занялся какими-то голубями…
Иван Петрович не обижался на них, потому как знал, что никто из них не питает к нему зла, а сам он настолько привык к этим людям, что пропади они вдруг, он бы не вынес, затосковал, а может быть, и запил. Голуби да друзья по несчастью скрашивали в общем-то не очень радостную его жизнь. Не хотел он на люди выносить сор из дома, но от глаз соседей не скроешься. Заметили во дворе, что не все ладно у Петровича в семье. Слишком много времени проводит он на улице и с большой неохотой поднимается к себе на второй этаж, да и то только затем, чтобы поесть и переночевать. Но он не роптал на жизнь, а принимал ее такою, какою она есть.
3
Однако беда пришла, откуда Петрович меньше всего ее ждал. Отметили его на производстве за ударную работу и постановили дать новую квартиру. Ждали только, когда отстроится дом. К Майским праздникам обещали и ордер выдать. Другого бы такое известие обрадовало, а его эта новость расстроила. Известное дело, в новом доме никто не разрешит гонять голубей, да и сараев там нет, а будку среди мостовой не поставишь. На старом месте оставлять голубей тоже нельзя, соседи взбунтуются. Да и кому приятно под окнами слушать ругань пьяных? А возле голубей всегда крутятся хороводом мужики, не говоря уж о Сереге, Шурике, Кулике.
Выходит, не было бы несчастья, да счастье помогло. И какой дурак дернул его за язык сболтнуть жене о новой квартире? Теперь уже не откажешься от своих слов, Полина по всему дому разнесла, и во дворе только и разговоров, что об их новоселье. Не получили еще ничего, а соседи уже толкуют, в какую комнату поставит Полина сервант, а в какую телевизор, а того понять не могут, что делят шкуру неубитого зверя. Он возьмет да откажется от ордера. Жена съест живьем и косточек не оставит, и от этой мысли ему становилось не по себе. А Полину словно подменили, такая ласковая стала, во всем угождает, совсем глупая баба, закружила ему голову. Даже ночью не было от нее спасения. Повадилась перебираться к нему на тахту с одной лишь целью, чтобы поговорить с ним о новой квартире. И так горячо льнула к нему, что совсем сбила его с толку. Только теперь, к стыду своему, узнал он, что жена аж на добрые десять лет старше его. Но удивило его не это, а другое: Полина не рассердилась на него и проявила понимание и больше по ночам не беспокоила его. Зато в дневное время от нее не стало житья. Не успевал он переступить порог, как она встречала его одним и тем же вопросом:
— Ну как? Ордер не дали?..
Спасался Петрович от нее только на улице. Выгонял голубей из будки и подолгу любовался, как птицы хлопотливо устраивают гнезда, голуби заботливо таскают голубкам соломку, пух, а те, как наседки, все принесенное укладывали под себя и терпеливо ждали, когда из яиц выведутся птенцы. Если же какой-нибудь голубке надоедало сидеть и она вылетала из гнезда, голубь гонял ее по всей крыше, клювом щипал за шею и не успокаивался, пока строптивица не возвращалась на место. Петрович мог часами стоять и смотреть на голубиную карусель. Любил он весною наблюдать за птицей и в полете. Ему не нужно было даже и свистеть: голуби сами бесшумно поднимались в воздух и незаметно для глаз сливались с белесым маревом.
И все это, к чему он так привык и что ему дороже жизни, вдруг рушилось из-за какой-то случайности. Да пропади она пропадом, новая квартира! Но и тянуть больше было нельзя, дважды его уже вызывали в завком и грозили, что если он не явится в исполком и не заберет смотровой ордер, квартиру отдадут другому человеку, желающих хоть отбавляй. И как ни крутил Петрович, а пришлось вместе с женой идти получать ордер. Жена прямо обомлела, когда увидела в его руках маленькую бумажку. И было чему радоваться! Новая двухкомнатная квартира на четвертом этаже веселила глаз. Ванная, горячая и холодная вода, отдельная кухня — предел мечтаний человека, который всю жизнь прожил в коммунальной квартире и только то и делал, что ругался с соседями. Вот почему Полина Петровна, когда переступила порог новой квартиры, не таясь дочери и мужа, плакала счастливыми слезами. Дочь Татьяна, которая забыла уже, когда последний раз называла Петровича отцом, увидев отдельную комнату, выделенную ей, также неожиданно для себя произнесла:
— Спасибо, папа…
Новая квартира и ему пришлась по душе, но среди одинаковых коробок-домов для голубятни не было места. И такая тоска навалилась на него, что впору хоть вешайся. И он бы повесился, но теплилась в нем еще надежда пристроить где-нибудь голубей. На старом дворе обещали месяц подождать и не ломать голубятню. Но что придумаешь за четыре недели? Сдать голубей, как предлагают в клубе, на выставку? Мало радости. Правильно, птица будет сыта, ухожена, но неволя есть неволя. Его голуби привыкли летать, когда им захочется. А может быть, все-таки согласиться и отдать птицу в надежные руки? Давно зарится на его голубей один солидный дядечка из Измайлова. И условия у него хорошие, но выпустит он голубей, и они снова прилетят на старое место, а будки нет, покружат, покружат над знакомой местностью и вернутся в Измайлово. Глядишь, так и приживутся, только ведь Петровичу от этого не легче.
Заметили люди на старом дворе, что новая квартира пошла ему не впрок. Сохнет человек, да и только. Им бы помочь Петровичу, войти в его положение и сказать-то всего несколько добрых слов:
— Иван Петрович, брось ты дурака валять и зря ломать голову… Никто и не собирается трогать твою будку, пусть стоит, как стояла, благо никому твои голуби не мешают. Приезжай после работы и любуйся на птичек, сколько твоей душеньке угодно…
И он бы подпрыгнул от радости до неба, поставил в голубятне раскладушку, и не нужно ему никакой отдельной квартиры. Ан нет, завистливы люди. Получил новую квартиру — и нечего глаза мозолить, напоминать всем о своем счастье. Вступились лишь за Петровича Шурик с Куликом. Но кто ж послушает пьяниц? Постановили сломать будку, и сколько он ни ходил в домоуправление, решение не отменили. И тогда Кулик посоветовал ему напиться вместе с ним. Но и вино не принесло облегчения. Не было в теле былого томления, и не кружилась голова от дурманящего запаха, но жену перепугал до смерти, когда заявился домой пьяный. Однако драться не стал, а боком прошел в свой угол и завалился спать. Утром на работу не пошел, а попросил, чтобы жена собрала ему в баню белье. К ванне за месяц так и не привык, и потом, разве можно корыто сравнить с настоящей парной? Любил он попарить кости, а придя после бани домой, побаловаться чайком. Пожалуй, это была его единственная радость, помимо голубей. И Полина, чтобы угодить мужу, впервые за все время совместной жизни вскипятила чайник к его возвращению из бани. Но, видно, слишком долго он ждал человеческого к себе отношения, что даже не заметил благородного поступка жены. И чай, как обычно, не доставлял ему той радости, а лишь обжигал губы. Утолив жажду, надел чистую рубаху и велел подать новый костюм. На вопрос жены, куда это он наряжается, словно в гроб собрался ложиться, — ответил коротко:
— Еду продавать голубей… — Как-то странно посмотрел на жену и даже что-то хотел добавить, но так и не решился, а лишь молча кивнул головой и вышел.
Для себя Петрович твердо решил пристроить голубей в надежные руки, в Измайлово, к тому солидному дядечке. Человек он хороший, птицу любит, и его питомцам на новом месте заживется если и не вольготно, то уж по крайней мере сносно. Да и он всегда сможет раз в неделю, а то и чаще навещать своих голубчиков, посмотрит на них, глядишь — и отведет тоску от души. А со временем он придумает что-нибудь и поскладнее.
На старом дворе возле будки вертелся Кулик. Петрович дал ему на похмелку и велел к дому подогнать такси. Сам же залез в голубятню и, покормив птиц, рассадил голубей по ящикам. Делал он это быстро, словно боялся, что передумает. И когда на улице просигналила машина и Кулик заглянул в будку, все уже было готово. Добровольный помощник увязался с ним, надеясь еще получить на выпивку. И Кулик не ошибся. В Измайлове их уже ждали. Покупатель, еще не веря своему счастью, пересчитал голубей и передал продавцу целую пачку денег, но он, даже не проверив, сунул их в карман. Тут же, как и водится в таких случаях, вспрыснули сделку. Петрович пил не закусывая и все о чем-то думал. У метро распрощался с Куликом, и когда тот скрылся из виду, Петрович тоже медленно двинулся вперед. Шел он без цели, просто так, куда несли ноги. В голове была полная неразбериха. Домой возвращаться не хотелось. Он представил старый двор без голубятни и чуть не завыл от обиды и боли. С продажей голубей жизнь как бы остановилась для него, стала какой-то пресной, неинтересной. И так получилось, что ноги сами принесли его в пивнушку. С трудом протиснулся на свободное место за столиком у окна. Ему хотелось только одного: забыться и ни о чем не думать. Он знал, что привести себя в бессознательное состояние можно только с помощью вина. Но что-то его удерживало от выпивки.
Слух о необычном посетителе с деньгами, подносившем всем желающим выпить, и который сам не взял в рот ни капли, быстро разлетелся по забегаловке, и к их столику потянулись все желающие выпить на дармовщинку. И Петрович никому не отказывал, совал им десятки, и бутылки водки одна за другой вперемежку с кружками пива опустошались за их столиком. Опьяневшие по одному отваливали в сторону, уступая место новым посетителям. Некоторые умудрялись подходить к их столику по второму заходу, и он, как подгулявший купчик, угощал всех напропалую. Эти люди напоминали ему Кулика, Шурика, Серегу и клялись постоять за Петровича насмерть, если он откроет им свою горестную тайну, которая снедает его как червь, что он даже отказывается от водки.
Петрович стоял с отрешенным видом, облокотившись о стол, смотрел на пьющих и шумящих людей, и в голове у него почему-то застряла одна и та же мысль: что и эта необычная выпивка, и вся история с голубями, благодаря которой он превратился из забулдыги в нормального человека, — все это кем-то подстроено, и этот кто-то желает поступить с ним так же, как в сказке о рыбаке и рыбке поступили со злой старухой, вернуть его снова к пьянству и грязи. Но ведь он же не жадная старуха и не требовал от жизни чего-то необычного, а хотел лишь одного — остаться человеком. И вот это-то у него отнимают. Петрович не знал, кто так жестоко с ним обращается: какая-то сверхъестественная сила или просто злые люди?
Усилием воли он сбросил с себя оцепенение и, отбиваясь от цеплявшихся за него соседей по столику, пробрался к выходу. Прохожие на улице даже не обратили внимания, как из питейного заведения вышел человек и застыл на месте, словно аист, никак не решаясь сделать первый шаг, опасаясь, что земля уплывет у него из-под ног. Но вот Петрович сделал один шаг, другой и затем, все убыстряя ход, зашагал к Измайловскому парку.
Больше Петровича никто уже не видел. Домой он также не вернулся, а нашли его только через месяц в самом темном уголке Измайловского парка. Лежал он ничком, скрючившись. Сам ли Петрович забрел в парк с горя, или его кто затащил туда, только права оказалась бабка Анюта. Ненадолго пережил ее Иван Петрович. Врачи установили, что смерть наступила от разрыва сердца. Но какое это имеет значение? Видно, правда, от судьбы никуда не денешься. Ушел Петрович из жизни, так и не пережив разлуки с голубями, в тот непонятный мир, куда рано или поздно уйдут все.
1967
ЖИЛ ЧЕЛОВЕК…
И это называется — жил человек! И хотя семьдесят лет по современным меркам — не возраст, живут еще люди в эти годы, и как живут, любо-дорого посмотреть, позавидовать даже можно, Тимофей Федорович совсем не чаял дожить до таких лет, считая семьдесят — глубокой старостью, и все собирался каждый год помирать, да так и не умер, дотянул все же до заветного рубежа. Дожил и растерялся: как это у него вышло, слишком уж нерадостная выпала на его долю жизнь.
Умереть он мог еще в раннем детстве с голода, когда они остались одни, без отца, восемь человек мал мала меньше, старшему из братьев едва исполнилось тринадцать, а младшая сестренка еще качалась в люльке-корзинке под потолком, и мать выбивалась из сил, чтобы прокормить такую ораву. Отец поехал в город с другими мужиками из деревни в извоз и не вернулся. Ушел он на своих ногах, а привезли его на телеге под рогожкой, придавило отца в городе при разгрузке бревен, и он, не приходя в сознание, скончался. Схоронила его мать и отправилась в город хлопотать пособие за отца на малолетних детей, но хозяин так повернул дело, что виноватым во всем оказался отец, по пьяной лавочке, оказывается, полез он под баржу, вот его и придавило. И сколько мать ни доказывала свою правоту, доказать так ничего не сумела. Она уж и на коленях ползала перед чиновниками, и причитала, и все одно получила отказ, и ей ничего не оставалось, как вернуться в деревню и приняться за работу. Но много ли может наработать одна женщина, да еще с кучей малолетних детей на руках? Вот им и пришлось перебиваться с хлеба на воду, а вскоре не стало в доме и хлеба, и они сначала похоронили маленькую сестренку, а за ней умерли с голоду и два брата, один за другим, и еще неизвестно, как бы повезло ему, выжил бы он или не выжил, останься жить в деревне, но его взял с собой в город сосед и пристроил в чайную «мальчиком» на побегушках.
Работы для двенадцатилетнего ребенка было много: нужно и дров наколоть, и воды наносить, мыть посуду, растоплять самовары и следить за ними, чтобы они не выкипали, вовремя подливать в них воду, расставлять скамейки, подметать полы да еще бегать клиентам в соседнюю лавку за вином, но Тимофей оказался прилежным и смышленым мальчишкой и очень скоро смекнул, что если все делать аккуратно, то, помимо кормежки и положенного за работу жалованья, можно получать еще и чаевые. И он не только содержал себя в городе, но и матери помогал, отсылая ей в деревню деньги. Его прилежание заметили, и уже через три года хозяин перевел Тимоху в зал, освободив от черновой работы, и он ходил по залу в чистой рубахе и следил за клиентами, чтобы по малейшему их требованию тут же предстать перед ними и исполнить любое желание. Чаевых у него теперь набегала кругленькая сумма, и когда он приезжал раз в году к матери в деревню, та не могла на него нарадоваться и все молилась богу, чтобы ее сын поскорее вышел в люди.
И бог, наверное, услышал бы ее молитвы, вывел Тимофея в люди, со временем своим прилежанием он бы дослужился до приказчика, а может быть, и открыл собственное дело, но чем-то прогрешили люди перед господом, и он послал на них войну с германцем, которая перевернула привычный уклад жизни. Тимофею помешала даже не сама война, в войну его хозяин жил припеваючи и даже подумывал расширить торговлю, перепутала ему все карты революция, последовавшая вскоре за войной. Чайную разгромили, людям в это смутное время было не до калачей с кренделями, хозяин не стал испытывать судьбу и дожидаться, пока его пустят в распыл, и быстро смотался в неизвестном направлении. Тимофей же подался в деревню, откуда его и забрали в Красную Армию.
Провоевал он всю гражданскую, но красноармейским духом так и не пропитался: как ушел вахлак вахлаком с частнособственническими замашками, таким и вернулся домой. Зато тифом заразился и отвалялся целых два месяца в тифозном бараке, но даже и в бреду часто вспоминал чайную, хозяина и особенно дармовые чаевые, которые он очень любил пересчитывать, прежде чем отослать деньги матери в деревню. Много народа полегло в землю в эти лихие годы: кто от пули, кто от болезни, а кто и от голода. Тимофею и здесь повезло, не умер — знать, на роду у него было написано выжить, вот он и остался живым. Но в деревне пробыл недолго, отоспался, поправил немного пошатнувшееся здоровье и засобирался в город. В деревне он уже не мог больше оставаться, как ни уговаривали его местные горлопаны, сколько ни призывали вспомнить недавнее славное красноармейское прошлое, тяготила его сельская жизнь, в городе он чувствовал себя как-то сподручнее и потому снова подался в Москву.
Попервости попытался было устроиться по торговой части, но в советских питейных заведениях смотрели с недоверием на молодого, здорового деревенского парня в красноармейской форме и вежливо ему отказывали, и пришлось Тимохе податься на завод. Ему бы попроситься к станку, чтобы со временем освоить какую-нибудь стоящую специальность, токаря ли, слесаря, а он согласился вахтером в охрану, да так и застрял на этой женской должности. Работа, конечно, не пыльная, отдежурил сутки, и хоть трава не расти, но и платят в охране копейки, для нормального мужика это не деньги, на них семью не прокормишь и не пошлешь матери, самому бы не протянуть ноги, и то ладно. Но уважение к деньгам он сохранил, тратил очень аккуратно, только на самое необходимое, на еду и одежонку, не позволяя себе никаких вольностей, и неудивительно, что при таком образе жизни он умудрялся даже из этой мизерной зарплаты откладывать на черный день.
И потекла его жизнь размеренно и ровно. Поселили Тимофея в общежитии завода, в комнате кроме него проживало еще четыре человека, такие же деревенские парни, как и он, но ни с одним из них он близко не сошелся, по причине их легкомыслия, уж больно они транжирили деньги на вино и уже через неделю после получки ходили по комнатам, чтобы занять десятку-другую на пропитание, а точнее на пропой, просили и у Тимофея, хотя и получали намного больше, чем он, иногда он давал, а случалось, что и отказывал, особенно тем, кто в срок не возвращал долг. И потому держался ближе к степенным, семейным людям, и быт свой устроил на свой лад, купил все необходимые в хозяйстве вещи: кастрюлю, таганок, пару тарелок, чайник — и сам готовил себе еду, а если и приходилось иногда питаться в столовой, то брал самую дешевую пищу, обозначенную в меню, и как ни подсмеивались над ним соседи, раз заведенному порядку не изменял, крепка в нем оказалась крестьянская закваска. А осенью брал отпуск и приезжал к матери, помогал по хозяйству: копал картошку, производил мелкий ремонт в избе, то в одном месте поправит прохудившуюся крышу, то в другом, подправит погреб, изгородь кое-где подлатает, мать и рада-радешенька, сама-то уж старая стала, да и болезни навалились разные, вот она и лежит больше на печи, чем ходит. Так уж получилось, что осталась она в деревне только с дочерью, трое сыновей разъехались кто куда и к матери глаз не казали, а если и приезжали раз в три года, то толку она от них видела мало, одна надежда была на Тимофея, и он не огорчал мать, приезжал к ней каждую осень, а то и два раза в году, разбивал свой отпуск и появлялся в деревне и весной, помогая матери посадить картошку.
В один из таких приездов в деревню его и оженили. Постаралась родная тетка Маша или, по-деревенскому, Косоручка. Она только тем и кормилась, что сводила и разводила людей. Многим тетка Марья испортила жизнь, подсуропила она и своему племяшу. Невесту Тимофей видел всего несколько раз и знал о ней лишь то, что она живет на другом конце деревни и давно уже не первой молодости, перестарок, но родные невесты попросили тетку Марью найти ей жениха, просьбу свою сдобрили солидным угощением, и Косоручка принялась за сватовство и так расписала невесту, что послушать ее, так лучше и краше Дарьи и девки в деревне нет. А затем от слов перешла к делу, привела жениха в избу к Дарье, родственники невесты не поскупились, стол накрыли на славу, и захмелевший Тимофей остался на ночь у невесты, а утром все чин чинарем и оформили, сходили в сельсовет и как положено зарегистрировали брак. Уезжал в отпуск Тимофей холостяком, а вернулся в Москву семейным человеком. Соседи по комнате посмеялись-посмеялись над его женитьбой и оставили своего непутевого соседа в покое.
Женитьба мало что изменила в его жизни. Выкопал он картошку и уехал к себе в общежитие, а молодуха как жила в деревне с матерью, так там и осталась, и впервые приехала в гости к мужу где-то на третьем году их «семейной» жизни, приехала не одна, а с годовалой дочкой, да еще на сносях, и он боялся, как бы она не родила ему ребеночка в Москве и не застряла у него на неопределенное время. Но с родами все обошлось, пробыла она у него в гостях с неделю и уехала обратно в деревню, где и разрешилась благополучно еще одной девочкой. Но и рождение детей ничего не изменило в его укладе, он так и остался женатым холостяком, супружница с детьми продолжала жить в деревне, а он по-прежнему обитал в столице, однако свою прыть умерил и наезжать в деревню на картошку стал все реже и реже, ибо после очередного его приезда жена ровно через девять месяцев рожала ему ребеночка. Очень уж на него действовал деревенский воздух, да и Дарья оказалась плодовитой как крольчиха и к двум дочерям прибавила еще и сыновей, правда, один из них умер, едва появившись на свет божий.
Во всем остальном Тимофей, на удивление, был консервативным человеком, и его жизнь протекала без видимых перемен. Его совсем не захватила революционная новь, и, глядя на него, можно было даже усомниться в происшедших переменах, усомниться в самой революции, приписав ее досужей выдумке каких-то «ненормальных» людей. Эти «ненормальные», как он их про себя называл, окружали его и в общежитии, и на работе, о чем-то до хрипоты спорили, что-то доказывали друг другу, ходили на какие-то митинги, кого-то гневно осуждали, а кого-то не менее горячо поддерживали. Тимофея все это совершенно не интересовало, он приходил с работы, готовил себе еду и, поев, шел прогуляться, а когда располагал временем и ему не нужно было на другой день выходить на работу, ехал в гости к свояку, который жил в маленькой комнатушке в районе Киевского вокзала, и они до изнеможения гоняли чаи.
Ожил немного лишь при нэпе, когда частникам разрешили открывать лавочки и различные питейные заведения. Тимофей в свободное от работы время шатался по городу, заглядывал в магазинчики, чайные, кондитерские, жадно вдыхал полной грудью ароматный воздух частнопредпринимательской деятельности, присматривался к новым владельцам и почти со всеми из них заводил разговор о своем старом хозяине, не видел ли его кто в Москве, не слышали ли о нем что-либо, но всякий раз получал отрицательный ответ, он как сгинул в смутное революционное время, так больше и не объявлялся на горизонте. Новые же хозяева от его услуг отказывались, рассчитывая каждый на свои силы, да и не такое это было время, чтобы доверяться первому встречному. А люди поумнее — так те вообще не высовывались со своими деньгами, забились поглубже в норы и сидели тихо-тихо, как мышки, рассматривая временную уступку частнику как провокацию со стороны властей, чтобы выявить всех денежных людей, а затем их прихлопнуть разом. И они оказались правы, очень скоро катавасия с частниками заглохла, так и не успев набрать силы, лавочки и магазинчики прикрыли, а их владельцев прихлопнули как дурных мух, облепивших сладости, специально приготовленные для их погибели. С Советской властью шуточки оказались плохи, и жизнь снова вступила в свою обычную колею, с собраниями, заседаниями, доносами, митингами, осуждениями, резолюциями.
Вернулся к привычному укладу и Тимофей. Правда, душу он себе все же разбередил в эти годы и нет-нет да и вспоминал потом о нэпе и в разговорах со свояком, и за столом у братьев, когда наезжал к ним в гости. Василий и Иван поселились с семьями в Подмосковье, один — в Бутово, а второй — в Электростали. Переезд в Подмосковье Ивана и Василия, пожалуй, стал для Тимофея событием в его жизни, с их соседством он уже не ощущал себя таким одиноким и заброшенным в огромном городе и в любое время мог приехать к ним в гости. И хотя братья не одобряли его образа жизни, оба они были женаты и жили со своими семьями, как все нормальные люди, но и не лезли особенно к нему в душу, а принимали его всегда по-родственному, помня то добро, которое сделал для них старший брат, присылая в деревню матери деньги, когда он работал в чайной у хозяина. Без его помощи они бы померли в деревне с голоду, а так не только выжили, но и приобрели хорошие специальности: один работал на заводе столяром, другой пошел по слесарному делу, получали неплохие деньги и живут не хуже других людей. В душе они, конечно, подсмеивались над старшим братом: застрял в каких-то охранниках, не работа это для здорового мужика, да и женитьбу его иначе как без улыбки не воспринимали, что это за жизнь, он мается один в общежитии, портки постирать и то некому, а жена с детьми крутится в деревне, но вслух из уважения к старшему брату никогда разговор на неприятную для него тему не затевали, разве что язык развязывался по пьянке, да и то напоминали они ему о работе и женитьбе без злобы, а как бы шутейно, и сразу же замолкали, если только замечали, что Тимохе неприятен этот разговор.
Да он и сам видел ненормальность своего положения и все собирался как-то изменить его, найти другую работу с жильем, чтобы жить не в общежитии, а в отдельной комнате, пусть даже и маленькой, и в коммунальной квартире, но лишь бы без жильцов, и даже пытался устроиться дворником, но в последний момент всегда находил какие-то важные доводы, и все оставалось по-старому. К тому же со временем наладилось с харчами в Москве — и можно было жить и на его зарплату, и поиски новой работы откладывались на неопределенный срок.
И дооткладывался! Грянула война, и тут уж всем было не до своих личных дел, а лишь бы выжить. Тимофею повезло, его не забрали на фронт, завод, на котором он работал, перешел на изготовление снарядов, и его оставили в охранниках. Так всю войну и протянул, голодно было, но жили люди, не умер и Тимофей. Из трех его братьев не вернулись с войны двое, а Василий с Электростали пришел без руки, вот после этого и пойми что-нибудь в жизни. Оказывается, прав-то он, что остался в охранниках, а не погнался за длинным рублем, и, уверовав в свою правоту, больше к мысли о другой работе не возвращался, да и годы были уже не те, чтобы начинать все сначала, как-никак, а дело приближалось к пятому десятку.
Живым-то он остался, но бесследно война и первые послевоенные годы не прошли. Поголодал он малость в это время, и неизвестно еще, как бы пережил лихолетье, не подвернись ему одна бабенка. Именно в эти годы он и сошелся с Анютой, бойкой женщиной с их же производства. Работала она также вахтером в одной с ним смене и как-то незаметно для Тимофея окрутила его. Муж у Анюты погиб в начале войны, и она, соблюдя установленные приличия, отходила целый год в трауре, но совсем записываться в монахини не собиралась, оставаться вдовой в тридцать пять лет никак не входило в ее планы. И она положила глаз на Тимофея. Но он женщинами не интересовался, и на него не действовали ее заигрывания, уловки, кокетство, и если бы она продолжала вести себя с ним в общепринятом смысле слова, у нее вряд ли что получилось из этой затеи. Но Анюта была не только женщина бойкая, а неглупая к тому же. Она не привыкла отступать от своего и, смекнув, что Тимофей в отношении с женщинами немного как бы с придурью, взяла его другим: стала приносить на работу еду и, когда их дежурства совпадали, приглашала отведать скромное угощение и его, не стеснялась предложить и белье постирать. Жила Анюта за городом в небольшом домике, оставшемся после смерти мужа, был у нее и приусадебный участочек, где она сажала картошку, капусту, свеклу с лучком, и потому, в отличие от многих, в войну не голодала. Но одной ей было трудно управляться с хозяйством, она привыкла жить с мужиком под боком. И хотя Анюта знала, что у Тимофея есть жена и четверо детей, но она также знала, что живет он один в общежитии и его семья ей никакая не помеха, но даже при таком странном положении держался он очень долго, и она почти целый год кормила его на работе, прежде чем ей удалось затащить Тимофея к себе в дом.
Пригласила она его по хозяйственной части, отремонтировать одну комнату, разумеется за плату и он клюнул на эту удочку, приехал — и зачастил к ней. Уж больно ему понравился ее домишко. После общежития комната Анюты показалась ему настоящим раем: никто у нее не шумел, не дергал его поминутно, отдыхай себе на здоровье. Не последнюю роль сыграла и выставленная после работы бутыль самогонки и закуска, какой он не видел с довоенной поры: были здесь и огурчики, и помидоры, и грибки, а такой духовитой и рассыпчатой картошки он давно уже не едал. И Тимофей не устоял, остался у Анюты на ночь и целых три года жил как барин. С работы он теперь ехал прямо к Анюте, а когда она уж очень надоедала ему со своим женским делом, можно было и передохнуть от нее малость, пожить в общежитии. Анюта баба с пониманием, не тянула его силком к себе, так он и жил на два дома все эти три года, и прожил бы, наверное, еще тридцать три, да вмешалась его законная супруга, и распрекрасная жизнь для него кончилась самым неожиданным образом.
Его жена, о которой он в последнее время и думать-то забыл, оказывается, помнила о своем непутевом муже. Стоило ему только пропустить одну-две осени и не приехать в деревню на картошку, как она всполошилась и прикатила в Москву сама и завалилась, естественно, в общежитие. Словоохотливые соседи разъяснили ей, что ее муженек фактически здесь не проживает и бывает один раз в месяц, не чаще, истинное же его местопроживание догадались не назвать, и тогда она отправилась на работу, на вахте ей все и выложили. Анюта с Тимофеем в этот день отдыхали дома, но она не поленилась приехать на завод в их смену и учинила форменный скандал. Прямо в проходной набросилась на соперницу, вцепилась ей в волосы, и на что уж Анюта бойкая бабенка и то растерялась под ее напором, а когда опомнилась, то побоище вышло великое. Покалечили они друг друга изрядно, исцарапали лица, а виновник торжества стоял вместе с другими мужиками в стороне и не догадывался прекратить это безобразие, пока на место драки не прибыло начальство и не развело разъяренных женщин в разные стороны. Но еще долго не умолкала словесная перебранка, они честили одна другую на чем свет стоит. Доводы законной супруги сводились к одному: она обзывала Анюту бесстыжей и через каждое слово напоминала о своих четырех детях. Анюта резонно возражала: раз вышла замуж и нарожала детей, то и жить нужно вместе, как живут все нормальные люди, а не так, как они, по разным углам, одна в деревне, другой вообще не поймешь где, без присмотра, а он же все же мужик, и за ним требуется женский уход. И как ни убедительны были ее возражения, присутствующие при драке женщины осудили ее самым страшным судом, всем своим видом показывая, что они на стороне законной супруги. После этого случая Анюта не выдержала осуждающих взглядов сослуживцев и через месяц уволилась с завода, а Тимофей Федорович как ни в чем не бывало продолжал справно нести вахтенную службу, ничуть не смущаясь под насмешливыми взглядами людей.
Но приезд жены не прошел бесследно и для Тимофея Федоровича. Его суженая, которую он за всю семейную жизнь видел всего считанные разы, наезжая в деревню в отпуск, поперла в дурь, и чтобы муженек не кобелился на старости лет, решила связать его по рукам и ногам. Взяла и оставила у него в Москве в очередной приезд зимой взрослого сына, Володю. По развитию он явно не соответствовал своему возрасту и в двадцать два года рассуждал как неразумное дите. В деревне Володю все считали придурком, и не без основания. В кого он у них такой уродился, сказать было трудно, у него в роду дураков отродясь не было, может быть, перешло по материнской линии, но верно говорят в народе: в семье не без урода. Остальные трое детей, две дочери и сын, были нормальные, как у всех людей, а с Володей жене пришлось повозиться. В деревне, правда, его еще можно было пристроить, с весны и до поздней осени работал пастухом, а зимой отлеживался на печи, в городе же его никто и близко не подпустит к производству, метлу в руки и то не доверят, и по целым дням пропадал в кинотеатре. Пристрастился, дурачок, к кино, и как утром уйдет вместе с отцом, тот на работу, а он в кинотеатр, и только вечером возвращался домой, одурев от бесконечных просмотров одного и того же фильма. Тут и у здорового человека голова не выдержит, а уж о больном и говорить не приходится.
Намучился с ним Тимофей Федорович за зиму и вздохнул с облегчением, когда весной спровадил сына в деревню. Но на другую зиму Володя снова объявился в Москве, только теперь уже приехал один, без матери. Дурак дураком, а дорогу нашел, не заблудился. И еще зиму прокрутился с ним. Мало того, что переживай за него, как бы чего не натворил, тихий-тихий, а всякое может втемяшиться в его дурную башку. Насмотрится разных фильмов про убийства, глядишь, и сам кому-нибудь проломит голову, а ты отвечай за него потом. Да и расходы на него не по карману Тимофею Федоровичу, на одно кино каждый день не меньше полтинника уходит, а ведь его еще и прокормить нужно, здоровый бугай и жрет за двоих, дешевле похоронить, чем прокормить. Есть у него свои деньги, заработал за лето в пастухах, так он их не тратит, все на что-то копит и матери ни копейки не дает из них, а отцу и подавно, все норовит из него вытянуть побольше. Заикнулся как-то Тимофей Федорович о деньгах, так он на отца родного чуть с кулаками не бросился, и он от греха подальше больше к разговору о деньгах с ним не возвращался. И ладно бы жрал все подряд, а то копается еще, выбирает что повкуснее, этого он не будет есть, это ему не по вкусу, а того не понимает своей дурной башкой, что на сто рублей отцовской зарплаты не больно пошикуешь.
Сам Тимофей Федорович вел хозяйство скромно, умудрялся укладываться в эти деньги. Вставал пораньше и обегал знакомые магазины, где можно купить по дешевке кости для супового набора, а то и требуху, и там, где другой оставлял в магазине десятку, он укладывался в три рубля и такое сварганивал из этих продуктов варево, что пальчики оближешь. А Володька нос воротил, требовал отцовской едой и, смолотив полбуханки хлеба всухомятку, укладывался спать. И здесь он причинял отцу неудобства. Спать на одной кровати с таким дылдой не очень-то здорово, но это еще пережить как-то можно. Хуже было другое: от соседей по комнате не успевал отбиваться, люди все рабочие, и ночью им, естественно, нужно отдыхать, а Володька насмотрится днем фильмов, и сон у него очень тревожный, кричит по ночам, да так громко, что соседи просыпаются от его вскриков и до утра уже не могут заснуть, а утром, невыспавшиеся и злые, бранят Тимофея и его полоумного сыночка. Дураку что, стоит и хлопает глазищами, а отцу приходится краснеть перед людьми. Только теперь Тимофей Федорович познал сполна правильность народной мудрости: раз наковырял детей, то и отвечай за них, умные они или дураки. Так бы, наверное, долго еще мучил его Володька, да случай помог отвадить его от наездов в Москву.
Приехал он в очередную зиму в столицу, а в это время съезд партийный проходил, вот всех придурков и подозрительных личностей на время мероприятия подбирали и отправляли в соответствующие места — кого в дурдом, кого в колонию. Попался в одну из чисток и его Володька, его взяли прямо в кинотеатре и безо всякой экспертизы, по одному внешнему виду определили, с кем имеют дело, и преспокойненько переправили в больницу Кащенко. Пролежал он там два месяца и натерпелся, видимо, изрядно и сразу, прямо из больницы, даже не заезжая к отцу, прямиком направился в деревню и больше уже у отца в Москве не объявлялся.
Другие дети вообще не досаждали Тимофею Федоровичу. Он даже не знал, есть они у него или нет, видел их редко, когда наезжал в деревню, и отношения с ними как-то не сложились. Незаметно для отца они выросли, повыходили замуж, переженились, а если и приезжали в Москву, то на день-другой за продуктами или купить какую-нибудь вещь, отца не беспокоили, останавливались у дальних родственников либо просто у знакомых. Это было, конечно, не совсем нормально, но он не осознавал в полной мере ненормальность, своих отношений с детьми, полагая, раз так сложилась его жизнь, значит, так и должно быть, и менять что-либо в своем укладе не собирался, а если бы вдруг и вздумал, то у него вряд ли что вышло. Так он и жил: ел, пил, спал, ходил на работу и незаметно для себя дотянул до пенсионного возраста.
Жил, конечно, слишком громко сказано, скорее, существовал все эти годы. Особенно ему тяжко пришлось в первые послевоенные годы, с едой в стране трудно было, и он покрутился похлеще белки в колесе, да и после, когда с продуктами стало полегче, на его зарплату больно не разбежишься. Сто рублей есть сто рублей, на них с голоду не умрешь, но и сыт не будешь, так, червячка заморил, и ладно. Правда, теперь ему не приходилось мотаться по городу в поисках продуктов, в их районе открылось несколько ларьков, где всегда можно было при желании достать и кости, и треску, и его любимую требуху. Сократились транспортные расходы, больше появилось и свободного времени, которое он использовал для приработка. Время от времени он подряжался на работу к своему начальнику снабжения, вскапывал на его даче огород, проводил мелкий ремонт дома, да и в городской квартире бывал у него не раз: то побелит потолок, то полы настелет, то поправит входную дверь. Вот уж действительно кто жил так жил! Он и в войну и после войны горя не знал, у него всегда была полным-полна коробочка. Сам подворовывал и других не обижал, широкой натуры был человек, всегда после работы и накормит до отвала, и напоит, и под расчет не обидит, заплатит, сколько нужно, а что нечист на руку был, так это и дураку ясно. На одну зарплату не построишь двухэтажную хоромину, да еще машину с гаражом содержать умудрялся, но не Тимофея это ума дело, на это органы есть, пусть и следят за народным добром, умел человек жить, вот и жил припеваючи, сам кормился и других подкармливал. Тимофей Федорович ничего плохого про него сказать не может.
Вот заместитель директора по хозяйственной части — тот совсем другой человек. И хотя нахапал добра не меньше снабженца, прижимистый мужик, из него и копейку лишнюю не вытянешь за работу, не то что рубль. Тимофей Федорович не любил ездить к нему на дачу. Накормить он, конечно, накормит и бутылку поставит, а наличными никогда не заплатит. Одно только не понимал Тимофей Федорович, зачем они надрывались, с собой ведь ни дачу, ни машину, ни даже деньги не возьмешь, и тот и другой умерли от сердечного приступа, а он продолжал здравствовать, хоть и имел на сберкнижке всего три сотни, или, как он их про себя называл, — «смертные». Как и большинство простых людей, он очень щепетилен был в этом вопросе. Ему хотелось, чтобы его после смерти похоронили не хуже других и не на казенный кошт, а за свои собственные деньги, поэтому «смертные» он не трогал даже в самые критические моменты и старался перезанять у кого-либо десятку-другую, если ему вдруг не хватало до зарплаты. Во всем остальном он был вполне нормальным человеком и рассуждал очень даже здраво, и больше того, обладал одним замечательным качеством: никогда и никому не завидовать, и это, несомненно, помогло ему дожить до старости. Он умел радоваться малости: выигранному по лотерейному билету рублю, купленным по дешевке продуктам, сэкономленной десятке, а уж когда на его долю выпадала настоящая удача, тут уж он не скрывал своих чувств и радовался от души.
И такая огромная радость выпала ему на шестидесятом году жизни. На работе наконец-то Тимофею Федоровичу выделили отдельную комнатенку в этом же общежитии. И хоть четырнадцатиметровая комната не бог весть какая хоромина, но отдельная, без соседей комната в общем коридоре, есть отдельная комната, почти как однокомнатная квартира. А то что ванной, туалетом, кухней пользуются еще девять семей, его особенно не смущало. К ванне он так и не привык за все время проживания в городе и мыться ходил раз в неделю в баню, там можно и попариться, и свободно постоять под душем, не то что в этом корыте-ванной, даже повернуться нельзя, а в туалет он может и подождать своей очереди, человек он не гордый. Главное — в комнате он один, без жильцов, делай что душеньке угодно, хочешь лежи на кровати, а хочешь песни пой, и никто тебе слова не скажет, а в общей комнате не все себе можно позволить, свет лишний раз и то зажечь нельзя, не говоря уже о том, чтобы послушать радио, да и надоело ему слышать по ночам пьяный храп соседей.
И зажил Тимофей Федорович на «большой»! Поставил на кухне стол, повесил на него замок и сам себе хозяин. Жена с детьми давно уже махнули на него рукой и не приехали даже на новоселье, вот он и отметил переселение в новую квартиру с соседями по общежитию, по-холостяцки: наварил холодцу, картошки, выставил несколько бутылок водки, и они недурно посидели. Ребята в долгу не остались, сбросились по красненькой и приволокли ему на новоселье стол со стульями. Постепенно он обставился более комфортабельно, на барахолке, по случаю, купил мягкое кресло и сажал в него самых дорогих гостей, да и сам любил понежиться в нем, купил в комиссионном магазине почти задарма и в очень хорошем состоянии буфет, хотя он ему и был совершенно без надобности, ибо ставить в него было нечего, дорогой посуды у него отродясь не водилось, а кастрюлю, сковороду и прочую хозяйственную утварь он держал в кухонном столе. Но буфет ему шибко понравился, да и не хотелось ему ударить в грязь лицом перед соседями. Из новых вещей купил лишь тахту, на старой пружинной кровати в его возрасте спать было неудобно, кровать отслужила ему верой и правдой много лет, и держать ее — своему же здоровью в убыток.
И все бы ничего, живи, радуйся свету белому, да старость подкралась незаметно, а вместе с ней и болезни. А давно известно, раз здоровья нет, то человека хоть золотом обсыпь, ему все одно небо в овчинку кажется. Замучил Тимофея Федоровича мочевой пузырь, камни какие-то в нем обнаружились. То ничего-ничего, а то такие боли страшные, что хоть на стенку лезь, по целым дням иногда боится сходить в туалет, а врачи терпеть-то как раз и не советуют. Но и врачи ведь тоже разные бывают, послушать их участкового врача, так ему давно уже пора гроб с музыкой заказывать, а он еще пожить хочет. А он ему все уши прожужжал: операция да операция, а он не желает под нож ложиться, пошел в платную поликлинику, и там ему прописали травками лечиться. Попил он с полгодика настой из травок и вроде почувствовал облегчение. Совсем, конечно, зараза не ушла из него, да и никакими травами камни не рассосать, иной раз так прихватит, что и помереть не страшно, только бы отпустила боль. Он уж и народными средствами лечился, и какой только дряни не испробовал на себе, ничего не помогло. Мочевой пузырь как барахлил, так и продолжает барахлить. Вспомнил он даже о знахарке в своей деревне, которая лечила все болезни заговорами.
И лучше бы не вспоминал! Несколько лет он не был в деревне, и никто из родственников его не тревожил своими наездами, и как они там жили, он не знал, может быть, давно и померли. Послал он им два письма, а ответа так и не получил. Припомнила, видно, ему жена на старости лет Анюту, наплевательское отношение к детям и всю его холостяцкую жизнь. А его в последнее время, как назло, тянуло в родные места, хотелось посмотреть на своих ровесников, с кем вместе рос, как они там доживают свой век, но главное, конечно, полечиться заговорами у бабки Пелагеи. Да и не пустые это, верно, слова, что человека перед смертью тянет именно туда, где впервые увидел белый свет. И он поехал в деревню, остановился в доме матери, который так и стоял заколоченным после ее смерти. Покупателя на дом в свое время не нашлось, а с годами он обветшал, и его можно было продать разве что на дрова. Тимофей Федорович сперва проветрил дом, затем протопил как следует печь, чтобы избавиться от сырости, еще раз проветрил, и ничего, затхлый запах ушел, жить в доме, оказывается, можно. С едой у него проблемы не было, с собой привез кое-какие продукты, у соседей разжился яичками, хлеб, слава богу, свободно лежал в магазине, и две недели прожил безбедно.
Больше он выдержать в деревне не смог, да и курс лечения у бабки Пелагеи рассчитан ровно на десять дней. Приходила она к нему утром и на ночь, пошепчет-пошепчет над ним, плеснет в склянку какого-то зелья, вот и все ее лечение, а пользы больше чем от врачей. И взяла недорого, по-божески, во всяком случае, после ее заговоров он почувствовал хоть какое-то облегчение, но знахарка велела ему обязательно приехать зимой, чтобы повторить курс лечения, иначе она снимала с себя всякую ответственность за избавление его от недуга.
Зимой Тимофей Федорович в деревню не приехал. Слишком тягостное впечатление осталось у него от последнего посещения. Родственные связи с женой и детьми у него порвались начисто, никто из них даже не пришел к нему ни разу, а когда он заявился к ним в гости, то его даже не пригласили за стол. Обошлись с ним хуже, чем с чужим человеком, разве что только не выгнали из дома, посидел он, посидел на лавке, покрутил шапку в руках и не солоно хлебавши возвернулся в свою избенку. А больше в деревне и пойти не к кому, она словно вымерла, те, с кем он когда-то гонял по пыльным улицам, давно уже отошли в мир иной, лежали на кладбище, а кое-кто, так же как и он, осел в городе и в родные места даже носа не кажет, остались в деревне всего несколько стариков да старух, доживающих свой век, да придурки, вроде его больного сына. Ему и поговорить даже не с кем, а сидеть бирюком в избе и гонять сонных мух да тараканов, уж лучше остаться в Москве, в своей комнате, по крайней мере, не нужно возиться с дровами, печь топить, горячая вода сама по трубам бежит, да и с едой полегче в городе, захотел — сготовил что-нибудь вкусненькое, холодцу наварил, а лень возиться с кастрюлями, пошел и поел в столовой, были бы только деньги.
А вот с деньгами у него как раз было туговато. Пока работал, получал сотню, иногда десятку-другую подкидывали премию, и не ощущал нехватку в деньгах, во всяком случае, на харчи и на одежонку хватало, а ушел на пенсию и сразу же закуковал, почувствовал, почем фунт лиха. Крутиться на пенсию в пятьдесят два рубля не так-то просто, даже при его экономии. Шиковать он никогда не шиковал, питался, можно сказать, продуктами, от которых многие воротили нос, на одежду тратил сущие пустяки, купил по случаю на барахолке пальто из ратина и относил целых пятнадцать лет, костюмы он отродясь не носил, всю жизнь проходил в казенной гимнастерке и кирзовых сапогах, которые ему выдавали на работе. Почти вся зарплата у него уходила на харчи, отложить на черный день из этих денег удавалось самую малость, да и то все накопления растаяли как весенний снег, стоило болезни прихватить его немного; копил всю жизнь, а истратил на врачей в один год.
С выходом на пенсию Тимофей Федорович надеялся поправить свое имущественное положение, планы строил всевозможные, как он разбогатеет, ему положат и заработную плату и пенсию, таких больших денег он никогда еще в руках не держал. Но человек полагает, а судьба располагает, не с его здоровьем и работать и пенсию получать. Всего только с полгодика и поработал после пенсии, болезнь так его скрутила, что пришлось постоянную работу оставить, а когда оклемался немного, обратно его уже на старую работу не взяли, да и не способен он был уже исправно нести охрану на заводе. Пришлось ему подумать о другой работе, более легкой. И тут ему подфартило крупно, нашел то, что искал, работенка не пыльная, жаль только, что она не круглый год, а сезонная, на зиму всех работников увольняли, а весной набирали вновь.
Устроился Тимофей Федорович в контору по благоустройству в Лужниках, при стадионе, работа как раз по его здоровью, целый день на воздухе, ходи по территории Лужников, собирай бумажки, мусор, ну иногда какую клумбу попросят окопать, но на земляные работы начальник обычно назначал рабочих помоложе и поздоровее. Тимофея Федоровича от его основных обязанностей не отрывал. Но и на этой работе можно угробить здоровье, если по-дурному поставить дело, за день приходится раз сто, не меньше, нагибаться, чтобы поднять бумажку, и от этой физкультуры так можно наломать поясницу, что на другой день и подъемным краном не разогнешь. Некоторые пенсионеры не выдерживали нагрузки и увольнялись. Тимофею Федоровичу сначала тоже не сладко пришлось, а потом ничего, наловчился собирать бумажки, приспособление одно придумал — и дело пошло на лад. Нехитрая вроде механика, а облегчила работу раз в сто, взял он простую палку от метлы, прибил пару гвоздей на самом конце и ходит себе, тыкает бумажки, нанизывает их на гвозди, как еж на свои иголки в лесу. И не нужно нагибаться, а устал, можно и посидеть немного на лавочке, поговорить за жизнь с отдыхающими, никакого надзирателя за ним нет, все построено на доверии, была бы в надлежащем виде отведенная ему территория, а там хоть расстилай раскладушку и спи, никому нет до тебя никакого дела. Летом на стадионе вообще благодать, как за городом, кругом зелень, птички поют, и на работу он приходил как на праздник. А в дни большого футбола и подработать можно неплохо, на одних бутылках он вышибал десятку, а то и больше, народу тьма-тьмущая, и каждый почти идет с бутылкой вина или пива, и, естественно, с собой редко кто пустые бутылки забирает обратно, бросают тут же, где и сидят. Пройдет он с мешком после матча по трибунам, вот тебе и живая десятка, только не ленись, собирай.
Зато поздней осенью на стадионе неуютно, по целым дням они почти ничего не делают и сидят либо под трибунами, либо в конторе, так, разок для порядка пройдется по территории — и обратно в тепло. Да и собирать-то особенно нечего, ветер и дождь за людей сделают свое дело, уберут почище, чем корова языком своего теленка вылижет. И выходит, как в армии, солдат спит, а служба идет, зарплату-то сполна получают они, а в конце сезона, при расчете, начальник еще и премию подкидывает. Тимофея Федоровича в конторе никогда не обижали и всякий раз приглашали весной снова приходить на стадион.
И он приходил и еще отработал несколько удачных сезонов по благоустройству, а зимой отсыпался, подлечивал свои болячки, готовился к лету. Если же его здорово прихватывало, то он отлеживался, болезнь постепенно отпускала, и он снова поднимался на ноги. В такие моменты ему все было немило и хотелось лишь одного — поскорее умереть. Но в небесной канцелярии что-то не больно торопились присылать за ним, предоставляя ему отсрочку за отсрочкой. И он бы с удовольствием пожил еще с десяток годков, но только без болезней, чтобы обходиться самому, без посторонней помощи, а то ведь так может получиться, что и воды будет некому подать. А это уже не жизнь, сплошное мучение. Боялся Тимофей Федорович не боли, он человек терпеливый, да и привык к страданиям уже, и даже не одиночества как такового, всю жизнь он прожил один, и одинокая старость его не страшила, опасался он, как ни странно, другого — попасть в дом престарелых. Об этом учреждении он был много наслышан, и умереть ему хотелось дома, в собственной постели, и чтобы похоронили его как положено, по христианскому обряду. И поэтому, когда в конце зимы его прихватило в очередной раз и он вдруг понял, что больше уже не встанет на ноги, от больницы отказался, и как врач «неотложки» ни убеждал его, что приступ может повториться в любую минуту и они не успеют приехать, чтобы сделать ему укол и снять боль, Тимофей Федорович настоял на своем и остался дома.
Много раз он собирался умирать и не умер, а здесь вдруг почувствовал: все, это конец, и никакие врачи, никакие уколы ему уже не помогут, жить ему осталось всего ничего, самое большее день-другой, а может, и того меньше, не дотянет он до утра. Тимофей Федорович не боялся смерти, когда она маячила где-то в отдалении или когда не осознавал ее, как в детстве, а вот теперь ему вдруг стало жаль расставаться с жизнью, пусть и не ахти какой счастливой, а все-таки жизнью. И что-то вроде возмущения шевельнулось в нем, но это уже было запоздалое возмущение, да и не знал он, против кого направлять это возмущение.
Всю жизнь Тимофей Федорович прожил тихо-мирно, не роптал ни на бога, ни на сильных мира сего, боясь даже плохо подумать о них, и умер так же тихо, как и жил, ну, а всплеск возмущения перед смертью — это как бы напоминание природы, ее легкий укор, что по земле ходило не животное, а существо, наделенное разумом.
1975
В ОДНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1
Название у проектной организации мудреное и длинное, и как я ни стараюсь, выговорить правильно не могу, хотя уже больше года вершу здесь правосудие. Я работаю юристом в Гипр… Нет, спотыкаюсь, да и как же не сломать язык, если название учреждения состоит из семи слов; государственный институт по проектированию предприятий такой-то и такой-то промышленности, такого-то министерства, а сокращенно Гипр. Но в деловых бумагах писать сокращенно нельзя, а обязательно нужно выводить полное наименование со всеми регалиями. Вот я и мучаюсь всякий раз, опасаясь, как бы чего не пропустить. Особенно если бумага идет на казенном бланке и за подписью директора. Однажды, по рассеянности, я написал название учреждения с маленькой буквы, так директор обиделся и воспринял это чуть ли не как личное оскорбление, вызвал меня к себе в кабинет и на полном серьезе выговорил, что я непочтительно отношусь к фирме, в которой служу, и впредь он подобного наплевизма не потерпит.
С тех пор, предав забвению орфографию и синтаксис, я катаю название нашего доблестного предприятия с заглавной буквы. И к вящей радости руководителя организации, нарушенная справедливость восторжествовала. Лишь признанный критикан и вечно всем недовольный вахтер Михеич, глядя на мое усердие, ворчал себе под нос:
— Вы бы им еще и вензель нарисовали, как в старинных книгах… — И, помолчав немного, добавил: — А будь моя воля, я бы эту шаражкину контору окрестил «Спичкой»…
Тоже ведь верное замечание. Но вензель в деловой бумаге я загнуть не могу, точно так же, как не имею никакого права самовольно заменить официальное наименование учреждения на короткое и емкое: «Спичка», предложенное Михеичем. Образно сказал старик, но почему именно «Спичка», а не что-нибудь другое, понять трудно. Пришлось обратиться за разъяснением к автору.
— Эх вы, голова садовая, а еще юриспруденция называется… Что же здесь непонятного-то? Какой мы промышленности? Деревянной? То-то и оно… А что из дерева делают?.. Правильно! Умничка! Спички… Вот я и предлагаю в дальнейшем именовать нас не Гипром, а «Спичкой».
Убийственная простота! И мне не оставалось ничего иного, как согласиться с Михеичем, признав его правоту, и подивиться недальнозоркости сослуживцев, считавших его придурком. А по-моему, Михеич мужик себе на уме и больше прикидывается дурачком, чем есть на самом деле. Он все видит, все подмечает, и от его острого взгляда с хитринкой не так-то просто скрыться. Он, пожалуй, единственный, кто в «Спичке» узрел, что со мной творится неладное и вся моя веселость напускная. Но молчать Михеич не умеет, подметил и по простоте душевной брякнул:
— Гложет, Петрович, червь-то, окаянный…
Несмотря на разницу в возрасте, он уважительно называет меня по отчеству, хотя и годится мне в отцы. Михеич почему-то питает ко мне непонятную слабость. Я бы даже сказал, его почтение относится не столько к моей персоне лично, сколько к закону, служителем которого являюсь я. Здесь он, конечно, искренне заблуждается, как не догадывается и о причине моего недуга.
— Не принимайте все так близко к сердцу… Плюньте на них… Ум-то сейчас выказывать не модно, гораздо легче прожить дурачком… С придурков-то и спроса меньше… А супротив червя у меня есть лекарство… В два счета его уничтожим, как классового врага…
Я лишь поблагодарил Михеича за совет, зная наперед, что он вряд ли мне пригодится. У старика ото всех бед одна панацея — водка. Моего же червя не только не зальешь этим зельем, а и не всякой кислотой вытравишь. Он гложет и гложет меня, разъедая душу изнутри, как ржа. А вот к замечанию Михеича присмотреться получше, что творится в «Спичке», я прислушался. И присмотрелся! Уж лучше бы мои глаза ничего Этого не видели. Склока в «Спичке» идет превеликая, страсти бушуют чуть ли не шекспировские, а я-то наивно полагал, что это — тихая заводь, где все идет по раз и навсегда заведенному порядку. Ан нет, жизнь, оказывается, и здесь бьет ключом, и все по одному и тому же месту, по голове. А я, словно меня мало учили, подставляю свою дурную башку куда ни лень. Михеич втравил меня в авантюру, и я потихонечку, сопротивляясь больше по инерции, ввязался в драчку. Старик, конечно, прав, упрекая меня в бездеятельности, но согласиться с ним на все сто процентов я не могу.
— Не так себя поставили, Петрович… Из-за какой-то несчастной загогулины выговаривают вам… Да вы, по сути дела, после директора второй человек в организации… А если разобраться, то и ему не подчиняетесь, а только закону… Я бы на вашем месте такой им ералаш устроил…
Насчет подчинения Михеич, как всегда, загнул. Юрист такой же служащий, и на него полностью распространяются правила внутреннего распорядка, но льстивыми словами старик разбередил мне душу. Плохо ли мне, дурню, жилось? Ходил целый год на службу, плевался, можно сказать, в потолок и получал свои сто рэ. Появлялся в «Спичке» на часок-другой два раза в неделю, быстренько обегал свое нехитрое хозяйство: бухгалтерию, плановый отдел, экспедицию, перекидывался несколькими словечками с секретаршей директора, милой девчушкой, не забыв предупредить ее, что в случае надобности, если меня будет спрашивать кто-нибудь из руководства, меня следует искать либо в арбитраже, либо в райсобесе, где я оформляю пенсию какому-нибудь несуществующему пенсионеру. А в каком райсобесе, в каком арбитраже я, конечно, никогда не указывал. И выходит, никому неизвестно, где я нахожусь во время работы, ибо в Москве десятки, райсобесов и столько же ведомственных арбитражей. Но домой я обычно не шел, а бесцельно бродил по улицам. За год я исходил столько километров, сколько не прошел за все предшествующие тридцать лет. И вполне понятно, при таком отношении к службе я не очень-то вникал в суть происходящих событий.
Правда, нельзя сказать, чтобы я уж совсем ничего не замечал и глаза мне открыл лишь Михеич. Как-никак, а юрист есть юрист. Ни один приказ без моей визы не может выйти в учреждении, а иногда меня вызывали для консультации к заму и даже к самому директору, но, как правило, в основном я держал связь с руководством через начальника отдела кадров. Кадровик особенно мне не досаждал своим обществом. Раз в неделю, по средам, он ставит передо мной накопившиеся за семь дней юридические вопросы, и я даю ему исчерпывающий ответ, со ссылкой на действующее законодательство. И его вполне устраивает такое положение. Я не сую свой нос в его дела, не заставляю переписывать неграмотные приказы и, главное, смотрю сквозь пальцы на мелкие нарушения производственного характера, потому как отлично понимаю: начни я неукоснительно придерживаться буквы закона — и «Спичку» давно бы закрыли.
Ну, взять, к примеру, штатное расписание. Я доподлинно знаю, что в техническом отделе из четырнадцати человек, значащихся в платежной ведомости, фактически работают по специальности только четверо, а остальные своего рода мертвые души, иждивенцы. Они только числятся в техническом отделе, а разбросаны и работают в разных подразделениях нашего учреждения. Конечно, это непорядок, и при первой же настоящей проверке нас взгреют, но пока все сходит с рук благополучно. И больше того, «Спичка» вот уже который год подряд ходит в передовиках в своей отрасли, и переходящее знамя министерства не выносят из кабинета директора. А победителей, как известно, не судят, да и не мое это дело. Я в «Спичке» человек новый, работаю без году неделю, в любое время могу сорваться с места, и мне не резон со своим уставом соваться в чужой монастырь.
И выходит, Михеича я приплел сюда зря, больше, так сказать, для связки слов. Возвел на старика напраслину. Он во всем прав и даже про премию подметил верно. Себе руководство выписывает по сотне, а работягам по десятке. Но здесь Михеич упрекает меня не по делу. Начальство со мной по этому вопросу не только не советуется, а близко-то не подпускает к распределению премий, и кому сколько дать, решают в узком доверенном кругу лиц. Я и сам-то за год получил всего двадцатку, да и то скорее как член профсоюза, а не за юридические заслуги перед обществом. «Спичке» в очередной раз присвоили переходящее знамя, и обойти меня как члена коллектива никак нельзя было. А если бы даже и не дали премии, как это уже случалось не раз (забывали при составлении списка включить юриста), беды большой не было, и я бы не стал качать свои права перед кадровиком. Мне с ним ссориться никак нельзя.
Честно говоря, я немного побаиваюсь кадровика, но признаться в этом не могу даже Михеичу, который недоумевающе качает головой, глядя на меня:
— Такой умный парень, два диплома с отличием и за сто рублей прозябаете в «Спичке»… Да с вашей головой разве в такой организации работать…
Не скажу же я старику, что у меня рыльце в пушку, и я, так сказать, ненадежный, или, как еще вернее выразился мой бывший шеф, «правдолюбец». В «Спичке» я отбываю своего рода ссылку, добровольную, правда, но ссылку, и дозреваю здесь, как в парнике. И мне нужно отдать должное, я здорово преуспел в науке лицемерия, да и немудрено, школу-то какую прошел, адвокатскую. Но страхи меня обуревают не без основания. Как-никак, а начальник отдела кадров в одном лице совмещает и спецотдел. Есть, оказывается, и такая должность в «Спичке». И хотя я предоставил кадровику характеристику со старой работы, где меня отрекомендовали «грамотным юристом» и вполне благонадежным человеком, но бумага есть бумага, и кадровику ничего не стоит снять трубку, набрать номер телефона адвокатской корпорации, а то и того вернее — самому подъехать в кадры и навести обо мне исчерпывающие сведения. «Так, мол, и так, хотим юриста повысить в должности, и нам нужно побольше о нем знать»… И узнают! Мое бывшее адвокатское начальство все обо мне выложит, скрывать не станет, ибо попортил я им крови порядком. «Неуправляемый человек, борец за справедливость, всюду совал свой нос куда не следует», и придется мне снова, как лягушке-путешественнице, искать новое место. А я здесь уже привык ничего не делать и чувствую, как душа постепенно покрывается жирком и я превращаюсь в этакого современного Обломова. Спасибо Михеичу, встряхнул немного.
Конечно, будь я умным человеком, то давно бы уже ушел от греха подальше и сменил работу в «Спичке» на что-нибудь поприличнее, но меня лень-матушка обуяла, и пока я меняю дело на безделье, отвожу душу в беседах с вахтером. В «Спичке» и так про меня болтают невесть что. Юрист-то глумной какой-то парень, ни с кем и знаться не желает, связался с одним полоумным стариком, и все, а с молодыми и словечком не обмолвится. Это не совсем точно. Разговорился я тут как-то с комсомольским вожаком, здоровым, молодым парнем, и, в частности, поинтересовался: «Ты почему, Сергей, не учишься и в институт не поступаешь?.. С техникумом сейчас далеко не уйдешь…» А он этак посмотрел на меня с прищуром, словно на зуб проверяя, серьезно я его спрашиваю или шучу, и без тени улыбки ответил: «А зачем учиться-то, в институт поступать, когда я и так не пыльно проживу… Вот вы, говорят, два института кончили, а толку что… Получаете столько же, сколько я, и даже на сороковку меньше… А я вот еще один срок поруковожу молодежью, в партию вступлю, и меня тогда не остановишь… Пойду по комсомольской линии, а там, глядишь, и за границу пошлют…» Подобную песенку я уже слышал не раз, и значит, разговаривать мне с ним не о чем. С Михеичем куда интереснее. По крайней мере, старик порой такое загнет, что хоть стой, хоть падай, и приходится лишь удивляться, откуда он выкапывает свои байки. Ну просто неистощим на выдумку.
Но насчет «присмотреться» у него промашка вышла, нафантазировал старик немножко. Что ж, бывает и на старика проруха. Я и без него все это знаю. Ну и что? Эка невидаль. Привычная картина, классический, можно сказать, треугольник: директор, заместитель директора, кадровик. Директор с кадровиком катят бочку на зама, а точнее, директору чем-то не угодил заместитель, и он решил освободиться от него любыми средствами, а кадровик всего-навсего выискивает темные пятна в биографии заместителя, конечно, не по собственной инициативе. Тяжба с переменным успехом тянется уже чуть ли не пять лет. Кадровик с директором наседают, заместитель отбивается. С ним давно бы покончили, но есть во всей этой истории одно маленькое «но».
Заместитель очень заслуженный человек. В свое время он принимал участие в установлении Советской власти в Закавказье, прошел всю гражданскую войну, в годы первых пятилеток занимал в Азербайджане чуть ли не пост министра, а потом все неожиданно перевернулось. Кто-то наклепал на него, его арестовали, и он пятнадцать лет провел в местах лишения свободы. После реабилитации ему назначили персональную пенсию союзного значения, но на заслуженный отдых он уйти отказался, и тогда, как привесок к пенсии, его определили на скромную должность заместителя директора в «Спичку». И хотя работенка не бей лежачего, Сумбат Гургеныч больше дней в году болеет, чем находится в своем кабинете. Однако, несмотря на возраст и недуги, он уходить с работы совсем не собирается. Ему уж и так и этак намекали, и подарок уже приготовили, и адрес приветственный написали, а он все скрипит да скрипит и не подает заявления об увольнении. Наверное, у него есть свой резон, а может быть, его просто удерживает большой оклад, как-никак, а двести восемьдесят рублей на дороге не валяются.
С другой стороны, и директора понять можно. Ему нужен заместитель, активно работающий человек, а не семидесятилетняя развалина. И хотя директору самому уже за шестьдесят перевалило, но он держится молодцом. Поговаривают в «Спичке», будто бы за тридцать лет безупречной работы на должности директора министерство и ему выхлопочет персональную пенсию. Если, вполне понятно, ничего не произойдет из ряда вон выходящего. А произойти всегда может. Ведь давно известно, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Наш же директор сам не сидит сложа руки и другим не дает бездельничать. И если бы его еще не отрывали от дела, не пакостили потихонечку, он бы горы своротил. Но кто-то упорно клепает на него писульки, начиная от народного контроля и кончая чуть ли не Советом Министров, и «Спичка» вот уже который год содрогается от анонимок. Не успеет одна комиссия уйти, а ей уже на смену спешит другая. О какой уж здесь работе думать. Тут, как говорится, не до жиру, а быть бы живу. Еле успевает писать объяснительные записки. Не один час уходит на это занятие, и надо еще крепко подумать, прежде чем написать. Да и как не думать, когда среди писанины всякий раз встречаются убийственные факты, полностью подтверждающиеся при проверке.
Взять хотя бы последний случай. Неизвестное лицо добросовестно извещало народный контроль, что заведующая технической библиотекой в июле месяце якобы две недели находилась в командировке в Костромском филиале означенной организации, а в действительности, даже ни разу не показавшись на работе, четырнадцать дней провела в доме отдыха на берегу речки, в сосновом бору. Командировочные и зарплата за две недели указанной гражданке аккуратно выплачены. На первый взгляд у непосвященного человека может возникнуть вполне законный вопрос: а какое отношение ко всей этой истории имеет директор? В каждой организации есть нечестные люди, которые не прочь запустить руку в государственный карман и мало-мало попользоваться из общественной казны. Директора ввели в заблуждение, он и подписал командировочное удостоверение, не ведая ни сном ни духом о корыстных намерениях своего подчиненного.
Не тут-то было. Наш анонимщик не простой человек, и у меня даже по отношению к нему рука не поднимается обзывать его столь нелестным словом. Он, скорее всего, подпольный критик, борец за справедливость. Видно, по натуре он очень дотошный товарищ и в своих анонимках скрупулезно обосновывает каждый пунктик. В частности, в данном случае он все разложил по полочкам, и проверяющему только оставалось безропотно следовать за его мыслью. Оказывается, заведующая технической библиотекой не просто должностное лицо «Спички», а еще и очень близкая подруга нашего директора. В не столь отдаленные времена, и анонимщик не поленился сделать маленький исторический экскурс, между директором и нарушительницей закона любовь бушевала самая настоящая. Наш директор из-за своей возлюбленной семью оставил и даже двоих детей бросил на произвол судьбы. А когда его вызвали в одно высокое учреждение и, пристукнув кулаком по столу, потребовали прекратить «аморальное поведение, недостойное высокого звания советского руководителя», то он, ослепленный страстью, едва не положил на стол партийный билет. Правда, его характера хватило ненадолго, буквально на следующий день он одумался и, испугавшись последствий своего неразумного поведения и оргвыводов, вернулся к семье. Но связь с любимой женщиной не прекратил, а когда шум немного улегся, устроил ее даже поближе к себе, заведующей технической библиотекой вверенной ему организации, то бишь в «Спичку». Аноним и этот момент не упустил. Однако особо в своей критической записке безымянный борец за правду налегал на то обстоятельство, и это место подчеркнул красными чернилами, что, посылая сотрудницу в командировку, директор поступал преднамеренно и заранее знал, что направляет ее не на работу, а в дом отдыха, и выходит, действовал заодно с расхитителями государственных средств. И больше того, исходя из одной маленькой детали, а именно, раз избраннице сердца директора отметили командировочное удостоверение, как положено, пришел к выводу, что и руководство филиала находится в преступном сговоре со «Спичкой».
Обвинение, прямо скажем, не из приятных, и за такие штучки по головке никто не погладит. Но пока анонимке дали ход, пока назначили обследователя, директора предупредили, и он в срочном порядке принял меры предосторожности. Действовал не совсем умно, можно даже сказать топорно, но на обдумывание у него не было времени. Не мудрствуя лукаво, он взял и послал в Кострому свое доверенное лицо, начальника отдела кадров, дав ему строгое напутствие любыми средствами замять дело. Кадровик, бывший военный, задание воспринял буквально в лоб и едва в филиале не наломал новых дров. Но в конце концов свою секретную миссию выполнил. На комбинате при проверке все в один голос утверждали, что прибывшая из Москвы гражданка аккуратно появлялась на службе две недели, но в какой гостинице она остановилась и проживала, на этот бесхитростный вопрос вразумительно так никто и не ответил. Сама же потерпевшая сослалась на слабую память, а отчетные документы, как водится в подобных случаях, утерялись.
Аноним — ушлый человек. Он даже предвидел и такой вариант и настаивал в своей бумаге, чтобы обследователь не поленился и скатал в дом отдыха, где ему и откроют глаза на правду. Воля жалобщика — закон, и проверяющему не оставалось ничего другого, как проехать в сторону от Костромы восемьдесят километров, где он и убедился собственными глазами, что интересующая его особа одновременно умудрялась пребывать и в доме отдыха и на работе. Объяснить вразумительно этот факт так и не смогла и, не придумав ничего лучшего, ляпнула курам на смех, что она ездила из города ночевать в дом отдыха за восемьдесят километров. Никто, конечно, не поверил серьезно этим россказням, но почли за благо замять для ясности столь щекотливый вопросик. Обследователь написал в своем заключении: «Ввиду явных противоречий, на комбинате говорят одно, а в доме отдыха утверждают прямо противоположное, и дабы не порочить тот или иной коллектив, дальнейшее расследование анонимного заявления прекратить…» И дело, как говорят в народе, прикрыли. Тут сыграло свою роль одно маленькое обстоятельство: будь заявление о нарушении финансовой дисциплины не анонимное, не открутиться бы директору. Жалобщику нужно было бы отвечать, а он написал бы выше, и рано или поздно виновное лицо вывели бы на чистую воду. На анонимку же отвечать некому, ибо еще ни один аноним не оставлял своего имени и адреса. И все же директора для профилактики вызвали в министерство и пожурили малость, чтобы впредь он подобных глупостей не делал. И все пошло своим чередом.
Раздосадованный борец за справедливость, видимо, не ожидал такого результата и замолчал. В «Спичке» настолько привыкли к его заявлениям, к комиссиям и проверкам, что в первое время растерялись и не верили наступившему покою. Но аноним действительно больше не писал. То ли он готовился к новым сражениям, то ли еще по какой причине, только он дал временную передышку нашему руководству. И в «Спичке» воспользовались предоставленной любезностью и занялись текущими делами.
Нашлась работенка и юристу. Меня вызвал к себе кадровик и попросил для директора найти закон о персональных пенсионерах, и в частности, его интересовало одно положение: сколько к зарплате работающий пенсионер, персональный, конечно, может получать из начисленной пенсии. Для мало-мальски опытного юриста это не вопрос. Все юристы знают: для персональных пенсионеров тоже есть потолок, зарплата и пенсия не должны превышать триста рублей, то есть если, к примеру, у персонального пенсионера заработок двести рублей, то из пенсии ему можно доплатить еще сто рублей, и ни копейки больше.
Я доподлинно знаю это положение, но, для важности, напускаю на себя умный вид и сразу не отвечаю на поставленный вопрос, а обещаю найти нужное постановление через неделю, сославшись на то, что мне якобы необходимо съездить в отдел кодификации, хотя сборник законов о пенсиях находится под рукой и тихо-мирно пылится в моем рабочем столе. А иначе вести себя никак нельзя. Начни им с ходу отвечать на все вопросы, потеряют всякое уважение к юристу. А так не нарушил установленную субординацию, а время для себя высвободил, чтобы поразмышлять на досуге. «Что они еще затеяли против зама?» А то, что заданный вопрос самым прямым образом связан с заместителем директора, для меня нет никаких сомнений. В «Спичке» только один человек получает персональную пенсию. Почему они так рьяно взялись за старика? Ну, директор, понятно, хочет иметь работающего зама, чтобы взвалить на него как можно больше обязанностей и посвободнее вздохнуть самому. А кадровик, что он за человек? И какая ему выгода от всей этой склоки?
И вдруг меня осенило! Вот кто может быть автором анонимок, содрогающих «Спичку» до корней. Я ведь все время был на верном пути к разгадке тайны анонима, разыскивая человека, которому выгодно держать в постоянном напряжении людей и натравливать руководство друг на друга. И выходит, лишь одному человеку на руку такая нервозная обстановка — кадровику. Есть целый ряд доводов, указующих именно на него. Ну, во-первых, кадровик не имеет никакого образования и находится на такой ключевой должности. Во-вторых, он страдает очень тяжким недугом, любит выпить, и ни для кого не секрет, что он зачастую сидит в своем кабинете в довольно непотребном виде… Заместитель директора не раз выговаривал ему за появление на службе в нетрезвом состоянии, за что и снискал лютую ненависть кадровика. Директор тоже знает о слабости своего подопечного, но смотрит на это сквозь пальцы. Работу свою кадровик знает, людьми «Спичка» всегда укомплектована полностью, а кто ж из нас без греха? К тому же поговаривают, что к кадровику директор питает по понятной причине симпатию, ибо он глаза и уши директора в «Спичке» и имеет своих осведомителей во всех отделах, так что директор всегда в курсе дела, чем живет и дышит вверенная ему организация. Да и надежный человек кадровик. Ему всегда можно поручить щекотливое дельце, как, к примеру, случилось с мнимой командировкой, а это в наше время, когда нельзя положиться и на близких-то людей, не так уж и мало.
С другой стороны, кадровику при его «недуге» выгодно постоянно держать в напряжении враждующие стороны и натравливать друг на друга директора и зама. Пока они будут заниматься выяснением своих отношений, им некогда обращать внимание на пьяного кадровика. Если это так, то он затеял очень опасную игру и ему с его коротким умишком долго не продержаться, да к тому же он может подрубить и сук, на котором сидит. Какая-нибудь анонимка сработает, его благодетеля выгонят ко всем чертям, и еще неизвестно, кто займет освободившееся кресло и, главное, как новый руководитель посмотрит на пьяного кадровика. Да и никак с его внешностью не вяжется лицо борца за справедливость. По нем хоть трава не расти, и мне кажется, будь его воля, он бы за бутылку водки вверг «Спичку» со всеми ее обитателями в любое страшное испытание и не исторг бы из своих глаз и слезинки, глядя на страдание и мучение сотрудников. И все же в анонимных заявлениях указываются порой такие детали, о существовании которых и догадаться-то нельзя, не то что знать, если, конечно, не принимать личное участие во всех означенных мероприятиях. Взять хотя бы все ту же пресловутую командировку. Эту операцию разрабатывал узкий круг людей, и при желании их всех легко установить. Во всяком случае, командировка никак не могла пройти мимо рук начальника отдела кадров. Но смысл, смысл-то какой ему топить директора?..
Одни загадки, и не стоит ломать себе голову по пустякам. Вот если бы мне официально поручили выявить анонимщика и при этом пообещали не появляться на работе хотя бы в течение двух недель, вот тогда бы я проявил все свои детективные способности и в лепешку разбился, а установил подпольного борца за справедливость. А так, ради спортивного интереса, не стоит зря тратить время и заниматься бесперспективным расследованием. Да я, наверное, и не смог бы вести подобное дело. Мне простое задание, принести и растолковать положение о персональных пенсионерах, и то не по душе. Не нравится мне почему-то новое поручение кадровика, предчувствие какое-то нехорошее, а меня еще моя интуиция ни разу не обманывала, как не обманывают некоторых людей сны.
Директор уже на неделе дважды справлялся о юристе, а меня, как назло, не было на месте, а где-то носили черти. Но тяни не тяни я, а дать исчерпывающую юридическую справку по интересующему вопросу — моя прямая обязанность. И дразнить директора, скрываться от него по меньшей мере глупо с моей стороны, или, как бы еще сказала одна моя знакомая, я занимаюсь мальчишеством. Все равно, рано или поздно, директор потребует на ковер юриста. Раз он дважды вызывал, значит, приспичило, и дело не терпит отлагательства, а посему благоразумнее явиться перед его очами по собственной инициативе и обязательно с толстой книжкой в руках. Вид талмуда, запыленного сборника законов, смягчит его гнев, и, может быть, он не так сильно станет на меня кричать. А для пущей безопасности прихвачу с собой кадровика. При нем директор не так сильно ругается. Лицо кадровика почему-то на него действует успокаивающе. Есть, правда, одна опасность: как бы с утра пораньше кадровик не успел нализаться, и тогда придется ждать, когда он протрезвеет и примет божеское обличив. Хитрый мужик, в пьяном виде его и на аркане не затащишь в кабинет директора. Но хвала аллаху, кадровик сидит за своим столом свеженький, как огурчик. При моем появлении он радостно воздевает руки к потолку и патетически восклицает:
— Явился, голубчик! А мы уже хотели всесоюзный розыск объявлять… Совсем с ног сбились, не можем юриста отыскать… — И без перехода перешел на другой стиль: — Где ты шатаешься? Директор велел, как только объявишься, живым или мертвым доставить к нему в кабинет.
— Вот, ездил за законом… Сами же просили…
— Привез! Ну тогда все в порядке… Помилует… Пошли скорей к нему…
2
В приемной директора, как всегда, толпится народ и секретарша с трудом отбивается от желающих попасть на прием к главе учреждения. Начальнику отдела кадров создан режим наибольшего благоприятствования, и очередь для него не существует. В любое время для него зеленая улица в кабинет директора, и он проходит без доклада. Публика провожает нас взглядами, в которых смесь удивления и любопытства. Удивило, наверное, народ то обстоятельство, что скоро обед, а кадровик еще трезвый. Да и появление юриста в приемной директора достойно всяческого внимания. Но мне особенно некогда разбираться в чувствах сослуживцев. Мы уже в святая святых «Спички», в кабинете директора. При нашем появлении беседа прекратилась, и начальника планового отдела как ветром вымело из комнаты. Мы остались в кабинете одни.
— А… объявилась пропащая душа… Я просил вас познакомить меня с действующим положением о персональных пенсионерах…
— Нашли, Никанор Иванович. — И кадровик изогнулся знаком вопроса. — Вот, юрист, по моему поручению специально ездил в министерство, в отдел кодификации.
Я протянул директору сборник законов, и он с почтением посмотрел на толстую книгу, не зная, с какого конца за нее взяться.
— У меня там заложено интересующее вас место…
— Так, так, так… не свыше трехсот рублей, мне так и говорили… А у него сколько? — и директор вопрошающе посмотрел на кадровика…
— У него одна зарплата двести восемьдесят, да плюс премия солидная…
— А разве премия входит в заработок?
— В обязательном порядке. При начислении пенсии учитываются все виды заработной платы… И здесь не имеет значения, персональная пенсия или обыкновенная… Вот и юрист может это подтвердить…
Я молча киваю головой, подтверждая правильность его слов.
— Выходит, он не знал этого положения и не указал премию при получении пенсии…
— Нас не касается, что он знал, чего не знал. Факт остается фактом, обманывал государство в течение многих лет и думает, что это сойдет ему с рук. Не выйдет! — И директор, потирая от удовольствия руки, обратился уже только к одному кадровику, словно меня совсем не было в кабинете: — Ты еще раз все выясни, о чем мы с тобой говорили, как следует уточни, прежде чем сообщать куда следует… А когда у тебя все будет готово, покажешь мне, а сейчас пригласи ко мне снова начальника планового отдела… Мы с ним тут немного повздорили до вашего прихода… Столько лет все шло хорошо, был таким покладистым мужиком, а тут вдруг заартачился… — Как бы вспомнив, что в кабинете он не один, закончил: — Вы свободны, только в следующий раз все-таки не заставляйте меня столько вас разыскивать… И оставьте на время книжечку, я ее еще почитаю…
Я не привык, чтобы мне дважды повторяли одно и то же, и вышел из кабинета. На лестнице меня нагнал кадровик. У него было такое радостное выражение лица, словно он облагодетельствовал человечество каким-то выдающимся открытием, а не совершил только что маленькую пакость. Кадровик не удержался и поделился со мной:
— Знаете, а это ведь я догадался, что у Гургена (так в «Спичке» за глаза называют заместителя директора) не все ладно с пенсией. И причем совершенно случайно. Платили мы как-то партийные взносы, и что бы вы думали? Он платил с четырехсот рублей. Я не поленился и на следующий день посмотрел в его учетную карточку. Так у него, в основном, почти каждый месяц партийные взносы двенадцать рублей…
— Ну и что?
— Как ну и что? А еще юрист называется… Да здесь и дураку ясно, что он обманывает государство. Ему же можно получать вместе с пенсией только триста рублей, а у него меньше четырех сотен никогда не бывает, судя по партийным взносам… А остальное, как говорится, дело техники… Я позвонил в Министерство социального обеспечения и справился у инспектора, где он получает пенсию. А теперь уточним кое-какие детали, напишем официальный запрос в министерство, и дело в шляпе.
Молчать кадровик не мог. Его понесло.
— Ну и хитрец… Притаился и думает, что ему все сойдет с рук. Со мной этот фокус не пройдет… Я его быстро к ногтю прижму… И на что ведь рассчитывал: персональную пенсию получает по месту жительства, а на работе, мол, ничего не узнают… А я тут как тут… Вот уж, действительно, на ловца и зверь идет…
— Зачем же вы так плохо о человеке думаете? Он, может быть, и на самом деле не знал положения о премиях и действовал неумышленно. Да так оно, наверное, и есть… Никогда не поверю, чтобы такой человек, как Сумбат Гургенович…
— Это вы еще кому-нибудь скажите, а я знаю, что делаю…
— Разобраться же нужно, спросить его, а уж потом и делать человеку пакости… А вы рубанули с плеча и сразу же в министерство сообщили…
— Насчет разобраться вы не беспокойтесь… Где нужно, разберутся… — и кадровик так посмотрел на меня, словно заново увидел юриста, и всем своим видом дал понять мне, что разговор на эту тему окончен и дальнейшему обсуждению не подлежит.
А мне после столь содержательной и поучительной беседы с кадровиком стало как-то не по себе. Выходит, и я приложил руку к сотворенной подлости и выступил заодно с кадровиком. Во всей этой истории меня больше всего и поразило то, что он совсем не стесняется меня и принимает за своего: значит, он меня знает лучше, чем я себя сам, и кадровик уверен, что я не смогу помешать ему и тем более совершить какой-либо общественно полезный поступок.
Какая, однако, страшная уверенность! Меня аж всего передернуло от этого, и я чувствую, как постепенно ярость охватывает меня. Вот возьму и предупрежу зама назло ему. Да, но Сумбат Гургенович уже второй месяц не появляется на работе, а находится на больничном, и я не так близок с ним, чтобы заявиться к нему домой и предупредить его о надвигающейся опасности. Может, он еще что-нибудь успеет сделать и предотвратит грозящие ему неприятности? Вряд ли. Машина уже запущена, и остановить ее просто невозможно, а тому, кто это попытается сделать, она переломает все кости. Разве что вмешаются какие-нибудь сверхъестественные силы. Но серьезно об этом говорить не приходится. Сейчас ни в бога, ни в черта никто не верит. Остается одно: подумать, как можно хотя бы немного смягчить удар. Однако куда ни кинь — все клин. Беседовать с директором бесполезно, а тем паче призывать его к благоразумию. Он и слушать меня не захочет, а то и того хуже — возьмет да и поднимет на смех: «Ну и юрист у меня, — скажет, — выискался. Вместо того чтобы блюсти интересы государства, защищает всяких мошенников, любителей погреть руки за счет народного добра…» Я знаю, при желании дело можно и так повернуть. И выходит, разговор с директором начисто отпадает. Вот уж действительно получается, что спасение утопающих — дело самих утопающих. И мне остается только ждать, когда Сумбат Гургенович появится на работе, и при возможности рассказать, кто ему подсуропил веселенькую жизнь.
Но пока я телился и все собирался поговорить с Гургеновичем, машина, запущенная кадровиком на полные обороты, сработала. Как я и предполагал, бумага, написанная кадровиком в Министерство социального обеспечения, получила надлежащий ход, и в «Спичку» нагрянула комиссия. Изложенные факты полностью подтвердились. Сумбат Гургенович в течение нескольких лет получал малую толику сверх положенных ему трехсот рублей. Для старика выводы комиссии были столь неожиданны, что его слабое сердце не выдержало такого удара, и он попал в больницу. Зам, оказывается, и на самом деле не знал положения о премиях и был уверен, что премиальные не учитываются при начислении пенсии. Но я-то хорош гусь. Опять поступил не лучшим образом. И хотя остановить машину было не в моих силах, но при желании уберечь Гургеныча от больницы мог. И нужно-то было всего подготовить старика заранее. Однако насколько я все же испорченный тип. Нашел ведь себе отговорку: не ходит человек на работу, а адреса, видите ли, не знаю. Да я его мог в любом случае взять в отделе кадров или, на худой конец, узнать в справочном бюро. Заплати две копейки и езжай хоть на край света. Поленился, а теперь вот переживай. Еще неизвестно, как старик выкарабкается из сердечного кризиса, и чем вообще для него закончится вся эта кутерьма.
Однако дальнейшие события повернули так круто, что даже я не мог ожидать подобного оборота. Пока Гургеныч ходил, потихонечку скрипел, казалось, никто не обращал на него внимания. Но стоило человеку попасть в больницу, соприкоснуться со смертью, как людей в «Спичке» словно подменили. До случая с замом жизнь организации текла, как река подо льдом, спокойно и гладко. И вдруг «Спичку» закорежило, она вздулась, рассердилась, и все только и заговорили о Гургеныче и ломают голову, кто бы мог сотворить с ним такую подлянку. В больницу снаряжается делегация за делегацией, с цветами, подарками, но старик настолько плох, что не может даже порадоваться на дружеское и сердечное отношение к нему со стороны сослуживцев. А ведь перед этим два месяца болел Гургеныч, и никто не навестил его, даже забыли о его существовании, а тут вдруг у всех словно прорезались доброта, забота, нежность. Вспомнили, какой он славный старик, и главное, никогда никому не причинял зла, так, покричит, покричит для порядка, а чтобы навредить человеку, нет, этого за ним не водилось. Ну и конечно, пожалели человека, как исстари заведено на Руси. А без жалости никак нельзя обойтись. Припомнили всю его разнесчастную прошлую жизнь, и что человек за здорово живешь отсидел почти пятнадцать лет, испытав на собственной шкуре почем фунт лиха. Ему бы за одно это и не такое простить можно. А то из-за какой-то ерунды разгорелся сыр-бор, создали комиссию, прислали даже инструктора из горкома партии. Не знал человек положения о премиях, да его и не каждый юрист читает. Скрывать-то он не скрывал и партийные взносы платил со всей суммы. Внес бы, в крайнем случае, переполученные деньги, и дело с концом. Ан нет, по-человечески сделать не захотели, не вызвали старика, не поговорили, не выслушали объяснений, а втихомолку настрочили кляузу и у него за спиной обтяпали грязное дельце. А теперь еще и удивляются, и никак в толк взять не могут: почему человек слег. Да его и подкосила-то, как серпом, подлость, сотворенная с ним.
В «Спичке» упорно ищут виновника. Больше всех расходится Михеич. Дознаюсь, говорит, кто это подстроил Гургенычу, собственными руками придушу подлеца. Это он, конечно, хорохорится, а сделать ничего не сделает. Просто Михеич не справится с кадровиком, тот его одной левой зашибет. И все же, как ни странно, кадровик струхнул малость. Не Михеича, конечно. Просто на него подействовали людские разговоры, да и результат получился не тот, что он ожидал. Комиссия проверила факты, поговорила с людьми и уехала, не сделав никаких оргвыводов. Вопрос так и остался открытым. Гургеныча не только не сняли с работы, но даже и не отстранили до выздоровления. Видимо, общая обстановка подействовала на них, и они решили повременить с окончательными выводами и подождать, пока старик выйдет из больницы. Тоже верно рассудили. Не такой Гургеныч по натуре человек, чтобы обкрадывать государство умышленно. Да если бы он хотел скрыть незаконное получение денег, то и взносы по партийной линий платил соответственно меньше, а не указывал всю сумму. Получилось неприятное недоразумение, и вовсе не обязательно из-за этого травмировать человека, когда он находится на волоске от смерти. Можно и подождать немного, не убежит же он из больницы.
Народ в «Спичке» молчаливым одобрением встретил решение вышестоящего начальства, но кой-кого такой поворот дела не устроил. Кадровик, в частности, отказывался верить своим глазам и ушам и даже растерялся на какое-то время, что совершенно на него непохоже. А когда пришел в себя, то не придумал ничего умнее, как найти козла отпущения и сорвать на нем зло. Я подвернулся ему под горячую руку, и он накричал на меня, забыв, очевидно, с кем имеет дело. На юристе ведь далеко не уедешь, а где сядешь, там и слезешь, и я быстро поставил его на место.
И успокоился, полагая, что инцидент исчерпан. Но я опять ошибся. Кадровик не на шутку струхнул, ибо в «Спичке» объявились добровольные детективы, решившие во что бы то ни стало установить, по чьей вине Гургеныч попал в больницу. Из живых свидетелей об истинном виновнике, а вернее, виновниках торжества знаю я один. Можно сказать, на моих глазах развертывалась вся эпопея, и рано или поздно местные следопыты выйдут на кадровика, и тогда не миновать ему справедливого возмездия. Но пока следствие явно пошло по ложному пути. Ищут все того же злополучного анонима, обрушивая весь гнев на его неповинную голову. Аноним не выдержал явного поклепа и прислал своего рода опровержение, где он достиг вершины эпистолярного жанра. Не мудрствуя лукаво, он сразу же взял быка за рога и с первых строчек в своей бумаге все расставил по местам.
Во-первых, никакой я не пакостник, а самый настоящий борец за правду, но по существующим условиям действительности поставлен в нелегальное положение. Я даже догадываюсь, чьих рук дело гнусная провокация с Гургенычем (он так и написал, с Гургенычем, как уважительно зама величают в «Спичке», а не казенно по имени и отчеству и занимаемой должности), но не могу выступить с открытым забралом, ибо полностью отдаю себе отчет, что ожидает меня, сплошай я немного. Со мной никто чикаться не станет и вышвырнут без выходного пособия, как последнюю собаку. Вот я и вынужден скрывать свое подлинное имя, но я не меньше вашего, а может быть, даже и больше переживаю от подлости, приведшей хорошего человека в больницу.
И к опровержению приложил копию нового заявления, в котором обвинил директора не больше не меньше как в приписках к плану. С расчетами и выкладками за несколько лет и без обиняков указывал, что все первые места со знаменем, присуждаемые «Спичке», — дутые.
И тут меня словно осенило: почему я все время думаю, что действует один анонимщик. А если их два? Один борец за справедливость, не имеющий к истории с Гургенычем никакого отношения, и другой — пакостник, гнусный человечек, рассылающий свои писульки с целью посеять вражду и склоку. Ну конечно же так оно и есть, и последнее письмо — лучшее тому подтверждение.
Руководство несерьезно восприняло заявление анонима и на сей раз. Сколько было уже проверок — и все сходило с рук. Ну, пришлют еще одну комиссию, ничего страшного, как-нибудь с божьей помощью отобьемся. И не такое переживали. К тому же, наверное, сбил начальство с толку и напыщенный, велеречивый слог опровержения. Я, как мог, постарался сгладить этот маленький недостаток и передал содержание бумаги своими словами, но суть оставил в нетронутом виде, как ее изложил безымянный автор. Да, я чуть не упустил: первый экземпляр заявления аноним адресовал в КПК, а копию направил, как всегда, в народный контроль. Даже это новшество не насторожило заинтересованных лиц в «Спичке». Обычно аноним ограничивался только народным контролем и не тревожил своими заявлениями столь высокие инстанции, а тут взял, не постеснялся, и размахнулся на всю. И надо отдать ему должное, тонко уловил момент: совсем недавно во всех газетах было опубликовано постановление Пленума Верховного суда о борьбе с приписками к плану и очковтирательством. Так что в «Спичке» легкомысленно отмахнулись от анонимки. Под горячую струю заявление может и сработать, и тогда, если изложенные факты подтвердятся, кое-кто костей не соберет.
Пока же заявление анонима прошло слишком даже незаметно. Сослуживцы просто-напросто не оценили ни его благородства, ни его скромности. Правда, главного аноним все же добился, с него сняли незаслуженное обвинение, и теперь уже никто в «Спичке» не сомневается, что напакостил Гургенычу кто-то другой. И его усиленно ищут. Специальную группу поиска возглавляет лично Михеич и все свободное время посвящает разработке версий. Гургеныч немым укором стоит перед всеми, ибо из больницы поступают вести одна другой неутешительней. Михеич у себя на вахте организовал нечто вроде пресс-центра, и желающие всегда могли у него справиться о состоянии здоровья Сумбата Гургеныча. Михеич даже попробовал вывешивать у входа бюллетень о ходе болезни Гургеныча, но директор в приказном порядке обязал кадровика следить за покоем во вверенном ему учреждении, и вахтеру сделали соответствующее внушение, дабы на стенах впредь не появлялись подозрительные листочки, не связанные с производственной деятельностью.
Михеич с укором смотрит на меня, я ничем не могу ему помочь. Я сам, выражаясь языком шахматистов, попал под матовую атаку. Кадровик не на шутку ко мне привязался и чуть ли не с ножом к горлу пристает, чтобы я каждый день ходил на работу, как и положено рядовому служащему. И даже завел, специально для меня, книгу записей, этакий гроссбух, где я, по его мнению, обязан исправно отмечаться, если вздумаю отлучиться с работы. Я, конечно, попытался отшутиться и продолжал ходить на службу по ранее заведенному порядку, но кадровик на полном серьезе объявил мне, что как ни прискорбно, но нам придется расстаться, и он уже подыскивает другого юриста, для которого служебные интересы выше личных.
Только теперь я увидел, что он не собирается шутить, и понял его недвусмысленный намек по поводу «личных и государственных интересов». Это он здорово ввернул, ничего не скажешь. Он на самом деле боится, чтобы не всплыла на свет божий вся эта история с Гургенычем, и заблаговременно хочет отделаться от ненужного свидетеля. Нет, совесть его, наверное, не мучает, и он спит спокойно, ни капельки не переживая, что где-то в больнице по его милости умирает человек. Он всего-навсего опасается, как бы подлость, сотворенная им, не стала достоянием гласности, и поэтому от греха подальше, заранее подстраховывается на всякий случай. Ведь береженого и бог бережет.
Ну нет, от меня он так просто не отделается. Раз он наносит удар ниже пояса, то и я применю запрещенный прием и помучаю его изрядно, прежде чем он выгонит меня с работы. Кадровик и не подозревает, как крепко держу я его в своих руках. Так, уж вышло само собой, но у меня есть бесспорные доказательства, что он занимается деятельностью, не совместимой с его служебным положением. На юридическом языке это называется вымогательством, и в уголовном кодексе даже есть специальная статья, предусматривающая ответственность для любителей обирать народ, используя свое служебное положение. А кадровик настолько распоясался, что забыл, видно, основную заповедь Остапа Бендера и без уважения, я бы даже сказал, наплевательски относится к уголовному кодексу. Придется ему при случае напомнить кое-что и даже показать вещественные доказательства.
Славу богу, я по счастливой случайности, а скорее всего от нечего делать, сохранил вещдоки. Он-то по простоте душевной думает, что никаких следов после его попоек не осталось, а я все бутылки аккуратненько собирал и на горлышко приклеивал этикетки: когда, с каким пенсионером он распивал водочку, и даже проставлял время. Так что у меня полный ажур. Конечно, я ведь тоже сначала дурака свалял и не придал никакого значения, почему кадровик отбирает у меня пенсионные удостоверения и лично вручает их старичкам и старушкам, а то бы давно уже загромоздил весь стол пустыми бутылками. Но один пенсионер проговорился. Объяснилось все очень просто: я бегаю, высунув язык, по райсобесам, оформляю пенсии сотрудникам «Спички», а кадровик пожинает плоды моих трудов и все заслуги приписывает себе. Проводы на заслуженный отдых без бутылки не обходятся. Сначала он принимал подаяния лишь от тех, кто добровольно угощал его по случаю столь печального события, как уход на пенсию, а затем так обнаглел, что под разным предлогом не отдавал пенсионное удостоверение до тех пор, пока бедный старичок или старушка, измучившись ходить за ним, наконец понимали, что от них требуется, и откупались бутылкой. А это уже чистейшее вымогательство. Вот я и взял на карандаш всех обиженных пенсионеров, а чтобы не забыть их фамилии, на бутылки наклеивал бумажки с надписью. И все это хранил в своем столе вместе с уголовным кодексом и другими законодательными актами.
Честно говоря, я знал, что меня никто по головке не погладит, если случайно заглянет в мой стол и наткнется на бутылки, и все собирался навести порядок на своем рабочем месте и выкинуть пустую посуду из стола. Но не выкинул, и моя затея сослужила мне добрую службу, да еще какую! Вряд ли бы кадровик от меня отвязался, не поставь я его на место. А тут один только вид батареи из бутылок произвел на него потрясающий эффект. Он даже не стал читать надписи и сверяться со своей памятью, и так все понял, стоило мне открыть стол и показать ему содержимое. Я лишь произнес одну фразу: пенсионеры в нужном месте и в любое время всегда подтвердят факт распития спиртных напитков в рабочее время… И пожалел, что сказал. Кадровика едва не хватила кондрашка, хорошо у меня под рукой оказался графин с водой, а то бы пришлось вызывать «неотложку». Такого потрясающего действия я не ожидал. В мировой литературе увиденное мной можно сравнить разве что с немой сценой из заключительного акта бессмертной комедии Гоголя «Ревизор». Кадровик прямо на глазах как-то сник, полинял весь, а придя немного в себя от столь непредвиденного удара, молча удалился из комнаты.
3
Однако выяснить отношения с кадровиком до конца мы так и не успели. Дальнейшие события в «Спичке» развернулись самым неожиданным образом. Вернее, рано или поздно этого следовало ожидать. Анонимка сработала, да еще как. В «Спичку» нагрянула авторитетная комиссия и так тщательно и непредвзято проверила доводы, изложенные безымянным борцом за справедливость, что наше доблестное учреждение не выдержало и зашаталось. Приписки к плану полностью подтвердились, и директора отстранили от работы до принятия окончательного решения. К суду его, конечно, не привлекли, учли прошлые заслуги перед обществом, как-никак, а он руководил «Спичкой» почти двадцать лет, возраст, и с миром отправили на пенсию, не на персональную, как он рассчитывал, а на простую. Я же ему за день все и оформил.
Кадровик ходил сам не свой, ему явно не по себе. Еще бы! Лишиться такой могучей поддержки, и неизвестно кого пришлют и как сложатся отношения с новым руководством. Привыкать придется не к одному директору, а и к новому главному инженеру, и к начальнику планового отдела. Наш главный инженер и начальник планового отдела в спешном порядке, не дожидаясь окончательных выводов комиссии, подали заявления об уходе с работы по собственному желанию. Их тоже отпустили с богом на все четыре стороны, ибо в своих объяснениях они все свалили на директора, заявив, что действовали по его указке. И им поверили на слово, не стали разматывать дело.
Вполне естественно, волнует кадровика и вопрос с Гургенычем. Пока он числится заместителем и никаких указаний о его смещении с должности из министерства не поступало. Здесь, мне кажется, кадровик тревожится зря. Чудес, как известно, на свете не бывает, и если даже старик и выкарабкается из болезни, то он вряд ли вернется на работу. И выходит, что бояться ему нужно только меня.
Но мне не до него. Я все никак не могу разобраться со своей совестью. Ведь до сих пор я так никому и не сказал о подлости кадровика и только то и делаю, что хожу и плююсь на самого себя и все никак не могу отплеваться. У меня такое ощущение, словно я вывалялся в помоях и от меня разит за версту. Но странная вещь, от меня никто не шарахается в сторону, и даже не затыкают нос при разговоре со мной, и я продолжаю исправно нести свою службу, даю людям советы по юридической части, хотя сам нуждаюсь в чьем-нибудь умном совете. Мне бы кому-нибудь открыться, рассказать все как на духу, что со мной приключилось, и сразу стало бы легче. Но разве я могу признаться в собственной трусости? Да и не поймет никто, скажут, у юриста очередной заскок. Но и носить в себе невысказанное невыносимо.
Придумал опять глупейшую отговорку и успокоился. Допеку его совестью… Да он совершенно и не переживает, успокоился уже, словно и не по его милости человек попал в больницу. Кроме Михеича в «Спичке» уже все давно забыли про Гургеныча, последние события с приписками к плану заслонили собой все остальное. Прошло времени-то всего ничего, а «Спичка» только и живет разговорами о новом директоре. Все гадают и рядят на разные лады: кого пришлют? И хотя Михеич исправно вывешивает бюллетень о состоянии здоровья Гургеныча (и бумажку уже не срывают со стены), никто не задерживается возле доски объявлений. Старик сокрушенно качает головой: «Эх люди, люди… Вам бы только о себе думать…»
Даже борец за правду, анонимщик, и тот замолчал. Сделал свое дело и ни гугу. Хотя бы отругал кто меня, а то чувствую себя хуже отравленной крысы. У кадровика хлопот полон рот, и он совершенно не обращает на меня внимания. В «Спичке» образовалось много вакансий, и ему нужно подобрать людей на освободившиеся кресла до прихода нового руководства. Так что со мной ему просто некогда заниматься, да видно, он махнул на меня рукой и до поры до времени оставил в покое.
Но неужели я настолько испорчен и напуган, что не решусь бросить ему открыто в глаза, что он подлец? Откуда во мне эта трусость? Наверное, это началось еще в детстве, когда я впервые узнал, что такое страх, и спасовал, сделав едва уловимый шаг в сторону, а затем медленно отступая, пядь за пядью сдавая свои человеческие позиции, докатился до теперешнего состояния…
…Мне одиннадцать лет. Озеро глубокое и огромное. Оно притягивает к себе сильнее магнита, но я почти совсем не умею плавать. Так, чуть-чуть перебираю руками по-собачьи. А Юрка-Курбан чувствует себя в воде как рыба. Он старше меня на целых четыре года и все время подбивает меня сплавать с ним на противоположный берег, обещая научить курить. Но как ни велик соблазн дотянуть после Юрки чинарик, я от берега далеко не отплываю. И все же Юрка уговорил меня сплавать с ним. Правда, не вручную, а на плотах из камышей. Плот седлается как лошадь, крепко обхватывается ногами, и, перебирая руками, можно на плоту из камышей переплыть хоть океан, а не только Сухановское озеро.
И мы действительно благополучно переплыли с Юркой озеро, отдохнули малость на противоположном берегу, и он, сдержав обещание, дал разочек курнуть мне из своих рук, а затем пустились в обратный путь. На середине озера со мной и приключилась беда. То ли Юрка плохо перевязал камыши, то ли я слишком усердствовал, сжимая ногами плот, только я вдруг с неподдельным ужасом заметил, что из-под меня по одной выплывают камышинки и мой плот худеет буквально на глазах.
Я закричал, а Юрка, вместо того чтобы помочь мне, кинулся наутек к берегу, быстро-быстро перебирая руками и ногами. Больше я ничего не видел. Помню лишь, что здорово тогда нахлебался, озерной воды и что вытащил меня на берег какой-то отдыхающий на берегу дядечка… Но страх перед водой остался. Липкий, холодный страх, хотя я даже не успел по-настоящему и захлебнуться-то. Придя в себя на берегу, я разревелся и с кулаками бросился на Юрку. И впервые за все время нашего знакомства Юрка-здоровяк, бивший меня до этого случая когда ему вздумается и как только его душеньке угодно, попятился, а затем, лепеча что-то невразумительное в свое оправдание, побежал от меня…
…А через два года уже я пережил страшные минуты, когда, молча повернувшись и ни на кого не глядя, уходил в сторону от людей, точь-в-точь повторив постыдный поступок Юрки. С той лишь разницей, что мне вслед не кричали и никто не гнался за мной с кулаками. На песке лежал пьяный мужчина-утопленник, которого так и не откачали. Я видел, как он тонул, но не поплыл к нему на помощь, понадеявшись на его дружков-приятелей, барахтающихся рядом с ним, а, быстро-быстро перебирая по-собачьи руками, устремился к берегу. По правде говоря, в тот момент я даже не успел ни о чем подумать-то. Мне лишь хотелось одного: уплыть от него подальше. Кругом было много купающихся, и на меня даже никто не обратил внимания. Но я-то сам отлично знал, что струсил, и не имеет никакого значения, что мужчина не кричал и не звал меня на помощь. И уж совсем слабое оправдание, что я не умел плавать…
Да, но при чем здесь мое теперешнее поведение? И какая связь между чисто животным страхом перед физической смертью и тем, чтобы сказать подлецу, что он подлец? Мне же никто не угрожал за это посадить на кол? И потом, не такой уж я и трус, и кроме постыдного поступка с утопленником, мне нечего краснеть за свое детство и юность. Я был отчаянным малым и, как все мальчишки нашего двора, прыгал зимой с трехэтажного дома в сугроб, на всем ходу цеплялся за машины, не задумываясь принимал участие во всех драках с мальчишками соседнего двора… А пять лет участия в студенческом оперативном отряде, когда не раз приходилось буквально уходить от ножа при задержании хулиганов и бандитов?
Нет! Причина моего теперешнего мерзкого поведения в другом. И меня словно осенило. Как же это я раньше не мог додуматься до столь простой мысли и все время путал божий дар с яичницей? Ведь физическая и общественная трусость — две разные вещи! Я мог даже быть трижды героем в войну, но в мирное время все одно вел бы себя так же постыдно, как все. Ведь мне чуть ли не с пеленок вбивали в голову одно и то же, и в детском саду, и потом в школе, и мы хором и поодиночке кричали: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» А детство у меня, мягко говоря, было совсем не таким уж счастливым. Нас у матери на руках осталось четверо, и все один другого меньше. Отец погиб на фронте, и мать, простая, неграмотная женщина, работая уборщицей и получая по-старому триста рублей, а по-теперешнему тридцать, еле-еле сводила концы с концами, и уму непостижимо, как она смогла выходить нас. И все же, несмотря на ее старания, мы едва не умерли с голода. Первый кусок белого хлеба с маслом я увидел лишь в пятидесятом году. Но все равно мы были счастливы, ибо мы верили! А теперь порча захватила большую часть моего поколения. Да, да, мы именно не потерянное, а испорченное, гнилое поколение! Гнилое поколение! Так вот оно, мое открытие! И выходит, весь мой бунт заранее обречен на неудачу, и я не случайно, как премудрый пескарь, спрятался в «Спичке», и теперь мне остается одно: до скончания своих дней ходить и плеваться на самого себя, а другого удела я и не заслужил.
Бррррр… Какие мрачные мысли. Нет, нет и нет! Не может зло победить! Ведь должны же быть нетронутыми какие-то слои народа, кого неверие не коснулось и обошло стороной? Ведь смеется же и шутит Михеич! А моя мать?! А тетя Поля?! Добрая, нежная! И сколько на земле таких простых и добрых теть Поль, которых судьба, кажется, обделила всем, а они не ожесточились, а остались добрыми, сохранив свою природную чистоту. Война отняла у тети Поли все: мужа, детей, жилье, но не сломила ее жизнестойкость, и она весь дар своей души отдает людям. Капелька ее добра досталась и мне. Как же я мог забыть тетю Полю!
…Мне шесть лет. Горе пришло к нам сразу. Сначала заболел сыпным тифом старший брат, а за ним слегли сестра и мать. И мы с младшим братишкой остались совсем одни, но почувствовали это лишь тогда, когда за нами никто не пришел в детский сад и не повел нас домой. Мы с братом еще не понимали толком, что произошло, и лишь когда стало темно и страшно, забились в угол, где нас и нашла сторожиха тетя Поля.
Тетя Поля! Она взяла нас за руки и привела к себе на кухню. От нее пахло теплом и еще чем-то очень вкусным. Она не только сторожила, но и мыла на кухне посуду, котлы, топила плиту. После группы на кухне было тепло и уютно. Тетя Поля накормила нас и уложила спать возле плиты… а утром мы снова бежали в группу. Я и братишка так привыкли к тете Поле за время болезни матери, что с нетерпением ждали вечера, когда мы могли вместе с тетей Полей чистить котлы и слушать ее сказки. Каждое воскресенье мы ходили с тетей Полей в больницу к матери. Я помню, как попятился Витька от окна, когда впервые увидел стриженую голову матери. Это было так неожиданно, и мать так была непохожа на себя, на ту, к которой мы привыкли, что братишка даже заплакал.
А затем все оборвалось: и котлы, и кухня, и тетя Поля. Детский сад закрыли на ремонт, и тетя Поля не могла нас взять к себе. Просто у нее не было своей комнаты, и она сама снимала угол. Она плакала, добрая, нежная тетя Поля! Не за себя, а за нас, не зная, куда определить меня и Витьку, пока мать находится в больнице… Нас даже хотели сдать в детский дом, но тетя Поля отстояла… Победило добро…
И на меня словно снизошло озарение! Вот оно, самое важное и главное: идет извечный спор добра и зла, и даже не спор, а самая настоящая борьба не на жизнь, а на смерть. Зло боролось, борется и будет бороться с добром до скончания веков, И так же, как сменяется день ночью, зима — весной, а лето — осенью, так же и добро со злом в непрестанной вражде, и победителя искать не нужно. Его нет и не будет. В этом и заключается вся загадка бытия, и было бы, наверное, неинтересно жить, если бы кто-то из них вдруг победил, окончательно и навсегда. Наступило бы пресное существование, но природа мудро уравновесила добро и зло, соблюдая пропорцию и чувство меры. И стоит кому-нибудь из них взять верх, как тут же на другую чашу весов невидимая рука кладет гирьку — и добро и зло вновь уравновешиваются. Были жестокие правители, была инквизиция, был фашизм, есть войны. Но рядом всегда творили Сократ и Леонардо да Винчи, Данте и Пушкин, Сен-Симон и Циолковский, одновременно с войной претворяется мечта о покорении Вселенной.
И я всего-навсего лишь маленькая частичка человечества, и даже не частичка, а пылинка, затерявшаяся в огромном пространстве. На моих глазах сотворили зло, и я едва не поддался на провокацию, предав анафеме и забвению все человеческие ценности, накопленные веками. Я чуть было не завербовался на службу зла. Но слава богу, вовремя остановился. Я что-то понял, и значит, у меня есть еще шанс стать человеком. Хватит разлагаться и проводить бессонные ночи за размышлениями. Пора уже действовать и доказать на деле, что я усвоил преподанные мне уроки.
А с кадровиком, что ж, с ним все ясно. Придет новый директор, и я не поленюсь, поднимусь к нему в кабинет и без обиняков все выложу, как на духу. И пусть он решает сам, как ему поступать, свою волю я ему навязывать не стану.
И от этой мысли, такой простой, стало сразу как-то покойней на душе.
1974
ПОВЕСТИ
СТАРЫЙ ДОМ
I
Слух о сносе дома пронесся по квартирам, и всех обитателей словно ветром вымело во двор. На словах дом ломали вот уже лет двадцать, и всякий раз, когда кто-нибудь из жильцов приносил радостную весть, ее обсуждали на все лады. Но обычно слух так и оставался пустой болтовней, и люди, разбередив разговором душу, расходились по квартирам. Поэтому мало кто всерьез воспринял рассказ старой Марьи со второго этажа, прозванной во дворе за умение поговорить Бибикой, которая собственными глазами видела, как возле дома стоял мужчина в шляпе и с бумагами в руках и что-то прикидывал в уме. Марья, конечно, не удержалась, подошла к нему полюбопытствовать, но не успела она и рта раскрыть, как представительный мужчина ошарашил ее:
— Собирайся, бабка, на новую квартиру. Через месяц-другой снесем вашу рухлядь. Вот уже и списки готовы, сверить только осталось, нет ли мертвых душ, и начнем выселять потихонечку.
И мужчина не обманул Марью. Уже со следующей недели после разговора с ней он начал обходить квартиры со списками в руках. Видно, пришла пора и старому дому уйти на покой, да и застоялся он на белом свете. Сказывала восьмидесятилетняя бабка Паша, что смотрит дом на мир своими окнами чуть ли не с екатерининских времен. Может быть, старушка маленько и прихвастнула, за кем не водится грешок, только одному господу богу известно, как умудрился дом ютиться среди двенадцатиэтажных башен, когда и более добротные его собратья давно уже пошли на снос. Чем-то патриархальным и древним веяло от двухэтажного деревянного дома со множеством подпорок и столбов. Дивились люди, как всего в тридцати минутах хода до центра сохранилось этакое…
И можно понять радость жильцов дома, когда в ту или иную квартиру со списком в руках заходил представитель жилищных органов. Его усаживали как самого желанного гостя в передний угол и расспрашивали до изнеможения о новой квартире, интересуясь буквально каждой мелочью: в каком районе находится дом, есть ли магазин рядом, сколько в квартире комнат и на каком этаже, что лучше — балкон или лоджия, и правда ли, будто горячая вода течет из крана целый день и в любую минуту можно помыть посуду, не разогревая воду на плите. Кое-кто, памятуя народную мудрость: сухая ложка — рот дерет, пробовал угощать представителя, но мужчина, а его звали Михаил Петрович, не разменивался на мелочи и от угощения отказывался, а чтобы не обидеть хлебосольных жильцов, обещал наведаться еще разок, и выходил из квартиры, покачивая от удивления головой.
А изумиться постороннему человеку у нас в доме есть чему. Взять, к примеру, сестер из пятой квартиры, соседей Марьи-Бибики. Одно слово, что живут люди, но разве можно назвать жизнью их существование? На двенадцати метрах ютятся три старые женщины, младшей из которых шестьдесят пять лет, средней — семьдесят, а возраст старшей никто в доме точно и определить не может, она вот уже в течение многих лет не выходит во двор. Втроем живут они на одну пенсию, которую получает младшая из сестер, Анфиса Власьевна. Средняя же и старшая из сестер не получают от государства ни копейки и пробавлялись до последнего времени подсобным промыслом, клеили цветы в артели инвалидов, но совершенно неожиданно остались без приработка, не поладив с кем-то из посредников, не отчислили нужную долю, вот их и лишили заказа, и теперь у них остался лишь один не учтенный вид подсобного промысла: ходят по утрам по помойкам и собирают всякую рухлядь, а собрав, несут домой, где тщательно сортируют товар и лишь только затем, раз в неделю, сдают в утильсырье. За месяц у них на этой «работе» набегает еще рублей тридцать — сорок, итого вместе с пенсией получается рублей девяносто, в зависимости от ценности собранного сырья. Зато в комнате у них черт ногу сломит от всевозможного хлама, а уж о воздухе и говорить не приходится, просто не продохнуть, и посторонний человек больше получаса выдержать не сможет, а они ничего, привыкли. Если к этому еще прибавить, что сестры, все трое, большие любительницы всякой божьей твари и у них в комнате всегда находят приют приблудные кошки со всего переулка, то легко можно представить обстановку в их жилище.
И нет в доме более занятых людей, чем они. Точнее, даже не все сестры, а одна, младшая, Анфиса Власьевна. Посмотреть на нее, в чем душа только держится, а день-деньской на ногах. Встает затемно, и зима ли, лето, чуть свет ее можно уже видеть на мостовой, облепленную голубями. Покормив сизарей, начинает возиться в подъезде, моет лестницу, убирает мусор, так что дворнику на нашем участке фактически делать нечего. Сколько раз ей соседи выговаривали: оформись как положено, деньги будешь получать за свою работу, все лучше, чем по помойкам копаться. Но она и слушать никого не желает, махнет лишь рукой и продолжает убирать на общественных началах. И ее оставили в покое: что, мол, с больной взять, но Анфиса Власьевна во всем остальном вполне здравомыслящая женщина и во дворе явно поторопились зачислить ее в разряд ненормальных. Скорее, жизнь такая чудная, а не Анфиса Власьевна. Хозяйство она ведет аккуратно и умудряется на мизерную пенсию прокормить трех человек, хотя с первого взгляда странности и здесь есть. Всему дому известно, что питаются старушки одними котлетами и никогда не готовят первое. Каждый день Анфиса Власьевна покупает по двадцать штук котлет на всю семью, включая сюда и домашнюю живность. Был период, когда в нашем магазине с котлетами наступил перебой, так старушки чуть с ума не сошли от расстройства, и Анфисе Власьевне приходилось колесить по Москве, чтобы найти семейное кушанье. Но затем с котлетами все наладилось, и жизнь потекла своим чередом, а если разобраться по существу, то и с котлетами ничего странного нет. Достаточно только произвести простой расчет, чтобы убедиться в этом: рубль двадцать уходит на основную еду да копеек восемьдесят на хлеб и картошку, вот и получается два рубля на день, а больше им тратить никак нельзя, бюджет не позволяет. И не случайно, по дворовой классификации, сестры — самые бедные люди в доме, у них в комнате нет ни одной новой вещи, ходят они из года в год в одной и той же одежде, и главное, нет У них никаких шансов на улучшение своего бедственного положения. Одним словом, как метко выразилась Лизка из третьей квартиры, доморощенный дворовый социолог: сестры — самая что ни на есть бесперспективная семья.
Сама Лизка — тоже очень колоритная фигура, но если следовать ее классификации, то за сестрами, по бедности, идет целая группа пенсионеров-одиночек, живущих исключительно на одну пенсию. Размер государственного пособия колеблется от тридцати рублей до шестидесяти, большую пенсию у нас в доме никто не получает. На, третьем месте идем мы с матерью, и дальше Лизка расставила в своем табеле о рангах всех жильцов дома в зависимости от получаемого дохода на одну живую душу. Себя Лизка причислила к разряду имущих, но это явная неправда, хотя место на верху социальной лестницы и льстит ее самолюбию. Во дворе все знают, в люди Лизка выбилась совсем недавно, и в свое время больше ее никто не ходил по соседям и не обивал пороги с просьбой одолжить до пенсии пятерочку. И хотя в доме почтительно стали величать ее Лизаветой Петровной, а не Лизкой, за глаза соседи не завидуют ее благополучию, справедливо полагая, что оно очень зыбко, и, выходит, забурела Лизка рановато.
Перемена к лучшему в ее жизни произошла по чистой случайности. И вот уж где верна пословица: не было бы счастья, да несчастье помогло. Страдала Лизка до недавнего времени неизлечимым недугом, любила выпить, и частенько в дни пенсии, да и по праздникам и выходным, ее видели у магазина, где она, как заправский алкоголик, сбрасывалась на троих с мужиками, но не пила из горла тут же у прилавка, а, отмерив свою долю в посудину, которую всегда носила с собой, уходила домой, где и предавалась в гордом одиночестве тлетворному воздействию алкоголя, а доведя себя до нужной кондиции, выходила во двор и начинала выступать перед собравшимися на лавочке бабами, резала им в глаза правду-матку. Перечить ей в такие моменты никто не решался, уж больно остра Лизка на язычок, в пьяном состоянии любого переговорит, да не просто переговорит, а еще и перелопатит как следует, так что легче попасть под трамвай, чем под Лизкин язычок. Но зазря Лизавета Петровна никого не обижала, такого греха за ней не водится, хотя и надоела она всем своими разговорами, а уж о том, как она свое счастье собственными руками выковала, об этом Лизка во дворе проела всем печенки. Как ей самой только не надоест повторять одно и то же.
С общежитейской точки зрения ничего особенного-то не произошло, а она увидела в этом чуть ли не божественное предзнаменование. Насчет божественности Лизка, конечно, загнула. Со стороны все выглядит более чем обыденно. Лизка в очередной раз гадала на троих, и то ли ей надоело ошиваться у магазина, то ли хотелось поскорее выпить, а может, и вправду, приглянулся мужчина, но только она не стала ждать третьего и пригласила случайного знакомого к себе домой, где и покорила его окончательно жареной картошкой и капусткой собственного соления. Не последнюю роль, наверное, сыграла и разговорчивость хозяйки. Пить молча Лизка не умеет, а каждую стопку пересыпает ажурной речью.
Петя, так звали нового знакомого, зачастил после этого случая к Лизке, а вскоре и совсем поселился у вдовы, и зажила Лизавета Петровна безбедно на удивление всего дома. Занимать деньги перестала совсем, а в трудную минуту могла даже и выручить кое-кого лишней пятеркой. Теперь к ее пенсии прибавилась пенсия Петра Васильевича, да плюс еще его зарплата, вот у них и набегало в месяц около двухсот рублей. Троить у магазина Лизка перестала, но пить не бросила, перешла лишь на домашний способ, покупала сразу по бутылке белой (красное вино Лизка не признавала, организм травить им, да и только) и дома, в спокойной обстановке, распивали вместе с Петюнчиком, как ласково она стала называть своего сожителя. В доме все терялись в догадках, как столь видный мужик присох к Лизке, мог бы найти бабу и помоложе. Все оказалось проще пареной репы. Лизка же, по пьянке, и проговорилась:
— Я ему, что ль, нужна, комната моя… Выгнали его из дома собственные дети, вот ему и некуда податься, а слоняться по знакомым да родственникам надоело… Не мальчик, чай… Сами знаете, как хочется на старости иметь собственный угол… А мне что, не жалко, пусть живет… Мужик он добрый…
Правду ли говорила Лизка, врала ли честному народу, только Петр Васильевич выказывал ей на людях верность, хотя и были, наверное, у него всякие соблазны. Оно ведь и Лизка не дура, не давала ему особенно разгуляться, чуть что, за рукав да домой тащит, а первое время почти каждый день ездила встречать его с работы, потом он и сам привык к порядку и стал возвращаться домой один, и разговоры о том, что он уйдет от Лизки, постепенно заглохли в доме. Последние же события и совсем сняли с повестки дня Лизкин вопрос. Петр Васильевич настолько освоился и стал своим человеком в доме, что по пьянке как-то приревновал Лизку и бегал за ней по квартире с ножом. Справедливости ради стоит отметить, эпизода этого никто из соседей не видел, Лизка ведь и соврет, недорого возьмет, но она на лавочке так искренне клялась бабам: «Истинный бог, бегал с ножом», — и даже показывала якобы порезанную руку, что на лавочке в конце концов поверили ей.
Заговорили же о Лизке снова во дворе в связи со сносом дома. Возьмет она с собой в новую квартиру Петра Васильевича или нет? Ведь живет-то она с ним без расписки, и выходит, что он самый что ни на есть бесправный человек. Будь ее воля, Лизка, может быть, давно уже и прописала Петю к себе в комнату, да только не от одной нее это зависит. «Кровный» возражает, вот в чем загвоздка! Мучилась она с ним всю жизнь, видно, и на старости лет не даст он ей пожить в свое удовольствие. Но дети есть дети, хороший ли он, плохой, а для матери все одно, какой ни есть, а сын. Так и у Лизки. Как бы вольготно и покойно ей ни было с Петей, а кровного из сердца не выбросишь и из квартиры не выпишешь. И хотя кровному уже под сорок и у него своих трое детей, для матери он все еще остается Шуриком. В свое время Лизка одних только передач в тюрьму перетаскала Шурику несметное количество, а уж сколько нервов и трудов ей стоило добиться прописать его в Москве после отбытия наказания, словами передать невозможно. Не один день обивала пороги в паспортном столе, надоела всем начальникам, прописала все же, но жить с матерью Шурик не стал, а устроился в строительно-дорожный отряд и мотается по Подмосковью вот уже сколько лет. На работе сошелся с женщиной, лет на пять старше его и с ребенком, свои двое мальчишек появились затем, но брак с ней не оформил и до сих пор. Живут по вагончикам, не хуже бродячих цыган, не имеют ни кола ни двора. Вот Лизавета Петровна и лелеет тайную мечту получить двухкомнатную квартиру и зажить наконец-то по-человечески вместе с сыном и внуками.
Ан нет! Как быть с Петром Васильевичем? Два медведя в одной берлоге не уживутся. И загорюнилась Лизка, а известно, чем русский человек заливает печаль. И получается, что кому в радость новая квартира, а кому и в горе. Есть, конечно, выход и у Лизки, и на лавочке обсудили эту возможность со всеми юридическими тонкостями. Зачем зря ломать голову, нужно взять да и получить комнату отдельно от сына, тогда и Петю можно прописать безо всяких помех. Однако Лизка и слушать не желает о таком варианте. Жить снова с соседями? Да лучше умереть, и ее можно понять. Всю жизнь она толклась на кухне бок о бок с жильцами в коммунальной квартире, и на старости лет ей страсть как хочется пожить отдельно, своей семьей, тем более что и во сне и наяву она уже видит себя владелицей изолированной двухкомнатной квартиры, пусть даже и малогабаритной. Во дворе резонно ей возражают: на двоих, мол, вам никто не даст отдельную квартиру, но у Лизки есть своя задумка: когда дело подойдет к выдаче ордера, она соберет всех детей кровного и вместе с ними завалится в кабинет начальника, а пока, до поры до времени, бережет свой секрет в тайне. Представителю жилищных органов придется изрядно повозиться с Лизкой, прежде чем она переедет на новую квартиру.
С другими жильцами дома ему будет легче поладить. Семейных у нас мало, в основном, одиночки, к тому же старые люди, и многие из них вряд ли согласятся поехать в районы новостроек, а с удовольствием возьмут комнаты за выездом, лишь бы остаться где-нибудь поближе от прежнего места жительства. В старости не так-то просто менять свои привычки и насиженные места. К разряду одиночек в доме относится добрая половина. Но одиночка одиночке тоже рознь. У нас есть одинокие мужчины и женщины, они в свою очередь подразделяются на молодых и старых, и по Лизкиной классификации вся эта социальная прослойка резко распадается на «богатых» и «бедных». Последних, к сожалению, большинство.
Взять все ту же Марью-Бибику. Вот уж кто на том свете будет в раю, если он только существует. Зато всю жизнь прожила в аду кромешном. Драчливый попался ей супруг, чуть что — по морде, и никакой на него управы не было. Трезвый, бывало, мухи не обидит, но стоит напиться — и не узнать человека, откуда только прыть берется. От побоев Марья не просыхала и лишь то и делала, что спасалась по соседям от его могучих кулаков. На людях Николай Иванович боялся выказывать свою дурь, зато дома давал волю пьяному угару. Через него, можно сказать, раньше времени Марья инвалидом сделалась, отшиб, паразит, все внутренности, и через него же едва не осталась без куска хлеба на старости лет. Смолоду не пускал ее на работу, ревновал без причины, доходило до того, что запирал по целым дням на замок, как заключенной оставлял лишь пищу да воду, а потом уже не смогла работать по болезни. Вот и получилось: подошел срок выйти на пенсию, а у нее не хватило стажа, но слава богу, сам вовремя преставился, государство и назначило ей часть его пенсии, как иждивенке. И хотя сумма не ахти какая большая, тридцать рублей, с голоду не помрешь, но при спокойной обстановке жить и на эти деньги можно. После смерти мужа Марья только и вздохнула свободно, а здесь еще привалила новость с квартирой, ну как тут не радоваться, вот она и разливается соловьем среди женщин на лавочке.
Под стать ей и Катерина из восьмой квартиры, с той лишь разницей, что никогда замуж не выходила, да так и осталась бобылкой. Пока была молодой и работала на производстве, как-то не ощущала одиночества, а вышла на пенсию — и чуть ли не изнывает от полученной свободы, прямо-таки не знает, куда себя девать. Ну сходит с утра с бабами на рынок, обегут несколько магазинов, купят где что подешевле, куриные ли потроха, либо еще на какой дефицит нападут, управится дома с хозяйством — и нечего делать. Единственное спасение — дворовая лавочка, где не так остро ощущается одиночество и за разговорами можно вдоволь отвести душу.
И одиноких женщин, как Марья-Бибика, Катерина, в доме добрая половина. Война сделала их вдовами. Не вернулся муж с фронта у Грани, у Шурки-парикмахерши, у Бауки, Васены, да разве всех перечислишь… И хотя разница в пенсиях у них плюс-минус пятерка, все же одиночка одиночке рознь. Если Баука, Клавка, Шурка-парикмахерша, не говоря уже о Васене, ведут вполне приличную и пристойную в их возрасте жизнь, растягивая свои несчастные сорок — пятьдесят рублей на целый месяц, и даже умудряются из столь мизерной суммы отложить что-то на похороны, то Граня уже через неделю после получения пенсии ходит по квартирам с протянутой рукой, выпрашивая у соседей в долг трешницу, всякий раз придумывая очередную историю, связанную с исчезновением пенсии. Чаще всего ее обкрадывают самым невероятным образом, и соседи по дому поражаются неистощимой выдумке, с какой она рассказывает о приключившейся с ней беде, но, выслушав, денег не дают, а молча выпроваживают Граню за дверь. Дураки сейчас перевелись, кто же даст в долг без отдачи, да у нас в доме зимой снега не выпросишь, не то что денег взаймы.
А ведь во дворе есть и люди состоятельные, со средствами, для которых трешник — не деньги, а так, бумажка простая. За примером далеко ходить не надо, стоит лишь подняться на второй этаж в девятую квартиру, к Васене. До недавних пор она жила, как большинство в доме, от получки до получки, а вернее, от пенсии и до пенсии. Но лет пять назад ее сыну крупно подфартило, послали на целый год за границу, да не куда-нибудь, а в Америку. Уехал нищим, а вернулся «миллионером». Из-за океана привез машину, сразу же с женой купили двухкомнатную кооперативную квартиру, и тряпок запас впрок, и на себя, и на жену, и даже бабке Васене отказали кое-что, и она теперь по двору шастает в заграничной шубейке. Но давно известно, чем богаче люди, тем они жаднее. На той же лестничной площадке живет восьмидесятилетняя Курганиха, самая что ни на есть настоящая миллионерша. Во дворе о ее капиталах слагают легенды, но толком до последнего времени так никто и не знал, сколько же у нее денег. Свои сбережения Курганиха государственным учреждениям не доверяла, а хранила деньги дома, то ли из опасения, что ее обвинят в нетрудовых доходах, то ли еще по какой причине, но только об истинном размере ее богатства во дворе узнали совсем недавно, когда она завела на свое имя сразу три сберегательные книжки. И до этого ходили слухи о ее баснословном состоянии, но слухи так бы и остались слухами, да помог случай.
Курганиха всю жизнь прожила одна, работала до самой пенсии в торговле и дружбы особой во дворе ни с кем не вела. Здравствуйте и до свидания, вот и все ее общение с народом. Даже перейдя на пенсию и имея уйму свободного времени, во дворе почти не показывалась, а как сурок с утра до ночи торчала в своей комнатушке. «Деньги стерегет, не иначе»… — съязвила однажды на лавочке Лизка, и она была недалека от истины.
К себе в комнату Курганиха никого без особой нужды не допускала, даже соседей по квартире. Во дворе считали, что родственников у нее нет, ибо за долгие годы проживания в доме ни разу не видели, чтобы к ней кто-либо приходил в гости, и все та же Лизка, под хмельком, сокрушенно качала головой: «Деньги с собой в могилу не унесешь… Пропадают ни за грош…» И вдруг в прошлом году объявился какой-то двоюродный племянничек и зачастил к Курганихе. Во дворе с любопытством наблюдали за его посещениями, и соседи по квартире даже слышали через стенку, как он просил у старухи деньги, а Курганиха клятвенно божилась, что денег у нее нет. Вот тогда-то и произошел тот случай, о котором и по сей день вспоминают на лавочке.
В одно из посещений племянничек вновь завел разговор о деньгах, и когда тетка, даже не дослушав его, показала рукой на дверь, то он пустил в ход силу и едва не задушил Курганиху. На крик прибежали соседи и оттащили от старушки обезумевшего молодого человека, и в тот же день Курганиха обнародовала свой капитал, собрав все наличные деньги, отнесла их в сберегательную кассу, но опять же, из предосторожности, положила деньги не на одну книжку, а открыла три по десять тысяч рублей в новом исчислении. И сразу как-то успокоилась и даже стала появляться на лавочке среди женщин. Однако отношения к деньгам не изменила и все так же тряслась над каждой копейкой. И Граню скорее накормит или даст в долг Марья-Бибика от своей тридцатки, чем Курганиха оторвет трешницу от своих тысяч.
Вот Граня и ходит по двору, причем ходит не одна, а вместе с Барсюткой. Трудно даже специально подобрать еще одну такую пару: Граня, маленькая, худенькая, в чем только душа держится, вечно в одной и той же одежде, и зимой и летом на ней можно видеть куртку, слинявшую от времени, болтающееся из-под куртки платье, на голове латаный-перелатаный платок, и Барсютка, старый кот, прибившийся к ней с давних пор, без хвоста, на трех лапах, четвертую, как и хвост, он потерял в драках с дворовыми псами, со слипшейся на спине шерстью и со слезящимися глазами. Барсютка неизменно сопровождает хозяйку во время похода по квартирам и даже в магазин. Многие во дворе, глядя на Граню, качают головой: «Самой жрать нечего, а она кошку мучает, сдала бы на живодерню, и дело с концом…» И даже попробовали помочь, взяли и без ее ведома занесли кота в другой район, так Граня буквально не находила себе места дома и ходила по двору и по переулку целую неделю, выкликая имя своего верного друга: «Барсютка, Барсютка, Барсютка…» И от ее голоса, особенно в ночное время, становилось так тоскливо и жутко, что впору хоть вешайся, и люди не выдержали, принесли Барсютку обратно во двор. Сколько радости было, когда они встретились, и не передать: Граня прослезилась, взяла кота на руки и, прижавшись лицом к его морде, долго не могла оторваться от него. Барсютка же разволновался еще больше и, не совладав с собой, на радостях обделал хозяйку. И теперь, когда говорят, чтобы она избавилась от Барсютки, Граня и слушать не хочет, как она не слушала и увещевание баб, корящих ее за водку. Если же ее очень уж допекут, то она не выдержит и ответит:
— Э… милые, я же на свои пью, а не на чужие… — И, помолчав немного, прослезится и добавит: — Верните моего Степана — и не токмо пить брошу, а и есть перестану…
И отвернутся присмиревшие бабы, словно кто виноват в том, что ее Степан не пришел с войны, как не вернулись и их мужья. Они, конечно, могли бы возразить Гране: «Мы-то вот не пьем, а смирились с горем и живем себе потихонечку без мужиков», но только эти их слова для нее слабое утешение. Любила, говорят, она своего Степана сильно, вот и не справилась с горем, как другие. Одни нашли утешение в религии и зачастили в церковь, других нужда так придавила, что и не вздохнуть, Граня же решила залить горе вином, а раз пристрастилась к рюмке, то, считай, пропал человек, более сильные натуры не могут справиться с этим недугом, а уж о женщине и говорить не приходится. Вот Граня и мается, терпеливо и безропотно неся свой тяжелый крест.
Из других обитателей пожилого возраста, из женщин, в доме интерес представляет, пожалуй, лишь Мэри Моисеевна — общественница, или, как еще называют во дворе за глаза, «каждой бочке затычка». Мэри Моисеевне — за семьдесят, но она еще очень живая, подвижная старушенция, да и пенсию получает вполне приличную — шестьдесят семь рублей. Живет вроде одна, но во дворе уже сбились со счета, сколько у нее перебывало племянниц. Что ни год, то новая, и только совсем недавно открылась правда: оказывается, никакие это были не племянницы, а Мэри Моисеевна пускала к себе на квартиру студенток и от жилищного промысла имела небольшой, но постоянный приработок. Во дворе ее никто не осуждал за это, каждый живет как может, да и побаивались с ней связываться, как-никак, а общественница. Последние десять лет Мэри Моисеевна неизменный член домового комитета, хотя никто не видел, как проходили выборы, пять лет подряд она избиралась в товарищеский суд, а однажды она попала по ошибке даже в народные заседатели. С тех пор ее авторитет во дворе, да что там во дворе, во всем переулке, резко скакнул вверх. И до этого без нее не обходился ни один скандал, ни одна семейная размолвка, не говоря уже о судебных делах, а тут, чуть что, обиженные сразу же бегут к Мэри Моисеевне, особенно женщины, и она, ночь ли, полночь, встает и идет вместе с человеком, обратившимся к ней за помощью, разбирать семейный конфликт ли, а то и утихомиривать хулиганов и драчунов.
И странное дело, казалось бы, ну что там, пришла какая-то старуха, толкни ее пальцем — и она упадет, ан нет, у нас во дворе самые что ни на есть заядлые драчуны и пьяницы при появлении Мэри Моисеевны стараются привести себя в надлежащий вид, а с некоторых мужичков при ней дурь сметает, словно ветром. Одним словом, Мэри Моисеевна незаменимый человек на общественном поприще и служит людям не за страх, а за совесть.
А вот мужчин пожилого возраста у нас в доме совсем нет. Многие не вернулись с войны, а из тех, кто пришел с фронта домой, ни один не дожил до новой квартиры, причем трое померли не своей смертью.
Дядя Мотя Кулик из пятой квартиры удавился с перепоя на чердаке.
Посудачили-посудачили женщины, истово перекрестились и промеж себя решили так: хотя и нехорошею смертью помер человек, но уж лучше смерть, чем так мучиться, как мучился Матвей Иванович.
С фронта вернулся весь искалеченный, три ранения и контузия давали себя знать, от головной боли не было никакого спасения, совсем измучился. Только и забывался немного в пьяном виде, но водка ведь плохой лекарь, она одно лечит, а другое разрушает.
Заливал Матвей Иванович свою боль, а близким причинял гораздо большее горе. Последнее время совсем сбесился мужик, никакой управы на него не было, даже Мэри Моисеевну перестал бояться. Начисто извелась с ним жена, перетаскал из дома все вещи, остались в комнате одни голые стены. Но это бы еще ничего, вещи дело наживное, дурной пример сыну показал, и тот с ранних лет пристрастился к стакану. Наталья Петровна с ног сбилась, не зная что делать и за кем смотреть: то ли за сыном, то ли за мужем. Хорошо, умные люди посоветовали, обратилась она к военкому, Володьку и забрали в армию. Думала, служба образумит его немного и парень встанет на ноги, а он вернулся и принялся за старое.
Недолго пережил Кулика и дядя Ваня из десятой. В свое время пил не меньше Кулика, вместе лечились от алкоголизма, жену и детей измучил до чертиков. Но ни увещевания родных, ни лечение — ничто не помогало, и так бы, наверное, Иван Петрович и закончил жизнь алкоголиком, да помог случай. Сам «завязал» и последние пять лет в рот не брал, даже по праздникам.
На первый взгляд, ничего особенного вроде не произошло, занялся человек голубями, да так увлекся, что все свободное время посвящал любимым птицам. Но голуби сделали Ивана Петровича человеком, из-за них же, можно сказать, и смерть принял.
Видно, правда, от судьбы никуда не денешься.
И уж совсем нехорошо кончил муж Марьи-Бибики. Дядя Коля при жизни удивлял весь двор, удивил еще раз жильцов дома и своей смертью. Николай Иванович, или по-уличному «золотарь», не верил ни в бога, ни в черта и чудил при жизни напропалую. Золотарем его прозвали в молодости, за работу на специальной машине, и хотя золота он не накопил и стяжателем никогда не был, а вся его карьера на этом поприще закончилась плачевно, кличка так и осталась за ним до последних дней. Многие в переулке не знали даже его настоящего имени, и когда им рассказывали забавно-трагическую историю, приключившуюся с дядей Колей в молодости, то мало кто оставался равнодушным к рассказу и не хватался за живот, от смеха.
А произошло с ним вот что: полюбил он в молодости девушку, и она вроде бы отвечала ему взаимностью. Ходила с ним в кино, целовалась в подъезде, а через месяц он ей чин по чину сделал предложение, и они решили сыграть свадьбу на удивление всему переулку. И удивили! Перед распиской невеста узнала от кого-то из его дружков, что жених работает «золотарем», и из загса убежала. С этим коварством он еще бы смирился, но глупая девка при всем честном народе оскорбила его:
— Не хочу, — говорит, — жить с человеком, от которого всю жизнь вонять будет…
Бросился Николай на обидчицу с кулаками, но его удержали. Однако злобу он на суженую затаил великую, а вскоре ему представился удобный случай отомстить обидчице. Донесли ему дружки, что его бывшая невеста выходит замуж, и указали точный адрес, где она собирается играть свадьбу. Не долго думая, подогнал он к этому дому в назначенный день и час свою машину, наполненную до краев общественным «золотом», вставил в окно трубу и все содержимое из машины добросовестно перекачал на праздничный стол. Перед этой операцией не забыл припереть дверь с обратной стороны увесистым колом, так что ни один из гостей не вышел на улицу. Очевидцы рассказывали, что в комнате творилось что-то невообразимое. Люди прыгали на стулья, лезли на шкаф, но и там их настигала мощная струя мутной жидкости. До поздней ночи потом у колонки с водой толпились гости, отмываясь от непредвиденного свадебного подарка.
Даром Николаю его шалость не прошла, и судили его за хулиганство. От адвоката он отказался, но защищался на суде умно. Цитировал классиков, особенно те места, где у них сказано, что всякий труд почетен. Искренность Николая размягчила суровые судейские сердца, и ему определили только два года лишения свободы, что по тем временам было вполне сносным наказанием. Но из зала суда он уходил под конвоем в хорошем настроении, и на то у него были все основания. Нарушенная справедливость восторжествовала, от его бывшей суженой в тот же вечер сбежал законный супруг, не перенесший такого позора. На Севере, куда попал Николай, начальство лагеря долго смеялось, читая его приговор, а присмотревшись к новому заключенному, поняло, что никакой он не преступник, а свалял дурака, и на первом же году расконвоировали его. Но освободиться от насмешливого к себе отношения он так и не смог.
Умирать Николай Иванович совсем не собирался, крепкий был старик, и почудил бы еще на своем веку, не приключись с ним оказия с тормозной жидкостью. Чего он только не пил: и политуру, и «огонек», и одеколоны разных сортов, все переваривал его могучий организм, а вот тормозную жидкость не выдержал. Причем, как рассказывали очевидцы, на них страшно было смотреть, уж очень они корчились от боли. Не приведи господь принять такие муки. Только и успели довезти до больницы, промыть желудок, а спасти от смерти уже не привелось. Так и умерли в больнице. Дядя Коля не один пил, подбил его на эту затею с тормозной жидкостью молодой парень из соседнего дома, законченный алкаш в свои двадцать три года. Где Леха раздобыл эту гадость, неизвестно, но раз жидкость есть, значит, нужно выпить, так уж испокон ведется у русского человека. И выпили! Вместе развлеклись, вместе и померли.
Марья-Бибика сначала вроде обрадовалась: «Слава тебе богу, отмучилась, прибрал господь кровопивца к себе», а потом вдруг ни с того ни с сего затосковала по мужу, во сне часто стала его видеть, и все его чудачества предстали теперь совсем в ином свете.
— Не к добру это, Машенька, — сразу же определила бабка Анюта из седьмой квартиры, — зовет тебя Иваныч к себе, видно, тяжко ему приходится на том свете.
— Типун тебе на язык, старая, я еще в новой квартире поживу в свое удовольствие, а уж потом и помереть не грех…
Можно понять Марью-Бибику, всю жизнь прожившую в гнилушке, безо всяких удобств, когда она замахала рукой на Анюту, заговорившую о смерти. Но в нашем доме двое умерли прямо со смотровой в руках, так и не переступив порог новой квартиры, и эти двое, Малай и Вадим, представители среднего поколения. Уж как они враждовали при жизни, до драки дело доходило не раз, а смерть успокоила их обоих. Кажется, что им было делить, жили бы себе тихо-мирно, в дружбе и согласии, как полагается жить добрым соседям, ан нет, смотреть друг на друга не могли и чуть что — пускали в ход кулаки.
Вадим помоложе, поздоровее, к тому же боксом занимался когда-то, так что синяки да шишки доставались в основном Малаю. Но и татарин в долгу не оставался, терпеливый мужик, дожидался своего часа и отыгрывался на Вадиме сполна за все полученные побои, а момент такой наступал всякий раз, как Вадим напивался и еле держался на ногах, вот тут-то Малай и брал свое, сам он спиртного не употреблял, и это, пожалуй, единственное его достоинство, во всем остальном — Малай слова доброго не стоит. Его даже во дворе не особенно любили, темный он какой-то был человек, да и делишками всякими неблаговидными промышлял, путался со спекулянтами разными и свою комнатушку превратил в склад дефицитных вещей, а квартиру — в проходной двор, вечно к нему кто-нибудь приходит или уходит от него, и когда он работал на производстве, никто в доме толком не знал. Участковый проверял его, но придраться ни к чему не смог, а вскоре не только оставил его в покое, но и стал закадычным дружком Малая. Но нелегальная деятельность татарина лишь штрих в его биографии. Будь только это, в доме бы поговорили, поговорили и перестали, в конце концов каждый живет, как может, но Малай восстановил против себя всех обитателей дома, особенно женщин, другим своим неблаговидным поступком: бросил жену с двумя детьми и спутался с Веркой-горбатой из соседнего дома, такою же спекулянткой, как и он сам. И хотя о покойниках плохо не говорят, без Малая в повествовании обойтись никак нельзя, картина получится не полная.
Жил Малай со своей женой без росписи целых двенадцать лет, у татар это, говорят, принято, прижила Галина от него двоих детей, девочку и мальчика, дети были вылитый отец, признавал их Малай за своих, а потом взял да и распустил слух, что дети не от него, и сразу же, не долго думая, прогнал жену и детей из своей комнаты. Другая бы на месте Галины подняла хай, привлекла общественность на свою сторону, а за нее бы весь дом подписался, и Малая бы, как миленького, заставили оставить жену с детьми в покое, а уж об алиментах и говорить не приходится, содрали бы как с липки определенную сумму из зарплаты, на содержание двоих детей. Галина же решила выказать гордость, тихо-мирно собрала вещички и вместе с детьми ушла жить к матери. Удивить, конечно, никого не удивила, а себе жизнь осложнила, не так-то просто одной на зарплату уборщицы прокормить двоих детей, даже если и работаешь по совместительству еще в одном месте. Но Малая за жену и детей бог наказал. В холостяках походил недолго, всего с год, не больше, и недуг скрутил его буквально в бараний рог. Высох весь Малай, пожелтел, рак легких определили врачи, и ходил он последнее время по двору сам не свой, и никакая новая квартира ему не в радость.
Зато Вадим, сосед Малая по старой квартире, ждал сноса дома, как великого праздника, хотя, если разобраться, то уж кому-кому, а ему-то все равно где пить, в новом ли доме, в старом ли, все едино. Из-за этого у Вадима и не заладилась семейная жизнь. Собой он мужик видный, даже красивый, можно сказать, а вот жена с ним жить не стала, разошлась. Но разойтись-то разошлась, а податься с детьми некуда, она и осталась жить в той же комнате, где и жила раньше. Вадим денег на еду не дает, а с работы приходит, жрать лезет из той же кастрюли, что и до развода. Когда трезвый, его еще можно урезонить, а пьяному лучше и не говори ничего, у него один ответ — кулак в морду, и весь сказ. Жена уж его учила уму-разуму, и на пятнадцать суток сажала не раз, все нипочем, а на большее не решается, сама третья, о детях думать приходится. Хоть и не ахти какую огромную сумму получает от него на двоих детей, а все же алименты приходят регулярно, а в тюрьму посадят за хулиганство — и этих денег лишиться можно, вот она и терпела от него издевательства.
Вадим, видя такое попустительство с ее стороны, совсем обнаглел, приревновал бывшую жену к Малаю. Он и раньше, будучи в законном браке, по пьяной лавочке не раз и не два разукрашивал Ленку ни за что ни про что, а тут снова воспылал любовью к бывшей жене. Кто знает, было у нее с Малаем что-нибудь или нет, во дворе болтали, будто слаба Ленка на передок, но за ноги их, во всяком случае, никто не держал, только Вадим все одно пригрозил убить их обоих. И неизвестно еще, как бы развернулись события в дальнейшем, не случись во дворе две смерти, одна за другой.
Сначала богу душу отдал Малай, а за ним следом ушел из жизни и Вадим. Собрался Малай к Верке-горбатой, не успел выйти из дома и сделать несколько шагов, как споткнулся и упал прямо на мостовой. Его подобрали незнакомые люди, вызвали «скорую помощь» и увезли в больницу. Верка сразу поленилась пойти в больницу, а когда через неделю наведалась, то было уже поздно, оказалось, что Малая уже похоронили на казенный счет, так как из родственников за ним никто не явился. Верка накричала на врачей, ибо узнала от сторожа морга, что кто-то выбил у Малая все зубы, а зубы у него были не простые, а золотые. Золотую челюсть Малай вставил себе за несколько месяцев до смерти и ходил по двору, поблескивая желтыми зубами, и многие во дворе не одобряли эту его прихоть, справедливо полагая, что было бы больше пользы, если бы он деньги, потраченные на вставные золотые зубы, отдал своим детям. Но верно говорится в пословице: нажито махом — и ушло прахом. Погоревала, погоревала Верка, что золото досталось не ей, а чужим людям, и уехала из больницы с пустыми руками.
А буквально через неделю плохо кончил и Вадим. То ли он справлял поминки по усопшему недругу, то ли у него просто был очередной загул, только, по-видимому, ввязался он в драку, его избили до полусмерти и скинули в Москву-реку. Проходивший мимо постовой милиционер заметил торчавшего из воды человека, вытащил Вадима, но до больницы довезти его не успели. Так в дороге и умер Вадим от полученных побоев.
Из других мужчин среднего возраста в нашем доме стоит упомянуть о Хохле, Володе-баянисте и конечно же о Волокуше. Всем им под сорок, но объединяет их не только возраст, но схожесть судеб. И у одного, и у другого, и у третьего личная жизнь сложилась неудачно, все они не живут с семьями, а перебиваются в одиночку, каждый по себе, а хорошо известны все прелести холостяцкого быта, полуголодного, полухолодного, и вечная нехватка денег, да и как их будет хватать, если из ста двадцати рублей еще и алименты платить надо, вот они и перебиваются с грехом пополам от получки и до получки. И не только они, у нас в доме живут одни разведенные, и в этом отношении наш дом самый настоящий клоповник. Хохол, Волокуша и Володя-баянист — типичные представители данной социальной среды.
Правда, наряду с общим они и разнятся чем-то между собой. Волокуша — законченный алкаш и тунеядец, хохол же и Володя-баянист — трудяги и спиртным не балуются, разве что по советским праздникам. И если с Волокушей относительно все ясно, жена ушла от него по причине частых выпивок, да к тому же он лодырь великий, не работает по целым месяцам, хоть мужик и здоровый и его дешевле похоронить, чем прокормить, то случай с Хохлом и Володей-баянистом сложней и в привычную схему не укладывается.
Многие женщины во дворе полагают, что Хохлу не повезло просто-напросто. Взял он в жены Нинку-хохлушку, отсюда и его прозвище, красивую и ладную бабу, но взял не одну и не девкой, а, как говорят в народе, с хвостом, со взрослой дочерью. Хвост-то, по общему мнению всего двора, и помешал Анатолию жить нормальной семейной жизнью. Не сложились у него отношения с тринадцатилетней девочкой, дочерью Нинки-хохлушки от первого брака, и как он ни старался найти с Ленкой общий язык, у него так ничего и не получилось. А сначала вроде бы все шло нормально: молодожены обзавелись новой мебелью, мать Анатолия подарила им спальный гарнитур, и во дворе нашлись даже злопыхатели, что позавидовали Нинке: «Такого парня отхватила!» Не пьет, не курит и как крот все в дом да в дом несет. Но семейное благополучие Анатолия длилось недолго, всего каких-то два года. Пока Лена была еще девочкой, с горем пополам ладила с приемным отцом, но стоило ей приблизиться к совершеннолетию — и пошло и поехало, скандал за скандалом. Слишком рано девчонка женихаться стала, мальчики в голове появились, а об учебе и слышать не желает. Анатолий ее уму-разуму наставляет, а она его чуть ли не матом посылает куда подальше. Здесь бы и вмешаться матери, поддержать мужа и призвать к порядку распоясавшуюся недоросль, а Нинка-хохлушка не придумала ничего лучше, как взяла сторону дочери, и Анатолию в конце концов не осталось ничего другого, как уйти из семьи. Все та же Лизка очень точно выразила общее мнение дома:
— Обобрали парня, как липку, и выгнали… Пожалеет еще Нинка, да поздно будет…
Пожалела, в шестнадцать лет принесла ей Ленка в подоле ребеночка, вот они теперь и маются на одну зарплату. Пробовала Нинка призвать обратно Анатолия, так он и слушать ее не захотел, и смотровую взял отдельно от них.
Отдельно поехал в новую квартиру и Володя-баянист. Его случай особенно трудный, и во дворе так и не поняли, что же у них произошло с Танькой-мормышкой. Когда он незаметно появился в нашем доме, то все порадовались за Таньку. Еще бы! И собой хоть куда, мужиков-пьяниц сторонится, по двору пройдет — мухи не обидит, и за все время проживания никто от него слова дурного не слышал, а в выходные дни рюкзак за плечи — и до понедельника закатывается на рыбалку. В будни же, придя с работы и отдохнув немного, брал в руки баян — и по двору плыла задушевно-грустная мелодия, и так, стервец, играл, что женщины на лавочке переставали даже разговаривать и молча слушали, как он выводит ту или иную песню. И нет ничего удивительного, что своим поведением Владимир как-то сразу завоевал сердца всех обитателей дома. Люди радовались вместе с ним, когда у них с Танькой наконец-то появился ребенок, первые два года Танька никак не могла разрешиться, и у нее были выкидыши. Володя сначала возил дочь по двору в коляске, а потом стал гулять с ней за ручку. И вдруг семейное счастье рухнуло, Володя-баянист разошелся с Танькой и перестал появляться во дворе вместе с дочерью. Не играл он больше и на баяне…
Во дворе ломали голову, доискиваясь до истинной причины развода, но так и не смогли прийти к единому мнению. Большинство женщин во всем обвинили Таньку и, осудив ее самым страшным судом, больше уже к вопросу о Володе-баянисте в своих разговорах не возвращались. Так разве иногда, когда речь заходила о современной молодежи, нет-нет, а кто-нибудь и помянет недобрым словом Таньку: вот, мол, все они такие, жить не хотят по-людски, да и не умеют.
Молодежь в нашем доме действительно неблагополучная какая-то. На пять браков — пять разводов. Особенно творится что-то неладное с женским полом. Работать не хотят, детей воспитывать тоже, нарожали и бросили на произвол судьбы. И никакой ответственности, знай пьют себе да котуют с мужиками. Причем не особенно привередливы, переспят со всяким, кто к ним придет с бутылкой и закуской. Отсюда и результат: у Соньки из девятой квартиры трое детей и все от разных мужиков. Спроси ее, кто отец того или иного ребенка, и она не скажет, затруднится. Да что там отца не знает, она детей-то своих не узнает, покажи их ей сейчас. Двоих сразу же сдала в детский дом, а третьего, Мишку, не видит по целой неделе. Шестилетний мальчишка с утра до вечера гоняет во дворе, и если мать Соньки, тетя Нюша, гнет спину на двух работах, чтобы прокормить лодыря-дочь и внука, не придет и не возьмет Мишку к себе, то мальчишка так и будет болтаться во дворе беспризорником до самой ночи. Сонька Золотая Ручка даже и не пошевелится, чтобы присмотреть за сыном, и будет гудеть до тех пор, пока не просохнет, благо ей повезло с соседями. Бабка Васена глухая совершенно, с вечера спать завалится и хоть из пушки пали, до утра не проснется. А Соньке это только на руку, она и гужуется со своей компанией. Пробовала заняться ею общественность, да Сонька обвела старушек вокруг пальца. Всплакнула на заседании домового комитета, пообещала устроиться на работу и заплатить за год за квартиру, ее и пожалели, как же, ведь она мать-одиночка, а того понять не могут, что она прикрывается детьми, как ширмой, и стоило ей только выйти на улицу после заседания общественности, она о них и думать-то забыла.
Зато на ее подружке, Лидке из десятой квартиры, отыгрались. Тут уж как кому повезет. Лишили ее материнства, и за хулиганство на шесть месяцев посадили в тюрьму, и во дворе все гадают теперь, успеет Лидка отбыть срок до сноса дома и вместе со всеми уехать в новый дом, или ей не повезет и она лишится жилья в Москве. С Лидкой возились, пожалуй, не меньше, а больше, чем с Сонькой. И воспитывали ее, и жалели, и наказывали для острастки штрафом, ничего не помогало, девка словно сбесилась, распустила вожжи и продолжала медленно скользить вниз.
А ведь поначалу жизнь у нее складывалась вполне нормально: вышла замуж, родила девочку, муж не ахти чтобы и пил, по праздникам да с получки, одним словом, был не хуже других. Ан нет, захотелось девке испытать острых ощущений, задурила и начала потихонечку погуливать от мужа. Дом старый, маленький, и во дворе все друг про друга знают, скрыть что-либо практически невозможно, тем более такие вещи. Дошел слух про ее шалости и до мужа. Проучил он ее как следует, целую неделю ходила на работу с синяками. Синяки сошли с лица, но Лидка не остепенилась, вошла во вкус разгульной жизни. Муж посмотрел-посмотрел на ее фокусы, кому грязь охота собирать, вещички в охапку — и уехал к матери. Вот с этого момента Лидка и махнула на себя рукой, загуляла уже без оглядки. Ребенка сдала на пятидневку в детский сад, работать стала от случая к случаю и чуть ли не каждый день устраивала в комнате пьянки.
Часто можно было видеть такую картину: дом отошел ко сну, слышно, как за окнами неодобрительно и глухо шуршит голыми ветками тополь. И вдруг ночную тишину разрывает истошный крик: а-а-а… мать-перемать, детский плач, пьяное несвязное бормотанье, и снова все затихает. Хлопают двери квартир, любопытные выглядывают в окна, но делается это больше по привычке, ибо всему дому, да что там дому, всему переулку известно имя нарушителя спокойствия. Это развлекается Лидия Николаевна. Часто после ее выступлений жильцы дома шли утром на работу с больной головой, невыспавшиеся и злые, а о непосредственных соседях Лидки и вовсе говорить не приходится, им от нее нет никакого житья. Лидка же, проспавшись, шла к продовольственному магазину, где, словно заправский алкаш, гадала на троих, и прямо тут же, у прилавка, из горла, лакала свою долю. А выпив и доведя себя до нужной кондиции, любила Лидия Николаевна всплакнуть и рассказать первому встречному о своей разнесчастной судьбе, кляня при этом на чем свет стоит своего бывшего супруга и особенно его мужские достоинства, что он и не мужчина вовсе, а импотент самый настоящий и что не гулять от такого мужа грешно, это нужно быть холоднокровной рыбиной, которая спокойно может обойтись и без мужика. И всю вину за свое падение взвалила на плечи супруга.
Пробовали с Лидкой решить по-хорошему, беседовали с ней кому только не лень, но она ухмылялась пьяными глазами и продолжала гнуть свою линию. Участковый на неделе разговаривал с ней по нескольку раз, и все впустую. Вот тогда-то за Лидку взялась всерьез Мэри Моисеевна и обратилась в отдел народного образования. Инспектор роно обследовала на месте, как Лидка исполняет свои материнские обязанности, опросила воспитателей детского сада, и после их убийственных показаний поставила вопрос перед народным судом о лишении ее родительских прав и о передаче сына на воспитание отцу.
На суд пришел весь дом, благо судили Лидку тут же, в красном уголке. Все заседание суда Лидка проплакала, растирая лицо грязной рукой, била на жалость, и соседи пожалели ее, смягчили гнев на милость, изменили свои показания в ее сторону. Но воспитатели детского сада резали ей в глаза всю правду-матку:
— Миша в моей группе два года. Дома с ним не занимаются. Чувствуется, что ребенок испорчен семейной обстановкой: он проявляет нездоровый интерес к девочкам, занимается онанизмом, мать часто приходит за мальчиком в нетрезвом виде, а то и вообще не приходит, и воспитатели вынуждены брать ребенка к себе.
Не лучше показания и другой воспитательницы:
— Лидия Николаевна несколько раз приходила за сыном с сомнительной компанией мужчин. Брала Мишу, и все вместе шли в винный отдел, а потом в сквер распивать вино…
Но показания свидетелей еще бы ничего, не будь в деле акта участкового, начисто сразившего суд. В акте черным по белому значилось, что родная мать напоила своего шестилетнего сына, и его вынуждены были обследовать врачи-специалисты на предмет опьянения. А произошло это самым обычным образом: у Лидки собрались дружки-собутыльники и, напившись сами, забавы ради решили напоить и мальчишку и посмотреть, что он будет делать в пьяном состоянии. Так в деле о лишении материнства появился данный эпизод.
После таких показаний суд конечно же вынес решение о лишении Лидки материнства, и она, придя домой после заседания, с горя напилась, а заодно избила соседку, якобы за то, что та дала плохие показания в суде. А это уже дело уголовное, и Лидку в этот же вечер увезли сначала в вытрезвитель, а оттуда в тюрьму. Вот во дворе теперь и гадают: успеет Лидка выйти вовремя на свободу или не успеет.
Разговоры о сносе дома заслонили собой все дворовые новости. В нашей квартире тоже с утра до вечера только и слышно о новоселье. Мать с соседкой долго дулись друг на друга, а тут сразу помирились. Соседи наши, люди в доме известные, этакая «святая» семейка, и мы от них изрядно хлебнули горя. Но мать моя — удивительный все же человек! Сколько соседи причинили ей неприятностей, а она ни капельки не держит на них зла. И на жизнь не ропщет, а уж как она, эта самая жизнь, ее била! По Лизкиной классификации мы с матерью входим в группу нищих, хуже нас живут сестры да Марья-Бибика. Граня с Барсюткой — и те обошли нас. У нее в месяц на одну получается почти пятьдесят рублей, а у нас на двоих семьдесят пять, тридцать рублей — пенсия матери и сорок пять — моя стипендия. И хотя бедность вроде не порок, мать не любит причислять себя к низшей социальной категории и всегда спорит с Лизкой, когда та ставит нас в разряд неимущих. И как ни близка мне мать, все же приходится признавать правоту Лизки, против фактов особенно не попрешь, они ведь упрямая вещь, как любил говаривать один небезызвестный человек.
Может быть, кто-нибудь и испытал больше невзгод, чем моя мать, но я сомневаюсь в этом. До войны мать не видела света белого, а уж во время войны и в послевоенные годы хлебнула горюшка вдосталь. Одна осталась с четырьмя детьми на руках, один другого меньше. Как она нас вытянула и мы не померли с голоду, у меня и сейчас не укладывается в голове. На тридцать рублей, а по-тогдашнему на триста, умудрялась кормить, одевать такую ораву! Да еще ужасные жилищные условия. Наша семья ютилась в восьмиметровой комнатушке, в глубочайшем подвале, и из нашей комнаты мы видели лишь ноги прохожих. Зимой углы в комнате промерзали настолько, что образовывалась наледь — и хоть катайся на коньках. Даже крысы и те не выдерживали холода и на зиму перебирались в соседние дома. Но это все бы еще ничего, жить можно, если бы восьмиметровку занимала одна наша семья из пяти человек. Однако кроме нас в комнатушке проживало еще два человека, мужчина и женщина, причем не муж и жена, а совершенно чужие друг другу люди. Вот и получается, что на восьми метрах размещалось семь человек, три кровати, стол, скамейка и два стула. От стола до двери можно было пробраться только боком по узенькому проходцу между двумя кроватями. И не дай бог зацепить за подзор, тетя Маня-Синица так схватит за ухо, что чуть ли голова не отрывается от шеи. А уж о подзатыльниках дяди Гриши-Сыча и говорить не приходится, они воспринимались нами как само собой разумеющееся. Я и сейчас еще чувствую их на себе. Бил дядя Гриша за дело и просто для профилактики, приговаривая при этом: «Эх, вы, безотцовщина», и трудно было понять по его голосу, жалел ли он нас, или вкладывал в свои слова какой-то иной смысл, понятный только ему одному.
Такое положение сложилось еще в тридцатых годах. До войны в нашей комнатушке жили трое холостых мужчин: дядя Гриша, дядя Ваня и наш отец. Во дворе у нас размещался конный парк, и все трое они работали ломовыми извозчиками, почти в одно время все трое переженились и обзавелись семьями. Началась война, дядя Гриша успел своих детей и жену отправить в деревню, а мы и тетя Маруся застряли в Москве. Тетя Маруся устроилась в продовольственный магазин уборщицей и четыре года войны кое-как перебивалась, а у нашей матери на руках четверо осталось, мал мала меньше, от года до восьми лет, вот она и обмывала, и обстирывала весь переулок, чтобы прокормить нас. Здесь уж не до жилищных условий, спали на одной кровати четверо: мать с сестренкой и из ноги в ноги мы с младшим братишкой, а старший брат ютился на кухне под плитой, ему больше всех и доставалось. Квартира многонаселенная, соседи вставали на работу рано утром, часов в пять, он тоже просыпался и перебирался к нам на кровать на место матери.
Мать мы не видели по целой неделе: ложились спать — она еще не приходила с работы, просыпались утром — ее уже не было дома. О военных годах много говорить не стоит, всем трудно жилось. Несладко было и нам. Питались в основном «гречкой» — так мать называла картофельные очистки, которые собирала по дворам, и затем, промыв их в нескольких водах, жарила без масла и подавала на стол. Внешне они очень походили на пережаренную гречневую кашу, но, зачерпнув ложку такой каши и засунув ее в рот, очень трудно ее проглотить даже голодному человеку. Кусок хлеба в доме был самым настоящим лакомством. Я и сейчас помню до мельчайших подробностей ритуал деления хлеба на равные дольки. Вся семья собиралась вокруг стола и, разложив четвертушки, кто-нибудь один отворачивался к стене, а мать, указав пальцем на хлеб, спрашивала: «Чья?», — и отгадчик отвечал: «Витькина», — и младший братишка брал свою долю. Борьба шла за крошечную горбушку, обладание которой было большой удачей.
В весенние и летние месяцы наш рацион пополнялся растительной пищей: крапивой и изредка щавелем. Напротив нашего дома находилась детская Морозовская больница, и на отгороженной территории росла крапива. И хотя вход в больницу был запрещен посторонним лицам, вся детвора округи тайком проникала за ограду и рвала, обжигая руки, крапиву. Даже пустые щи из зелени после «гречки» казались такой вкуснятиной, что мы готовы были проглотить ложки. Карточки на масло, селедку мать меняла на картошку, но этот товарообмен мало помогал нам. Мы в буквальном смысле слова пухли от голода. Материнской зарплаты, тридцати рублей, едва хватало на полмесяца, а потом начинались хождения по мукам, о которых и вспоминать не хочется. Но война есть война, и здесь роптать особенно не на кого.
Из трех мужчин нашей комнаты вернулся только один дядя Гриша, наш отец погиб под Смоленском в сорок втором году, а дядя Ваня пропал без вести, так что с окончанием войны у нас мало что изменилось — военные голодные годы сменились послевоенными, столь же голодными и холодными. Я помню, как мы едва не теряли сознание от одного запаха варева дяди Гриши, когда он садился за стол есть. Его знаменитая кастрюля и по сей день стоит у меня перед глазами. Мы с сестренкой делаем уроки, а пьяный дядя Гриша прямо на наши тетради ставит свою кастрюлю, а мы как зачарованные смотрим ему в рот и вдыхаем в себя пахучий воздух. Сейчас бы любого человека от одного вида кастрюли дяди Гриши стошнило, а нам тогда казалось, что нет ничего вкуснее его варева, а другим словом то, что ел дядя Гриша, и не назовешь. Он в одной кастрюле готовил сразу и первое и второе, и поэтому закладывал в нее и мясо с душком, и селедку, и картошку с капустой, и все это сдабривал какой-нибудь крупой, ставил на огонь. Полученное месиво сосед извлекал ложкой прямо из кастрюли, поглощая все содержимое огромной посудины за один присест. И хотя дядя Гриша никогда не угощал нас своим обедом, мы всякий раз с надеждой взирали на него, когда он устраивался со своей кастрюлей за столом, и не теряли эту надежду до тех пор, пока не слышали скрежет железной ложки о дно кастрюли. Да что там про него говорить, он даже ни разу не предложил нам облизать свою посудину.
Повезло нам крупно лишь в пятидесятом году, причем повезло сразу дважды: мать устроилась работать уборщицей в детский сад, и мы наконец-то решили проблему голода. Нет, зарплата у матери не прибавилась, а осталась все та же тридцатка, зато появился побочный источник существования. Зная о нашем бедственном положении, матери разрешали собирать куски со столов после завтрака, обеда и ужина, и когда в первый раз мать принесла домой целую сумку хлебных объедков, то мы не поверили своим глазам и все ходили вокруг да около, боясь притрагиваться к хлебу. С этого времени с едой у нас в доме наладилось. Правда, за эти куски матери приходилось отрабатывать. Она мыла полы и обстирывала не только заведующую детским садом, повара, кладовщицу, но и воспитательниц групп. Все, кому не лень, кололи ей глаза кусками, и чтобы избавиться от попреков, мать после работы брала с собой кого-нибудь из нас, чаще всего меня или младшего братишку, и шла на поденщину. Я хорошо запомнил это «хождение по людям», запомнил усталые материнские глаза, сгорбленную фигуру с тряпкой в руках в чужой квартире, и то чувство несправедливости, которое заполнило всю детскую душу да так и осталось по сей день.
Вторая радость была не меньше первой: нам, как семье погибшего, дали «новую» комнату. Мы уже к тому времени выросли и не умещались на одной кровати: мне было тринадцать, сестре пятнадцать, младшему братишке десять, а старший брат вообще был уже совсем взрослый человек, ему исполнилось семнадцать лет, и он работал на заводе токарем. Летом мы еще как-то выходили из положения: мать с сестрой спали на кровати, а мы, трое мальчишек, ночевали в сарае вместе с голубями, зимой же нам приходилось туго, но мы все-таки умудрялись как-то размещаться на одной кровати. И вот радость так радость! Нам дали ордер на комнату, да еще какую, целых двадцать метров, самый что ни на есть настоящий дворец по тем временам. И когда мы в первый раз вошли в комнату, то смотрели так же, как на сумку с кусками хлеба, принесенную матерью из детского сада. О такой комнате можно было только мечтать, и поэтому никто не обратил внимания на то, что дом старый, деревянный, безо всяких удобств, с печным отоплением. Главное — комната, и не в подвале, а на втором этаже, комната, полная света и солнца, и в ней можно кататься по полу, а не лежать, скрючившись, на одной кровати.
Так мы попали в дом, где прожили затем целых четверть века, и вот теперь дом сносят, и нам наконец-то дают уже по-настоящему новую квартиру, не комнату, а отдельную двухкомнатную квартиру. Тогда мы быстро прижились в доме, даже не почувствовали переезд на новое место, да и дома находились в одном районе. К тому же мы переехали из одного старого дома в другой, такой же старый и дряхлый, почти с такими же обитателями, и не случайно Лизка, увидев, как мы въезжали во двор на лошади, запряженной в телегу, с одной железной кроватью и двумя табуретками да облезлой скамейкой, коротко прокомментировала это событие:
— В доме-то думали, богатеи какие приедут, а прибыла голь перекатная, как и мы…
И зачислили нас в разряд неимущих, откуда мы так и не выбились в люди… Выбиться в люди! Эта заветная мечта моей матери так и остается мечтой. Сбывается самое невероятное, человек проник в космос, а здесь сущая ерунда, скромнее и не придумаешь, а вот поди же — никак не осуществляется. Я бы даже ее желание и мечтой-то не назвал, но мать действительно грезит о том дне, когда она наконец не будет считать копейки от получки и до получки, не будет ломать себе голову, сколько нужно потратить в день, рубль или два, и конечно же ей хочется, чтобы у нас, как у многих людей, была новая тахта, а не развалюха диван, чтобы в комнате стоял гардероб, настоящий, полированный, а не сколоченный из фанеры десять лет назад дворовым плотником «гроб», занимающий добрую половину комнаты, сервант, пусть даже без посуды и без хрусталя, но с зеркалом и стеклянными полочками. И холодильник! Вот уж действительно, холодильник, единственная вещь, которую мать видит даже во сне. Самый, самый захудалый, но только бы с морозилкой! Особенно разговорами о холодильнике она донимает меня летом, когда у нее портятся все продукты. Зимой она еще как-то обходится без него, используя окно как холодильник, а вот летом, летом от одного ее взгляда мне становится не по себе.
В пятидесятом году мы совсем было встали на ноги, старший брат работал на заводе токарем, в стахановцы вышел, начал приносить в дом приличную зарплату, но судьба если бьет кого, то одних и тех же, и без роздыха, пока не сломит окончательно. Новое горе свалилось на материнские плечи: в пятьдесят второму году утонул старший брат. Пришлось в пятнадцать лет пойти работать на завод мне, а на мальчишескую зарплату не очень-то разбежишься. Нам было не до жиру, мать все время болела, сестра получала крохотную стипендию, и мы еле-еле сводили концы с концами. Только вроде вздохнули немного, сестра кончила институт, а она возьми да выйди сразу замуж и укатила с благоверным в другой город, а там пошли дети, своя семья, свои заботы, и матери, если и пришлет на праздник десятку, и то спасибо. Младший брат тоже рано обзавелся семьей, и не то чтобы нам помогать, а с матери норовит тянуть копейку. А тут еще я отчубучил номер похлеще сестры и брата — вздумал учиться на дневном отделении института, вот мать все и не может купить холодильник и мало-мальски обзавестись приличной обстановкой. Ее пенсии и моей скромной стипендии с трудом хватает только на харчи да на одежонку.
Но сейчас все забыто. Сносят наш старый дом, и мы вот-вот тронемся на новую квартиру. Я хорошо понимаю радость матери. Она с утра до вечера рассказывает мне дворовые новости: кто какую квартиру получил, кто с кем поедет подселенцем, какую мебель повезут в новую квартиру сестры и что купила Лизка.
Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. От составления списков до смотровых и тем более до ордера — дистанция немалая. Впервые Марья-Бибика увидела представителя жилищных органов еще весной, но прошло лето, а в новую квартиру пока никто не переехал, хотя люди давно уже сидят на чемоданах, как перед дальней дорогой. Дошло до курьезов даже. Некоторые слишком поторопились и упаковали все вещи, и за кастрюлей, чтобы сварить обед, ходят к соседям. В жизни всегда так: смешное и трагическое уживается рядышком. Одни торопятся с переездом, а вот Граня с Барсюткой уезжать не только не спешит, но и громогласно заявила на весь двор, что из своей комнаты никуда не поедет, а останется умирать вместе со старым домом. Малай и Вадим вообще опередили Граню, умерли, так и не дожив до новой квартиры, хотя расставаться с жизнью вроде и не собирались. Но судьба по-своему распорядилась, точно так же, как по-своему обошлась с Лидкой и Волокушей. Оба они еще раз удивили двор.
Лидка образумилась в колонии и, хорошо потрудившись, вышла на свободу раньше срока, как раз, когда начали распределять смотровые. Ее в свое время не выписали с жилой площади, так что она вместе со всеми поедет в новую квартиру. Но удивила она народ не своим возвращением, а другим: пить перестала и сразу же вышла замуж. Нашла где-то вдовца, лет на тридцать старше себя, быстренько расписалась с ним и теперь рассчитывает получить отдельную квартиру на двоих. Старик попался богатый, одел Лидку с ног до головы, как королеву, и Лидка выхвалялась перед бабами на лавочке, показывая нижнее шелковое белье заграничной выделки, чем окончательно сразила слушателей. Даже Лизка и та прикусила язычок и сразу не нашлась что ответить. За нее высказалась Марья-Бибика:
— Повезло девке! Надо было ей хлебнуть тюремной баланды, чтобы остепениться…
Повезло и Волокуше. Нашел себе такую дуру, которая и кормит, и поит, и одевает его. Сам Волокуша все еще не работает, живет в свое удовольствие, а в новой квартире и подавно разлюли-малина будет. Жена, а он расписался с ней чин по чину, по целой неделе не бывает дома, работа у нее такая, разъезжает проводником на поездах дальнего следования. Он без нее тоже «работает» — пьет без просыпу и проедает деньги, оставленные ему на харчи. Зато через неделю жена приезжает домой, образует его, обстирает, и семь дней он ходит на человека похожий. А потом все начинается сначала, как в сказке про белого бычка.
И все же великий день переезда на новую квартиру настал, к ноябрьским праздникам люди тронулись с насиженного места. Запевалами стали одиночки. Почти все наши старушки далеко от дома не уехали, а остались в своем же районе. Представитель уважил их просьбу, как-никак, а пожилым людям трудно расставаться с местом, где прожита почти вся жизнь, вот он им и предоставил комнаты за выездом. Есть такая формулировка при переселении, и как говорится, и им хорошо, и государству выгода, сэкономлена новая жилая площадь.
Из семейных первыми снялись сестры. Как только получили ордер, буквально же на другой день погрузили на машину весь свой хлам и уехали в Новый дом. Техник-смотритель не хотел даже их вселять, когда они прикатили с ордером в руках на новое место. В доме, оказывается, еще не было ни света, ни газа, ни теплой воды. Сдать-то дом строители сдали, а вот к приему жильцов он был еще не готов. Но старушки все же уговорили техника-смотрителя, и женщина выдала им ключи от двухкомнатной квартиры. А через день уже весь старый дом был у них в гостях и рассматривал, как они устроились на новом месте. Дело в том, что весь наш старый дом, со всеми потрохами, уместился в одном подъезде девятиэтажного гиганта-красавца в Орехово-Борисове. Почти все жители нашего дома получили ордера именно в этом доме, только на разных этажах.
И поехали люди! Лиха беда начало. Вслед за сестрами укатили наши буржуи. Эти побоялись, как бы у них не отобрали обратно ордер. Уж больно неравноценно распределялась жилая площадь. Одни получили двухкомнатные квартиры на троих, другие — трехкомнатные на двоих, вот и пойми, где дали законно, а где положили на лапу и обошли закон за деньги. А некоторые наши одиночки уж как просили представителя, ну просто христом-богом молили его, чтобы он предоставил им отдельные однокомнатные квартиры, пусть даже малогабаритные, только бы отдельно, надоело же людям колупаться с соседями. Ан нет, всех одиночек поселили с подселенцами, и получилась трагикомическая картина: извечные враги, Клавка и Баука, которые во дворе не разговаривали по году, а если и заговаривали вдруг, то послушать их беседу сбегался весь дом, так вот, эти два человека поехали в новый дом в одну квартиру.
Мы с матерью не спешим расставаться со старым домом. Ждем, когда в новом доме включат и газ, и горячую воду, и свет. Со стороны наш двор выглядит пустынным и осиротелым. Лишь изредка прозвучит голос Грани: «Барсютка, Барсютка» — и снова все затихает. Граня с котом — единственные обитатели дома, кроме нас. Формально Гране уже дали комнату за выездом, и она даже перевезла туда все свои вещички, живет же она, по существу, все еще в старом доме. Спит прямо на полу, под себя подстилает газеты и другой разный хлам, который натаскала из свободных квартир, накрывается половичком. За последнее время она здорово сдала и все реже и реже поднимается с пола. Мать несколько раз заходила к ней, хотела вызвать ей врача, но Граня замахала на мать рукой и лишь попросила присмотреть за Барсюткой, если с ней что-либо стрясется. Наведался к Гране и участковый, пригрозил сдать ее в инвалидный дом, но Граня, обычно трепетавшая перед представителями власти, даже никак не отреагировала на его угрозы. И, потоптавшись, потоптавшись у порога, участковый так и ушел ни с чем.
Мы уезжали на новую квартиру в дождливый день. Старый дом одиноко и тоскливо провожал нас с матерью. По двору бродили исхудалые кошки, брошенные хозяевами на произвол судьбы, и жалобно мяукали, то ли от голода, то ли от тоски по своим хозяевам. Мать хотела попрощаться с Граней, но дверь ее квартиры оказалась запертой изнутри, и на стук никто не отозвался. Мать истово перекрестилась, поклонилась дому, как живому человеку, по доброму христианскому обычаю, в пояс, и машина медленно выехала со двора.
И случилось маленькое чудо: мне показалось, что дом тоже кивнул нам на прощание своей крышей. Я даже посмотрел на мать, чтобы на ней проверить свое ощущение, но она молча сидела на старом диване и мысли ее витали где-то далеко-далеко. А когда я еще раз оглянулся, чтобы в последний раз увидеть наш старый дом, другие дома со своими Марьями, Лизками, Волокушами и Лидками скрыли его от моих глаз, и стоит он среди них унылый и печальный, ожидая, когда его снесут. И таких домов в нашем городе еще много, а по матушке-России и не счесть.
II
Дома, как и люди, стареют, умирают и даже рождаются заново. Наш новый дом в этом смысле совсем еще младенец, ему от роду нет и года. Он появился на свет на месте одноэтажных деревянных построек в деревнях Орехово и Борисово. Деревень и след давно простыл, сохранилось лишь одно название, и новый микрорайон так и величается: Орехово-Борисово. Здесь нам теперь и жить всю оставшуюся жизнь. Место, прямо скажем, божественное. Попадаешь сюда из центра города, и такое ощущение, словно прибыл на дачу. Формально так оно и есть, микрорайон расположился за городской чертой, примерно на десятом километре от развилки, по обе стороны от Каширского шоссе. Впереди, насколько хватает глаз, тянутся поля вперемежку с лесом, сразу же за домом, в пяти минутах хода, раскинулся роскошный Царицынский парк, предназначенный некогда для отдыха царицы Екатерины, с полуразрушенным дворцом и прудами. Но вельможная дама почему-то так и не поселилась во дворце, парк был брошен на произвол судьбы, и за прошедшие годы он разросся и стал еще прекраснее. А главное, он ничейный, и его не догадался прибрать к рукам ни один высокопоставленный чиновник, ни то или иное ведомство, не по карману парк с его постройками даже самому богатому расхитителю социалистической собственности, и поэтому любой человек может мысленно считать его своим. А раз парк примыкает к нашему дому, то и преимущественное право владеть им за жильцами нашего дома. Конечно, говорить за весь дом не совсем правильно, это то же самое, что говорить за всю Одессу. Наш новый дом огромен, и всех его обитателей не узнаешь, проживи хоть сто лет. Люди в него съехались со всего города. Наш старый дом разместился в одном подъезде, и Лизка не перестает сокрушаться по этому поводу:
— Надо же, весь дом, со всеми потрохами, и в одном подъезде… Да еще место осталось…
Удивляется не только Лизка, но и все наши. У них раньше и в голове не укладывалось, что такой заметный, шумливый дом, с такими колоритными личностями, здесь как-то сразу потерялся, растворился среди других жильцов. Но я почему-то верю, со временем наши себя и здесь проявят, и молва о них пройдет не только по огромному дому, но и по всему микрорайону. А пока жизнь идет своим чередом, ни валко ни шатко, как встарь.
Мы приехали в новый дом вечером, причем сделали специально. Не хотелось, чтобы досужие жильцы видели, как мы сгружаем свою рухлядь. Мать очень болезненно относится к этому моменту. Но разве от наших что-нибудь утаишь? Не успела машина еще и остановиться, а у подъезда нас уже встречала Лизка, а пока я бегал и искал во дворе кошку, чтобы первой впустить ее в новую квартиру, есть такая примета, у машины столпилась добрая половина жильцов из нашего старого дома. Здесь были и Катя, и Марья-Бибика, и Шурка-парикмахерша, Куличиха, вылезли из своей квартиры даже сестры, что само по себе событие из ряда вон выходящее, ибо сестры очень редко выползают на свет божий все вместе. И когда я с кошкой в руках прибежал к подъезду, наши, убедившись, что мать не обманула их и никакого сюрприза не выкинула, новой мебели не привезла, оставили нас в покое и разошлись по своим делам.
Моя мать — суеверная женщина, и пунктик с кошкой у нее в голове засел давно, чуть ли не с первого нашего переезда в пятидесятом году. Тогда мы так обрадовались «новой» квартире, что нам было не до кошки. И когда буквально сразу же после переселения у нас в семье случилось несчастье — утонул старший брат, мать всю вину взвалила на себя. По ее рассуждениям выходило очень просто — пусти мы в комнату своевременно кошку, и несчастья с братом могло бы не быть. Оказывается, в народе есть поверье, что в новой квартире или доме обязательно кто-нибудь умирает, если не пустить в помещение какое-нибудь животное, и чаще всего таким животным служит кошка. И теперь, чтобы не травмировать психику матери, я уважил ее, притащив, а точнее, украв у кого-то с окна огромного рыжего кота. Животина оказалась очень строптивой и никак не хотела входить в нашу новую квартиру, но все же, в конце концов, мне удалось протащить кота по всем комнатам. И лишь только после столь необычной для меня процедуры в квартиру вошла мать, истово перекрестилась на передний угол и тут же захлопотала по хозяйству.
В первую очередь проверила на кухне кран с горячей водой, действительно ли можно мыть посуду прямо в раковине, не подогревая воду на газу, затем надолго задержалась в ванной комнате, поминутно пробуя, как работает душ и каждый кран в отдельности, в коридоре ее прямо-таки умилили шкафы, вделанные в стену, а уж когда очередь дошла до большой комнаты с балконом, то ее с трудом удалось оторвать от перил балкона и снова завести в квартиру. Понравилась ей и вторая комната. Она облюбовала себе большую, с балконом, а меня с книгами поселила в маленькую, и зажили мы с ней тихо-мирно на новом месте.
Интересно наблюдать за матерью. Первые дни она ходила по квартире с таким ощущением, словно боялась, стоит ей закрыть глаза и все это: и комнаты, и балкон, и кухня, и ванная с горячей и холодной водой, как в сказке, пропадет — и она снова очутится в своем подвале, в восьмиметровой комнатушке, вместе с дядей Гришей и тетей Марусей. Но каждый день она просыпалась в светлой, уютной квартире и постепенно перестала опасаться неприятных превращений, ощутив себя полноправной хозяйкой в доме. Я совершенно не вмешиваюсь в ее дела. Так, иногда беззлобно подшучиваю над старушкой, когда она уж больно расфантазируется. Правда, фантазия ее чересчур земная, и мысли у нее теперь больше об одном и том же: поскорее бы я кончил учебу и пошел работать, и тогда мы наконец-то смогли бы купить и тахту, и шкаф, и новые стулья со столом, не говоря уже о холодильнике с телевизором, а то живем, как кочевники, в пустой квартире. Все соседи люди как люди, покупают новую мебель, любо-дорого взглянуть, а на наши вещи глаза бы не смотрели.
Говоря: соседи, мать имеет в виду не жильцов старого дома, а новых, из других районов города. Новоселы же из соседних подъездов будто сговорились нарочно дразнить мою мать: везут и везут мебельные гарнитуры, столовые и кухонные, словно желая перещеголять друг друга. У наших же никаких изменений в этом плане не произошло, даже новоселье и то почти никто не справлял, как-то по-будничному началась жизнь в новом доме. У подъезда облюбовали лавочку, и как в прежние добрые времена потекли дружеские беседы по вечерам. Конечно, эти посиделки не шли ни в какое сравнение с теми, что устраивались в старом доме. Там на лавочке происходили настоящие баталии, а здесь все шло тихо-мирно, однако нужную информацию я получал от матери, можно сказать, почти из первых рук, в этот же день.
Так, очень скоро выяснилось, что не всем новая квартира принесла радость. Появились и свои неудачники. Клавка с Баукой пожили дружно ровно неделю, а затем сцепились и вот уже месяц не разговаривают друг с другом и не появляются вместе у подъезда. Их ссора никого не удивила, этого и следовало ожидать. Упреждали их многие на старом дворе, советовали разъехаться в разные концы города, ан нет, сунулись в одну квартиру, а давно известно, что два медведя в одной берлоге ужиться не могут. Поэтому на лавочке у подъезда никто всерьез не воспринимает их сетования на превратности жизни.
Гораздо сложней случай с Марьей-Бибикой. Вот уж действительно кому не повезло так не повезло. В старом доме мучилась с соседями пьяницами, и здесь ей подсуропили квартирантку почище. Мало того, что пьет, да еще руки распускает. У нас в старом доме среди мужиков и то таких хулиганов не было, со старухами никто не связывался, а этой все нипочем, не признает ни возраста, ни пола. Приехала в новый дом откуда-то из центра, сведений о себе подробных не сообщает, право что пьяная, а лишнего слова даже в сильной степени опьянения не брякнет. Знают в подъезде, что зовут ее Верка, лет примерно под сорок, работает в магазине продавцом в винном отделе, разведенная. Вот, пожалуй, и вся о ней информация. Правда, заметили за ней один грешок: слаба бабенка на передок, любит мужичков таскать к себе в квартиру. От этого ее порока Марье, конечно, не легче, а много-много трудней. Одну-то Верку Марья бы еще как-то урезонила, а попробуй поговори с пьяными мужиками, которые к тому же меняются почти каждый день, они быстро пристукнут, и ищи-свищи виновного, вот Марья и расстроилась окончательно.
Понять старого человека можно. Приехала в новый дом из ада кромешного, хотела хоть перед смертью пожить по-человечески, отдохнуть от каждодневных скандалов, а вышло наоборот, попала еще в худший переплет. Нет ей в новой квартире никакой жизни. Одно спасение: запрется на ключ в своей комнате и не выходит на кухню, пока Верка гужуется со своими полюбовниками, а поскольку работает она через день, то и приходится Марье иногда сидеть взаперти по целым суткам. Жалко ее по-человечески. Пробовали наши помочь Марье, разговаривали с Веркой, да разве наглого человека проймешь разговорами? Ее можно проучить, только сдав в милицию разок-другой, суток на пятнадцать. А как сдашь, когда свидетелей у Марьи нет, да и милиция находится за версту, пока до нее доберешься, Верка сто раз успеет отрезветь. Микрорайон большой, телефон-автомат один, да и участковый еще не знает как следует своих подопечных, вот Верка и пользуется временной неразберихой. Марья же все надежды уповает на третьего жильца. У них в квартире одна комната пока пустует, вот она и молится богу, чтобы ордер достался порядочному человеку, потому как не приведи господь, если вселят еще одного любителя выпить. Тогда Марье останется одно: заживо ложиться в гроб.
Лизка в новом доме тоже как-то сникла. У нее свои проблемы. Старик задурил, день приедет ночевать, два нет. На старом месте все рядом было, чуть что — и она сама за ним сбегает и приведет домой, а здесь особенно не набегаешься, два часа в один конец, два в другой. Ей бы плюнуть на него, как советуют бабы, а она с ним вожжается, будто с малым дитем, и каждый раз уговаривает, чтобы он вернулся с работы домой. Что ни говори, а привыкла она уже к его деньгам и не хочет снова сесть на одну пенсию и каждый день считать копейки. Но не только в старике дело. Словно сговорившись с Петей, «кровный» взбунтовался и пригрозил матери приехать жить к ней, а он сам пят, жена да трое детей, причем дети, как в том анекдоте, не дети, а самые настоящие чертенята, особенно восьмилетний мальчишка, отчаянный, ну просто никакого спаса с ним нет. Были-то всего три раза у бабки в гостях, а всю квартиру перевернули вверх дном. Все, что можно поломать, сломали. С таким трудом Лизка купила в комиссионном за сорок рублей телевизор и налюбоваться на него не могла, сдувала с аппарата каждую пылинку, а мальчишка взял да отвернул у телевизора все ручки, вот он и стоит теперь в углу без действия. В ванной комнате Юрка повыковыривал плитку, отбил облицовку, испортил кран с горячей водой, а уж что натворил с паркетом в комнате, и говорить не приходится, хоть настилай заново.
Странная получилась штука: кто мало-мальски сносно жил в старом доме, в новом — мается, и наоборот. Сестры, к примеру, страшно довольны переселением. Анфиса Ивановна на новом месте словно расцвела. Первое время и у них шло не все гладко, в магазине не было котлет, и Анфисе Ивановне приходилось ездить за ними в центр, но затем с котлетами наладилось, как наладилось дело и с бродячими кошками. Сначала сестры все убивались, что в новом доме нет бродячих кошек и им некого кормить, кроме своей кошки, привезенной со старого двора. Постепенно, когда дом начал заселяться, кошек развелось столько, что даже Анфиса Ивановна схватилась за голову и теперь только тем и занята, что пристраивает бездомных животных по приличным хозяевам.
Но лучше всех в новом доме устроилась Катя из третьей квартиры. На старом дворе ее и видно-то особенно не было, тихая такая женщина, на лавочке обычно молчала, а если что и скажет, то невпопад, и женщины поднимали ее на смех, и она сразу же умолкала. А здесь ей крупно повезло. Прямо на своей лестничной площадке устроилась на работу, нанялась в няни к богатым людям. Пятьдесят рублей в месяц положили ей деньгами и готовые харчи. Девочке четыре годика, как раз тот возраст, когда особых хлопот ребенок не доставляет. Покормит Катя девочку — и на улицу, погуляют до обеда, поспят — и снова на улицу. К тому же девочка оказалась на редкость спокойной, не то что мальчишка у Куликовых, три года, а растет разбойник разбойником.
Куличиха поселилась над нами, и наша жизнь в новом доме сразу же омрачилась. Мы даже не представляли, что такое соседство может отравить радость новоселья. В старом доме Куликовы жили в другом крыле, так что мы почти не слышали их выступлений. Доходили до нас отдельные слухи, но одно услышать, и совсем другое испытать это на собственной шкуре. На глазах всего старого дома молодая Куличиха, напившись пьяной, выкидывала коленца. И какие! Народ за живот хватался, глядя, как она во дворе схлестывалась с Сонькой, да так, что и водой их не могли разлить. До изнеможения таскали друг друга за волосенки и пока не падали наземь обессиленные, измутузив друг друга так, что родная мать не узнает, не успокаивались.
И весь сыр-бор разгорелся из-за мужика. Повадился Куличихин муж шастать к Соньке, сначала вроде выпивкой дело ограничивалось, а потом и в постель с ней завалился по пьянке. И зачастил. Весь дом об этом знал, и только Куличиха не хотела верить очевидным фактам, пока не вытащила муженька среди бела дня из объятий соперницы, как говорится, совсем еще тепленького. Вот тут-то и произошла схватка великая, вошедшая в историю переулка и старого дома как второе Куликово сражение.
Казалось бы, после столь серьезного инцидента Куличиха должна бы вытурить своего муженька из комнаты и близко не подпускать его к себе. Сначала она вроде так и поступила, выбросила из квартиры на улицу все вещи мужа, но уже через два дня Валерка водворился с вещичками обратно, и по поводу примирения Куличиха закатила грандиозную пьянку, и по всему двору из их квартиры разносилось пьяное пение. И таких самодеятельных сходов и разводов у них в месяц случалось великое множество раз. И все со скандалом, пьянкой, руганью.
Не изменили они традиции и в новом доме. И хотя видимая причина, Сонька, вроде бы отпала, ей дали квартиру в другом конце города, отношения между мужем и женой не наладились, а приняли еще более уродливый характер. Кулик работает таксистом и ночь ночует дома, две нет, где он проводит остальное время, никому в доме не известно, вот у них и не затихают баталии. И все над нашей головой происходит. Мать совсем извелась, бедная, боится теперь и спать ложиться, не успеет задремать, как по потолку у нас в квартире начинают бегать, словно лошади, с топотом, улюлюканьем, матом, а то и того чище — завели моду тарелками бросать друг в друга, и у нас в квартире, как в кино, звон стоит над головой. Вот попробуй и усни тут старый человек.
Но Кулики — это еще куда ни шло, в конце концов их можно призвать к порядку. Больше меня беспокоит другое. Мать часто стала заговаривать о смерти. Нет, мы и раньше с ней беседовали на эту тему, но если в старом доме разговоры носили чисто абстрактный характер: как так получается, человек живет-живет и умирает, то здесь мысли о смерти приобрели конкретное выражение. Мать все чаще и чаще примеряла смерть на себе и разговорами о кончине так растравляла себе душу, что ей становилось жалко самою себя. Она очень ярко представляла, как она умрет и как мы нарядим ее в смертную одежду, которую она приготовила уже давно, и эта одежда: платок, купленный мной в командировке, когда я еще работал, нарядное и просторное платье-халат, чулки, нижнее белье, носовой платочек — все это было аккуратно связано в узелок и лежало в отдельном ящике старого гардероба, так же, как она представляла, что гроб с ее телом будет обязательно стоять в церкви, это непременное условие, мать у меня верующая и не мыслит похорон без церковного обряда, и отслужат обедню, а потом отпевание, и лишь после этого ритуала мы, ее дети, понесем гроб из церкви до могилы. Мать не боялась самой смерти и рассуждала о ней здраво, как многие простые люди. Смущало ее лишь одно: как получается, что человека зарывают в землю, ведь он же там задохнется…
Я, конечно, как мог, отвлекал ее от грустных мыслей и даже высмеивал, но, видно, неспроста она все время возвращалась к этому.
Сначала я связывал ее разговоры о смерти с тоской по старому дому, все-таки кое-кто из ее подруг уехал на другой конец города. Однако через месяц тоска вроде прошла, она обжилась на новом месте и, переделав все дела по дому, по вечерам начала выходить к подъезду, где вместе с другими старушками они организовали нечто вроде импровизированной лавочки на манер старого двора. Домой возвращалась поздно, возбужденная, прежде чем лечь спать, заходила ко мне в комнату и рассказывала последние новости дома: кто приехал из жильцов старого дома, какую мебель привезли, и конечно же все выкладывала про наших. От нее я и узнал про временные затруднения с котлетами у сестер, про Марьино горе с соседкой, а также то, как мается со своим стариком Лизка, делая огромные концы, когда он не приходит домой ночевать. И можно было бы спокойно вздохнуть, все вроде наладилось, если бы не одно но… Нет-нет, а мать и ввернет во время разговора:
— Жаль, пожить в новой квартире не придется… Год, два, не больше…
Я не соглашался с ней, бурно протестовал, но она, ласково посмотрев на меня, шла в свою комнату и долго ворочалась, прежде чем засыпала. Видно, мысли о смерти мешали ей спокойно спать.
Мать умерла в воскресный декабрьский день, прожив в новом доме всего три месяца, умерла как святая — быстро, почти без мучений. Только вот на лице у нее застыла какая-то странная улыбка, нет, не та, про которую обычно говорят: вот, мол, и отмучилась, а скорее всего другая: «Я же говорила, что умру, а ты не верил, и выходит, я тебя не обманывала…»
А я действительно не верил ей до самого конца, даже когда она за неделю до смерти собралась в церковь причаститься. Я не придал ее поездке особого значения. Она и раньше, раз или два раза в году, причащалась. В старом доме мать ездила в церковь часто, не пропуская ни одного мало-мальски значительного религиозного праздника, не говоря уже о престольных, а из Орехово-Борисова особенно не наездишься, и то, что на Николу она собралась с соседками в храм божий, воспринял как обычное дело. Не придал я значения и ее состоянию по возвращении из церкви, такой веселой и довольной я давно ее не видел.
После причастия мать домой сразу не поехала, а обошла магазины и, довольная причастием и покупкой нужных хозяйственных товаров, домой вернулась в хорошем настроении, и за обедом возбужденно рассказала о своей удачной поездке, не забыв мельчайшие подробности и про обедню, и про причастие, и про покупки. Буквально через день после посещения церкви был тревожный сигнал, но я и его пропустил и легкомысленно посмеялся над матерью. Она утром пошла в магазин, так обычно начинался ее день, я с точностью до минуты знал, сколько времени занимает у нее дорога от дома до магазина, а тут, не успела она еще выйти из подъезда, как я услышал ее голос. Мать звала меня на помощь. Я выбежал на улицу. Мать стояла возле парадной двери и держалась одной рукой за стену, боясь пошевелиться. И когда я подошел к ней, она оперлась о мою руку, и мы вместе с ней поднялись в квартиру. Оказывается, у нее «вдруг» отказала одна нога, и она не могла на нее ступить.
Я перепугался не на шутку и хотел даже вызвать врача, но мать отговорила меня и так искренне убеждала, что у нее и раньше уже «вступало в ногу» и тут же проходило, и я поверил ей. И действительно, к обеду ногу отпустило, а вечером она уже снова собралась к подъезду. И как я ни уговаривал ее, чтобы она взяла с собой палку, мать и слушать меня не хотела, а на другой день я уже стал забывать о ее ноге. Меня успокаивало одно: мать не болела и в последнее время вроде не жаловалась конкретно ни на сердце, ни на что иное, а ее сетование на слабость я воспринял как возрастное явление.
И эта веселость! Она-то и сбила меня с толку. За день до смерти, в субботу, мать вдруг почему-то вздумала помыться, хотя обычно устраивала банный день в воскресенье. Я напомнил ей об этом, но она так упрямо настаивала на своем, что я сдался. С первого взгляда может показаться странным, какое отношение я имею к этому делу, ну захотела мать помыться в субботу, пошла в ванную и помылась, и я тут ни при чем. Но это только так кажется. В действительности же я к этому имею самое непосредственное отношение. За три месяца проживания в новой квартире мать так и не привыкла к ванной. Она никак не могла научиться самостоятельно пользоваться душем и при купании обязательно заливала всю ванную и очень переживала за свою неуклюжесть, а с моей помощью у нее все выходило очень аккуратно. Она намыливала голову, а я держал над ее головой душ, на этом моя миссия и заканчивалась.
В последнюю субботу мать осталась особенно довольна баней, во-первых, хорошо помылась и во-вторых, почти совсем не налила на пол. Удивило меня только одно: после мытья она обычно не выходила никогда на улицу, а здесь я ее еле удержал дома, она так и рвалась к подъезду, и никакие разумные доводы, что после ванны нельзя стоять на улице, казалось, не возымели своего действия. Вечером она все же вышла на улицу и отвела душу в разговорах с соседками. Но об этом я уже узнал после ее смерти от посторонних людей.
Меня самого в тот вечер и в день ее смерти дома не было. В субботу, часам к шести, когда мать в который уже раз после бани принималась за чай, ко мне приехала моя девушка, и мы с ней уехали к ней. В этот вечер, провожая нас, мать как-то по-особому просила меня вернуться домой, а я опять не внял ее просьбе и заночевал у своей девушки, благо она живет одна в двухкомнатной квартире, но не в Москве, а за городом. Конечно, я мог еще вернуться домой в воскресенье днем и застал бы мать в живых, но у меня не было никакого дурного предчувствия, что дома творится что-то неладное, и тем более с матерью. Я был в полной уверенности, что она жива и здорова.
Утром, в воскресенье, когда я уже собирался домой, у меня вдруг заболел желудок, да так, что я почти весь день пролежал в лежку. Наталья не пустила: куда, мол, ты, хиляк, с места снимешься, отлежись, а завтра утром я поеду на работу, а ты домой. И я, грешный человек, поддался на уговоры и остался у нее.
Мать больше всего боялась умереть в пустой квартире и поэтому так рвалась на люди. Она и умерла-таки на улице, в ста сорока шагах от подъезда, по дороге в магазин.
По отдельным деталям и рассказам соседей я почти полностью восстановил последние часы жизни матери. Утром, в воскресенье, она проснулась очень рано, как и обычно, часов в шесть. Об этом можно судить по маленькой детали: когда в понедельник я пришел домой, то у меня в комнате на столе лежал «Футбол», а достать эту газету в нашем киоске можно только в одном случае: если пойти за газетой очень рано, потому как на огромный микрорайон поступает всего несколько экземпляров, и к семи часам «Футбола» уже не бывает.
Значит, рано утром мать еще не думала о смерти, а все ее помыслы были чисто житейского характера, и в частности, она думала и обо мне. Затем ее видели соседи часов в девять утра, она ходила в магазин за молоком. Несколько минут мать разговаривала с дворничихой тетей Настей, разговор носил сугубо хозяйственный характер, о мясе. Я очень пристрастно допросил тетю Настю, и она поклялась, что никаких перемен в матери не усмотрела в то утро, разве что отметила все ту же веселость в глазах. После девяти получился небольшой провал, и мать никто не видел в этот промежуток. Просто она не выходила на улицу, а копалась дома, готовила обед, мать все еще надеялась, что я вернусь домой к обеду, и не один, а вместе с Натальей. С двенадцати до двух мать все время была на людях, стояла у подъезда с нашими женщинами. Где-то в этот промежуток тетя Тася ходила в булочную, и мать попросила, чтобы она купила хлеба и нам. Получив от соседки хлеб, мать поднялась домой, перекусила немного и должна была пойти к тете Тасе смотреть телевизор, ибо в это время передавали ее любимые сказки Пушкина. Но не пошла, а вспомнила вдруг, что к трем часам обещал прийти в гости мой брат, и она захотела угостить его пивом, вот почему и засобиралась снова в магазин. Заодно решила позвонить из автомата дочери и внучке, и выходит, до самой смерти ее мысли были о нас…
У подъезда, среди других женщин, стояла тетя Катя, та самая, что устроилась на тепленькое местечко сидеть с ребенком, и мать очень долго уговаривала ее пойти в магазин вместе с ней, но тетя Катя, такая покладистая обычно, заупрямилась почему-то, наверное, ей просто не хотелось прерывать интересную и содержательную беседу, и тогда мать пошла одна, а все женщины остались у подъезда и смотрели ей вслед. Они видели, как она шла по двору, как у нее вдруг подкосились ноги и она осела на снег, видели, как ее поднял какой-то мужчина и попытался вести к дому, но мать уже не могла идти. Проходившая мимо женщина дала ей лекарство от сердца, но оно матери не помогло. Смерть пришла за матерью и не собиралась уступать ее жизни.
Наши женщины подбежали к матери, она еще была жива, но ей трудно было дышать, что-то обручем сдавило ей грудь. И когда женщина снова хотела дать лекарство, мать покачала головой и еле слышно произнесла: «Ничего мне уже не поможет… Я умираю… Умираю я…»
Слово «я умираю» она произнесла три раза. После этого, как рассказывает тетя Тася, подвезли санки, посадили на них мать и повезли к подъезду. Но не довезли, мать умерла прямо на санках. Рядом шла тетя Тася и видела, как мать вздохнула последний раз и испустила дух. Квартира была заперта, меня ведь не было дома, и мать положили на лавочке у подъезда. Конечно, кто-то позвонил в «Скорую помощь», но врачи приехали лишь через сорок минут, констатировали смерть и уехали обратно. В это время домой пришел брат. Он не застал мать в живых какие-то минут пятнадцать — двадцать, но приди он раньше или будь дома я, вряд ли что-нибудь изменилось. Разве что мать умерла бы на руках своих детей. Но это — слабое утешение.
О чем она думала эти сто сорок шагов? А то, что от подъезда до того места, где она почувствовала себя плохо, именно сто сорок шагов, я сосчитал точно. Предчувствовала ли она, что тронулась в свой последний путь, или нет? Эту загадку мне еще предстоит решить. Примерно, по ее действиям, я могу догадаться, о чем она думала, но сказать определенно могла бы только она. Но ее уже нет в живых, она похоронена и зарыта в могилу. Толстый слой земли, чего она так боялась при жизни, надежно и плотно укутал ее ото всех невзгод.
Похороны — вещь хлопотливая и малоприятная для описания. Пожалуй, стоит лишь упомянуть о службе в церкви. Мать еще при жизни не раз просила, чтобы я похоронил ее по православному обычаю, с соблюдением всех церковных обрядов. Я полностью выполнил ее последнее желание. Во вторник, в три часа дня, мы с братом отвезли гроб с телом матери в церковь, где он простоял всю ночь. Монашенка читала у ее изголовья молитвы, а утром, в среду, мы заказали обедню и отпевание, и, впервые присутствуя на религиозном обряде, я понял: желание матери не было вздорным, что-то есть в этом ритуале, что хватает человека за душу.
При жизни мать не раз и не два видела, как в церкви идет служба и отпевают покойников, и наверное, мысленно представляла, как умрет и она и тоже будет лежать в гробу, и эта мысль как-то успокаивала ее. Мать лежала как живая, среди икон и моря свечей, шла служба, все истово крестились, а я, слушая молодого и здорового попа, все время нехорошо думал о боге. «Ну почему, если ты есть, — спрашивал я его, — почему так несправедливо поступил с матерью? В чем она прогрешила перед тобой? Разве мать виновата, что прожила такую ужасную, трудную жизнь? Нет, даже если кто-то и есть, то это очень жестокое и несправедливое существо». Вот такие мысли копошились у меня в голове во время церковного обряда.
А потом были поминки. Все поели, попили немного, помянули покойницу добрым словом и разошлись по домам, оставив меня одного в пустой квартире. Я почувствовал, как липкое и холодное одиночество обволакивает меня со всех сторон. В соседней комнате горит лампадка, на кухне стоит стакан с чаем для матери, а рядом лежит кусок постного сахара. Я помню, когда умер брат, мать целых девять дней клала хлеб и ставила на стол для него воду в чашке. Теперь я делаю то же самое для нее, хотя умом и понимаю, что мать никогда уже не встанет и не придет ко мне. Нужно привыкать жить без нее. Я подхожу к окну. К нашему подъезду подъезжают две машины, груженные домашним скарбом, и вскоре на лестнице началось суетливое движение взад и вперед, громыхание мебелью, бестолковая беготня людей.
Дом принимал новых жильцов.
1968, 1974
ДВА ЧАСА ДО НОВОГО ГОДА
— Адвокат права на глупость не имеет.
Из беседы старого защитника со стажеромА я слишком много натворил глупостей и продолжаю нанизывать их одна на другую, как шашлык. Через два часа Новый год, а я все еще болтаюсь в городе. И самое любопытное, у меня нет никакого желания возвращаться домой. Но и встречать Новый год на улице тоже не ахти какое удовольствие. Оригинально, конечно, но не больше. Можно даже к двенадцати часам подойти на Каменный мост, встать посредине и застыть под призывный бой курантов. Только кто оценит эти фокусы? Сейчас подобными штучками никого не удивишь. Народец пошел ушлый, практичный, ему подавай все лишь с пользой дела, а на человека, совершившего какой-либо поступок просто так, безо всякой материальной выгоды, смотрят как на придурка. В том году я умудрился на новогоднем балу в московском университете, где от девиц нет отбоя, они так и смотрят в рот, чтобы их пригласили на танец, остаться в гордом одиночестве. Еще того хлеще, встретил Новый год, можно сказать, всухую, даже не пригубив бокала с шампанским. Правда, здесь во всем виноват мой приятель. Это была его идея почтить появление Нового года минутой молчания, без глотка вина, подперев спиной могучие колонны родного вуза.
Вот уж действительно, соригинальничали так соригинальничали, лучше и не придумаешь. Кругом шум, веселье, хлопанье пробок, шипение шампанского, а два великовозрастных дядечки, кандидат юридических наук и «поэт», как он меня величает, стоят с постными физиономиями и изображают из себя этаких херувимчиков со скрещенными на груди руками из общества трезвости. Хотелось бы мне на нас посмотреть со стороны! Ничего не скажешь, картина! Помню, у меня было дикое желание выпить вместе со всеми, но я, грешный человек, подчинился Черному, это кличка моего приятеля со студенческих лет, и ослушаться его никак не мог. Он в то время был безнадежно влюблен и чуть ли не собирался из-за неразделенной любви наложить на себя руки, и поэтому перечить ему тогда — все равно что не выполнить последнюю волю умирающего, вот я и согласился с его предложением почтить появление Нового года минутой молчания.
И Черный наколдовал себе счастье! Прошло уже полгода, как он упивается любовью со студенточкой, и судя по его словам, обеспечил себя любовью до конца пятилетки, и в решающем, и в определяющем году, и даже до семьдесят седьмого года включительно. Через несколько месяцев его девушка закончит институт, да плюс три года аспирантуры, куда он собирается ее устроить, и выходит, гусь свинье не товарищ. Надобность во мне у него отпала. Но он все-таки совестливый человек и за день до Нового года позвонил мне, поздравил с наступающим и, словно чувствуя себя в чем-то виноватым передо мной, заявил, что на Новый год уезжает к матери в Горький. Я лишь улыбнулся его словам, отлично зная, что никуда он не поедет, а будет встречать Новый год дома вместе со своей возлюбленной, а матерью он всякий раз прикрывается, когда ему нужно отделаться от меня. И выходит, впервые за много лет мы изменим своей привычке и не пойдем в университет на новогодний бал. А чтобы успокоить меня, даже утешить, добавил скороговоркой, что в Новом году у меня все образуется, мне повезет, и я наконец встречу свою девушку. По его голосу я понял, что он больше всего боится, как бы не напросился к нему на встречу Нового года. Ведь теперь роли у нас переменились, я влюблен безнадежно, и он не должен оставлять меня одного в столь ужасном состоянии. И он испустил вздох облегчения, когда я, исполнив формальности с поздравлением, повесил трубку.
Да неужели он так поглупел за это время, если вообразил, что я с ним соглашусь встречать Новый год? Я скорее всю ночь прошатаюсь по городу, чем буду в одной комнате с ними. Нет ничего неприятнее в моем теперешнем состоянии, чем видеть счастливые лица. Как правило, от счастья люди глупеют, а я нуждаюсь в умном собеседнике. И сколько хороших, интересных людей пропало ни за грош! Деньги, карьера, обладание красивой женщиной, все это сделало их похожими друг на друга, а ведь каждый из них в свое время был личностью! И вот теперь и Черный растворился в этой массе, предав забвению пятнадцать лет дружбы, годы исканий, несбывшихся надежд, творческих мучений. А будь он сейчас рядом, мне, может быть, не было так тоскливо.
Настроение падает катастрофически, и я чувствую себя хуже отравленной крысы. И все из-за него, из-за Черного! Спровоцировал он меня-таки, стервец. Сам бы я никогда не додумался до столь иезуитской штуки, а он сварганил это в один миг, раз-два — и готово! Чтобы отвязаться от меня и успокоить свою совесть, он и подбросил мне идею: «Позвони, — говорит, — ей, вот тебе будет и решена проблема Нового года». А мне только для полноты счастья и не хватало телефонного звонка к ней! Ведь влюбленный — тот же самоубийца, и ему лишь нужен маленький толчок, а петлю на собственной шее он уже затянул сам, без чьей-либо помощи.
Черный подбросил идейку, и воображение заработало. А что, если и впрямь позвонить ей? Услышать ее голос? Это будет хорошим подарком в уходящем году. Зачем отказываться от маленького удовольствия и подавлять столь естественное желание? В том году я не выпил при встрече Нового года, поддался чужому влиянию, и результат налицо: весь год получился непутевым.
Да, но я же дал слово больше не думать о ней, выбросить ее навсегда из своей памяти, и какое-то время продержался молодцом: не звонил ей, обходил за километр те места, где мог ее встретить, не общался с ее знакомыми, но не думать о ней я все же не мог. Это то же самое, что запретить больному справляться о своей болезни у лечащего врача, и сколько бы ему ни втолковывали, что он должен отвлечься, думать о постороннем, никакие запреты и внушения здесь не помогают, больной все одно думает лишь о своей болезни. Так случилось и со мной. И чем больше я запрещал себе думать о коварной девушке, тем настойчивее мысли о ней будоражили мою беспутную голову. Ее можно выбить только одним — другой девушкой. Найти кого-то для любовных утех, как это сделал Черный, можно, но ступить на эту стезю я не могу. Это значит осквернить свое чувство, да и не хочется обижать какую-нибудь милую и ни в чем не повинную девушку и вводить ее, пусть и в приятное, но заблуждение. А раз вышибить клин клином нельзя, то и придется мне нести свой тяжелый крест до скончания века.
И я уже где-то в глубине души смирился со своей печальной участью и не помышлял ни о каком телефонном звонке, а поздравить ее с Новым годом решил по почте. С этой целью и вышел в город. Открытку с текстом приготовил заранее, тщательно продумав каждое слово. Особенно мне удалось одно место из новогоднего поздравления. Одним словом, я пожелал ей, чтобы вокруг нее в Новом году было как можно больше сумасшедших. И подписался: один из них. Подпись получилась корявая, но она-то сразу догадается, как только открытка упадет ей в руки из почтового ящика, что поздравление от меня. Так больше никто из ее знакомых не напишет. И я уже представил, как она на следующий день после встречи Нового года спустится с седьмого этажа к почтовым ящикам и прямо в лифте прочтет мое послание, а потом уже в квартире еще и еще раз перечитает написанное, доискиваясь в послании особого смысла, вложенного между строчек. Но в последнюю минуту я не доверился почте, а подумал-подумал и решил самолично подъехать к ее дому и опустить открытку в почтовый ящик. Так вернее, а то по почте она ее получит не раньше чем дня через три, пропадет весь эффект новогоднего настроения, а так она уже на другое утро прочтет мое послание, а может быть, даже не поленится и из любопытства спустится вниз еще в старом году, и я вольно или невольно буду присутствовать с ней на встрече Нового года, а это уже не так и плохо. Она нет-нет, а мысленно и вернется к моему поздравлению. И я уже пришел на остановку тридцать седьмого троллейбуса, чтобы через полчаса быть у ее дома, но в последнюю минуту меня словно лукавый попутал, и я решил позвонить ей по телефону, но не разговаривать, конечно, а просто проверить, дома она или уже ушла куда-нибудь в компанию.
И проверил на свою голову! Она оказалась еще дома и сказала-то всего-навсего два слова в трубку: «Слушаю вас», — и, не дождавшись ответа, повторила фразу в обратном порядке. Но для меня и этих двух предложений вполне достаточно, чтобы по голосу определить, что настроение у нее не ахти какое, если не сказать больше — отвратительное, и уж во всяком случае никак не праздничное. И едва нажав на рычаг, я сразу же нафантазировал бог весть что! До Нового года осталось меньше двух часов, а она все еще дома… А что, если… От этой мысли я остановился посреди улицы как вкопанный. Она, может быть, ждет моего звонка, а я глупость наслаиваю на глупость, вместо того чтобы объясниться с ней начистоту. Но я уже один раз попробовал, объяснился, подсказывает мне внутренний голос, и ничего путного у меня из этой затеи не вышло. Лишь навредил себе, только и всего, до сих пор не могу расхлебать кашу, заваренную год назад. Написал глупое письмо на девяти страницах, где с отчаяния признался в любви, и затем, не объяснив что к чему, громогласно заявил об окончательном разрыве с ней. Это было давно, а я все не могу отделаться от неприятного ощущения, словно сморозил что-то несусветное, и исправить это уже не в моих силах, сколько бы я ни старался.
И все же я слабый человек, поддался минутной слабости и позвонил ей еще раз через полчаса, и вот теперь расплачиваюсь за малодушие. Что говорить о сожалении? Оно разрывает мое сердце, но поправить что-либо уже невозможно. Нельзя же взять обратно свой телефонный звонок! Черного, конечно, я приплел сюда зря. Он не имеет никакого отношения к моему идиотизму. Просто у меня возникло дикое желание если не увидеть ее одним глазком, то хотя бы услышать ее голос. Вот я придумал глупенько-сладенькую теорийку, что она одна в огромной квартире и только тем и занята, что ждет моего звонка. А самого простого уразуметь не мог. Дома-то она потому, что вся их честная компашка встречает Новый год у нее в квартире. И поделом мне. Я сполна насладился ее голосом. Она сначала растерялась, уж больно неожиданно я ворвался в эфир, и я воспользовался ее состоянием и выпалил весь текст новогоднего поздравления, а когда она пришла в себя и начала в ответ лепетать слова благодарности, у меня уже пропала всякая охота слушать ее, ибо по ее голосу я сразу понял, что за прошедшее время ничего не изменилось, да и измениться не могло. Но и не позвонить я не мог. Сомнения хуже ржи разъедали бы мне душу, а так все встало на свое место. Новый год она встречает в компании и даже не заикнулась пригласить меня. Вот увидеться на досуге, ради любопытства, у нее явно желание есть. Она так и сказала: «Позвони через недельку, и мы что-нибудь придумаем…» Но как она не понимает, что мне совершенно не хочется удовлетворять ее вздорные капризы и позвонил я ей именно за два часа до Нового года не случайно. Ведь только так и можно узнать, есть у нее кто-то или нет. Есть, и выходит, мое предположение подтвердилось. Она делит своих поклонников на праздничных и будничных. Меня она зачислила во второй разряд. Жаль, ибо наше деление явно не совпадает. Она у меня праздничная, и я никогда не соглашусь делить ее с кем-то. Ждать, когда она переведет меня из одного разряда в другой, тоже нет никакого смысла. Да и вряд ли она когда-нибудь это сделает. Ведь давно известно, что под лежачий камень вода не течет. А я написал письмо, послал несколько стихов и пропал на целый год.
Нет, забыть она меня не забудет. Красиво я все-таки ушел! Хотя и тогда точно знал, что из моей затеи ничего не выйдет, и все же шел на встречу с ней, знал, что увижу ее и мне снова будет плохо. Однажды мне уже было плохо, но я еще раз решил испытать… Так уж устроен мой организм. Стоит ей позвонить, как я забываю все на свете и лечу к ней на свидание, забываю, что не так давно она сделала мне больно. Боль еще не утихла, а я испытываю желание посыпать рану солью. Когда у меня появилась странная потребность истязать себя, я не помню. Наверное, после знакомства с ней. А ей доставляет особое удовольствие смотреть, как страдает человек.
Спрашивается, зачем я ей понадобился? Сам бы я ни за что ей не позвонил, а она, видите ли, захотела со мной встретиться, а я так обрадовался, что натворил кучу глупостей, и, в частности, испортил настроение милой девушке, и бросился к ней. Мне так хотелось встретиться с ней! Я наивно полагал, что после этого можно и умереть. Уж лучше бы она не напоминала о себе. Но и я хорош! Сколько раз мысленно представлял, как увижу ее, пройду мимо гордо, и все…
Глупо. Знаю, случись эта встреча на улице, и я бы как идиот остановился и, открыв рот, смотрел на нее, словно на седьмое чудо света. Я бы даже к ней не подошел, не то чтобы как-то обидеть ее словом. Она святая! Для меня, конечно, хотя, наверное, у нее много грехов. И потом, разве все святые уж так безгрешны? К тому же она даже не догадывается, что ее причислили к лику святых, так что никто не страдает от появления новой иконы, кроме меня. Сама-то она отлично понимает, что в рай ей не попасть, и для нее уже уготовано местечко в аду. За одно отношение ко мне только ей никак не миновать раскаленных угольков. Но и на том свете я выручу ее и погреюсь за нее на огне, а она уж пусть порхает в раю и соблазняет святых. А если не я, то всегда найдется кто-нибудь другой, готовый пострадать за нее.
Ох, уж этот другой! Одна мысль о нем бесит меня. И то, что я никогда не видел его и ничего не знаю о нем, еще больше распаляет мое воображение. Понимаю, красивая девушка — это чужая удача, и повезло не мне, а кому-то другому, и даже понимаю и признаю, что красота, в какой бы она форме ни проявлялась, принадлежит всем, а не одному человеку. Но то в теории, и совсем иное дело на практике, когда встречаешь красивую девушку и уступать ее кому-то ох как не хочется.
Но что это я разболтался? А… проклятый прошлогодний звонок по телефону снова разбередил мне душу. Ведь тогда по телефону она тоже сказала: «Хочу видеть тебя! Приходи на наше место». У меня было совсем мало времени, а мне нужно было еще купить цветы, ее любимые гвоздики. Я уложился вовремя и даже, как всегда, пришел на место нашей встречи на пятнадцать минут раньше. И когда увидел ее на автобусной остановке, не поверил своим глазам. Она была еще прелестнее, и я, никого не замечая, кроме нее, протянул ей букетик гвоздик, цветы, которые она очень любит. Я так был ослеплен ею, что не заметил сразу, как она странно отступила назад, и, стараясь не смотреть мне в глаза, еле слышно выдавила:
— Не надо…
Я смутился. Я впервые видел ее в таком замешательстве, но от смущения она показалась мне еще прекраснее. Видел, как ей очень хочется потрогать цветы, но что-то мешало ей взять букет в руки.
— Это тебе… — и я снова протянул ей цветы.
— Не надо, — уже громче и решительнее, словно освободившись от чего-то, произнесла она.
И тут же, не дав мне опомниться, добавила:
— Ты извини меня, но я не могу быть с тобой… Все так нелепо получилось.
Плохо слышал, что она говорила мне. Остановка, автобус с людьми, улица — все это перевернулось у меня в глазах и, раскачиваясь из стороны в сторону, никак не хотело вставать на место. Она тоже качалась и то приближалась ко мне, и тогда мне ужасно хотелось схватить ее, а то удалялась, и я смутно различал ее лицо. Я так был ошарашен, что не совсем понимал, что делал, и снова произнес:
— Возьми, это твои цветы…
Она не ожидала такой настойчивости с моей стороны и взяла гвоздики, а я повернулся и пошел куда глаза глядят. Дома, улица, люди все еще покачивались из стороны в сторону, а я чувствовал, что шел прямо, как солдат на параде, и больше всего боялся пошевелиться, потому что тогда со мной обязательно что-нибудь произошло бы нехорошее. Я мог вернуться и просить объяснений, а то, и того хуже, ударить ее по лицу. Но я не мог быстро идти, ощущая, как под ее взглядом у меня деревенели ноги, и даже показалось, что она окликнула меня, но я не обернулся, а машинально продолжал переставлять ноги. У меня появилось желание идти и идти вперед и не останавливаться…
Нечто подобное я испытываю и сейчас. И все из-за этого идиотского новогоднего звонка. Не будь его, я еще на что-то мог рассчитывать. При случае, можно было бы даже и объявиться собственной персоной перед ее очами, а теперь все кончено. Сам напросился, никто меня не подталкивал. Решил подвести итоги года и подвел… Как начался год через пень колоду, так и кончается, и пошло и поехало. Началось с малого, а обернулось большими неприятностями…
И ничего вроде особенного не сотворил, а память мстит жестоко, все время возвращаясь к событиям годичной давности. Скорее всего, они должны переживать за сотворенную подлость, а я всего-навсего струсил, испугался в последний момент, что меня выгонят с работы без выходного пособия да еще дадут в зубы волчий билет, и не высказал в глаза подлецу, что он подлец, хотя собирался сделать это тысячу раз. Мысленно произносил такие тирады, аж земля дрожала, но стоило дойти до дела, как быстренько отработал обратный ход и пошел на сделку с совестью. До этого случая я не подозревал, что во мне столько дерьма, и почитал себя за порядочного человека. Мне казалось проще простого подойти к подлецу и резануть ему прямо в глаза правду-матку.
Ан нет. Это только кажущаяся простота! В действительности все сложнее. Не подошел, не плюнул. Помешала ложная интеллигентность, да и знание закона сыграло не последнюю роль. Испугался, что никто не поймет меня, сочтут за хулигана и затаскают по судам, а мне только этого тогда и не хватало. Но раньше я что-то не замечал за собой подобного грешка, а здесь, словно лукавый попутал, изменил себе — и жестоко поплатился. Хожу, плююсь, противно даже на себя смотреть. Но от того, что тайком ношу невысказанное, мне не легче, а много-много трудней. Так уж, наверное, устроена наша память или я чересчур совестливый человек, но только события той давности прут и прут из меня, словно тесто, замешенное на дрожжах, и если не открыться, то можно и закиснуть.
Конечно, у меня есть слабое утешение. Я выжил и не поддался на их мелкую провокацию. Зная мой горячий норов, они явно рассчитывали, что я сорвусь и выкину какой-нибудь фортель. Тут-то бы они меня и придавили как клопа. Но я разочаровал их и в самый последний момент, когда, казалось, некуда деваться, выскользнул у них из рук, словно угорь. И выходит, легко, стервец, отделался. Все могло быть намного хуже. Я и до сих пор все еще не перестаю удивляться своей сноровке. Они обложили меня, как на охоте, собрали все мои проступки и провинности за десять лет работы адвокатом. Я и не подозревал до этого, что у меня так много грехов. Однако ж изрядно, должно быть, я попортил им крови, коль скоро они не поленились и раскопали дела десятилетней давности. Все припомнили мне, и даже «дурацкий приговор» и «в такую партию не пойду» вытащили на свет божий. В бытность свою я здорово нашумел этими делами и чуть ли не в героях ходил.
Казалось бы, время сделает свое дело и сотрет в памяти неприятные воспоминания. Не тут-то было. У меня такое ощущение, словно все, что случилось тогда, только затем и произошло, чтобы я заново мог пережить те события, но в ином свете, без взаимных обид и оскорблений. И вольно или невольно получается, что истинно лишь то, что возрождается в нашей памяти, пройдя сквозь сито времени, ибо только теперь я начинаю понимать суть случившегося со мной. И мне ничего не остается, как признать, что жил я не настоящей, ложной жизнью. Я ведь и впрямь уверовал в свою непогрешимость и метался, словно в лихорадке, не отдавая отчета своим действиям. Где тщеславие, а где и обида застила мне глаза, и я лез напролом там, где спокойно можно было и обойти стороной. И вполне понятно, при таком поведении сам напрашивался на неприятности. И нарвался!
Взять хотя бы тот же «дурацкий приговор». Не успел я после распределения прийти работать в московскую коллегию адвокатов, как со мной сразу и приключилась беда. Я даже еще и адвокатом-то не был, а числился в стажерах и ходил по судам с патроном, проевшим на уголовных делах все свои натуральные зубы. У старика патрона рот ломился от золота, и коллеги по этому поводу язвили: «У него каждое слово на вес золота». Но выступал патрон в суде по уголовным делам лихо, и мне больше по душе отзыв о нем одного клиента, расхитителя социалистической собственности: «Послушать его одно удовольствие, дорогое, правда, но за такую речь и денег не жалко», не забыв при этом добавить: «Краденых, конечно, а не своих». А я про себя тут же и окрестил патрона: «Дорогое удовольствие». Иногда старик вел дела и по назначению или, как он любил выражаться, в благотворительных целях, для поддержания престижа. Вот на такое дело я и попал с ним в суд.
Судили женщину. Кража пяти килограммов мяса с хладокомбината была полностью доказана, да подсудимая и сама не отрицала факты, ссылаясь лишь на свое бедственное семейное положение. Адвокату в такого рода делах, по сути, и делать нечего. Нужно, как говорится в народе, поплакать в жилетку перед судом, на что «Дорогое удовольствие» большой мастак. И он так красочно обрисовал всю разнесчастную жизнь подсудимой, что я заметил, как женщина-заседательница расчувствовалась и отвернулась в сторону, делая вид, что у нее запершило в горле. И все в зале были уверены, когда суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, что подсудимую не посадят, пожалеют хотя бы двух ее несовершеннолетних детей, которые без матери пропадут. Но приговор ошарашил всех. Женщину не только посадили, но и сразу же в зале суда взяли под стражу, не дав возможности определить куда-нибудь детей.
Опытный адвокат смолчал, покачав лишь головой, а я, в порыве нахлынувшего чувства, не сдержался и тут же, при всем честном народе, прокомментировал решение суда: «Дурацкий приговор!» Ну, словно кто за язык потянул меня. Взял и еще раз повторил громко: «Прямо-таки дурацкий приговор!» Судья находился поблизости и услышал, мимо ушей замечание не пропустил, а оскорбился за весь суд. Вызвал в кабинет патрона и такую закатил истерику, что не приведи господь. Чуть под политическую статью меня не подвел и все возмущался, как можно таких незрелых юнцов допускать к судебной трибуне. Патрон немного успокоил судью, заверив его, что раньше чем через полгода мне не доверят самостоятельную защиту.
Казалось, на этом можно было бы и закончить. Ан нет, сыграла свою роль извечная вражда между судейскими работниками и адвокатурой. И те и другие используют малейшую возможность, чтобы при случае напакостить друг другу. Откуда мне было знать после университетской скамьи о всех тонкостях закулисной судебной жизни? Напичканный знаниями, я искренне верил, что суд и адвокатура служат одной цели, одному богу — справедливости. И нужно было целых десять лет потаскаться по судам, чтобы прозреть немного и уразуметь, что к чему. Тогда же я страшно удивился поведению, судьи и даже не успел как следует испугаться, когда судья, не придумав ничего умнее, пустил гулять по инстанциям сказанные мной слова о приговоре суда. Судья взял и написал самый настоящий донос в городской суд, на имя председателя, так, мол, и так, стажер при всем честном народе оскорбил суд. В городском суде посмеялись над писулькой, но на всякий случай, как бы чего не вышло, прислали грозную бумагу в адвокатуру, в которой обвинили адвокатскую корпорацию в самом смертном грехе: «Плохо поставлена воспитательная работа с молодежью, и, в частности, не прививается никакого уважения к советскому суду». Адвокаты народ битый, их на испуг не возьмешь, быстро нашлись, что ответить, и фактически отписались, сославшись на чисто формальное основание: не наша, мол, вина, такой-то и такой-то работает в коллегии адвокатов без году неделя, а посему нести ответственность за его моральный и политический уровень мы не можем. На этом, как говорится, официальная часть и закончилась. Ну, конечно, не обошлось и без наставлений. Мне сделали соответствующее внушение, дабы впредь называл судей дураками не публично, а про себя.
Но моя беда в том и заключается, что молчать не умею, да и не хочу, если признаться честно. У меня, как у пьяного, что на уме, то и на языке вертится. Вот из-за этой-то слабинки едва не закончилась моя адвокатская карьера, так и не начавшись, на первом же самостоятельном деле. Сбылось бы вещее прорицание патрона, мудро изрекшего после случая с дурацким приговором:
— Не сносить вам головы, молодой человек! Бить вас будут все, кому не лень. Язычок держать за зубами не умеете…
И старичок был недалек от истины. Он-то, язычок проклятый, и меня подводит часто. Из-за него все мои беды и пошли.
С первым самостоятельным делом мне повезло. Я и сейчас, спустя столько лет, до мелочей помню все перипетии, и всякий раз, когда оно всплывает в памяти, вновь и вновь переживаю то состояние взволнованности и приподнятости, испытанное мной. И странная вещь, чем дальше события отступают по времени, тем трепетнее волнение.
Что греха таить, тогда я здорово огорчился, узнав от патрона, что мне придется первый раз выступать в суде по самому простецкому гражданскому делу. Не о таком первом деле мечтал я. Мое разгоряченное воображение рисовало запутанное убийство или на худой конец какое-нибудь разбойное нападение. Я произношу в суде речь, все в диком восторге, адвокаты поздравляют меня с успехом, а растроганные родственники подсудимого выносят меня на руках из зала суда. По городу прокатывается слух о молодом защитнике, и от клиентов нет отбоя. И вдруг, вместо громкого процесса, самое что ни на есть заурядное дельце: о признании права на жилую площадь. И вполне понятно, я воспринял новость без восторга и с кислой физиономией поплелся в суд знакомиться с делом. Я даже расценил это как личное оскорбление и в душе затаил обиду на патрона и на всех адвокатов. «Испугались доверить настоящее уголовное дело! Думают что я не справлюсь…» Эти или подобные этим мысли ворошились в моей голове по дороге в суд.
Но первое дело есть первое дело, а когда я прочитал его, то и совсем приободрился. Не такое уж оно и плохое! Есть о чем поговорить в суде. О человеческой подлости! С юридической же точки зрения дело было совершенно чистое или, как еще любят говорить адвокаты, выигрышное. Отец предъявил иск к родной несовершеннолетней дочери и просил суд лишить ее права на жилую площадь, а на юридическом языке это звучит так: исковое заявление о признании утратившей право на жилую площадь гражданки Левкиной Антонины Васильевны, а этой гражданке всего-навсего двенадцать лет. И далее, на двух страницах машинописного текста добросовестно излагались доводы, почему отец не хочет, чтобы его дочь проживала с ним.
Убедительно писал, стервец! Я едва не прослезился, а адвокату выказывать свои чувства никак нельзя. Ведь это мой будущий противник, и я должен выискивать в деле слабые места. Но кроме искового заявления да выписок из домовой книги с копиями лицевых счетов, в деле больше ничего и не оказалось. Тоненькое на вид, а по содержанию увесистое. В одном лишь заявлении дряни на целый пуд потянет. Все заявление сплошь состояло из одной брани. Ругал ответчик свою бывшую жену, бросившую все: квартиру, дочь и укатившую за границу с новым мужем. Но и ответчик не остался перед супругой в долгу и тоже женился, а о дочери, ясное дело, забыли оба, отправив ее жить к бабушке. Старушка воспитала девочку, и он бы, наверное, не вспомнил о дочери, да двухкомнатная квартира стала тесна, и он решил поменять ее на более просторную. Брать с собой в новую квартиру дочь не входило в его планы, вот он и предъявил к дочери иск в судебном порядке. Есть такая статья в гражданском кодексе: если человек не проживает на той или иной площади без уважительных причин более шести месяцев, то его можно через суд лишить права на эту жилую площадь.
Формально он прав. Девочка действительно последние три года жила у бабушки. И будь она взрослым человеком, он еще мог бы выиграть дело. Но по отношению к несовершеннолетним есть одно маленькое «но», небольшая юридическая тонкость, о которой он либо не знал, либо сделал вид, что не знает, но это «но» и решит дело не в его пользу. По нашему закону малолетние дети, прописанные у одного из родителей, могут проживать в любом месте, и ни один суд не лишит их права на жилую площадь. И то ли он не удосужился проконсультироваться у юриста, то ли понадеялся на свои силы, но только в суд он обратился немного рановато. Ему бы подождать хотя бы до совершеннолетия дочери, да, видно, подвернулся под руку приличный вариант обмена, и упускать его ему не хотелось.
Но старушку он перепугал своим заявлением до смерти, и она сразу же обратилась за помощью в юридическую консультацию. И хотя ей несколько раз растолковали закон и заверили, что никто внучку не выселит бабуся настояла на своем. Консультация выделила в суд защитника, и этим защитником, естественно, оказался я, так как уважающий себя адвокат выступать бесплатно в суде не будет.
И вот по такому бесспорному делу я умудрился схлопотать неприятность. Я горячился в суде, вместо того чтобы четко и ясно изложить юридическую позицию. Меня поразил сам факт подобного заявления, и я обрушился с гневной речью на родителей, бросивших на произвол судьбы родную дочь. Наверное, на меня повлияло поведение девочки, с которой во время допроса приключилась самая настоящая истерика. Она стучала ногами об пол, сильно рыдала и не по-детски умоляла суд не вселять ее жить к родному отцу, а оставить у бабушки, не совсем понимая смысл происходящего. Как бы там ни было, но только я в конце своей речи попросил суд вынести частное определение в адрес родителей и довести до сведения соответствующих организаций об их аморальном поведении по отношению к родной дочери.
И не на шутку перепугал отца. Не успел суд удалиться в совещательную комнату, как он сразу же подскочил ко мне и набросился с угрозами. Оказывается, в своей речи я публично оскорбил его и, по его словам, вторгся в святая святых — частную жизнь, а этого он не потерпит и будет жаловаться. И уж совсем не к лицу мне, молодому человеку, у него так и вертелось на языке, молокососу, судить других людей. Только моей молодостью и неопытностью, слово «неопытность» он повторил два раза, можно объяснить мою позицию по отношению к нему. Я в одну кучу свалил его, честного и порядочного человека, и бывшую его супругу, подлую и скверную бабу, от которой он натерпелся изрядно, и ему лишь за одно совместное проживание с ней положена если и не медаль, то во всяком случае и не общественное порицание. С него хватит и того, что он платит этой сучке алименты. Он так и сказал, не дочери, а именно бывшей жене, и притом прозрачно намекнул, что девочка вовсе не от него, и он с медицинскими выкладками в руках готов доказать неопровержимый факт.
Ну чем не ангел? Крыльев ему только не хватает. Великомученик! И мне бы пожалеть его или, на худой конец, смолчать, а я не сдержался, заспорил с ним. И действительно, меня подвела неопытность. Слово за слово, и, не успев еще отойти от речи, начал качать ему права. Наивный я все-таки человек, пытался ему что-то доказать. Да он меня и не слушал, а продолжал гнуть свою линию. И как я не понимаю, что из-за моей дурацкой просьбы, он имел в виду частное определение, у него может сорваться заграничная командировка, если суд, не дай бог, согласится со мной и пришлет ему на работу разносную бумагу. И уж совсем доверительно добавил: «Влепят выговор до партийной линии за аморалку, и будь здоровчик…. Вы же знаете, как у нас разбираются… Сами, наверное, член партии».
Вот тут-то меня словно кто за язык дернул, и я едва ему не сказал, что с таким человеком, как он, я в одном туалете не сяду по нужде, но поопасался острого выражения и вместо этого брякнул, с моей точки зрения, совершенно безобидное:
— Мне детей с вами не крестить и наплевать, что вы член партии… Я в одну партию с вами не пойду…
Уж лучше бы у меня с языка сорвалось про туалет, подумал я, стоило мне только взглянуть на него. Он от удивления заморгал глазами, но ответить ничего не успел, так и застыв на месте с раскрытым ртом. Из совещательной комнаты вышел суд и огласил решение. Мы выиграли дело. Суд, как и положено, отказал ему в иске, признав за девочкой право на жилую площадь. Но и ему потрафил в какой-то мере, и он вздохнул так, словно у него с плеч свалилась гора. Никакого частного определения в его адрес суд не вынес, а значит, он мог спокойно продолжать распространять зловоние как у нас в стране, так и за ее пределами.
И все, казалось бы, остались довольны решением суда. Но я ошибся. Он все же проявил свою суть, да и не мог, наверное, не проявить. Такую телегу на меня накатал, что она лишь чудом не раздавила меня. Нужно отдать ему должное: пакостник он отменный. Ловко обыграл мое высказывание, переиначил чуть-чуть слова, и получилось, что я идеологически незрелый товарищ и доверять мне судебную трибуну никак нельзя. Подлый человечек, ничего не скажешь, и грамотный, видно, шибко, знает, чем можно пронять наше руководство. Это тебе не «дурацкий приговор», так просто не отпишешься. И хотя созданная по жалобе комиссия полностью признала несостоятельность изложенных в бумаге фактов, свидетелей-то у него не было, все же своей жалобой он мне здорово напакостил. Та же комиссия, опасаясь, как бы чего не вышло, на всякий случай порекомендовала нашему руководству воздержаться от приема меня в адвокаты. И я еще целых три месяца дозревал в стажерах. Я, конечно, обиделся сначала, полез в бутылку, но мне намекнули умные люди, чтобы я сидел тихо и не рыпался. А патрон прямо, безо всяких обиняков, и резанул:
— Есть у тебя две дырочки, и посапывай в них. Приключись с тобой подобная петрушка раньше, тебя бы и никто слушать не стал, не то чтобы создавать комиссии и разбираться.
Я за словом в карман не полез и резонно возразил старику, что теперь иные времена и многое изменилось, зачем же уповать на то, как когда-то было. Но патрон мне ничего не ответил, а лишь как-то странно посмотрел, словно я свалился с луны и не вижу, что происходит. А когда спустя несколько дней я снова сунулся к нему со своей обидой, он, чтобы поставить все точки над «и» и не возвращаться больше к интересующему меня вопросу, так и сказал:
— Парень ты вроде неглупый, а ведешь себя, словно маленький. Скажи спасибо, что у него свидетелей нет и разговор происходил с глазу на глаз, а то бы тебе несдобровать. Одними комиссиями и проверками он бы нас замучил. Да и его дело уж больно неприглядное, нечем особенно похвастаться. Родную дочь хотел из дома выбросить. Вот он больше никуда и не пишет, боится, как бы своей писаниной ненароком себя не зацепить.
Я понял намек старика и молча проглотил обиду. А если разобраться, то мне ничего другого и не оставалось. И я успокоился, хотя и не совсем. Дело чем-то так задело меня, что я еще долго ходил как неприкаянный. И лишь много позднее я понял причину, разбередившую мне душу. Ну конечно же эти отрешенные глаза девочки, может быть, впервые в своей жизни так близко, лицом к лицу, столкнувшейся со злом. И ее раздирающий нутро не по-детски истерический крик: «Не хочу к отцу…» Он и до сих пор стоит у меня в ушах, как и застывший в ее глазах вопрос: «За что? За что вы так жестоко со мной обошлись? Я же не виновата, что у вас не сложилась жизнь? Ну разошлись, а зачем же поливать друг друга помоями? От меня же тоже будет пахнуть нехорошо…»
Такой же вопрошающий взгляд человечка, обделенного добром, я видел и в глазах сынишки моего знакомого, когда тот уходил из семьи. Андрей был поражен предательством отца, руки его тряслись, и он беспомощно озирался вокруг, пока его глазенки не остановились на мне. В них застыл немой вопрос: «Как! Разве так можно, дядь Сереж?» Я не выдержал детского взгляда и отвернулся, отказываясь понимать происходящее. Да и что я мог сказать ребенку, когда сам был поражен поступком знакомого ничуть не меньше, а может быть, даже и больше.
Эта семья мне казалась островком добра, где я находил успокоение от душевных потрясений. В их тесной комнатушке я делился своими неудачами на любовном фронте и громкими победами в суде, когда мне удавалось выиграть то или иное дело, им я доверял и свои первые литературные опыты. Но особенно теплая дружба у меня завязалась с Андрюшкой, их десятилетним сынишкой. Он всегда радостно встречал меня и непременно требовал, чтобы я показал ему настоящий пистолет. Володька по-мальчишески верил, что адвокату, как и следователю, положено оружие. И мне жалко было разочаровывать его, и я всякий раз искусно лгал, говоря, что забыл пистолет в сейфе. Жена приятеля, милая и обаятельная женщина, сердилась на меня беззлобно, ворчливо выговаривая, чтобы я не забивал ребенку голову всякой ерундой.
Но я-то знал, по-настоящему сердиться она не может. Даже в то время, когда ей было очень тяжко. Три года она работала на две ставки и фактически тащила на своих плечах все тяготы семейной жизни, пока ее супруг учился в аспирантуре и корпел над диссертацией. И вот, когда самое трудное осталось позади, он взял и отколол номер. Кандидату наук, видите ли, не к лицу жена-медсестра, она не смотрится. Десять лет смотрелась, а тут вдруг придумал глупейшую отговорку: с ней неловко появляться в изысканном обществе. Мне-то он туманит мозги напрасно. Я отлично все понял: просто он польстился на пятикомнатную квартиру, машину, двухэтажную дачу и спутался с генеральской дочкой. Я-то думал, что у него с ней всего-навсего легкий флирт, когда он похвалился мне, что в отделении лежит генеральская дочь и он будет ее оперировать. Ну, побаловался, с кем из мужчин не случается такой грех, и уймись, вернись в лоно семьи, а он после выписки пациентки из больницы зачастил к ней в огромную квартиру, а вскоре и совсем съехал из дома. А на мой вопрос, как же так можно, без любви, ради выгоды продавать себя, он ответил довольно откровенно:
— Больной ты человек, старик, и не лечишься. Это я тебе как врач говорю. Все правду да справедливость ищешь, а я пожить хочу как люди, свет посмотреть. Работу мне интересную предлагает ее отец, место научного консультанта в одной зарубежной фирме.
Я и заткнулся, обескураженный столь убийственными доводами, а когда, опомнившись, пролепетал про сына: «А Андрей, что будет с ним, он же тебя любит?», — приятель, не моргнув глазом, парировал и этот мой упрек:
— А что Андрей? Я же не отказываюсь от него… Буду платить алименты, как все…
И платит, причем исправно, но больше на эту тему мы с ним уже не заговаривали, да и вообще старались не встречаться друг с другом. Мне почему-то всегда при мысли о нем приходят на память глаза его сына, и тут же звучит в ушах крик девочки, и я живо представляю, как в огромном городе ходят два маленьких человечка, раздавленные злом. Смогут ли они когда-нибудь поверить в добро?
Вряд ли. Я-то не смог, а ведь столкнулся со злом в зрелом возрасте. Обида залегла так глубоко, что ее ничем не вытравишь. Но это я забежал немного вперед. И хотя в адвокаты меня тогда все же приняли, помурыжили-помурыжили, но приняли. Однако неприятный осадок от первого дела не только остался, но и наложил отпечаток на всю мою дальнейшую работу в адвокатуре, а может быть, даже и на всю жизнь. А свое отношение ко мне со стороны адвокатов очень точно выразил при голосовании председатель корпорации:
— Наплачемся мы с этим правдолюбцем. Он нам еще хлопот доставит…
И сглазил, окаянный, словно в воду смотрел. Так все кувырком у меня и пошло. Не ко двору пришелся в адвокатах, люди в коллегии деньги делают, а я у них в ногах мешаюсь со своей правдой-маткой, и получилось, что я сам по себе, а они сами по себе. Поставил, как теперь принято говорить, свою личность вне коллектива. По-другому у меня не получилось, да я бы, наверное, и не смог по-другому, вылези хоть вон из кожи. Напичканный в университете речами о справедливости, о благородном служении правосудию, о торжестве добра над злом, я очень скоро своим поведением восстановил против себя всех, и даже патрон открестился от меня. И теперь приходится только удивляться, как долго адвокаты терпели меня в своей среде. Целых десять лет я терзал их своими выходками и держал в постоянном напряжении огромную корпорацию. Намучились они со мной изрядно, что ни говори. Я был как бельмо на глазу, от которого можно избавиться лишь хирургическим путем. Выходит, мне и обижаться-то на адвокатов грех, что они обошлись со мной не совсем корректно.
Я бы, наверное, тихо-мирно работал защитником и по сей день, и они бы терпели мои выходки, не замахнись я на святая святых адвокатов, на их карман. Я нарушил табу и переступил грань дозволенного, нанеся им запрещенный удар. Пока же я чудил и не угрожал самому их существованию, они посмеивались над моими проделками и смотрели на них сквозь пальцы, рассуждая примерно так: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». Они простили мне и «дурацкий приговор», и «в такую партию не пойду», и мое каждодневное «мелкое хулиганство» в виде правдолюбия, но не смогли простить сущего пустяка, своего рода дискуссии о профсоюзах, которую я им навязал.
Однако для ясности следует сделать маленькое лирическое отступление. Мало кто знает, что адвокаты в основном живут не на зарплату, как большинство совслужащих, за исключением торговых работников и сферы обслуживания, а на так называемые «миксты». Но в народе не прижилось чисто профессиональное выражение, и клиенты по старинке говорят, идя в юридическую консультацию: нужно отблагодарить адвоката. Испокон веку у людей, сталкивающихся с судом, сложилось мнение: за здорово живешь защитник в суде хорошо выступать не будет. И они недалеки от истины. Вот народ и нес защитникам все, что мог: поросей, гусей, миткалю. Но давно канули в Лету те времена, когда адвокаты брали натурой, теперь дураки перевелись, им подавай только деньги. Разве что иногда, в придачу к деньгам, иной адвокатишка и не побрезгует, возьмет да и переспит с хорошенькой клиенткой. Это не правило, а исключение. На «микстах», или благодарностях, и держится адвокатская корпорация. И тут размер микста играет не последнюю роль. Есть адвокаты, промышляющие по мелочи, по десятке, или, на их языке, по красненькой — по красненькой, и за месяц дополнительно к зарплате набегает кругленькая сумма, но есть и такие защитнички, кто воротит рыло и от пятисот рублей. Им подавай тыщонку, а за меньшую сумму они в суде и пальцем не пошевелят. Это адвокатские киты, и ведут они в основном дела крупных расхитителей социалистической собственности, через чьи руки проходят миллионы.
Вот на этих воротил я и замахнулся. Взял и написал докладную начальству, так, мол, и так, страна семимильными шагами идет вперед в решающем году пятилетки, давно принят моральный кодекс строителей коммунизма, а адвокаты все еще не могут покончить с таким пережитком прошлого, как миксты. И предложил организовать дискуссию, даже с подключением печати. Несколько адвокатов выступят на страницах газеты и покаются в смертном грешке. Чистосердечное раскаяние облегчит их участь, и с работы никого не выгонят, а то уж больно уродливые формы приняло данное явление. На адвокатов во время беседы с клиентом противно смотреть. Они подобострастно выслушивают всякую чушь, которую несет клиент, буквально заглядывая ему в рот, и ждут не дождутся, когда тот произнесет столь милые адвокату слова:
— Вы уж постарайтесь, голубчик, я вас отблагодарю и в долгу не останусь…
Всем известно, что словам никто не верит, и пока купюры не перекочуют из кармана клиента в бумажник к адвокату, на них лучше не смотреть. Душа кровью обливается, глядя на страдания адвокатов. С получением долгожданной мзды муки адвокатов приобретают новую окраску, он прыгает на стуле, словно на иголках, с нетерпением ожидая конца беседы, когда спокойно может пойти в укромное местечко, чаще всего в туалет, и пересчитать деньги, полученные от клиента. Некоторые, чересчур нетерпеливые из адвокатов, не дожидаясь окончания беседы, и оставив клиента в полном недоумении, соскакивают с места, держась за живот, и опрометью несутся в туалет. Настроение по возвращении из мест общего пользования зависит от размера вознаграждения. Если купюры крупные и их много, то роли меняются. Адвокат начинает нести несусветную чушь, с точки зрения разумного человека, но приятную для слуха клиента. Говорят же в таких случаях одно и то же: дело выиграю, кровь из носа, а выиграю. Знаю всех судей и прокуроров в Москве, не говоря уже о председателе Верховного суда и Генеральном прокуроре, с которыми, если верить адвокату, он на дружеской ноге и не вылезает из их кабинета. Подобные речи клиент готов слушать до посинения, а вошедший в раж адвокат в уме подсчитывает, как за каждую новую глупую фразу клиент приплачивает еще по купюре наивысшего достоинства.
Дело доходит часто до курьезов. Но один адвокат всех переплюнул. Сидел за столиком, разговаривал с клиентом, и вдруг, после обмена верительными грамотами, его словно ветром сдуло с места. Терпеливый клиент ждал, ждал, а потом, перепугавшись не на шутку, поднял шум: адвокат пропал! Обыскали всю юридическую консультацию, пока кто-то не догадался заглянуть в туалет. Дернули дверь, не поддалась, подналегли посильнее, и глазам собравшихся предстала картина: маститый адвокат, убеленный сединами, согнувшись в три погибели, вылавливал из унитаза сотенные банковские билеты и, аккуратно разгладив их, раскладывал на толчке для просушки.
И вот после всего того, что я видел собственными глазами и слышал своими ушами, мне официально заявили: я порочу высокое звание советского адвоката, и нездоровых явлений, несовместимых с моральным кодексом строителей коммунизма, среди адвокатов нет и в помине. А когда я попытался воскресить в их памяти кое-какие детали, побойтесь бога, нельзя же отрицать очевидное, мне резонно заметили: вы же юрист, батенька, докажите. И я осекся. Действительно, фотографий того уникального случая у меня нет, но об этом же знает вся корпорация, и при случае его легко можно восстановить. Да и других примеров хоть отбавляй. Копни любого адвоката, вызови клиентов по отработанным делам — и они такое понарасскажут, что уши развесите от удивления.
Но я же обратился с предложением не в следственные органы, не в ненавистное адвокатам ОБХСС, а действовал, так сказать, не вынося сор из избы, в собственном же учреждении. Но руководство переполошилось не на шутку, ознакомившись с моей докладной. Да и не одно руководство. Адвокатов возмутила сама постановка вопроса. Тоже, выискался святой! Крутись, если тебе нравится, на одну зарплату, а мы уж как-нибудь по старинке проживем. И приводили в свою защиту убийственные доводы: «Мы же не у государства берем, а у преступников». Что верно, то верно, государство не платит адвокатам ни одной копейки, и они полностью находятся на содержании клиентов. Больше того, адвокаты, пожалуй, единственная категория людей в стране, заинтересованная в росте преступности. Чем больше уголовных дел, тем выше благосостояние корпорации защитников.
Нет, конечно, я не против материальной заинтересованности. Но нельзя же терять человеческое достоинство. И как они уразуметь не могут, что постепенно развращаются не только сами, но и судей развращают. Ведь для работников суда и прокуратуры не секрет, чем живут адвокаты, и, вполне понятно, их гложет черная зависть: «Как так? Адвокаты гребут бешеные деньги, помимо зарплаты вымогают у клиентов сотнями и не несут никакой уголовной ответственности. Отделываются в крайнем случае легким испугом, выговорешником, либо, на худой конец, выгоном с работы, когда тот или иной клиент, недовольный результатом по делу, требует обратно свою «благодарность». А нас, судей, возьми мы хотя бы копейку с подсудимого, судят как взяточников. Где же справедливость, спрашивается?»
И чтобы как-то уравновесить сложившуюся ситуацию, насолить адвокатам, судьи отыгрываются на них по мелочам: заставляют защитников часами ждать приема, а если, не дай бог, какой-нибудь адвокатишка, в отместку, опоздает на минутку, поднимают страшный хай, а уж о судебном заседании и совсем говорить не приходиться, здесь судьи резвятся, как кому бог на душу положит, совершенно игнорируют адвоката в зале суда, словно за столом защиты сидит не живой человек, а пустое место, а во время речи прерывают адвокатов безо всякого стеснения. Но все это безболезненные уколы, и действуют они лишь на слабонервных, старые же адвокаты к такому поведению судей привыкли и не обращают на хамство никакого внимания, расценивая это как блажь.
Гораздо хуже, когда судьи судят зло, и подобные шуточки болезненно отражаются на кармане адвокатов. Правда, справедливости ради стоит отметить, что случается это не так уж часто. Но нет ничего страшнее для адвокатов, если суд определит наказание подсудимому больше того, которое просит прокурор. Обычно судьи дают столько, сколько просит прокурор, но иногда, выказывая свою «независимость» и чтобы как-то унизить адвоката, судьи определяют подсудимому наказание по своему усмотрению, в пределах санкции статьи, конечно. И вполне понятно, что после такого приговора клиенты адвоката не благодарят и по возможности обегают неудачника за версту.
Адвокаты в долгу не остаются и, где можно, вредят судьям. Такой уж это народец. Адвокаты стараются подловить судей на ошибках, а давно известно: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. У судей же много дел, да к тому же они простые смертные, да еще и малограмотные часто, и не без грешка. Вот адвокаты и греют руки на ошибках судей, а ошибаются те довольно много. Борьба идет с переменным успехом, а страдает от глупой вражды двух корпораций, суда и адвокатуры, невинное существо — правосудие.
И я тоже, грешный человек, поддался всеобщей горячке и на первых порах с жаром, присущим лишь молодости, окунулся в борьбу. Меня захватил сам процесс грандиозного сражения, ни на минуту не затихающего между враждующими сторонами. По неопытности, я сразу же наломал дров. Но, наверное, я все-таки уродился под несчастливой звездой, раз со мной приключаются столь нелепые истории. Я, как говорится, и охнуть не успел, как очутился неожиданно для самого себя между двух огней, и уже никакое чудо не могло спасти меня.
Желая как-то реабилитировать себя за дискуссию о микстах в глазах адвокатов, я, сам того не ведая, еще раз существенно навредил своим коллегам по корпорации. А ведь казалось, само небо сжалилось над моими мольбами и наконец-то ниспослало мне счастливый случай. Многие адвокаты могли лишь мечтать о подобной удаче, а здесь, словно в сказке, удача сама пришла в руки на тарелочке с голубой каемочкой. И выходит, я не смог ею распорядиться, умудрившись так бездарно упустить предоставленный мне небом шанс.
А произошло вот что: знакомился я в адвокатской комнате с одним уголовным дельцем, потихонечку перелистывал странички и не спеша составлял досье. И вдруг… Я даже сначала не поверил глазам. В середине дела, между листами протокола допроса обвиняемого, лежал уже заранее написанный приговор. Самый настоящий, от имени Российской федерации, и его можно было даже потрогать руками. До начала судебного заседания оставалась еще целая неделя, и неизвестно, как бы повернулось дело, какое мнение сложилось у народных заседателей, как бы себя повели свидетели и подсудимый, а судья уже один, за всех, заочно, решил участь подсудимого и даже определил ему наказание: три года лишения свободы, И подпись поставил. Осталось лишь скрепить бумагу гербовой печатью, и можно, не открывая судебного заседания, отправить дело в архив. Большего кощунства над правосудием нельзя и представить себе! Это своего рода судебный вандализм и самое настоящее измывание и глумление над законом.
Что греха таить, такой спектакль не каждому доводится увидеть, ибо поймать любителя поиздеваться над законом и ударить его по рукам, отбив охоту заниматься подобными штучками, очень трудно, даже почти невозможно. Они в прямом и в переносном смысле находятся за ширмой и редко когда оставляют следы, а пакостят аккуратненько, как кошечки в песочек. А тут, то ли по рассеянности, то ли еще по какой причине, судья, написав заранее приговор, забыл его спрятать в стол, а вместе с делом сдал в канцелярию. И вот эта важная улика попала в руки адвоката, то бишь мне. Я даже растерялся от неожиданности, засуетился и натворил кучу глупостей. Нужно было действовать по раз заведенному порядку: пригласить зав. юридической консультацией, он бы в свою очередь написал докладную председателю городской коллегии адвокатов, либо вызвал кого-нибудь из руководства по телефону в суд, тот снесся с судейским начальством, и они бы все вместе, не вынося сора из избы, приняли какое-нибудь мудрое решение.
Я же, ни с кем не посоветовавшись и больше всего испугавшись именно того, что они замнут дело, нарушил годами установленную субординацию и, схватив дело под мышку, выскочил с ним на улицу. Своим возбужденным видом я отпугивал от себя прохожих, и они шарахались от меня в сторону, не понимая, чего я от них хочу. А я хватал людей за рукава и тащил их силком в суд, невразумительно объясняя им по дороге, что нужно составить акт и подписать одну очень важную бумагу, уличающую судью в неприглядном поступке. При словах «суд, судья» люди подозрительно смотрели на меня, как на сумасшедшего, и опасливо удалялись семенящими шажками прочь. В конце концов мне удалось уговорить двух старушек и затащить их в суд, где они и подписали акт, составленный мной. И немного успокоившись, я объяснил им суть дела и даже зачитал приговор. Старушки попались понятливые и согласно кивали головой, возмущаясь вместе со мной, что так делать негоже и судить человека, не видя его в глаза, самое последнее дело.
В акте я написал, так, мол, и так, при ознакомлении с уголовным делом, за неделю до судебного заседания, обнаружил в деле заранее написанный приговор, и даже лист дела указал, о чем и составлен настоящий акт в присутствии посторонних граждан, Баукиной и Охалиной, в городе Москве, такого-то числа. Акт составлен в двух экземплярах, и подписи, как полагается, с адресами свидетелей. Один экземпляр акта я вложил в дело, копию оставил себе и, довольный проделанной работой, вернул дело в канцелярию, предвкушая, какую сенсацию произведет на адвокатов моя новость.
Но первый же адвокат, с которым я поделился своей радостью, ошарашил меня:
— А приговор оставил себе?
— Зачем он мне? Вложил обратно в дело. Может, он судье еще пригодится, — неудачно съязвил я.
— И не сфотографировал?
— Чем? Пальцем? Или авторучкой? Я же не шпион, где же я возьму фотоаппарат? Не домой же мне за ним ехать или бежать с делом в фотоателье…
— Ну и дурак. Можешь свой акт в туалет отнести, никому он не нужен. Судья же ото всего отопрется. А жаль, такому подлому человеку, как он, не мешало бы подложить свинью.
— Пусть попробует, у меня свидетели есть. Я и адреса их переписал, так что ему не отвертеться.
— Эх, ты, голова садовая. Кто будет возиться по такому щекотливому делу с твоими свидетелями. Да они сделают все возможное, чтобы замять. Уже не первый год работаешь адвокатом, а ничему не научился. Били тебя, били, и все мало. Такую пенку сглотнул. Ну хорошо, не сфотографировал, не взял приговор из дела, так хоть бы догадался все обделать тайком, не афишировать и не оставлять в деле акта. Неожиданность — великая вещь! Предъявил бы бумагу в день суда, судью и хватила бы кондрашка. А так он успеет подготовиться, и ты лишь схлопочешь себе большие неприятности.
— Выходит, я же еще и виноват. И должен таиться? Я никакую подлость не совершал и сыграю в открытую. Пусть судью начальство накажет, чтобы другим неповадно было заранее писать приговора. Я их отучу…
— Ну, ну, ты король, тебе и карты в руки. Мое дело предупредить, чтобы ты не влезал в эту историю, а там как знаешь. Ты ведь у нас парень отчаянный.
И обсудили! Но неизвестно кому больше досталось, судье или мне. Адвокатское руководство пробрало меня с перцем и осудило самым страшным судом, чтобы я впредь не занимался самодеятельностью и не порочил своими неразумными действиями честь и достоинство столичного адвоката. Я даже не успел и удивиться, так ловко наше руководство повернуло злополучное дело с приговором против меня. Это они не простили мне дискуссии о микстах и данным обсуждением как бы еще раз намекнули мне, чтобы я убирался из коллегии адвокатов подобру-поздорову, если не хочу вылететь с работы без выходного пособия.
Но я не внял их предупреждению. И зря! Просто меня злость обуяла несусветная. Я же не виноват, что у меня все так несуразно вышло с судьей. Я же хотел как лучше, а получилось как в присказке: одним концом по барину, другим по мужику. Незадачливого судью не выгнали с работы, а он лишь отделался выговором по партийной линии, и после этого от него в суде адвокатам житья не стало. Он и раньше не славился добротой, а теперь и вовсе озверел, лепит всем подсудимым под завязку и обязательно дает наказание больше, чем просит прокурор. Поддержали его карательную политику и остальные судьи в этом народном суде. Через месяц наши адвокаты буквально взвыли. Суровые приговоры судей здорово ударили по карману адвокатов. Клиенты не только перестали благодарить своих защитников, но старались не платить и положенную сумму. Я уже и сам был не рад, что заварил кашу с приговором.
Ну разве я мог предвидеть такие последствия? И самое главное, что судья вывернется? А дело обернулось, как и сказал старый адвокат. Судья ото всего отперся: никакого приговора заранее он не писал, а сделал всего-навсего заготовки по делу, что законом отнюдь не возбраняется. А когда его попросили показать «заготовки», он резонно заметил, что не обязан хранить все черновые записи и, естественно, разорвал их, как только отпала в них надобность. Со своими же свидетелями-старушками я, попросту говоря, опростоволосился. Когда начали пытать моих старушек, видели ли они в деле приговор своими глазами, то оказалось, что одна бабуся совсем неграмотная и с грехом пополам разбирает только свою фамилию, да и то по складам. И вполне понятно, кто же после этого серьезно возьмет во внимание ее показания, хотя старушка и клялась, что чуть ли не держала бумагу собственными руками и даже может по слуху, на память сказать, что в ней написано.
Другая же бабуля, грамотная, страшно перепугалась, когда ее вызвали в органы, и перепутала божий дар с яичницей. Ее спрашивали о приговоре, а она все время талдычила об акте, который она подписала. Такая бестолковая бабка попалась, что и комиссия-то с ней намучилась, пока установили что к чему. И хотя в конце концов она уразумела, чего от нее хотят, доверие к своим показаниям существенно подмочила. Да и вспомнили вдруг древнее римское правило: один свидетель — не свидетель, и спустили все дело на тормозах. Наказать как следует не наказали судью, но и оставить столь нашумевший скандал без последствий тоже не решились. Ограничились полумерой, и судья отделался, можно сказать, легким испугом. Однако страха он натерпелся изрядно, вот за пережитое и отыгрывается на адвокатах, а те, бумерангом, на мне. И получается, что я очутился между двух огней, и меня, словно на охоте, обложили со всех сторон флажками. И пусть я не метался, как затравленный волк с одного конца загона на другой, но все же рано или поздно сорвался, и они подловили меня.
Придрались к одной фразе во время защитительной речи и так умело обыграли ее, что обвинили меня в оскорблении советского правосудия. Конечно, не будь у меня прошлых грешков и главное — сложись нормальные отношения с адвокатами, наши бы не дали меня в обиду судейским и выгородили. Но за десять лет работы в адвокатуре я успел так насолить всем, что они перекрестились от радости, когда из народного суда на меня пришла телега. Бумагу сразу же подшили, пронумеровали и дали законный ход. Вот когда я только понял по-настоящему, как далеко зашел со своей дискуссией о «благодарностях». Адвокаты мне ее так и не смогли простить. Оказывается, они уже давно подбирались ко мне, желая освободиться от неугодного человека, но все никак не могли ума приложить, с какого бока меня взять. От благодарностей клиентов я отказывался, взяток тем более не брал, нарушений трудовой дисциплины у меня не было, и уж, конечно, ни разу не появлялся в суде в пьяном виде, что довольно часто случается с некоторыми защитниками. Выгонять же меня с работы только за правдоискательство и за мой острый язычок да строптивый норов нельзя. В трудовом законодательстве нет такого основания. И мучиться бы адвокатам со мной до скончания века, не подыграй им судейские. Чужими руками они и придушили меня, словно младенца, хотя я и посопротивлялся, аж до посинения. Но как говорилось в сводках военного командования в первые дни войны: «Силы были слишком неравными, и наши войска вынуждены с боем оставить занимаемые позиции».
Отступил и я. А что мне оставалось делать? Ждать, пока они меня раздавят как клопа? Этого удовольствия я им доставить не мог. Утешает только одно: я не бежал позорно с поля боя, а это было скорее почетное отступление. Они ведь так и не смогли разбить меня наголову и выгнать из адвокатуры с волчьим билетом, хотя, казалось, так приперли меня к стенке, что ни вздохнуть ни охнуть. Не успела бумага прийти из суда, как сразу же назначили обследователя. Обычно, когда кто-нибудь из адвокатов провинится, пострадав в схватке с судом, наше руководство не торопится делать какие-либо выводы и всячески стремится выгородить провинившегося адвоката, и обследователем назначают либо миролюбиво настроенного человека, либо даже приятеля. Мне же подсунули в обследователи злейшего врага, с которым мы не только последние пять лет не разговаривали, а доведись нам по нужде оказаться в одном общественном туалете, мы не сядем рядом. Назначением обследователя руководство как бы показало, что ждать мне никакой поблажки от адвокатов нечего.
Но как, однако, все переплетено в жизни! Вот уж действительно, если знать, где упасть, подстелил бы соломки, а не шмякнулся о землю со всего разбега. Задним числом мы все умники, а тогда я даже ни сном, ни духом не ведал, вступая в спор, что наживу себе врага. Слишком быстро все произошло, и я не успел даже очухаться, как мы уже с ней сцепились. У меня своего рода недержание, словесный понос. Надо бы промолчать, послушать старших и более опытных товарищей, а я опять погорячился и влез в драчку.
И дискуссия-то уже порядком всем надоела, но в адвокатской среде она нет-нет да и вспыхивала. И на сей раз началось с пустяка. Пришел из суда адвокат и пожаловался на судью, вынесшего, по его мнению, слишком суровый приговор его подзащитному. Слово за слово, и с судьи, вершившего неправое правосудие, фактически единолично, перешли на роль личности в истории, а тут уж рукой подать и до культа личности. Вспомнили, как видится, про Ивана Грозного, собственноручно подкладывающего раскаленные угольки под ноги своих жертв, Великого Петра, спокойно взиравшего в окно со скрещенными руками на груди на казнь стрельцов. Царей осудили самым страшным судом, но когда дошли до дней не столь отдаленных, гневные голоса постепенно поумолкли, и сторонники сильной личности подняли голову. Особенно усердствовала одна адвокатесса, почти моя ровесница, отношения с которой у меня как-то сразу не сложились, хотя тайно мы симпатизировали друг другу, и я даже грешным делом пробовал ухаживать за ней, и не безуспешно, но до интимных отношений у нас дело не дошло. Она так рьяно защищала сильную личность, с такой страстностью доказывала, как им все дозволено, и даже творя зло, они, в конечном счете, делают добро, что многие адвокаты, глядя на ее пыл, скептически ухмылялись. И мне бы смолчать, но ее эффектная концовка: «История их оправдает» — помимо моей воли, сорвала с языка вопрос:
— А современники? Неужели и они могут оправдать?
На этом мне бы и остановиться, но я уже не смог удержаться, меня понесло:
— После того, что нам известно, оправдывать сильную личность могут лишь те, кто сам замарался в крови невинных людей, либо, на худой конец, кто как-то погрел на этом руки…
Договорить не успел, на меня зашикали и даже дернули за полу пиджака. Но уже было поздно. Она закатила глаза в потолок и не своим голосом завопила на всю комнату, истерично выкрикивая непонятные для меня слова. Женщины увели ее в другую комнату, а я растерянно стоял посреди приемной, не понимая, чем смог так пронять ее. Ну откуда я мог знать, что ее отец в бытность свою верховодил в карательных органах и был чуть ли не одним из заплечных дел мастеров. За заслуги получил не только генеральское звание, но и огромную квартиру, а точнее, самый настоящий дворец из семи комнат в высотном доме на Котельнической набережной, общей площадью сто пятьдесят квадратных метров на троих. А когда все вскрылось, любимый папочка не выдержал встреч со своими жертвами по ночам и стрельнулся, оставив дочке в наследство квартиру и восхищение перед сильной личностью. Но об этом мне, неразумному человеку, рассказали много позже, а тогда я и не догадывался, что своими словами задел за живое и разбередил больное место, оскорбив ее лучшие дочерние чувства, вольно или невольно кинув тень на «светлую» память ее родителя. Впрочем, как не знал я до последнего момента, что она давненько уже сожительствует с одним старикашкой-адвокатом, для которого одно мое существование нетерпимо, ибо он видел во мне потенциального соперника.
Но удивляйся я, не удивляйся, а именно ревнивому старичку и нужно писать объяснение, как все у меня вышло в суде. Его назначили обследователем по моему дисциплинарному делу. Срок подачи объяснения три дня. Дальше все предельно просто: он даст заключение, есть ли в моих действиях состав дисциплинарного проступка, и если ответ однозначный, то наше руководство решает вопрос о наказании, как со мной поступить — ограничиться ли выговором, или же выгнать меня с работы без выходного пособия. Выбором обследователя мне недвусмысленно намекнули, что ничего хорошего меня не ожидает, а я все еще хорохорился и легкомысленно отмахнулся рукой от нависшей над моей головой опасностью. Уж больно незначительным и даже смехотворным был мой проступок, да и бумага, присланная из суда, не выглядела столь угрожающе: «Во время защитительной речи адвокат заявил, что судей будет мучить совесть, если они осудят подзащитного к трем годам лишения свободы. Своим выступлением адвокат публично оскорбил суд и тем самым проявил идеологическую незрелость…» Мало того, что судья извратил суть моей речи, он еще обвинил меня и в оскорблении суда. Но я напрасно все свое внимание сосредоточил на этой части, совершенно выпустив из виду одну фразу, не придав ей особого значения: «Проявил идеологическую незрелость», а именно эта фраза и сыграла свою роковую роль.
В своем объяснении я также обошел молчанием этот момент, а главное внимание обратил на фактическую сторону дела, написав в объяснении все, как было в действительности. А было обычное уголовное дело. Прокурор просил суд определить моему подзащитному три года лишения свободы, я полагал, что парня не стоит сажать, и соответствующим образом построил защиту. В моей речи была фраза о совести, но не с таким смыслом, как ее выхватил из контекста судья. Испокон веку адвокаты в своих защитительных речах призывают к судейской совести и делают это по-разному, в силу своих знаний и таланта. Одни, не мудрствуя лукаво, каждодневно талдычат набившие оскомину слова: «Мой подзащитный не судим раньше, к уголовной ответственности не привлекался», другие выражаются более витиевато, но смысл всегда остается один и тот же: посмотрите, какой хороший человек сидит на скамье подсудимых, и ему не хватает только крыльев, чтобы превратиться в ангела и улететь на небо, и посадить его в тюрьму — значит взять грех на душу.
Я такой же адвокат, как и все, и при защите своих «крестников» использую богатый опыт, накопленный адвокатами за время существования института защиты. У меня даже есть свои маленькие находки, которые я переношу из речи в речь, и от многократного повторения выучил некоторые из них наизусть. Толкни меня ночью кто-нибудь, и я без запинки произнесу вступительную часть защитительной речи по любому уголовному делу. Звучит это примерно так: «Товарищи судьи! Вы сейчас удалитесь в совещательную комнату и вынесете обвинительный приговор, о котором вас просил прокурор, определив моему подзащитному три года лишения свободы (мера наказания всегда варьируется, в зависимости от просьбы прокурора, но в данном случае он именно три года и попросил), и вам покажется, что вы сделаете большое и нужное дело, освободите общество от опасного преступника»… В этом месте речи я всегда делаю маленькую паузу и как можно проникновеннее, даже с придыханием в голосе, произношу: «Но вы ошибаетесь, товарищи судьи! Пройдет совсем немного времени, день, два, может быть, даже всего несколько часов, как вы вдруг почувствуете, что что-то мешает вам спокойно работать, отвлекает ваши мысли от других дел. Это в вас заговорит совесть, и вы вспомните моего подзащитного и поймете, что обошлись с ним слишком несправедливо, определив столь суровое наказание…» И дальше, без остановки, я пичкаю суд биографическими данными своего подзащитного, начиная чуть ли не с пеленок и вплоть до последних дней, добросовестно перечисляя все его достоинства и награды, если таковые имеются, не забывая даже публикации в стенной газете.
И никакой крамолы! Высокопарно? Наивно? Может быть, с этим и можно согласиться. Если бы судьи действительно переживали за всех подсудимых, им не было бы никакого житья и открывалась одна прямая дорога в сумасшедший дом. Однако судьи действуют согласно мудрым словам из басни: кот Васька слушает, да ест, не обращая никакого внимания на речи адвокатов, и посему им совершенно не грозит участь умереть от переживаний за судьбы подсудимых и тем паче сойти с ума. Они особенно голову не ломают. И на сей раз мой подзащитный получил бы свой трояк, но судьи никак не могут простить мне историю с заранее написанным приговором и поэтому влепили моему подзащитному аж целых четыре года. Это мне в отместку, да еще в придачу вынесли в мой адрес частное определение, придравшись к совершенно безобидным словам.
Я написал объяснение и успокоился, уповая на собственные силы и на мое умение отбиваться от адвокатов. От обследователя мне ничего хорошего не светило, и очень скоро я убедился в своей правоте. Он такое написал заключение, что я отказывался верить своим глазам. Заключение скорее смахивало на донос. Впрочем, обследователь и не скрывал особенно своих намерений и начинал заключение словами: «Доношу…» И фразу, которой я, по своей наивности, не придал никакого значения, он чуть ли не вынес в эпиграф. «Доношу, адвокат Смирнов в своей защитительной речи в судебном заседании по делу Семочкина проявил идеологическую незрелость, оскорбил суд», и, добросовестно пересказав частное определение суда, загнул эффектную концовку. «Такое поведение Смирнова несовместимо со званием советского адвоката, и ему нельзя в дальнейшем доверять судебную трибуну».
Лихо загнул! Забыл лишь перед выражением «судебная трибуна» поставить слово «высокая». Мне нельзя доверять именно высокую трибуну. Смех — смехом, а дело-то обернулось плачевно, и надеяться мне на легкую жизнь нечего. Раз обследователь написал заключение на выгон, значит, он уже согласовал свою позицию с руководством и отсебятину пороть не станет, несмотря на личную неприязнь ко мне. Он даже снизошел до того, что в личной беседе намекнул:
— Не будьте ребенком, не ждите, пока вас выгонят. Уходите по собственному желанию.
Я, конечно, оскорбился и вгорячах бросил ему в лицо:
— Рано меня похоронили. Это мы еще посмотрим, как вы меня выгоните. Кишка у вас тонка.
Он только как-то странно ухмыльнулся, глядя на меня, и, ничего не ответив, отошел в сторону. Но уже на другой день после нашего разговора я понял смысл его ухмылки. Он действительно не шутил, предлагая мне удалиться из адвокатуры без шума. Меня официально уведомили, что до разбора моего дисциплинарного проступка по существу я отстранен от работы, а это уже не столько дурная примета, как верный признак на выгон.
Вот тут-то я и засуетился и выдал себя с головой. Они сразу поняли, что все мое безразличие к их угрозам напускное, и я очень испугался вылететь из адвокатуры с волчьим билетом, ибо хорошо отдавал себе отчет: с клеймом «идеологическая незрелость» мне вряд ли устроиться на приличную работу. Я судорожно начал подсчитывать свои шансы, прикидывая в уме, на кого можно рассчитывать при разборе моего дела. Однако, как я ни тасовал состав руководства, все выходило не в мою пользу. И тогда я бросился в другую крайность.
Нет, к адвокатам я, слава богу, не упал в ножки, но это слабое утешение. Я обратился за помощью к своему бывшему сокурснику. Одно его слово, даже простой телефонный звонок нашему руководству — и я был бы не только спасен, но они бы надолго оставили меня в покое, зная о такой могучей поддержке. Но сокурсник не только не позвонил, а воспринял мой приход как личное оскорбление и даже как угрозу своему благополучию. Его испугала бумага, а точнее — все те же слова, написанные в ней. Все шло как по маслу, и он даже посмеялся, когда я ему рассказал, чем оскорбился суд, но стоило ему взять из моих рук частное определение суда и дойти до слов: «Проявил идеологическую незрелость», как смех с его лица сняло, словно рукой, и он с опаской отодвинулся от меня, как от врага народа.
— Ты же ведь меня знаешь, пять лет учились в одной группе…
Но он не дал договорить, поднявшись из-за стола:
— Попроси о чем-нибудь полегче, старик, а в это дело меня не впутывай. Я одного только не пойму, как ты, старик, мог докатиться до жизни такой. Проявил идеологическую незрелость… Весь коллектив восстановил против себя…..
Что мне оставалось делать после таких речей? Рассказывать ему о дискуссии с микстами или о «дурацком приговоре» и в «такую партию не пойду», а может быть, поделиться с ним, как адвокаты направо и налево обирают клиентов, разлагая своим поведением судебно-прокурорских работников? Или напомнить ему, как мы пять студенческих лет были неразлучными приятелями и до хрипоты спорили в тесной комнатушке общежития о добре и зле, справедливости и верили, что Гомер, Данте, Шекспир, Пушкин, Достоевский, Толстой, Бетховен, Чайковский не канули в вечность бесследно, а оставили после себя добро, которое рассеяно по космосу и рано или поздно соберется и одолеет зло. И, глядя на него, я вдруг понял нелепость своего положения, и все же не сдержался, и уже в дверях его огромного кабинета, словно кто меня потянул за язык, спросил:
— Неужели же ты так быстро все забыл — и нашу клятву не щадя живота бороться со злом, и… даже жареную картошку?
На мгновение что-то осмысленное появилось в его взгляде, но он тут же прогнал непрошеное видение и, справившись со своим чувством, прикинулся Иваном непомнящим:
— Какую еще картошку? Вечно ты что-нибудь придумаешь, старик…
Я так укоризненно посмотрел на него, что он не выдержал моего взгляда и поспешно отвернулся к окну. Но я больше не стал призывать его к совести и, повернувшись, вышел из кабинета. Раз уж ему неприятно вспоминать о жареной картошке, то и разговаривать нам с ним действительно не о чем.
Жареная картошка! Когда-то простая жареная картошка домашнего приготовления, с соленым огурцом и черным хлебом, была для него не только лакомством, но и пределом всех мечтаний. Изголодавшись в студенческой столовой, он раз в месяц вырывался ко мне в гости и еще с порога кричал, обращаясь к моей матери:
— Тетя Катя! А жареная картошка будет…
И моя мать, беззлобно ворча и зная заранее о его приходе, ставила на стол огромный таган с его излюбленной едой, и он с завидным аппетитом уминал содержимое посудины за один присест. И, глядя, как он ест, казалось, что на свете нет счастливее человека, чем он. Большим, к сожалению, мы ничем не могли его угостить, ибо сами едва сводили концы с концами.
Мы тогда были молоды, искренни, безрассудны и, не задумываясь, грудью вставали друг за друга. Неужели он на самом деле забыл, как я, на четвертом курсе во время практики в народном суде, целый час торчал в коридоре в обеденный перерыв и сторожил, чтобы никто не заглянул в зал судебного заседания и не застукал моего дружка, который на столе правосудия занимался любовными утехами с секретаршей. Или, может быть, он все еще никак не простит мне нашу размолвку на пятом курсе, когда я отшатнулся от него, как и вся наша группа, узнав, что он, для того чтобы остаться в столице, перед самым распределением женился на москвичке, жестоко оскорбив девушку с соседнего потока, которую он любил, по его словам, и с которой у него была уже договоренность о распределении в один город? Но я же не таился, а открыто бросил ему в лицо горькие слова упрека за бесчестный поступок, и отказался быть свидетелем с его стороны в загсе, и даже не пришел к нему на свадьбу. И вот, спустя столько лет, он как бы своим нежеланием помочь мне напомнил наш давнишний спор, воскресив в памяти события давно минувших дней.
Оказывается, я как человек уже для него ничего не значу. Важно, что написано в бумаге. Ей вера, ее сила и власть безраздельны! Бумага из народного суда получила надлежащий индекс, ее пронумеровали, подшили, и, скрепленная печатью и подписью, она приняла угрожающий вид и творит прямо-таки чудеса. И ведь в чем ее прелесть? Она все стерпит, и на бумаге можно написать все что заблагорассудится, и она не покраснеет, а останется все такой же белой и чистой. Бумага знает, составленная из слов, она своего рода лабиринт, в котором люди давно уже запутались, и, чтобы выбраться из него, из этого словесного потока, нужна специальная сноровка и невероятная ловкость.
Потягаться с бумагой может разве что слух. Выпущенный на волю, он распространяется с поразительной быстротой по невидимым каналам, и нельзя заранее предугадать, какую шутку он сыграет с тем или иным человеком. Слух о моей идеологической неблагонадежности каким-то образом просочился и уже не только дошел до адвокатов, но и разросся как снежный ком. Поговаривают чуть ли не о том, будто я с судебной трибуны клеветал на все советское правосудие. Уж говорили бы сразу, что я призывал в своей речи к восстанию, и дело с концом. Тогда бы мне не оставалось ничего другого, как поднять лапки кверху и сдаться на милость победителя. Но слух есть слух, и его никаким приказом не остановишь. Одним словом, страшная это вещь, слух. Он обезоруживает любого, и против него фактически нет средств защиты. Это как стихийное бедствие, как ураган, сметающий на своем пути все преграды. Слух разъедает людей, как ржа, и из семян, посеянных им, вырастает лишь один злак — недоверие. И тот, кого он почтит своим вниманием, надолго лишается сна и покоя.
Прошло всего несколько дней, а на меня все смотрят, как на покойника, и даже мои недруги сочувственно качают головами. Это меня бесит больше всего. Уж лучше бы злорадствовали! Но они слишком рано похоронили меня. Я еще посопротивляюсь, и голыми руками они меня не возьмут. Я знаю, чем можно пронять адвокатов: комиссиями и проверками. А больше всего на свете они боятся пенсионеров из народного контроля. Вот старичков со старушками я и напущу на адвокатов. До чего пенсионеры дотошный народ! Проверяют почти все дела и не ленятся даже вызывать клиентов из других городов. После проверки адвокатуры народным контролем корпорация выглядит потрепанной и пришибленной, и на защитничков жалко смотреть. Они ходят, как тяжело больные, и с опаской отдергивают руки от клиентов, благодарящих их за услуги, видя в каждом из клиентов агента народного контроля.
Мысленно я уже сотни раз рисовал картину разбирательства моего дела и произносил в уме разгромные речи, клеймя позором нездоровые явления, бытующие среди адвокатов. Но что-то странное все время творилось со мной, и это «что-то» удерживало меня перейти от слов к делу. Я не только не напустил на адвокатов пенсионеров из народного контроля, но даже не заявил отвода обследователю, хотя у меня к тому были все основания. Он явно питает ко мне личную неприязнь. И что самое главное — это «что-то» не пустая маниловщина, а гораздо страшнее. Но я не заметил, когда в меня вошла эта зараза и, всосавшись в кровь, разлилась по всему телу и даже проникла в мозг. Исподволь она вытеснила все другие мысли и сверлит, как буравчиком: выжить, выжить…
Только теперь я понял, какая это страшная философия, философия выживания! Ради этого человек готов пойти на любую подлость, только бы его не раздавили, а он продолжал смердеть. В свое время, когда речь шла о физическом уничтожении, эта философия, может быть, и была единственно верной. Но сейчас, сейчас, когда что-то изменилось и человека уже нельзя так просто, без следствия и суда кинуть за решетку, философия выжить — довольно вредная вещь. Но видит бог, я сопротивлялся до последнего, но это, конечно, слабое утешение. Я не смог победить заразу. Вирус захватил и меня, и в последний момент я не выдержал и подыграл им, отказавшись от дальнейшей борьбы, а попросту говоря, струсил и подал заявление об уходе с работы по собственному желанию.
И даже нашел, стервец, оправдание, обставив свой уход самым пышным образом. Я, видите ли, не захотел принимать участие в комедии, которую руководство собралось разыграть, выгоняя меня из адвокатов. Я подсчитал с математической точностью, что шансов остаться в адвокатуре у меня ровно ноль-ноль целых и одна тысячная. Из четырнадцати членов президиума московской городской коллегии адвокатов за меня не проголосует и четверть человека. Именно четверть, ибо на целый голос было бы надеяться с моей стороны самым настоящим свинством. Вряд ли у кого-нибудь из адвокатов шевельнется ко мне хотя бы чувство жалости, не говоря уже о справедливости. Они все проголосуют за мой выгон с чистой совестью и легким сердцем. Да еще наживут на мне политический капиталец в глазах партийных и советских органов. Как же! Столичная адвокатура не терпит в своей среде идеологически незрелых личностей и смело очищает свои ряды от нездоровых элементов.
Но я бы плюнул и на это и не подыграл им, не предай меня в последнюю минуту еще один человечек. Внутренне я уже смирился и с их формулировочкой, и с волчьим билетом, и с участием в заглавной роли в комедии, лишь бы еще раз пощекотать себе нервишки и получить истинное наслаждение, бросив им в глаза все, что я о них думаю. И я уже предвкушал удовольствие от своей гневной обвинительной речи, мысленно повторяя тирады о народе-страдальце, самым бессовестным образом обираемом адвокатами, жиреющими на горе клиентов, о великомученице-правосудии, терпеливо сносящей глумление над собой, патетически призывая день, когда на их головы падет справедливый гнев великих старцев из народного контроля.
Однако я ничего так и не сказал. Философия выжить взяла во мне верх, и за день до разбора моего «дела» я подал заявление об уходе из адвокатуры по собственному желанию. Оказывается, я прокоптился заразой страха, как рыба, и все мои прежние «шалости» — вроде «дурацкого приговора», «в такую партию не пойду» — ничего не значат. Стоило им прижать меня, как серьезного испытания я не выдержал и отработал обратный ход. И нечего мне искать виновных на стороне. Конечно, поведи она при встрече со мной по-иному, скажи хотя бы одно словечко участия — и я, наверное, не подал бы позорного заявления, а сломя голову кинулся в драчку.
Мы с ней не виделись целую вечность, а тут столкнулись лицом к лицу. Я словно чувствовал, что она придет на работу в мой последний день. Ведь она точно знала, что я не усижу дома, а обязательно загляну вечером в консультацию попрощаться со своим старым столом, за которым просидел почти десять лет, и что меня потянет еще раз окунуться в привычную атмосферу, послушать гомон клиентов, увидеть алчные лица адвокатов. В глубине души я желал этой встречи и, может быть, даже ради нее и пришел в консультацию, но она не посмотрела в мою сторону, продолжая весело обсуждать с адвокатами какую-то сногсшибательную судейскую новость. До моего угла доносился ее смех, и я едва не сорвался с места и не крикнул: «Замолчи! Ты не должна так смеяться, тебе же со мной было хорошо и ты так же смеялась у меня на руках… Неужели ты все уже забыла и как крыса бежишь с тонущего корабля, бросая мужчину в трудную минуту…»
Но она действительно смеялась заразительно и ни капельки не переживала за меня. А я-то навообразил черт-те что и тайно возлагал на нее определенные надежды, зная, что она вхожа к нашему руководству без стука. Ее отец приятель председателя адвокатской корпорации, и они даже дружат домами. Я как-то на объединенном семейном ужине читал свои литературные опыты, и ее отец очень лестно отозвался об одном из моих рассказов. Просто, наверное, он уже тогда примеривался ко мне, как к будущему зятю. Но мы с его дочерью крупно поссорились и последний год играли в молчанку, стараясь не попадаться друг другу на глаза. И вот своим приходом в консультацию перед самым разбором моего дела и смехом она недвусмысленно намекала мне, что со мной все кончено и никаких шансов на спасение у меня нет, и выходит, она правильно поставила на мне жирный крест. Это-то и поразило меня больше всего. «Ну ладно, — думал я, — не хочешь помочь, не надо, как-нибудь сам выкручусь, Но зачем же издеваться над человеком в открытую и наносить удар, когда ему и так тяжко. Дождалась хоть бы, пока меня выгонят официально, а уж затем и глумилась, сколько душеньке угодно».
И тогда я взорвался! Ах так, думаешь, меня раздавили, приклеили ярлык: идеологическая незрелость и посчитали, что дело сделано? Плохо же, однако, ты меня знаешь и слишком рано списала со счетов. Я еще вывернусь… И вывернулся! Вот ведь какой подлый человек! Якобы назло ей сделал, взял и написал заявление об уходе с работы по собственному желанию. Адвокатское начальство перекрестилось обеими руками и отпустило меня с богом на все четыре стороны. У них ведь тоже рыльце в пушку, и им не особенно хочется раздувать историю со мной. Наверху шума не любят, и потом, цель достигнута, они освободились от меня, а как, это уже дело техники, и не так важно. Они даже проявили своего рода благородство, отпустив меня из адвокатуры по собственному желанию. И выходит, кругом виноват я один.
И теперь я только то и делаю, что хожу по городу и плююсь на самого себя и все никак не могу отплеваться. Я обосновался в одной маленькой проектной организации, где никто и не подозревает, что под личиной юриста скрывается идеологически незрелый тип. Я выжил, а радости бытия совершенно не ощущаю. Хожу, что-то делаю, визирую, не читая приказы, даю людям советы по юридической части, хотя сам нуждаюсь в их поддержке ничуть не меньше, а может быть, и больше. Со мной случилось самое страшное, что только может произойти с человеком: я потерял уважение к самому себе. Мне бы кому-нибудь открыться, рассказать все как на духу, что со мной приключилось, и сразу стало бы легче. Но разве я могу кому-нибудь признаться в собственной трусости? Да и не поймет никто, коль скоро от меня отшатнулись даже бывшие «друзья». Но и носить в себе невысказанное невыносимо, ибо я чувствую, как это дерьмо перегорает во мне, просачивается в кровь, отравляя все мое существо.
И тоска, страшная тоска по адвокатской работе! Только теперь до меня дошло, что я ничего другого делать не умею, кроме как выступать в суде, защищая хулиганов, насильников, убийц, а точнее, человека от преступника. И я бы, наверное, продал душу дьяволу, только бы выступить в суде по самому паршивому дельцу, от которого отказались все адвокаты, и снова испытать ни с чем не сравнимое волнение, охватывающее при словах: «Встать! Суд идет!», и еще разок сразиться с прокурором, с судом. Но в моем новом учреждении ни о каких судебных делах и мечтать не приходится. Это тихая заводь, типичная шарашкина контора, где совслужащие с почтением и даже с благоговением относятся к закону, и делать мне здесь, как юристу, фактически нечего. Да я особенно и не утруждаю себя по службе. Приду, быстренько завизирую приказы, обегу все свое нехитрое хозяйство, перекинусь несколькими словечками с секретаршей директора и сматываю удочки, отметившись в регистрационном журнале, что в случае надобности меня следует искать либо в арбитраже, либо в райсобесе, где я якобы оформляю документы на пенсию кому-нибудь из сослуживцев. А в каком райсобесе, я, конечно, никогда не указываю. И выходит, одному господу богу известно, где я нахожусь во время службы, ибо в столице десятки райсобесов и столько же ведомственных арбитражей, и уж, во всяком случае, никому и в голову не придет искать меня на улицах города.
А я болтаюсь на улице, бесцельно вышагивая по городу десятки и даже сотни километров, и все стараюсь разобраться, откуда во мне завелась эта гадость? Поселилась и незаметно заполнила собой все нутро. Неужели это началось еще в детстве, когда я впервые узнал, что такое страх, и спасовал перед ним, сделав едва уловимый шаг в сторону, а затем, медленно отступая пядь за пядью, сдал свои человеческие позиции, докатившись до теперешнего состояния, а фактически до трусости. А еще точнее — до безверия! А это пострашнее и мучительнее всякой слепой веры. Все словно сбесились, мужчины только тем и заняты, как бы подороже и повыгоднее продать свою подлость, а женщины — тело. И те, кто быстренько сумел перестроиться, взошли как на дрожжах и поднялись наверх, вгрызлись в кресла, словно кроты в землю, и стремятся удержаться на захваченных позициях любой ценой, потуже набить свой карман и желудок, да еще как рачительные хозяева сделать про запас, отхватив от общественного пирога кус пожирней.
И награды! На орденах и медалях все помешались и раздают их направо и налево и кому только не лень. Парадокс, но для порядочного человека чуть ли не унижением стало получить от общества признательность, и, пожалуй, наиболее верный признак отличить порядочного человека от сволочи — это узнать, унижен он наградами или нет. Награды так разлагающе действуют на людей, что мало кому удается уберечься от порчи. Не устояли даже самые стойкие, высохшие от сомнений. Порча захватила все поколения! Да, да, я именно не из потерянного, а из испорченного, потребительского поколения! Скорее даже из забитого, слякотно-тошнотворного, и на меня, наверное, жалко смотреть со стороны. Я развалина веры, самый что ни на есть ходячий труп. И хотя от меня не смердит, но трупная болезнь распространяется, медленно вползая во все поры общества, заражая неверием все новых и новых людей. И от этой заразы не спасет никакая прививка, да ее никто и не собирается делать. Болезнь загнали внутрь и умыли руки, а вирус, приняв самые уродливые формы, обрушивается на молодое поколение, нещадно калеча его. И если в ближайшее время не примут меры, то болезнь с еще большей силой скажется через поколение…
От неожиданности я даже остановился. Вот ведь в чем главная причина моей неудачной любви. Она из другого поколения и никогда не поймет мои заскоки. И здесь никакого значения не имеет, с кем она празднует Седьмое ноября или встречает Новый год. Смутно я это чувствовал, только боялся признаться даже самому себе в маленькой лжи и вел себя как страус, трусливо пряча голову в песок. Но от этого осознания мне не легче, а много-много трудней. Оказывается, все это время я носил ее в себе, пытался освободиться от нее и не смог.
Но неужели прошел целый год! А мне все кажется, что мы расстались только вчера, настолько она завладела моим сознанием. Я лгал себе, убеждая, что ее не существует, а она незримо сопровождала меня и как тень ходила рядом. Это она мешала мне работать, а по вечерам выгоняла из дома, и я бесцельно бродил по улицам, она же отводила от меня других девушек, милых и симпатичных, и это она будоражила мое воображение по ночам и не давала заснуть. Я, как вор-рецидивист, украл ее у всех и носил с собой, не признаваясь никому в краже и даже самому себе.
Но я слишком дорогой ценой заплатил за преступление, которого не совершал. Своим чувством. Я столько его ждал и когда уже совсем отчаялся и думал, что любовь обошла меня стороной, встретил ее, обрызганную закатом, на перекрестке. Она стояла и смотрела на светофор, а я на нее, и так засмотрелся, что чуть не угодил под машину. Хорошо, шофер тормознул, но я даже не слышал, как он меня обругал, так стремительно бросился за ней, опасаясь потерять ее в толпе.
Я знал, что обязательно увижу свою девушку на улице, и готовился к этой встрече. Мне только всегда казалось, что выхожу из дома на секунду раньше или позже, и она, моя девушка, проскользнула где-то совсем рядом. Я это чувствовал и, как локатор, все время искал ее глазами. Иногда я бил ложную тревогу, но неудачи не отрезвили меня. Я снова и снова искал ее глазами, стоило мне только выйти в город. И предчувствие не обмануло меня. Я даже не удивился, когда увидел ее. Девушка была так похожа на ту, выдуманную моим воображением, что я не поверил глазам. Уж не снится ли мне все это? Но девушка была живая, и она лукаво смотрела на меня и никак не могла понять, что привело меня в замешательство. «Чудак какой-то», — прочитал я на ее лице, и за год не сумел ее разубедить в этом, да так чудаком и остался.
Я вспомнил первую встречу с ней и ускорил шаг. И случилось маленькое чудо. Пошел снег, как и тогда, крупный, пушистый и беспомощный, словно только что вылупившиеся из яиц цыплята. Снежинки доверчиво жались к людям и, обманутые, капельками влаги скатывались по их лицам. Некоторые прохожие останавливались и блаженно улыбались снегу, другие же равнодушно проходили мимо, словно ничего и не произошло. Я закрываю глаза и открытым ртом ловлю снежинки. Глупые, они беззлобно колют язык, губы и умирают, так и не успев понять, почему превращаются в воду. И я, тридцатилетний мужчина, не могу объяснить вечную загадку природы, смерть. Но сейчас мне не хочется думать о высоких материях. Падающий снег удивительно верно выразил мое состояние…
Мне казалось тогда, что мое чувство недолговечно, как снег, и вот-вот растает. Но оно не таяло, а с каждым днем росло, ширилось и заполняло собой все мое существо, истосковавшееся без любви. Нет, нельзя сказать, чтобы у меня до этой встречи не было женщин, напротив, их было слишком много, и все они милые и обаятельные существа, но ни с одной из них мне не было по-настоящему хорошо. Я обманывал их, да и они, наверное, платили мне той же монетой.
Я открываю глаза. Снежинки больше не колют губы. Такой снег, снег без значения всегда быстро проходит, а мне почему-то хочется, чтобы он шел и шел и засыпал дома, улицы, прохожих. У меня совсем нет желания двигаться вперед, словно там меня подстерегает какая-то беда. Больше того, у меня мелькает вздорная мысль: «Хорошо бы остановить время!» Но я отлично понимаю, что может только застыть человек, а время — время будет лететь и лететь, делая кого-то счастливым, а кому-то причиняя боль. Но я напрасно расхныкался и накликаю на себя беду. Ничего же не случилось, просто пошел и перестал падать снег. Ах, да, и тогда шел тот же снег, и я вновь погружаюсь в бездну.
Для нее все было чудно: и то, что я пошел за ней, но так и не подошел, не заговорил, а как добросовестный детектив поджидал ее изо дня в день у института целый месяц и молча сопровождал, словно почетный эскорт, до дома. Она так привыкла ко мне, что огорчалась, если почему-либо я не приходил. Но не пожалей она меня, не заговори первой, я, может быть, так и не подошел к ней. Она, конечно, не помнит об этом, впрочем, как не помнит и о самом счастливом для меня дне. Я же не забуду его никогда, наверное, потому, что других таких дней у меня не было.
Я перебираю все встречи с ней. Она меня не очень-то баловала, но тем сильнее каждое свидание с ней запало мне в душу. Даже другие женщины, с которыми мне было легко, потому что я знал, что им нужно от меня, не заслонили ее, а напротив, после каждой такой встречи меня еще больше тянуло к ней. И хотел я того или нет, но я невольно обманывал других женщин, и поделать с собой ничего не мог. Просто я был, как выразилась одна моя ночная знакомая, «здоровый мужик». За «здоровье» женщины и принимали меня.
С ней же все пошло не так, и я даже ни разу не подумал, что она обыкновенная женщина, такая же, как все, и с ней можно поступать так же, как я поступал с другими женщинами. Но стоило мне только посмотреть на нее, как я стыдился своих мыслей. Она казалась мне такой чистой, сотворенной из воздуха, что одно прикосновение к ней могло осквернить ее. И я ни разу не прикоснулся к ней. Нет, однажды, пожалуй, она крепко сжала мою руку. Это и был тот самый счастливый мой день, но моей заслуги в том не было.
Это случилось на концерте Клиберна, в консерватории, и потом, когда я ее провожал домой, она еще раз нечаянно дотронулась до меня. Вот уж никогда не думал, что простое прикосновение женской руки может доставить неизъяснимое удовольствие. Я смаковал его, как гурман, и целый месяц все смотрел на руку и на работе и дома. Больше она меня не баловала, хотя и до Клиберна я не раз доставал ей билеты и в Большой театр, и на Таганку, и на цыган. Но она говорила «спасибо», и все. Просто, наверное, в тот вечер ее разбередила музыка Чайковского. Ее состояние тогда передалось и мне. Я слушал Чайковского, а мне казалось, что это не музыка, а она входит в меня и рассасывается по клеточкам моего тела. Так близко, пожалуй, я ее никогда не ощущал.
После концерта мы бродили по сонному городу, и она не отнимала своей руки, не говорила свою обычную фразу: «Не надо». И я едва не поцеловал ее, но побоялся спугнуть. И за трусость поплатился тут же. Пошел дождь, частый, как из ведра, и она отрезвела. Мы заскочили в подъезд одного из домов, и когда я попытался взять ее за руки и привлечь к себе, она уже была не со мной, а где-то далеко-далеко. А в такси, которое я поймал, выскочив под дождь, она забилась в угол и так до самого дома не сказала ни слова. Мы даже не попрощались.
И все же тот вечер запал мне в душу. Запомнился он мне, наверное, и по-другому. Это была наша последняя встреча, если не считать той, неудачной, новогодней, и смутное беспокойство, которое и до этого не отпускало меня, вдруг приобрело реальную форму. Почему она не подпускает меня к себе? В ту ночь, шагая под дождем по пустынным улицам, я особенно остро ощущал этот вопрос. Почему? И это «почему» не давало мне покоя все время, будоражило ум, чувства. Ответ, который напрашивался сам собой, я, как всякий влюбленный, не принимал, я просто не мог его принять. И как я ни гнал неприятные мысли, они снова и снова одолевали меня.
Тогда я дал себе слово, что ни за что не позвоню ей первым, хотя и не раз ловил себя на желании набрать ее номер, услышать ее голос, и даже набирал, но едва раздавался первый гудок, как я опускал трубку на рычаг. Я больше всего боялся, что не выдержу и заговорю с ней, или того хуже — словно побитый пес приползу к ее дому и терпеливо буду ждать, пока она выйдет. Но слава богу! Этого не случилось, и в нужную минуту меня выручила злость, которая поднималась изнутри, и тогда мне уже хотелось взорвать ее дом и даже убежать из города, в котором она живет. Постепенно зло улеглось, и на поверхность снова выплыло злосчастное почему. Почему у меня так сосет под ложечкой при одной мысли о ней? Почему? Но, наверное, было бы неинтересно все разложить по полочкам. В незнании есть своя прелесть.
А теперь я знаю, но толку от этого знания никакого. Я так стремился быть непохожим на других, так боялся окунуться в грязь и вываляться во лжи, что не заметил, как преуспел в своем стремлении и очутился в безвоздушном пространстве, болтаюсь за час до Нового года в гордом одиночестве на пустынных улицах огромного города. И податься вроде некуда, да и не к кому, и не за чем. Черный, наверное, сейчас уже проводил старый год и суетливо готовится к встрече с новым даже не подозревая, как мне неуютно. А может быть, он устыдился своего счастья и, опомнившись, в последнюю минуту взял такси и прикатил за мной, а меня все еще нет дома, и он, успокоившись, снова вернулся к себе. Я машинально прибавил шаг, но затем снова перешел на иноходь.
Можно, конечно, плюнуть на все и завалиться в генеральскую квартиру, приятель все еще питает ко мне слабость и страшно обрадуется моему появлению. Но поступить так — значит сдать свои позиции, а принципы, как известно, не примиряются, они борются и побеждают. А ведь в свое время у меня не было ближе человека, чем он и его супруга, но после последнего крупного разговора я больше не звонил ему, не беспокоил меня и он.
Недавно я встретил нашего общего знакомого, который часто бывает в новом доме у моего приятеля. С его слов, он раздобрел и больше походит на современного Ионыча, чем на врача, пристрастился к коньячку и поддает больше положенного. Из разговора я понял, что это не случайно. Вот уже третий год генеральская чета ждет ребенка, но, видно, так и не дождется, дал понять мне знакомый.
Но время сделало свое недоброе дело, и у меня даже нет против него никакой злости. В конце концов какое я имею право судить его? Каждый поступает так, как велит ему его совесть, но у меня еще долго будет звучать в ушах его реплика, которую он бросил перед самым моим уходом. Я заблудился в его огромной квартире и ткнулся не в ту дверь:
— Сюда нельзя, старик, это туалет для домашней работницы…
Меня больше всего и покоробило это его замечание: отдельный туалет для домашней работницы! Перед таким соблазном и святой не устоит. После этого о чем, спрашивается, можно с ним говорить? Вот и выходит, что расстались мы с ним по вполне понятной причине, и значит, встречать мне с ним Новый год никак не светит.
Остается еще Валенок, но ему в его теперешнем положении явно не до Нового года, и тем более не до меня. Перед самым праздником кто-то здорово подсуропил ему, преподнес подарочек, ничего не скажешь, взял и накатал на него анонимку. И не куда-нибудь, а прямиком в городской комитет партии, а копию направили в народный контроль. Так что испортили ему Новый год начисто. Конечно, анонимка — не обвинительное заключение, но перепугался он не на шутку и сейчас, наверное, вздрагивает от каждого телефонного звонка и стука в дверь, опасаясь непрошеных гостей из органов. В этом отношении у адвокатов жизнь не сладкая, живут в вечном страхе, как бы тот или иной клиент не потребовал обратно микст, а тут еще и анонимка. Но Валенок не придумал ничего умнее, как взял и вывез всю мебель из квартиры, оставшись чуть ли не с одной раскладушкой. А куда он, интересно, денет двухэтажную дачу и две машины? Я уж не говорю о сберегательных книжках с кругленькими суммами. Наверное, срочно закрыл все счета и прячет, деньги где-нибудь в укромном местечке.
Анонимка есть анонимка, ее регистрировать не нужно, и что еще более важно — не обязательно на нее и отвечать, да и некому. Но для профилактики Валенка вызвали в соответствующую инстанцию и предупредили, что если поступит еще один сигнал, то разговор состоится в другом месте и в другом тоне. Вот это другое место его и напугало больше всего. Кто-кто, а адвокаты знают, как их ненавидят в следственных органах, и когда кто-нибудь из адвокатов попадает на крючок, его не отпустят, пока не вытрясут всю душу. А трясти они умеют при желании, это им нужно отдать должное. Вызовут всех клиентов по отработанным делам, и каждый второй подтвердит, что помимо кассы энную сумму положил прямо в карман адвокату. Но это еще ничего, вывернуться можно, хуже, когда кто-нибудь из клиентов брякнет, а такой всегда найдется, что деньги, мол, давал адвокату, чтобы он поделился с судьей или следователем, вот тогда пиши все пропало. Тут уж не до Нового года, а суши быстрее и побольше сухарей. У Валенка, слава богу, до этой стадии не дошло, хотя анонимщик и попался дотошный. Он добросовестно перечислил его трудовые доходы, указал на несоответствие образу жизни и, как водится, сделал вывод: берет взятки. А заодно подцепил на крючок и председателя городской коллегии адвокатов, дядю Костю. Это, как мне кажется, и смягчило удар и спасло Валенка от более серьезных последствий. В юридической консультации не было секретом, что до поступления в адвокатуру Валенок работал вместе с женой шефа. Такую деталь мог знать только свой человек, а отсюда и вывод напрашивается, что анонимку написал кто-то из адвокатов. Время от времени адвокаты балуются подобными пакостями, вот анонимщик и указал партийным органам, мало того, что Валенок нечист на руку, он еще и в адвокатуру поступил за мзду, и называлась точная сумма, которую он вручил по назначению.
Все эти события разыгрались в консультации в мое отсутствие, я уже около года не работал адвокатом и немного удивился, когда ко мне домой приехал Валенок. Что греха таить, я порядком истосковался по адвокатской работе, и когда Валенок поведал мне свою горестную историю, я искренне посочувствовал его горю. Мне даже от его рассказа стало как-то не по себе. Я знаю, что всегда нравился ему чем-то, и в трудную минуту он, пожалуй, единственный, кто не отвернулся от меня и помог через своих знакомых устроиться на новую работу. Я ведь никакой не Иван непомнящий, и по-человечески мне его было жаль.
Стоило подумать о Валенке, как тут же прицепился и Живчик. Они не только работают вместе и живут в одном доме, но и любовные дела ведут на паях, безвозмездно уступая друг другу своих пассий. Но если сейчас еще кому-нибудь так же пакостно, как мне, так это Живчику. Правда, чтобы не кривить душой, стоит признать: беда у нас с Живчиком разная, я изнываю от одиночества, он совершенно по другой причине. Для него каждый праздник — сущее наказание. Не может же он разорваться на части. В будни он как-то умудряется выходить сухим из воды, а вот по праздникам ему приходится тяжко. Всегда кто-то остается обиженным, да и трудно, просто невозможно обслужить всех, даже при широте его натуры и недюжинном темпераменте.
Посудите сами. С первой женой развелся, но остался в приятельских отношениях. Купил ей с дочерью двухкомнатную кооперативную квартиру и каждый месяц добровольно платит дочери по двести рублей, не считая подарков. Официально женился второй раз и живет с супругой и сыном в трехкомнатной квартире. Кроме того, снимает «коробочку», комнату для любовных утех и каждый месяц меняет девиц, а на это хобби, как он выражается, тоже уходит немалая сумма. К тому же есть еще и неофициальная жена. Одна из девиц из «коробочки» так в него вцепилась, что он с величайшим трудом избавился от неприятностей. Девица родила ему ребеночка и грозилась устроить грандиозный скандал, но он все-таки сумел в конце концов поладить с ней, задобрив ее однокомнатной квартирой и обещанием содержать ребенка, и надо отдать ему должное, свято соблюдает взятые на себя обязательства. Что-что, а в денежных вопросах он не скупится, за это, возможно, его и любят женщины. Живчик за разовое общение с женщиной дарит случайной подруге японский зонтик, не говоря уже о выпивке и закуске. В багажнике его машины всегда в избыточном количестве можно обнаружить такую мелочь женского туалета, как импортные колготки всех размеров, пояса, чулки и прочие тряпки, вплоть до бюстгальтеров. Все расходы оплачивают расхитители социалистической собственности, а других дел он не ведет. Ни много ни мало, а тысчонку в месяц он выколачивает из расхитителей и торгашей, во всяком случае, ни одна из жен в обиде на него не остается, а что касается праздников, то они не часто бывают. А потом, он как-то умудряется даже и в праздники обслужить почти всех желающих, и потери у него самые минимальные.
Я так увлекся воспоминаниями, что не заметил, как свернул на свой обычный маршрут: Большая Серпуховка, Полянка, Каменный мост, Калининский проспект, Садовое кольцо.
Неделю назад, в читальном зале, я нос к носу столкнулся с бывшим однокурсником, и он, узнав, что я пописываю, пригласил меня к себе на Новый год. Я пообещал ему позвонить, но так и не позвонил, да и вряд ли когда-нибудь позвоню. Мне о нем даже думать-то и то неприятно, а уж сидеть за одним праздничным столом и подавно, и я бы о нем даже не вспомнил, если бы не библиотека. Но раз мысль зацепилась за него, то будет буравить голову, пока не найдет своего четкого завершения.
Я его не видел до этой встречи целую вечность. После окончания юридического факультета его не прельстила романтика уголовного розыска — и он подался на комсомольскую работу, а через два года его уже перебросили на литературный фронт, и в газетах замелькала знакомая фамилия. Лихо писал и о «пробках», и о «проводке», но на горло собственной песне, судя по всему, не наступал. Некоторые его бойкие выражения крепко засели в голове, такие, к примеру, как: «Механизация — она крепко вошла в быт завода «Красный пролетарий» или «Четыреста двадцать минут производству — таков девиз рабочей бригады Петра Борунова с Чугунолитейного завода имени Войкова», а затем, круто, с рабочей тематики переключился на поэзию, но здесь у него уже подобных перлов не было, и он бы затерялся среди остальных критиков-борзописцев, если бы его не выручила все та же комсомольская хватка. Вовремя бросил жену с двумя детьми и удачно женился на дочке ответственного работника в секретариате писателей, который тем и знаменит, что написал про какой-то камень, и вот уже заведующий отделом молодежного журнала, а через месяц, не больше, как он доверительно мне поведал при последней встрече в библиотеке, его ожидает очередное повышение, тесть метит его в главные редакторы одного из издательств. Вопрос этот настолько решенный, что он на радостях предложил даже обмыть новое назначение и смилостивился прочитать несколько моих рассказов. Соблазн был настолько велик, что я не удержался и дал ему свои произведения, и теперь ума не приложу, как их забрать обратно, да и он, наверное, не рад, что связался со мной и не знает, как отделаться от злополучных рукописей начинающего автора, да к тому же однокашника.
Правда, справедливости ради стоит отметить: мой сокурсник как нельзя лучше олицетворяет собой новый тип мужчины — человека, всегда знающего, что нужно делать в тот или иной момент, и самое главное, как делать, чтобы ублажить сильных мира сего. Я хорошо изучил этот тип человека, изучил их повадки, манеру держаться, наблюдая за ними на людях и в быту, ибо многие мои знакомые — типичные представители этой породы людей. И все они на одно лицо: и Черный, и «Жареная картошка», и Валенок, и Живчик, и литературный критик, но пробиться в их клан честному человеку не так-то просто. У них есть своеобразный ритуал, своего рода таинство, и первейшей и чуть ли не святейшей заповедью для приобщения к этой породе людей является посвящение в кандидатское звание, или, как я называю, в грязевываливание. Любыми средствами замараться в дерьме, и уж только потом открывается доступ к всероссийской кормушке. Но по дороге к жирному куску многие из них по-настоящему теряют зубы и волосы, но только не иллюзии. Полысел и мой однокашник, но иллюзий не утратил. Конечно, речь идет не о тех иллюзиях, при расставании с которыми всегда немного грустно, как при прощании с детством, а совершенно о другом. Они искренне думают, по крайней мере многие из них, что от них не пахнет.
Милая наивность! Да за версту несет! У меня, да и не только у меня, а у всякого приличного человека после общения с этими людьми возникает такое ощущение, словно окунули руку в ведро с помоями.
Но я же счастливейший человек! Я устоял, и мне нужно только радоваться, а не хныкать. Выстоять, сказать: нет несправедливости, лжи, их хваленому благополучию — это же великое дело! И пока есть хотя бы один человек, не принявший их правил игры, их образа жизни и мышления, они не могут ощущать себя в полной безопасности, даже если сейчас им очень хорошо и весело за праздничным столом. Ведь нельзя же всех посадить в клетку и указывать, что можно делать, а чего нельзя. Всегда найдется кто-то, кто сперва усомнится в правильности «от и до», а затем пожелает взбунтоваться и вырваться на волю. И как бы ни охраняли клетку псы-церберы, как бы их ни подкармливали, они уже ничего поделать не смогут. Раз вырвавшись на свободу, мысль уже никогда не захочет обратно вернуться в неволю, и на своем пути будет захватывать все новых и новых членов общества, и получится как в цепной реакции.
Конечно, с моей стороны было бы наивно полагать, что цепная реакция так скоро произойдет. Сначала она захватит в свою орбиту блуждающие элементы, выбитые из обычной колеи, и, объединив их в одно целое, начнет бомбардировать основное ядро, откалывая от него все большую и большую часть общества. Одним словом, произойдет процесс, схожий с тем, что уже не раз имел место в истории при утверждении той или иной религии. Сейчас он на стадии зарождения, единоверцы еще разрозненны, их преследуют, и у них нет своего Христа, и как ни странно, лучше, если бы его вообще не было, ибо там, где он есть, обязательно вслед за ним появится свой Гитлер, Сталин, Мао. И хотя за освобождение платится слишком дорогой ценой, одиночеством и полным непониманием, что ж, оно того стоит!
И никакая это не игра, а самая что ни на есть суровая действительность. Но гораздо хуже было бы обманывать себя и дальше, теша несбыточной надеждой. Оказывается, истинная причина отчуждения во мне, и она здесь совершенно ни при чем. Разница в возрасте десять лет сыграла какую-то роль, но незначительную. Раньше такая разница считалась почти нормальным явлением, но теперь время так быстро все меняет, что люди одного возраста перестали понимать друг друга, не говоря уже о разных поколениях. Да она не только не приняла бы никогда меня таким, какой я есть, но даже и не поняла бы, расскажи я ей обо всем приключившемся со мной. Ведь она же из их клана и чуть ли не с молоком матери всосала их нравы, их законы, их обычаи и, естественно, ждет от своего будущего избранника материального благополучия, а я ей ничего этого дать не могу. Интуитивно она, видимо, почувствовала это, почувствовала чисто женским чутьем.
Это, выходит, нас и оставило по разные стороны барьера. А новогодний телефонный звонок, что ж, его следует расценивать как очередной заскок, как каприз. Не выдержал, сорвался, случается, но в Новом году, я думаю, со мной ничего подобного не произойдет. Главный итог уходящего года — это то, что я честно признал свое поражение и на личном и на общественном поприще. И пусть я сделал признание всего за несколько часов до Нового года, суть не в том. В Новом году у меня есть все основания смотреть людям в лицо открытыми глазами, не отворачиваться, а это уже не так и мало. Что же касается несостоявшейся любви, то это моя плата за освобождение. Не исключено, что мне еще может повезти, и мы, взявшись за руки, свободные и счастливые пойдем бродить по пустынным улицам и обязательно остановимся на Каменном мосту, и я ей покажу и панораму Москвы-реки, и белую лебедь-библиотеку, и Кремль, и, прижавшись друг к другу, мы будем молча слушать бой кремлевских курантов.
От нахлынувших на меня мыслей я едва не пропустил Новый год. Часы на Спасской башне мелодично отбивали двенадцать раз. Я остановился на самой середине Малокаменного моста, как раз в том месте, откуда открывается величавая панорама, но посмотрел не на Кремль и даже не в сторону библиотеки, а на Замоскворечье. Небо впереди меня неожиданно полыхнуло зарницей, и еще долго светилась маленькая полоска, а я, как зачарованный, смотрел на неожиданное чудо природы. Но я, наверное, опять ошибся. Скорее всего, это была не зарница, а по небу прошла загадочная комета Когуоутека.
1972
ТРИ МИНУТЫ ДО СЧАСТЬЯ Исповедь игрока
«Я тоже был просто помешан на лошадях. Что-то в них есть, когда они выходят на старт и приближаются по дорожке, к столбу. Словно танцуют, и все такие подобранные, а жокей натягивает поводья изо всех сил, а может быть, и отпускает немножко, дает лошади пробежать несколько шагов. А когда они подходят к старту, я просто сам не свой…
Мне всегда казалось, что с этим ничего не сравнится…
Ей-богу, просто дух захватывает, когда они промчатся мимо тебя, и приходится смотреть им вслед, а они все уходят и уходят, и становятся все меньше и меньше, и на повороте собьются все в кучу, а потом выходят на прямую, и до того хочется выругаться, просто мочи нет…»
Эрнест Хемингуэй. «Мой старик»
«Это был один из двух рассказов, оставшихся у меня после того, как все написанное мною было украдено у Хэдли на Лионском вокзале вместе с чемоданом, в котором она везла все мои рукописи в Лозанну, чтобы устроить мне сюрприз — дать возможность поработать над ними во время нашего отдыха в горах. Она уложила в папки оригиналы, машинописные экземпляры и все копии. Рассказ, о котором идет речь, сохранился только потому, что Линкольн Стефенс отправил его какому-то редактору, а тот отослал его обратно. Все остальные рассказы украли, а этот лежал на почте…»
«Скачки никогда не разделяли нас — на это были способны только люди; но долгое время они были нашим близким и требовательным другом. Во всяком случае, так приятнее было думать. И я, праведно негодовавший на людей за их способность все разрушать, был снисходителен к этому другу — самому лживому, самому прекрасному, самому влекущему, порочному и требовательному, — потому что из него можно было извлекать выгоду. Для того чтобы скачки стали источником дохода, нужно было отдавать им все время, а его у меня не было. Но я оправдывал свое увлечение тем, что писал о нем, хотя в конце концов все, что я писал, пропало, и из рассказов о скачках уцелел всего один, потому что он путешествовал тогда по почте».
Эрнест Хемингуэй. «Праздник, который всегда с тобой»
Не знаю, когда в мою голову запала мысль написать о лошадях, но только раз поселившись, она завладела сознанием и не давала мне уже покоя ни днем ни ночью. Может быть, впервые все же я подумал о лошадях, когда прочитал в «Празднике, который всегда с тобой», что Хемингуэй потерял свои первые рассказы о скачках, и у меня мелькнуло в голове, что было бы неплохо восстановить их, а может быть, мысль о написании рассказов о лошадях возникла позже, когда я увлекся бегами и стал чуть ли не завсегдатаем центрального московского ипподрома. В моем воспаленном мозгу игрока нет-нет а и копошилось: «Вот напишу записки с Ц. М. И., опубликую их и немного отыграюсь, верну гонораром хотя бы часть проигранных на ипподроме денег».
В то время я искренне верил, что рано или поздно выиграю, предав забвению другую очень важную мысль Хемингуэя: выигравший действительно ничего не получает. Но это я понял много поздней, когда изменить что-либо было уже нельзя, да я бы и сам вряд ли согласился что-то менять. Лошади полностью захватили меня, и я полюбил их, неотвратимо, с яростной тоской, полюбил и возненавидел в одно и то же время, и в ненависти моей я находил какое-то неизъяснимое удовольствие, сладостное и мучительное.
ДВА-ПЯТЬ В ДЛИННОМ, ИЛИ ЗНАКОМСТВО С ИППОДРОМОМ
На бега меня затянул не кто иной, а родной брат. Он работал в ателье закройщиком, вместе с ним, в одной комнате, кроили мужские костюмы Виктор Дмитриевич и Леша Хромой, страстные лошадники, не пропускавшие ни одного бегового дня. Даже когда их смены приходились на вечер, в день испытания лошадей на ипподроме, и то они умудрялись сорваться с работы и поставить пятьдесят — сто рублей на выигрышную комбинацию. Иногда они прихватывали с собой и моего брата, чтобы он помогал расставлять деньги в кассе тотализатора, и незаметно втянули в игру и его. Брат часто и увлеченно рассказывал мне о лошадях и о Викторе Дмитриевиче и Леше Хромом, какие они замечательные люди и как здорово разбираются в лошадях. Причем играют на бегах не вслепую, как многие игроки, а по подсказке наездников. Виктор Дмитриевич и Леша знают не одного наездника, а сразу нескольких. Чаще других упоминались фамилии Пети Гречкина, Сергея Васильевича Тарасова, Юры Галченкова, Миши Феоктистова, и называли даже какого-то «генерала», опуская для конспирации его настоящую фамилию. Эти наездники бывали у них в ателье, шьют или шили костюмы у Виктора Дмитриевича и когда едут на выигрыш, то звонят в ателье, и Виктор Дмитриевич с Лешей бросают работу и мчатся на конюшню, чтобы обговорить с наездниками, сколько денег поставить на ту или иную комбинацию. При этом брат щеголял такими словами, как «ординар», «двойной», «сыграть в парном», «проскачка», «прошла финишный столб галопом», которые звучали для меня интригующе и совершенно ни о чем не говорили. Нам с матерью не очень нравилось увлечение брата бегами, и я не раз собирался поговорить с ним серьезно. Я в ту пору переживал неудачную влюбленность, и мне было не до него. Любимая девушка поступила со мной не совсем красиво, и я никак не мог от нее освободиться, и как-то так получилось, когда брат в очередной раз позвонил и пригласил меня на ипподром, я собрался и поехал вместе с ним. «А почему бы мне не посмотреть на лошадей? — подумал я. — Может быть, они и помогут мне избавиться от Ольги и забыть ее. Ведь недаром же говорят: клин клином вышибают», а мне давно уже пора было выйти из транса после столь неудачной любви.
Брат привел меня на ипподром, поставил на трибуне возле барьера и куда-то исчез с Виктором Дмитриевичем и Лешей, появился не скоро, а с каким-то стариком:
— Знакомься, директор ипподрома…
Старик протянул руку и назвался по имени-отчеству:
— Геннадий Иванович…
По лицу брата я догадался, что меня разыгрывают и стоящий передо мной человек никакой не директор. Старик сам рассеял мои сомнения:
— Я подпольный директор, так окрестили меня на ипподроме, а настоящий директор Долматов… — И по тому, как он произнес фамилию «Долматов», я понял, что для старика директор ипподрома такое же важное лицо, как для студента декан факультета. Но старик и сам по себе представлял интерес. Он не стоял на месте ни секунды спокойно, а вертелся словно на вертеле, старика то и дело дергали за рукав, хлопали по плечу, а он всем улыбался и что-то говорил непонятное для меня:
— На Искитима не ставь… Кабир сильная лошадь, но на ней такой жулик едет… А вот Левкой может привезти деньги… Все зубы на лошадях проел… С тринадцатого года хожу на бега…
Дослушать Геннадия Ивановича мне не пришлось. К старику подскочили какие-то парни, схватили его под руки и утащили куда-то вниз, и я снова остался один. Мне положительно нравилось на ипподроме. Чудные старики, бормочущие что-то себе под нос, подозрительные мужчины, шныряющие вокруг с тайным видом, хорошенькие женщины, благообразные старушки с программками в руках — все эти люди перемешались в каком-то чудовищном калейдоскопе и все время находились в движении.
На лошадей, казалось, никто не обращал внимание. Но так только казалось непосвященному человеку. Стоило ударить колоколу, как все собрались на трибунах, словно верующие в церкви, и от деланного равнодушия к лошадям не осталось и следа. Я не заметил, как всеобщая лихорадка захватила и меня, и я неотступно следовал за старт-машиной, за которой бежали лошади. Затем машина резко оторвалась и съехала на бровку, а лошади красиво и кучно вошли в первый поворот.
— Вот жулики, что делают… Пропускают кого-то…
— Нос опять не поехал… убрался…
— Сдернул лошадь, сволочь, она и заскакала…
— Лазурит не отдаст… Раз Петя поехал, выиграет…
— Посмотришь, Горилла концом возьмет…
— Ну и жулики…
— А что вы хотите от них? Им тоже жить нужно…
— Левкой-то берет, берет…
— На финише встанет…
— Вот вам и Гречкин, мастерски исполнил проскачку…
Я глядел на беговую дорожку во все глаза и ничего не понимал, но это непонятное приятно волновало меня. Мне казалось, что до самого финиша неясно, кто победит. Но многие игроки уже не смотрели на дорожку, словно у них пропал всякий интерес к заезду, и зарылись носами в свои программки, делая в них какие-то отметки. Наездника, выигравшего заезд, почему-то освистали, и чаще других на трибуне произносилась фраза:
— Шлепаный заезд… Все деньги на конюшне сняли…
Эти слова мне ни о чем не говорили. Я лишь заметил, что снова началось великое перемещение людей с трибун в залы, где находились кассы тотализатора. А через минуту диктор по ипподрому объявил результат заезда:
— Бег выиграл наездник второй категории Карамов, выступающий на втором номере Пунце. Пунец показал резвость две минуты двадцать четыре секунды ровно… — и снова последние слова диктора заглушил свист, а на табло, напротив трибун, ярко зажглась рядом с буквой «О» цифра 2 и чуть подальше 13.
Вынырнувший откуда-то брат все разъяснил:
— В ординаре дали тринадцать рублей… В длинном прилично заплатят, рубликов двести, как пить дать, а если еще сзади темная придет, то и вообще доски не хватит, чтобы написать выдачу… Вот тебе и Пунец… Считал же дома, а здесь будто черт отвел от него, и сыграл в самую последнюю минуту Лазурита, послушался Виктора Дмитриевича с Лешей… — И тут же, без перехода, закончил: — Тебе обязательно нужно сыграть… Первый раз почти всегда везет, — и он протянул мне программку, где были указаны лошади, которые побегут в следующем заезде.
— Ты мне хоть толком объясни механику, а то я ничего не понял в длинном, ординаре…
— Здесь арифметика простая. Ты должен из восьми лошадей, которые побегут во втором заезде, угадать одну, которая выиграет бег, и одну нужно угадать в следующем заезде. Это и называется поставить в длинном. Видишь, на табло светит буква «Д»? Но можешь сыграть и в ординаре, то есть угадать лошадь только в одном заезде. Это, конечно, легче, но и денег получишь меньше… Так что выбирай…
— Посмотреть лошадей можно?
— Можно, сейчас будет проездка, только это почти ничего не дает…
И действительно, заиграла музыка, и на дорожку ипподрома выехали лошади: гнедые, вороные, серые в яблоках и без яблок, с гордо поднятыми головами и с головами, опущенными вниз, с косящими на публику глазами. Лошади прошли перед трибунами и разъехались в разные стороны, чтобы сделать проминку. Я залюбовался животными, но особенно мне приглянулась лошадь под номером пять. Я посмотрел в программку: Лайбель, едет Иванов.
— Ну, выбрал? Пошли ставить, а то не успеем до звонка…
В кассовом зале стоял гул, смешанный с табачным дымом. У окошечек толпились люди, а в разных концах зала раздавались голоса…
— Два-пять…
— Семь-один…
— Один-один по двадцать копеек…
— Пять-пять…
— Четыре-три, десять копеек…
— Что это они выкрикивают?
— А каждый на свою комбинацию напарника ищет…
— Это что-то вроде на троих…
— Попал в точку… Одному не под силу сыграть ту или иную комбинацию, вот они и складываются… Займи очередь в кассу, я сбегаю посмотрю, кого играют на других этажах…
Через минуты три он появился у кассы:
— Восьмого разбили в три строчки…
— А что это такое?
— Фаворит, его все и играют, а он не придет первым… Наверняка завалит…
— А я пятого с третьим поставлю…
— Если угадаешь, кучу денег получишь…
С билетами в кармане мы вернулись на трибуну. Теперь уже я все внимание сосредоточил на своей лошади и прикидывал в уме ее шансы. Сравнивая Лайбель с другими лошадями, я все больше и больше убеждался, что ошибся, и у меня даже шевельнулась мысль: а почему я не сыграл восьмого? Но уже лошади готовились к старту, и переигрывать было поздно, а через мгновения заезд начался. Опять диктор по радио громко и радостно объявлял, что такая-то лошадь сделала проскачку, а такая-то ведет бег, опять свистели с трибун, когда на финишную прямую голова в голову вышли две лошади: восьмая и, как ни странно, пятая. Так они и пересекли линию финиша, и я до последней минуты был убежден, что победила восьмая, так она здорово вытянула шею на финише. И каково было мое изумление, когда диктор объявил:
— Бег выиграла лошадь под номером пять, Лайбель, выступавшая под управлением наездника Иванова. Лайбель опередила на четверть головы восьмого номера Пунктуацию и показала резвость две минуты двадцать две секунды ровно…
— Ну вот и доехали, а ты говорил… — и брат радостно потер руки.
— Как же они определили, что выиграл пятый, да еще на четверть головы…
— А по фотофинишу… Здесь все как в аптеке, а теперь будем болеть за третьего, чтобы он выиграл бег в своем заезде…
Третий почему-то сразу мне не понравился. На проездке моя лошадь выглядела неказистой по сравнению с другими лошадями, все время опускала голову вниз и уж не шла ни в какое сравнение с первым номером. И когда ударил колокол и лошади рванулись вперед вслед за стартовой машиной, повел бег, как я и ожидал, первый номер, и лидировал почти всю дистанцию, но на последнем повороте неожиданно заскакал, и пока наездник его сдерживал, другие лошади объехали его.
— Я ж говорил, что он собьется, — лихорадочно блестя глазами, заметил брат.
Наша лошадь все так же бежала ровно на третьем месте, а на финишной прямой неожиданно для всех первые две лошади заскакали, и наездники так и не смогли их остановить до финиша, и они так и прошли финишный столб галопом. На третьем месте была наша лошадка. От неожиданности я даже не дышал. Я видел, что и брат оторопел и все еще не верит, что именно на первом месте признают третьего номера, а потом выдохнул:
— Рубликов двести дадут… Эту комбинацию почти никто не играл… Ты стой здесь, я пойду у Виктора Дмитриевича с Лешей спрошу, — и он убежал от меня.
Я остался один, несколько раз доставал из кармана счастливый билет, смотрел на него и снова прятал в карман. «Сколько, интересно, дадут… Неужели за рубли могут заплатить двести рублей?» Меня кто-то тронул за рукав. Я оглянулся. Ко мне доверительно наклонился незнакомый мужчина и зашептал на ухо:
— Дай рублик, комбинацию знаю… С конюшни сказали…
Я заколебался, мужчина рассеял мои сомнения:
— Верные деньги… Знающий человек сказал… Я двадцать лет на бега хожу и всех знаю… Должна прийти наша, и в хороших руках. Ему в этой компании, по сути дела, и ехать не с кем, одна шпана…
— Какая комбинация?
— Семь-семь, — шепотом выдавил мужчина и обернулся вокруг, словно проверяя, не подслушал ли его кто из игроков…
— Идем…
В кассовом зале кричали уже через одного и все разное. Поставив сразу пять рублей на указанную комбинацию, мы вернулись на трибуну, и тут же ударил колокол. Шпана, о которой так неуважительно отзывался новый знакомый, так рванула со старта, что лишь одна наша лошадь под номером семь осталась в хвосте… Но я уже не смотрел на беговую дорожку, а все свое внимание сосредоточил на табло, где вывесили выдачу за состоявшуюся комбинацию пять-три. Сто тридцать рублей! И хотя не двести, но тоже неплохо, пополам с братом по шестьдесят пять рублей, за вычетом проигранной десятки получается чистая прибыль полсотни… Так жить можно…
— Не едет наша, вот мошенник… — забормотал мой новый знакомый и, как-то виновато посмотрев на меня, боком, боком, незаметно скрылся.
Наша лошадь не пришла и в пятом заезде. Больше я уже не играл. Я заметил, что к последнему заезду многие игроки опустошили свои карманы и из игроков превратились в безучастных зрителей. Бега для них сразу же потеряли всякий смысл. Я не знал, что делать с выигранным билетом, и искал глазами брата, и он, словно подслушав мои мысли, появился передо мной:
— Получил деньги?
— Нет еще…
— Пошли быстрей в кассу…
Выигрыш мы получили в той же кассе, в которую ставили деньги.
— Виктор Дмитриевич с Лешей пятьсот рублей сняли. Сразу пятью билетами кончили… Приглашают на коньяк, я за тобой…
— Спасибо… Я не могу сегодня…
— Ну как знаешь, я побежал… Приходи в среду, встретимся здесь же, — и брат скрылся в буфете, а я вместе с толпой вышел с ипподрома.
На остановке автобуса не видно было, так его облепили со всех сторон, и с большим трудом мне удалось повиснуть на подножке, и, если бы не подпирали сзади другие пассажиры, я бы свалился. Странное ощущение испытывал я от бегов. За четыре часа, проведенные на ипподроме, я ни разу не подумал об Ольге и совсем не заметил, как пролетело время. Лошади как-то само собой вытеснили из головы все другие мысли. Я видел, что и люди, стоящие рядом, все еще находятся во власти игры.
— Ведь считал дома одного Ильменного, а сыграл Гамбита…
— И я тоже…
— Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет… Разогнать бы их всех…
— А ты возьми и не езди, кто тебя заставляет… А… не можешь, то-то и оно.
Мужчина, который только что говорил о жуликах, как-то сразу сник и не нашелся, что возразить. Но за него ответил сосед:
— Конченые мы люди… Кто хоть однажды побывал на ипподроме, да еще сразу выиграл, не дай бог, того ноги сами принесут на ипподром второй раз, — и почему-то посмотрел на меня, словно у меня было написано на лбу, что я впервые был на бегах и даже выиграл пятьдесят рублей.
— Игроки? А билеты кто будет брать? Или и на билет не осталось?.. — и водитель автобуса резко тормознул, чтобы немного утрамбовать народ.
Все заулыбались, и разгладились напряженные лица, а водитель продолжал выступать:
— Когда выигрываете, то вас арканом на автобус не затащишь, на такси уезжаете с шиком…
— Выигрываем десятку, а в следующий раз больше оставляем на ипподроме. Уж так здесь устроено…
— Ну не скажи… — но дослушать счастливого безбилетника мне не пришлось.
Автобус прибыл на конечную остановку, и все вывалились из салона. Люди ныряли в метро с твердой уверенностью вернуться на бега через два дня и отыграть проигранные деньги, а мне почему-то не хотелось расставаться с этими несчастными людьми. Мне понравились и бега и люди, ехавшие со мной в автобусе. Даже выигрыш отошел как-то на задний план. Я вспомнил о деньгах лишь около дома. А ведь мог выиграть и больше, поставь я пять-три не рублем, а несколько билетов, почему-то пронеслось у меня в голове помимо желания. В следующий раз так и сделаю, поеду на бега и поставлю сразу не рубль, а пять.
Поехал и заболел. Теперь неделя у меня состояла не из семи дней, как обычно, а из трех: среды, пятницы, воскресенья, тех дней, когда проходили на ипподроме испытания лошадей. На эти дни старался не принимать дела в суде, а если вдруг какое-нибудь дельце и выскакивало на пятницу или среду, то я отдавал его другому адвокату. В пять часов меня уже не было в юридической консультации, я не спеша добирался до метро «Динамо», втискивался в переполненный трамвай, быстро бежал в кассу, брал билет и только тогда успокаивался.
Постепенно освоил лексикон бегов и не выглядел на трибуне профаном, не удивлялся, когда слышал слово «кроссинг» или «проскачка». Я близко сошелся с директором ипподрома и, как мне казалось, завел несколько полезных знакомств со знающими людьми. Моя голова заполнилась всевозможными сведениями о лошадях, но познания мало помогали. Выигрывать крупно не выигрывал, а по десятке перетаскал на бега уже целое состояние. Но странное дело: проигрывая, я не огорчался, а лишь испытывал чувство досады на себя. На ипподроме так искусно перекачивали деньги из кармана, что сознавал это только дома, а в пылу игры даже об этом не думал. Я был уверен, что и с другими игроками происходит точно такая же штука. Игрокам казалось, что еще чуть повези — и они бы забрали много денег, причем дармовых, денег, которые валяются на полу, и их нужно лишь не полениться поднять. Вот это «чуть-чуть» и приводило людей вновь и вновь на бега. Их обманывали, не скрывая этого, а они делают вид, что не замечают обмана. Просто, наверное, люди привыкли, чтобы их обманывали, и не только на бегах, но и в обыденной жизни, с той лишь разницей, что в жизни это делается более искусно и не так заметно, и обман часто выдается едва ли не за благо.
Я понимал, что бега все больше и больше затягивают меня, но поделать с собой ничего не мог, да и не хотел, если признаться честно. Лошади здорово отвлекали от других мыслей. Если был не беговой день, то я ехал за программой, а потом разрабатывал ее дома, составляя различные комбинации, смотрел, в какой компании эти же лошади бежали в прошлый раз, делал поправку на погоду и на мастерство наездника. Но вся эта арифметика выходила мне боком.
И все же, кроме порочного, было что-то в бегах по силе воздействия и от искусства. Даже стоя в очереди за программой, я испытывал истинное наслаждение. Мужчина врал самозабвенно, забыв про все на свете, врал, искренне веря в то, о чем говорил:
— Вчера обобрал почти весь ипподром… В первом заезде угадал, во втором угадал и как сел на лошадь, так и не слез до последнего заезда…
— И в пятом угадал?
— А как же… — И, видя, что спрашивающий не верит, для убедительности добавил: — Да я ее, эту Дрофу, второй год ловлю…
— А сколько давали от Кочана к Изгою? — все еще не верили в очереди…
— Двадцать семь рублей с копейками, — не моргнув ответил мужчина.
Все знали, что он врет, но в то же время всем хотелось, чтобы так оно и было в действительности, как говорит мужчина. Вот он, счастливчик, который выиграл крупную сумму, значит, завтра может повезти и им. По лицам людей я видел, что многие завидуют говорившему, завидуют, но не могут высказать то же самое. В мыслях каждый из них выигрывал, и не один раз. После бегов все было так ясно и понятно, и я на себе испытал это чувство, почему не сыграл именно выигрышную комбинацию, а поставил деньги на совсем других лошадей. Мне был ясен механизм фантазии говорившего, а мужчина продолжал врать:
— Я часто выигрываю…
Он нанизывал одну ложь на другую, но ни у кого не поворачивался язык остановить его. Своей ложью, как ему казалось, он никому не причинял вреда, кроме себя. Но незаметно в очереди осмелели и другие и начали придумывать не хуже.
— Я тоже в том году во всех заездах снял, — и про первого мужчину все сразу забыли. — Тогда еще старик Калала ездил…
— Да, таких наездников сейчас нет… Любая лошадь в его руках привозила деньги. Однажды только опростоволосился. Да и то, говорят, он не виноват. На лошадь аппарат навели, она и встала…
— Какой аппарат?
— Какой, какой, обыкновенный. Один инженер ходил на бега с машиной адской, сам изобрел, наведет на лошадь — и та не поедет… Такие фокусы выделывал, пока его не поймали…
— Врешь…
— Спроси у директора…
— Я про аппарат не слышал, а вот про мух знаю. Один все время выигрывал…
— Как это?
— Очень просто даже… Оторвет мухе крылья и пускает ее на программу. Против какой лошади муха остановится, на такую и делает ставку… Ни разу промашки не было…
А ведь от этих баек и отупеть можно, и я с ужасом признался себе, что забыл, когда за последние полгода был в театре, а ведь раньше не пропускал ни одной премьеры и регулярно просматривал журналы. А теперь если что и читаю, то только про лошадей. Даже перестал просматривать юридические новинки по работе. Я посмотрел на людей, стоящих рядом, пытаясь отыскать на их лицах признаки сомнений, которые мучали меня. В очереди по-прежнему все разговоры вертелись вокруг лошадей. Люди тянулись друг к другу, разбивались на кучки и выкладывали все свои секреты. Такого понятия, как отчуждение, здесь не существовало. Но этих же людей нельзя было узнать на ипподроме, словно их кто подменял. Спроси у него комбинацию, которую он поставил, так и родному брату не скажет, не то что чужому человеку.
Кто-то тронул меня за рукав. Я обернулся, передо мной стоял Виктор Дмитриевич, закройщик из ателье.
— Привет, старик, возьми и мне программку…
В метро мы спустились вместе и, доехав до Павелецкой, распрощались, он вышел, а я поехал дальше. Брат познакомил меня с Виктором Дмитриевичем, Лешей Хромым, Геннадием Николаевичем, но не мифическим директором ипподрома, а с настоящим знатоком бегов, но они очень отчужденно встретили меня, да и их отношение к брату после моего увлечения бегами резко изменилось, и они уже не доверяли ему расставлять деньги на выигрышную комбинацию, а если и просыпали какую-то информацию, то очень скупо и явно второстепенного характера. Они почему-то побаивались меня, я работал адвокатом, а для них это было равнозначно службе в прокуратуре или в суде. Это всеобщее заблуждение — путать адвоката с прокурором и судьей, и они резонно опасались, как бы их не привлекли к ответственности за нечестную игру на ипподроме. Побаивались они также и другого: как бы я не сыграл их комбинацию и тем самым уменьшил выдачу в тотализаторе. А играли они действительно нечестно, ходили к наездникам в конюшню и по их подсказке расставляли деньги в кассе, а потом делились выигрышем с ними. Тогда я еще не знал, что это распространенное явление на ипподроме, и люди типа Виктора Дмитриевича, Геннадия Николаевича и Леши Хромого называются зарядчиками, и у каждого наездника есть несколько таких человек, кому он доверяет ценную информацию о том, кто едет в заезде на выигрыш, а какую лошадь не нужно даже трогать копейкой. И вполне естественно, что все это было для меня ново и не совсем понятно. Это во-первых. А во-вторых, они побаивались меня и по-другому. Если брат играл по мелочи и ставил на комбинацию рубликом, то я мог сыграть и покрупнее, и мне в то время ничего не стоило поставить на выигрышную комбинацию и десяткой вслед за ними, а это уже наносило им материальный ущерб, и поэтому они старались сделать так, чтобы мы с братом не знали, какую лошадь они играют в том или ином заезде. И все же в какой-то мере они явились моими первыми учителями на ипподроме.
Я слушал их разговоры о лошадях, наездниках, кто с кем дружит, запоминал людей, которые к ним прибегали из конюшни и в самый последний момент подсказывали лошадок, каких нужно играть в заезде, и все это мотал себе на ус. Брат мой в этом отношении был самый настоящий дилетант и играл на бегах фактически вслепую, выбирал просто лошадь, которая ему нравилась в заезде, и играл ее, нисколько не заботясь о том, какая у нее резвость, есть ли запас и какой наездник на ней едет. А это ведь целая наука! Некоторые игроки следят за своей лошадью с момента ее поступления на ипподром с завода, знают всю ее родословную, вплоть до пятого колена, и в какую погоду она бежит лучше, в грязь или в сухую, аккуратно ведут статистику всех выступлений, собирая беговые программки за много лет, и больше того, следили не только за лошадьми, но и вели досье на наездников: кто с кем дружит, а кто друг с другом злейшие враги, оказывается, это тоже имеет немаловажное значение. И все равно в основной массе игроки всегда проигрывали, а выигрывали единицы, типа Виктора Дмитриевича, Леши Хромого и Геннадия Николаевича. Они не следили особенно за лошадями, зато имели дела с наездниками, и это с лихвой покрывало незнание лошадей.
Обычно, когда кто-нибудь из наездников, Гречкин или Тарасов, звонили в ателье и говорили, что сегодня собираются выиграть в таком-то заезде, рабочий день Леши Хромого и Виктора Дмитриевича тут же заканчивался. Они под любым предлогом сматывались с работы, встречались с Геннадием Николаевичем, чаще всего он приезжал к ним в ателье, и все вместе они к четырем часам отправлялись на ипподром. За два часа до начала бегов они уточняли кое-какие сведения, разнюхивали у таких же зарядчиков, как и они, кто из наездников собирается выиграть в предыдущем заезде, и от этой лошади расставляли деньги к лошади, на которой ехал Гречкин или Тарасов. За пять минут до начала заезда они разбегались в разные стороны, как тараканы разбегаются от света, и уследить за ними было очень трудно. Причем кто-то один из них расставлял для отвода глаз ложную комбинацию, ставил деньги совсем не к той лошади, которая должна была выиграть, делалось это на тот случай, если кто-либо из крупных игроков решит подследить за ними и продублировать ту же комбинацию, а двое других в это время расставляли деньги именно к тем лошадям, которые им подсказал Гречкин либо Тарасов. Иногда даже они расставляли не сами, а приглашали для этой цели совсем незнакомых с бегами людей, вроде моего брата, а сами спокойно стояли на трибуне и наблюдали за разминкой, словно их совершенно не интересует происходящее на дорожке. И зарядчики, следившие за ними, терялись в догадках, не зная что и думать: играть или не играть в следующем заезде лошадь Гречкина. Видели их у кассы уже когда они подходили получать деньги за выигранную комбинацию. Но и мимо они пролетали часто. Поставят сто — двести рублей по указке Гречкина или Тарасова, а их лошадь в заезде чуть ли не последней остается. После такой неудачи Виктор Дмитриевич с Геннадием Николаевичем идут на конюшню выяснять отношения. Ответ у наездников в таких случаях обычно один: лошадь не заладила ходом, в следующий раз отмажемся, а через неделю повторялась та же картина, они крупно заставляли лошадь Гречкина, а она сразу же начинала скакать, и в досаде дружки выбрасывали в урну целую пачку билетов и на чем только свет стоит кляли Петра Васильевича Гречкина и его лошадь. При такой методе игры они очень крупно проигрывали, и естественно, вставал вопрос: а где же они берут такие большие деньги? Бега на ипподроме происходят три раза в неделю, в месяц беговых дней минимум двенадцать, и выходит, что здесь не хватит не только зарплаты закройщика вместе с чаевыми, но и от зарплаты академика вряд ли что останется через полмесяца, чтобы проигрывать по двести — триста рублей в день. Об источнике финансирования Виктора Дмитриевича и Леши Хромого проговорился брат. И Виктор Дмитриевич, и его напарник по игре занимаются в ателье темными делишками. Они берут у клиентов заказы, минуя кассу, и сами потом рассчитываются с портными. Конечно, на это пойдет не всякий клиент, а только тот, кто их хорошо знает, но даже и такие клиенты иногда по месяцу бегают за Виктором Дмитриевичем и Лешей, чтобы получить свой костюм или пальто. Случается такое чаще всего тогда, когда их преследует полоса неудач на ипподроме: деньги, взятые у заказчиков, они проиграли, а заплатить за работу портным нечем, вот они и скрываются от клиентов до лучших времен. Пока им все сходило с рук, но ведь верно же говорится: сколько веревочке ни виться, а конец придет, и тогда Виктору Дмитриевичу с Лешей Хромым придется сушить сухари впрок и отправиться в места не столь отдаленные.
Конечно, самая колоритная фигура из всей этой святой троицы — Геннадий Николаевич. Лет ему под пятьдесят, среднего роста, всегда подтянутый и очень подвижный, с бегающими глазами. Геннадий Николаевич официально нигде не работает и, судя по отрывкам его разговора, промышляет спекуляцией. Он все время торчит либо на ипподроме, либо у своих дружков в ателье, и дела он свои обделывает тут же, на бегах, находит нужных клиентов, одним что-то продает, у других что-то приобретает, и вокруг него всегда вертятся подозрительные личности. А ведь не так давно, говорят, Геннадий Николаевич занимал ответственные должности, был и начальником главка, и управляющим строительным трестом, и директором парка, но увлекся бегами — и покатился вниз по служебной лестнице, и скатился в конце концов на самое дно, однако об этом падении нисколько не сожалеет, а чувствует себя вполне счастливым человеком.
И хотя я немного у них поднатаскался, слушая их разговоры, наблюдая за игрой, вникая постепенно в механизм бегов, все же настоящим своим учителем на ипподроме я считаю не их, а Мишу-зарядчика.
СТАЖИРОВКА
С Мишей-зарядчиком меня познакомил Геннадий Николаевич. Я видел Мишу на трибуне, и раньше он возбуждал во мне интерес своей подвижностью. Он буквально носился от трибун к кассе, как метеор, и вокруг него всегда толпился народ. Заинтересовал он меня и по другой причине, с ним почти всегда приходила на бега очень красивая девушка, но она не бегала, не металась, как он, а все время стояла на одном и том же месте, и Миша, расставив в кассе билеты, возвращался к ней, и они уже вместе наблюдали за состязанием лошадей. По ходу бега Миша наклонялся к своей девушке и что-то объяснял ей, а я удивлялся, глядя на него, как это он так смело может оставлять одну красивую девушку, да ее в этом бедламе в любую минуту могли увести. Тем более что самого Мишу красавцем никак назвать нельзя было, даже что-то неприятное и хищное было в его взгляде, но, видимо, он чем-то все же удерживал ее возле себя, и она продолжала изо дня в день приходить вместе с ним на бега, словно получала огромное удовольствие от такого пустого времяпровождения. Но Геннадий Николаевич, Леша Хромой и Виктор Дмитриевич очень лестно отзывались о Мише, и в частности, о том, как он здорово разбирается в лошадях, и не раз советовались с ним, когда им нужно было выбрать для игры лошадку. Своей осведомленностью Миша подавлял не только их, но и многих других игроков на ипподроме. Его знали на всех трибунах. Вот почему, когда Геннадий Николаевич подвел Мишу ко мне и представил, я обрадовался.
— Ты хотел проконсультироваться у юриста… Вот человек, — и он указал на меня, — настоящий адвокат, работает в юридической консультации…
Я представился и кивком головы подтвердил слова Геннадия Николаевича, но в данный момент меня интересовал очередной заезд, и я собирался идти в кассу, чтобы сыграть выбранную лошадку. Миша заглянул в мою программку и, увидев отмеченную кружочком лошадь, тут же бурно запротестовал:
— Что вы собираетесь делать? Не играйте эту доходягу… Она же хромая, ноги поставить не может, я только вчера разговаривал с наездником, и он даже вообще хотел ее снять, а о том, чтобы ехать на выигрыш в заезде, и разговора не было… Она придет у него в порядок недели через две, не раньше, сыграйте лучше пятого номера. Пупко вроде собирался выиграть в заезде, и люди его к нему ставили, сам видел зарядку по кассам… А о деле давайте поговорим после бегов, я к вам подойду, и мы пойдем куда-нибудь в кафе и там все обсудим… Договорились?
И, приняв мое молчание за знак согласия, он сорвался с места, и его огромная фигура замелькала среди игроков. За ним сразу же ринулось несколько человек, чтобы подсмотреть, какую комбинацию он будет расставлять по кассам. Я не послушался Мишу и сыграл свою хромоножку, как я окрестил после разговора с ним свою лошадку, и проиграл, конечно. Она действительно несколько раз скакала и прибежала почти самая последняя в заезде. Выиграла же бег именно та лошадь, которую и назвал Миша. И хотя за нее платили немного, я все же еще раз подивился осведомленности Миши и с каким-то непонятным нетерпением стал ждать окончания бегов, чтобы поближе познакомиться с ним.
После последнего заезда ко мне подошли, но не сам Миша, а его девушка и попросила, чтобы я немного подождал Мишу, пока он получит деньги в кассе на выигранные билеты, и мы вместе с ней остались на трибуне дожидаться Мишу. Я искоса наблюдал за девушкой и отметил про себя, что она на самом деле так же красива вблизи, как и издалека. Высокая, стройная, светловолосая, с большими серыми глазами, она мне удивительно чем-то напоминала мою девушку, которую я все еще никак не мог забыть. Увлечение лошадьми немного помогло мне, и я уже постепенно стал забывать Ольгу, и вот эта встреча с сероглазкой снова всколыхнула во мне забытое чувство, и я уже был не рад, что согласился встретиться с Мишей. Но грустные мысли не успели разгуляться, подлетел Миша, радостный, довольный, схватил нас под руки и потащил в кафе «Аист». По случаю выигрыша он был в отменном настроении, много говорил о лошадях, о наездниках и постепенно растормошил и меня, я перестал думать об Ольге и включился в беседу за столиком. Но, наконец, перестав говорить о лошадях, Миша выложил свое дело. Вопрос оказался не столь сложным и касался не лично его, а девушки, которая сидела рядом с нами и больше молчала, даже когда выпила два бокала шампанского. Я успокоил Мишу, чтобы он не волновался за нее, никакой опасности ей не грозит, и он, кажется, действительно поверил мне и сделался еще разговорчивее. Вопрос и в самом деле был не очень сложным: его девушка или жена, я еще тогда не знал, кем она ему приходится, кончила институт и как молодой специалист была распределена в одно учреждение, но, проработав год, подала заявление об увольнении по собственному желанию. Нину, а ее звали Нина, естественно, не отпустили, молодой специалист должен по закону отработать три года, и тогда она ушла самовольно, оставила в учреждении трудовую книжку и вот уже с полгода нигде не работала, а ошивалась вместе с Мишей на ипподроме. Их в основном интересовало одно: не привлекут ли Нину к уголовной ответственности за тунеядство, ведь она уже несколько месяцев нигде не работает. В ту пору только что вышел Указ Президиума Верховного Совета об усилении борьбы с антиобщественными явлениями, они его прочитали и заволновались. Я разъяснил им юридические тонкости: человека привлекают к уголовной ответственности за тунеядство, если он не только не работает, но и еще занимается антиобщественной деятельностью, извлекает нетрудовые доходы и ведет паразитический образ жизни. А так как Нина, вполне понятно, ничем подобным не занимается и ведет скромный образ жизни, при этом я выразительно посмотрел на нее, и находится на иждивении мужа, то она может не работать очень долго, и никто ее не тронет. В крайнем случае, сделают предупреждение и предложат устроиться на работу, а что касается статуса молодого специалиста, то раз администрация учреждения за полгода не сделала никакой попытки вернуть ее на работу, то о ней просто забыли, и она им не нужна, и поэтому Нина спокойно может подыскивать себе работу по вкусу. На том с этим вопросом мы и покончили и за весь вечер больше к разговору о работе Нины не возвращались, а говорили в основном о лошадях. Причем говорил один Миша, а я внимательно слушал. Он выложил столько подробностей о бегах, и в частности о наездниках, кто с кем дружит, как они заранее договариваются выпустить вперед ту или иную лошадь, рассказал он и о людях, связанных с наездниками, и в этом отношении Геннадий Николаевич, Виктор Дмитриевич и Леша Хромой — младенцы перед настоящими зарядчиками и фактически довольствуются лишь крохами, когда Гречкин или Тарасов подскажут им лошадку, о которой уже знают еще человек десять. И вообще, доверительно сообщил он, заканчивая разговор о наездниках, лучше не связываться с ними, они, как правило, сами ничего не знают, ими командуют их люди, которые приказывают ехать им на выигрыш или не ехать, а лучше регулярно следить за лошадями самому, выписывать их работу в программке, смотреть внимательно разминку и играть по шансу…
— Как это по шансу… — вырвалось у меня.
Миша какое-то мгновение поколебался, затем переглянулся с Ниной и докончил:
— А так, по шансу… Но для этого нужно обязательно иметь свою кассиршу, чтобы она ставила билеты на выигрышную комбинацию уже после звонка, когда лошади в заезде пробежали чуть ли не полкруга. Тогда легче выбрать для игры две, а то и одну лошадь и ставить деньги только от нее к двум-трем в следующем заезде.
Я сделал удивленные глаза, в которых, видно, читалось: «А разве так кто-нибудь играет?», но Миша не дал мне даже высказаться, а как о само собой разумеющемся докончил:
— Умные люди на бегах только так и играют… Для этой цели я и Нину хочу устроить работать в кассу ипподрома. Мы уже переговорили с кем нужно, этот человек велел приходить с трудовой книжкой…
— А вот это уже попахивает уголовщиной, и я бы вам не советовал толкать на это дело близкого человека. Ведь если это раскроется, то статью о мошенничестве, как минимум, можно пришить…
— Судьи на ипподроме сами играют по шансу, у них для этой цели даже есть собственная касса, куда они ставят билеты после звонка, так что этим никто не станет заниматься, им же невыгодно прикрывать столь доходную лавочку… И вообще ипподромом никто серьезно не интересуется. Все знают, что здесь творится бардак, но закрывают глаза на беспорядки… А что касается вашего опасения по поводу Нины, то я подумаю, может, и не стоит ее устраивать кассиршей… У меня ведь есть на бегах знакомая кассирша, я у нее играю иногда по шансу, но она очень много с меня берет. Я ей оставляю третью часть от выигрыша, и то она ненадежна и не всегда ставит после звонка… Вот я и хотел поставить это дело на более солидные рельсы… — И он, неожиданно для меня, сделал мне предложение: — Хотите играть вместе? Давайте будем складываться по двадцать — тридцать рублей и выигрыш делить поровну…
Предложение было заманчивое, Миша здорово разбирался в лошадях, и поиграть на паях с ним какое-то время было не вредно, и я согласно кивнул головой, сделав маленькую оговорку: только не по шансу, а обычным способом…
— Обычным так обычным, — и Миша рукопожатием скрепил наш договор.
И почти с год я стажировался у Миши. Нужно отдать ему должное, в лошадях он действительно разбирается отлично и наездников почти всех знает, но и подлец он оказался первостатейный. Много я узнал от него за время нашего общения, а вот выиграть так ни разу и не выиграл. Мы обычно встречались с Мишей часа за два до начала бегов, садились где-нибудь в укромном месте на трибуне, Миша вынимал программку и расписывал мне каждый заезд, как приготовишке: какая лошадь в заезде самая сильная и будет играться фаворитом, какая хромает — и ее играть не нужно, какая, напротив, имеет солидный запас и вот-вот должна поехать на выигрыш. Перебрав всех лошадей, он переходил к самому главному, к наездникам: с кем разговаривал за час до встречи со мной, а с кем он встречался еще вчера вечером, и подробно, с деталями передавал весь разговор, собирается или не собирается тот или иной наездник выиграть в заезде, и если нет, то почему, какую лошадь он именно боится, что она может его обыграть, и поэтому лучше сегодня его не трогать, а сыграть в следующий раз, когда он подберет более надежную компанию. Покончив с наездниками, Миша принимался за зарядчиков, именно тех людей, от которых в конечном счете все зависело, и здесь он напускал такого туману, что его трудно было понять, с кем же он все-таки разговаривал и какую информацию он из них вытянул. А когда я по своей наивности требовал от него какой-то определенности и более конкретных сведений, Миша глядел на меня как на неполноценного: разве можно от них узнать что-нибудь точно, за ними нужно следить, и наверняка можно будет сказать, кто из наездников поедет на выигрыш, а кто уберется лишь за пять минут до начала заезда. После такого его ответа я сникал и безропотно выполнял все Мишины указания. А указания его всегда сводились к одному: все деньги, которые мы выделили для игры, должны находиться у него. Ставить ту или иную комбинацию, пусть даже по шансу, он будет только в самый последний момент, когда подследит за тем или иным зарядчиком, либо каким другим способом пронюхает, кто выиграет в заезде. Передо мной же он будет отчитываться билетами, после каждого заезда он покажет, сколько проставил денег на ту или иную комбинацию.
И Миша действительно отчитывался! Показывал мне кучу билетов, которые он тут же выбрасывал в урну, так как на них значилась не лошадь, выигравшая бег в заезде, а, как правило, лошадь, занявшая второе-третье место. Но не играть именно тех лошадей, которые указывал Миша, я не мог. Он так убедительно, а главное, доказательно обосновывал, почему выиграет та или иная лошадь, что не поверить ему просто было нельзя. От Миши исходили какие-то флюиды, которые целиком захватывали других игроков, даже асов ипподрома, и они тоже соглашались с ним и играли лошадей, указанных им. И только потом, когда кончался беговой день, дома, в спокойной обстановке, анализируя очередной проигрыш, я вдруг ловил себя на мысли, что о лошадях, которые выигрывали в заезде, Миша почему-то никогда почти не говорил или отделывался скороговоркой: «Я эту лошадь не считаю», а вот о лошадях, приходившими вторыми или третьими в заезде, распространялся очень подробно. И все же до самого последнего момента у меня и в голове не укладывалось, что Миша ведет со мной нечестную игру и обманывает самым наглым образом.
Он играл на мои деньги, оказывается, подстраховочные комбинации, тех лошадей, которые могут прийти на втором-третьем месте, а лошадь, которую Миша считал на первое место, он играл один, отдельно от меня, и билеты с выигранной комбинацией откладывал в другой карман или передавал Нине, и та в конце бегов получала деньги в кассе. Подвох открылся совершенно случайно. Обычно я отдавал Мише деньги и стоял на трибуне, ждал, когда он после заезда придет ко мне и покажет билеты, которые поставил в кассу. Делал я так потому, что Миша знал всех зарядчиков и до самого звонка носился за ними по кассам, подсматривая, какую именно лошадь они расставляют, и только затем ставил свои деньги. Причем расставлял не на своей трибуне, а где-нибудь за двадцать или за восемьдесят копеек (на ипподроме, как и в обществе, есть свое разделение на классы. Публика состоятельная: артисты, врачи, расхитители социалистической собственности, писатели, торгаши покупают билеты за восемьдесят копеек, прямо напротив старта и финиша, рабочие прут за двадцать копеек, и, как всегда, промежуточную часть между ними составляет интеллигенция, к которой прибился и я, и билет на эту трибуну стоит сорок копеек), а здесь я случайно оказался внизу, мы спустились на первый этаж с одним знакомым в буфет, чтобы купить пиво и пару бутербродов, так как на нашем этаже буфет не работал, и увидел возле кассы Мишу, который расставлял билеты. Я, из простого любопытства, подсмотрел, какую комбинацию он ставит. И удивился! Он ставил совсем других лошадей, нежели те, которых мы с ним наметили на трибуне всего несколько минут назад. Миша меня не заметил и, расставив билеты в одной кассе, пулей полетел к другим кассам. За ним сразу понеслось несколько человек. Я, допив пиво со знакомым, поднялся на свое обычное место на трибуне, на третьем этаже. Заезд только-только начался, и Миши еще не было на месте. Выиграла именно та лошадь, которую расставлял Миша, а не та, которую мы наметили раньше, и я, конечно, обрадовался, что Миша проинтуичил и в самую последнюю минуту отказался от нашей комбинации и сыграл выигрышную лошадь. Победителей, как говорится, не судят. Но каково было мое удивление, когда минуты через две после заезда ко мне на трибуне подошел Миша и показал пачку билетов с лошадью не которая выиграла, а которую мы наметили играть раньше. Физиономия у меня вытянулась от таких фокусов Миши. Я видел собственными глазами, как он расставлял выигрышную комбинацию, а Миша подсовывал мне билеты с проигравшей лошадью, чтобы я посчитал их и выбросил в урну, и при этом так правдиво лгал, что если бы я сам не видел, что он ставил, я бы поверил ему. Я ничего не сказал Мише, а сделал вид, что поверил ему, сам же незаметно проследил за ним, когда он пошел к той кассе, где расставлял билеты, получать выигрыш — и убедился в обмане. Правда, получал деньги не он, а Нина, но это уже не меняло сути дела. Я понял все. Целый год Миша обманывал меня и играл на мои деньги. Я не удержался и все высказал ему в глаза. Сначала Миша попытался отрекаться и даже придумал версию, что эти выигрышные билеты он расставлял не себе, а одному из зарядчиков, который попросил его об этом, но когда я сказал, что видел собственными глазами, как Нина получала эти деньги и положила их к себе в сумочку, Миша перестал говорить глупости и посмотрел на меня как на тяжело больного человека и больше того — высказал то, что и следовало сказать в данной ситуации:
— Там, где деньги, никакой честности быть не может, и уж кто-кто, а адвокат отлично должен это понимать…
И мы расстались с Мишей. Я перестал ходить на ту трибуну, где он обосновался со своей Ниной, хотя и видел его по-прежнему, он ведь никогда не стоял на одном месте, а носился по кассам на всех этажах как заводной, но всякий раз, когда он сталкивался со мной, что-то вроде совести просыпалось в нем, он старался не смотреть мне в глаза, а если можно было, то и избежать встречи со мной. А вскоре я заметил, что Миша обзавелся уже новым идиотом и играет на его деньги, ведь на ипподроме не проблема найти человека, который не разбирается в лошадях, и заворожить его своими познаниями, а подойти к такому человеку Миша умеет. Он не привык играть на собственные деньги, но, хорошо зная уголовку, я не сомневался, что рано или поздно Миша нарвется на такого человека, который за обман оторвет ему голову. И я в какой-то мере не ошибся.
Примерно через полгода после нашего разрыва мне в юридическую консультацию вдруг позвонила Нина и попросила, чтобы я ее принял по очень срочному делу. Сначала я не захотел с ней разговаривать и даже повесил трубку, так больно меня задел неблаговидный поступок Миши, да и ее собственное поведение никак красивым назвать нельзя было, ведь она несомненно была в курсе обмана и даже принимала в этом самое непосредственное участие. Но когда Нина заявилась прямо в юридическую консультацию, я не посмел отказать ей в приеме. То, что она рассказала, после моего открытия не особенно поразило меня, хотя и выглядело очень неприглядно. Я адвокат и привык встречаться со случаями уродства в человеческих отношениях, вот почему, наверное, и не удивился особенно рассказу Нины. А удивиться было чему обычному человеку.
Миша — страстный игрок, и для него кроме игры на бегах ничего святого не существует. Он может запросто продать мать, друга, любимую девушку, если они как-то мешают игре. Оказывается, Нина вовсе не была его женой, а жила вместе с ним на положении содержанки. Он и познакомился-то с ней только потому, что она какое-то время была ему полезна. Нина, будучи еще студенткой, занималась на ипподроме в конной секции и как любитель иногда принимала участие в заездах. Такие заезды любителей администрация ипподрома устраивает примерно раз в месяц, чтобы проверить ту или иную лошадь, которую какой-нибудь наездник затемнил до невероятности. Едут любители честно, каждая хочет выиграть в заезде, и поэтому они, как правило, выбивают из лошадей все, что в них имеется, и лошадь в любительском заезде показывает все, на что она способна. Но честная езда кончилась, как только к любителям пробрался Миша и такие, как он, зарядчики. Они подкупали девушек и превратили любительские заезды в обычные, жульнические, и теперь угадать, кто выиграет у любителей, гораздо труднее, чем отгадать в профессиональном заезде. Миша на Нине заработал целую кучу денег, пока не догадались убрать ее из любителей. Но, как говорится, лиха беда начало. Другие любители уже вошли во вкус жульничества, и Нина еще долго приносила Мише пользу, поддерживая связь с бывшими подругами, и через них снабжала Мишу ценной информацией. Да и в игре она ему помогала. Своим обаянием Нина делала больше, чем Миша подлостью и хитростью. Она удерживала возле себя нужных для Миши людей, а то и вообще служила подсадной уткой, наседкой, знакомилась с человеком, на которого ей указывал ее повелитель. Миша на ней зарабатывал деньги, а ей эта игра тоже нравилась. Но она даже не догадывалась, что живет с самым настоящим миллионером, только подпольным. В конце концов Миша свихнулся на деньгах. Правильно говорят в народе: нажито махом, и пошло прахом. Так случилось и с богатством Миши. Его обворовали, причем самым простым способом. Деньги Миша, может быть, не все, а большую часть, хранил дома. И не придумал ничего умнее, как использовать для хранения денег способ, описанный Ильфом и Петровым в романе «Двенадцать стульев», он так же, как и герой романа, замуровал свои деньги в стул, под обшивку. Я на этом стуле сидел десятки раз, бывая в гостях у Миши, но мне и в голову не приходило, что я сижу на деньгах. Не знала об этом даже Нина и узнала лишь тогда, когда ее вызвали в милицию и предъявили вздорное обвинение в краже десяти тысяч рублей из стула в комнате Миши. Вернее, обвинение ей предъявил не следователь, он лишь деликатно выяснял обстоятельства дела, и Нина для него была одной из подозреваемых, обвинение в краже денег ей предъявил Миша, когда однажды, вернувшись домой, обнаружил в своей квартире распотрошенный стул, именно тот самый, под обшивкой которого он хранил наличными более десяти тысяч рублей. Заявил Миша в милицию вгорячах, не подумав о последствиях, а они для него оказались со знаком минус. Милиция, конечно, по его заявлению возбудила уголовное дело, но заинтересовалась и личностью Миши: а откуда у простого советского инженера с окладом в сто шестьдесят рублей в месяц оказались в наличии столь крупные деньги, вот Мише и пришлось изворачиваться, и в конце концов он вынужден был открыть источник своих побочных доходов.
Нину я успокоил. Если она действительно не имеет никакого отношения к краже денег, то пусть спит спокойно, никто ее не привлечет к уголовной ответственности. Одних подозрений бывшего сожителя недостаточно, чтобы предъявить ей обвинение, а уж если такое случится, то я с удовольствием возьму ее защиту на себя и в суде произнесу такую речь и так обрисую Мишу, что любой суд оправдает ее. На этом мы с ней и расстались. Больше я ее на ипподроме не видел. На какое-то время с трибун исчез и Миша, а затем его фигура снова замелькала среди игроков, но не было в его манерах былой уверенности, что-то сломалось в нем после кражи денег. Да мне и не до него уже было. Я все больше и больше втягивался в бега, изучал механизм жульничества, обзаводился новыми полезными знакомствами. Но странное дело, чем больше я вникал в суть, тем труднее становилось выигрывать, и тем больше я запутывался в сетях игры, смутно сознавая, что выбраться из этого болота мне вряд ли удастся.
ВАНЯ-ВАНЯ
Его так все и звали на трибуне, Ваня-Ваня, и если вдруг он не появлялся неделю-другую, то игроки начинали справляться о нем, так все к нему привыкли. И пропади на площади Пушкина памятник великому поэту, и то бы многие посетители центрального московского ипподрома не обратили на это внимание, а вот если исчезал на несколько дней Ваня-Ваня, это сразу бросалось в глаза. Он и впрямь был примечательной личностью на нашей трибуне. И хотя полностью его имя-отчество было Иван Николаевич, да и по годам его мальчиком никак не назовешь, Ивану Николаевичу под пятьдесят, имел уже двух взрослых дочерей, все обращались с ним как-то несерьезно.
Выигрывал кто-нибудь из игроков на трибуне, в магазин за бутылкой бежал Ваня-Ваня, словно не было людей помоложе его, такси нужно было поймать, кто-то торопился домой, опять же за машиной посылали Ивана Николаевича, подследить за зарядчиками в кассе — это уж прямая обязанность Вани-Вани, ведь он знал многих зарядчиков в лицо и кто за какого наездника расставляет билеты. И это при том, что в обычном смысле слова придурком его никак нельзя назвать. Иван Николаевич во всем остальном вполне нормальный человек, во всем… кроме бегов. Здесь у него пунктик, и очень существенный, и вот этот-то пунктик и давал основание игрокам на трибуне относиться к нему как к ненормальному или, точнее, как-то пренебрежительно, свысока, что ли, хотя если разобраться по существу, то оснований для такого наплевательского отношения к Ивану Николаевичу ни у кого не было. Просто для многих игроков бега были чем-то вроде развлечения, хобби, на худой конец, а для Ивана Николаевича лошади и есть настоящая жизнь, и другой жизни, без игры и без лошадей, он себе и не мыслил.
И если после окончания бегов все игроки шли домой, то Иван Николаевич оставался на ипподроме, перелезал через ограду, отделявшую трибуну от беговой дорожки, и медленно направлялся к конюшням, где он частенько и ночевал. Ипподром был для него родным домом. У Ивана Николаевича имелась двухкомнатная квартира, была жена, двое детей, но с семьей он давно уже не жил, проводя все время на ипподроме. Работал Иван Николаевич на заводе, неподалеку от ЦМИ, фрезеровщиком, зарабатывал прилично, рублей триста в месяц, но от этих денег у него ничего не оставалось на еду, он все их проигрывал на бегах. Чтобы как-то сводить концы с концами и находиться поближе к лошадям, по совместительству он устроился ночным сторожем на ипподроме, и хотя дежурил в конюшне через сутки, ночевать оставался каждый беговой день. В конюшне у него был свой уголок, телогрейка, которую он никогда не снимал, резиновые сапоги и конечно же клочок сена. Работа ночным сторожем в конюшне не только позволяла немного подработать, но главное, ошиваясь по конюшням, Иван Николаевич знал всех наездников, и его все знали, знал всех лошадей, какая из них находится в хорошей форме, а какая вышла из порядка, знал из первых рук, кто с кем дружит, а кто кого ненавидит лютой ненавистью, пил почти со всеми наездниками, и за выпивкой ему обещали подсказать выигрышную лошадку, знал очень много других полезных сведений, знал и все равно всегда проигрывал и по неделям ходил голодный, перебиваясь случайными подачками от игроков. Так уж все несуразно устроено на бегах.
С Иваном Николаевичем охотно выпивали, когда он угощал, суля ему золотые горы, посылали за водкой, очень ценили его трудолюбие, каждый бригадир старался переманить его к себе в конюшню ночным сторожем, ибо лошадей он любил страстно, и всегда у него животные были ухожены, и в конюшне все сверкало и блестело от чистоты, он буквально вылизывал языком денник, и у иной хозяйки в квартире нет такого порядка, как у Ивана Николаевича в конюшне. В доску разбивался он перед наездниками, чего только для них не делал: и рыбу красную им по знакомству доставал, и дарил им за здорово живешь дорогие подарки, и за грибами их возил на выходные дни к себе в деревню, поил и кормил их на собственную зарплату, ничего не помогало, не принимали его наездники серьезно и обманывали напропалую. Пообещают выиграть в заезде и даже точно скажут, сколько нужно поставить денег в заезде и от какой лошади, Ваня-Ваня убухает в подсказанную лошадь всю зарплату, а она даже и не думала ехать на выигрыш, плетется где-то в хвосте, а когда после бегов он робко заикнется, как же это так получилось, то ему без зазрения совести врут:
— Лошадь не заладила ходом, споткнулась… — А лошадь животное бессловесное, у нее не проверишь, врет наездник или говорит правду, а то и вообще не сочтут нужным объясняться перед ним, бросят лишь на ходу: — В следующий раз отмажемся… — и дело с концом.
И он верит как ребенок, ждет этого другого раза, а в другой раз опять происходит какая-нибудь оказия, и так изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, как в сказке про белого бычка. Слишком добр и доверчив Иван Николаевич, вот наездники и не принимают его всерьез, а на бегах нужно быть законченным подлецом, чтобы с тобой считались, не говоря уже о том, чтобы иметь власть и силу управлять наездниками. И такие люди на ипподроме есть. Но чтобы быть таким человеком, нужно иметь большие деньги, не сотни, и уж, конечно, не десятки, а тысячи, Ваня-Ваня таким богатством не располагает, а раз так, то его и обманывают почем зря и все кому не лень. Случалось, правда, когда кто-нибудь из наездников пожалеет Ивана Николаевича, подскажет ему темную лошадку — и он выигрывал крупную сумму, пятьсот, а то даже и тысячу рублей. И тогда Ваня-Ваня пирует: пьют во всех конюшнях, пьют соседи по несчастью на трибуне, а протрезвев, он вдруг обнаруживает, что от его выигрыша ничего не осталось и он снова пустой как барабан, и снова те, кто еще вчера пил вместе с ним, отворачиваются от него, если он вдруг обратился к ним за помощью.
Постоянное общение с наездниками конечно же даром не проходит, и если бы Иван Николаевич был немного поушлее, не говоря уже об уме, то даже из той информации, какой обладает он, можно было бы извлекать определенную пользу. Он слушает разговоры наездников между собой и со своими зарядчиками, приблизительно разбирается во взаимоотношениях наездников между собой, все эти сведения при игре в тотализаторе имеют немаловажное значение. Он иногда пронюхает про такую темную лошадку, что никому из игроков на трибуне и в голову не придет сыграть ее, но в том-то его и беда, что не умеет правильно распорядиться полученной информацией. Вместо того чтобы сыграть эту темную лошадь со всеми в другом заезде или хотя бы, на худой конец, поставить на нее десятку-другую в ординаре, он по пятьдесят — сто рублей лепит от этой лошади к одной, в следующем заезде, и вполне понятно, пролетает мимо. Одна лошадь выигрывает, и за нее хорошо платят, а вот другая даже и не думает ехать на выигрыш. Губит его здесь опять же доверчивость. Он слепо верит наездникам, и как они скажут, так он и делает. А в игре нельзя быть послушной пешкой, нужно еще проявлять и инициативу, прислушиваться к внутреннему голосу и обязательно прокачать полученную информацию по извилинам.
Ничего этого Ваня-Ваня, естественно, не делает и расставляет деньги так, как ему велели наездники. Часто они умышленно заправляют его, одну лошадь называют правильно, а другую указывают наобум, а бывают случаи, когда они сами не знают, кто выиграет в заезде, а ему пудрят мозги. На ипподроме нет ни одного человека, который бы знал точно о всех выигрышах. Если бы такой человек был, то ему можно было бы не работать, а безбедно жить на деньги с игры. Здесь как при игре в преферанс: если бы знать, что лежит в прикупе, можно было бы всегда выигрывать, но в том-то и дело, что никто не знает, какие карты выпадут в прикуп. Проинтуичить, конечно, можно, один-другой раз, но не больше, а на ипподроме еще сложнее, чем с прикупом в картах. На бегах действует больше всяких неучтенных факторов: мало, чтобы наездник хотел выиграть, нужно еще, чтобы в заезде не было лошади сильнее выбранной, и даже если этого нет, то и то это еще не гарантия успеха. Нужно, чтобы лошадь заладила ходом, не споткнулась и не сделала проскачку, не перешла на дистанции на иноходь, да разве мало всяких случайностей, которые влияют на поведение животного, с человеком-то и то не все ясно, а уж о лошади и совсем говорить не приходится.
Но лошадь конечно же не главное, главное все же — наездник. Иная лошадь и просится бежать, хочет выиграть бег, а наездник ее не пускает, придерживает, и тут уж животное ничего сделать не может и ведет себя так, как ей приказывает человек. А человеку этому, наезднику, приказали другие человеки, зарядчики, не ехать на выигрыш, или, как выражаются на бегах, убрали с дорожки, сунули сухими перед самым заездом кругленькую сумму, и он из участника состязаний превратился в статиста. Может быть, еще вчера, когда он пил с Ваней-Ваней, наездник и собирался ехать на выигрыш, но в самую последнюю минуту его хозяева изменили решение, не посоветовавшись, естественно, по этому поводу с Иваном Николаевичем, и он летит мимо со страшной силой.
И все же на трибуне среди игроков к Ивану Николаевичу отношение было не ординарное, как к человеку оттуда, с конюшни, и когда он, запыхавшись, прибегал за несколько минут до начала заезда, его тут же окружали игроки. Вопросы сыпались со всех сторон: кто едет, на выигрыш, а кто убрался, какая лошадь находится в порядке, а какая хромает, и играть ее нет никакого смысла, и Ваня-Ваня охотно отвечал. А если вдруг кто-то выражал сомнение сказанному Иваном Николаевичем, то он тут же доверительно шептал, что программку ему размечал сам «генерал», с которым он выпивал вчера вечером, и скептики замолкали, услышав фамилию столь авторитетного на бегах человека, которого они видели только с трибун во время заезда, а Иван Николаевич, оказывается, запросто общается с ним и даже выпивал, и это последнее обстоятельство завораживало игроков ничуть не меньше, как если бы им сказали, что он выпивал с министром, и игроки отказывались от своих комбинаций, намеченных дома, и играли по подсказке Вани-Вани, и конечно же частенько пролетали мимо, лошадь, указанная Иваном Николаевичем, даже и не думала ехать на выигрыш, а первой к финишному столбу приходила именно та, намеченная кем-нибудь из игроков еще дома. В такие моменты на голову Вани-Вани сыпались самые страшные проклятия, какие только существуют на свете, вплоть до того, чтобы он провалился со своим «генералом» сквозь землю.
И Иван Николаевич исчезал с трибуны, чтобы не распалять народ, но стоило ему через несколько минут снова появиться на трибуне, как игроки окружали его и доверчиво смотрели в рот, ловя каждое его слово. И все потому, что он был человеком с конюшен, хотя и работал простым ночным сторожем, а у рядовых игроков, никак не связанных с наездниками, отношение к людям оттуда точно такое же, как у верующего к своему священнику. И поэтому, как бы ни проклинали игроки Ивана Николаевича при проигрыше, настоящей злобы к нему ни у кого из них не было. Видели игроки, что обманывает их Иван Николаевич не умышленно, его самого заправляют наездники, вот почему стоило кому-нибудь выиграть, как тут же вспоминали о нем и посылали его за выпивкой. Да и нельзя было обижаться на него, более безобидного человека, чем Ваня-Ваня, на ипподроме невозможно было сыскать. Он не унывал даже когда проигрывал сам или сбивал с толку игроков, произнося всегда свое излюбленное выражение:
— Ничего, я вам еще такую темную лошадку подскажу, что на руках меня носить будете…
И действительно, подсказывал, но ему уже не верили, а его темная лошадка выигрывала, и за нее платили бешеные деньги. Но чаще Иван Николаевич бросал на ветер все, что только можно было бросить, а точнее не на ветер, а лошадям на корм, причем животным доставалась мизерная часть, большая же доля денег несчастных игроков оседала в карманах дельцов. Иван Николаевич проигрывал даже то, что проигрывать он не имел права. На трибуне помнят случай, когда его старшая дочь выходила замуж и он проиграл деньги, предназначенные на свадебный подарок, и не смог даже пойти в загс, не говоря уже о ресторане, где справлялась свадьба. Просто Ивану Николаевичу не в чем было идти, у него не имелось ни приличного костюма, ни сносного пальто, а в телогрейке да резиновых сапогах на свадебный вечер не придешь, опозоришь дочь, да и только, вот он и отметил столь важное событие среди игроков на трибуне. Кто-то купил бутылку, закуску, потом сбегали еще за вином, и домой он, вполне понятно, в этот день не попал, а заночевал в конюшне. Напрасно его ждали гости в ресторане, поминутно выбегая к дверям, отец так и не появился на свадьбе дочери, а лежал в это время в деннике на деревянной подстилке, в телогрейке и сапогах, накрывшись сверху какой-то дерюжкой, и смачно похрапывал. Во сне ему снились лошади.
БОРЯ С КОМПАНИЕЙ
Они всегда появляются на трибуне вчетвером, с сумкой, наполненной снедью и бутылками с пивом и водкой, располагаются на скамейке и ведут себя словно подгулявшие купчики. Трезвыми их на ипподроме никто никогда не видел, а ходить на бега в пьяном виде — самое последнее дело. Однако наблюдать за ними со стороны любопытно. Они совсем не огорчались, не переживали, если проигрывали, а вели себя так, точно куют деньги или по крайней мере в одном из отделений Госбанка у каждого из них открыт лицевой счет на кругленькую сумму, не имели они никакого отношения к торговле или к сфере обслуживания, то есть к людям, для которых проиграть сотню-другую ничего не стоит. Все четверо работали на стройке, с той лишь разницей, что Боря шоферил, а остальные трое — Виктор, Андрей и Слава — вкалывали подсобными рабочими. И оттого, что они работали на воздухе, с ранней весны у них были загорелые лица, и создавалось такое впечатление, словно они уже успели побывать на юге, а может, лица краснели у них от водки, которая не успевала просыхать. Если они так же пили на работе, то просто непонятно, как никто из них еще не свалился с верхнего этажа строящегося дома, а Боря на своем многотонном МАЗе не врезался в один из столбов. Одним словом, любопытная это была компашка!
С другими игроками на трибуне они не пытались знакомиться, хотя на ипподроме люди сходятся очень быстро. Их вполне устраивало свое общество, и расширять они его, судя по всему, не собирались. Приходили на бега, расстилали газету, раскладывали закуску, ставили на самодельную скатерть несколько бутылок с пивом, (водку они всегда держали в загашнике, официально распивать спиртные напитки на ипподроме нельзя, нарушителей штрафуют и даже удаляют с ипподрома), и понеслась душа в рай! За два-три часа, пока идут состязания лошадей, они набираются изрядно, а если им еще и везло и кто-то из них выигрывал, то они успевали раза два сбегать в магазин и дозаправиться горючим.
Играли они просто, без хитростей, и совершенно не следили за лошадями и другими тонкостями, за которыми следят настоящие игроки, как-то: ведут картотеку выступлений, выписывают резвость, учитывают, кто кого закрывает, какой наездник с каким дружит, регулярно просматривают отчеты выступлений и т. д. и т. п. Они же покупали до начала бегов программу, конечно, не разрабатывали ее, выбирали в заезде лошадь, чаще всего фаворита, и расставляли от этой лошади деньги. Причем играли они не по рублику, а довольно крупно, по пять — десять рублей на комбинацию, и выходит, что за беговой день, из семи-восьми заездов, у них как минимум вылетало шестьдесят — семьдесят рублей. А в неделю таких беговых дня три, и вполне естественно, что при их манере игры не хватит никаких денег, если даже играть в складчину, как делает Боря с приятелями.
Самое же неприятное случалось, когда кто-нибудь из них приезжал на бега в день получки и в сильном подпитии. Тогда зарплата проигрывалась в один присест, вся до копейки. Смотреть на проигравшего человека после этого было жалко, но они где-то находили деньги и продолжали играть. Так произошло совсем недавно с Борей. Как проиграл сто семьдесят рублей, он не помнит, очухался лишь на другой день. Полез за деньгами в карман, а получки-то и нет, кинулся за разъяснениями к друзьям-товарищам, а они ему ничего вразумительного сказать не могут, сами с трудом припоминают вчерашние события. Были на ипподроме, пили, играли, а на какие деньги, убей бог, не помнят. Наверное, все-таки играли на зарплату Бори. Не наверное, а точно. События в тот день развивались по знакомому сценарию. С утра Боря приехал на базу, выпил с шоферами, пока ждали, когда привезут зарплату. К обеду к нему на работу подъехали Виктор со Славой, с собой они привезли бутылку и конечно же выпили еще. Получив деньги, сто семьдесят рублей как одну копеечку, они завалились в пивной бар на Калининском проспекте, просидели там до пяти часов, а затем кто-то вдруг вспомнил, что сегодня среда, беговой день, и рассиживаться в душном помещении нечего, когда можно попивать пиво и на свежем воздухе, и они прикатили на ипподром. Приехали они на бега чуть тепленькие, после еще одной выпитой бутылки Слава с Виктором отключились начисто и заснули тут же, на скамейке, а Боря еще держался на ногах и по инерции каким-то чудом умудрялся ходить после каждого заезда к кассе и ставить деньги. Какие комбинации он играл, на каких лошадей ставил, он, конечно, не помнит, только после восьми заездов от ста семидесяти рублей не осталось ни копейки, и ему пришлось будить своих дружков, чтобы взять у них деньги на такси, так как добраться до дома своим ходом он уже не мог.
Осмыслил он случившееся с ним, если можно вообще говорить об осмыслении, только на другой день, когда проснулся с больной головой и с пустыми карманами. Нужно отдавать матери зарплату, а отдавать-то и нечего. Мать поругала-поругала непутевого сына и оставила его в покое, да и что без толку кричать, деньги-то все равно уже не вернешь. Кое-как дотянул он до аванса, друзья-товарищи подкормили. И потому, наверное, Боря не так переживал свой проигрыш, видя рядом виноватые лица товарищей по несчастью, ведь они тоже не раз оказывались точно в таком же положении и отлично понимали состояние своего друга, понимали, а помочь ничем не могли. Ну, накормить товарища, дать ему десятку на пропой — это еще в их власти, а вот излечить Борю от опасного недуга, от игры на бегах, это уже было выше их сил. Просто у них не было никаких других интересов, в выпивке и в лошадях заключался весь смысл жизни, и пропади вдруг водка и бега — они бы повесились от тоски, а так хоть какое-то занятие, да есть, все можно время убить. И они убивали время, не понимая того, что вместе со временем убивают и себя, незаметно, постепенно, но убивают. Впрочем, здесь они не оригинальны, все в той или иной степени делают то же самое.
Я находился в тот день на ипподроме, когда Боря просадил зарплату, но не подходил к нему и не остановил его. Во-первых, я почти совсем не знал их компанию, и во-вторых, это было бесполезно, Боря никого и ничего не замечал вокруг, так сильно был пьян и двигался от трибуны к кассе больше по инерции, нежели сознательно. Подошел я к нему через неделю и деликатно, чтобы не обидеть его, напомнил старую истину, что ходить на бега пьяным, да еще играть — нельзя, и он без рисовки, тут же согласился со мной и тут же, просто, как о чем-то само собой разумеющемся, сообщил, что проиграл неделю назад всю зарплату. Он сказал это так, словно проиграл не сто семьдесят рублей, а всего навсего рубля три, не больше.
У меня в этот день совсем не было денег, а в одиннадцатом заезде бежала одна лошадка, за которой я давно уже следил и, по моим скромным расчетам, она должна вот-вот поехать на выигрыш, а в следующем заезде, вернее в скачке, у меня выходила такая темная лошадь, что я боялся даже и думать, какую огромную сумму отвалят, если она вдруг выиграет. Боря, как всегда, играл наобум, вот я и предложил ему сыграть подмеченную мной лошадку, тем более угадать край впереди не составляло большого труда. В десятой скачке явным фаворитом просматривалась Алкеста, на которой скакал Чугуевец, один из лучших жокеев, и проиграть скачку на этой кобылке он никак не мог. Боря почесал у себя в затылке и согласился сыграть мою комбинацию, от Алкесты к Гремучему.
В десятой скачке, как и ожидалось, оторванно скачку выиграл Чугуевец на Алкесте. А вот одиннадцатый заезд складывался очень драматично. Бег почти всю дистанцию вели в борьбе три фаворита: Вал, Колючка и Контраст, и лишь на последней четверти Вал и Колючка сбоили и отпали назад, вот тут-то к Контрасту и подкрался Гремучий и очень легко объехал его на финишной прямой. Боря, радостный, подошел ко мне, но мне хотелось выть от обиды. Моя лошадь, за которой я следил почти полгода, выиграла бег, а я опять не смог сыграть ее из-за отсутствия денег. И то, что Боря угадал эту комбинацию, — слабое утешение. Я, может быть, не так бы расстроился, если бы Боря послушался меня и сыграл Гремучего дальше к пятому номеру Сальску, который должен был выиграть скачку, хотя по кассам игрались совсем другие лошади. Но Боря испугался играть одну темную лошадь, Гремучего, к другой, еще более темной, Сальску, и мою комбинацию не продлил. То, что сделал Боря, на ипподроме никогда не позволит сделать себе настоящий игрок, так мог поступить только дилетант, ибо есть железное правило: лошадь, которую ждешь в двойном ординаре, даже если у нее нет никаких шансов выиграть, обязательно нужно продлить дальше к своей лошадке, а Боря это элементарное правило нарушил.
Когда объявили, что в одиннадцатом заезде бег выиграл второй номер Гремучий, Боря как-то неловко чувствовал себя и до самого последнего момента не говорил мне, что не сыграл Гремучего к Сальску, и только когда прозвенел звонок, он признался, что поступил не совсем так, как я просил его сыграть. Что мне было делать? Ругать его? Бесполезно, да и какое право я имел распоряжаться чужими деньгами. Он запросто мог послать меня куда подальше с моими советами, а он хоть и не полностью, а все же воспринял мой совет и сыграл от Алкесты к Гремучему.
На доске вывесили выдачу. За Гремучего в ординаре дали шестнадцать рублей, а от Алкесты к нему — сорок девять рублей за один билет. Но я уже весь был в двенадцатой скачке, и когда прозвенел звонок и лошади сорвались с места, я уже знал точно, что скачку выиграет Сальск. Так оно и случилось. И хотя скачка сложилась очень трудно и до самого финиша невозможно было определить победителя, скачку вели в борьбе сразу три лошади, все же фотофиниш отдал предпочтение Сальску, и его объявили на первом месте. Он опередил на четверть головы фаворита. Боря почувствовал мое состояние и, подойдя ко мне, успокоил:
— Не расстраивайся, старик… На бегах всякое бывает, не поверил я в такую темноту. Пойдем выпьем с нами, я уже послал Витька за бутылкой…
Но и водка не принесла мне облегчения, а когда на доске вывесили выдачу за комбинацию два-три, от Гремучего к Сальску — пятьсот шестьдесят пять рублей, то я и совсем раскис и, не дождавшись конца бегов, ушел с ипподрома, а Боря с компанией, как ни в чем не бывало, остались и шумно отпраздновали маленький успех, ведь они как-никак выиграли сотенку, а то, что не угадали по собственной глупости пятьсот рублей, так бега есть бега, и всех денег на ипподроме не выиграешь. Что ж, может, они и правы, во всяком случае, им с их философией прожить легче.
ВАЛЕРА, ПАША, ЮРА
Эти трое — интеллигенты: Валера с Юрой работают инженерами, Паша — гуманитарий, занимается филологией. Познакомились и сошлись близко здесь, на трибуне ипподрома. Они очень разные, сближает же их одно — порочная страсть к игре. Валера, Паша, Юра — типичные представители честных игроков, честных в том смысле, что они совершенно не связаны ни с каким жульничеством, и, кроме зарплаты, других источников дохода у них фактически нет, поэтому и играют они по маленькой, случается даже, что ставят ту или иную комбинацию у букмекеров по двадцать — тридцать копеек. Это, конечно, для настоящего игрока унижение, но и воровать ведь не пойдешь, как бы ни хотелось сыграть свою лошадку покрупнее.
Случаются, правда, и на их улице маленькие радости, когда кто-нибудь из них вдруг выигрывал. И эта нечаянная радость по-разному воспринималась ими и как нельзя лучше выражала их суть.
Валера — семейный человек, у него жена, взрослый сын, и казалось бы, выигранные деньги должен был нести в семейный бюджет. Ан нет! Весь выигрыш шел на пропой, Валера — широкая натура и приглашал выпить всех, кого знал на трибуне, а оставшуюся сумму клал в заначку, на игру. Домой с выигрышем он мог принести разве что торт, да и то не всегда. Ни жена, ни сын не знали, что он увлекается бегами, и то, что ему приходится скрывать любимое увлечение от близких, накладывало определенный отпечаток на все поведение Валеры на ипподроме. В будние дни он вечно спешил и никогда не оставался до последнего заезда, ему обязательно нужно было вернуться домой не позже десяти вечера, вот и выходило, что он посмотрит заезда три-четыре и торопится к семье. Задержки, видимо, объясняет совещаниями либо занятием в библиотеке. Дело в том, что уже несколько лет Валера ходит в прикрепленных аспирантах и все никак не может написать диссертацию и, наверное, не напишет ее никогда, а так и будет держать для отвода глаз жены, как прикрытие, чтобы иногда можно было задержаться после работы. Отсюда и игра по маленькой. Зарплата у него известна, и он почти целиком отдает ее жене, так, оставляет десятку на мелкие расходы, да еще плюс деньги, которые ему выдаются на обед. Валера, конечно, голодает, не обедает, перебивается на работе чайком, да разве из этих рублей и копеек сколотишь приличную сумму, а на три рубля какая игра, одно расстройство, вот Валера и играет не один, а всегда с кем-нибудь в паре. Немного оживает он, когда у них на заводе выплачивают неучтенную премию, ту, про которую не знает жена. Здесь уж Валера не сдерживает себя и играет от души, а потом живет воспоминаниями об этих днях. А вообще он очень славный человек, простой, добрый, и видеть, как он носится, чуть сгорбившись, как все высокие люди, вдоль трибун, предлагая игрокам сыграть вместе с ним по полтинничку выбранную им комбинацию — одно удовольствие.
Юра — тот совсем другой, похитрее, куркуль самый настоящий. Небольшого росточка, складненький такой, он выделяется на трибуне среди игроков своими огромными усами, и когда смотришь на него чуть издали или сбоку, то кажется, что на всем лице у него только и есть одни усы, и лишь присмотревшись повнимательнее, можно различить и другие черты лица: глаза, нос, рот и даже его плутоватую улыбку. Юра, не в пример Валере, не пропускает ни одного бегового дня и уходит с ипподрома с последним звонком, когда уже гасится свет и на трибунах остаются одни фанатики, обсуждая в темноте все перипетии только что закончившихся бегов.
Играет Юра тоже не крупно, но у него есть своя метода. Прежде чем сыграть выбранную лошадь, он расспросит о ней десяток игроков и обежит все кассы ипподрома и только затем, прокачав собранную информацию по извилинам, сыграет ее в той или иной комбинации. При этом свою лошадку он предпочитает играть один, и другим игрокам о ней особенно не распространяется, и пригласит кого-нибудь в долю лишь в случае крайней необходимости, когда у него совсем туго с финансами. И хотя в данный момент он не женат, всего месяц назад он развелся, и отчитываться ему вроде бы не перед кем, он свободный человек и может распоряжаться зарплатой, за вычетом алиментов, по собственному усмотрению, рассудка никогда не теряет и не проигрывает всю зарплату в один день, как это случается с большинством игроков, а играет очень аккуратно, по маленькой, растягивая выделенную на игру сумму на целый месяц. Из неучтенных источников дохода, помимо зарплаты, у Юры была только премия, но получал он ее крайне редко, и поэтому он серьезно подумывает сменить работу и даже заговаривал об этом с игроками на трибуне, имеющими отношение к той же области, в которой работает он. Иногда, когда с деньгами было особенно туго, а сыграть свою лошадку страсть как хотелось, Юра промышлял книгами. Выбирал из своей библиотеки какую-нибудь ценную книгу и приносил ее на ипподром, где на книгу всегда находились покупатели с деньгами.
Есть у Юры еще одна маленькая надежда поправить свое финансовое положение, подработать немного на квартире, но это пока из области прожектов. Да и не совсем чистое это дело, на нем можно и погореть. После развода Юра оказался обладателем двухкомнатной квартиры, жена ушла к другому мужчине, выписалась добровольно и на жилплощадь не претендует, вот Юра и подыскивает человека с деньгами, желающего улучшить свои жилищные условия путем обмена двухкомнатной квартиры на однокомнатную, Юра даже согласен на комнату в малонаселенной коммунальной квартире, но, естественно, за соответствующее вознаграждение.
Паша в этом отношении совсем другой человек. Он законник и поправить свое финансовое положение надеется легальным путем. Через год, максимум, он защитит диссертацию, соответственно ему увеличат и зарплату. Диссертация у Павла не мифическая, как у Валеры, а вполне реальная, Паша ее уже написал, прошел первый тур мытарств, ее обсудили на кафедре, одобрили и рекомендовали к защите, и теперь ему остается подыскать надежных оппонентов, напоить их как следует — и, считай, с кандидатским званием его можно уже поздравить. Вот только непонятно, почему он возлагает на кандидатскую зарплату такие надежды. Да на бегах и академику нечего делать со своими деньгами, походит годик на ипподром и останется без штанов, бега — это такая бездонная яма, куда не перебросаешь никаких честно заработанных денег, даже самых больших. Здесь только жуликам раздолье, и поэтому Паша добросовестно заблуждается, полагая, что вместе с кандидатским званием кончится и его безденежье, и тогда-то уж он наиграется от души, а не будет сбрасываться по тридцать копеек, выискивая, с кем из игроков сыграть свою лошадку. Но надежды тем и хороши, что они почти никогда не сбываются.
А пока Паша все же нашел оригинальный способ выкручиваться из трудного положения. Паша — холостяк, и каждое воскресенье он приходит на ипподром с новой девушкой. Его избранницы, как правило, не красавицы, видно, при выборе он преследует совсем иную цель, ему нужно, чтобы у девушки была не красивая внешность и фигура, а деньги, которые она бы легко могла проиграть при его непосредственной помощи и участии. Сам Павел очень импозантный мужчина: среднего роста, в меру упитанный и рыжий, причем с огромной красной, пушистой бородой лопатой и баками во все лицо, вот цвет волос-то и привлекает к нему девушек. Говорят, рыжие — страшно темпераментные люди, а какой девушке не хочется испытать острое ощущение, да еще потрогать Пашину бороду, потому девушки и идут с ним на ипподром и проигрывают пятерочку-другую, предвкушая удовольствие, которое получат потом. И Паша не ропщет, а терпеливо несет свой крест. Конечно, он понимает, что поступает не совсем красиво, но надо отдать ему должное, он никогда не злоупотребляет доверием девушек и больше десяти рублей из их денег не проигрывает. К тому же одну и ту же девушку Паша на ипподром второй раз не приводит, и выходит, одноразовый проигрыш не столь обременителен для той или иной девушки, а для него это хоть какой-то, да выход из затруднительного положения.
ГЕНА-СЧАСТЛИВЧИК, МИША-ЗОЛОТО, ВОЛОДЯ-МЯСНИК
На трибуне их почему-то называют «святой троицей», хотя до святости им, конечно, далеко. Удивительно, как они быстро снюхались. Познакомились на трибуне ипподрома, как знакомятся большинство игроков, и представить их друг без друга уже нельзя. Объединяет их одно — все трое всегда при больших деньгах, и в беговой день каждый из них проигрывает не меньше двухсот рублей. И если источники дохода Миши и Володи довольно прозрачны, один промышляет золотишком, скупает на стороне и даже на ипподроме у проигравших игроков все, что имеет отношение к благородному металлу, от обручальных колец до микроскопических застежек, идут в ход и серебряные ложки, то Володя делает бизнес на мясе, продает третий сорт за первый, да на костях, судя по его признанию, набегает немалая сумма, а вот источник дохода Гены долгое время оставался неизвестным, и даже его друзья-приятели по игре не догадывались, откуда Гена черпает деньги. Это ведь нешуточное дело — проигрывать каждый беговой день по двести рублей. Простой арифметический подсчет показывает, что в месяц у него уходит на корм лошадям примерно две-три тысячи, не меньше. При такой игре и сейфы Азовского банка затрещат, не выдержат, опустеют через несколько лет.
Мише и Володе в этом отношении немного легче, они могут играть до тех пор, пока их не посадят за махинации, а так у них источники дохода неиссякаемые, как подземные родники, мясо едят все, к тому же в последнее время спрос на него резко возрос, так что мясники без дохода не останутся. И хотя золотишком промышлять опаснее, этими делами занялся комитет государственной безопасности, цена на золото растет, все, кто имеет деньжата, стараются избавиться от бумажек и перевести их в золотишко, как-то надежнее, видимо, чувствуют себя толстосумы, поэтому более доходное дело и трудно придумать. Миша работает не по мелочи, как Володя, обманывая домохозяек да старушек, а по-крупному, с каждой удачно проведенной операции он имеет не меньше пятисот рублей, зато у Володи более постоянный и надежный источник дохода.
И все же Гена переплюнул их обоих. Устроился очень удобно, и деньги имеет при себе немалые, и спит спокойно, не в пример Мише и Володе, которые, наверное, и забыли уже, когда последний раз не вздрагивали среди ночи, ожидая расплаты за совершенные преступления. На ипподроме, как и в истории, рано или поздно, но тайное становится явным. Раскрылся источник дохода и Гены-счастливчика. Мужчина он видный, лет ему за тридцать, рост примерно под сто девяносто сантиметров, широкоплечий, с крупными, но правильными чертами лица, такие мужчины обычно нравятся женщинам. Портила его внешность немного шея, по-бычьи толстая и короткая, следствие увлечения борьбой, когда-то Гена подавал надежды на ковре, но дальше первого разряда не пошел. Он, видимо, понял, что в спорте особенно бизнеса не сделаешь, и увлекся лошадками, но чтобы играть на бегах, нужны деньги, и деньги немалые. И Гена нашел высокооплачиваемую работу, он заделался современным альфонсом, причем нашел не одну, а сразу двух старушек и жил с ними обеими.
Первой его пассии было за шестьдесят, но она еще работала завпроизводством в столовой, и Гена не только выкачивал из нее деньги, но и кормился свиными отбивными и прочими деликатесами, которые она для него подворовывала. Возраст же второй его избранницы никто определить не мог, эта была самый настоящий божий одуванчик, она и сама, наверное, забыла, сколько ей лет. Но Гена оказывал ей всяческие знаки внимания, по его сведениям, у старушки было припрятано золотишко, и он ждал с нетерпением, когда же она отдаст богу душу, чтобы получить по завещанию все ее движимое и недвижимое имущество, а пока она здравствовала, он исправно ее доил. Много же наворовали старушки за свою жизнь, работая в торговле, если Гену никогда не видели на бегах без денег. Играл он широко, свободно, не считая каждую копейку, как это делают многие рядовые игроки, и особенно не переживал, когда крупно проигрывал.
Но и выигрывали они иногда. Миша, промышляя золотишком, имел связи кое с кем из наездников, и за услуги по ювелирной части, которые он, видимо, им оказывал, наездники подсказывали ему лошадок. Полученной информацией он делился с приятелями. Володя-мясник тоже был не дурак, и когда с мясом были перебои, снабжал дефицитным продуктом не одного наездника и так же имел кое-какие сведения из первых рук. Но распорядиться имевшейся информацией они подчас не могли, играли лобово и, как правило, даже при такой подсказке пролетали мимо. А вот Гена — тот играл более разумно и выкачивал максимум из имеющихся сведений. Он не только ставил ту комбинацию, которую им говорили наездники, но еще и подстраховывался и играл названную лошадь не в лоб, с одной лошадью в следующем заезде, как это делали Миша и Володя, а пошире, выбирал еще трех-четырех лошадок. Ведь бега есть бега, и, как при любой игре, здесь случаются всякие неожиданности. И такие неожиданности действительно происходили: одна названная лошадь выигрывала, а вторая часто проигрывала, вот здесь-то система Гены и срабатывала, и он не только возвращал проигранные деньги, но еще и наваривал малую толику.
Поражала игроков на трибуне жадность Гены. Однажды из конюшни прибежал человек и подсказал Гене темную лошадку, на которой он наварил приличную сумму. Человек из конюшни терпеливо стоял в стороне, ожидая, что Гена достойно его отблагодарит за ценную информацию и отвалит за подсказку не меньше сотенной, и даже растерялся от неожиданности, когда Гена протянул ему всего только красненькую на бутылку. Это покоробило даже Мишу с Володей, и они отвернулись, чтобы не видеть осуждающего взгляда конюха, а Гена как ни в чем не бывало пересчитал полученную сумму и спрятал деньги в своем объемистом кошельке.
ЗНАКОМСТВО С НАЕЗДНИКАМИ
Стажировка у Миши-проходимца все же не прошла для меня бесследно. Я узнал за эти полгода многих зарядчиков и теперь уже без Миши мог ориентироваться по кассам, просматривая ставки, на ком из наездников едет в том или ином заезде тотошка. Да и Миша, видимо, успел кое-кому сообщить о моей профессии адвоката, ко мне нет-нет стали вдруг подходить совсем незнакомые люди и советоваться по юридической части, хоть открывай прямо на трибуне филиал юридической консультации. Одним я отвечал тут же, других приглашал для более серьезной беседы в контору. И поэтому я не особенно удивился, когда ко мне подошел Геннадий Николаевич и почему-то шепотом, видимо, чтобы не услышали соседи по трибуне, сообщил, что со мной хочет поговорить один очень важный человек и по очень важному делу.
Человек этот действительно оказался важным, особенно в глазах игрока. Геннадий Николаевич подвел ко мне тренера Лабинского конного завода Козлова, чьи лошади уже с мая месяца скакали, а выражаясь их языком, проводили испытания на Московском центральном ипподроме. Представив меня Козлову, Геннадий Николаевич сообщил:
— Одного наездника арестовали, и для защиты в суде ему нужен адвокат… О деталях дела расскажет Козлов…
После первых же слов Козлова я понял, что речь идет о самом настоящем уголовном деле, и я предложил тренеру прийти ко мне в юридическую консультацию и обговорить все вопросы в спокойной обстановке. Жокея, о котором шла речь, я знал и очень любил его играть. Он часто выигрывал на темных лошадках, и за него почти всегда платили хорошие деньги. Две недели назад, при розыгрыше Большого Летнего приза для трехлеток, он обыграл в своей скачке признанных фаворитов и вызвал восхищение своим мастерством даже у знатоков, так как почти все отдавали предпочтение лошадям Насибова, и Чамата лишний раз доказал, что и мастерство тоже кое-что значит. Выиграть на классной лошади может почти любой, а вот подготовить и привести к финишу первой среднюю лошадь — такое по плечу лишь настоящему мастеру. Поэтому любой игрок мог только мечтать познакомиться с Чаматой или с людьми, которые близки с ним. Знай я раньше Козлова либо самого Чамату, я бы, несомненно, в Большом трехлетнем призу сыграл Павлодара и получил бы по сто семьдесят восемь рублей за билет.
Павлодар скакал вместе с Загоном, Флотом и Сбором, сразу с тремя лошадьми Насибова, и рассчитывать в этой компании на выигрыш было просто невероятно. Тем более что до этой скачки Загон, на котором скакал Косенко, ни разу не проигрывал. Но бега есть бега, Большой летний приз все-таки выиграл Чамата на Павлодаре! И утер нос всем неверующим!
Скачка складывалась очень неудачно для Павлодара. Сначала скачку повел Флот, а Загон и Сбор Насибова держались сзади, и Чамата не знал, что делать, то ли не отпускать Флота, то ли Насибов нарочно решил его обмануть — и Флот, поведя скачку, затем отпадет, то есть сделает скачку для Загона и измотает любую другую лошадь, которая увяжется за ним, а может произойти и обратное: если не поехать за ним, то Флот доведет бег с места до места. Чамата в этой ситуации решил все-таки не отпускать далеко Флота, и всю дистанцию держался за ним Косенко, скакавший на битом фаворите Загоне, видел, что скачку ведет их же лошадь, и по дистанции особенно не старался, и только когда понял, что на финишной прямой Чамата на Павлодаре обходит Флота, только тогда он бросил Загона в борьбу, но было уже поздно. На последних метрах Чамата проявил все свое мастерство и, качая жеребца, на одних руках выиграл у Загона полкорпуса, а вместе с этим и Большой летний приз. Потом в отчете об этой скачке писали, отдавая должное победителю: «Нерасчетливую езду на Загоне показал Косенко…»
Выигрывал Чамата и в рядовых скачках, вот почему я волновался, ожидая в консультации представительную делегацию, ведь тренер Козлов обещал прийти не один, а с самим Насибовым, королем скачек. Всего несколько лет назад Насибов блистательно выступал на знаменитом Анилине, и в Союзе ему не было равных. Он и на международной арене проявил себя, и все на том же Анилине занял третье место в самом почетном призе — призе Европы, который разыгрывается не каждый год, и занять в этом призе платное место очень трудно, во всяком случае, до Насибова ни одному советскому жокею этого сделать не удавалось. И закончив карьеру жокея, Насибов перешел на тренерскую работу и возглавил один из лучших конных заводов страны — конзавод «Восход», и на центральном московском ипподроме его лошади из года в год выигрывали почти все крупные призы, и только Чамата на своем Павлодаре нарушил эту традицию. Насибов оценил мастерство жокея по достоинству и решил взять Чамату к себе на конзавод «Восход», и даже уже готовил его на своих лошадях для выступления за рубежом, и из-за уголовного дела все срывалось. Вместо поездки за границу Чамата угодил в Бутырскую тюрьму.
Волновался я напрасно. Они пришли ровно в назначенное время, и я принял их. Вместе с тренером Козловым пришел и знаменитый Насибов. Я впервые видел его так близко, человека с «железным посылом», лошадь, посланная Насибовым вперед, выстреливала как из катапульты и быстро отрывалась от остальных лошадей. Наездник он был выдающийся, и судя по разговору, по тому, как он хорошо отзывался о Чамате, и человек он неплохой. Ведь не каждый будет защищать преступника, куда проще умыть руки и отказаться от человека, попавшего в беду, тем более что формально Насибов к Чамате не имеет никакого отношения. Чамата прибыл в командировку на центральный московский ипподром от Лабинского конного завода, а Насибов тренирует лошадей конзавода «Восход», и отвечает за все проступки Чаматы тренер Козлов. В данном же случае совершен не просто проступок, а самое настоящее преступление, и еще неизвестно, как действия Чаматы квалифицируют органы предварительного следствия — то ли как попытку изнасилования, то ли как хулиганство. Основания есть и для статьи 117, и для 206-й. Здесь все зависит от деталей и от направленности умысла обвиняемого, а чтобы судить об этом определенно, нужно обязательно побеседовать с Чаматой, либо почитать его показания в материалах дела. Со слов свидетелей очень трудно сказать что-либо определенно, хотя Козлов и Насибов в общих чертах и обрисовали, что произошло на ипподроме: в воскресенье, вечером, после выигрыша приза, Чамата напился и в пьяном виде завалился в конюшню, чтобы посмотреть на своего любимчика. Но он был в таком невменяемом состоянии, что конюх его даже не подпустила к лошади, так как животные очень не любят, когда от людей пахнет водкой. Чамата в общежитие не вернулся, у него просто не хватило сил на обратную дорогу, и улегся спать прямо в конюшне. К утру он проснулся то ли от холода, то ли еще по какой причине и полез досыпать к конюху, а конюхом была молодая женщина. У нее совсем не было желания спать с Чаматой, и она, естественно, начала прогонять его. Тогда в пьяном жокее взыграло ретивое самолюбие, а может, просто спьяну шибануло в голову и еще в одно место, только он полез на женщину, разорвал ей брюки, ударил по лицу, она все-таки скинула его с себя и выбежала из конюшни. Может быть, все бы и обошлось, но конюх начала кричать, звать на помощь и переполошила всех окружающих людей, и лошадей тоже. На ее крик прибежали конюхи и сторожа из других конюшен. Чамата утихомириваться не пожелал и вступил с ними в драку, вот к нему и пришлось применить силу, связать, а затем и вызвать дежурного милиционера. В другое время Чамата бы отделался самое большее — пятнадцатью сутками, а тут, после выхода в свет Указа об усилении борьбы с хулиганством, его как забрали в милицию, так больше уже и не выпустили, а сразу же возбудили уголовное дело и отправили его в Бутырскую тюрьму. К начальнику милиции ходили и тренер Козлов, и Насибов и просили, чтобы Чамату не сажали в тюрьму, а ограничились более легким наказанием, но начальник милиции, вполне понятно, уже ничего сделать не мог, раз возбуждено уголовное дело, и порекомендовал им обратиться к адвокату. Вот они и пришли ко мне.
Я, конечно, ничего Насибову с Козловым заранее обещать не стал. Мне нужно было сначала официально ознакомиться с уголовным делом, а уж только потом я мог что-то сказать и более определенно: на что может рассчитывать Чамата, год-два или пять лет лишения свободы, это в том случае, если его действия все же следственные органы квалифицируют как попытку изнасилования.
Козлов с Насибовым оформили как положено поручение, внесли в кассу юридической консультации аванс, и с этого момента я уже официально отвечал за дело Чаматы, и мне нужно было связаться со следователем и узнать, когда примерно дело поступит в суд, где я мог уже в спокойной обстановке почитать дело и, взяв разрешение на свидание с Чаматой, съездить к нему в тюрьму и побеседовать с ним с глазу на глаз по делу.
Следователь «обрадовал» меня в конце разговора по телефону: «Раньше чем через два месяца я дело не закончу», — и повесил трубку. Для непосвященного человека это добавление ни о чем не говорит, а для любого адвоката ясно, что он хочет квалифицировать действия Чаматы по статье 117-й, как попытку изнасилования, ибо если бы он думал о хулиганстве, то по новому положению обязан закончить дело в двухнедельный срок и передать его в суд, а не тянуть два месяца. Но о своих опасениях я не стал говорить Насибову с Козловым, чтобы раньше срока не расстраивать их. Хулиганство ведь тоже по теперешним временам не сахар, судьи по 206-й статье дают не меньше трех лет, и адвокаты предпочитают, чтобы их подзащитный совершил небольшую кражу, чем хулиганские действия.
И все же, несмотря на намек следователя о наличии в действиях Чаматы состава преступления, предусмотренного статьей 117-й, я звонил в суд почти каждые три дня и справлялся у секретаря, не поступило ли в канцелярию дело по обвинению Чаматы. И в конце месяца девушка мне сообщила, что такое дело действительно есть, и назвала фамилию судьи, которая будет рассматривать это уголовное дело на выездной сессии. От слов секретаря у меня чуть не выпала телефонная трубка из рук. Выездная сессия! Этого еще не хватало! На выездной сессии всегда судят строже, и как минимум годик лишний Чамата схватит. Следователь все же сделал маленькую пакость: не вышло у него с попыткой изнасилования, так он отыгрался на другом — порекомендовал судье заслушать дело Чаматы прямо на ипподроме, чтобы другим было неповадно в пьяном виде приходить в конюшню и драться с конюхами. Конечно, судья мог и не согласиться со следователем и заслушать это дело тихо-мирно в зале суда, и Чамата получил бы свои полтора-два года лишения свободы — и на этом бы все успокоились. В данном же случае, видимо, мнение судьи совпало с мнением следователя, и адвокат в решении этого вопроса совершенно не участвует, его никто и никогда не спрашивает, где слушать дело, и мне ничего не оставалось, как принять к сведению сообщение секретаря о выездной сессии.
Я думал о деле, а в голове у меня одновременно вертелось, как я теперь поближе познакомлюсь с Насибовым и Козловым, и, может быть, даже сойдусь с ними накоротке, и все буду знать на бегах, а не играть вслепую, особенно в скачках, ведь Насибов с Козловым всегда подскажут лошадку адвокату, который защищал их наездника в суде. И этот последний довод был для меня столь убедителен, что я отложил в сторону более важные дела (в частности, у меня в производстве находилось уликовое дело об убийстве, очень сложное дело о групповом изнасиловании) и сразу же поехал в народный суд, чтобы почитать дело Чаматы, а затем взять у судьи разрешение на свидание и поехать к нему в Бутырскую тюрьму. Мне не терпелось поскорее увидеть вблизи знаменитого жокея.
Уголовное дело Чаматы после ознакомления с ним оказалось рядовым, обыденным делом, такие дела десятками, сотнями слушаются каждый день в судах. Типичное хулиганство: напился, в пьяном виде учинил дебош, ругался нецензурными словами, ударил женщину-конюха. Не за что даже зацепиться. Квалификация правильная, вину он свою признает полностью, и единственное, о чем можно говорить в суде, так это о личности обвиняемого, как-никак, а судится он впервые, положительно характеризуется, на иждивении у него четверо детей, один другого меньше, да еще можно остановиться на условиях работы жокеев на Центральном московском ипподроме, а условия эти нелегкие: жокеи находятся в командировке по три месяца, оторваны от дома, от семьи, уюта никакого, живут они в общежитии, быт у них не устроен, и каждый предоставлен самому себе. Встают жокеи рано, в пять часов, проминают лошадей, да и самим нужно регулярно поддерживать спортивную форму, следить за весом, вот они и ходят голодные, а чуть выпьют после выступлений — и сразу же валятся с катушек, а кто покрепче и устоит на ногах, то дурнеет головой, и гуляй, Вася. Так, в частности, случилось и с Чаматой, на ногах он устоял, а вот голова не выдержала, и угодил за решетку.
На свидание к Чамате в Бутырскую тюрьму я ехал с таким волнением, словно это было мое первое дело, а Чамата первый подзащитный, которого я должен был защищать в суде. В тюрьме привычно выписал требование, отдал его дежурному и прошел в отведенный мне кабинет. Поудобнее устроился за столом и стал ждать, когда конвойный приведет подзащитного. Минут через десять дверь кабинета открылась, и сопровождающий обвиняемого охранник, положив требование на стол и откозыряв мне, оставил нас вдвоем с Чаматой.
Передо мной стоял маленький человечек, с кривыми ногами. Ноги, пожалуй, было единственное, что как-то говорило о его профессии жокея. В жокейском наряде Чамата выглядел намного элегантнее. Продолжая разглядывать Чамату, я предложил ему сесть. Он тоже настороженно присматривался ко мне, еще не зная, кто перед ним сидит, то ли новый следователь, то ли еще какой судейский работник, и когда я представился ему, он как-то сразу успокоился. Все обвиняемые любят адвокатов, и любовь эта корыстного свойства. Обвиняемые знают, что из всех судейских — адвокаты одни только не сделают им плохо, а может быть, даже и помогут выпутаться из неприятной истории, все остальные могут лишь навредить, и поэтому с ними надо держать ухо востро и уж по крайней мере ни в коем случае не откровенничать. А с адвокатом можно поговорить и по душам. Но у нас с ним разговор никак не клеился, и получалось, как в той басне Крылова про Лебедя, Рака и Щуку, которые тянули воз в разные стороны. Мне хотелось поскорее закончить разговор об уголовном деле, так как говорить там было нечего, и перейти к разговору о лошадях, об ипподромной жизни, о зарядчиках, как заделываются заезды и почему иногда выигрывает темная лошадка, а денег за нее совсем не платят, о наездниках, да и другие тонкости закулисной жизни бегов мне очень хотелось узнать из первых рук. Чамата же, напротив, интересовался любыми мелочами своего дела, и его буквально интересовало все: как будет проходить суд, кто судья, кто прокурор, и какие они, добрые или злые, и главное, на что ему можно рассчитывать, а то в камере его так запугали, что он меньше чем на пять лет не рассчитывает.
Пришлось мне все ему подробно объяснить и о судьях, и о прокуроре, и о судебной процедуре, и конечно же успокоить, пять лет ему никак не назначат. Самое большее, на что тянут его хулиганские действия, так это три года, а если повезет, то он может получить и поменьше. И Чамата постепенно успокоился и заговорил о лошадях, именно о той теме, которая меня больше всего интересовала, а когда я показал ему последнюю программку, захваченную с собой, и сказал, кто выиграл во втором заезде, а кто в третьем и четвертом, он и совсем разошелся, и популярно мне объяснил, почему так произошло. Он полностью утолил мою жажду! Чамата рассказал мне и о зарядчиках, и о том, как наездников убирают прямо с дорожки, причем рассказал ярко, красочно, с примерами. Брал программу месячной давности, и в тех заездах, где, по моему мнению, выигрывала темная лошадка, называл конкретных людей, которые эту темную лошадку запускали вперед, на выигрыш, убирая всех остальных лошадей в заезде, и даже называл точную сумму, какую получили эти наездники за проигрыш, ведь они могли на своих лошадях запросто обыграть эту темную лошадку, но не обыграли, а лишь делали вид, что пытаются догнать. В скачках придержать лошадь очень легко, ни один судья не заметит, стоит лишь немного взять поводья на себя, и все, а другой рукой можно нахлестывать лошадь изо всей силы, все равно она не побежит как нужно, а будет топтаться на месте. У зрителей же создается впечатление, что лошадь привстала и никакой наездник не в силах на ней выиграть, но уже буквально через неделю эта же лошадь скачет совсем по-другому и легко выигрывает в своем забеге. И так происходит почти весь сезон, честно жокеи скачут лишь в больших призах, и то не всегда. И видя, что я слушаю его как зачарованный, закончил: «Если вы поможете мне выбраться отсюда или хотя бы получить небольшой срок, обещаю, вы будете миллионером уже через месяц, как я начну скакать… Никого, кроме вас, слушаться не буду, как вы скажете, так и будет… Вперед так вперед, не ехать на выигрыш, значит, не ехать… И за другие заезды я буду вам подсказывать…» От этих его слов на меня нашло словно затмение, и я пообещал ему сделать все возможное и даже невозможное, чтобы он получил как можно меньше за свои хулиганские действия, а этого делать настоящий адвокат не имеет права. Адвокат по закону обязан всеми дозволенными средствами защищать своего подзащитного, а уж какое наказание он получит — это дело суда, и обещать адвокат ничего не имеет права, а то с этим обещанием так можно влипнуть, что выгонят с работы. Но слово не воробей, что сболтнул, то сболтнул, и я судорожно начал обдумывать, как бы вытащить Чамату из тюрьмы. Законными, конечно, средствами.
И мне повезло. Вот уж действительно, на ловца и зверь идет! Я буквально чуть не упал со своего места, когда в зале суда, за прокурорским столиком увидел своего бывшего однокашника. Нет, мы с ним не были друзьями и даже учились в разных группах, но все же… За пять лет учебы мы сотни раз встречались с ним, и он, конечно, увидев, что я защищаю Чамату, не станет просить наказание на всю катушку, а на выездной сессии это уже кое-что значит. Остальное я уже продумал. Если Чамата получит наказание в пределах трех лет, а на это я его и ориентировал, то в Президиуме Верховного Совета, в отделе помилования работает Виталька, мой дружок, и уж он-то сделает доброе дело и продвинет наше ходатайство о помиловании вперед. Основание для помилования есть: у Чаматы как-никак четверо детей! Да и остальные признаки налицо: положительная характеристика, признание своей вины, раскаяние… Но это я забежал слишком далеко вперед, нужно еще пройти судебную карусель, а выездная сессия есть выездная сессия.
Прокурор узнал меня, но сделал вид, будто мы с ним встретились впервые в зале суда. Я принял его игру, да мне, честно говоря, было не до него. Я во все глаза рассматривал зал. Здесь были все наездники: и Крейдин, и Фингиров, и Козлов, и Бурдова, и Крашенников, и Смирнов, и Лакс… Некоторые из них пришли в зал суда прямо с дорожки, в своих доспехах, в которых они выступают во время заездов. Но чувствовали они себя в зале суда не так уверенно, как на дорожке. Наездники с уважением рассматривали прокурора, да и мне кое-что доставалось. Но вот вышла секретарь судебного заседания, и все взгляды устремились на сцену, где стоял стол, за которым должны были сидеть судьи. Шум затих, и в наступившей тишине особенно отчетливо прозвучал голос секретаря:
— Встать! Суд идет!
Зал нестройно зашевелился и замер в ожидании, пока судьи устраивались на своих местах, а затем знакомая до мелочей процедура: проверка явившихся свидетелей, удаление их из зала суда, мнение сторон о порядке слушания дела, с кого начинать допрос — с подсудимого или со свидетелей. У нас с прокурором в этом вопросе спора нет, он предлагает начать судебное следствие с допроса подсудимого, и я соглашаюсь с ним, так как Чамата полностью признает свою вину и свидетели по нашему делу фактически не нужны. Но форма есть форма, и ее нужно соблюсти, тем более на выездной сессии.
Говорить Чамата совершенно не умеет. Скачет он хорошо, руки у него железные, а вот речь косноязычна, и пока он дает показания, с участников процесса сто потов сошло. И судья, и прокурор, да и я тоже помогаем ему наводящими вопросами, хотя строго по закону этого делать нельзя. Со свидетелями суду пришлось немного повозиться, особенно с потерпевшей. Ей, видимо, жалко стало Чамату, а он действительно, остриженный наголо, осунувшийся, выглядел очень жалко, и потерпевшая решила изменить показания, а может быть, ее уговорил так поступить кто-нибудь из дружков-приятелей Чаматы, только она вдруг заявила в суде, что Чамата ее совершенно не бил, а лишь толкнул один разочек, да и то легонечко. Судье пришлось напомнить ей ее показания на предварительном следствии, где она прямо заявляла, что он ударил ее по лицу, гонялся за ней по конюшне, и она вынуждена была даже выбежать за помощью на улицу. По другому бы делу, где подсудимый не признавал свою вину, такое изменение показаний потерпевшей было бы на руку обвиняемому, а здесь, когда Чамата полностью признал свою вину, это лишь затягивает процесс. В конце концов судья с прокурором все-таки добились своего, и потерпевшая вернулась к своим прежним показаниям и рассказала все, как было на самом деле, и процесс снова пошел своим чередом. Публика в зале после показаний потерпевшей развеселилась немного, но все с нетерпением ждали выступления прокурора и адвоката, конечно. Я же никаких красот от речи прокурора не ждал, меня интересовал лишь один вопрос: сколько он попросит Чамате лет лишения свободы, и уже примерно можно будет прикинуть, сколько определит суд.
Прокурор «уважил» меня, попросил моему подзащитному три года лишения свободы! Мог бы, конечно, ради знакомства и поменьше попросить, но что сделано, то уже сделано. Суд наверняка столько и определит, ведь как-никак, а выездная сессия! Но я произношу защитительную речь с таким жаром, словно защищаю не хулигана, а невинно пострадавшего человека: обрисовываю и неустроенность быта жокеев, по три месяца оторванных от дома, и тоску по семье, детям, у Чаматы их как-никак четверо, один другого меньше, и отсутствие элементарной воспитательной работы, и низкий интеллектуальный уровень окружающих, и, конечно, говорю о трудности профессии жокея, когда им приходится вставать в пять часов утра и по нескольку часов тренировать лошадей и тренироваться самим, а потом выступления. Поэтому немудрено, что произошел срыв, по натуре Чамата никакой не хулиган, и прошу суд определить ему минимальное наказание. По реакции зала понял, что моя речь понравилась.
Выслушав последнее слово подсудимого, суд удалился на совещание для вынесения приговора. Больше часа они в совещательной комнате не просидят. Написать приговор по такому делу ничего не стоит, и единственный вопрос, который нужно решить судьям, — это сколько лет лишения свободы определить подсудимому: три, как просил прокурор, или чуть поменьше. Занимает этот вопрос и меня, и всех присутствующих в зале. К адвокатскому столику подходят наездники и спрашивают об одном и том же: сколько лет получит Чамата. Я неопределенно пожимаю плечами и прошу их немного подождать, выйдет суд из совещательной комнаты и всех успокоит. И действительно, примерно через час суд огласил приговор: признал Чамату виновным в хулиганских действиях и определил ему два года лишения свободы.
Два года! Это еще по-божески. Мы договариваемся с Чаматой не обжаловать приговор в Городской суд, потому что это бесполезно, лишняя трата времени, ему предлагаю сразу же обратиться в Президиум Верховного Совета с ходатайством о помиловании. «Сразу» это только так говорится, на самом же деле, чтобы написать ходатайство о помиловании, нужно собрать кое-какие документы, и в первую очередь характеристики с места работы и с места жительства, справку о составе семьи, и конечно же нужно копию приговора, а на все это уйдет время, и не один день. Само ходатайство написать не сложно, а вот собрать необходимые бумаги не так просто, тем паче что Чамата живет не в Москве, а в Краснодарском крае, и пока свяжешься с его женой, а она пришлет характеристики и справки, на это уйдет месяца два, не меньше. Я уже не говорю о маленькой юридической закавыке. По закону, чтобы обратиться с ходатайством о помиловании, нужно, чтобы подсудимый отбыл не менее трети наказания, без этой формальности в Президиуме не примут бумаги. Но я хочу обойти эту маленькую формальность, ведь у меня в отделе помилования работает мой однокашник, и он-то уж примет от нас ходатайство о помиловании.
Но пока я об этом не говорю ни Чамате, ни его близким и знакомым, заинтересованным в положительном исходе дела. Всякое может случиться, Виталик может и не подыграть мне, встанет на чисто формальную позицию и не примет документы о помиловании до тех пор, пока Чамата не отсидит одну треть срока, как и положено по закону. В хорошеньком положении я тогда окажусь перед Чаматой, уж лучше подождать немного, когда все прояснится окончательно.
На ипподроме мои дела после процесса Чаматы, так удачно мною проведенного, не сдвинулись с мертвой точки. Я все так же потихонечку-полегонечку проигрывал каждый беговой день. А ведь я возлагал такие надежды, когда познакомился с Насибовым и Козловым, но все мои прожекты оказались сродни воздушным замкам. За все время, пока тянулось дело Чаматы, я так ни разу и не подошел к Насибову и Козлову, мне было как-то неловко это делать: вот, мол, адвокат, а играет на бегах, а после дела я и совсем застеснялся, как девица, хотя и видел на соседней трибуне и Насибова и Козлова. А через месяц скаковой сезон кончился, и жокеи уехали из Москвы на свои конные заводы до следующего бегового сезона, а я решил дождаться выхода из тюрьмы Чаматы и уж тогда-то отыграть весь свой проигрыш. Чамата, думал я, не забудет, что я для него сделал, и подскажет мне темненькую лошадку, и эта мысль немного согревала меня, и я сразу же, как только получил от жены все необходимые документы, составил ходатайство о помиловании и лично пошел на прием в Президиум Верховного Совета. Перед этим, конечно, созвонился со своим знакомым, обрисовал ему горестное положение жены Чаматы, которая осталась одна с четырьмя детьми, и Виталий Иванович, тронутый ее горем, согласился принять у меня документы и сделать все от него зависящее, чтобы ходатайство о помиловании было рассмотрено положительно.
И он не обманул меня, и уже через три месяца я получил от Чаматы маленькую открытку, в которой он благодарил меня за проделанную работу. Это было где-то в конце марта, и я с нетерпением стал ждать открытия скакового сезона в мае месяце. Я написал Чамате довольно большое теплое письмо и в конце послания просил его, когда он приедет в Москву, позвонить мне в юридическую консультацию либо домой, и даже предложил ему остановиться у меня, а не болтаться по общежитиям. Ответа на свое письмо я не получил, но это нисколько не смутило меня.
18 мая, в первый день нового скакового сезона, я шел на ипподром как на праздник. Купил программку и судорожно ее перелистал. Знакомой фамилии не было. Ничего, успокоил я себя, запишут Чамату в следующий раз, но и в следующий раз Чамата не скакал. На трибуне объяснили причину: ему не разрешили скакать в Москве, и он скачет в Ростове. Появился Чамата на московском ипподроме примерно за месяц до закрытия скакового сезона. Я раскрыл программку и ахнул: знакомая фамилия — на кобыле Элишань скачет Чамата. Я конечно же сыграл его, и он на своей кобыле вел почти всю дистанцию, и когда я уже в уме подсчитывал, какую сумму отхвачу за Чамату, так как его почти никто из игроков не играл, на самом финише его обыграл Пастухов, который скакал на Ферзе. Но это я играл сам, по-дилетантски, не зная, едет или не едет он на выигрыш, а вот в следующий беговой день, когда он поскачет снова и я буду точно знать — играть его или не играть, вот тогда, думал я, я уже не промахнусь и сыграю его наверняка, и не одним рубликом, а может быть, даже десяткой.
За программкой на воскресенье поехал заранее и не успел отойти от киоска, тут же развернул ее: Чамата скакал сразу в двух скачках, и в обеих мог выиграть, а мог проиграть, все зависело от того, как он договорится с другими жокеями, которые скакали вместе с ним, а главное, от того, поскачет он на выигрыш или нет, а об этом можно узнать только от него самого. Но как связаться с ним? Если бы он скакал с начала сезона, то наверняка жил бы в общежитии ипподрома вместе с другими скакунами, а так он мог на день-два остановиться у каких-либо знакомых. Придется ждать до воскресенья и перед самым заездом послать кого-нибудь в конюшню, ну хоть бы Ваню-Ваню, и узнать, едет или не едет Чамата на выигрыш, и если едет, то в какой скачке, в третьей или в седьмой. Хорошо бы увидеть Ваню-Ваню заранее, он сбегает, не откажет мне в этой маленькой любезности. Ваня-Ваня уважает меня и все узнает у Чаматы и про скачки, а может, что-нибудь пронюхает и про заезды, чтобы нам легче было угадать края. Одно лишь сомнение мучило меня: «А вдруг Чамата сделает вид, что забыл меня и никакого адвоката не помнит, и пошлет моего гонца куда подальше». Ведь не случайно же Бальзак в «Отце Горио» написал, что люди трех профессий не могут уважать других людей, и среди этих профессий назван адвокат. И я сам, по своему опыту, уже успел убедиться в черной неблагодарности клиентов. Некоторые из них не только бы с удовольствием забыли про меня, но если бы у них была хоть какая-то возможность, но и сотворили какую-нибудь подлянку. Но я гнал от себя прочь эти черные мысли.
В воскресенье я приехал на ипподром за час до начала заездов и сразу же, как только увидел Ваню-Ваню на трибуне, отозвал его в сторону и попросил сбегать на конюшню к Чамате и передать ему от меня привет. А чтобы Чамата не подумал, что мой посланец обманывает его, я специально дома написал Чамате записку, в которой подробно все описал и просил его доверять Ване-Ване, как мне, а в конце записки, конечно, попросил, чтобы Чамата подсказал, кто выиграет в третьей и в седьмой скачке, именно в тех скачках, в которых он скакал.
Ваня-Ваня взял записку, кивнул в знак согласия головой, что он понял все сказанное, и убежал в конюшню, а я остался на трибуне дожидаться его. Разумеется, мы договорились с Ваней-Ваней, что мое тайное послание к Чамате останется действительно тайным, и он по дороге никому об этом не разболтает.
Примерно через полчаса Ваня-Ваня прибежал на трибуну, запыхавшись и еще не отдышавшись, зашептал мне на ухо:
— Передал записку Чамате прямо на конюшне. Он сказал, что выиграет в третьей скачке, а в седьмой его трогать не нужно… Вперед прется Кулик, он будет сопровождать его лошадь и не объедет ее, а за других он ничего не знает… Края не назвал в заезде, сказал, чтобы мы сами разобрались… — И Ваня-Ваня замолчал, ожидая моих дальнейших указаний.
Зная его маленькую слабость разбалтывать имеющуюся у него информацию, я приказал ему не уходить с трибуны до конца третьей скачки и ждать меня возле кассы, мы вместе будем расставлять билеты. Ваня-Ваня согласно кивнул головой, а я еще и еще раз принялся прорабатывать программку, особенно второй и четвертый заезды, чтобы определиться наконец и выбрать в этих заездах лошадок, от которых стоило играть к Чамате. Во втором заезде бежало восемь лошадей, и играть их всех к Чамате не имело смысла. Смысл-то, может быть, и был, но у меня просто не имелось столько денег, чтобы перекрестить всех лошадей во втором заезде к Чамате и от Чаматы всех сыграть к лошадям в четвертом заезде, и поэтому я остановился на трех лошадях во втором и трех лошадях в четвертом заезде и от них поставил по пятерочке к Чамате. В кассе Чамату совсем почти не играли, я специально стоял возле касс до самого звонка и видел, что в рапортичках у кассирш мелькают все остальные цифры, а вот семерки, как раз той лошади, на которой скакал Чамата, почти не было видно. Так, один-два билетика из сотни, не считая, конечно, моих.
Я очень волновался за второй заезд, что ни одна из трех лошадок, которых я сыграл, не придет первой, а выиграет какая-нибудь другая. Но слава богу, на сей раз мне повезло, бег на первом месте во втором заезде выиграла одна из моих лошадок, и не фаворит, и в то же время не очень притемненная, так что если в третьей скачке выиграет Чамата, то я на пятерку получу приличную сумму. Почему-то в Чамате я совсем не сомневался, настолько верил в его талант жокея. Он и на кляче может выиграть скачку, если только поедет на выигрыш, а лошадка, на которой он сидел, совсем не кляча, а по моим данным очень и очень даже может выиграть и в более сильной компании, нежели та, в которой она была записана. Все дело теперь оставалось за Чаматой, чтобы он не придерживал свою лошадку, а скакал честно на выигрыш. И поэтому я и от него так же сыграл к трем лошадям в четвертом заезде. И стал ждать.
Никогда еще двадцать минут перерыва между заездами не тянулись так долго, и я с облегчением вздохнул, когда прозвучал колокол, извещающий о начале скачки. Лошади взяли старт дружно, но я следил только за белым камзолом с красными шашечками, в такой форме скакал Чамата. Первую половину дистанции Чамата держался вторым, а потом почему-то его лошадь резко привстала и отпала назад. У меня все похолодело внутри, но я еще не хотел верить в худшее, что он обманул меня и не едет на выигрыш. Скакать оставалось полкруга, и на дистанции все еще могло измениться, тем более я знал, как мастерски Чамата умеет качать лошадь на финишной прямой. И действительно, метров за двести до финиша Чамата бросил свою лошадь посылом вперед, но и ведущие лошади не привстали, а продолжали сохранять образовавшийся просвет метров в тридцать, и в таком порядке они и пересекли финиш. Первым скачку закончил Кулик на Лафе, а Чамата на Хунгари не попал даже в призовую тройку, а остался на четвертом месте. Я так и не понял, ехал он на выигрыш или не ехал, но даже если бы я и понял, мне от этого было бы не легче, выиграть-то скачку он все равно не выиграл, и значит, я бросил почти пятьдесят рублей на корм лошадям.
Диктор уже объявил победителя, а я все еще не выбрасывал билеты, словно надеясь на чудо. Но чудес, как известно, не происходит даже на ипподроме. Ко мне подошел огорченный Ваня-Ваня, и я еще раз допросил его с пристрастием: может, он что-то не расслышал, когда ему говорил Чамата, и перепутал, в какой скачке нужно его играть. Ваня-Ваня даже обиделся, ничего он не перепутал и своими ушами слышал, как Чамата сказал ему, что выиграет в третьей скачке, а в седьмой его не нужно трогать, на выигрыш он не поедет, и играть следует Пастухова на Ферзе или лошадь Насибова.
У меня еще оставалось десять рублей, и я решил дождаться седьмой скачки и сыграть указанных Чаматой лошадок, тем более что они обе были притемненные, и если кто-нибудь из них выиграет, то я наверняка отыграю весь проигрыш. Конечно, самой темной в этой скачке была лошадь Чаматы, но раз он сказал, что его играть не нужно, то и думать об этом не стоит. Однако, как ни странно, в седьмой скачке по кассам разыграли Чамату так, словно он был битым фаворитом. Во всяком случае, на нашем этаже его играли ничуть не меньше, чем фаворитов. Я же сыграл Пастухова. Где-то у меня все же шевельнулось сомнение: «А не обманул ли меня мой бывший подзащитный», но я тут же прогнал эту неприятную мысль. Слишком много я для него сделал, чтобы поступить со мной так подло. Я ведь столько ходил, унижался перед своими бывшими однокашниками, чтобы добиться помилования Чаматы. Но факт есть факт, в третьей скачке он не выиграл, хотя и сказал Ване-Ване, чтобы мы играли одного его. Не хватало только теперь обмануть меня и с седьмой скачкой.
Может, это и хорошо, успокаиваю я себя, что Чамату разыграли наравне с фаворитами, выиграет Пастухов, и за него будут платить хорошие деньги, ведь чем больше ставок на других лошадей, тем крупнее выдача будет за мою лошадку, если она, конечно, выиграет скачку. Ваня-Ваня, бегавший по моему заданию посмотреть, кого играют на других этажах, так же подтвердил, что Чамату играют наравне с фаворитами, и он робко заикнулся, а не сыграть ли и нам Чамату, но я так посмотрел на него, что он тут же стушевался и пробормотал еле слышно: «Уберется он, пусть дураки его играют…»
Дураками оказались мы с Ваней-Ваней. Чамата очень легко выиграл скачку на своей кобыле, с ним даже никто и не боролся. Он как ушел со старта первым, так с места и до места выиграл скачку. Вторая лошадь пришла далеко сзади, причем это был Пастухов на Ферзе, именно одна из тех лошадок, про которую он говорил, что она выиграет скачку. И если бы Чамата сдержал свое слово, я бы немного отыгрался. Но он поступил как последняя сволочь. Я стоял на трибуне и не знал, что думать. Ну хорошо, не сказал бы ничего, и то было бы намного порядочнее, а то ведь обманул внаглую: выиграю в третьей скачке — и никуда не поехал, нигде не буду в седьмой — и оторванно выиграет скачку. Но я решил не ломать зря голову и проверить Чамату еще раз, ведь будет же он скакать еще в этом сезоне.
Однако «следующего» раза уже не было. В этот же вечер, оказывается, как я узнал после, Чамата напился и в общежитии ипподрома подрался с Куликом, да так, что почти всю ночь никто не спал. В милицию его не стали сдавать, памятуя, что он совсем недавно вернулся из мест не столь отдаленных, и попади он снова в милицию, получил бы уже за свои хулиганские действия не два года. Но и держать его в Москве не стали, а тут же обратно отправили в Ростов, и больше уже Чамата на московском ипподроме не скакал, даже при розыгрыше крупных международных призов. Я, естественно, сильно переживал подлость, которую он сотворил со мной, и то, что ему не разрешили скакать на Центральном московском ипподроме, было слабым утешением. Я ведь на Чамату возлагал большие надежды. С его помощью я не только хотел выиграть и хоть немного поправить свое финансовое положение, но и мечтал познакомиться с другими наездниками, и таким образом быть не пешкой на трибуне, а знающим человеком, с которым считаются заправилы тотализатора на бегах. Я все еще наивно верил, что только знакомство с наездниками поможет мне выиграть крупную сумму, и стремился к этому всеми средствами. Случай с Чаматой не отрезвил меня, и я воспринял его как досадную неудачу. Вот в следующий раз я уж не упущу свой шанс, если только познакомлюсь поближе с кем-нибудь из наездников.
«ВЕЛИКИЙ ЛЖЕЦ»
И такой случай мне представился очень скоро. Я не только познакомился с наездником, но, как мне казалось, даже подружился с ним. И хотя Володя-коваль был не совсем чистый наездник, все же он имел самое непосредственное отношение к бегам. Работал Володя на ипподроме ковалем, и примерно раз в две недели его записывали в тот или иной заезд на какой-нибудь лошадке, и изредка он выигрывал. Причем свою работу коваля он использовал для пользы дела: ковал Володя лошадей сразу в нескольких конюшнях или, выражаясь канцелярским языком, в тренотделениях: и у Крейдина, и у Тарасова, и у Лауги, и у Ползуновой, и если, к примеру, в одном заезде с ним ехали лошади из тех конюшен, которые он обслуживал, то ему не составляло большого труда уговорить того или иного наездника, чтобы они предоставили возможность выиграть именно его лошадке. Особенно он близок был, и можно даже сказать дружил, с Артуром Лаугой, бригадиром восьмого тренотделения. Хорошо к нему относился и «генерал» Крейдин, и Тарасов, и Алла Михайловна Ползунова, и они частенько доверяли Володе не только проехать на своих классных лошадях, но, что еще и важно, разрешали выигрывать, а это тоже не так часто практикуется на ипподроме. Обычно не принято выигрывать на чужой лошади.
С Володей-ковалем меня познакомил Миша-зарядчик, еще когда я проходил у него «стажировку» и он играл на мои деньги. Как-то после заездов он подошел к одному молодому человеку лет тридцати, среднего роста, ничем не выделявшимся среди других посетителей ипподрома, разве что на его лице красовались миниатюрные усики, и когда я спросил у него, с кем он разговаривал, Миша таинственно зашептал мне на ухо, что разговаривал он с наездником, и назвал его фамилию. Тогда для меня любой человек, хоть как-то связанный с наездником, имел большое значение, и я с уважением посмотрел на Володю, тем более что примерно за неделю до этого он выиграл в своем заезде, и за него платили хорошие деньги. После этого случая я еще раз видел Володю на трибуне ипподрома, он кивнул мне головой, но подойти к нему я не решился. Видимо, Миша рассказал ему обо мне что-то лестное, а может быть, он видел меня, когда я выступал по делу Чаматы на выездной сессии. Но неожиданно Володя подошел ко мне сам и, узнав, что я играю третьего номера, посоветовал мне поставить рублик на другую лошадь. Я послушался его, комбинация состоялась, и я получил рублей восемьдесят за билет и, желая отблагодарить Володю за подсказку, пригласил его поужинать в кафе. Он не стал ломаться, и мы с ним славно посидели.
После этого случая мы с Володей встречались уже на трибуне как старые знакомые. Он всегда прибегал на трибуну минут за двадцать до начала бегов и выкладывал информацию с дорожки: кто из наездников собирается ехать на выигрыш, а кого играть совершенно не нужно. Информация у него была довольно обширная, во-первых, он иногда знал лошадей тех конюшен, которых ковал, во-вторых, ему кое-что подсказывал Артур Лауга, и я заметил, что когда в заезде ехал Крейдин или Лауга, то Володя почти точно знал, когда нужно их играть, а когда не нужно трогать совсем. Я сразу же поставил наши отношения с Володей на деловую основу: за каждую правильно подсказанную лошадку отчислял Володе определенную сумму, в зависимости от того, сколько платили за выигрышную комбинацию. Но случалось и такое: он правильно называл одну лошадь, а другую не угадывал, и тут он, конечно, никаких процентов не получал и издержки не нес.
Иногда вместе с ним на трибуну приходил его дружок, настоящий наездник, Боря П. и так же просыпал важную информацию, и мы все вместе решали, какую комбинацию играть, и если нам везло и мы выигрывали, то после бегов обязательно шли в кафе. Однако очень скоро я, заметил, что у Володи была одна скверная черта: он со спокойной совестью свое мнение о той или иной лошади мог выдать за мнение наездника и этим вводил меня в заблуждение. Боря же в этом отношении был до удивления честным человеком. Когда он не знал, то так и говорил, не пытаясь навести тень на плетень и как-то на этом заработать. Поэтому он и не удержался на ипподроме, вынужден был уйти, но произошло это не сразу, а лет через пять-шесть после нашего знакомства. Володю же, как мне тогда казалось, с ипподрома и пушкой не вышибешь, он каждый беговой день имел тридцать — пятьдесят рублей чистоганом, всегда был сыт за чужой счет, и у него таких «друзей», как я, было несколько человек, но об этом я узнал много позже, а в то время искренне верил Володе-ковалю.
Да и как же мне было ему не верить, если он клялся и божился, что лучше меня нет человека. И действительно, ему трудно было на меня обижаться. Когда он ехал в заезде, то мы встречались с ним в скверике у Белорусского вокзала часа в два, я кормил его сытным обедом в кафе или в ресторане, он размечал мне программку и особенное внимание уделял тому заезду, в котором ехал сам. Если его лошадка была в «шансах» и могла выиграть, то Володя указывал, сколько мне рублей поставить и от каких именно лошадей он поедет на выигрыш, то есть указывал края. Я добросовестно выполнял все его указания. И хотя иногда мне казалось, что он ошибочно называет ту или иную лошадь, по моему мнению, в заезде должна выиграть другая лошадь, я никогда с ним не спорил. Как же, ведь он только что прибежал с дорожки, разговаривал с другими наездниками, сыпал специальной терминологией, и мне не оставалось ничего иного, как согласиться с ним.
Но вот что удивительно, за два года дружбы с Володей в тех заездах, в которых он ехал, я ни разу не выиграл, хотя он не раз приходил первым в своем заезде. А когда я спрашивал его, как же так получилось, что он выиграл, хотя и не должен был этого делать и мне называл совсем другую лошадь, то Володя так убедительно врал, что не поверить ему было просто невозможно. То его понесла лошадь — и он выиграл «случайно», то его вытолкнули другие наездники и проехали на нем, то потому, что никто в заезде не ехал — и ему не оставалось ничего другого как выиграть, то лошадь, которая на разминке ноги не ставила, в заезде вдруг бежала так, что ее и не остановишь. И во всех этих случаях, когда он выигрывал, Володя клялся и божился, что не заработал и копейки. И при этом у него был такой жалкий вид, что я переставал сердиться на него, и мы опять шли в кафе, и я тратил на него последние свои деньги. Получалось прямо как в сказке: битый небитого везет, но я этого, естественно, не замечал.
Психология игрока не позволяла мне расстаться с Володей, мне было приятно, что у меня есть свой наездник и рано или поздно я отыграюсь. Так продолжалось до тех пор, пока я не поймал его на обмане. А случилось это до удивления просто: в очередной беговой день Володю снова посадили на лошадку, и в своем заезде, судя по записи, он мог выиграть. Я боялся лишь одну лошадку, за которой давно следил и которая, по моему мнению, могла выиграть в заезде, если, конечно, наездник решит поехать на выигрыш. Но Володя так убедительно отговаривал меня от моей лошади, что она самая настоящая кляча, какой еще не было на ипподроме, и она никогда не выиграет и останется на последнем месте. После таких его речей нам оставалось только одно: найти края, то есть лошадь, которая выиграет впереди, и лошадь, которая сможет закрыть сзади.
Я предложил сыграть сразу от пяти лошадей и в том числе и от своей лошадки, но Володя опять высмеял меня и громогласно заявил, что ему доподлинно известно от других наездников, что, во-первых, на выигрыш поедут совсем другие лошади, и во-вторых, если бы Багдадский вор и захотел выиграть в заезде, то на своей кляче ему этого сделать никогда не удастся. Сразу четыре-пять лошадей всегда объедут его, и именно этих лошадей Володя и назвал мне, чтобы я от них расставил деньги к его лошадке, и даже точно указал, сколько рублей от какой поставить: от двух первых по десятке, а от двух темненьких можно и по пятерке. Если они выиграют и он закроет их, то мы крупно заработаем. Назвал он мне и лошадей, к которым я должен был поставить деньги от него. И все же, расставаясь с ним, а мы сидели в кафе и обедали, я напомнил ему, что если в первом заезде ни одна из лошадей, указанных им, не выиграет, то он не поедет вперед, и тогда я сыграю свою лошадку, которую давно уже ловлю. Володя лишь усмехнулся и согласно кивнул мне головой. В его взгляде читалось: «Если тебе не жалко выбрасывать деньги на эту клячу, что ж, можешь играть, я тебе свое мнение сказал и не изменю его».
Разговаривали мы с ним примерно в четыре часа, как раз перед разминкой, а в шесть я уже был на трибуне и внимательно следил за лошадьми из первого заезда, которые выехали на парад. И опять у меня в голове промелькнуло, что бег выиграет именно моя лошадка, а не те, которые мне назвал Володя. Но мы с ним уже договорились, и менять что-либо было поздно, и я добросовестно расставил тридцать рублей, как мне сказал Володя. Но в последний момент все же не удержался и сыграл от лошади Багдадского вора тремя рубликами к своей темненькой лошадке, а не к Володиной, ведь он мне обещал, что если впереди выиграет лошадь, не указанная им, то он не поедет в своем заезде на выигрыш.
Сыграл и встал на трибуне на своем месте. В кассе, когда я расставлял билеты, успел заметить, что к Володиной лошадке почти никто из игроков не играет, а шпарили в основном к фаворитам. «Ну и отхвачу я куш, если состоится одна из наших комбинаций», — помимо моей воли пронеслось в голове, но я заставил себя не думать раньше времени об этом, а внимательно следил за заездом.
Со старта, как и сказал Володя, вперед вырвалось пять лошадей, и среди них были все четыре лошади, указанные Володей. Я облегченно вздохнул и даже осудил себя: как я мог не верить наезднику, ведь он же лучше меня разбирается в лошадях, и особенно в тех заездах, в которых едет сам. Но уже со второй половины дистанции мое настроение начало портиться. Сначала сбоила одна наша лошадка и сделала проскачку, потом другая, в последней четверти отпала еще одна, и на финишной прямой развернулась борьба между одной из наших темных лошадок и лошадью Багдадского вора. Зная его мастерство, я мог уже не смотреть дальше, результат можно было предсказать заранее, за десятки метров до финиша. Раз Багдадский вор поехал на выигрыш, он своего уже не упустит и никогда не проиграет какому-то мальчишке. И действительно, он проявил все свое мастерство и выиграл забег, как говорят, руками, на последних метрах он чуть не выскочил из коляски, усиленно помогая лошади движением своего тела. Наша лошадь проиграла всего полголовы, но это уже не имело никакого значения.
На трибуне волновались зрители, так всех захватила борьба на финишной прямой. Кругом только и слышалось: «Ай да Женя, показал класс! Его лошадь никто не считал, а он взял и выиграл!» «Как же так, никто не считал, а я», — хотелось крикнуть мне, но я не крикнул, а молча продолжал переживать только что закончившийся заезд. Теперь у меня была только одна надежда, на темненькую лошадку, к которой я сыграл от Багдадского вора тремя рублями. Конечно, мои шансы доехать были невелики, но на бегах всякое случается, и не такие темные комбинации состоятся. И когда Володя выехал на своей лошадке на парад, возглавляя следующий заезд, я пожалел, что не уговорил его сыграть от лошади Багдадского вора к нему, так мне понравилась лошадка Володи. Он действительно, наверное, смог бы выиграть в заезде, но теперь он на выигрыш не поедет, ведь впереди не выиграла ни одна из лошадей, указанных им. Меня удивило лишь одно, когда я ставил свои билеты, — в кассе начали сильно играть именно лошадь Володи, и причем играли в основном только к лошади Крейдина. Видимо, по проездке лошадка Володи понравилась не одному мне, а и другим игрокам, но в отличие от них, я знал, что Володя на выигрыш не поедет, и с сожалением смотрел на игроков, которые ставили в кассе деньги на него. Двум-трем игрокам, соседям по трибуне, я все же намекнул, чтобы они зря не жгли деньги и не играли лошадь Володи, и они меня послушались и сыграли других лошадок. Но мне было уже не до них: ударил колокол, извещающий об окончании разминки.
Лошади направились к старту, где их уже поджидала старт-машина. Развернувшись за машиной, они медленно начали бег, и, когда старт-машина оторвалась от них, вперед сразу вырвались три лошади. Володя на своей лошадке принял старт почти последним. Как ни странно, но среди трех, ведущих бег, была и моя темненькая «кляча», которую я ждал тремя рублями от лошади Багдадского вора. Первую четверть она прошла второй, очень удачно пристроившись в спину к ведущей лошади. Обычно из такой позиции очень легко «выстрелить» вперед, и наездники любят так сидеть на хвосте до самого последнего поворота, а затем, отвернув в сторону, на финишной прямой резко посылают лошадь вперед. Но говорить что-либо определенно было еще рано. И единственно, что просматривалось невооруженным глазом, так это то, что ни один из трех фаворитов в заезде на выигрыш не ехал. Видимо, никто из них не угадал край, не считали лошадь Багдадского вора на первое место. Входя в последний поворот, сбоила ведущая лошадь и сразу же отпала далеко назад. Бег возглавила моя лошадка, и я так увлекся, следя за ней, что совершенно перестал следить за Володей. Я ведь знал, что он не должен был ехать на выигрыш, к тому же видел, что со старта он принял последним, и поэтому, когда увидел, что какая-то лошадь настигает мою, захватывает ее в борьбе и перед самым финишем обходит, я, все еще не веря собственным глазам, не хотел признавать, что обыграл мою лошадку именно Володя. Диктор по ипподрому окончательно развеял мои сомнения:
— Бег на первом месте закончил наездник третьей категории, выступающий на третьем номере — Прибое. Прибой опередил на полкорпуса…
Я стоял, как оплеванный. Мало того, что Володя обманул меня самым наглым образом, но он еще обыграл как раз ту лошадку, которую я ждал. На три билета я бы получил огромную сумму и мог бы спокойно не работать целый год и написать свой роман, как раз то, о чем я столько мечтал. И вот, когда счастье было так близко, Володя разрушил его. Если бы мою лошадку обыграл кто-нибудь другой, мне бы не было так обидно и больно, но то, что удар в спину нанес именно человек, которого я поил и кормил почти два года, это я отказывался понимать и принимать. Меня разбирало зло, и, если бы можно было выскочить на беговую дорожку, я с удовольствием избил бы Володю до полусмерти, и пусть бы тогда со мной делали что угодно, судили, сажали в тюрьму, но душу я бы отвел и восстановил попранную справедливость.
Но на дорожку я, конечно, не выскочил, я продолжал как последний фрайер стоять на трибуне с раскрытым ртом, в сотый раз спрашивая самого себя: «Почему он так подло поступил?» Спрашивать же было нужно не себя, а Володю, но его я мог увидеть только после бегов. Мы с ним договорились встретиться в кафе, если все будет хорошо и у нас состоится все так, как мы задумали. Теперь же мне идти в кафе не было никакого смысла, но я все же решил проверить мелькнувшее у меня подозрение и прошел к кассам, когда принесли выдачу. За один рубль по билету платили сто восемь рублей, значит, поставили не так мало, и меня, естественно, заинтересовало, кто будет получать деньги, люди Багдадского вора или кто-нибудь из знакомых Володи. Примерно я знал в лицо всех, с кем он общался за последний год.
Билеты на выигранную комбинацию стояли всего в двух кассах, в первой деньги получали неизвестные мне люди, а вот ко второй кассе с пачкой билетов в руках подошел… Петя. Увидев меня, он от неожиданности растерялся и хотел даже забрать билеты у кассирши обратно и получить деньги попозже, но сделать это уже было нельзя. Кассирша уже отметила билеты в рапортичке и начала отсчитывать Пете деньги. Я заметил, что получил он за десять билетов тысчонку с хвостиком. Значит, Володя сказал мне, чтобы я играл от одних четырех лошадей к нему, а Пете назвал лошадь Багдадского вора. Больше того, в руках Пети я заметил целую пачку билетов с номером лошади, на которой ехал Володя. Выходит, Петя и от него сыграл только к Крейдину. И «генерал» Володю не подвел, легко выиграл бег в своем заезде. Правда, за эту комбинацию платили только по четырнадцати рублей за билет, но это говорило лишь об одном: Володя умышленно обманул меня, и многие игроки кончили и получили деньги, и только я выбросил на ветер почти полсотни. Это меня окончательно взбесило, и я решил все же после бегов подойти к кафе и сказать Володе в глаза, что он подлец высшей марки. Теперь я уже точно знал, что он придет к кафе, чтобы встретиться с Петей и получить от него свою долю.
Так оно и вышло, Володя пришел на встречу с Петей. Меня он явно не ожидал увидеть в кафе. Обычно, когда он проделывал такие фокусы и выигрывал в том заезде, где выиграть не должен был, или, напротив, проигрывал тогда, когда обещал выиграть, он пропадал из поля моего зрения на месяц, и мы встречались с ним как бы случайно на трибуне или у выхода с ипподрома. И никогда не заговаривали о том, что произошло, одним словом, вели себя так, как ведут в доме повешенного, о веревке не говорят или делали вид, что ничего особенного не произошло. Видимо, Володя рассчитывал, что и в данном случае я поведу себя точно так же, и мы с ним раньше чем через неделю-другую не увидимся, а за это время обида пройдет, и мы с ним, как прежде, останемся хорошими знакомыми.
А тут я появился сразу же, по горячим следам, и, опередив Петю, подошел к нему, и высказал все, что я о нем думал. Он покраснел от неожиданности и начал что-то лепетать в свое оправдание: мол, выиграл он из чистого спортивного интереса, а также, чтобы насолить Багдадскому вору, который обманул его, обещал не ехать на выигрыш, а сам поехал, и он, Володя, отплатил ему той же монетой, взял и выиграл в своем заезде, а Петя угадал комбинацию чисто случайно. Но я не стал дослушивать его дребедень и, повернувшись, с достоинством ушел от них, хотя Петя и придерживал меня за рукав, приглашая вместе с ними в кафе, чтобы отметить удачу. Я не унизился до их приглашения, ибо уже точно знал, что больше с Володей не буду иметь никаких дел. Слишком велика была обида. Я многое могу простить, но подлость на меня всегда действует, как на быка красная тряпка, и здесь, наверное, виноват мой знак, созвездие, под которым я появился на свет. Я — Лев, а этот зверь больше всего не переносит предательство, а то, что сотворил Володя, другими словами и не назовешь. Ну, если даже и не предательство, то подлостью это смело можно назвать.
И все же, идя в тот вечер домой, я почему-то припомнил все, связанное с Володей: и наше знакомство, и первая встреча, и наши обильные трапезы в кафе, и как он с видом знатока разбирал программку и, отмечая ту или иную лошадь, давал ей исчерпывающую характеристику, почему она выиграет или проиграет, Много рассказывал о наездниках, и, конечно, припомнил все сведения, которые я получал от него о лошадях и наездниках, ведь он знал всю подноготную бегов. Но особенно почему-то врезалось в память, как мы с братом ходили к нему в больницу, когда он попал под машину и переломал ноги. Я тогда знал Володю еще совсем немного, мы только-только начали завязывать деловые отношения, и очень удивился, когда мне на работу позвонила незнакомая женщина и, представившись женой Володи, попросила, чтобы я к нему приехал в больницу. И буквально на другой день, накупив гостинцев, прихватив с собой бутылку водки, мы с братом отправились навестить Володю. Володя искренне обрадовался нашему приходу, с удовольствием выпил водочки, и мы проболтали несколько часов. Конечно же о бегах! Меня тогда интересовали сведения о лошадях, наездниках, тем более полученные из первых рук.
За месяц, что Володя пробыл в больнице, я еще дважды навещал его, а когда он выписался из больницы и приступил к работе, то сразу же, как только его записали в одном из заездов, позвонил мне, мы с ним встретились, и он расписал мне всю программку. В тот раз он искренне хотел выиграть, и края мы угадали правильно, он назвал только двух лошадей спереди и двух сзади, и именно одна из этих лошадей и выиграла в заезде, а вот Володя на своей лошадке не выиграл, хотя и старался изо всех сил. У самого финиша его лошадь сбилась, и его объехали сразу два наездника. Я помню, как искренне он переживал неудачу, когда мы с ним встретились в кафе, и даже выпив изрядную дозу живительной влаги, все никак не мог отойти от проигрыша. Но это был, пожалуй, первый и последний случай, когда он хотел выиграть и честно назвал мне края, и так же искренне хотел, чтобы мы немного нажились. Все остальное время он изрядно туманил мне голову и водил за нос как дурачка. Конечно, я и на этот раз мог сделать вид, что ничего особенного не произошло, но поступить так — значит поддержать самое гнусное и подлое, что есть в человеке, а мне хотелось доказать Володе, что человек должен всегда оставаться человеком, даже если дело связано с деньгами.
Не знаю, понял ли что-нибудь Володя или нет, только дальнейшие события показали правильность русской пословицы: горбатого исправит лишь могила, слишком любил Володя деньги и за них готов был продать душу дьяволу, не говоря уж о каком-то знакомом. Кончил Володя очень плохо: его с треском выгнали с ипподрома, и теперь он подвизается в фирме «Заря» по ремонту квартир. Правда, еще два года после нашего разрыва он проработал на ипподроме, я его встречал и на трибуне, и в кафе, когда он отмечал свои выигрыши, а, как назло, стоило мне только порвать с ним, как он начал выигрывать, и всегда почти за него платили неплохие деньги. Во всяком случае, за два года он выиграл раз пять, а то и больше, а это очень неплохой показатель для рядового ездочка, некоторые мастера-наездники катаются месяцами на своих лошадях и ни разу так и не выигрывают. За это время я кое-что на Володе заработал, ибо играл его после нашего разрыва на любой лошади и в любой компании. Изучив его подлую натуру, и главное, зная его страсть к наживе, стремление к выигрышу в своем заезде, я играл его и по рублику, и покрупнее. И вдруг его перестали записывать для участия в испытаниях. О том, что с ним приключилось, я узнал от его дружка Пети.
Володя — очень подлый и ушлый человек. Он вовремя подсуетился и вступил в партию, и поэтому, когда кто-нибудь из наездников уезжал выступать за рубеж, то ковалем с этим наездником посылали Володю. Он не терялся и за границей, жил впроголодь, питался захваченными из дома консервами, а всю валюту пускал на тряпки, а затем купленные вещички втридорога перепродавал на ипподроме. Но как известно, аппетит приходит во время еды, со временем Володя занялся не только тряпками, но спекуляцией валютой. Вот тут-то его и накрыли с поличным…
И когда вся эта эпопея с Володей завертелась, Петя разыскал меня на трибуне и попросил юридической помощи. Но я обжегся на деле Чаматы, дал себе слово больше никому из этих людей не помогать не только делом, но даже и советом. И свое слово сдержал, какие только золотые горы не сулил мне Петя, Володю выгнали с ипподрома, и если к кому применима фраза: жадность фрайера сгубила, так это в полной мере относится к Володе-ковалю с Центрального московского ипподрома.
ЗАРЯДЧИКИ
Так на ипподроме называют людей, которые связаны с наездниками, и заряжают они не пушки и даже не пистолеты, а билеты в кассе и ставят от своего наездника по сто — двести рублей в одном заезде, а случается, что и по пятьсот. Да еще расставляют сотню-другую по букам, когда знают наверняка, что их наездник едет на выигрыш, вот и выходит, что рядовому игроку, который сыграет рубликом ту же комбинацию, фактически получать-то и нечего. Зарядчики обирают все, что только можно обобрать, и бороться с ними практически невозможно. Остается одно — не играть в этих заездах, но как настоящий игрок может удержаться от игры, когда в заезде бежит его лошадка, да и всегда в нем теплится надежда: а вдруг у зарядчиков что-то не сработает, сорвется — и тогда он отхватит крупную выдачу. Но у зарядчиков срывается очень редко. Такое случается лишь тогда, когда две конторы схлестнутся между собой, и от одного наездника и от другого их зарядчики поставили крупные деньги, а выиграет какая-то третья, неучтенная лошадь, Зарядчики это тоже знают и, чтобы избежать нежелательных последствий, договариваются заранее между собой, чей наездник поедет на выигрыш сегодня, а чей в другой раз.
Конечно, там, где дело связано с деньгами, бывают и накладки, кто-то кого-то обманывает, но без наказания подобные штучки не остаются, в ход пускается все, вплоть до физической расправы. Так, в частности, поступили с наездником Нарышкиным, который нарушил уговор, данный зарядчикам, пообещал убраться и не ехать на выигрыш, и зарядчики, естественно, не играли его лошадь, а все свои деньги убухали в другую комбинацию, а он взял и выиграл, так его уже на следующий день сбросили с электрички. Кто это сделал, так и осталось неустановленным, хотя следствие и тянулось очень долго, но то, что на ипподроме орудует самая настоящая мафия — факт, который не нуждается в особом доказательстве.
Из зарядчиков очень колоритная фигура — Марик. Он редко когда промахивается. Марик держит в своих руках сразу несколько наездников, которые без его согласия не имеют право и дыхнуть, а не то чтобы поехать на выигрыш без его благословения. Деньгами Марик располагает большими, для него ничего не стоит бросить в заезд пятьсот рублей, и даже иногда, для отвода глаз, за ним ведь следит не один человек на бегах, а десятки, чтобы сбить игроков с толку, он ставит деньги совершенно не от той лошади, которая выиграет в заезде, и деньги немалые: сто — двести рублей, и все эти люди ныряют за ним и кидают в бездонную яму свои рубли и десятки вслед за Мариком, тогда как он сам заранее отдал деньги кому-нибудь из своих людей-шестерок — и тот ставит крупную сумму совсем на другую лошадь, и лошадь эта, как правило, выигрывает в заезде.
Конечно, такие крупные деньги Марик имеет не от трудов праведных, хотя вроде и занимает вполне солидную должность, он начальник какого-то строительного треста, а от махинаций на бегах. Ему, к примеру, ничего не стоит регулярно выплачивать зарплату по триста рублей ежемесячно двум-трем наездникам, это не считая расходов по мелочам, кому-то кинуть полсотню, чтобы не ехал на выигрыш, а кому-то просто дать на бутылку. Марик предпочитает, чтобы отношения между людьми строились только на денежной основе. Почему его наездники подчиняются Марику беспрекословно и не делают попыток перебежать к другому зарядчику? Да только потому, что у Марика все с ними оговорено: помимо второй постоянной зарплаты, каждый из его наездников получает определенную сумму за выигрыш: выиграл в заезде — можешь быть спокоен, вечером в шашлычной или в ресторане получишь свои проценты, в зависимости от размера выдачи в тотализаторе. Марик один из первых зарядчиков ввел на ипподроме повременно-премиальную систему оплаты, и остальные зарядчики тут же ее подхватили и применили при расчетах со своими наездниками.
Марик — пионер не только в материальном стимулировании наездников, но и в другом он также проявил инициативу первым. Так, он попытался объединить всех зарядчиков в одну корпорацию и создать нечто вроде клуба, где бы зарядчики могли обделывать свои делишки и обмениваться нужной информацией. С объединением в гигантский мафиозный трест у него ничего не вышло, другие зарядчики не пожелали идти под власть Марика и централизованному распределению доходов предпочли действия по старинке, каждый на свой страх и риск: что мое, то мое. А вот сама идея клуба пришлась по душе, и они облюбовали для этой цели бильярдную в парке культуры и отдыха в Сокольниках, где собирались после каждого бегового дня и играли по-крупному, а заодно решали кое-какие вопросы местного масштаба: заключали единовременные сделки, объединяя свои усилия в том или ином заезде, когда распри только мешали делу. Марик, обиженный отказом зарядчиков объединиться под его эгидой, в этих сделках никакого участия не принимал и информацию о своих наездниках зарядчикам не просыпал. Подсмотреть же за ним во время заезда также очень трудно. Как правило, вокруг Марика вертится человек десять шестерок, и трудно определить, кому из них он поручил ставить выигрышную комбинацию, а кому поручил расставлять деньги для дезинформации, и поэтому, когда за пять минут до закрытия касс они врассыпную разбегаются по разным этажам, чтобы расставить деньги, которые им дал Марик, то неизвестно, за кем из них нужно бежать.
Есть, правда, и у Марика слабинка. Он плохо разбирается в краях, и потому ему приходится ставить к своей лошади не одну-две, а от трех до четырех. Это, конечно, не совсем здорово и распыляет его средства. В этом отношении другая контора, Наркомана, на голову выше Марика, но здесь командует не один человек, а целая контора, со своим мозговым трестом, есть у них даже специальный человек, который очень здорово разбирается в лошадях, и им определить край в заезде не составляет большого труда. Человека этого даже прозвали Мыслителем, и он соответствует своему прозвищу. Мыслитель выдает четкую информацию о лошадях в заезде, где едет их наездник, и контора решает, что лучше: выиграть ли самому Ване П-хе или проехаться на какой-нибудь другой темной лошадке, которую вычислил Мыслитель, и в зависимости от принятого решения дают команду Ване, ехать ли ему на выигрыш или пропустить такую-то темную лошадку, а самому остаться на втором месте.
Наркомановская контора — гроза букмекеров. Наркоман не любит играть своего наездника в кассе даже тогда, когда он едет на выигрыш, и предпочитают расставлять деньги по букам. Этим они сразу убивают двух зайцев: во-первых, за ними очень трудно уследить, когда они играют у букмекеров, а не в кассе, и во-вторых, что тоже немаловажно, игрой у буков они не разбавляют выдачу, и за их наездника, если он выигрывает, всегда платят приличную сумму. Ведь ставки у букмекеров не влияют на кассовый сбор в тотализаторе, а им все равно, где получать деньги, от государства или от частного лица. Главное, вовремя расставить, а на ипподроме, помимо касс тотализатора, действуют десятки букмекеров, практически на каждой трибуне работает не один букмекер, и зарядчики аккуратненько расставляют у них деньги, создавая видимость, что данная комбинация игровая и за нее много не заплатят. Буки думают, что точно так же лошадь Наркомана играется в кассе, на этом-то заблуждении они и горят, и когда на доске вывешивают выдачу в пятьдесят — сто рублей, они все одновременно хватаются за голову, но исправить уже ничего нельзя, нужно выплачивать за состоявшуюся комбинацию, и все деньги, высосанные из рядовых игроков, перекачивают в карман Наркомана, а затем к самому наезднику.
Для наглядности, как это происходит на практике, достаточно привести всего один пример. Среда, 23 июля 1980 года, последний заезд, на кобылке — Пике, едет наездник Наркомана. Кроме него в заезде еще восемь лошадей, и среди них два фаворита, на которых едут мастера наездники, на остальных лошадках едут рядовые ездочки. Наркоман и его люди проделывают простую операцию: убирают двух фаворитов, дают сухими двум мастерам-наездникам, и они не едут на выигрыш. Остальное — дело техники. Мыслитель вычисляет край и лошадь в заезде, на которой можно проехать. Желающий выиграть всегда найдется, в данном случае таким ездочком оказался Лобачев со своей кобылкой Помпой. Своему же наезднику дается команда попасть в пару и ни в коем случае не обыгрывать Лобачева на Помпе, ибо деньги уже расставлены по букам.
Так все и получилось в действительности, выиграла Помпа, а когда во время заезда был такой момент, что лошадь наездника Наркомана вдруг неожиданно для него вышла вперед, то наездник умышленно сдернул ее и сделал небольшой сбой, лошадь проскакала ровно столько, чтобы остаться на втором месте. Конечно, при такой методе есть определенный риск, но он почти всегда оправдывается. И в данном случае за выигрышную комбинацию платили по пятидесяти рублей за билет, и всю выдачу собрали люди Наркомана. А если бы выиграл их наездник, то они бы не получили и пятой части выдачи.
Для рядовых игроков, да и для зарядчиков из других контор трудность как раз и заключается в том, что почти никогда невозможно угадать точно, когда на выигрыш едет сам Ваня, а когда он проедет на ком-нибудь. И хотя на ипподроме все знают такую присказку: слышал краем уха — едет Ваня П-ха, но слышать-то слышат многие, а вот едет ли он действительно на выигрыш, знают лишь избранные.
Несомненно, к этим счастливчикам относится Нильман со своим подручным Красавчиком. Нильман — зарядчик, но своеобразный. Он ставит по-крупному, знает многих наездников, а вот чтобы кем-то распоряжаться, скажем, как Марик или Виталий Борисович с Наркоманом, такого ни одного наездника у Нильмана в подчинении нет. Зато он может неожиданно, буквально за пять минут до заезда перепутать все карты другим зарядчикам. Нильман — большой мастак убирать того или иного наездника прямо с дорожки и сделает все, чтобы тот или иной наездник не выиграл. Действует он надежно, дает наездникам наличными или, как говорят сами наездники, сухими. И наезднику это очень выгодно, и Нильману хорошо. Наезднику выгодно получить сотни три, все зависит от того, кого убирает Нильман. Если, к примеру, в заезде едет «генерал» на фаворите и всем ясно, что его одного разыграют, и он уже дал слово своим людям, что поедет на выигрыш, то за сотню, конечно, он не станет искать себе неприятности, а они двойного порядка: может попасть от администрации, вплоть до лишения права езды на какой-то срок, и от людей, которых обманул, а вот рубликов за триста можно и рискнуть. Лошадь есть лошадь, и с ней всякое случается: то закапризничала и не заладила ходом, то попала в ямку и сразу же заскакала, а он остановить не смог, то кто-то помешал из наездников и проехал по ногам лошади, вот она и заскакала, да мало ли еще причин, а можно и вообще проиграть по-умному, перепейсить лошадь, сделать первые две четверти очень резко, скажем, по тридцать одной — тридцать две секунды, а в конце дистанции встать в обрез, да так, что объедут все лошади в заезде. Нильману же это выгодно, и он всегда окупит те триста рублей, что истратил, убирая того или иного наездника. Расчет у него простой: все играют фаворита, даже зарядчики, не подозревая, что он убран с дорожки, и лишь один Нильман играет другую лошадь, и даже десятка, поставленная на эту темную комбинацию, окупает все расходы. А чтобы действовать наверняка и не искать в заезде лошадь, которая могла бы выиграть, Нильман тратится еще на полсотни и эти деньги дает одному из ездочков лишь за то, чтобы он ехал вперед и ни о чем не думал. Никакой фаворит его не обыграет, и Нильман один собирает всю выдачу. Вот почему с Нильманом считаются асы зарядки.
Деньги у Нильмана есть. Для этой цели он имеет подручного по кличке Красавчик. И этот молодой человек полностью оправдывает свое прозвище. Самому Нильману лет тридцать, Красавчику же самое большее — двадцать, и он обладает утонченной красотой. Где его откопал Нильман, и как они снюхались, только Красавчик ему полностью подчиняется на бегах. Вне ипподрома Красавчик специализируется по мебельным гарнитурам. Используя свою внешность, он знакомится с продавщицами мебельных магазинов и через них достает дефицитные мебельные гарнитуры, а затем перепродает их за двойную, а то и тройную цену. Естественно, какую-то часть дохода он отчисляет и своим девушкам, но они, наверное, безмерно счастливы, что такой красивый молодой человек проводит с ними время, и многие из них даже не подозревают, с какой целью Красавчик использует их и как крупно он на них наживается.
И все же Нильман погорел, причем погорел основательно. Погубила его страсть к игре. Деньги у него скопились большие, вот он и решил пустить их в оборот и занялся валютными операциями, а это уже дело серьезное. Если за махинациями на ипподроме никто не следит и это дело пущено на самотек, то валютой занимается Комитет государственной безопасности, и очень скоро Нильман попал в окуляр сотрудников, и его взяли, как говорится, с поличным. Следствие, суд и десять лет лишения свободы в местах не столь отдаленных. Сник как-то сразу без наставника и Красавчик. Деньги-то он по-прежнему имел немалые, а вот навыков, связей своего учителя да и его изворотливости он не имел и поэтому каждый беговой день просаживал все заработанные на мебели деньги, да так крупно проигрывал, что вскоре влез в долги и вынужден даже был скрываться от кредиторов, а затем пропал совсем. Поговаривают, что его также посадили, только не за валюту, а за махинации с мебелью.
В этом плане поучительна судьба еще одного зарядчика, Валеры Гнилушки. Когда-то, лет десять назад, он был очень могущественным человеком на ипподроме, и с ним считались все. Валера удачно женился, взял себе в жены дочь старейшего мастера-наездника. И пока тесть работал на ипподроме, не ушел на пенсию, Гнилушка заправлял не только его конюшней, но и другие наездники буквально на лету ловили каждое его слово, и как он скажет, так они и делали: выигрывали в заезде только по его команде, и достаточно было одного его слова, чтобы тот или иной фаворит убрался. Крупными делами заправлял Гнилушка на ипподроме, и даже Марик с Нильманом да и другие зарядчики почитали за честь водить с ним дружбу и без согласования с ним не проворачивали ни одной аферы на бегах. Здесь играл свою роль авторитет, каким пользовался среди наездников его тесть. Все сегодняшние асы езды — фактически его ученики. Но вот ушел он на пенсию, задурил Валера в семейной жизни, разошелся с дочерью старейшего наездника и сразу же оказался на мели. С ним перестали считаться те, кто еще совсем недавно смотрел ему в рот. Нет, кое-какие связи с наездниками у Гнилушки сохранились, так, он успел подружиться с сыном тестя, который остался работать на ипподроме. Но одно дело его отец, и совсем другое — сын, рядовой наездник, каких на ипподроме много. Да с ним в заезде никто серьезно не считается, и каждый норовит обыграть. Конечно, выигрывает и он, но очень редко, и если ждать только его выигрыша, то можно без штанов остаться.
И дела Валеры Гнилушки резко покатились вниз, и он из заправилы превратился в заурядного игрока-шакала, так на бегах прозывали людей, которые подсматривают за зарядчиками. Подскажет ему лошадку кто-то из зарядчиков, Гнилушка выиграет немножко, а так летит мимо со страшной силой. И главная причина в столь резком падении Гнилушки не уход тестя на пенсию, ведь на ипподроме еще остались многие его друзья и родственники среди наездников, которые испытывают к нему чувство признательности и при случае могли бы отблагодарить его зятя, главное же, почему от Гнили все отвернулись — не совсем красивый уход из семьи. Видно, тесть рассудил по-своему: раз женился, живи, семья есть семья, а любовницу можно завести и на стороне, а Гнилушка развелся, и все концы в воду, даже к дочери приходил только по праздникам, вот его и отлучили от кормушки на ипподроме.
Есть на бегах и другие зарядчики: Алик, Феликс, Виталий Борисович, Устрица, Мясник, но они мало чем отличаются друг от друга и действуют одинаково: подбирают удачную записку в заезде и запускают своего наездника вперед и от него расставляют сотни билетов, а потом часть от выигрыша отчисляют за «работу» наезднику. В основном зарядчики — работники торговли и общепита, и они не только расставляют деньги от своих наездников, но и снабжают их продуктами не хуже номенклатурных работников. Гнилушка, в частности, кормил наездников из писательского ресторана.
Любил вкусно покушать и мастер — наездник Петя Гречка, самый толстый изо всех наездников, его вес за сто килограммов, и можно только посочувствовать лошадкам, на которых он ездит. У Пети своя метода, у него не один зарядчик, а сразу несколько человек командуют им, и это не потому, что его трудно прокормить, а по иной причине: Петя не получает от зарядчиков постоянную вторую зарплату, он продает своих лошадей, которые поступают к нему на конюшню с завода прямо на корню, а затем уже больше этой лошадью не распоряжается, она полностью переходит во владение того человека, кто уплатил за нее деньги, и естественно, Петя полностью подчиняется этому человеку и без его команды не может выиграть на ней. У Пети на каждую лошадь в конюшне свой хозяин, поэтому с ним чаще чем с другими наездниками происходят неприятности, его убирают зарядчики без предупреждения, и он вынужден на классной лошади имитировать то проскачку, то неправильный ход, то еще какую-нибудь неполадку, чтобы проиграть на фаворите. Иногда ему это сходит с рук, но случается, что судьи лишают его права управления, и тогда Петя из наездника превращается в рядового зрителя. Частые лишения привели к тому, что Петя вынужден был внести поправку в свою методу, теперь он старается продавать лошадей одному человеку, чтобы избежать ненужной свистопляски.
Игра многих наездников в тотализаторе конечно же не способствует улучшению резвости отечественных лошадей, вот почему наши лошади так отстали от зарубежных и проигрывают почти во всех международных соревнованиях, в каких они принимают участие. И до тех пор, пока на ипподроме всеми делами будут заправлять зарядчики во главе с мафией, — дело не сдвинется с мертвой точки.
Некоронованным же королем среди зарядчиков, да и среди игроков тоже, на ипподроме конечно же является Юлик! Невзрачный, лысоватый мужчина неопределенного возраста, ему можно дать и сорок и под пятьдесят, в спортивной одежде, с секундомером в руке, и даже на шее, на веревочке, у него болтается этот прибор, как некоторые носят медальоны. У Юлика же секундомеры служат не для украшения, а для работы. Он приходит на ипподром как на службу, часов в шесть утра, в любую погоду, будь то слякоть или сорокаградусный мороз, и уходит, когда на трибуне гаснет последняя лампочка. Официально, для отвода глаз, Юлик работает в какой-то шараге монтером, но на работу не ходит, даже за зарплатой, а еще и приплачивает человеку, который его оформил, лишь бы его не беспокоили и не отрывали от основного дела.
А основная его работа — ипподром. Он знает всех лошадей так, как их не знают даже в производственном отделе ипподрома, и в любой момент может выдать исчерпывающую информацию о той или иной лошади, на что она способна и есть ли смысл ее играть, или стоит подождать еще недельку, когда она войдет в порядок. Такой осведомленности Юлик добился кропотливым наблюдением за лошадями. Он следит за их работой с секундомером в руках, засекая их на каждой четверти. На всех лошадей у него составлено подробное досье, с момента поступления лошади с завода в двухлетнем возрасте и до отправления лошади на мясо.
Юлик не связан с каким-то одним наездником, и в то же время он практически связан со всеми. К нему за информацией обращаются почти все зарядчики, от Марика до Нильмана включительно. И он делится сведениями, но не безвозмездно, конечно, и не всей информацией, а лишь частью. Кое-какие сведения о темных лошадках он предпочитает использовать только в своих личных целях. О богатстве Юлика по ипподрому ходят самые настоящие легенды, и подпольный миллионер Корейко, говорят, не годится ему в подметки. Юлик может выдать в долг практически неограниченную сумму, и зарядчики используют Юлика как своего рода кассу взаимной помощи. Они берут у него деньги в долг под определенные проценты. Конечно, Юлик одалживает деньги не каждому человеку и даже когда дает солидному зарядчику, то взамен требует определенные сведения. Ему тоже нужно знать, едет ли тот или иной наездник на выигрыш, кто убран в заезде, а эти важные сведения на дороге не валяются, ими располагают лишь определенные люди, связанные с наездниками, и даже если Юлик высчитал какую-то темную лошадку, то одно дело сыграть ее с одной-двумя лошадками в следующем заезде и совсем другое — поставить комбинацию в лоб, к одной лошади.
И все же Юлик старается обделывать свои дела в тех заездах, в которые не суются крупные зарядчики, а те также не любят, чтобы их пути перекрещивались с Юликом. У них существует негласное соглашение, которое стороны стараются соблюдать по возможности. Правда, не всегда это получается, и когда зарядчики схлестываются с Юликом, это всегда видно по выдаче. Как правило, на доске вывешивают очень крупную сумму. Это объясняется просто: зарядчики запустили в заезде своего наездника, а Юлик в этом же заезде нашел такую темную лошадь с запасом, что ни у одного зарядчика даже не шевельнется в голове сыграть эту лошадь, вот и получается накладка, пролетают как зарядчики, так и Юлик. Но большинство игроков на ипподроме даже и не подозревают о закулисной стороне дела на бегах и о Юлике и других зарядчиках не только ничего не знают, но и никогда не слышали о них, а играют сами по себе и все, что случается на бегах, воспринимают как должное: так было вчера, так происходит сегодня, так будет и через пятьдесят лет, и кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, ведь игра есть игра.
БУКМЕКЕРЫ
Игроки на ипподроме их называют сокращенно — буки, в официальных же бумагах и даже в центральной прессе они именуются «еще одна некрасивость ипподромной жизни», а попросту — речь идет о частном букмекерстве. И удивительного здесь ничего нет. Эти люди увидели, что деньги буквально валяются под ногами и их нужно лишь поднять. И подняли! Организовали разветвленную сеть и расставили буков на каждой трибуне, чтобы людям удобно было играть, и значительная сумма денег стала оседать в карманах частных лиц.
Дело это — беспроигрышное, а чтобы обезопасить себя совсем, букмекеры установили предел, свыше которого они не выдают выдачу — сто рублей на один билет, и состоись комбинация хоть на десять тысяч рублей, тот, кто угадал у бука, получит только сто рублей, и ни копейки больше. Это если игрок успел поставить комбинацию до звонка, а если сыграл, когда уже закрылись кассы, то и вообще получишь десятку. А если кому-то из игроков это не нравится, пожалуйста, иди ставь в кассе, насильно никто никого не заставляет играть у букмекеров. И приучили людей: игроки поворчали-поворчали, а смирились с прихотью буков. А что им оставалось делать? Жаловаться? Кому и куда? Дело это чисто добровольное, не хочешь играть у буков, играй в кассе, а давно известно: тот, кто заказывает музыку, тот и командует парадом, а музыку в данном случае заказывали букмекеры, и пускать частное предпринимательство на самотек они не собираются.
Организовано у них все на высшем уровне. Как и у зарядчиков, у буков есть свой некоронованный король — Алик, который держит в своих руках все нити управления частным промыслом. Алик формально числится в какой-то шараге, куда приходит лишь раз в месяц за зарплатой, в основном же занимается ипподромными делами. Он у буков вроде начальника их нелегальной конторы. Алик поддерживает тесную связь с администрацией ипподрома, с милицией, так что все кампании по борьбе с частным предпринимательством на ипподроме — чистейшая фикция, и Алик заранее предупреждает организованных буков (а есть еще неорганизованные, работающие на свой страх и риск), когда состоится облава, и в эти дни на трибунах ипподрома ни одного бука из его корпорации не стоит, а в сети милиции попадается неорганизованная мелюзга, работающая по мелочи. Естественно, милиция и администрация ЦМИ предупреждает Алика о всех своих плановых карательных акциях не за красивые глаза, а за крупное вознаграждение, которое им выплачивает Алик ежемесячно.
Специально для этой цели у букмекеров существует фонд, который образуется из отчислений буков после каждого бегового дня, и держателем этого фонда также является Алик. Он у буков своеобразная касса взаимопомощи, откуда любой букмекер всегда может взять тысячу или две, в случае неожиданного проигрыша. Поддерживает Алик связь и с наездниками, и с зарядчиками, так что почти всегда его буки в курсе дела, когда тот или иной заезд заделан и состоится крупная выдача, в таких случаях они всегда могут подстраховаться и переставить опасную комбинацию в кассу. И все же, если кое-кого из буков иногда «раздевают» и они вынуждены выплачивать крупные суммы зарядчикам, то происходит это в основном от лени и нерадивости того или иного бука, а ни в коем разе не от плохой работы Алика. Свое дело он знает туго и вполне оправдывает ту тысячу рублей, которую ему в виде зарплаты выплачивают буки ежемесячно из своего фонда. За Аликом они, как за каменной стеной.
Уже по тем расходам, что буки тратят на содержание администрации ипподрома и милиции, можно судить и по их доходам. Все они, включая, конечно, и Алика — подпольные миллионеры, имеют не только машины, дачи, огромные лицевые счета в банке, но и золотишко. Попасть в их клан очень трудно. Место букмекера на ипподроме стоит немалые деньги, и чтобы добиться права обирать игроков на трибуне, необходимо внести предварительный взнос в тысячу рублей. Кое-кто и мог бы заплатить такие деньги, да не всякого только примут в организацию. У буков число членов корпорации держится на одном уровне и должно соответствовать количеству игроков на трибуне, и нового члена принимают в буки лишь в том случае, если кто-то выбывает из организации. Но происходит такое крайне редко, и получается, что букмекеры на ЦМИ как лорды в английском парламенте, свое звание несут пожизненно и прекращают заниматься выгодным промыслом лишь со смертью. Одно только отличие бука от лорда: это звание пока не передается по наследству, но не исключено, что букмекеры внесут со временем поправку в свой негласный устав.
Если же кто-то пытается заниматься букмекерством в одиночку, помимо организации, то с таким человеком расправляются самым безжалостным образом, вплоть до физического уничтожения. Но к уголовщине все же стараются не прибегать, а действуют более тонко: натравливают на нарушителей конвенции милицию, и их забирают, если даже и не возбуждают уголовных дел, то сообщают на работу, и редко кто после такой проработки появляется вновь на трибуне ипподрома.
Кто же они, эти счастливчики, баловни судьбы? Игроки знают их только по именам: Миша, Алик, Коля, Саша, Володя, Гриша, но имена эти часто чисто условные, и в действительности их даже зовут совсем не так, не говоря уже о фамилиях и их постоянном занятии. Многие из них, как правило, лишь числятся в какой-нибудь маленькой организации, а «работают» по-настоящему на ипподроме, есть и такие, кто занимает определенные должности в государственных учреждениях: заведуют автосалоном, заправочной станцией, подвизается в стоматологическом институте, в мюзик-холле, служит в какой-нибудь сельхозконторе по заготовке рогов и копыт. Но какие бы официальные должности они ни занимали в госучреждениях, таких денег, какие они имеют от частного букмекерства, им не в состоянии заплатить ни одно учреждение. После каждого бегового дня, по самым скромным подсчетам, каждый из буков имеет минимум пятьсот рублей, дней таких в неделю три, а в месяце — двенадцать, вот и получается, что неучтенная зарплата бука, причем без всякого вычета налогов, — тысяч десять, никак не меньше.
Как ни странно, но игроки по-своему любят буков. Им нет никакой разницы, куда ставить деньги, в государственные кассы или частному лицу, букмекеру даже удобнее. Не нужно стоять в очереди, во-первых, во-вторых, можно сыграть и по мелочи, когда нет денег, а самое главное — бук иногда поставит комбинацию в долг, а в кассу в должок не поставишь, там, если даже не хватит до рубля копейки, и то у тебя не примут деньги. Единственное неудобство игры у буков — это когда кто-то из игроков поймает темную лошадку и за нее выплачивают большую сумму, но темные лошади приходят не так часто.
И все же эта любовь странная, игроки и буки любят друг друга примерно так же, как любит кролик удава, когда завороженно смотрит ему в пасть. У игроков и буков разная психология, одни — несчастные люди, другие — самые настоящие хищники по своей натуре, им только побольше выкачать из игрока денег, вплоть до последнего пятака, и посильнее привязать игроков к себе, нисколько не задумываясь, что означает это для игроков. Разные у них и цели, одни хотят выиграть, когда ставят свои деньги букам, а другие, естественно, не желают расставаться с этими деньгами, и выходит, что друг без друга они существовать не могут. На бегах, конечно.
Вне ипподрома они отлично обходятся друг без друга, и больше того, буки считают игроков людьми второго сорта и в свою компанию их не допустят. Буки ценят в людях делячество, деньги, положение, занимаемое в госаппарате, и общаются только с себе подобными, с теми, кто умеет делать деньги, не важно какими средствами, законным или преступным путем, ведь деньги действительно не пахнут. Игроки в глазах буков самые пустые и никчемные люди, раз они так легко могут расставаться с деньгами, главным мерилом человеческого достоинства с их точки зрения. Уже одно это показывает, какие примитивные люди букмекеры…
ТРИ МИНУТЫ ДО СЧАСТЬЯ
Я давно уже ловил одну лошадку и проставил на нее, наверное, не меньше сотни. По моим расчетам, она должна была бежать в среду, и поэтому за программкой поехал накануне, во вторник. И не ошибся, в четвертом заезде действительно под номером восемь значилась моя лошадка, Учтивая, и ехал на ней наездник третьей категории Шестырев. Смутило одно — дистанция две тысячи четыреста метров. Обычно она участвовала в заездах на тысячу шестьсот метров, а тут более длинная дистанция. Но я знал точно, что кобылка с запасом; и если она поедет на удар, то секунд десять может сбросить со своего рекорда. С таким запасом прочности лошадей в заезде не было. Наездник так затемнил Учтивую, что она была самая темная в заезде и ее никто играть не будет. Тем более что дистанция не 1 600 метров, а 2 400, это также всегда учитывается при игре в тотализаторе. Но главное, конечно, не в этом, а в другом: как поведут себя зарядчики, на ком поедет «тотошка», но на эти вопросы можно будет ответить лишь в последний момент, если удастся подсмотреть за ними, когда они начнут расставлять билеты в кассах либо по букмекерам. Однако решил не ломать голову раньше времени. Я лишь мельком просмотрел третий и пятый заезды, как раз те, от которых зависело в какой-то мере решение наездника, ехавшего на Учтивой. Разработать же программу более основательно решил дома, в спокойной обстановке, и в дороге уже больше в нее не заглядывал, хотя и велико было желание прямо в вагоне метро развернуть программку и углубиться в ее изучение.
Дома не набросился сразу на программку, а дождался, пока жена с дочерью улеглись спать, и лишь только затем, уединившись в своей комнате, раскрыл записку и более внимательно просмотрел все заезды. Сначала предстояло разобраться с четвертым заездом, в котором бежала Учтивая, а уж потом искать края, от кого Шестырев поедет на выигрыш в третьем заезде и кто его может закрыть в пятом.
В четвертом заезде бежало девять лошадей. Это хорошо и плохо. Хорошо потому, что, будет играться не одна лошадь, плохо — в заезде всегда может отыскаться такая притемненная кобылка, которая вчистую обыграет выбранную лошадь, в данном случае Учтивую. Фаворитом, или, как еще называют игроки, фонарем, в четвертом заезде была Гретта под управлением мастера-наездника Тарасова. Причем фаворитом по всем статьям. У этой лошади и время лучшее, и на длинные дистанции она бежит хорошо, и по классу выделяется изо всей компании, отец и мать у нее признанные дербисты. Да и то, что на ней едет мастер-наездник, тоже имеет немаловажное значение. И если бы на ипподроме все строилось на честной основе, то обыграть Гретту очень трудно. Но в том-то и дело, что главное при игре в тотализаторе — нечестность, и даже больше того — жульничество и подлость, и не учитывать этого обстоятельства — значит попусту тратить время и переводить деньги лошадям на овес. Мастер-наездник Тарасов в этом отношении не совсем надежный человек, он почти никогда не выигрывает на фаворитах, а старается убраться, не задаром, естественно, и угадать, кто его убрал и на какой лошади он едет, не так-то просто. Дураком его не назовешь, внаглую он обычно не проигрывает, за такие дела судейская коллегия строго наказывает, а его за все время участия в испытаниях отстраняли раза два, не больше. Значит, заведомую клячу он не выпустит вперед, и я смело зачеркнул четыре лошади, которые не имели никаких шансов выиграть в заезде. Оставалось две лошади, на которых он мог проехать, но этих лошадей Учтивая обыграет в любом месте. Если, конечно, Шестырев поедет на выигрыш. О том, что он не поедет, я не хотел и думать. Интуиция подсказывала — поедет, именно в эту среду.
Но ведь интуиция может и подвести, как она подводила не раз. Здесь много привходящих факторов: во-первых, нужно, чтобы выбранная лошадь была в порядке, а то так может получиться, что я-то считаю Учтивую, а она начисто вышла из порядка и придет в форму через месяц, не раньше, во-вторых, наездник, а точнее, его люди должны угадать край в третьем заезде и хотя бы приблизительно знать, кто поедет его закрывать в пятом заезде. Обычно в этих вопросах наездники договариваются друг с другом, чтобы действовать наверняка, а не бросать деньги на ветер, в-третьих, тот, кто едет на удар, старается обезопасить себя и подбирает такой заезд, чтобы в нем не было другой лошади, которая может развести ему рельсы, а то получится: точил-точил лошадку и нарвешься на какую-нибудь резвячку, а это не совсем здорово. Главное же, чтобы Шестырева не убрали перед самым заездом, не сунули ему в руки сотню сухими, как они выражаются, тогда все предварительные расчеты полетят к чертям, и во-первых, и во-вторых, и в-десятых, наездник скорее упадет с качалки, чем выиграет в заезде. В этом отношении на ипподроме действует жесткое правило — взял деньги, хоть умри, а проиграй, с нарушителями слова поступают безжалостно. Были случаи, когда наездников убивали, сбрасывали с электрички, да разве мало способов, чтобы расправиться с неугодным человеком. И не брать деньги нельзя. Не взял — значит, хочешь выиграть, и вся «тотошка» ставит именно на эту лошадь, и выдают копейки. Но «тотошка» вмешивается не во все заезды, и, успокоив себя этой мыслью, принялся разбирать достоинства лошадей, и в частности, кто из них может обыграть Учтивую.
Опасна Сибирячка, и не столько сама лошадь, сколько наездник, который на ней едет, Дима Мигунов. Он почти всегда, когда у лошади есть возможность, старается выиграть, но Сибирячку Учтивая объедет концом. Гораздо опаснее Пальмовый Жезл. Это бешеный жеребенок, и если он не собьется со старта, то убежит от всех на полкруга, но наездник вряд ли с ним справится, особенно если ему сразу навязать борьбу, а если Шестырев поедет на удар, то он так и сделает, ведь он не хуже меня знает особенности той или иной лошади. Еще опасна Аналогия, но ее можно не бояться особенно, так как Кондрашов едет только от края и по указке, поэтому его, скорее всего, уберут с дорожки.
С четвертым заездом с горем пополам разобрался и решил для себя, что если Тарасов на Гретте не поедет на выигрыш, то Учтивая легко победит в заезде. Теперь нужно было определить края и по косточкам разобрать третий заезд. Самое простое и надежное решение в таких случаях — сыграть всех лошадей в третьем заезде, и тогда не придется особенно ломать голову и переживать, кто выиграет. Конечно, при этом варианте есть свои плюсы и минусы. Самое лучшее, если в третьем заезде выиграет темненькая лошадка, и тогда с Учтивой мне отвалят огромную сумму. Но в этом варианте есть и опасность: темную лошадь могут не угадать люди Шестырева, и тот не тронет Учтивую с места. Здесь нужно, чтобы и они сыграли ото всех лошадей в третьем заезде к Учтивой, надеяться на такое счастливое совпадение я не мог. Обычно наездник выбирает три-четыре лошади в заезде и от них расставляют деньги к своей лошадке. И поэтому я сосредоточил все свое внимание на третьем заезде, чтобы из одиннадцати лошадей выбросить хотя бы шесть и оставить для игры пять лошадок.
Фаворитом в третьем заезде была Гурьба. К ней я подобрал еще четверых: Стручка, Анисовку, Гладиатора, Клинику и… Лапту. Проработав третий заезд, принялся за пятый. Кто может закрыть Учтивую? В этом заезде также выделялась по резвости одна лошадь, Планета, и ехал на ней опять же Тарасов, и я ее оставил. Найти лошадь, которая закроет Учтивую, если та выиграет, намного легче, чем разобраться, от кого поедет Шестырев. Сразу же можно выкинуть шесть лошадей из одиннадцати. Дело в том, что у меня скопилась кое-какая информация, кто кого закрывает, и эта информация довольно часто оказывалась верной. Так, если в заезде выиграл, К примеру, Лауга, то в следующем заезде его закрывать поедет либо Крейдин, либо Тарасов, либо Яроцков, и если лошади этих наездников участвуют в заезде, то их смело можно играть. Учтивая принадлежит третьему тренотделению, а у этого отделения свои «друзья» и «враги». К друзьям относится Хирга, Гречкин, Гренов, и поэтому я в первую очередь отметил в пятом заезде лошадей именно этих наездников, приплюсовал к ним Тарасова на Фаворите. И таким образом получилось пять лошадей впереди и пять сзади, с ними и решил сыграть Учтивую.
И с облегчением вздохнул. Разработка программки всегда занимала уйму времени. Теперь предстояло решить не менее важный, а может быть, даже самый важный вопрос: где взять деньги… Как минимум нужна тридцатка, а в кармане у меня кроме сорока копеек на вход ничего нет. До получки еще далеко, да и что взять из аванса, если зарплата рядового юриста известна, еле-еле хватает на еду, а ведь из этих денег нужно еще заплатить алименты. И хотя с женой еще официально не развелись и живем в одной квартире, но вот уже больше двух лет семья фактически распалась, и мы, чтобы не травмировать дочь, создаем видимость семьи. И все из-за лошадей! Не смогла принять Наталья увлечение бегами. Да и какой женщине это понравится, недаром же в народе игроков называют сухими пьяницами. Как заведется в кармане лишняя копейка, так на ипподром, лошадям на корм, а не играй — все бы в дом принес что-нибудь, а то уже забыл, когда купил себе что-нибудь из одежды, хожу как оборванец.
Но растравлять себя этими правильными и не совсем приятными мыслями не стал. Сколько ни ломай голову, а изменить уже что-либо нельзя, верно говорят, что горбатого исправит лишь могила. Я конченый человек, и отними у меня лошадей — пропадет всякий смысл в жизни. Но сейчас голову сверлит только одна мысль: где достать деньги, чтобы сыграть свою лошадку. Занять у кого-нибудь из знакомых? Перебрал всех и ни на ком не остановился. Тем, кто бы мог одолжить, я уже должен, и просить у них еще, не вернув прежний долг, я не мог. Оставался один выход — снова тайком взять у жены. Я знал, где Наталья хранила небольшие сбережения, и уже в прошлое воскресенье попользовался из этого источника, взяв двадцать рублей, и теперь решил для ровного счета еще позаимствовать тридцатку, рассудив, что жена до конца месяца не сунется за деньгами, а за это время я вложу обратно взятую сумму. И, покончив с этим вопросом, уснул.
На работе несколько раз украдкой, когда никто из сослуживцев не смотрел в мою сторону, заглядывал в программку и еще и еще раз мысленно прокручивал в голове, как может сложиться бег в интересующих меня заездах. Почему-то за четвертый заезд, где бежала Учтивая, меньше волновался. Настолько был убежден, что она выиграет. Больше беспокоил третий заезд, но сколько ни ломал голову, остановиться на определенной лошади, которая выиграет в третьем заезде, так и не остановился. Решил посмотреть лошадей на проминке и уж только после этого выбрать края, от которых поставить деньги к Учтивой. Не отбрасывал вариант, чтобы, сыграть всех лошадей в третьем заезде к Учтивой, и от нее сыграть ко всем лошадям в пятом заезде. Тогда, если интуиция меня не обманет и Учтивая действительно выиграет в своем заезде, можно более или менее спокойно стоять на трибуне и наблюдать за бегами. Остановиться на этом варианте мешало одно — ограниченное количество денег. Тридцать рублей — это не те деньги, когда можно играть одну лошадь со всеми в двух заездах. Если выиграет темная лошадка, то цель оправдана, но ведь может так получиться, что в третьем заезде выиграет фаворит, и тогда я не только ничего не наживу, но и свои-то, проставленные деньги, не верну.
На работе до конца рабочего дня не усидел, сорвался сразу же после обеда. На ипподром прикатил за два часа до начала состязаний, чтобы посмотреть разминку лошадей. И хотя не очень доверял разминке и даже скептически относился к ней, все же за долгую игровую практику было несколько случаев, когда именно на разминке подсматривал лошадку, и потом в заезде именно эта лошадь выигрывала бег, и за нее платили неплохие деньги. А вдруг что-то подсмотрю и на сей раз? И это «вдруг» всегда живет в игроке. Надежда на счастливый случай никогда не покидает настоящего игрока, жила она всегда и во мне. Я знал, просто сатанински верил, что рано или поздно выиграю крупную сумму, и почему-то интуиция подсказала, что это произойдет сегодня.
На разминке ничего особенного не увидел, но окончательно остановился на шести лошадях, которые решил сыграть в третьем заезде: три фаворита — Гурьба, Гладиатор и Клиника, и к ним прибавил три темненькие лошадки — Анисовку, Зила и Лапту. И теперь, когда все было сделано и заезды разработаны, почувствовал невероятную опустошенность, будто из меня вытрясли все силы. Но мне никак не следовало расслабляться, и главное, во что бы то ни стало нужно выполнить намеченное и не поддаваться психозу, не изменить в последний момент намеченным комбинациям, как это уже случалось не раз.
В семнадцать тридцать объявили изменения по программе. В семнадцать сорок пять заиграла музыка, и лошади из первого заезда выехали на парад. Меня этот заезд совершенно не интересовал, и я даже не спустился с трибун в зал к кассам, чтобы посмотреть, каких лошадей играют больше, а каких меньше. Зато когда начались ставки со второго заезда на третий, обежал за пятнадцать минут почти все кассы и пронаблюдал, к какой лошади в третьем заезде больше всего ставок. Как и предполагал, больше всего играли к Гурьбе, на втором месте шел Гладиатор, подыгрывали от некоторых лошадей к Клинике, а в двух кассах подсмотрел зарядку к Анисовке и к Стручку.
В третьем заезде все набросились на Гурьбу, ее разыграли в пух и в прах, причем даже от нее к Учтивой ставок не было. Так, проскальзывало по одному билетику на кассу, не больше. Уж не убрали ли Учтивую, промелькнуло у меня в голове, потому что, если бы Шестырев ехал на выигрыш, то обязательно в какой-нибудь кассе к нему делалась бы крупная ставка, а тут обежал все кассы, а зарядки так и не увидел. Правда, было еще время, и люди Шестырева могли зарядить к нему в последнюю минуту, и даже могли сделать это после звонка, поставить по шансу, либо расставить деньги по букам. Я не стал дожидаться закрытия касс и свои комбинации расставил заранее.
Оставшиеся пять минут до начала заезда тянулись мучительно долго. Наконец прозвенел звонок, кассы закрылись, ударили в колокол, и лошади из третьего заезда выстроились за старт-машиной. Как все и ожидали, бег повела Гурьба. Рядом с ней держалась Анисовка, остальные лошади растянулись как на свадьбе. Первую четверть лошади прошли за сорок секунд. Со второй четверти уже можно было сказать вполне определенно, кто едет на выигрыш, а кто из наездников отказался от всякой борьбы. Ехали на выигрыш по крайней мере шесть лошадей, и среди них не было двух, от которых сыграл я, Гладиатора и Зила. Зато одна из четырех других лошадок имела все шансы закончить дистанцию первой. Боялся очень Стручка, и каждый раз, когда диктор объявлял, что сбоил Стручок, вздыхал с облегчением, но ехавший на Стручке наездник, словно чтобы пощекотать нервы игрокам, снова и снова бросал лошадь в борьбу. И хотя Стручок еще дважды сбоил, до самого финиша нельзя было сказать, кто выиграет. И я так увлекся Стручком, что даже не заметил, как к ведущим лошадям подошла Лапта и на финишной прямой вступила в борьбу с Гурьбой и Стручком, и лишь по огромному вздоху ипподрома понял, что случилось самое невероятное — бег выиграла самая темная лошадь, Лапта. Меня же удивило не столько это, а другое — как мастерски проиграл на Гурьбе мастер-наездник, всего четверть головы. Со стороны могло показаться, что он хотел выиграть бег на Гурьбе, однако опытному глазу сразу бросалось, как по дистанции он сдерживал свою лошадь и не отрывался далеко вперед, чтобы дать возможность тянуться за Гурьбой той лошади, на которой он решил проехать. А такой лошадью в заезде была либо Анисовка, либо Стручок, и никак не Лапта. Эта кобылка перемешала им все карты, поехав на выигрыш, и мастер-наездник на Гурьбе слишком поздно заметил это и на финишной прямой уже ничего сделать не мог.
И пока судейская коллегия определяла по фотофинишу, кто выиграл бег, ипподром гудел и стонал, не замолкая ни на секунду. И когда диктор объявил, что бег в третьем заезде выиграл наездник третьей категории Емельянов, выступавший на пятом номере, Лапте, опередив всего на четверть головы Гурьбу, ипподром взревел особенно мощно. Так всегда воспринимается выигрыш темной лошади и проигрыш фаворита. В этом реве одновременно выражалось и возмущение нечестной ездой со стороны мастера-наездника, проигравшего на Гурьбе, и восхищение и восторг к выигравшей лошади. Как бы там ни было, но игроки любят, когда выигрывает темная лошадка и на доске вывешивают крупные суммы. Надежда когда-нибудь отгадать темную комбинацию и схватить солидный куш — такая надежда живет в душе игрока. И пусть на сей раз повезло кому-то другому, это не имеет никакого значения, в следующий раз таким счастливчиком может оказаться любой из тысячи игроков, и вот эта-то иллюзия крупного выигрыша снова и снова приводит людей на ипподром.
Я чувствовал, ощущал всей кожей, что сегодня настал мой звездный час, и аж дрожал от возбуждения. В данный момент меня больше всего волновал один вопрос: угадал или не угадал Шестырев край, и в зависимости от ответа на поставленный вопрос, можно было сказать, поедет он на Учтивой на выигрыш или опять спрячется за спины других наездников. В какой-то мере судить об этом можно по ставкам, и я бросился к кассам. Учтивую совершенно не играли. Разбили Тарасова на Гретте, к нему заряжали пачками, и от него крупно играли. Почему-то второй лошадью игрался Пальмовый Жезл, хотя он, как и Учтивая, не должен был играться. Остальных лошадей даже и не трогали, в рапортичках у кассирш зияли пустые строчки.
В пятом заезде вся игра шла к лошади Асатиани и Липатникова. У меня же в этом заезде была своя лошадка — Увалень, но я настолько убедил себя, что наездник не тронет Увальня, что даже не сыграл от Учтивой к Увальню и рубликом.
Объявили три минуты до закрытия касс. На трибуне не стоялось, и я снова сорвался с места и побежал к кассам в надежде встретить нужных людей, которые могли знать за Шестырева, едет он на Учтивой на выигрыш или не едет. Слишком уж темная лошадь, Лапта, пришла в третьем заезде. За Лапту в ординаре дали тридцать рублей! А в двойном ординаре на всем этаже был только один билет в кассах, мой. И все, к кому я обращался с вопросом об Учтивой, смотрели на меня, как на ненормального: «Ты что, с ума спятил? Разве Шестырев поедет от такого края? Да и не годится Учтивая против Гретты Тарасова…» Но говорили так в основном такие же игроки, как и я, не связанные с наездниками, а они могли и ошибиться. Мне же нужна была информация из первых рук, от людей Шестырева, и я спустился вниз, где стоит человек Шестырева, которого я немного знал, и он, конечно, скажет, едет Учтивая на выигрыш или нет, темнить здесь ему нет никакого смысла. И я, облегченно вздохнул, когда в зале увидел того, кого искал. Вадим только что отошел с пачкой билетов. Я подошел к нему и, ощущая внутри легкий холодок, спросил:
— Как Шестырев на Учтивой? Едет вперед?
Вместо ответа Вадим показал пачку билетов, и я увидел, что он играет от Пальмового Жезла и Гретты к Увальню. И ни одного билета от Учтивой. И все же, не веря своим глазам, переспросил еще раз:
— Может быть, все же Шестырев поедет…
— Рубль за сто даю, даже не тронет по дистанции. Весь заезд едет на Пальмовом Жезле Лобачев. Он пятью билетами доезжает с ним, и от него мне дали поставить тридцатку, так что Шестырев скорее с качалки упадет, чем выиграет в забеге… В кассе уже не успеешь, а у буков еще можешь поставить от Пальмового Жезла… — И, кивнув головой, он побежал на второй этаж.
Не едет! Значит, очко у меня заиграло не зря, и не зря прошило словно током, когда расставлял билеты от Учтивой. Нужно было срочно что-то предпринять, а я не мог сдвинуться с места. До начала заезда еще оставалось несколько минут, и нужно было хотя бы попробовать продать кому-нибудь из буков или зарядчиков выигрышный билет и на эти деньги сыграть комбинацию, указанную Вадимом. Вся проблема заключалась в одном: найти человека, который бы рискнул купить у меня билет, не зная, выиграет или нет лошадь, к которой я сыграл от Лапты, то есть Учтивая. Конечно, было бы здорово, если б кто-нибудь согласился войти со мной в долю, я бы получил с него половину проставленных денег, а за это отдал бы половину выигрыша, если бы вдруг Учтивая закончила бег на первом месте в четвертом заезде. Но у меня слишком мало было времени, уже прозвенел последний звонок, и лошади выстраивались за старт-машиной, чтобы начать бег.
Я предложил билет нескольким игрокам, но как только все узнавали, что я жду Учтивую, вежливо отказывались, ее почти никто из игроков не считал на первое место. И тогда, в последний момент, я обратился к букмекеру, стоявшему на втором этаже. Я не любил этого человека, он был очень жадный, однако другого выхода у меня не было. И бук, не говоря ни слова, купил билет, буквально одновременно со взмахом флажка стартера, отправившего лошадей на дистанцию. Я даже не успел поставить у него на эти деньги подсказанную Вадимом комбинацию. И снова меня прошило током, и я почувствовал, как тело покрылось испариной, когда передавал билет букмекеру и тот небрежно отсчитал деньги, но я уже весь был на дорожке, вместе с лошадями.
Бег со старта повела Сибирячка. Эту лошадь почему-то в самый последний момент записали под нулем, рядом с ней держалась Гретта Тарасова, Аналогия, Пальмовый Жезл и далеко сзади остальные лошади, среди которых была и Учтивая. И я с облегчением вздохнул, подумав хорошо о человеке Шестырева, который не обманул меня. Шестырев на Учтивой действительно не собирался выигрывать в заезде. В таком порядке лошади прошли половину дистанции, с той лишь разницей, что на первое место переложилась Гретта. Рядом с ней держалась Сибирячка, Пальмовый Жезл и Аналогия. На четвертой четверти подтянулись к ведущим лошадям и остальные, но Учтивая все так же держалась на пятом-шестом месте. Шестырев и не думал посылать ее вперед, а если бы и собирался ехать на выигрыш, то это давно пора было делать. Бег складывался так, что я должен был быть доволен, что продал свой билет, но успокоения почему-то не наступало. Внутри все время что-то свербило и свербило, и у меня было состояние хуже отравленной крысы. Я столько лет ждал удачи, надеялся на счастливый случай, и вот, когда, казалось, счастье было так близко, кто-то невидимый, одним ударом, снова отбросил меня далеко назад.
Метров за двести до финиша трибуны ахнули. Это Пальмовый Жезл объехал Гретту и легко, словно он и не бежал две тысячи метров, устремился к финишу, а битый фаворит, Гретта, вдруг ни с того ни с сего начала скакать, и ей под гул трибун объявили проскачку. Ее сразу обошли четыре лошади. Человек Шестырева оказался прав, ехали на Пальмовом Жезле, и никто из наездников даже не собирался посылать своих лошадей, чтобы вступить в борьбу с ним или же объехать. И вдруг, метров за двадцать до финишного столба, ипподром еще раз ахнул, но теперь уже не легонько, а ахнул по-богатырски, так что за сплошным гулом не слышно было даже голоса диктора, который что-то объявлял по радио. Произошло же то, что может произойти только на бегах либо в лотерее. В игру вмешался господин великий случай. Пальмовый Жезл, которому до финиша оставались какие-то считанные метры и которому никто не мешал, он оторванно ехал впереди, вдруг начал скакать и прошел финишный столб галопом. Вслед за ним под несмолкаемый гул трибун финишный столб пересекли проскакавшая Гретта и Сибирячка, выступавшая под нулем. За этими тремя лошадями почти одновременно прошли финишный столб еще две лошади: Аналогия и… Учтивая, и я видел, как наездники, Шестырев и Кондрашов, растерявшись от случившегося, отчаянно пытались придержать своих лошадей, либо сдернуть их, так как ни тот, ни другой явно не ехал на первое место, но слишком мало осталось до финиша метров, да и умения, видно, наездникам не хватило, и эти две лошади, все под тот же аккомпанемент несмолкаемого гула трибун, прошли финишный столб правильным ходом. За Аналогией и Учтивой пересекли финиш остальные лошади. Видно было, что наездники на этих лошадях не поняли, что произошло, и торопились подъехать к передним лошадям, чтобы узнать подробности из первых рук. На трибунах не смолкал гул, и никто из игроков не трогался с места, ожидая объявления диктора.
Я же стоял и не мог пошевелиться, моля лишь бога о том, чтобы проиграла Учтивая и ее не признали на первом месте. Руки, лицо, все тело покрылось противной липкой испариной, в голове была полная неразбериха, и хотелось только одного: сесть прямо тут же, где стою, и не двигаться, и чтобы никого не слышать и никого не видеть вокруг. Но я этого не мог себе позволить. Игроки на трибуне все еще бурно обсуждали перипетии заезда и с нетерпением посматривали на судейскую ложу, ожидая официального объявления результата. И вдруг все стихло, в динамике зашуршало, а затем раздался голос диктора:
— Вследствие того, что третий номер Пальмовый Жезл прошел финишный столб галопом, а пятый номер Гретта сделала на дистанции проскачку, первый приз получает наездник второй категории Мигунов, выступавший на нулевом номере Сибирячке, второй приз получает наездник третьей категории Шестырев, выступавший на восьмом номере Учтивой, которая на полголовы опередила седьмой номер Аналогию и показала резвость три минуты тридцать девять и восемь десятых секунды… Для расчета по взаимным пари на первом месте считать восьмого номера Учтивую, на втором — седьмой номер Аналогию.
Диктор перестал уже говорить, выехали на парад лошади из следующего заезда, а на трибунах все никак не могли успокоиться. Теперь все ждали, когда на доске вывесят выдачу за комбинацию от Лапты к Учтивой — 8/5, и называли самые невероятные цифры. Кто-то даже высказал предположение, что эту комбинацию никто не угадал, и объявят «котел», который будут разыгрывать в этом заезде. Ко мне подходили игроки, которым я предлагал продать выигрышный билет, и поздравляли с удачей, а я стоял все так же неподвижно, будто меня совсем не интересовало происходящее вокруг. Подошел и человек Шестырева с пачкой билетов в руках и с руганью обрушился на наездника, который ехал на Пальмовом Жезле и не смог провести лошадь по дистанции:
— Идиот безрукий! Ему никто не мешал, а он умудрился проскачку залепить. Всех накормил, весь заезд на нем ехал… — И без перехода, обращаясь уже только ко мне, докончил: — А ты за один билет прилично отхватишь. Случайно, не продлил Учтивую? Если ждешь Увальня, то доедешь на сто процентов…
— Ничего я не отхвачу! Я продал выигрышный билет буку. Учтивую я, конечно, продлил, но Увальня не жду. У меня есть билеты от Учтивой к Тарасову, Асатиани и Липатникову….
— С этими лошадьми не доедешь… На Сапожникове заезд едет… Но идиот ты законченный! Кто же на ипподроме продает выигрышный билет от такой темной лошади, как Лапта… Бега есть бега, здесь всякое случается, — и Вадим, видя по моему лицу, что, я не вру и у меня действительно нет никакого выигрышного билета, с сожалением посмотрел на меня и отошел в сторону.
Я и без Вадима знал правило, что на ипподроме нельзя продавать поставленный билет, пусть даже комбинация и выглядит фантастичной, и никогда бы не отступился от правила, если бы у меня были деньги. Но видно, верна пословица: деньги идут к деньгам. У букмекера и так их куры не клюют, да еще привалили дармовые. Ипподром снова ахнул, когда на доске вывесили выдачу: девятьсот девяносто семь рублей с копейками за один билет. И я понял, что упустил свой шанс, точно так же как понял, что лошади, которых я жду от Учтивой, в пятом заезде не выиграют: ни Погоня, ни тем более Планета Тарасова, ни Пагодка Липатникова на выигрыш не поедут. И я совершенно спокойно снова мог продать имеющиеся у меня от Учтивой билеты, но не продал, а терпеливо выдержал еще один удар. Бег на первом месте закончил, как и говорил человек Шестырева, Увалень, а лошади, которых я ждал, подошли соответственно на втором, третьем и четвертом месте. Ни одна из них по дистанции даже и не пыталась приблизиться к Увальню, и Сапожников легко выиграл бег. Чуда второй раз не произошло, Увалень на финишной прямой не заскакал, а прошел финишный столб правильным ходом.
На трибуне творилось что-то невообразимое. Все кричали, возбужденно махали руками. Вокруг букмекера, купившего у меня счастливый билет, толпились любители выпить. Он уже послал за выпивкой, и про меня все забыли, словно я к этому мероприятию не имел никакого отношения. Я стоял в стороне, раздавленный, опустошенный. Букмекер, словно устыдившись, вдруг вспомнил обо мне и предложил выпить, но я лишь покачал головой и снова впал в бессознательное состояние, из которого меня так и не вывел ни звон колокола, возвестивший о новом заезде, ни голос диктора, объявившего победителя забега, ни рев трибун, ни беготня игроков, и лишь когда закончился последний заезд и все схлынули с трибун, я постоял еще какое-то время в гордом одиночестве, а затем медленно направился к выходу.
МИГ УДАЧИ
И все-таки он наступил, этот день, мой миг удачи. Не зря, наверное, я все лето был близок к выигрышу, но так и не выиграл. Со мной случалось то же самое, что примерно происходит в детской игре «тепло — холодно», когда кто-нибудь из ребят водит и ищет спрятанную вещь, а остальные говорят «тепло — холодно» по мере его приближения к тому месту, где спрятана вещь. Долгие годы мне вообще было «холодно», и я даже близко не подходил к удаче, но затем стало теплеть, и я иногда выигрывал рублей сто — двести, чтобы затем снова их проиграть, но этим летом я так близко подходил к цели, что мог и обжечься, но вместо того чтобы сделать последнее усилие и выиграть, почему-то снова отходил в сторону.
И вот этот день настал, мой день! Я запомню 16 ноября, наверное, на всю жизнь. Правда, накануне, когда я купил программу и бегло просмотрел ее, то ничего особенного не увидел. Да и денег-то у меня на это воскресенье не было, так, три рубля, а с трешником на бегах делать нечего. Но в субботу я более внимательно проштудировал программу и обнаружил, что сразу в нескольких заездах, начиная со второго, бегут мои лошадки, и отсутствие денег меня огорчило. Занять было не у кого. Черному я и так, наверное, изрядно надоел, а у других просить в долг мне было стыдно, так я с трояком и приехал на ипподром.
И как я ни люблю играть у буков, когда бежит какая-нибудь моя лошадка, но первые три заезда мне все же пришлось сыграть у Володи. Во втором заезде на Астре ехал мой любимчик Васильчиков, и я сыграл от двух лошадей в первом заезде к нему по полтинничку, и одна из моих лошадок, Выборный Танишина, выиграла в первом заезде. Конечно, было бы лучше, если бы на первом месте пришла Метафора, но Выборный Танишина обыграл Метафору на самом финише.
Во втором заезде бег сложился точно так же, сразу оторвались вперед две лошадки, четвертый номер — Браслет и пятый номер — Астра. Васильчиков — отчаянный наездник и борется всегда до самого конца. И хотя на финишной прямой Астру пытался захватить второй номер — Негайный, бывший в заезде битым фаворитом, Васильчиков все же не дрогнул и остался на первом месте, и я закончил эту комбинацию, три-пять от Выборного Танишина к Астре Васильчикова. Но главное, я продлил дальше Васильчикова сразу к двум лошадям по рублю, к пятому номеру — Жаргону и к восьмому номеру — Заплыву.
Третий заезд был очень сложным: здесь ехал и Андреев на Заплоте, и Гренов на Илане, их и разыграли, а вот к Жаргону ставок почти не было, тем более от пятого номера — Астры. За Васильчикова в ординаре платили пятнадцать рублей, и если в третьем заезде на первое место приедет Жаргон, то я отхвачу за сотенку, а может быть, и побольше. От битого фаворита Выборного Танишина в первом заезде к Астре и то заплатили по четырнадцати рублей. Я на полтинник получил у Володи семь рублей и на все семь рублей сыграл пятого номера — Жаргона в двойном ординаре, поставив от него ко всем лошадям в четвертом заезде, а к шестому номеру — Аптеке, на которой ехал Попельнуха, поставил даже трешником.
В третьем заезде первой лошадью игрался Заплот, второй — Илан, подыгрывался восьмой номер Запев, и лишь затем по игре шел пятый номер Жаргон. Но в заезде места распределились по-иному: бег всю дистанцию с места до места вел Жаргон, за ним держался восьмой номер Запев, а Илан с Заплотом даже и не думали ехать на выигрыш, они сразу же убрались. Бег на первом месте так и закончил Жаргон, и когда на доске вывесили выдачу от пятого номера Астры к пятому номеру Жаргону, — сто семь рублей, я понял, что сегодня мой день, и уже не сомневался, что в четвертом заезде выиграет именно моя лошадь, шестой номер Аптека, и поэтому сыграл ее одну к четырем лошадям в пятом заезде, причем сыграл не по рублю, а по пятерке, а к седьмому номеру Публицисту Танишина поставил даже десятку.
И хотя шестому номеру Аптеке в четвертом заезде было выиграть не так-то просто, Попельнуха все же выиграл в этом заезде, и я еще получил на три билета почти двести семьдесят рублей, так как за комбинацию от Жаргона к Аптеке, пять-шесть, платили восемьдесят девять рублей, а у меня таких билетов было три…
В пятом заезде я взял за основу седьмого номера Публициста и сыграл его не только в двойном ординаре, но и в паре, и особенный упор сделал к первому номеру Гитаристу, на котором ехал Лаксенок. Фаворитом в этом заезде был второй номер Урал и десятый номер Эпифора, но ни тот, ни другой не поехали на выигрыш, а бег всю дистанцию до последнего поворота вел шестой номер Голубика под управлением мастера-наездника Козлова. Этот наездник только что отбывал длительное наказание, он был лишен на три месяца права выступать в заездах «за жестокое обращение с лошадью» и фактически выступал первый раз после длительного перерыва. Никто его не играл, и если бы он выиграл в пятом заезде, то я бы от Аптеки Попельнухи к Голубике получил огромную сумму. Но, выходя на финишную прямую, Голубика не выдержала пейса и сбоила, и на первое место вышел… первый номер — Гитарист, опять же очень темная лошадь, и мне было бы лучше, если бег на первом месте закончил Гитарист. Ипподром даже ахнул, когда Лакс на Гитаристе неожиданно оказался на первом месте, но я-то видел, как мне этого и не хотелось, что Гитариста съедает седьмой номер — Публицист. И хотя у меня к нему от Аптеки было десять билетов, но я знал, что за один билет с Лаксом я бы получил в десять раз больше, чем за десять билетов с Танишиным. Такова была ставка в тотализаторе. И Публицист действительно легко объехал Гитариста, который так и остался на втором месте. Я закончил и в длинном и в паре и еще отхватил кругленькую сумму.
Вокруг меня толпились игроки и буквально смотрели мне в рот. На бегах весть о том, что кто-то крупно выигрывает, разносится в одно мгновение, и возле такого счастливчика обычно толпится народ. Одни желают выпить на дармовщинку, другие, зная о пятиминутке, о миге удачи, хотят тоже ухватиться за кончик и ставят точно такие же комбинации, что и выигрывающий, и я не отказывал ни тем, ни другим. Желающим выпить купил сразу несколько бутылок водки, и на нашей трибуне образовалось нечто вроде импровизированной стойки, игроки подходили, выпивали и отходили в сторону, другие дублировали мои ставки, которые я делал в открытую.
Но странное дело, большой радости от удачи я не испытывал почему-то. Так, наверное, всегда бывает, когда чего-то очень сильно ждешь, и когда это «что-то» наконец приходит, внутри все перегорает от долгого ожидания. Так случилось и со мной. Какая-то апатия охватила меня, и мне уже даже не хотелось больше играть. В двенадцатом заезде я знал наверняка одну лошадку, Алана Липатникова, и края было нетрудно угадать, и впереди и сзади ехала козловская лошадь, а связка Липатников — Козлов действует безотказно и еще ни разу не подводила меня. Сработала она и на сей раз. В одиннадцатом заезде выиграл Вызов из конюшни Козлова, на котором ехал Юра Репин, закрыл его Алан Липатникова, а сзади легко выиграл сам Анатолий Сергеевич Козлов, и в оба конца платили по пятьдесят рублей с небольшим, а я эту открытую для меня комбинацию не сыграл, я стоял, равнодушно взирая на происходящее. Меня даже не особенно трогала признательность игроков, которым я подсказал Липатникова с Козловым, и они сыграли эту комбинацию, получив энную сумму, в зависимости от поставленных денег.
Одни радовались, другие огорчались и без конца повторяли: «фальшивая езда, фальшивая езда…», а у меня от напряжения вдруг разболелась голова. Какая-то тупость нашла на меня. «Бросать надо всю эту музыку». И мне как-то сразу стали противны люди, окружающие меня и угодливо заглядывающие в рот. «Только бы выпить, и все… Больше их ничего не интересует… А ведь на ипподроме, можно сказать, собирается общество в миниатюре: врачи, юристы, артисты, инженеры, писатели… Так что же можно ожидать от них в обществе… А может, они все понимают, и бега лишь бессильный протест этому обществу? И не стоит на них обижаться… Я же сам ничем от них не отличаюсь…» И через минуту я уже устыдился своих мыслей о людях. Они искренне радовались моему успеху, а что хотят выпить, так этот обычай существует испокон веку, все выигрывающие угощают. Странно только, что я не испытывал никакой радости от выигрыша. Я надеялся ощутить особое чувство, а выходило, что еще хуже состояние, чем при проигрыше. Безразличие и головная боль. А может… И я незаметно отошел от выпивающих игроков. Никто даже не заметил моего исчезновения, продолжая обсуждать перипетии, игры.
«Купить фруктов, шампанского… а еще лучше в ресторан, к цыганам… Она же так любит их слушать… Да, но ее может не быть дома… Позвонить к матери? Нет, лучше дома… Нам никто не должен мешать, мы будем вдвоем, я и она… Мы так давно не были вместе…» В магазине я взял лучшего вина, конфет и на целые двадцать пять рублей купил цветов. Шофер такси удивленно посмотрел на меня, когда я не потребовал сдачи с десятки, и так с покупками ввалился в квартиру.
Но дома никого не было. Я быстро привел комнату в порядок, накрыл на стол и, все еще находясь в возбужденном состоянии, сел на диван. «А что я ей скажу, когда она придет? Давай выпьем и пойдем в следующее воскресенье на бега вместе? Идиот… Да ничего не скажу, она сама все поймет… Здорово мне сегодня повезло. Еще пару раз так выиграть — и можно купить машину… А если она не заметит порыв души… Тем хуже для нее…»
Шло время, а Наташка все не появлялась. «А что, если она совсем не придет? Не может быть… Она еще ни разу не отлучалась на ночь… Не отлучалась, так отлучится… Красивая женщина, кто-нибудь уже подобрался к ней, пока я увлекался лошадками и совсем не обращал внимания на нее…» Я подошел к столу и, сам того не желая, выпил рюмку коньяку. «У подруги задержалась…» Я даже не представлял, что ее отсутствие будет так волновать меня. Больше того, я злился на себя и старался злость заглушить коньяком, но алкоголь не брал меня. В два часа ночи я вдруг почувствовал, что праздник не состоится и она не придет ни сегодня, ни завтра. Она не выдержала лошадей, они в конце концов доконали ее, и она ушла от меня. Да и какая женщина это выдержит? Я встал, взял цветы и направился с ними на кухню, чтобы выбросить их в мусоропровод. Только теперь я заметил на столе записку: «Искать меня не нужно… Я ушла от тебя, не в силах справиться с твоей болезнью… Лошади — это болезнь, и ты никогда их не бросишь… Если можешь, прости… Думаю, так лучше будет для нас обоих…»
Вот и все…
Я подошел к столу и налил себе целый фужер коньяка, опрокинул жгучую влагу внутрь. Напряжение, которое держало меня все это время, вдруг отпустило, и телу стало легко. Я погасил свет и, лежа на диване, долго вслушивался в темноту. Кружилась комната, кружились предметы, кружилась в голове вся моя прошлая жизнь, а я беспомощно цеплялся руками за голые стены, стараясь удержаться на диване.
Во сне мне снились лошади!
1967—1980
ИЗВЕЧНЫЙ СПОР Из записок адвоката
СТРАНИЧКА ПЕРВАЯ — СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР
Осень стучится в окно, стучится настойчиво и нудно каплями дождя. Ветер накидывается на прохожих, срывает последний летний наряд с деревьев. Листья сиротливо носятся по бульварам и площадям, вылетают на проезжую часть, путаются под ногами.
Осенью мне всегда грустно, грустно от мысли, что прошли весна и лето, что ты чего-то ждал, на что-то надеялся, но так и не дождался опять. А впереди зима. Странно, но это чувство ко мне подкрадывается осенью, и от него трудно избавиться. Причем подкрадывается в самом неподходящем месте — в следственном изоляторе. Пытаюсь считать ступеньки, но на пятой спотыкаюсь. Дома мне всегда удается довести счет до конца, а здесь, как ни стараюсь, сбиваюсь со счета. Начинаю сначала. Одна, две, три, четыре, пять… Массивная дверь легонько подталкивает в спину, и я в приемной. Так ее называют работники изолятора, мы же, адвокаты и следователи, именуем ее комнатой свиданий.
В приемной встречаюсь с однокурсниками и знакомыми по факультету. У нас почему-то не хватает времени для встречи в другом месте. Не находим мы и помещения, более удобного для свиданий, чем следственный изолятор на Бутырке. В Бутырке после осенней слякоти кажется тепло и уютно. От мысли, что тебя не мочит дождь и ты уже не ежишься от холодных капель, перестаешь сердиться на осень и все воспринимаешь философски. Значит, так надо.
В приемной, выписав требование на вызов арестованного и ожидая, пока освободится какой-нибудь кабинет, можно обсудить с адвокатами и следователями последние новости районного и городского масштаба. Услышать, что Сашка из пятьсот девятой группы, закоренелый холостяк, женился на дочке генерала и резко попер в гору.
Сегодня в приемной пусто. Дежурный старшина протягивает бланк на вызов арестованного. Привычно заполняю его. Сняв телефонную трубку, старшина отрывисто бросает:
— Картотека? Вражин Александр Михайлович. За кем числится? За народным судом. Есть, — и, не поднимая головы, обращается ко мне: — Занимайте пятый кабинет.
Двери кабинетов закрыты. Я заглядываю в глазки, что не положено по инструкции. Но кабинеты пусты. Они тянутся вдоль всего коридора. Стоит непривычная тишина. Сюда не доносится городской шум. По пути к своему кабинету не встречаю ни одного адвоката. Явление симптоматичное. Адвокаты своего рода барометр, по которому можно судить о состоянии преступности в городе. Любители позлословить утверждают даже, что отсутствие адвокатов в следственном изоляторе означает снижение преступности в столице, а значит, и в нашем районе. Это, конечно, злая шутка. Просто прав шеф. Осенью наступает временная стабилизация. Преступники — расхитители социалистической собственности, мошенники — перебираются летом поближе к морю и не успевают еще вернуться в город. Осталась мелкая сошка — хулиганы, карманники. Шеф-умничка посоветовал одному ученому мужу написать на эту тему докторскую диссертацию, но тот засовестился.
Конвой задерживается и не ведет моего «крестника». «Крестник» — обвиняемый, которого я скоро должен защищать в народном суде. Хулиган. Так он квалифицировался в обвинительном заключении. Я с нетерпением жду с ним встречи. Это принципиальное дело. Смогу ли я на суде помочь подзащитному и доказать, что действовал он не из хулиганских побуждений? Чтобы как-то сбить волнение, в десятый раз осматриваю кабинет. Узкий, вытянутый, окно, забранное решеткой; в углу стол, два стула, один из которых накрепко привинчен к полу, на стене вешалка. Вот, пожалуй, и все убранство кабинета, если не считать чернильницы на столе да системы сигнализации — маленькой дощечки с кнопкой.
Мне достался неудобный кабинет. В комнате мало света, и даже в солнечный день здесь сумрачно и горит электричество. Окно кабинета выходит на крышу служебного здания. Сквозь решетку виден лишь клочок серого неба. Из окон других кабинетов открывается более обширная панорама. Виден тюремный двор, и я всегда с интересом наблюдаю за арестованными, когда они под конвоем совершают прогулку или перевоспитываются, работая во дворе.
Летом и ранней осенью арестованные все делают с ленцой, стараясь подольше задержаться во дворе. От удовольствия щурятся, радуются солнцу, теплу. Иная картина зимой и поздней осенью, когда льет дождь. Арестованные ежатся, плотнее закутываются в робы, торопятся.
Давно прочитана газета, а подзащитного все не доставляют. Взгляд то и дело натыкается на стены кабинета. За дверью слышатся шаги, но постепенно затихают и они. Выхожу в коридор. В восьмом кабинете закончили разговор и вызывают конвой. Тишину нарушает звонок зуммера. Дежурного на месте нет, и звонок продолжает заливаться. На табло светит цифра восемь. Механизация прочно вошла в быт следственного изолятора.
— Ну чего звонит, слышу же, небось не оглох, — и старшина на ходу выключает зуммер.
— Начальник, скоро приведете в пятый?
Дежурный молча направляется в восьмой кабинет и через минуту уже вместе с арестованным проходит мимо. От нечего делать углубляюсь в инструкцию, висящую на стене. Прочел только первый пункт. Конвойный возвращается неожиданно быстро с требованием в руке:
— Кто вызывал Вражина?
— Я.
— В картотеке ошиблись. У нас его нет. Несколько дней назад перевели в первый изолятор.
— Почему?
— Наверное, еще что-нибудь натворил.
— Не может быть, — вяло сопротивляюсь, хотя знаю, в практике бывают случаи, когда обвиняемый под следствием совершает новое преступление.
— Вот тебе и «не может быть», — передразнивает беззлобно дежурный. — Кати быстрей в первый, а то сегодня суббота, короткий день.
— Что же вы меня целый час мариновали здесь?
— Я что, мое дело маленькое — привести, отвести. Картотека, — и старшина показал на стену.
Мне от этого не легче. Придется через весь город ехать в другой изолятор. Сбегая со второго этажа, машинально считаю ступеньки. Как ни странно — получилось. В первом пролете оказалось восемнадцать, во втором на четыре больше — двадцать две. Поворот, жирная стрела показывает выход из следственной, и я на улице, если так можно назвать тесный дворик. Делаю десяток шагов и на стене читаю надпись: «Один звонок». Нажимаю на кнопку и вхожу в «предбанник». Так мы называем первую проходную. Дежурный КПП тщательно проверяет удостоверение. Лязгает засов, но это еще не свобода. Прохожу несколько метров по двору.
В последней проходной нажимаю два раза на кнопку звонка. Дежурный снова прощупывает взглядом и только после этого выпускает меня на улицу. С ревом проносятся грузовики, позвякивают штангами на стыках проводов троллейбусы, не уступая транспорту, спешат москвичи. Я стряхиваю с себя дрему и, заряжаясь общим током, бегу к остановке. На ходу вскакиваю в троллейбус. В вагоне, как всегда, смотрю на билет. Счастливый или нет? В глубине души убежден в бесполезности подсчета, но по привычке считаю. Сегодня никакой речи о счастье быть не может. Час зря проторчал в Бутырке. Но билет оказался счастливым — цифры совпали. Прячу его в карман. Девушка, сидящая рядом, улыбнулась.
В Центре выхожу из троллейбуса. На какое-то мгновение хочется ко всем чертям послать своего подзащитного и махнуть в кино. Но тут же представляю его ожидание и, устыдившись собственных мыслей, ускоряю шаг. На проспекте Маркса вместе с толпой ныряю в метро, быстро спускаюсь по эскалатору, и вот уже дверь электропоезда бесшумно захлопнулась за мной, и я мчу в первый изолятор, или, по-нашему, в «Матросскую тишину», на свидание со своим подзащитным.
СТРАНИЧКА ВТОРАЯ — ЗНАКОМСТВО С ДЕЛОМ АЛЕКСАНДРА ВРАЖИНА
Основную заповедь адвокатов — начинай изучение дела с конца — я схватил сразу. Запомнил популярное объяснение патрона о разнице между следствием и адвокатурой. Адвокату дают законченное дело, тщательно подшитое и пронумерованное, и, чтобы докопаться до истины и, если надо, опровергнуть обвинение, нужно в первую очередь знать, в чем человек обвиняется. А так как обвинительное заключение в любом уголовном деле находится в конце, то и начинать следует с него.
По обвинительному заключению все очень просто: «Вражин Александр Михайлович, будучи в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений в 17 часов 45 минут проник на территорию завода, где приставал к рабочим, мешал им нормально трудиться, сорвал график выпуска готовой продукции…» и так далее с цитатами из показаний обвиняемого, свидетелей — на десяти страницах.
Я внимательно читаю дело и как на экране телевизора представляю все описанные в обвинительном заключении события. Александр Вражин появился в цехе в конце смены. Покачиваясь, прошел вдоль станков по пролету, щелчком отправил в стружку папиросу, пнул подвернувшуюся под ноги деталь и, проследив, как она жалобно звякнула о станину, двинулся дальше. Задержался на секунду возле своего токарного станка, на котором работал теперь его тезка Серегин, перекинулся с ним словцом и скрылся на лестнице второго этажа.
Рабочие все так же склонялись над станками, и казалось, его появление осталось незамеченным, но уже через минуту по цеху пополз слушок: «Сашка Вражин пришел навеселе. К Людке-мормышке в лабораторию подался». Но пока рабочие лишь гадали, как Александр без пропуска проник на территорию завода, да еще в непотребном виде. Удивила их решительность, с какой Вражин проследовал по цеху. Прежде Александр не мог сделать и двух шагов, чтобы не остановиться у станка и не покалякать «за жизнь».
Два года назад пришел он на завод из колонии, и его сразу признали за своего. Приняли его в коллективе за трудолюбие — умел работать и знал дело. Правда, погодков своих он сторонился и любовь крутил с женщиной старше себя. Девушки завидовали: такой ладный парень — и ходит за женщиной с «хвостом», будто не мог найти помоложе и без ребенка. Александр оказался на редкость постоянным: с Людмилой обедал, встречал ее после работы, если их смены не совпадали; вместе их не раз видели в кино. Когда рабочие в цехе узнали, что Вражин увольняется по собственному желанию, то многие удивились. Но поговорили-поговорили и перестали. Первое время в цехе вспоминали о Вражине, да и он сам нет-нет, а давал о себе знать — приходил к заводу встречать Людмилу. А потом перестал появляться у проходной. О Вражине вскоре забыли.
И вот он снова в цехе. Рабочие с интересом смотрели в конец пролета, куда скрылся Вражин. Не уходили из цеха даже те, у кого кончилась смена, а столпившись в проходе, судачили:
— Отчаянный парень.
— Не сносить ему головы. Вот увидишь — не своей смертью помрет.
— Ну это ты зря так говоришь. Хороший парень. Может, снова пришел устраиваться на завод и ему выписали разовый пропуск.
— Устраиваться. К Людке под бок, что ли? Так там уже другой.
Рабочие засмеялись.
— Зачем ей мужик? Ей отец для дитя требуется…
— И все же, вражина, пришел. Недаром и фамилия такая — Вражин.
— Пустое все это. А вот водка до добра никогда не доведет.
— И баба гулящая тоже.
— А!!! а… а, — и крик оборвался на самой высокой ноте, словно кричащему заткнули рот.
Крик повторился, кричали уже ближе и не так сильно, а скорее по привычке. Так орет ребенок, которого наказывают родители и которому уже не больно, но он плачет, чтобы разжалобить окружающих. Минуту спустя в цех выскочила растрепанная Людмила и бросилась к противоположному выходу, где размещались кабинеты начальства. Следом вбежал Вражин и все пытался схватить ее за рукав, но Людмила ловко выскальзывала из его рук и продолжала бежать, изредка вскрикивая:
— Помогите… Помогите…
— Ну что ты кричишь, дура! Я ж тебя пальцем не трогаю. Давай поговорим.
— Не поеду я никуда с тобой.
Наконец Вражин изловчился и загородил ей дорогу. Она уперлась ему в грудь руками.
— Я сказала, никуда не поеду, и все… Оставь меня в покое, — и Людмила попыталась проскользнуть у него под руками.
Его ладонь тяжело легла ей на голову. Она дернулась и, закричав больше от испуга, чем от боли, побежала дальше по пролету. Какое-то мгновение Вражин не двигался. Затем, скинув оцепенение, бросился за ней. Он бежал вдоль, станков и не мог объяснить себе, почему очутился в цехе. Какая-то сила, неведомая и враждебная, толкала его вперед, эта же сила заставила перемахнуть через заводской забор с колючей проволокой, забыть об охране и неприятностях, которые ожидали в цехе. Он инстинктивно ощущал, что впереди его подстерегает опасность и ему не следует бежать дальше, но он не мог уже остановиться и продолжал двигаться навстречу неизвестности.
Он видел перед собой только Людмилу. Ей же хотелось скорее добежать до конторки старшего мастера, спасительно маячащей впереди, и она успела. Дверь за ней захлопнулась, щелкнул замок. Вражин, тряхнув дверь пару раз и чувствуя, что ему не справиться с ней, отошел в сторону. Безразличие охватило его, и ему уже не хотелось двигаться, а просто бы сесть на детали, обхватить голову руками да так и сидеть. Однако рассиживаться было не время. К нему шел начальник цеха. Первым движением Вражина было желание убежать, но он только попятился и остановился. Ему вдруг показалось нелепым это бегство. Разве он мог предвидеть, что все так обернется, когда шел в цех? Что Людмила не захочет его видеть? Начальник все ближе. Он уже протянул руку к Вражину, схватил за плечо. «Опять в колонию! — пронеслось в голове Вражина. — Нет… Ни за что!»
Он рванулся, увлекая за собой и начальника. Тот, чтобы не упасть, отпустил его. Но уйти из цеха, не поговорив с Людмилой, Вражин не мог и поэтому, вырвавшись от начальника, остановился на почтительном расстоянии. Начальник цеха больше не пытался подойти к нему.
— Вражин, брось дурить. Пойдем по-хорошему в охрану, а то дружинников вызову, хуже будет, — начальник цеха взывал к его благоразумию.
— Уже, наверное, вызвал…
Вражин хотел объяснить начальнику, что он пришел в цех не хулиганить, а по делу, от которого зависит, может быть, вся его дальнейшая жизнь, пришел к Людмиле, человеку, который заставил его поверить в себя и теперь покинул.
Но сказать ничего не успел.
— Последний раз говорю, уходи. Людей от работы отрываешь, — в голосе начальника цеха Вражин уловил угрозу и почувствовал раздражение.
— Знаешь что, хватит антимонию разводить. Слышал я уже твою песню, — и Вражин сделал шаг вперед.
Начальник цеха проворно отскочил и, обращаясь к рабочим, крикнул:
— Что вы стоите? Ловите его. Развлечение нашли.
Все продолжали стоять на месте и виновато отводили глаза. Они не хотели ввязываться в это дело, жалея Вражина. Начальник цеха танцевал на месте:
— Трофимов, что стоишь, позови старшего мастера да скажи, чтобы вызвали милицию.
— Пусть вызывает, — и Вражин взял в руки железный прут, лежащий у станка.
Рабочие неодобрительно зашумели. Послышались голоса:
— Брось, Сашок. Неприятностей на свою шею навесишь.
Но Вражин уже ничего и никого не слышал. Сейчас он видел в начальнике цеха злейшего врага и записывал на его счет все свои неудачи: и то, что так получилось с Людмилой, и то, что он был вынужден оставить завод, где ему хорошо работалось.
В цехе появились дружинники, а через минуту они его уже окружили со всех сторон. Вражин сигал через станки, ускользал от рук дружинников. Железный прут, который ему лишь мешал, он отбросил в сторону. Ему нравилось угадывать, куда повернут дружинники, и он перепрыгивал и пролезал через станки, но его поймали, обыскали и отвезли в милицию.
В кармане обнаружили билеты на поезд и деньги.
Следователь добросовестно цитировал показания шести дружинников и двух работников милиции. И ни одного показания рабочих.
Прокурор района размашистым росчерком утвердил обвинительное заключение.
Почему он все-таки не признает себя виновным? Шесть дружинников в один голос утверждают, что Вражин — злостный хулиган. В их показаниях противоречий нет. Это настораживает. Как могло случиться, что шестеро разных людей слово в слово повторяют друг друга? Не может быть такого совпадения.
Если верить их показаниям, то Вражин совершил преступление. Состав хулиганства налицо, и от двести шестой статьи в суде никуда не уйти. Я вновь перелистываю дело, ищу первый допрос своего подзащитного. Какой-то конверт. Интересно, что в нем? Осторожно распечатываю. Из конверта выпадают билеты на поезд, три! Облегченно вздыхаю и бережно вкладываю билеты обратно в конверт. Выходит, следователь приобщил их к делу, а это уже кое-что, ибо косвенно подтверждает версию обвиняемого, что на завод он пришел не хулиганить. Первый протокол допроса Вражина. Лист дела сорок три. Дело я уже помню наизусть. Вопрос следователя: «Признаете ли себя виновным в предъявленном обвинении?» Ответ: «Нет. Виновным себя не признаю».
Из показаний Вражина узнаю, что действовал он из благих намерений — решил начать новую жизнь, на новом месте, Людмилу не ударил, а закричала она от дури, что могут подтвердить рабочие цеха. Фамилий рабочих он, правда, не называл, но это дело поправимое. В суде всегда можно уточнить. Ведь если его показания правдивы… Мозг лихорадочно заработал: необходимо запросить табель, установить, кто работал в вечернюю смену, и вызвать в качестве свидетелей рабочих. Не всех, конечно, но человека четыре можно. И если они подтвердят показания Вражина, то это уже кое-что…
СТРАНИЧКА ТРЕТЬЯ — «МАТРОССКАЯ ТИШИНА»
Раньше от метро до следственного изолятора ходил трамвай. Теперь же провода сняли, на мостовой лишь чернеют и мокнут под дождем рельсы. Их почему-то не убрали, и они ржавеют без употребления. Шедшая впереди старушка завертелась на месте. И немудрено. Она, наверное, ищет изолятор и не может поверить, что пятиэтажное здание и есть изолятор. Увидев меня, старушка поспешно спрашивает:
— Касатик, а касатик, а где здесь тюрьма?
— Вы, мамаш, перед ней стоите…
— К сыну я, на свиданку. Больше трех месяцев, как взяли из дома. — И старушка, уже, наверное, в сотый раз, поведала первому встречному о своем горе.
— Ничего, мамаш, скоро выйдет, — успокаиваю я ее.
— Дай-то бог. — И она направляется к входу.
Но найти вход в «Матросскую тишину» не так-то просто. Я по очереди тыкаюсь во все подъезды, пока около одного не вижу на стене знакомую кнопку. Здесь не нужно, как в Бутырке, проходить «предбанник» и прочие проходные. Следственная находится в этом же здании, на третьем этаже. Шаги заглушает ковер, двери кабинетов обиты дерматином.
Кабинет мне достался удобный. Я подошел к окну, открыл форточку. Свежий ветер пахнул в лицо. Из этого кабинета три года назад, во время практики, я не вылезал сутками, когда работал со следователем в бригаде по групповому делу. Мы, можно сказать, ночевали в «Матросской тишине». Тогда шеф поручал мне самостоятельные допросы обвиняемых и свидетелей. Все прочили мне карьеру следователя. Но за два месяца практики я так и не научился правильно и аккуратно подшивать дела, что важно в этой работе. Для этого, видимо, нужен особый талант, у меня такого не оказалось, и я распределился в адвокатуру.
И вот я уже адвокат, и у меня собственное дело. В голове все время вертится вопрос: как меня примет Вражин? Волнуюсь. А вдруг он откажется от меня? И еще скажет, зачем мне такой молодой защитник? Тем более что меня не «наняли», как они выражаются, а назначили по делу в порядке статьи сорок девятой Уголовно-процессуального кодекса, или, попросту, я — государственный защитник. Гоню позорную мысль прочь, хотя и сожалею, что не отрастил в свое время бороды и усов для солидности. Они бы мне здорово пригодились сейчас.
Отхожу от окна, поудобнее устраиваюсь за столом. Проверяю сигнализацию. Полный порядок. В чернильнице до краев налиты чернила, хоть пиши роман. Вынимаю из папки досье по делу Вражина, пробегаю его глазами, чтобы освежить в памяти, и прячу обратно. Выну при обвиняемом, так будет эффектней.
Дверь кабинета открылась. На пороге молодой человек с заложенными за спину руками. За ним конвоир. Он положил на стол требование и, откозыряв, вышел. Бесшумно закрылась дверь, и я один на один с подзащитным. «Как на экзамене», — мелькает в голове. Только теперь экзаменовала сама жизнь, и сдавать ей экзамен предстояло нам с Александром Вражиным. Выдержим ли мы это испытание? Не спасуем?
В кабинете тишина. Вражин и я настороженно рассматриваем друг друга. Он еще не знал, с кем имеет дело, и мог подумать, что перед ним сидит очередной следователь, и поэтому сжался. Молчать больше нельзя, и я, поборов смущение, как можно небрежнее говорю:
— Я адвокат и буду защищать вас в суде.
— Когда суд?
— Через десять дней.
— А с делом вы знакомились?
— А как же? — Хотел добавить, что выучил его наизусть, но вовремя сдержался.
— Мои показания читали?
— Не только читал, но и билеты на поезд видел.
— А разве они приобщены к делу? Я их не заметил при закрытии дела, — так обвиняемые называют выполнение статьи двести первой Уголовно-процессуального кодекса, когда следователь после окончания следствия предъявляет обвиняемому все дело для ознакомления.
От волнения он привстал на стуле и наклонился в мою сторону, словно желая увидеть билеты, которые находились в деле.
— Так теперь же меня должны оправдать, мои показания полностью подтверждаются. Остается вызвать рабочих в качестве свидетелей, и они подтвердят, что я не бил Людку, а по цеху бегал потому, что боялся попасть в милицию.
— Вызовем, обязательно вызовем. За этим я к вам и приехал, чтобы обговорить детали.
Немного отлегло. «Слава богу, вроде не откажется от меня», — а вслух произнес:
— Сейчас все обмозгуем вместе, — и я вытащил из папки пухлое досье.
Вражин с почтением смотрел на меня и ждал, пока я разберусь в бумагах.
— Закуривай, закуривай, — говорю я, заметив смущение Александра, когда он опустил руку в карман.
Он привычно скрутил самокрутку. Только теперь я вспомнил о пачке «Беломора», купленном специально для него. Суетливо лезу в карман и протягиваю папиросы, хотя знаю, что по инструкции этого делать не положено.
— Бери!
— Спасибо, — и он дрожащими руками вытаскивает из пачки «беломорину». Сладко затягивается, от удовольствия закрывает глаза. Остальные папиросы он с моего молчаливого согласия прячет в карман.
— Пригодятся на черный день…
— Ничего, суд разберется, — пробую ободрить я его.
— Дай-то бог, — повторяет он старушкину фразу, и недобрая улыбка появляется на его лице.
Затем, как бы испугавшись минутной слабости, берет себя в руки и снова затягивается. Над его головой к открытой форточке тонкой струйкой тянется дымок. Он зачарованно провожает его взглядом.
— Хорошо бы сейчас превратиться в дым и вылететь отсюда? А?
— Ну зачем же в дым. Так можно и в трубу вылететь, — каламбурю я. — А это ни к чему.
— Что верно, то верно, — и он натянуто улыбается.
— Сейчас надо думать, как восстановить истину. Следователь не вызывал рабочих. Придется в суде ходатайство заявлять, а это не так просто, брат. Суд может и отказать.
— Почему же? — искренне удивляется Вражин.
Мнусь, сказать честно не решаюсь. Было бы легче, если бы он обвинялся в краже. Идет борьба с хулиганством, но почему-то те, от кого это зависит, не хотят понять, что с хулиганством кампанией не покончишь, а только наломаешь дров. Говорить об этом с Вражиным ни к чему, и поэтому отделываюсь общей фразой:
— Всякое бывает…
В кабинете наступает неловкое молчание. Чувствую, что брякнул лишнее. Не нужно было с этого начинать. Как исправить ошибку? Так и подмывает поделиться сомнениями. Сделать это — то же самое, что вырвать спасательный круг у тонущего. А может быть, он только и живет надеждой? И пусть она иногда гаснет или чуть-чуть тлеет, как костер, оставленный ночью без присмотра, пусть! Ведь находящиеся под золой угли можно раздуть, и тогда костер вспыхнет с новой силой и будет гореть еще ярче, а можно угли залить водой, и тогда никакие усилия не помогут. Будет лишь дым. Так и надежда. Ее можно убить одним словом, а можно окрылить, и тогда она способна придать силы и вывести человека из тюрьмы.
— Мы убедим суд вызвать рабочих в качестве свидетелей. А для этого вы сразу же, как только суд спросит, есть ли у вас ходатайства, ответьте — есть и все по порядку выложите. А я поддержу.
— А как это сделать, если я даже не знаю фамилий всех рабочих?
— Фамилии рабочих установить пара пустяков. Посмотреть по графику, кто в тот день работал в вечернюю смену, и все.
— Верно, как же я раньше об этом не додумался.
— То-то и оно. Так вместе, глядишь, придем к истине.
И меня вдруг захлестнула гордость от сознания, что я — адвокат. Человек поднял голову и не смотрит затравленным зверьком. К хорошему примешалось тщеславие: я произнесу в суде блестящую защитительную речь, Вражина освободят из-под стражи, и все будут говорить, что из меня выйдет настоящий адвокат. От пристального взгляда подзащитного поднимаю голову:
— Извините, вернемся к делу.
— Я же не хулиганил…
— Тем более не лезьте в бутылку…
Но беспокойство не оставляет: подтвердят ли рабочие показания Вражина. Спрашивать его об этом не могу. Право, не стоит его снова расстраивать. Ему и так тяжко. Через некоторое время придет конвойный, и Вражин превратится в арестованного, который обязан держать руки за спиной и которому никто не имеет право сказать простое слово товарищ, а обязательно подследственный. Хочется найти какие-то теплые слова, но в голове, как назло, пустота. Молчание прерывает Вражин:
— Вы еще приедете перед судом?
— А как же, обязательно. Да, чуть было не забыл. Говорили, говорили, а о себе вы мне ничего и не рассказали.
— А что рассказывать-то? Похвастаться особенно нечем. Прокурор, конечно, вспомнит за мою прошлую судимость, только разве ему понять, почему так все произошло.
— Вот давайте и обговорим сейчас.
— А что обговаривать-то. Мальчишество все это. Я за прошлое отсидел от звонка до звонка, и никто меня попрекать не имеет права. По закону я считаюсь не судимым.
— Ну, если вы так заносчиво будете себя вести на суде, то хорошего нам ждать нечего. Вам неприятно вспоминать свое прошлое — не надо. Только на суде обязательно спросят о прежней судимости, и лучше будет, если вы все расскажете спокойно.
— Хорошо, на суде я буду паинькой. И даже всплакну.
— Это совершенно ни к чему, всякому станет ясно, что вы валяете ваньку. Старайтесь держаться как можно естественнее и, главное, говорите правду… Я-то, когда просил вас рассказать о себе, имел в виду не прошлую судимость, а с кем вы жили до ареста.
— Один…
— А родственников у вас нет?
— Есть. Сестра, только она вышла замуж и живет отдельно с мужем.
— А мать?
— Нет у меня матери… Она умерла, когда мне исполнилось семь лет и я еще не ходил в школу. Но я хорошо запомнил мать, словно она только вчера гладила меня по голове. Особенно мне запал в душу ее взгляд, как она смотрела на нас с сестрой перед смертью. Тогда я ничего не понял. Мать боялась за нас. Была бы она жива, мне не пришлось бы испытать того, что испытал…
— Продолжайте, что же вы замолчали?
— Зачем, только расстраивать себя. Дело обговорили, пора и честь знать. А то я вас задерживаю.
— Ну как знаете, только вы все-таки дали бы мне координаты сестры, я бы ей сообщил, где вы находитесь.
— Она знает, ей следователь написал письмо.
— Ясно, — и машинально нажимаю на кнопку сигнализации.
Стук в дверь прерывает нашу беседу. Пришел конвой. Я отмечаю пропуск и прощаюсь с подзащитным. В дверях он последний раз оглядывается. В его глазах светится надежда. Дверь закрывается, и я остаюсь в кабинете один. Не заметил, как в окно вползли осенние сумерки. Я быстро собираю бумаги и выхожу на улицу.
Дождь перестал. Я люблю смотреть, как на город опускаются сумерки. Небо все в рваных клочьях, фиолетовое. Быстро темнеет. Сначала робко, а затем все смелее вспыхивают огни реклам. В окнах домов зажигаются лампочки. Город преобразился на глазах. Я так задумался, что не заметил, как прошел половину пути. От Сокольников до Центра доехал на метро, а дальше до дома решил добираться пешком. Очнулся на Каменном мосту.
По реке, заканчивая навигацию, маленький катерок тянул баржу. Огромная баржа медленно продвигается вперед. Катерок сипло свистит. Из трубы валит черный дым, расстилается над водой и постепенно закрывает баржу. Я смотрю на реку и верю, что машина вытянет. И вдруг в голове проносится: «Каково сейчас Вражину в камере? У баржи есть катерок, а у него кто? Вера в справедливость да начинающий адвокат? Стану ли я для него такой же силой, вытяну ли? Фу-ты, черт, какая чушь лезет в голову. Катерок, адвокат…»
Последний поворот, и катерок с баржей благополучно скрылись из глаз. Я облегченно вздыхаю и продолжаю путь. Все будет в порядке, и нечего раньше времени паниковать. Мост подходит к концу. Я ускоряю шаг и уже через полчаса сворачиваю в знакомый переулок. Осенью он неказист, особенно в такой вот дождливый вечер. Дома съежились и глубже нахлобучили на себя крыши. В окне нашей комнаты горит свет. За занавеской мелькает знакомая фигура матери. Ждет! Милая, родная моя старушка! И будто током прошивает мысль: «А вот Вражина никто не ждет». И стало почему-то совестно, что я сейчас приду в тепло, буду слушать ласковое материнское ворчание, беззлобно отвечать. Под ногами поскрипывает деревянная лестница, и в ее скрипе слышу ясно одно слово: Вражин, Вражин, Вражин…
За окном темнота. Со двора отчетливо доносятся голоса, снизу хлопает дверь. За ней закрываются еще несколько дверей. Дом готовится ко сну. Откуда-то издалека доносится собачий лай, позвякивание трамваев. Я откладываю книгу — не хватает привычного шума. Наконец заработал компрессор. У нас с заводом началась ночная смена. Голос завода я хорошо изучил. В разное время суток он по-разному дает о себе знать. Ночью работает только один цех. Неясный гул завода сливается со звуками улицы. Через минуту компрессор выключен и опять можно услышать жизнь двора, бормотание старого дома. Завод, трамваи, машина, проехавшая по переулку, прерывает его шум. Не слышу голоса, к которому привык слух. Беспомощно озираюсь, и взгляд натыкается на часы. Стоят. Пять минут второго. Так вот чего не хватало. Размеренного тикания ходиков. Я к ним привык, как привыкают к близкому существу. Мерный стук часов сливается с другими звуками ночи, и стоило им остановиться, как распался весь хор.
Под тикание ходиков ложусь, отсчитывая их удары, засыпаю. Первый звук, который слышу, когда просыпаюсь, привычное колебание маятника: тук, тук, тук — живем, живем, живем. А что, если бы время вообще остановилось? Интересно бы посмотреть! Какой идиотизм! Я отлично знаю, что время нельзя остановить. Часы методично отсчитывают секунды, минуты… годы. Надо только вовремя подтягивать гирю, и хорошо тому, кто, как и часы, имеет свою гирю — свое место. Я ее еще не нашел. Порой кажется, что никогда не найду и что все попытки тщетны, и я занимаюсь не тем, чем нужно.
Встаю, подтягиваю гирю. По будильнику ставлю время. Ходики мерно продолжают свой бег. За окном темнота плотно окутала город. В соседнем доме ни огонька. Лишь мое окно ярко светит в ночи. Я все листаю дело Вражина, вновь и вновь заглядываю в книги, советуюсь со знаменитыми адвокатами. Но они не вели подобных дел. Уже слипаются веки, и на каждой странице перед глазами прыгает одно слово: спать, спать, спать. И стоило нажать выключатель, как ночь, ходившая где-то рядом, вкрадчиво вползла в комнату, заполнила все углы. Вместе с темнотой приходит сон.
Будильник, заведенный на восемь часов, надсадно надрывался и подпрыгивал на столике. Его звонкий голос заглушал остальные звуки. Дернувшись последний раз, он затих. В комнату ворвались дневные голоса. Кого-то отчитывали ходики. Если бы не будильник, наверняка бы проспал. Быстро вскочил и через полчаса уже готов. Но на работу идти еще рано, юридическая консультация открывается только в десять часов. Пробую читать, строчки не лезут в голову. Поставил книгу на место. Про себя повторяю статьи Уголовного кодекса, словно адвокаты на работе меня будут об этом спрашивать. С трудом заставляю себя не думать о статьях и, чтобы не сидеть дома, выскакиваю на улицу, пешком иду на работу в юридическую консультацию.
СТРАНИЧКА ЧЕТВЕРТАЯ — ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
В юридическую консультацию я попал, когда старый заведующий ушел на пенсию, а нового еще не назначили. Адвокаты на дежурстве гадали, кого пришлют на вакантное место. Мне же тогда было все равно. Важно, что я адвокат. Адвокат! Какое звучное и гордое слово. Защитник! Адвокат! Невольно выше поднимаю голову, и мне кажется, что клиенты кивают друг другу головой: «Смотрите, какой молодой, а уже адвокат». Боязливо оглядываюсь по сторонам, не подслушал ли кто мои мысли? Но никто и не смотрит в мою сторону.
Постепенно освоился в юридической консультации и на дежурстве принимаю клиентов как опытный адвокат, проработавший десятки лет. Но первую старушку, которой дал самостоятельный юридический совет, я запомнил на всю жизнь. Высохшая и сгорбленная фигурка, морщины на лице, мне кажется, что я их пересчитал все до одной. Помню, как она долго благодарила за совет и обиделась, что я не взял с нее денег. И пусть за время работы адвокатом прошли и пройдут еще сотни старушек, они не заслонят ту, первую мою старушку. Ее имя — Клавдия Ивановна.
Жива ли она сейчас? И помог ли ей мой совет? Первые дни я очень боялся, что она вернется в юридическую консультацию и начнет бранить меня за неправильный совет. Она не вернулась. Значит, и по сей день все в порядке, и она получает пенсию. Клавдия Ивановна так никогда и не узнает, что с ее легкой руки мне стали доверять самостоятельный прием клиентов.
— Молодец, — прочитав советную карточку, похвалил старший консультант. — Я всегда говорил, чтобы научить человека плавать, надо бросить его в воду. Начните с пенсионного законодательства, а затем постепенно перейдете и к более сложным советам.
Обращение старшего консультанта больше относилось к своим коллегам, нежели ко мне. Высокий, дородный, с холеным лицом. Мимо такого на улице не пройдешь, обязательно проводишь взглядом. Его можно принять и за профессорами за артиста. Ему клиенты, как на исповеди, все рассказывают. Позже я убедился, какое большое значение для адвоката имеет внешность. И пусть порой за ней скрывается ординарная личность и ничего нет за душой, все одно к такому адвокату валом валят люди. Точно так же, как к мошеннику, одетому с иголочки, льнут его будущие жертвы. К счастью, старший консультант оказался тем редким исключением, на которые природа столь скупа.
Я послушался его совета и Положение о пенсиях выучил наизусть. На приеме внимательно выслушиваю каждую старушку и не отпускаю от себя, пока не убеждаюсь в правильности совета. И вскоре весть о том, что в юридической консультации на Большой Молчановке появился молодой адвокат, который принимает пенсионеров и пишет им бесплатные заявления, разлетелась по городу. Так у меня появилась персональная клиентура. К другому адвокату старушки уже не шли, а терпеливо высиживали очередь, если я был занят. Но точно так же, как чрезмерное употребление одних и тех же ягод набивает оскомину, так и мои старушки скоро перемешались, и я уже не различал их лица.
— Садитесь, — буркнул я очередной клиентке.
Старушка продолжает стоять. Она внимательно смотрит на меня.
— Садитесь, пожалуйста, — уже мягче приглашаю я.
— Вы наш (у нее получилось «нас» из-за отсутствия передних зубов) новый адвокат? Я уже много слышала о вас и наблюдала, как вы принимаете пенсионеров. — И, помолчав, представилась: — Дора Владимировна, бывший адвокат. — Она перевела дух и, собравшись с силами, продолжала: — Уходите из адвокатуры, пока не поздно, молодой человек. Вы добрый, а добрым здесь делать нечего. — И снова замолчала. — Сорок лет проработала адвокатом, а как сейчас помню мудрый совет патрона. Девчонкой была, не послушалась. Уходите из адвокатуры, — уже как заклинание повторила она и медленно направилась к выходу.
Давние слова Доры Владимировны почему-то засели в голове. «Вы добрый, уходите, пока не поздно…» Но какой-то другой голос все время подзуживал: «Это почему же я должен уходить? Пусть злые уходят… Старушки, видите ли, навели ее на такую мысль. А если даже и добрый, то зачем же добро беречь? Добро нужно отдавать людям…» Смех из соседней комнаты прерывает размышления.
В комнате стоит нестройный гул голосов. Адвокаты, свободные от дежурства, переговариваются между собой… «Как, твоя Наташка начала заниматься испанским?..» — «Что-то Марк приболел…» — «А что с ним?..» — «Сердце…» — «А меня сегодня в Верховном суде приняли по одному очень затянувшемуся делу…» — «Ну и какой результат?» — «Ты знаешь, так внимательно выслушали…» — «Истребовали дело для проверки?» — «Такой хороший человек, всегда буду к нему ходить на прием».
В беседу вмешивается старший консультант Валентин Антонович. Его голос отличу от сотни других:
— Очень плохо, дорогая моя, что правосудие зависит от человека, какой он — плохой или хороший. Этого не должно быть. Правосудие должно зависеть только от закона! А для этого нужно совсем немного — чтобы судья не был чиновником и не решал вопросы виновности или невиновности. Пусть столь важный вопрос решают незаинтересованные и по-настоящему независимые люди — народные заседатели. Другое дело, сколько их — два или двенадцать. Но чем больше заседателей, тем, по теории вероятности, будет меньше ошибок.
— Вы ратуете за суд присяжных?
— Называйте это как хотите, ибо я уверен, что не в названии дело, а в существе. Я ратую за правосудие.
В приемной адвокаты за столиками принимают клиентов. Одни, довольные полученным советом, долго благодарят адвокатов, другие, и таких большинство, покидают юридическую консультацию сникшие. Ни для кого не секрет, что встречаются клиенты, которые приходят к юристу не за советом, а чтобы узнать, как лучше обойти закон и избежать наказания. Такие уходят от адвокатов несолоно хлебавши. Вопросы клиенты задают самые разнообразные, и если бы один их этих вопросов попался на экзамене, пара обеспечена. Утешает одно — я не на экзамене, всегда можно проконсультироваться с более опытным адвокатом. Старший консультант, заметив мою растерянность, дружески подмигивает:
— Что, брат, учили, учили пять лет — и не можешь ответить на простой вопрос? — И, не дав раскрыть мне рта, сам же закончил: — Практика, она похлеще университета. Иной клиент такой вопрос задаст, что и сто преподавателей не ответят. Придется поступать на первый курс к жизни и учиться у нее не пять лет, а долгие годы. — И без перехода спросил: — Слышал, у вас есть интересное дело?
Я киваю.
— Понимаю! Волнуешься?
— Есть чуть-чуть…
— Знаем мы ваше чуть-чуть. Я тридцать лет выступаю в судах и каждый раз волнуюсь. И ничего зазорного в этом не вижу. Убежден, там, где кончается волнение, кончается адвокат. И не дай бог этому случиться. Сразу же уходите из адвокатуры, иначе, кроме вреда, ничего не принесете. Вот так-то, молодой человек. — И, похлопав меня по плечу, продолжил: — Сейчас забавную старушку отпустил. Написал ей заявление в суд о взыскании алиментов с детей. Можно было бы вам для практики провести дело в суде. Но она до суда не дойдет. — И, перейдя неожиданно для меня на «ты», докончил: — А вообще-то ты знаешь, наша профессия очень тяжелая. Взять хотя бы ту же старушку. До семидесяти лет дожила, вырастила троих детей, а дети добровольно не хотят помогать родной матери. Позор. Подавай, говорят, на суд.
— А что она их, сволочей, жалеет…
— Эти еще хорошо, что так говорят. Другие и через суд отказываются платить родителям. Не такого еще насмотришься. Слишком много еще грязи. Идут и идут люди с горем. Легче пробить каменную стену, нежели людской эгоизм и бездушие.
— Нужно самому быть чистым и не творить зло, тогда и к вам не пристанет никакая грязь…
— Это так всегда по молодости кажется… Я тоже когда-то думал, как вы, — и он, безнадежно махнув рукой, занялся очередным клиентом, который вошел в приемную с советной карточкой в руках.
СТРАНИЧКА ПЯТАЯ — ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО СУДИТЬСЯ С МАТЕРЬЮ…
Она вошла в приемную как-то боком, в черном платке. Я с трудом узнал ее — Алевтина Ивановна… Неужели что-нибудь случилось с Юркой? Не может быть… И как она узнала, что я работаю адвокатом? Я закончил юрфак университета, а ее Юрка в один год со мной — военную академию, и сейчас ему, наверное, присвоили уже очередное звание. Но, судя по лицу, у нее горе. И потом, к нам с радостью не ходят. Она еще не видит меня и обращается к дежурному адвокату:
— В какой комнате принимает защитник Смирнов?
Я поднимаюсь ей навстречу. Алевтина Ивановна тоже не узнала меня.
— Сергей? Какой ты стал…
Она с интересом рассматривает меня. Наверное, действительно я здорово изменился с тех времен, когда мы вместе с ее Юркой бегали в один детский сад и ездили к ним на дачу уже взрослыми мальчишками, а она и моя мать работали в этом же детском саду с той лишь разницей, что Алевтина Ивановна была воспитательницей, а моя мать — уборщицей.
— Садитесь, что же вы стоите…
Я ни о чем ее не расспрашиваю, а молча жду, когда она заговорит. Неожиданно для меня она заплакала. Я растерялся, потому что еще не привык к чужим слезам. Старые адвокаты говорят, что со временем это пройдет, пока же я всегда теряюсь, видя плачущего человека, тем более знакомого. Неужели все-таки посадили Юрку, уже в который раз проносится у меня в голове. Иначе что ее так расстроило?
— Успокойтесь, Алевтина Ивановна.
— Ты уж извини меня, старую. Нервы ни к черту не годятся… — все еще всхлипывая, выдавливает она из себя.
Подождав, пока она успокоится, задаю основной вопрос:
— Что случилось, Алевтина Ивановна?
— И не спрашивай… Сама поверить не могу… На суд вызывают… Вот… — и она протянула мне повестку.
Читаю: «Капустина А. И. вызывается в народный суд в качестве ответчика». Облегченно вздыхаю.
— Что же вы так расстраиваетесь? Это же ведь гражданское дело.
Теперь я уже мог рассмотреть ее более внимательно. Она здорово сдала и не казалась уже такой строгой и недоступной, как в далеком детстве.
— Как же не расстраиваться. Сын, Юрка, на меня в суд подал, — и она снова заплакала.
Вот бы никогда не подумал. Здесь что-то не то. И я снова жду, пока она успокоится. Происходит это не сразу. Видимо, мысль, что ее родной сын подал на нее в суд, претит ее сознанию, и как только она об этом подумает, начинает плакать. Наконец она заговорила:
— Ты извини меня, я больше не буду…
«Она по-прежнему считает меня мальчишкой… Еще никто из клиентов в юридической консультации так запросто не обращался ко мне. Для нее я ничего не значу…»
— Мне даже как-то неловко к тебе обращаться за помощью… Я тут на днях встретила в магазине одну нашу бывшую сотрудницу и узнала от нее, что ты работаешь в суде. — И зло добавила: — Это все она, красавица его, воду мутит. В одной квартире с матерью не ужился. Делить на суд подал.
Мне не нужно объяснять, кто это загадочная «она». Я и так понял. Жена сына.
— Пока сам-то был жив, она как шелковая. А как я схоронила мужа, она и осмелела. Пришла на все готовенькое, и не нравится, видите ли, ей… Я-то за эту квартиру всю жизнь работала. Ты, наверное, помнишь, в какой халупе мы жили.
Да, я помнил. Несколько раз мне приходилось бывать у них в квартире вместе с матерью. Мать тогда, в тяжелые послевоенные годы, мыла полы за Алевтину Ивановну в местах общего пользования. И от этого воспоминания, помимо моей воли, что-то злобное и нехорошее всколыхнулось в душе против Алевтины Ивановны, и я инстинктивно отодвинулся от нее вместе со стулом. «Вот, мол, раньше мать зависела от вас, а теперь вы от меня… Стоп, стоп, стоп, так же нельзя. Она же не виновата, что мы жили бедно, нас у матери было четверо, один другого меньше, отец погиб на фронте, и мать использовала любую возможность, чтобы подработать лишний рубль и накормить нас… А сейчас у человека горе…» — и я снова придвинулся к Алевтине Ивановне. Она даже не заметила перемены в моем настроении.
— И что обиднее всего, Сергей, в собственной квартире за человека не считают. Нет чтобы по-хорошему договориться, так она, как собаке кость, бросила повестку на суд мне и Ниночке.
— Давно у вас такие отношения?
— Да уже с год.
— Что же вы не поделили?
— Я и сама не знаю. Три комнаты у нас в квартире, в изолированной живем мы с Ниной, а в смежных Юрий со своей семьей, — и она презрительно сморщила губы. — Тесно, видите ли, им стало. В кооператив собрались, а им отказали: нам на двоих слишком большая площадь остается. Они и решили разменять квартиру и на старости лет засунуть меня с дочерью опять в коммуналку, а сами сразу же купят кооперативную квартиру и заживут припеваючи.
«У них, наверное, не раздел жилой площади, а принудительный обмен», — догадываюсь я.
— Вас уже вызывали в суд на переговоры?
— Вызывали.
— И вручили копию искового заявления.
— Эту филькину грамоту, что ли? — и она протянула мне сложенный пополам лист бумаги.
«Филькиной грамотой» оказалось исковое заявление о принудительном обмене. Сразу было видно, что бумагу писал юрист. Форма соблюдена четко, имелась ссылка на статью закона.
— Одна ложь там написана. И что мы ругаемся, и что я их чуть ли не притесняю, заняла одна всю кухню, не позволяю пользоваться туалетом, ванной. Все неправда! Поверить им, так они на площадь бегают по нужде, а мыться ходят к соседям. До того дошли, что даже внучку не подпускают ко мне, пугают бабкой, — и вот внучка отвернулась от меня.
Я хорошо понимал ее обиду. Ей, проработавшей с детьми всю свою жизнь, не доверяют ребенка. И кто! Собственный сын! Придумать что-либо более несправедливее они, наверное, просто не смогли. А причинить боль матери, как известно, не так уж и трудно. Я понял, что соглашусь вести ее дело. В моей голове уже роились слова, с которыми я обрушусь в суде на непутевого сына и его жену и нарисую образ незаслуженно униженной матери… Дочитав исковое заявление, произношу:
— Я буду вести в суде ваше дело.
— Вот спасибо, Сергуня.
«Да она так звала меня в детском саду…» И я вдруг вспомнил, когда эта женщина впервые назвала меня Сергуней. Тогда нам с трехлетним братишкой Витькой было очень тяжко. Брат вряд ли помнит это, а я, шестилетний мальчишка, сохранил те события в памяти.
Горе подкралось к нам как-то сразу. Сначала заболел сыпным тифом старший брат, за ним сестра, и мать, которая не отходила от них, свалилась на третий день тоже. Мы с Витькой остались одни, но почувствовали это не сразу, а лишь когда за нами никто не пришел в детский сад. Мы с братом не понимали еще толком, что произошло, и носились галопом по опустевшим комнатам и коридорам детского сада. Потом стало темно и страшно, и мы забились в угол, где нас и нашла сторожиха тетя Поля. Она отвела нас к Алевтине Ивановне. Здесь я и познакомился с ее сыном Юркой.
Я верю и не верю себе. Юрка — и вдруг судится со своей матерью. Никак это не укладывается у меня в голове. Но передо мной сидит его мать и все еще всхлипывает.
— Успокойтесь! Все будет хорошо. Дело мы выиграем.
— А знаешь, как судья шумела на меня во время приема. «Молодым мешаете жить, вмешиваетесь в их дела…» А где я вмешиваюсь? Попросила, чтобы детскую кроватку поставили в моей комнате, а не в проходной.
— Прием — это еще не суд. Я поеду, посмотрю дело, и тогда мы поговорим более конкретно. Может быть, Юрий в суде откажется от своего иска. Миром все уладим.
— Я уже пробовала. Сын-то не против, а она со мной и разговаривать не желает.
— Ничего, в суде заговорит.
— Ты уж постарайся, — и Алевтина Ивановна что-то протягивает мне в свертке.
Я отшатнулся и покраснел хуже школьника, уличенного в списывании. Не заметил ли кто из адвокатов моего смущения? Нет, каждый продолжал заниматься своим делом. «Ты уж постарайся…» Противная фраза, с привкусом презренного металла. Я не раз замечал, как эти слова и некоторых старых адвокатов, проевших зубы на уголовных делах, приводили в замешательство. Большинство клиентов почему-то смотрят на адвокатов меркантильно: «Не отблагодаришь защитника, он и не станет, как надо, вести дело…» И здесь, видно, ничего не попишешь. В крови у людей это сидит. Алевтина Ивановна заметила мое смущение и быстро убрала сверток в сумку.
— Ты извини меня. Я не хотела обидеть тебя. Маме подарочек…
Лучше бы она не говорила этих слов. «Маме подарочек»! Двадцать лет мать работала вместе с ней, и ни разу я не видел, чтобы Алевтина Ивановна дарила ей что-нибудь. Чувствую, как раздражение снова начинает подниматься во мне. Умом понимаю, что она не виновата в нашем бедном житье-бытье, но поделать с собой ничего не могу. Мне всегда обидно за мать, что из-за нас мало хорошего видела в жизни и только гнула спину на чужих людей. Сейчас раздражение ни к чему, усилием воли давлю его в себе…
— Я не обиделся. Приходите в консультацию через недельку, я к этому времени съезжу в суд, познакомлюсь с делом. Вот тогда и обсудим, что к чему. Договорились?
— Спасибо. Мне как-то легче стало после беседы с тобой, — и она поднимается со стула.
Провожаю ее до двери. Мне не раз приходилось замечать, как после разговора с адвокатом у многих людей становилось светлее на душе. Есть что-то в нашей профессии такое, что роднит ее с работой врача. Только они лечат тело, а мы душу.
Возвращаюсь на свое место, но принимать клиентов уже не могу. В голове все перепуталось: Алевтина Ивановна, Юрка, Вражин… Так нельзя, нужно заниматься чем-то одним, но такая уж работа у адвоката, что приходится вести сразу несколько дел. Более внимательно читаю заявление. Оно оказывается простым. Дело о принудительном обмене. Слушаются и такие дела в судах, если проживающие в одной квартире не могут добровольно договориться об обмене, тогда суд принудительно обязывает одну из сторон переехать на новую жилплощадь. Это что-то вроде хирургического вмешательства, когда другими средствами разрешить жилищный конфликт нельзя.
Я уже третий раз перечитываю исковое заявление: «Моя семья: я, жена и ребенок — проживает в трехкомнатной квартире вместе с ответчиком (а не матерью) и ее взрослой дочерью (а не сестрой). У нас сложились неприязненные отношения, и мы часто скандалим. Прошу суд принудительно переселить ответчиков в комнату размером 18 метров, расположенную по адресу…» Подпись. Четкая, по-военному прямая.
Отрываюсь от заявления, но занять себя чем-либо другим не могу. Почему меня так волнует это дело? Ну, Вражин — это понятно, там настоящее уголовное дело. А здесь обыкновенное, гражданское, и я знаю другие случаи, когда судятся близкие родственники. Ай да Юрка… Мы вместе ходили в один и тот же детский сад, и одни и те же воспитатели говорили нам почти одни и те же слова, потом в один год пошли в школу… От него я не ожидал, что он начнет судиться с матерью. Интересно — узнает он меня? И как поведет себя?
— Молодой человек, опуститесь на землю. — Передо мной стоит худощавая женщина. Это мой бывший патрон, или, как теперь модно говорить, наставник. Под ее руководством проходил стажировку, и она все еще продолжает опекать меня.
— Здорово у вас получается. Вся юридическая консультация знает о каком-то сногсшибательном деле, которое вы ведете, кроме патрона. — И мне кажется, что она обиженно поджимает губы.
— Ну что вы, Вера Михайловна. Просто я вас не видел давно, вы же сидите в каком-то большом процессе. К тому же мое дело еще не слушалось в суде.
Вера Михайловна удобнее устраивается за столом, водворяет на нос очки и смотрит на меня так, словно видит впервые. У Веры Михайловны взгляд неприятный, прощупывающий.
— Досье по делу у вас с собой?
— Нет, дома… — почему-то говорю я неправду.
— Завтра захватите его, и мы посмотрим вместе. Договорились?
Я молча киваю. До завтра нужно обязательно посоветоваться с кем-нибудь из опытных адвокатов. Но с кем?
СТРАНИЧКА ШЕСТАЯ — ЛИПКА
В уме перебираю всех адвокатов. С Владимиром Петровичем? Ничего старик, но у него своих дел навалом, да к тому же я ему порядком надоел со своими вопросами. Все хвалят Валентина Антоновича, толковый человек, но бывает в юридической консультации только раз в неделю. А мне нужно срочно рассказать кому-нибудь из адвокатов все, как на исповеди. И получить дельный совет.
Размышления прерывает знакомый голос:
— Спасибо, Светочка, дальше я сам доберусь.
Липка! Ну конечно же он! И как мне сразу не пришло в голову посоветоваться с ним. Липкой в юридической консультации все любовно называют адвоката Розена. Липка потерял зрение на фронте и почти всегда ходит с женой. Она тоже адвокат нашей консультации. Лидия Петровна сменила ради мужа профессию педагога на адвокатскую. Иногда, когда она выступает по делу в другом суде, Липку провожает в консультацию кто-нибудь из адвокатов. В последнее время чаще всего провожаю Липку я.
За долгие годы работы в юридической консультации Липка изучил каждый метр пути. Он знает, где нужно нагнуть голову, а где отодвинуть ногой стул. Он даже чувствует, где в полу выбоина, и поэтому нужно быть особенно осторожным, чтобы не споткнуться. Липка высчитал, сколько шагов от приемной до двери второй комнаты. Я ни разу не видел, чтобы Липка ошибся. Вытянутая вперед рука всегда точно и в нужном месте упиралась о косяк двери. От двери до раздевалки узкий проход. Ковер заглушает его шаги. На этом отрезке пути нужно ухо держать востро. Лицо Липки сосредоточенное, губы беззвучно отсчитывают шаги. Но вот и спасительная ступенька. Три шага вверх, а там и рукой подать до раздевалки. Почему-то всегда, когда я вижу проходящего мимо Липку, вспоминаю цирк, ту минуту, когда я, затаив дыхание, наблюдал за выступлением гимнастов на проволоке. Один неточный шаг — и полетишь вниз. К счастью, падений при мне не случалось.
Со стороны мало кто мог подумать, смотря на уверенную походку Липки, что идет слепой человек. Через минуту Липка возвращается в комнату и безошибочно находит свой стол. Поудобнее устраивается на стуле и замирает. Он сидит прямо и чутко прислушивается к малейшим шорохам. Из моего угла хорошо видно Липку. Вот его слух уловил новый звук, знакомый только ему одному. Еще никто из сидящих в комнате не может сказать, что за человек вошел в приемную, а по его лицу можно без труда определить. Оно разглаживается, и светлая улыбка появляется и постепенно расходится по всему лицу. Он весь светится тихой радостью. Пришла жена.
— Липочка, ты уже здесь? С кем пришел?
— Со Светланой Владимировной…
— А я так торопилась из Кировского суда, что приговора по делу не дождалась. Волновалась за тебя.
Она раздевается, и они начинают прием клиентов. От посетителей нет отбоя. К Липке люди идут косяком. Молва о том, что на Молчановке в юридической консультации принимает классный слепой адвокат, распространяется среди арестованных быстрее света. Преступники про Липку слагают легенды. Он становится чуть ли не сказочным героем. Сюжет сказки прост: добрый и умный адвокат побеждает злого и несправедливого прокурора. Клиент доверчив, он прет на молву, как рыба на свет. В минуты приема лицо Липки сосредоточенно и задумчиво. В часы досуга оно другое. О чем думает он? Какие картины видит во сне? Может быть, он думает о детстве? А может, грезит о юности? Или о войне, что опалила все их поколение. Трудно сказать. Липка не любит об этом рассказывать, когда заговаривают о войне, он хмурится. Тогда его лицо становится каменным. Война отняла у него зрение, разлучила с любимой девушкой. Пришлось начинать жизнь заново. Липка не поддался панике, не опустил рук, закончил юридический факультет Московского университета и с головой ушел в любимую работу. В суде он на время забывает о своем несчастье, чувствует себя нужным для людей. С ним советуются, его уважают. Улучив минутку, когда Липка остается один, подхожу к нему.
— Сергей? Это ты?
— Я, Леопольд Григорьевич.
— Как успехи?..
— Плохо…
— Почему?
— Дело у меня есть одно…
— Ну и отлично! Какой же адвокат, имея дело, унывает.
— Да я не знаю, как с ним быть. Хочу посоветоваться…
— Выкладывай, что у тебя.
Я быстренько излагаю обстоятельства дела Вражина. Липка с интересом слушает, а затем шутит:
— Если так будешь выступать на суде, оправдательный приговор обеспечен. — И уже серьезнее добавляет: — Позиция у тебя несомненно правильная. Главное, спокойствие, покажи суду, что убежден в невиновности своего подзащитного. Продумай допрос рабочих и, если они подтвердят показания подсудимого, считай — полдела сделано. Покажут рабочие, что он не бил девушку, и можно уже говорить об отсутствии в его действиях хулиганских мотивов. Помоги рабочим вопросами вспомнить время, когда он бегал по цеху. Это необходимо для того, чтобы выяснить: повлияла ли его беготня по цеху на выполнение плана. Этот довод обязательно нужно выбить из рук обвинения. Уточни, кто не выполнил нормы, а для этого запроси график. Сравни с другими днями, может, они вообще лодыря гоняют, а твой Вражин здесь абсолютно ни при чем. Используй все мелочи. На заседателей показания рабочих произведут впечатление.
— А когда лучше заявить ходатайство о вызове дополнительных свидетелей? Рабочие же не допрашивались на предварительном следствии? Может быть, до суда?
— С ходатайством не стоит торопиться. Еще не известно, что они покажут, но лучше это сделать на суде. И приготовься к худшему. Суд может и отказать в твоем ходатайстве, сочтя достаточным и тех свидетелей, что уже допрошены на предварительном следствии.
— Знаю. Им придется портить отношения с прокуратурой. Кто же это любит?
— Но ты не унывай, в суде все может пойти и по-другому. У меня сколько раз так случалось… — И Липка тянется к пачке за папироской.
Я быстро чиркаю спичкой и, закурив вместе с Липкой, отхожу к своему месту.
СТРАНИЧКА СЕДЬМАЯ — ВСТРЕЧА В СУДЕ
Юрий сразу узнает меня и виновато отводит глаза в сторону. Мы с ним противники — процессуальные, но противники. Я защищаю интересы Алевтины Ивановны, а дело со стороны Юрия ведет другой адвокат. Я знаю его, и он меня тоже знает, но сейчас меня гораздо больше интересует жена Юрия. О ней я наслышан от Алевтины Ивановны. И когда она появляется в зале суда, я настраиваю себя против. Она некрасивая, и что-то хищное просматривается в ее лице, хищное и злое. «Такая может так пихнуть на кухне, что обломаешь все бока». И я уже по-иному воспринимаю жалобы Алевтины Ивановны на сноху и на ее несносный характер.
Алевтина Ивановна находится здесь же, в зале, только в другом конце. Так всегда располагаются спорящие стороны, хотя до этого дня съели не один пуд соли вместе. С адвокатского места их хорошо видно: «мои» сидят печальные, особенно Алевтина Ивановна, словно она пришла на похороны; ее дочь Нина переживает не столь сильно и о чем-то переговаривается с братом. Юрий с женой, напротив, в более спокойном расположении духа, даже смеются. Это, конечно, показуха, психологический прием. У них тоже, как и у Алевтины Ивановны, скребут кошки на сердце. Они ведь тоже волнуются за исход дела.
Правда, со слов моей доверительницы судья больше расположен к Юрию и его супруге. Здесь, видно, не последнюю роль сыграла военная форма Юрия. Неприятно начинать процесс с отрицательного баланса, нужно переламывать настроение судьи и склонять ее на свою сторону, а это не всегда удается. Но в конечном исходе дела я нисколько не сомневаюсь: слишком неравноценен обмен. Понимает это, как мне кажется, и адвокат Юрия, но не показывает вида.
Последние минуты перед началом суда всегда самые волнующие. Стоит начаться судебному заседанию, как все уйдет: и волнение, и лишние страхи, и посторонние мысли. В одном из военных стихотворений Сергея Гудзенко «Перед атакой» есть строчки, что самое страшное на войне — «час ожидания атаки». Так и в суде. Пока есть свободная минутка, я еще раз перечитываю досье. Искоса слежу за Юрием. Он, как мне кажется, пришел в себя от столь неожиданной встречи, но все еще посматривает в мою сторону.
Но вот шум стихает, прекращается ходьба, и все смотрят на совещательную комнату, откуда должны появиться судьи. Я слышу, как гремит дверь несгораемого сейфа за стеной, значит, с минуты на минуту в зале появятся судьи. Так оно и есть. Все встают, а затем снова усаживаются на места. Посторонних в зале почти нет. И хотя я знаю, что произойдет дальше, напряжение все еще не оставляет меня. Представляю, как волнуется Алевтина Ивановна. Юрий, во всяком случае, внешне выглядит спокойным, словно и не он стоит с матерью перед судом. И я вдруг на мгновение поменялся с ним местами, представил свою мать, стоящую перед судом, и от этого страшного видения даже повел плечами. Ощущение не из приятных. Нет, что бы ни случилось, мать всегда права, она у меня святая… Все матери святые!
Судья уже приступил к делу, и нужно быть начеку.
— Встаньте, истец… — так на юридическом языке именуется лицо, которое обращается в суд с исковым заявлением.
Юрий встает.
— Назовите полностью вашу фамилию, имя, отчество и изложите свои исковые требования.
— Так в заявлении все написано, — и он смотрит на своего адвоката.
— В заявлении одно, а здесь суд, и нужно все повторить…
Я вижу, какими глазами смотрит на сына Алевтина Ивановна. Она все еще надеется на чудо: вот сейчас он подойдет к ней и скажет — знаешь, мать, извини, затмение нашло на нас, и они, обнявшись, вместе выйдут из зала суда. Но Юрий не подходит и не извиняется перед матерью, а, посмотрев на свою жену, довольно бойко начинает говорить. И тогда я тоже понимаю, что чуда ждать нечего. Он говорит, а я чувствую, как во мне закипает злость: «Ну, погоди, я тебе выдам…»
Это хорошо, когда приходит злость на противную сторону, ведь самое страшное в любом деле — равнодушие. По делу Алевтины Ивановны этого опасаться нечего. Я заряжен током высокого напряжения. Защищая Алевтину Ивановну, я защищаю и свою мать, и всех других обиженных матерей. А Юрий продолжает разглагольствовать. На мать даже не смотрит, зато она не сводит с него глаз. Никогда бы я не хотел, чтобы моя мать на меня так смотрела. И чем дольше он говорит, тем трезвее становится ее взгляд, и она понимает, что Юрка — это уже не ее Юрка, не тот, кого она нянчила, ласкала, дрожала над каждым его движением, отдавала ему последний кусок в трудное военное время, перед судом стоит совсем чужой ей человек, злой, жестокий и неглупый. По лицу Алевтины Ивановны вижу, что многое из того, что говорит ее сын, не соответствует действительности…
— Я понимаю, что поступаю не совсем хорошо, но и дальше так жить нельзя.
«Вот стервец, выбивает из рук мой козырь. Понимает, что к чему».
— Отдельно будем жить — отношения с матерью наладятся.
— Никогда не прощу, — не выдерживает и кричит с места Алевтина Ивановна.
— Ответчица! Будете так себя невоздержанно вести, выведем из зала, — делает замечание судья.
— А мне теперь все одно. Я лучше на кладбище пойду. Два метра положено, их-то уж никто не обменяет, чем поеду в ту дыру, куда они хотят меня загнать на старости лет по обмену.
— Ответчица! Я вам еще раз делаю замечание. Не мешайте суду работать. Дадим вам слово, выскажетесь.
Нина успокаивает мать, но Алевтина Ивановна уже сама поняла, что не сдержалась, и извиняется перед судом.
— Садитесь. И держите себя в руках. — Судья снова обращается к Юрию: — С какого времени у вас установились неприязненные отношения с матерью?
Это не праздный вопрос, и судья рано или поздно обязана была задать его. Дело в том, что при принудительном обмене судом должно быть установлено и доказано, что между сторонами существуют враждебные отношения и в квартире создалась обстановка, в которой невозможно совместное проживание, и истец, то есть Юрий с супругой, должен доказать, что источником ссор является Алевтина Ивановна. В противном случае суд при всех прочих условиях откажет в иске. Юрий мнется и не отвечает сразу. Видно, ему не легко лгать, потому что Алевтина Ивановна клялась мне, что она ни разу не ругалась ни с сыном, ни с его женой.
— Как понимать — неприязненные?
— Были ли у вас ссоры, и если были, то когда и кто может подтвердить?
— Мы же интеллигентные люди и, конечно же, никогда не дрались, не выбегали из квартиры с криками на улицу, чтобы слышал двор. А ссоры возникают у жены с матерью из-за пустяков: не так поставила детскую коляску, не там повесила тряпку. Жена в долгу не остается, всегда оговорит. Вот они и не могут ужиться.
— Какая мелочь. Из-за этого пришли в суд? — не верит ему даже судья. — Это не основание для принудительного обмена. На приеме вы расписывали такое… — и, чуть помедлив, закончила: — Что просите у суда?
— Прошу суд принудительно разменять нашу квартиру и переселить мать с сестрой в комнату восемнадцать метров, а я со своей семьей перееду в квартиру размером двадцать семь метров.
Я уверен, что этот вариант обмена у него не пройдет. И не потому, как думает Алевтина Ивановна, что суд никогда не заставит переехать ее с дочерью из отдельной квартиры в коммуналку, нет. Просто у меня есть хорошая юридическая зацепка, и судья это тоже уже поняла. Алевтина Ивановна и ее взрослая дочь — два самостоятельных члена семьи, и их нельзя по закону поселять в одну комнату. Поэтому судья и задает Юрию наводящий вопрос:
— А вы пробовали найти другой вариант обмена, и не через суд, а миром…
— Нет, это первый.
Я смотрю на жену Юрия и вижу, что она буквально рвется в бой и ждет не дождется того момента, когда судья предоставит ей слово.
— Ну что ж, послушаем, что скажет ваша супруга. Только не повторяйтесь.
Стараюсь понять ее: молодая, здоровая женщина, есть деньги, желает быть полновластной хозяйкой, а жить приходится вместе со свекровью, да еще подчиняться ей. И все же я не одобряю ее. На костях близкого человека не строят своего благополучия. Можно по-хорошему решить жилищный вопрос.
Она слово в слово повторяет сказанное мужем, кого и куда нужно переселить, и, помолчав немного, заканчивает:
— Со стороны может показаться, что Юрий плохой сын, судится из-за квартиры с матерью. Но мы долго терпели и больше не можем…
И… О! Фарисейство! Она заплакала. И впервые чужие слезы не вызвали у меня чувства жалости. Впрочем, и у судей тоже. Она, видя, что ее слезы не произвели должного эффекта, вытерла их и, как ни в чем не бывало, продолжила:
— Все не так, все не этак. Ведро не вынесешь — плохо, плиту не протрешь после приготовления обеда — тоже плохо, тряпку не повесишь на место — опять нехорошо. Она — хозяйка, а я нет, во всем должна ей подчиняться.
«Вот и показала свои коготки. Давай, давай, милая, наворачивай…» И она, словно спохватившись, уже другим голосом добавляет:
— Я не скажу, что Алевтина Ивановна такая уж плохая женщина, но жить с ней вместе нам нельзя.
— А почему бы вам не уважить пожилого человека? — задает вопрос женщина-заседательница.
Я не ожидал помощи с этой стороны и очень обрадовался вопросу заседательницы. Супруга Юрия молчит.
— Значит, не желаете отвечать?
— А как бы вы на моем месте поступили? У меня своя семья, я должна думать о ребенке, муже. Что ж, так всю жизнь и плясать под ее дудку?
— Во всяком случае, я бы на вашем месте в суд не пошла. И потом, что вы добьетесь обменом? Может, здесь кроется что-нибудь другое?
Истица молчит, сказать правду не решается. А правда простая: для них обмен — своего рода трамплин к кооперативу. Они сдадут свою квартиру государству, и им разрешат вступить в кооператив, а мать так на всю жизнь и останется в коммунальной квартире.
— Послушаем, что скажет противная сторона, — выручает ее из неловкого положения судья.
— Все, что написано в заявлении, неправда! Никаких скандалов у нас не было. Это все ее выдумки. Что касается замечания, то я действительно делала их, но только к обмену квартиры они не имеют никакого отношения. Просто она хочет вступить в кооператив, а меня с дочерью снова запихнуть в одну комнату. Всю жизнь работала, чтобы на старости лет пожить по-человечески.
— Скажите, почему со снохой не ладите?
— Вы лучше у нее спросите. Внучку не подпускает ко мне и стращает девочку бабкой.
— Хорошо, значит, себя ведете.
— Двадцать лет с детьми, проработала и своих двоих воспитала.
— Видим, как воспитали, — и, посмотрев на Алевтину Ивановну, судья осеклась.
Алевтина Ивановна от слов судьи изменилась в лице.
— Он бы никогда не подал в суд. Это все она.
Я уже слышу от нее это в сотый раз. Она искренне заблуждается, полагая, что ее сын не виноват. Видимо, все-таки в нем дело, раз он так легко дал себя уговорить и пошел против родной матери. А может, я действительно напрасно так нападаю на Юрия, он вовсе и не виноват? Ведь ему же трудно выбрать между матерью и женой. Э… нет, я просто оправдываю его. Он мог в конце концов и не доводить дело до суда, а все уладить миром. Легко сказать, не доводить. Нет, здесь что-то сложней. Судье, конечно, некогда об этом думать, слишком много у нее других дел, но решение она вынесет в нашу пользу. Уж больно неравноценен обмен, да и закон полностью на стороне Алевтины Ивановны. А подбери Юрий другой вариант обмена, мы проиграли бы дело. Я не понимаю только, зачем судья терзает вопросами Алевтину Ивановну. Ей и так не сладко стоять перед судом. Каково матери на старости лет признать, что сын, в которого ты столько вложила, судится с тобой из-за какой-то квартиры. Наверное, для любой матери нет ничего горше.
Апатия охватила Алевтину Ивановну, и мне кажется, что ей уже все равно, как закончится дело. До суда она еще на что-то надеялась и все ждала, когда Юрий опомнится и заберет свое заявление о принудительном обмене. Этого не произошло, и я боюсь, как бы ее безразличие не повредило ей самой. В таком состоянии ничего не стоит бухнуть: «Я согласна на обмен», но по инерции она твердит одно и то же:
— Из своей квартиры я никуда не поеду. Хоть силком на улицу выбрасывайте.
— Зачем же вы так, — смягчается судья. — Вас никто не собирается выгонять на улицу и тем более применять силу. Речь идет лишь об обмене.
— Решайте как знаете.
— Ясно. Дополнения есть какие-нибудь? — обращается судья к Юрию и его супруге.
— Какие еще дополнения. Мы все сказали.
— А у вас, товарищи адвокаты, есть дополнения?
У меня никаких дополнений нет. Все, что нужно, я уточнил, а остальное скажу в речи. Мне лишь хочется задать жене Юрия прямой вопрос и посмотреть, как она на него ответит.
— Скажите, а не является ли весь этот обмен причиной для вступления в кооператив?
— Да, хотим вступить в кооператив. Ну и что из этого? — и она с прищуром смотрит на меня.
Такого ответа от нее не ожидал даже муж, и я вижу, как он неловко заерзал на скамейке.
— Почему же вы не думаете о свекрови?
— А обо мне кто будет думать? — вопросом на вопрос отвечает она. — У меня своя семья, и я тоже хочу жить по-человечески.
— Все, товарищи судьи, у меня больше нет дополнений.
И действительно, что я могу ответить ей? Что нужно во всем и всегда оставаться человеком? Она вряд ли поймет меня, а то и того хуже, рассмеется в глаза и скажет: какой правдолюбец нашелся.
По этому делу можно произнести грандиозную речь, но я говорю очень коротко, по-деловому, со ссылкой на закон, и прошу суд отказать Юрию и его жене в принудительном обмене. Речь моя была слишком короткой, и мне как-то неловко было перед Алевтиной Ивановной. Вот, мол, взяла знакомого адвоката, а он почти ничего и не сказал. Но Алевтина Ивановна так занята своими мыслями, что мое выступление и выступление адвоката Юрия как-то прошли мимо нее. Она лишь смотрела на судей и ждала, что скажут они.
— Суд удаляется на совещание для вынесения решения.
Я знал, что больше десяти минут они совещаться не будут. Так оно и вышло. Не успели все опомниться, а суд уже снова вошел в зал. Как я и предполагал, решение было в нашу пользу, и, когда судья закончил читать последнюю фразу, я радостно посмотрел на Алевтину Ивановну. И улыбка сразу же сошла с моего лица. Только теперь я понял, что стоило ей это судебное заседание. Откуда-то появился стакан с водой.
Чуть поодаль стоял Юрий, и я заметил, как у него трясутся руки. Испугалась даже его супруга. Я смотрел на Юрия и хотел узнать, понял ли он что-нибудь или нет. Подойти и поговорить с ним не решился. Сейчас он явно расстроен, но я не уверен, что через некоторое время он снова не придет в суд, только лишь с другим вариантом обмена.
От этих мыслей мне как-то не по себе, ведь всегда хочется думать о человеке лучше, и я даже не решаюсь подойти к Алевтине Ивановне. Ей все еще плохо. Да и что я ей скажу? Мы выиграли дело? А ей нужно было выиграть бой за сына, а эту битву она проиграла. Я представляю, как они войдут в квартиру после суда, и гоню это видение. Мне хочется верить в добро, в их разум. Ведь человек никогда не должен забывать, что он прежде всего человек, а Юрий, я думаю, поймет, что судиться с матерью — последнее дело, и никогда больше не переступит порог суда.
СТРАНИЧКА ВОСЬМАЯ — ЭТО ПОЧТИ ПОБЕДА…
«Все будет хорошо, все будет хорошо» — эти слова Липки вертелись у меня в голове, когда я шел в суд по делу Вражина. Наш районный суд ничем не отличается от других народных судов. Разве что переулку, где он расположен, повезло больше, нежели его собратьям. Многие писатели обращали к нему свои взоры, описать же его точнее и вернее, чем это сделали Ильф и Петров в романе «Двенадцать стульев», пока никому не удалось. С тех пор мало что изменилось здесь.
Достопримечательностью переулка по-прежнему осталось небольшое двухэтажное здание неудачного цвета, из которого якобы Остап Бендер выбрасывал стулья. Возле этого дома всегда толпился народ, а два раза в день, утром и вечером, приезжает автозак или, как ее называют уголовники, «раковая шейка». Машину подгоняют прямо к двери, и из нее выводят подсудимых. Это и есть народный суд Киевского района, куда я держу свой путь.
Я спешу, хотя предполагаю, что дело не пойдет. Не может же суд действительно отказать во всех наших ходатайствах? А у меня их как-никак два, и притом какие! Мои ходатайства имеют непосредственное отношение к делу. Вот только сумею ли я их правильно сформулировать? Не растеряюсь ли перед судом? Начну с вызова рабочих. Здесь проще. И фамилии известны, и имена, и для какой цели нужны их показания. И если… Если они подтвердят показания Вражина, то это ведь железное доказательство, что действовал он не из хулиганских побуждений. Развалится первая часть обвинения, а разбить вторую уже не составит большого труда. Мне доподлинно известно, что все рабочие в этой смене выполнили свои плановые задания, и, значит, Вражин не срывал графика выпуска готовой продукции, как пишет об этом в обвинительном заключении следователь. После показаний свидетелей у суда рассеются все сомнения на этот счет. Всякому станет ясно, с какими намерениями пришел человек в цех. Значит, остается одно — бесцельная беготня по цеху. Здесь уже другой разговор. Не имел он права этого делать? Да, формально нет, но это же не злостное хулиганство, а при самой большой натяжке тянет только на первую часть 206-й. Но вся суть-то как раз в том, из каких побуждений он действовал. Из хулиганских ли?
Однако я слишком расфантазировался. Неизвестно еще, как поведет себя суд. А вдруг он и впрямь откажет во всех наших ходатайствах? Не может быть, Липка просто пошутил. Суд обязан вызвать рабочих, и повестки можно послать прямо на завод. Сложнее обстоит вопрос с подельщиками, с кем он отбывал наказание в первый раз. Они нашли его и предложили быть снова с ними. Вражин отказался и побил их, но его кулаки оказались плохой защитой. Подельщики пообещали его прирезать, если не одумается. Вражин знал, что шутить они не любят. Подельщики пригрозили Людмиле, и она отказалась встречаться с Вражиным. Тогда он снова проучил их, но слишком поздно понял, что одному с ними не справиться. Они его подстерегали, но Вражин их попытался перехитрить: он ушел с завода и решил уехать подальше на какую-нибудь стройку. С такими руками, как у него, он нигде не пропадет. Однако Вражину нужна была Людмила. Без нее он не мог уехать. Билеты на поезд лежали в кармане. «Но где же эти подельщики?» — ломал я голову. Как найти их? Вражин не говорит их фамилии, а другого источника информации у меня нет. А их показания нужны мне позарез, они окончательно бы поставили все точки над «i». Ведь если бы суду удалось их найти, то и вторая часть обвинения рухнет сама собой.
Да, у суда есть основание осудить Вражина, и, в частности, суд ни за что не поверит ему на слово и не должен верить, что он хотел уехать с Людмилой, потому что ему кто-то угрожал.
Дело за малым: захочет ли суд возиться с нами? Что за вопрос! Суду так же важна истина, как и адвокату. О многом могут рассказать билеты на поезд. От меня требуется как можно доходчивее преподнести суду ходатайства. Дома несколько раз репетировал свою речь перед матерью, вроде получалось убедительно. Но одно дело дома, другое — на суде.
Впереди здание суда. У входа тюремная машина, из которой выводят подсудимых. Конвой выстроился по коридору. Родственники и просто любопытные, а таковых в судах хоть отбавляй, толпятся сзади, норовят рассмотреть арестованных, передать привет. На лицах подсудимых светится радость, когда их глаза встречаются со взглядами родных и близких. И все время, пока их ведут до конвойной, они оглядываются, чтобы еще раз увидеть знакомое лицо. Но вот конвой прошел, и коридор опустел. Теперь можно пройти в зал судебного заседания. Прохожу в свой зал и занимаю место за адвокатским столиком. Ко мне подходит женщина. Это тетка Вражина, единственная его родственница, кроме сестры. Что ей сказать? Чем утешить? В ее глазах немой вопрос: «Что же будет?» И надежда, надежда на меня. Нужно ее как-то успокоить, но, как назло, нужные слова вылетели из головы. И я лишь выдавливаю:
— Все будет хорошо…
Мне самому хочется в это верить, и я уже тверже произношу:
— Сегодня, наверное, дело не будет рассматриваться. Я заявляю ходатайство о вызове дополнительных свидетелей. Мы с Вражиным согласовали данный вопрос.
— Как он там себя чувствует?
— Ничего, здоров, просил передать вам, чтобы вы не расстраивались особенно.
Нас перебивает секретарь, появившаяся из совещательной комнаты:
— Товарищ адвокат, зайдите, пожалуйста, к судье.
В совещательной комнате за столом сидит народный судья Тулин, представительный мужчина лет пятидесяти. У Тулина не забалуешься в судебном заседании, быстро осадит. Я у него уже выступал по одному уголовному делу. На стульях, в стороне от Тулина, женщина и мужчина — народные заседатели. Здесь же, рядом, сидит прокурор. С моим появлением беседа прекратилась. Судья посмотрел на меня:
— Так это вы будете защищать Вражина? А мне кто-то сказал, что адвокат Дотощенко. Это меняет дело, — и он переглянулся с прокурором. — Ну и хорошо, а то я не люблю Дотощенко. Она переливает из пустого в порожнее, только затягивает дело ненужными вопросами…
«А дело сегодня вообще не пойдет» — так и подмывает меня сказать Тулину, но сдерживаю зуд и ничего не говорю раньше времени о ходатайстве. А Тулин обращается уже к секретарю:
— Скажите конвою, чтобы доставили подсудимого в зал…
Вместе с секретарем выходим из совещательной комнаты. Зал за какую-то минуту наполнился, словно у людей нюх насчет того, где начнет слушаться дело. Я достаю из папки досье, еще раз пробегаю глазами выписки из дела, написанное дома ходатайство о вызове дополнительных свидетелей. Показать его Вере Михайловне так и не успел. Смотрю в зал, нет ли ее среди слушателей. Знакомого лица не видно, и я облегченно вздыхаю. При ней я бы еще больше разволновался. Рассматривать зал некогда, конвой уже ввел подсудимого. Вражин кивает мне и устраивается за барьером, на скамье подсудимых. В зале всхлипывает его тетка. Мне делается не по себе. Дверь совещательной комнаты открывается, и из нее выходят судьи. Замыкает шествие прокурор.
— Встать! Суд идет!
Зал нестройно поднимается и застывает на какое-то мгновение.
— Садитесь… — И судья начинает процесс.
Быстро кончает с формальностями, проверяет, кто явился в суд, а кто нет и по каким причинам. И вот он уже задает первый вопрос подсудимому:
— Фамилия, имя, отчество?.. Число, месяц, год рождения?.. Семейное положение?
— Холост.
— С какого времени находитесь под стражей?
— Вот уже два месяца за здорово живешь сижу…
— Суд пока не интересует вопрос, за что вы сидите. Когда перейдем к рассмотрению дела по существу, тогда и будем разбираться подробно, за чье здоровье вы сидите. А сейчас вас спрашивают, какого числа взяли под стражу?
— Сразу же, как и произошло. Четырнадцатого мая.
— Ранее привлекались к уголовной ответственности? Если да, то когда и за что?
— Привлекался. По статье восемьдесят девять часть II УК РСФСР к трем годам лишения свободы. Наказание отбыл полностью.
— Так. Правильно. — Судья проверил слова подсудимого по справке, которая находится в деле.
— Копию обвинительного заключения когда получили?
— Неделю назад.
— Все верно… А теперь послушайте, кто вас будет судить. — И, сделав небольшую паузу, произнес: — Ваше дело будет рассматривать народный суд в составе председательствующего — народного судьи Тулина, народных заседателей Сморчковой и Непослушного, при секретаре Филиной. Обвинение поддерживает помощник прокурора района Барашков, защищает вас адвокат… — он запнулся, посмотрев в дело на ордер юридической консультации, закончил: — адвокат Смирнов. Доверяете рассматривать дело данному составу суда? Отводы есть кому-нибудь из участников процесса?
— Доверяю. Отводов не имею.
— Разъясняю вам ваши права: вы имеете право давать показания, задавать вопросы свидетелям, заявлять ходатайства, имеете право на последнее слово и, если останетесь недовольны приговором, имеете право на обжалование. Ясно?
— Ясно.
— А вот сейчас подошли к ходатайствам. У вас есть ходатайства до начала слушания дела?
— Есть, — и Александр посмотрел на меня. Я незаметно наклоняю голову. — Прошу вызвать в суд дополнительных свидетелей — рабочих.
— Для подтверждения каких обстоятельств вы просите вызвать в суд рабочих?
— Я же уже сказал, а они подтвердят, что я не бил Людмилу, не ругался… И никому не мешал работать…
При последних словах Вражина прокурор улыбнулся.
— Вы, конечно, поддерживаете ходатайство подсудимого, товарищ адвокат?
— Полностью поддерживаю заявленное ходатайство. Вызванные свидетели помогут суду лучше разобраться в деле и установить истину. — Перечисляю фамилии рабочих, которых назвал мне Вражин. — К тому же имею самостоятельное ходатайство. Из показаний Подсудимого на предварительном следствии видно, что ему угрожали расправой лица, с которыми он отбывал прежнее наказание. Прошу суд установить их и вызвать для допроса в качестве свидетелей.
— Товарищ адвокат, вы же не первый день работаете. Называйте конкретно фамилии свидетелей и где они проживают. Не может же суд бегать по всей Москве и искать того или иного человека. И потом, такие ходатайства нужно заявлять на следствии…
— Я не принимал участия на предварительном следствии, — а то бы непременно воспользовался вашим советом, — уловив иронию в голосе судьи, тем же отвечаю ему я.
— Ваше мнение, товарищ прокурор, по заявленным ходатайствам?
— Я считаю, что вы должны отказать подсудимому и его адвокату в ходатайстве о вызове дополнительных свидетелей. Удовлетворение данного ходатайства ничего не даст, а рассчитано на то, чтобы затянуть дело. Мифических подельщиков вообще невозможно установить, и не случайно подсудимый не заявлял такого ходатайства на следствии. Что касается вызова рабочих, то в этой части у суда достаточно доказательств виновности подсудимого, и, в частности, в деле имеются показания дружинников. Бегал же подсудимый по цеху? Сорвал работу на производстве? Этого факта вполне достаточно, и нечего людей отрывать от дела бессмысленными вызовами в суд.
Тулин по очереди наклоняется к заседателям. Мне показалось, что прошла вечность, прежде чем Тулин огласил определение суда.
— Ходатайство, заявленное подсудимым и его адвокатом, удовлетворить частично: вызвать в суд рабочих и допросить их в качестве свидетелей. Что касается ходатайства адвоката Смирнова о вызове так называемых подельщиков, то оно подлежит отклонению, как необоснованное. Слушание дела отложить, число будет объявлено в рабочем порядке.
И судья закрыл судебное заседание.
СТРАНИЧКА ДЕВЯТАЯ — ВАЛЕНТИН АНТОНОВИЧ
Я ликовал. Еще бы! Суд удовлетворил основное наше ходатайство и отложил дело слушанием. Я хожу по консультации именинником и рассказываю всем адвокатам об успехе. Большинство из коллег скептически улыбаются: подумаешь, вызвали свидетелей. Рано радоваться, неизвестно еще, как эти свидетели поведут себя на суде. И, покровительственно хлопая меня по плечу, объясняют мою горячность молодостью.
Вечером в консультации ловлю Валентина Антоновича. Пробиться к нему не так-то просто. Он обложился газетами и никого не замечает. Читает на трех языках: на французском, итальянском, английском.
Нерешительно топчусь около него. За соседним столиком беззвучно плачет женщина. Дежурный адвокат пытается успокоить ее:
— Дайте ей воды, — советует кто-то.
Женщина пьет, и ее уводят в приемную. Я продолжаю крутиться возле стола Валентина Антоновича. Наконец он замечает меня.
— А… наш молодой друг. Как дела?
Валентин Антонович привстает, дружески жмет мне руку. Когда он стоит, то его фигура походит на знак вопроса. Время сделало свое дело. Но, несмотря на возраст — семьдесят лет есть семьдесят — по-прежнему в его глазах светится живой ум. И даже недоброжелатели вынуждены признать это и консультируются с ним по всем сложным делам, хотя за глаза посмеиваются над его старческими причудами. Его французский «прононс» не дает некоторым насмешникам спокойно спать. Пробуют даже подражать ему, но ничего не выходит. У Валентина Антоновича все получается непринужденно, естественно.
Устроившись поудобнее на стуле, он нетерпеливо спрашивает:
— Ну, рассказывайте. Говорят, вы хотите потрясти народный суд? Забавно, забавно, молодой человек, — и он потирает руки. Это его излюбленная привычка.
Я не решаюсь заговорить. Валентин Антонович выручает меня:
— Вы что-то хотите спросить? Смелей, смелей, а то с вашим смущением в суде делать нечего. Только, чур, рассказывайте без адвокатских штучек. Все «за» и «против», а лучше, если дадите прочитать обвинительное заключение. Я доверяю больше своим глазам.
Протягиваю ему досье. Водрузив на нос очки, Валентин Антонович углубляется в чтение. По ходу чтения он что-то отчеркивает красным карандашом. Глаза привычно прощупывают листы дела.
— Ваш клиент — настоящий хулиган, — ошарашивает он меня. — Бегал по цеху и не признает себя виновным. Тяжко в суде придется.
— Но не из хулиганских же побуждений он это делал?
— Позвольте, как же так? Главное — факты, а здесь они против вашего подзащитного.
— В обвинительном заключении не все точно. Было уже судебное заседание, и наше ходатайство о вызове дополнительных свидетелей удовлетворили.
— Если дело обстоит так, то задача усложняется. Снова нужно восстановить статус кво, то есть все поставить на ноги. А для этого необходимы, как выражается теперь молодежь, «железные доказательства», хотя известно еще с Римского права, что никаких «железных» доказательств в юриспруденции нет, а есть прямые или косвенные. У вас же, насколько я понимаю, пока нет ни тех, ни других. Или, быть может, вы, как и я, главные козыри бережете до конца и выкладываете их только на суде в самый решительный момент? Верное средство. Так вы имеете что-нибудь за пазухой? Вижу по глазам, что прячете что-то…
Я улыбаюсь и рассказываю Валентину Антоновичу о рабочих, о подельщиках.
— Да, это несколько меняет картину, но я полагаю, что предрешать восстановление истины еще рано. Неизвестно, что свидетели покажут на суде. За сорок лет работы адвокатом я видел всякое. Так что я, как тот скряга, который считает, что пока деньги не у него в кармане, это еще не деньги. Пока показания рабочих не записаны в протоколе судебного заседания, я бы вам посоветовал, — он остановился на мгновение, словно подбирая слова, а затем продолжил: — Поменьше задавать вопросов свидетелям-дружинникам, а лучше — вообще не задавать. Я придерживаюсь такого правила: один глупый вопрос может свести на нет всю работу. Вот так-то, молодой человек, — и он снова углубляется в газету.
Благодарю за совет и направляюсь к своему столу в углу комнаты. То и дело из приемной к адвокатам приходят клиенты, шуршит газетами Валентин Антонович, а я продолжаю думать о деле Вражина, но сосредоточиться мешает разговор, который два адвоката ведут между собой. «А ваш покорный слуга сегодня выиграл дело в Верховном суде». — «Везет же людям, весь в делах, а здесь в октябре опять не выработала минимума. Шеф снимает стружку». — «Можно было бы парня не сажать, жена больная с двумя детьми осталась». — «Хулиган хулигану — рознь». — «Вы же юрист, батенька, а не коновал. И кому, как не вам, уважать право, то бишь закон. Правовой нигилизм ни к чему хорошему никогда еще не приводил. Это не значит, конечно, что одним правом можно покончить с хулиганством. Воспитать народ надо, чтобы каждый борьбу с хулиганством воспринял как свое, кровное дело…»
Шум волнами то уходит в глубь комнаты, то вновь возвращается ко мне. Постепенно все затихает. Не замечаю, как расходятся адвокаты, в комнате появляется уборщица и начинает протирать столы. Потянулся, выключил настольную лампу. За окном мелькают люди, машины. Захотелось скорей на воздух. В дверях приемной нерешительно топчется какая-то старушка.
— Вы кого ждете, мамаша?
— Защитника.
— Так все уже ушли. А что у вас за такое срочное дело? Может, я чем-нибудь помогу.
— Издалека я приехала.
Старушка недоверчиво смотрит на меня — уж больно молоденький, читаю у нее в глазах, — а затем нерешительно идет за мной.
— Садитесь, рассказывайте.
СТРАНИЧКА ДЕСЯТАЯ — САМОВАРНОЕ ДЕЛО
…На дворе стояла зима. Холодный ветер швырял в лицо снег. В такую погоду, говорят в народе, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Но и те редкие прохожие, которые очутились в эту пору на улице, обратили внимание на женщину в полушубке и пуховом платке. В руках она несла сверток, закутанный в старое пальто. На вороте полушубка, на пуховом платке от дыхания серебрился иней.
Женщина свернула с центральной улицы в узкий проулок и вошла в мастерскую. Вместе с ней в помещение ворвались клубы морозного воздуха. Из глубины комнаты раздался сердитый мужской голос:
— Ну, что раскрылатилась, бабка? Бросай свой сундук, а то всех заморозишь…
Повернувшись боком, женщина протиснулась в дверь, и та за ней с шумом захлопнулась. После морозного, прозрачного воздуха электрическое освещение ослепило ее. Какое-то мгновение она стояла не двигаясь, словно приноравливаясь к обстановке. Сделав несколько шагов, женщина споткнулась. Раздался дружный смех. Все тот же голос, но уже с ноткой иронии, произнес:
— Ты что, ослепла, что ли? Не видишь, изделия стоят?
Женщина промолчала. Примостив ношу у себя в ногах, она начала раздеваться. Не спеша сняла рукавицы, развязала веревку, которая стягивала полушубок, опустила воротник и только тогда принялась за платок. Большие, морщинистые руки проворно развязали узел, и показалось открытое лицо старого человека с морщинами вдоль и поперек. Лицо это красноречивее всяких слов говорило, что прожитые годы не были для женщины беззаботной прогулкой по жизни. Многое, видно, довелось испытать ей на долгом бабьем веку.
Теперь, когда старушка отошла от мороза, рабочие молча рассматривали ее. Да и как же было не смотреть, если скоро обед, а это первый посетитель в мастерской. В тридцатиградусный мороз все предпочитают сидеть дома. Слесарям не терпелось узнать, с чем пожаловала к ним старушка. Первым не выдержал молодой парень. Он подошел к старушке и, нарочно споткнувшись, ударил ногой по предмету. Раздался глухой звук, и парень съязвил:
— Уж не колокол ли с церкви принесла, бабка…
Старушка ничего не ответила. А рабочий, облокотясь о стойку и бравируя перед товарищами, продолжал в том же духе:
— А может, ты бомбу притащила и хочешь нас взорвать? Кто тебя знает.
Глупость парня потонула в смехе, и он миролюбивее заметил:
— Сидела бы ты дома на печи в этакий-то мороз… И какая нелегкая тебя принесла к нам, бабка?
— Самовар…
— Могла бы и через неделю прийти. Большой бы беды не стряслось.
— Значит, не могла.
Женщина сказала это так, словно-речь шла о живом человеке, а не о вещи. Подошедший к слесарям пожилой рабочий одернул озорника:
— Хватит тебе изгаляться над старым человеком. Сопли еще не высохли под носом, а туда же…
— Я что, я ничего, — стушевался парень.
Старушка занялась свертком. Она осторожно развязала старое пальто, глазам рабочих предстал большой самовар старинной работы.
Старушка любовно протерла его тряпочкой. Самовар тускло заблестел.
Может быть, в другое время, когда в мастерской находились люди, приемщик давно бы прервал занятие старушки. В данный же момент она была единственным посетителем, и ее появление с самоваром в какой-то мере развлекало рабочих, хотя и думали о ней по-разному. «Забавная старушка, — размышлял приемщик. — Все к старости становятся чудаками и каждый по-своему с ума сходит. Ишь ты, как она обхаживает самовар…» — «Делать старушенции нечего, вот она и возится с каким-то паршивым самоваром целый час», — пронеслось в голове молодого рабочего. «Одна, наверное, старушка осталась, — жалел бабку пожилой слесарь. — Иначе кто бы ее выпустил из дома в такой мороз? Устала, бедняжка, пока дотащилась до нас. Помочь бы ей не мешало…» Он попросил приемщика:
— Михеич, отпусти старушку, что она у тебя в проходе-то торчит как неприкаянная.
Приемщик вышел из-за перегородки.
— Что у тебя с ним стряслось?
— Крант заедает. Поддувало, ежели можно, посмотрите, и… — старушка замялась, — отнекировать.
— Отникелировать, — поправил ее приемщик и, определив объем работы, выписал квитанцию.
Старушка повертела бумажку для приличия в руках, несколько раз близко поднесла ее к глазам, но разобрать, что написано в квитанции, так и не смогла. Она была неграмотна. Из всех каракулей, которые вывел приемщик, уяснила лишь цифры: два рубля сорок копеек, но для верности переспросила:
— Скоко?
— Два сорок.
Откуда-то снизу старушка извлекла завязанный аккуратно платочек, отсчитала положенную сумму, и платок вместе с квитанцией так же незаметно исчез в складках ее одежды. И не успела за ней захлопнуться дверь, как молодой рабочий небрежно взял ее самовар и бросил в общую кучу, где его трудно было отличить от других.
Месяц для Анисьи, так звали старушку, тянулся мучительно долго. Она не находила себе места, дожидаясь дня, когда нужно будет идти в мастерскую за самоваром. Наведывалась в гости к своей товарке, такой же, как она, старой и одинокой женщине. Подруга да самовар связывали еще Анисью с жизнью. Нет, была еще фотография на стене, на которой они сняты всей семьей. Когда она смотрит на фотографию, ей кажется, что сыновья с мужем сойдут к ней и начнется задушевная беседа. От напряжения глаза слезятся. Если долго-долго смотреть, то фотография расширяется, уходит, а сыновья с мужем наклоняются к ней. Анисья протягивает руки, но пальцы натыкаются на стену. Тогда она садится за стол, вынимает из шкатулки три пожелтевшие от времени листочка. Такие безобидные на вид, а сколько причинили горя.
…Похоронные согнули Анисью. Первое извещение получила в декабре сорок первого из-под Москвы. Долго, беззвучно тряслась на топчане. За ночь перед глазами промелькнула вся жизнь первенца. Она вновь и вновь просила подругу перечитать письма сына. Марья, как могла, утешала Анисью. Но горе одно не приходит, перестала получать письма от младшего сына. А через три месяца еще один удар потряс Анисью. Почтальон, стараясь не смотреть ей в глаза, сунул похоронную. В мае сорок пятого года, в последний месяц войны, погиб и муж…
Листочки медленно скользнули из ее рук в шкатулку. Анисья жила воспоминаниями. Чаще всего ей виделась одна картина: вся семья сидит у стола за самоваром, Анисья разливает чай. Самовар она помнит еще ребенком, но когда он появился в доме, сказать никто не мог. Мать рассказывала ей, что его купили в Туле еще при жизни бабки. За долгие годы самовар для Анисьи стал живым.
В мастерскую пришла раньше открытия. В приемной было тихо, за конторкой копошился приемщик.
— Кто первый, подходи…
Анисья приблизилась к окошечку и стала развязывать платок.
— Ну вот, целый час стояла и не могла приготовить квитанцию.
В очереди на нее зашикали. От этого Анисья растерялась еще больше и никак не могла развязать узел. Наконец злополучная квитанция оказалась в руках приемщика. Сверившись с журналом, приемщик вышел из-за перегородки и поманил Анисью рукой:
— Твой? Забирай, — и, не дожидаясь ответа, направился к конторке.
Она наклонилась к самовару, чтобы получше рассмотреть его, и отшатнулась. Кровь ударила ей в лицо. Это был не ее самовар. Боясь, что ошиблась, она еще ниже склонилась над самоваром. Свой самовар она не спутает ни с каким другим. Она знала на нем малейшую зазубринку, каждую завитушку на кране. За вечера, проведенные наедине с самоваром, она выучила его наизусть. Из состояния задумчивости ее вывел голос молодого рабочего:
— Что, бабка, копаешься? Получила самовар и отчаливай…
Анисья не шелохнулась.
— Ты что, оглохла?
— Это не мой самовар.
— Как не твой? Чудишь, бабка.
— Мой не такой.
— Не такой, не такой, — передразнил ее парень. — Притащила рухлядь, и, можно сказать, мы сделали конфетку, самовар блестит как новенький, а она, видите ли, недовольна. На вас не угодишь…
— Ну и пусть блестит, мне мой подавайте. Что вы старого человека за нос водите?
— Иди с приемщиком разбирайся.
Анисья снова направилась к конторке. Приемщик, занятый работой, не поднимая головы, буркнул:
— Что ты мне голову морочишь, бабка?
— Мне самовар подменили.
— И что мудришь? — Обращаясь к проходившему мимо пожилому рабочему, добавил: — Твоя работа, Матвеич! Во как здорово сделал, что клиентка не узнает свой самовар. Благодарность должна записать, а не мотать нервы.
Рабочий внимательно осмотрел самовар.
— Старушкиным самоваром занимался Алексей. — Он поманил молодого парня.
— Ты мамашин самовар чинил?
— А я почем знаю? Десяток прошло за месяц.
— Ты мне носом-то не верти, довертишься. Не помнишь, говоришь? А кто на той неделе любовался вязью на ручках?
— Во, во, это мой, — закивала Анисья.
— Ты мне дурачком не прикидывайся. Отвечай толком, куда ее самовар дел?
— И что ты ко мне привязался с каким-то самоваром? Тоже мне, новый начальник выискался, — и парень направился на свое рабочее место.
— Знаем мы его штучки-дрючки, — и предложил Анисье: — Пройдите к заведующей.
Выслушав Анисью, заведующая исподволь начала уговаривать Анисью:
— Может быть, вы ошиблись, бабуся? Или вас подвело зрение. Принесли самовар старым, облезлым, а мы вам предлагаем вон какого красавца. Он еще сто лет прослужит.
— А на кой леший мне на сто лет-то? Мне бы год-другой протянуть, и то слава богу. Вы мне мой самовар подавайте, и вся недолга.
— Что сейчас об этом толковать? Нет вашего самовара. Где мы его возьмем?
— Намедни был, а теперь нет. Не мог же он провалиться сквозь землю. Лучше спросите у молодого зубоскала, куда он его задевал.
Вызванный к заведующей молодой рабочий сказал:
— И что она, Елена Михайловна, голову нам морочит? Только отрывает людей от дела. Ее самовар, другого нет.
— Ну вот что, товарищ Карпова, вам предлагают замену. Не желаете брать самовар, не надо. Некогда нам больше заниматься с вами. У нас работа, — и, давая понять, что разговор окончен, она встала.
На неделе Анисья еще дважды заходила к заведующей, но та даже не захотела слушать ее. Пожаловалась она в управление, но оттуда жалобу Анисьи переслали в мастерскую. Ответа она так и не получила.
Анисья растерялась. Как найти управу на охальников? Мир не без добрых людей. Кто-то посоветовал обратиться в суд. Соседи написали заявление, и у Анисьи немного отлегло от сердца. «Суд-то уж разберется».
Народный суд нашла быстро. Он помещался в одноэтажном домишке и встретил Анисью тишиной, темным коридором, по стенам которого еще с зимы стояли поленницы дров. На скамейках уже сидели посетители. Анисья заняла очередь. Люди молча ждали приема, в сотый раз повторяя про себя заранее заготовленные фразы. В девять часов из боковой двери вышла молоденькая девушка и предупредила:
— На одиннадцать часов назначено дело. Больше не занимайте очередь.
Посетители по одному исчезали за дверью и быстро выходили из кабинета судьи. Анисья не заметила, как подошел и ее черед. Она вошла в кабинет. За столом сидела худощавая женщина лет сорока с усталым лицом. На столе перед ней кипа бумаг. Увидев Анисью, судья спросила:
— Что у вас?
— Самовар… — и Анисья хотела было рассказать, как ее обманули в мастерской и подсунули чужой самовар, но судья прервала ее:
— Не нужно сейчас рассказывать. Где исковое заявление? Давайте его сюда.
Анисья положила на стол сложенный пополам лист бумаги. Судья мельком пробежала глазами заявление и вернула обратно.
— В таком виде не могу принять заявление. Юридически неграмотно составлено. Не по форме.
— Самовар, — опять начала Анисья, но судья перебила ее:
— Самовар, самовар, а того понять не можете, что нет его в натуре и можно ставить вопрос только о взыскании стоимости.
— Вам видней. Неграмотная я.
— Ладно уж, так и быть, приму заявление. Через неделю вызову на прием вместе с представителем мастерской, — и положила заявление Анисьи в деловую папку.
Так Анисью захватила судебная карусель. Появилось самоварное дело. Оно, как и сотни других, было пронумеровано, аккуратно подшито, получило надлежащий индекс и закочевало по судебным инстанциям. Вместе с делом завертелась и Анисья.
Неделя пролетела как во сне. И оттого что она очень ждала дня приема, в суд опоздала. Когда Анисья робко просунулась в кабинет судьи, там уже сидел представитель мастерской. И не успела она еще как следует устроиться на стуле, а на нее уже посыпался град обвинений:
— И зачем вы, Карпова, затеяли дело. Пустое все это. Себя только мучаете и других отрываете от работы. Ну что вам надо?
— Самовар.
— Так вам же мастерская дает самовар, а вы отказываетесь. А чем докажете, что они обманули вас?
— Квитанция, — начала было Анисья.
— Что квитанция? В ней написано, что от вас получили самовар, и все. А какой он был, одному господу богу известно.
При упоминании бога Анисья не решилась перечить. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, вот тебе и суд», — думала Анисья. «И чего старушка надрывается? Не все ли равно ей, из какого самовара пить воду?» — читалось на лице представителя мастерской. «Конечно, обманули человека, — понимала судья. — Можно заставить администрацию мастерской вернуть ей ее самовар, потребовать от них, чтобы принесли в суд надлежаще оформленную квитанцию, книгу учета. Но на это нужно время и время».
— Ну так какие же у вас доказательства, Карпова?
— Я правду говорю.
— Вы одну правду говорите, администрация мастерской другую. Кому прикажете верить?
Анисья растерялась.
— Так как же, Карпова, возьмете самовар в мастерской?
— Нет. Ведь это же не мой самовар. Не могу я взять чужую вещь. Пусть тешит свою хозяйку.
— Придется назначать суд.
Анисья изумленно захлопала белесыми ресницами.
— Как же так, а разве это не суд?
Судья пояснила:
— Нет, это только прием. Я хотела уладить дело миром, а решать по существу может лишь суд в полном составе, два народных заседателя и я.
Анисья внимательно выслушала судью и приободрилась. Значит, суд решит в ее пользу и ей вернут самовар. С этими мыслями она и вышла из здания суда. И едва за ней закрылась дверь, как судья набросилась на представителя мастерской:
— Кто там у вас хамит? Старую женщину гоняете по судам? Обманули, подсунули другой самовар. Совсем распустились, никакой культуры обслуживания. Стоит только увидеть, что человек неграмотный, тут же что-нибудь и выкинут. Заставить бы вас вернуть старушке самовар, посмотрела, как бы вы тогда запели.
— Товарищ судья, так это же невозможно практически сделать. Надо вызвать всех, кто в январе — феврале сдавал в починку самовары.
— А что, у вас их так уж много?
Представитель мастерской замялся и, не ответив на прямой вопрос судьи, сказал другое:
— Мы уже его наказали. Выговор объявили. Разрешите в суд не являться, работы много…
— А у меня, думаете, мало? — и судья, махнув рукой, закончила: — Так и быть, не приходите. Как-нибудь и без вас разберемся.
Старая Анисья в это время медленно шла по городу. Думала она о том, что вот на склоне лет пришлось таскаться по судам. Дожила до седых волос, не врала, а вот теперь ей не верят.
В день суда, уходя из дома, Анисья истово помолилась, призывая всех святых разобраться в ее деле. И впервые за многие годы в голове шевельнулась кощунственная мысль: «Вот если есть бог, вернут самовар…»
В зале судебного заседания с надеждой посмотрела на пожилую женщину-заседательницу. «Она-то уж должна поверить». Пожилая заседательница благосклонно смотрела на Анисью, с сомнением качала головой, когда судья прерывала Анисью, не давая ей возможности высказаться до конца.
— Суду все ясно. Читали ваше заявление. Что просите у суда? — спросила судья.
— Самовар.
— Хорошо, разберемся. — Суд удалился в совещательную комнату.
Анисья так и осталась стоять с широко открытым от удивления ртом. И не успела она ни о чем подумать, как суд вышел в зал и огласил решение. Оно было кратким: в иске Карповой отказать. Истец, то есть Анисья, не доказала суду своих исковых требований и не представила в судебном заявлении убедительных доводов факта подмены самовара. Кончив читать решение, судья подняла голову и обратилась к Анисье:
— Решение понятно? Можете обжаловать его в областной суд в течение десяти дней, если остались им недовольны.
— Понятно… — протянула Анисья.
Десять дней прошли в размышлениях: жаловаться или не жаловаться. Решила все-таки пожаловаться, грамотные люди написали бумагу, и она отнесла ее в суд. Пересмотр дела назначили на конец мая.
На областной суд надеялась. Из залов областного суда пыхало жаром, как из духовки. Месяц выдался жарким, этого и следовало ожидать, судя по лютой зиме. Не спасали от зноя и солидные каменные стены. Не в пример народному суду, областной суд размещался в большом доме и занимал целых два этажа. В залах ровными рядами стояли скрепленные стулья. Судейские столы были покрыты добротным сукном. Внушительно выглядели и судейские кресла. От обстановки на Анисью повеяло трепетом, и она уверила себя, что здесь-то уж разберутся в ее деле. Она почему-то решила, что будут заниматься только ее делом. Каково же было изумление старой женщины, когда секретарь повесил на двери длинный список с делами, назначенными к слушанию, и лишь где-то в конце списка стояла ее фамилия. Анисья забилась в дальний угол зала и оттуда наблюдала, как идет суд по другим делам. От жары ее разморило, и она не сразу расслышала, как дважды произнесли ее фамилию:
— Слушается дело по жалобе Карповой. Из сторон кто явился в зал судебного заседания?
— Я.
— Проходите на первую скамейку. А ответчик что, не явился? Извещен о дне слушания? Не возражаете слушать в его отсутствие? Заслушаем.
Докладчик коротко изложил дело, и последовал все тот же вопрос:
— Что просите у судебной коллегии по гражданским делам?
Анисья собралась с духом и хотела рассказать все по порядку, но на нее замахали руками:
— Не надо, не надо. Мы вашу жалобу изучили. Добавить что-нибудь желаете?
Суд удалился в совещательную комнату.
Анисья окинула взглядом зал. Кроме нее, никого не было. И то ли от жары, то ли от напряжения она почувствовала себя плохо. Как во сне слышала, что решение народного суда оставлено без изменений. Анисье стало дурно. Кто-то положил ее на скамейку, дал холодной воды. Она открыла глаза и увидела над собой склоненное лицо докладчика.
— До дома доберетесь? Может, «скорую» вызвать?
— Спасибо. Пройдет на воздухе.
Еле дотащилась до дома и, не раздеваясь, повалилась на кровать. В глазах у нее стоял самовар, и к нему по очереди протягивали руки сыновья с мужем.
Я выслушал рассказ старушки. И мне не оставалось ничего другого, как не по инструкции посоветовать:
— Трудно вам доказать, мамаша, что самовар подменили.
— Я буду жаловаться, — и старушка, не попрощавшись, вышла на улицу.
В учреждениях, куда можно жаловаться, в столице недостатка нет. Есть и прокуратура, есть и народный контроль. И пройдет осень, наступит зима, а я уверен, старушка не появится дома, пока не найдет своего самовара.
СТРАНИЧКА ОДИННАДЦАТАЯ — ДЕЛО О РАЗВОДЕ
Среда — своего рода разгрузочный день в юридической консультации. Пока есть время, в сотый раз перебираю досье по делу Вражина. Странно, но из головы не выходит и старушка с самоваром.
— Что казнишь себя напрасно? — заметил мое подавленное состояние Липка, когда я ему рассказал о самоварном деле. — Ты дал ей правильный совет и не виноват, что с ней так поступили. Разве мало на свете равнодушных людей. Да и в нашей профессии с ними приходится сталкиваться.
И правда, что я переживаю? Я же действительно не виноват, что с ней так поступили. И все же, все же лучше бы она не мне рассказала о своем несчастье, а другому адвокату.
— К вам можно? — передо мной с советной карточкой в руке стоит молодая девушка. — Вы дежурный адвокат?
— Садитесь, пожалуйста…
Я дежурю. Интересно, что у нее за вопрос? Трудовой? Жилищный? Скорее всего о разводе. Я молча разглядываю девушку. Она чувствует мой взгляд и смущенно опускает глаза. «Красивая!» Перестаю на нее глазеть и как можно строже спрашиваю:
— Что привело вас к нам?
Строгость у меня напускная. Выдает мальчишеский вид. Я страдаю от этого. Клиенты мне почему-то не очень доверяют. Стоит им только меня увидеть, и они норовят уйти к другому адвокату. У девушки, конечно, никакого дела быть не может. Просто совет, а советы я даю не хуже старых адвокатов.
— Так что у вас случилось? — повторяю я вопрос.
— Хочу развестись и получить консультацию, как это побыстрее сделать.
— Прекрасно, — помимо воли вырывается у меня, но я тут же поправляюсь и удивленно переспрашиваю: — Развестись?
— Да, а что здесь такого? Ни я первая, ни я последняя.
— Нет, ничего, мне только показалось, что вы слишком юны.
— А какое это имеет отношение к делу?
— Я просто думал, что вы еще не успели выйти замуж.
— А… — воспринимает она мои слова как шутку.
И она впервые посмотрела мне в лицо. Теперь настала моя очередь смутиться и, отвести в сторону глаза.
— Развестись так развестись. Вам что, заявление написать или разъяснить только порядок развода?
— И то и другое.
— Ну, тогда слушайте. Нужно написать заявление в народный суд, в котором необходимо указать мотивы развода, и с этим заявлением пойти на прием к судье. И если обе стороны согласны на развод, то вас разведут быстро. Заплатите лишь десять рублей госпошлины, и суд еще взыщет от пятидесяти до двухсот рублей, в зависимости от материального положения сторон. Вот и все. Да… чуть не забыл, еще одна деталь. Дело слушается по месту жительства ответчика, то есть там, где прописан ваш супруг.
Пока я говорю, девушка внимательно слушает меня. Это льстит самолюбию.
— Так что, как видите, ничего страшного нет. Заявление пишется в двух экземплярах.
— Почему?
— Копия вручается ответчику, то есть вашему супругу.
— А…
— Написать заявление, или еще подумаете? Может, и не стоит разводиться.
— Уж не собираетесь ли вы нас примирить?
— Нет, что вы, это не входит в обязанности адвоката, а вот на суде вас обязательно постараются примирить. Сначала судья вас вызовет на прием вместе с супругом. И только после того как вы откажетесь примириться, дело будет назначено к слушанию.
— Какая волынка. А я-то думала, раз-два, и готово.
— Ну так что будем делать?
— Пишите заявление.
— Хорошо. Только вам придется мне рассказать, что между вами произошло. Адвокату, как священнику, нужно говорить всегда одну правду.
— Вы совсем не похожи на попа, а я еще не успела согрешить, чтобы каяться.
После этого заявления я с интересом смотрю на девушку.
— Так что же вам рассказать?
— Как познакомились, в каком году был зарегистрирован брак, есть ли дети и, главное, почему решили развестись. Иными словами, нужно обязательно указать мотивы развода. Суд тоже спросит об этом.
— А можно не указывать настоящую причину, а придумать что-нибудь, вроде — не сошлись характерами.
— Написать-то в заявлении все можно, но лучше указать истинную причину. Итак, фамилию я вашу уже знаю — Сысоева Валерия Михайловна.
— Откуда такая осведомленность?
— А на советной карточке написано, которую вы мне дали.
— Действительно просто, а я-то думала, вы настоящий детектив, по глазам читаете.
И все же в ее беспечном разговоре чувствуется напряжение. Слишком сильное потрясение, видимо, перенесла клиентка, и поэтому я поддерживаю ее тон:
— Могу и по глазам, — и замечаю, как в ее взгляде метнулся испуг, словно и вправду я могу узнать больше, чем она расскажет сама.
Не так-то просто постороннему человеку рассказать о беде. Не каждый это может. Наверное, когда она шла в юридическую консультацию, сотни раз повторяя заранее заготовленные слова, ей казалось, что она их скажет и адвокату, а теперь, когда нужно говорить, слова улетучились. Я не раз замечал это за клиентами, да и за собой тоже. Поэтому прихожу ей на помощь:
— Не стесняйтесь, а если хотите, сами напишите дома заявление. Я набросаю вам канву.
— Нет, нет, — испуганно произносит она. — Уж раз пришла, то нужно написать, а то я буду все откладывать и дооткладываюсь… Пишите. Сысоева Валерия Михайловна по делу с Сысоевым Борисом Григорьевичем, — пишу я в заявлении вслед за ее словами. — От брака есть дочь Людмила.
Все это необходимые элементы заявления о разводе. Но очень трудно получить правильное представление о сути дела, выслушав одну сторону. Я уверен, он бы тоже наговорил кучу нелестных слов в ее адрес. Однако последний его поступок любого располагал к ней: месяц назад она застала своего супруга с другой женщиной.
— А что, если и впрямь это была клиентка, — пытаюсь усомниться я.
— Клиентка… Протезы вставляла за ширмой в нижней рубашке…
Ее муж — зубной техник и по вечерам принимает клиентов в своем кабинете, который находится в квартире родителей. Она случайно зашла к нему, и он даже не оправдывался.
После ее рассказа я испытываю странное ощущение. С одной стороны, мне ее жалко чисто по-человечески, с другой… С другой какое-то непонятное раздражение поднимается против нее. «Так тебе и надо, погналась за длинным рублем. Зубные техники гребут деньги лопатой. А где же была любовь? Вот и пришла расплата. Стоп, стоп, — останавливаю себя. — Это ничего не значит, что они были знакомы всего три месяца, ведь бывает же любовь с первого взгляда?»
— Ну что ж, никакой причины и выдумывать не нужно. Так и напишем в заявлении — супружеская измена. Очень веско, суд обязательно разведет. За заявлением придете денька через два. У нас машинистка в отгуле, — и я протягиваю ей телефон консультации.
Девушка встает.
Мне почему-то вдруг показалось, что она передумает и не придет за заявлением. Это она вгорячах пришла к юристу, а завтра одумается, простит мужу измену, и они снова будут говорить друг другу нежные слова.
За заявлением девушка так и не пришла. Напрасно я ждал ее звонка. У меня был ее адрес, указанный в регистрационной карточке, и первое время меня так и подмывало подъехать к ее дому и дождаться, когда она выйдет на улицу. Но как только я представил себе, что увижу ее вместе с мужем, у меня пропала всякая охота видеть ее.
И все же, интересно, как она смотрит на него? И почему у них так получилось? А главное, можно ли без любви жить вместе? Такие люди обкрадывают себя. Все равно она никогда не забудет измену и при возможности отплатит ему той же монетой. Практически под одной крышей живут чужие люди. Они говорят друг другу какие-то слова, но они лживые, выказывают какие-то чувства, но они искусственные, совершают поступки, но в них сквозит расчет.
У них растет ребенок. С годами он вдруг начинает понимать, что его отец и мать обманывают друг друга, а значит, можно обманывать и ему, и в ребенке незаметно для родителей и для него самого зарождается зло. Оно еще неосознанно и проявляется в недоверии к другим людям, постепенно недоверие превращается в неверие ко всему существующему, а затем становится злом, и человек уже сознательно творит зло. Это своего рода вирус, который заражает всех, кто как-то соприкасается с больными.
Но ведь зло приходит и другим путем. Я знаю, что есть и добро, оно всесильно и не должно сдавать своих позиций. И еще добро, как и зло, в нас самих. И мне хочется крикнуть: люди, не стесняйтесь показывать добро.
Я с ней познакомился случайно. Вернее, сначала я познакомился с ним. Мы оказались соседями по парте на курсах по изучению иностранного языка. Есть у меня такая дурная привычка хвататься за все сразу и не доводить ничего до конца. Так получилось и с курсами. Можно было овладеть иностранным языком в университете, но там почему-то все пять лет сдавал разным преподавателям один и тот же текст из «Милого друга» Мопассана. А вот когда стал адвокатом и с преступниками вроде ни к чему разговаривать на французском, меня потянуло на курсы.
Там я и познакомился с Вадимом. И хотя курсы оба не кончили, я решил заниматься дома самостоятельно, а он перешел на английский, со временем мы даже сблизились. Я стал частым гостем у него в семье и очень привязался к его десятилетнему сынишке Андрею и его жене Вере, милой и симпатичной женщине. Я себя чувствовал у них как дома. Я рассказывал им о своих делах и о всех своих неудачах в любви, а влюблялся я легко и часто. Над моей вечной влюбленностью они беззлобно подтрунивали. С десятилетним Андрюшкой нас связывала мужская дружба. Я рассказывал ему о своей работе, он просил показать ему наган. Оружие адвокатам не выдают, но мне стыдно было в этом признаться, и я обещал принести оружие в следующий раз. И всегда при этом ссылался, что забыл его в сейфе, хотя и сейфов у адвокатов тоже нет. Андрюшка мне верил и терпеливо ждал, когда я принесу ему настоящий наган.
И вдруг Вадим пришел ко мне в юридическую консультацию и попросил написать заявление о разводе. Сначала я подумал, что он шутит, так не вязалась его просьба с тем, что я знал о его отношениях с женой. Но он не шутил. И сколько я ни отговаривал, ничего не помогло. И я, грешный человек, не смог ему отказать. И пока писал ему заявление, перебрал в уме все, что знал о них, и я не понимал его.
Вера тянула Вадима, пока он учился в институте, тянула его и потом, когда он поступил в аспирантуру. Работала на две ставки да и дома занималась хозяйством, воспитывала сына, а Вадим грыз науку.
Я ничего не понимал. Человек, от которого я никогда не ожидал подлости, поступал гадко. Оказывается, он уже больше полугода не жил дома.
— Кто она, скажи мне?
Он улыбнулся.
— Заявление напишешь, пойдем ко мне — и увидишь.
Я мог принять его новую подругу только в одном случае, если у них была настоящая любовь. Но когда они успели полюбить? Он мне ничего о ней не рассказывал. Я знал за ним маленькие грешки, мужик он красивый, женщины к нему льнут, но все это было несерьезно, так, легкий флирт…
— И давно ты с ней познакомился?
— Да уже около года.
— И ты скрывал ее от меня?
Он снова улыбнулся.
— А как же Вера? Андрей?
— С Верой мы договорились. А Андрей? Что ж, к Андрею я буду приходить.
— Это же несерьезно, старик.
— Не тебе одному делать глупости.
— Да, но от моих глупостей никто не страдает, только я сам. И потом, об Андрее ты хоть подумал? Ему в этом возрасте, как никогда, нужен отец, а не твои приходы. Он же очень шустрый мальчишка. Вера одна не справится с ним.
— Справится. И потом, хватит об этом. Пойдем лучше ко мне, обмоем заявление.
— Пойдем, посмотрим на твою кралю. Кстати, чем она занимается?
— Да ничем… Она генеральская дочь. — И он смеется слишком сытым смехом. Раньше он так не смеялся.
Выходим на улицу. Обычно мы сразу же заворачивали за угол и оказывались у Вадима дома. На этот раз маршрут удлинился. Через улицу Фрунзе прошли на Каменный мост, и я догадываюсь, в какой дом мы идем. У подъезда навстречу нам вежливо поднимается швейцар.
— Это со мной, — и Вадим кивает в мою сторону.
Все в этом доме не так, как в других, более комфортабельно и добротно. Даже кабина лифта. Я еще никогда не был в генеральской квартире, и этот нездоровый интерес подталкивает меня вверх. В коридоре расстелены мягкие ковры, стены отполированы под дуб. «Продался», — мелькнуло у меня в голове. Звонок здесь скрытно вмонтирован в стену, и его не так просто найти. Дверь так бесшумно и быстро открылась, что у меня сложилось впечатление, будто нас ждали.
— Домработница… — рассеял мои сомнения Вадим. — Пройди в гостиную, я сейчас своей половине доложу.
Домработница провела меня в гостиную, комнату метров двадцать пять, устланную коврами, с кушетками вдоль стен и с большим телевизором последней марки в углу. Я боялся присесть, и у меня мелькнула мысль — убежать, не дожидаясь новой жены Вадима. В гостиную вошла все та же домработница и внесла на подносе чашечки черного кофе и бутылку коньяка. А следом за ней появился мой приятель со своей избранницей. Нет, она не была безобразна, но и ничем не выделялась среди сотен, тысяч девушек, которых я ежедневно видел в городе. Широко улыбаясь, она протянула мне руку:
— Нина, Вадим столько мне о вас рассказывал. Какой вы забавный. Стихи пишете, и я давно хотела познакомиться с вами.
— Я тоже, — автоматически соврал я.
Рассматриваю гостиную, а перед глазами шестнадцатиметровая комната друга на старом Арбате. Вадим не в меру суетлив и разговорчив. Таким я его еще не видел.
— Не стесняйтесь, наливайте коньяк, — предлагает Нина.
Я не стесняюсь, но что-то меня раздражает в ней. У нее громкий голос. Она говорит так, словно плохо слышит, и я представляю ее в старости, оглохшую, а рядом его, еще здорового и цветущего мужчину. Бр, бр, меня пронимает дрожь, хотя мы уже выпили по две рюмки. Разговор не клеится.
— Почитай что-нибудь, старик.
— Нет настроения, в другой раз, — хотя уже отлично понимаю, что другого раза не будет.
— Пойдем, я покажу тебе свой кабинет.
Да, ничего не скажешь, шикарно. Кабинет, отдельная спальня, столовая. Но в этом дворце не слышно радостного голоса Андрюшки: «Пап, а к нам дядя Сережа пришел…» И такое пакостное состояние накатывается на меня, что хочется расплакаться. Или это коньяк начал действовать?
— Проводи, старина, мне нужно еще в одно место слетать.
Он обиделся.
— Посидим, выпьем еще. Я сейчас магнитофон включу, есть интересные записи.
— Как-нибудь в другой раз, не могу.
— Я тебя провожу.
Мы молча спускаемся в лифте. Разговаривать нам не о чем, мы и так отлично понимаем друг друга. Внизу нас провожает все тот же вежливый швейцар. На улице я все же задаю Вадиму вопрос по адвокатской привычке:
— Скажи, старик, только откровенно, а ты не жалеешь, что ушел из семьи?
По выражению лица Вадима вижу, что не ожидал он этого вопроса. Глаза его беспокойно забегали.
— А почему ты это спрашиваешь?
— Ну, во-первых, потому, что ты поступил не совсем красиво от отношению к Вере. Во-вторых, во-вторых, как мне кажется, ты не так счастлив, как хочешь показать. И совсем не любишь свою новую жену, а жить без любви пошло.
— Ты всегда что-нибудь придумываешь. Это в тебе твои поэтические замашки говорят. И тебе нужно было не адвокатом, а прокурором работать. И Вера здесь совершенно ни при чем. Это же могло случиться с любым человеком. Просто я ее не люблю.
— А почему же тогда ты с ней жил столько лет? Выходит, все это время обманывал ее?
— Не все так просто, как ты полагаешь. Никто ее не обманывал. Она сама давно догадывалась, что я ее не люблю.
— Я что-то не замечал, когда бывал у вас, да и ты ни разу не заикался мне об этом, хотя мы и были с тобой откровенны.
— Мне просто неприятно было вмешивать тебя в наши семейные дела.
— Может быть, пока она переписывала твою диссертацию, растила сына, работала на тебя, как каторжная, давала тебе полную свободу, тебя это устраивало?
— Старик, перестань.
— Нет, ты уж дослушай и не перебивай меня. Ты стал кандидатом, и она вроде не подходит, а тут подвернулась генеральская дочка, с машиной, дачей.
— Заткнись…
— Что, не нравится правда?
— Да, да, мне надоела комната на Арбате в виде вытянутой кишки, соседи, теснота, грязь. В конце концов я тоже хочу пожить, а Нину не трожь, она меня любит.
— А Вера разве не любит?
— Хватит об этом, а то поссоримся по-настоящему, — и он натянуто улыбнулся.
Но меня уже было трудно остановить, и я задаю ему последний вопрос:
— Скажи, а не придется ли мне лет через пять защищать Андрея в суде?
Я заметил, как он отшатнулся от меня.
— Ты все преувеличиваешь. Я же даю ей шестьдесят рублей и раз в неделю прихожу к сыну.
— Все ясно. У суда вопросов больше нет.
— Заходи как-нибудь, — говорит он на прощание. — Нина будет рада, ты ей понравился.
Я смотрю, как он уверенно скрывается в подъезде, словно не сомневается, что поступает правильно. Больше я не видел Вадима, не приходил и он ко мне. Зато я часто вижу его сына и Веру. С Андрюшкой мы по-прежнему дружим. Мы ходим с ним по улице и, как старые друзья, обсуждаем важные проблемы: почему проиграла сборная по футболу и можно ли переловить всех преступников. Только мне грустно смотреть на него. Мы оба что-то потеряли: он — отца, я — друга. У нас с ним есть молчаливый уговор, мы не разговариваем о Вадиме. Разве что он не удержится и скажет: «Вчера был отец» — и все.
С его матерью у меня все сложнее. Когда я встречаю ее на улице, то стараюсь не попадаться на глаза и перехожу на другую сторону. Мне все еще стыдно за Вадима. Она держится молодцом. Посещения Вадима ее ранят, но она не показывает и вида, что ей больно. Официально он приходит к сыну, и ему никто не имеет права запретить это делать, а для нее каждый его визит мучителен. И я почему-то всякий раз вспоминаю о ней и об Андрюшке, стоит мне на дежурстве столкнуться с разводным делом.
Адвокат права на глупость не имеет, как выразился Валентин Антонович. Я же делаю слишком много глупостей. Еще неизвестно, как кончится дело Вражина, а уже вся консультация знает о нем. Я так перепугался, что решил еще раз сходить в суд и посмотреть дело.
Гоголевский бульвар всегда бурлит, в какое время суток ни попади на эту улицу. Под ногами шуршат листья. Они взвихриваются от ветра, затем нехотя опускаются на тротуар и мостовую, покрывая их разноцветным ковром. Ковер не стоит на месте, а движется, временами образуя причудливый орнамент. Бывают моменты, когда кажется, что ковер застыл, и тогда особенно заметно движение отдельных листьев, бесприютно парящих в воздухе. Они бьются о стены домов, крыши троллейбусов, залетают на подоконники, но и там, не найдя приюта, срываются, и еще долго их ногами футболят прохожие. Одним, вконец измотанным, удается вписаться в общий орнамент ковра, другие так и продолжают летать в одиночку, больно ушибаясь об острые углы.
Глядеть на эти одинокие листья тоскливо. И ни шум большого города, ни люди, снующие рядом, не могут вывести меня из этого состояния. В такие минуты и сам себе кажешься похожим на никому не нужный лист. И рад бы остановиться, да не можешь. А листья все падают и падают. По городу идет осень, а в голову лезут мысли о Вражине. Ну почему он не хочет довериться мне? И не рассказывает о подельщиках, которые угрожали ему? Он же знает их фамилии и где их можно найти. Ведь без подтверждения его показаний вескими доказательствами его версия повисает в воздухе. Для установления истины нужны факты. Без них Вражина осудят за хулиганство.
Я так задумался, что чуть не сшиб женщину.
— Смотреть надо.
— Извините, — бормочу я и вхожу в суд.
Конвой провел подсудимого, и коридор опустел. Теперь можно пройти и в адвокатскую комнату. Дежурные адвокаты дружно отвечают на мое приветствие. Кто-то шутливо бросает:
— Молодой Плевако пришел.
Веселый смешок, и снова головы склоняются к столам, а пальцы проворно листают страницы уголовных и гражданских дел. Дежурный адвокат разъясняет молодой девушке порядок развода. Когда за клиенткой закрылась дверь, адвокат укоризненно бросает:
— Месяц назад вышла замуж, а уже разводится. Не сошлись характерами, видите ли.
— Чем удивили, — поднял голову от досье его сосед. — Каждый день пишу подобные заявления. Просто вы, уважаемый коллега, оторвались от жизни, на дежурства не ходите.
— Да, — соглашается Владимир Петрович, — третий месяц сижу в большом процессе и должен вам сказать, фантастическое дело, давно таких не вел.
— Везет же людям, большие процессы, а здесь оскомину набили хулиганы. И откуда они только берутся?
— Ну, не скажите, иногда маленькое дело интереснее большого, — вступает в беседу Валентин Антонович.
Я весь внимание, ибо слушать, как адвокаты рассказывают про свои дела, — одно удовольствие.
— Это верно, — не сдается сторонник больших процессов. — Есть и маленькие дела интересные, но только не хулиганство. Хулиганы — все на одно лицо.
— Как же с такими взглядами вы защищаете? Нужно немедленно оставить адвокатскую профессию. — И Валентин Антонович от волнения заходил по комнате. — Во-первых, маленьких дел нет. Все дела по-своему большие. Это для нас с вами дело может быть маленькое, большое, а для человека, который доверил вам свою судьбу, его дело — самое важное. А во-вторых, — и Валентин Антонович повернулся ко мне, — есть интересные дела и о хулиганстве. Мой молодой коллега не даст мне соврать. У него в производстве находится настоящее уликовое дело. Есть где показать свои способности. Конечно, как повести это хулиганское дело. Можно схалтурить и отбарабанить в суде определенное время, а можно загореться, как это сделал наш молодой друг, вложить душу, защищать по убеждению.
— А вы что, всегда защищаете по убеждению? — вмешивается в беседу Дотощенко Вера Михайловна.
— Я прежде всего адвокат и защищаю в человеке человека от преступника. В этом я всегда убежден.
— Красивые слова. В наше время защищать хулиганов по убеждению? Пустое и бесполезное дело. И было бы глупо от молодого адвоката этого требовать…
— А вы сами как считаете, Валентин Антонович? — снова задает вопрос дежурный адвокат. — Чикаться с хулиганами нужно?
— Почему же, как это вы выразились, «чикаться»? Только кару нужно умело сочетать с воспитанием.
— Это все прописные истины, а вот где причина хулиганства?
— Вы думаете, причину вам ученые на блюдечке с золотой каемочкой преподнесут? Может быть, оно так и случилось бы, если бы наши юристы, экономисты, социологи, философы, психологи всерьез занимались выяснением причин.
— Я как-то об этом не задумывался…
— В том-то наша и беда, что мы не задумываемся.
— Ну, теперь вы расфилософствуетесь, не дадите спокойно поработать. — Дотощенко посмотрела на дежурного адвоката, словно ища у него поддержки. И, обращаясь ко мне, добавила: — Идите в канцелярию и возьмите дело Вражина. Мы его вместе посмотрим…
Я выхожу из адвокатской.
СТРАНИЧКА ДВЕНАДЦАТАЯ — ТЕТЯ НЮША
В коридоре возится уборщица тетя Нюша. Она приветливо улыбается мне. Глядя на тетю Нюшу, можно смело сказать, что происходит в народном суде. Если она миролюбиво клюет носом на стуле, значит, полный порядок: все свидетели нашли свои залы и правосудие в полном разгаре. Если же ее тоненький голосок доносится откуда-то сверху, это означает, что кто-нибудь из свидетелей заблудился и не найдет нужный зал. Тетя Нюша придет ему на помощь.
Самое хлопотливое время дня у тети Нюши — утро. Здесь важно открыть двери народного суда, чтобы люди не торчали на улице, но и раньше положенного времени она тоже не впустит в помещение. Часам тетя Нюша не доверяет. Она приходит к нам в адвокатскую комнату и, сняв трубку телефона, набирает цифру сто. И лишь после того как голос в трубке произнесет: «Десять часов ровно», — она впускает первого посетителя. Страсть к точности — ее маленькая слабость.
Больше же всего тетя Нюша любит поговорить. В разговоре она дипломат. За долгие годы работы уборщицей в народном суде она неплохо освоила Уголовный и Гражданский кодексы. Тетя Нюша при случае советует родственникам идти до самого Генерального Прокурора. Некоторые адвокаты обижаются на тетю Нюшу за советы клиентам. После ее консультации клиенты к адвокатам не идут. Делает это тетя Нюша неумышленно, а из любви к справедливости.
Особенно умиляется тетя Нюша, когда слушает выступление защитника по делу несовершеннолетних, где адвокаты доискиваются до причины, почему тот или иной подросток оказался на скамье подсудимых. После речи адвоката она выходит из зала с просветленным лицом, словно только что причастилась. В такие дни она не находит себе места. Часто заходит в адвокатскую. Посидит, молча послушает, как идет прием, и так же незаметно выскользнет за дверь. Тихо ходит она по зданию. Внезапно ее лицо озаряет чистая, детская улыбка. Тетя Нюша останавливается, и кажется, что она что-то рассматривает в себе. Мы уже знаем — она вспоминает о своем сыне.
Мальчишкой ушел ее Санька на фронт и погиб где-то под Смоленском. О сыне она рассказывает десятки раз. Но тетю Нюшу никто не перебивает. Выговорившись, она сникает и как бы становится меньше ростом. На лице особенно отчетливо вырисовываются морщины, и резко бросается в глаза, что она старенькая, одинокая и что нет у нее никого и ничего, кроме работы. Народный суд для нее — дом родной. Всю ласку тетя Нюша отдает посетителям. Адвокатов она обычно встречает одним и тем же вопросом:
— Что дело? У кого? У Боданова? Подсудимого в зал еще не доставили…
Значит, можно не торопиться, зайти в адвокатскую комнату, а когда подсудимого поведут в зал судебного заседания, тетя Нюша обязательно заглянет в комнату и предупредит.
На втором этаже толпится народ. В одном из залов кончилось судебное заседание. До канцелярии меня сопровождает легкий гул. Внизу громыхает ведром тетя Нюша, по лестнице слышатся ее шаркающие шаги, но я уже в канцелярии. Здесь всегда людно, особенно в часы приема. Девушки-секретарши едва успевают отвечать на вопросы посетителей.
— А вы что стоите? — набрасывается на меня секретарша. — Прием окончен.
— Мне дело…
— Какое вам еще дело? — не отрывая глаз от бумаг, переспрашивает девушка. — Для вас что, особый порядок?
— Нинка, дурочка, так это же адвокат, — и ее подруга весело смеется.
— Ой, извините, я вас не узнала.
— Богатый будет, — вторит ей подруга.
— Тут один тип пристал, никак не отвяжется. Через каждые пять минут в дверь заглядывает. Какое вам дело?
— Вражина. У Тулина назначено, — отвечает за меня ее подруга. — Он его уже, наверное, сотый раз берет.
Секретарь быстро находит нужное дело и протягивает мне. Я благодарю девушек и выхожу в коридор. Девушки прыскают вслед. Люди в коридоре провожают меня почтительным взглядом, принимая за работника суда. В восьмом зале только что взяли под стражу подсудимого. Родственники кидаются вниз, к конвойной. Милиционеры строго придерживаются инструкции и никого близко не подпускают. Посетители вплотную придвинулись к адвокатской, и я с трудом пробираюсь в комнату.
Здесь стоит непривычная тишина. Адвокаты разошлись по своим делам. Спор, начатый при мне, прекратился. В комнате остался лишь один дежурный адвокат да мой бывший патрон — Вера Михайловна. Она перелистывает дело Вражина, задерживаясь на некоторых показаниях обвиняемого и свидетелей. Затем закрывает папку.
— Ничего особенного и нет. Только зря шум подняли. Обычное хулиганское дело. Если даже рабочие-свидетели и подтвердят версию подсудимого, что он не бил потерпевшую, то у суда все равно достаточно данных, чтобы осудить его за хулиганство. Другое дело, как наказать его — сажать ли в тюрьму или ограничиться условным наказанием. Здесь многое будет зависеть от того, как вы преподнесете его личность перед судом, но это уже частности. Я, пожалуй, пойду в консультацию. Меня там ждет клиент, — и, не попрощавшись, она выходит из комнаты.
Мы остаемся вдвоем с дежурным. Долго примериваюсь, где бы поудобнее пристроиться. Выбираю место у окна. Отсюда хорошо просматриваются три переулка. Люди, пробегающие по тротуару, с любопытством заглядывают в зарешеченные окна суда. Передо мной лежит дело о хулиганстве. К тому же, как выразилась Вера Михайловна, простое.
И как она может так говорить, не зная всех обстоятельств? Воображение рисует, как я произношу блестящую речь, суд освобождает Вражина из-под стражи, адвокаты жмут мне руку, поздравляя с успехом. По всему суду разносится слух, что молодой адвокат выиграл трудное дело, а я скромно отнекиваюсь, мол, ничего особенного и не произошло, такое дело попалось, на моем месте любой адвокат выступил бы так же…
— О чем задумались, молодой человек? — в голосе дежурного адвоката слышится улыбка.
Вздрагиваю и хватаюсь за дело.
— Так, ерунда всякая лезет в голову. — И оттого что сказал неправду, краснею. Врать я еще не научился.
Дежурный адвокат кивает и погружается в бумаги. Я с закрытыми глазами могу сказать, на каком листе находятся показания Вражина, а на каком того или иного свидетеля. На всякий случай перечитываю дело еще раз. Дежурный адвокат, видно, закончил свою работу, втравляет меня в разговор.
— Что вы так воткнулись в дело? Можно подумать, что вы открыть новую Америку собираетесь.
— Угадали… — и еще одному человеку рассказываю о деле Вражина.
Адвокат снисходительно улыбается.
— Это хорошо, что вы так горячо взялись за дело, но… — и он запинается.
— Что «но», договаривайте, — вызывающе бросаю я.
— А то, молодой человек, что вы напоминаете мне задиристого петушка, которому все нипочем… — Он встал из-за стола и подошел ко мне. — Всем нам так кажется, когда мы молоды. И я кричал когда-то, грозился уйти из адвокатуры, если со мной не согласятся в суде. Ан нет, двадцать лет прошло, работаю, защищаю, но с умом. Стараюсь докопаться до истины и суду помочь, а не лелею одно — защитить во что бы то ни стало, чтобы самолюбие потешить. — И он хлопает меня по плечу.
— Нас в университете учили, что следственные органы должны доказать виновность человека. Презумпция невиновности — краеугольный камень всякого правосудия.
— У следственных органов уже есть веские доказательства виновности Вражина, а у вас пока один пыл…
Я забираю дело и выхожу в коридор. В вечерние часы суд затихает. В пустых залах валяются обрывки бумаг. Их шевелит ветер, врывающийся в открытые форточки. У канцелярии ни души.
— Ну как, нашли что-нибудь новое? — встречает меня вопросом секретарша.
Вместо ответа протягиваю дело и выхожу из канцелярии. В коридоре меня поджидает тетя Нюша.
— А вас внизу спрашивает какая-то старушка.
Быстро спускаюсь в адвокатскую, за моим столом сидит пожилая женщина. При моем появлении она поднимается со стула.
— Сидите, сидите, — и я поудобнее устраиваюсь за столом, чтобы выслушать очередную историю…
СТРАНИЧКА ТРИНАДЦАТАЯ — ДЕЛО О СЕРЕБРЯНЫХ ЛОЖКАХ
Без малого сорок лет проработала Анфиса Власьевна на телеграфе. Пришла она в здание на улице Горького молоденькой девчонкой, а ушла пожилой женщиной. На людях, можно сказать, и протекла вся ее жизнь. Здесь же, на телеграфе, она встретилась с первой любовью, да так и осталась ей верна и больше уже никого не полюбила и замуж не вышла. Это, наверное, случилось потому, что видела она любимого лишь дважды. Первый раз, когда, принимая телеграмму, обратила внимание на ее странное содержание и, подняв глаза от текста, увидела дерзкое, мальчишеское лицо. Увидела и от неожиданности смутилась. Именно такой образ рисовало ее девичье воображение, и именно о встрече с таким юношей мечтала она.
Плохо помнит, как выписала ему квитанцию и как они договорились о свидании. Только вечером она летела к назначенному месту, словно одуванчик по ветру. Он пригласил ее в ресторан, и она впервые танцевала под оркестр, впервые опьянела, не столько от вина, сколько от его присутствия, впервые ее поцеловал мужчина. Вот и все. Больше она уже никогда не видела Сергея. На следующий день началась война, и она получила от него только одно письмо да сообщение товарища о его смерти. Это письмо и чувство, которое после известия о его смерти стало еще глубже и чище, — вот, пожалуй, и все, что осталось от Сергея. И то и другое Анфиса Власьевна бережно хранит, только письмо — в заветной шкатулке, где у нее лежали самые дорогие реликвии, а чувство — в сердце.
А вскоре к этому горю прибавилось новое: умерла мать и оставила у нее на руках сестру, инвалида с детства, за которой нужен глаз да глаз. В войну едва не умерли от голода. Анфиса в свободное от работы время ходила по дворам и собирала очистки, а летом перебивались крапивой. Утешало то, что не век войне быть, да и не они одни маялись, а многие. Другим даже было трудней. И, видимо, на роду у них так написано — не умереть, вот они и выжили. Война окончилась, и постепенно жизнь наладилась, и хлеба можно было есть досыта. К тому же для сестры иногда через инвалидную артель удавалось получить работенку. Клеить цветы. По вечерам Анфиса помогала сестре, и они так навострились, что выбивали на цветах почти тридцатку.
Но ведь не одной утробой жив человек. Нашли себе занятия по душе и сестры. У них в комнате всегда ютилось несколько кошек, больные голуби, да и иная бессловесная тварь находила у них приют, а под окнами в любую погоду вертелись бездомные собаки. И любой птахе, любой животине они находили не только ласковое слово, но и спасали их от голода. Омрачалась эта дружба соседями.
Квартира — цитадель, крепость, страна на замке, а у них часто дверь настежь — то Анфисе нужно голубей покормить, то кошек с собаками, а то какая-нибудь животина заболела в соседнем дворе, и, кроме Анфисы, свести ее к ветеринару некому. Вот соседи и волнуются, а вдруг к ним в квартиру забредет вор? И сколько Анфиса Власьевна ни успокаивала их, что живет она с ними без малого сорок лет и ни у кого еще не пропадала иголка, а ей резонно возражали, что, когда пропадет, будет поздно. И при этом недвусмысленно намекали на историю с ложками. Тоже верно, было такое дело. Одним словом, отношения с соседями у сестер были не совсем приятельские, но и неприязни к ним никто не питал. Жалели их люди.
Так и жила Анфиса Власьевна — тихо, мирно, творя добро всяк сущему на земле. Вставала чуть свет, готовила сестре на день еду, кормила голубей и кошек и бежала на службу, а после работы сразу же торопилась домой. А когда вышла на пенсию, то с головой ушла в любимое занятие. С утра до вечера можно было видеть ее на улице: то она крошила корм сизарям, то возилась под окнами с кошками и собаками, а в последнее время пристрастилась помогать дворнику на общественных началах. Когда же выдавалась свободная минутка, бежала в магазин сдавать банки и бутылки.
Анфиса Власьевна жизнь прожила тяжелую, а бранного слова никто от нее не слышал. Больше того, не раз утешала соседей, которые роптали на тяжесть земного существования, и всегда при этом произносила:
— Жить-то как хорошо, господи! — И блаженство разливалось у нее по лицу. — И за что вы только бога гневите. — И люди, знавшие, какое бремя невзгод она вынесла, пристыженно замолкали.
А она была счастлива. По-прежнему она поднималась чуть свет и принималась за свое хлопотливое хозяйство. И хотя давно уже провели газ, она, чтобы не беспокоить соседей, керосинку с кухни перенесла в комнату и на нее ставила воду для клея. И пока сестра присматривала за керосинкой, а затем в нужном количестве разводила клей, Анфиса успевала сбегать на улицу и проведать своих подопечных. Дикие голуби, завидев ее, слетались со всех домов. Птицы садились ей на голову, плечи, брали корм из рук, копошились под ногами. Управившись с голубями, бежала к кошкам, которые давно уже поджидали ее под окнами. Следом за ней трусили две-три бездомные собаки. Почетный эскорт из собак и кошек сопровождал ее, когда она шла по переулку.
С цветами им не очень везло. Работу давали от случая к случаю. Был в артели знакомый человек, и работа была у них. Ушел их кормилец на другое место, а с новым нормировщиком общий язык не нашли. Вот и дают им заказ только перед праздниками. Но они и без цветов обходятся. Правильно говорят: хочешь жить — умей вертеться.
И Анфиса Власьевна вертелась похлеще любой белки в колесе. Днем она обегала все магазины в округе, и там, где иная хозяйка выкинет трешницу и ничего не купит, она умудрялась обойтись на два рубля. Эти походы по магазинам ее так выматывали, что к вечеру она еле волочила ноги. А длинные зимние вечера проводила с сестрой. И пусть недуг приковал Наталью на всю жизнь к постели, лишив возможности передвигаться, умом господь ее не обидел. Чаще всего говорили о матери и о Сергее. За долгие годы Анфиса уже сотни раз рассказывала сестре историю своей любви, и каждый раз Наталья печально вздыхала:
— Счастливая ты, Анфиск!
А ей после слов сестры становилось не по себе, словно была ее вина в том, что Наталья инвалид и у нее так неудачно сложилась судьба, и она не испытала той радости, которая выпала на долю Анфисы Власьевны.
Однако в последнее время Наталья стала замечать, что с ее счастливой сестрой творится что-то неладное. Скрывала Анфиса даже от самого близкого человека свою беду. Замучили ее головные боли. Видно, работа на телеграфе дала себя знать. Как-никак, а почти сорок лет прожила она в шуме. Шум не давал ей покоя ни днем, ни ночью. Но все бы это ничего и она как-нибудь снесла и головные боли, и шум, если бы не терзало ее еще и другое. Пустяк, что произошел четверть века назад, обернулся мучением совести. Тогда она не придала этому особого значения, а вот спустя много лет все предстало совершенно в ином свете. И случилась-то сущая ерунда, а обернулось такой неприятностью. Никогда она не думала, что память сотворит с ней злую шутку и выплеснет наружу историю со злосчастными ложками. В свое время за эту глупость она натерпелась страха, но, оказывается, пережитое тогда не идет ни в какое сравнение с теперешними муками…
Ссора с соседкой началась с пустяка. Соседке не понравилось, что Анфиса варила кошкам рыбу, запах от которой распространялся по всей квартире. Слово за слово — и соседка, бой-баба, толкнула Анфису на газовую плиту, и Анфиса неделю пробюллетенила. В суд на соседку не подала, пожалела, да и не умела она долго таить на людей зло, но в отместку, тайком, с кухонного стола обидчицы взяла и спрятала три серебряные ложки, которыми соседка очень дорожила. О своей проделке рассказала сестре, и они вместе посмеялись, представляя, как расстроится Марья, обнаружив пропажу.
Смех обернулся не к добру. Исчезновение ложек так подействовало на соседку, что она слегла. Анфиса испугалась, ей было жалко соседку, но и положить открыто ложки на место она не решилась. Соседка наверняка бы ославила Анфису на весь переулок. Да и нового скандала не миновать. Не зная, как избавиться от ложек, она решила их выбросить. Два дня детально разрабатывала план и, выбрав ненастную погоду, рано утром, когда на улице не было ни одной живой души, Анфиса завернула злополучные ложки в тряпицу и, отойдя от дома несколько кварталов, выбросила их на помойку.
С души точно гора свалилась, но долго она еще не могла успокоиться и, всякий раз встречаясь с соседкой на кухне, отводила глаза. Совесть мучила ее. Но эпизод с ложками забылся, а если и вспоминался, то как недоразумение.
И вот теперь, спустя столько лет, память жестоко отомстила. Ей жить не давали ложки, они лезли на нее из углов, мешали думать о матери. Не испытывала она уже и той радости от общения с животными, хотя и исправно исполняла свои обязанности. Но заметили люди, что подолгу стоит она на одном месте, уставившись неподвижным взглядом на голубей, не замечая их, что-то шепчет про себя.
Одна мысль терзала ее бедную голову: «Анфиса Власьевна — воровка. Да, да, это она — самая что ни на есть преступница, и ее следует давно уже арестовать…» Анфисе Власьевне казалось, что соседка знает о краже ложек, что она с умыслом смотрит на Анфису Власьевну. В такие минуты у нее появлялось желание кинуться на колени перед соседкой и признаться ей в тяжком грехе. Останавливала ее не боязнь предстать перед судом людским, а страх за сестру. Почему-то ей втемяшилось в голову, что ее обязательно посадят за кражу, и она не находила себе покоя от мысли: «На кого я оставлю сестру-инвалида… Пропадет Наталья без меня». Тайком от сестры Анфиса ночами плакала. Не было ей спасения и на улице. Анфисе Власьевне казалось, что все прохожие тыкают на нее пальцем: «Смотрите, люди добрые, вон пошла нечестная женщина…» И она шарахалась от людей, соглашаясь с их мнением. Смущало ее лишь одно: если она такая плохая, то почему люди здороваются с ней. Анфиса Власьевна беспомощно озиралась вокруг и силилась найти в толпе хотя бы одну родственную душу, которая бы открыто, как и она, страдала из-за совершенной подлости. Но все ее усилия были тщетны. Люди спокойно проходили мимо. И неизвестно, сколько бы еще она мучилась, если бы вдруг ее не осенило: «Пойду и проконсультируюсь к юристу…»
— Вы все рассказали, что у вас случилось?
— А меня не посадят?
— Вы что, разве еще и кого-нибудь убили?
Старушка отшатнулась.
— Бог с вами, как вы могли подумать такое? Неужели я похожа на убийцу?
— Нет, конечно, — успокоил ее. — Но к нам со всяким приходят… А голова у вас раскалывается потому, что так уж устроена человеческая память. За совершенную подлость рано или поздно приходится расплачиваться. А что касается вашего уникального дела с серебряными ложками, то вы можете спать спокойно. За давностью срока вас никто не имеет права привлечь к уголовной ответственности, даже если бы и была доказана кража. Вы же вообще не украли, неловко пошутили. Поэтому со своей совестью разбирайтесь сами. Здесь никакой закон и никакая юридическая консультация не помогут, — и я встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен.
Поблагодарив, Анфиса Власьевна вышла на улицу. И не успела за ней закрыться дверь, как сидевший рядом дежурный адвокат выговорил:
— Что вы столько времени возились с больной женщиной? Не пойму я вас. За это время я принял троих клиентов, а вы выслушивали байки про какие-то ложки. Я таких клиентов сразу направляю в психиатрическую больницу.
— Ну, не скажите. Забавная, конечно, старушка, но абсолютно здоровая. Только вот чересчур совестливая.
— Вот увидите, замучает она вас теперь… Будет каждый день ходить со своими ложками.
— Не придет она больше. Завидую я ей. Счастливая женщина! Если бы все так же переживали и страдали, как она, за совершенные гадости, люди стали бы намного чище.
— А вы все никак не успокоитесь, фантазируете…
Я пожимаю плечами и выхожу на улицу.
А старушка и впрямь снова почувствовала себя счастливой. У нее было такое ощущение, словно с души сняли камень. Оказывается, стоило только открыться постороннему человеку, как стало легче. Мимо шли люди, но ей не нужно было таиться, поминутно оглядываться, ждать, пока кто-нибудь из них покажет на нее пальцем. Она радостно глядела прохожим в глаза.
Какое-то время смотрю ей вслед, а затем, повернувшись, направляюсь домой кружным путем, — по своему излюбленному маршруту пешком, — через Арбат, улицу Фрунзе, Каменный мост, Полянку.
СТРАНИЧКА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ — СУД ПО ДЕЛУ ВРАЖИНА
По дороге в суд дурные предчувствия не покидают меня. Перед судом немного успокаиваюсь. В дверях приветливо кивает тетя Нюша. Вражина уже привезли из тюрьмы, перед заседанием успеваю заскочить к нему в конвойную. Он страшно волнуется.
— Ну как, пришли свидетели? — встречает меня вопросом.
— Еще не знаю, но, наверное, пришли. — Договорить не дает конвойный милиционер.
— Кончайте беседу, товарищ адвокат, сейчас доставлять будем.
Я направляюсь в зал судебного заседания. В проходе толпятся любопытные. Замечаю сестру Вражина, киваю ей и с трудом пробиваюсь на свое место. Прокурора еще нет. «Интересно, кто будет поддерживать обвинение? Хорошо бы Лакшинов. Принципиальный человек, но он редко выступает по уголовным делам. Наверное, все же придется сразиться с Барышниковым…»
Устраиваюсь за столом и окидываю взглядом зал. На меня с любопытством смотрят десятки глаз. Волнение не унимается. Машинально перебираю дело, чувствую, как безнадежно краснею. Мысленно внушаю: возьми себя в руки… Вспоминаю совет Валентина Антоновича — волнуешься, займись чем-либо посторонним. Лезу в папку за книжкой, но вытащить не успеваю. В зал судебного заседания вводят Вражина. Конвойный стучит в совещательную комнату, и через минуту из боковой двери выходит суд, его возглавляет секретарь, замыкает шествие прокурор Барышников.
С формальностями покончили быстро, все анкетные данные записаны в протокол. По тому, как судья спрашивает, обращаясь к прокурору и адвокату:
— Вопросы по анкетным данным есть? Нет, садитесь, — понимаю, что он хочет быстро закончить дело.
По лицу прокурора, или мне только кажется, расплывается довольная улыбка. Быстрота процесса ему на руку. Я начинаю лихорадочно думать, как переломить ход процесса. Мне явно не хватает опыта. Замечаю, с какой надеждой смотрит на меня из-за барьера Вражин. Первая стычка с прокурором разгорается по вопросу, с кого начать допрос. Прокурор настаивает на свидетелях-дружинниках. Они настроены против Вражина, после их допроса у суда сложится определенное мнение и уже не будет такого доверия к показаниям Вражина и тем более к показаниям дополнительных свидетелей. Лучше, чтобы судебное следствие шло обычным порядком, то есть началось с допроса подсудимого.
Неожиданно для нас, суд соглашается с моим мнением.
— Вражин, встаньте! Признаете ли вы себя виновным?
— Виновным себя не признаю. — И его голос задрожал.
По мере того как он рассказывал, голос креп. Слушая Вражина, искоса наблюдаю за судом. Лицо судьи бесстрастно. Женщину-заседательницу мучает какой-то вопрос, и она все порывается перебить подсудимого, но сделать это не решается. Заседатель мужчина внимательно слушает Вражина и время от времени что-то записывает для себя на листке бумаги. Прокурор тоже бесстрастен.
Вражин поведал суду, что пришел в цех с одной лишь целью — уговорить Людмилу ехать с ним. И сам не понимает, как получилось, что он начал бегать по цеху. Хрипотца в голосе все еще выдавала волнение. Наболевшее на душе рвалось наружу. Слова текли легко, свободно. Он рассказал, как увертывался от дружинников, прыгал через станки, как его связали и привезли в милицию.
— Ну, а дальше что? — спросил судья Тулин, когда Вражин вдруг замолчал.
— Меня привезли в милицию, — повторил Вражин, — сказали, что разберутся и утром отпустят. И вот отпустили. — Губы его задрожали.
«Только не сорвись, только не сорвись», — мысленно внушаю ему. И, как бы уловив мои биотоки, он спокойнее заканчивает:
— Вот и все…
— Все, да не все. Из ваших показаний выходит, что вы чуть ли не подвиг совершили. Медаль бы следовало за такое поведение, а не на скамью подсудимых, — Тулин посмотрел на прокурора и уже другим голосом добавил: — Непонятно все же, зачем вы пришли в цех во время смены, не дожидаясь конца рабочего дня?
— Хотел сделать как лучше, поскорее Людмилу увидеть, а вышло наоборот.
Председательствующий еще несколько раз спрашивал, почему подсудимый бегал от дружинников, но Вражин Александр твердил одно — он не хотел попадать в милицию. Обратившись к заседателям, Тулин спросил:
— У вас есть вопросы?
Женщина-заседательница выпалила мучивший ее вопрос:
— А чем вы докажете, что хотели уехать в другой город вместе с девушкой?
— В деле есть билеты на поезд, которые у меня изъяли во время обыска…
— А… — многозначительно произнесла она.
У мужчины-заседателя вопросов к Вражину нет. А я так надеялся на его помощь. Правда, он может задать их и позже, после допроса свидетелей, когда прояснится общая картина.
Дождавшись своей очереди, прокурор, повторяя одни и те же вопросы, говорит о его прошлой судимости. Судья делает ему замечание.
— Товарищ прокурор, суд уже выяснил эти вопросы. Не повторяйтесь, пожалуйста. Если есть новые, задавайте. Нет — дайте возможность защите допросить подсудимого.
После вопросов прокурора Вражин нуждается в восстановлении сил. Таким аккумулятором для него мог быть только я. Но аккумулятор неожиданно сел. Язык словно присох к нёбу. Давно заготовленные вопросы улетучились из головы. Казалось, весь зал смотрит на меня. Чувствую на плечах тяжесть, которую не могу стряхнуть. Не помогает и совет Валентина Антоновича. Видимо, у каждого адвоката свое лекарство от волнения. Но все было бы ничего, если бы не голос. В нем звучит предательская дрожь. Правда, с каждым новым вопросом уже не краснею, но волнение не проходит. Дрожат кончики пальцев, на ладонях липкая влага. Старая истина применима и здесь — плавать можно научиться только в воде. По лицам заседателей вижу, насколько удачен тот или иной заданный вопрос:
— Уточните, Вражин, почему вы все-таки решили уехать в другой город?
Вражин мнется. Боюсь, что он правду не расскажет.
— Бывшие подельщики угрожали со мной расправиться, — наконец выдавливает он из себя.
— А чем вы это докажете? И почему ни о каких подельщиках не говорили у следователя? — неожиданно влезает с вопросом прокурор.
— Боялся, потому и не говорил.
— А сейчас вы не боитесь, — не унимается прокурор. — Назовите имена, фамилии, где проживают.
— А что говорить, все равно вы не поверите.
— Почему же, вызовем, допросим, а то получаются только ваши слова, а их к делу не пришьешь.
Вражин как-то безнадежно машет рукой и не отвечает на поставленный прокурором вопрос.
— Мне можно продолжить допрос? — обращаюсь к судье.
Председательствующий молча кивает головой.
— Сколько времени вы были знакомы с Людмилой?
— Два года с лишним.
— И у вас были серьезные намерения?
— Мы хотели пожениться. И если бы я не ушел с завода, то давно бы уже расписались.
— Подельщики, как вы выражаетесь, угрожали и Людмиле? — возвращаюсь я снова к интересующему меня вопросу.
— С нее они и начали. Если бы они ей не пригрозили, она бы ни за что не ушла от меня.
— Товарищ адвокат, за наводящие вопросы суд делает вам замечание. — И, закрыв дело, Тулин неожиданно для всех объявляет перерыв.
Я доволен. Судья сделал мне только замечание, а вопрос не снял, и он записан в протокол. И если потерпевшая подтвердит, что ей действительно угрожали, значит, можно сделать вывод, что в этой части Вражин говорит правду. Конвой уводит Вражина из зала. В дверях он оглядывается и с признательностью смотрит на меня? Я киваю ему, мол, все в порядке, хотя на душе у меня неспокойно. К адвокатскому столику подходят любопытные.
— Ну как, товарищ адвокат?
— Что как? — переспрашиваю я, собирая бумаги.
— Найдут их?
— Поживем — увидим.
С ужасом замечаю, что с задней скамейки поднимается и идет к адвокатскому столику Вера Михайловна. «Значит, она присутствовала, все видела и слышала…» Патрон улыбается:
— Пока все идет хорошо. Не разбрасывайтесь. Пособранней задавайте вопросы. И не задирайтесь. Вы — адвокат, докапывайтесь до истины, защищайте человека, но по справедливости.
Я киваю в знак согласия. Когда она отходит, по достоинству оцениваю ее поведение. «Что было бы со мной, если бы она подошла до начала судебного заседания? От страха бы проглотил язык…» — проносится в голове.
До обеда едва закончили допрос подсудимого. Процесс явно грозит затянуться. При допросе свидетелей-дружинников приходится пережить несколько неприятных минут. Свидетели повторяют показания друг друга: бегали по цеху за ним больше часа, мешал работать. Вопросов им не задаю, как и советовали Липка с Валентином Антоновичем. Бесполезно их спрашивать о чем-либо, можно только навредить Вражину.
На следующий день суд допросил рабочих-свидетелей. На вопросы судьи и прокурора они отвечали одно и то же: хулиганить Вражин не хулиганил и работе не мешал. А что бегал по цеху, то, экая невидаль, каждый день кто-нибудь да бегает: ребята молодые, кровь играет.
Дает показания потерпевшая. Людмила почти дословно повторяет рассказ Вражина и очень убедительно объясняет, почему на следствии говорила немного иначе. Она, как и он, боялась его бывших подельщиков. Они действительно ей пригрозили, а так бы она никогда не рассталась с ним. Он и к дочери относился как к родной.
Вражин слушает Людмилу, полуоткрыв рот. Так в детстве ребенок слушает увлекательную сказку. Прокурор скептически улыбается.
— Вы помните, потерпевшая, суд вас предупреждал, что за дачу ложных показаний мы можем привлечь вас к уголовной ответственности?
— А я говорю правду.
— Тогда выходит, что на предварительном следствии вы давали ложные показания. Как прикажете понимать?
— Я и следователю так говорила, но он почему-то не все записал.
— Зачем тогда расписались?
— Следователь сказал, что это не имеет большого значения и я смогу в суде дополнить свои показания. Вот я и дополнила. Но я и у следователя говорила, что Вражин меня не бил и не угрожал.
— Правильно, есть такие показания. Лист дела…
— А вас, товарищ адвокат, суд пока не спрашивает, правильно или неправильно. Делаю вам еще одно замечание.
«Так нас же учили в университете, что адвокат — это помощник суда. А он… замечание, замечание…» Во мне закипает злость на прокурора. Вся надежда на заседателей.
СТРАНИЧКА ПЯТНАДЦАТАЯ — ПРИГОВОР
Перед прениями сторон Тулин снова объявляет перерыв. У закрытых дверей совещательной комнаты топчутся заседатели. Секретарша беспомощно разводит руками, ключи от совещательной комнаты судья взял с собой. Прокурор сидит в зале. У него все готово для обвинительной речи. Я в который раз перелистываю тезисы своего выступления. До меня доносятся голоса из зала. «Интересно, сколько прокурор запросит?» — «А что будет говорить адвокат?» — «Сколько попросит прокурор, столько и дадут». — «Ну не скажите». — «С лица-то осунулся». — «Чай, не на курорте, в тюрьме». — «А у нас один вышел из колонии, так такую ряшку нажрал». — «Адвокат-то больно молодой, пересилит его прокурор». — «Молодые-то они лучше, с душой к делам относятся».
И вдруг все стихло. В зал с делом в руках входит Тулин и, обращаясь к секретарю, спрашивает:
— Прокурор, адвокат на месте? Сейчас кончать будем.
От этого «кончать будем» у меня екнуло внутри, словно уже огласили обвинительный приговор. Как во сне слушаю речь прокурора. Подсудимый в его глазах превращается в опасного преступника, который тянет все наше общество назад.
…— Вы не должны, товарищи судьи, забывать, что мы рассматриваем дело о хулиганстве. Мы не станем миндальничать с ними. Общество объявило хулиганам войну…
«Необходимо прежде всего выяснить причину, установить закономерность, а уж затем браться за нож. При неправильном диагнозе хирургическое вмешательство только навредит, даже самые искусные руки окажутся бессильны. Так и с хулиганством. Начинать следует с воспитания», — думаю я.
Прокурор не анализирует показания рабочих, словно этих свидетельских показаний и не было в судебном заседании. Обошел он молчанием и показания потерпевшей в той ее части, где она говорила об угрозе подельщиков. Зато каждое слово свидетелей-дружинников исследовал со всех сторон…
Вздрагиваю. Прокурор переходит к наказанию, которое, по его мнению, подсудимый заслужил за свои хулиганские действия: пять лет лишения свободы! Не признал свою вину, не раскаялся, раньше уже был судим, ввел в заблуждение следствие и суд. Плохо помню, как председательствующий предоставил мне слово. Зал плывет. Судорожно глотаю воздух и ощущаю громадное облегчение, когда наконец произношу:
— Товарищи судьи! Здесь прокурор в своей обвинительной речи призывал вас к бескомпромиссной борьбе с хулиганством и пытался даже убедить вас, что ничего, мол, страшного не произойдет, если в этой борьбе пострадает и не хулиган. Нет, товарищи судьи! Это очень страшно! И не мне вам об этом говорить. Да, с хулиганством нужно бороться, но не такими средствами и методами, какие предлагает прокурор. И я бы не говорил вам об этом, если бы вы, товарищ председательствующий, не бросили реплику, что подсудимый за свои действия заслужил чуть ли не медаль. Я полагаю, ваша ирония здесь не вполне уместна… Может быть, медаль и не стоит давать ему, но он действовал не из хулиганских побуждений. Да, защита не смогла предоставить в суде бесспорных доказательств, что Вражину угрожали бывшие подельщики. Однако косвенно его показания в этой части подтвердила потерпевшая. К тому же обвинение ничем не опровергло показания Вражина, а по нашему закону все сомнения трактуются в пользу подсудимого.
Остальное выпаливаю на одном дыхании. Несколько раз меня прерывает судья, но я продолжаю говорить. По одобрительному гулу зала понимаю, что говорил неплохо. Зал шумит, в проходе ждет Вера Михайловна.
— Что ж, молодой человек, вы говорили, как Демосфен.
«Не совсем Демосфен», — мысленно отвечаю ей и пробираюсь в адвокатскую комнату. Теперь осталось — ждать приговора суда.
Уже давно опустел последний зал, закрыла свое нехитрое хозяйство тетя Нюша, а суд все не выходит из совещательной комнаты. Я из адвокатской снова перебрался в зал судебного заседания. Постепенно расходятся любопытные, по одному исчезают из зала свидетели. В коридоре и залах стоит непривычная тишина. Изредка ее нарушают голоса милиционеров. Конвой волнуется. Уже три часа стоит у двери автозак и ждет единственного пассажира. По инструкции конвой не может вернуться в следственный изолятор без Вражина. Только — когда суд выносит оправдательный приговор и человека освобождают из-под стражи прямо в зале суда.
Время тянется мучительно долго. Семь, восемь часов вечера, а суд все не появляется. По обыкновенному хулиганскому делу суд заседает уже полдня! Я готов ждать вечность, только бы… Об этом «только бы» боюсь даже думать. Правда, где-то в глубине души теплится надежда на положительный исход. В конце своей речи я попросил суд оправдать Вражина, но на всякий случай ввернул и другое: если суд не согласится с мнением защиты и все же признает Вражина частично виновным, то прошу не наказывать его строго. Так иногда поступают адвокаты, когда не уверены в исходе дела.
У двери в совещательную комнату сидит секретарша.
Неужели они там останутся ночевать, по закону они могут сделать перерыв. По коридору гулко топают кованые сапоги. «Ведут». В зал входит конвой. Через минуту в зал вводят Вражина. В нем произошла какая-то перемена за эти несколько часов ожидания приговора. Глаза блуждают. «Перегорел», — мелькает у меня. Но еще добрых полчаса ждем выхода суда. Наконец щелкает замок.
Заседатели смотрят прямо перед собой. Зал пуст. Кроме сестры Вражина, в нем никого. Тулин начинает читать приговор. Первые слова медленно повисают в воздухе, и я понимаю, что приговор обвинительный. Так музыкант по первым тактам узнает все произведение. Вражин еще ничего не понимает, но вот и до него начинает доходить смысл приговора. Суд признал его виновным в хулиганских действиях, но не в полном объеме. Из обвинения суд исключил самое страшное — нанесение побоев потерпевшей, а это ведь было главным квалифицирующим признаком злостного хулиганства, и с части второй статьи двести шесть перешел на первую часть этой же статьи, а это уже совсем другое дело. Наказание по первой части статьи двести шесть всего лишь до одного года. Теперь вопрос сводится к мере наказания. Сколько определит суд? Но я уже плохо слышу остальное. Важно, что они не признали Вражина злостным хулиганом. Несомненно, суду помогли показания рабочих.
Год лишения свободы. Но это уже ничего. На предварительном следствии Вражин отсидел два месяца в изоляторе, и это зачтется. Выходит, что ему остается отбыть наказание десять месяцев. Да и мне теперь легче. К первой части статьи двести шестой судьи относятся не так строго, как к злостному хулиганству. С этими мыслями и подхожу к Вражину и говорю слова, которые хотел сказать давно:
— Главное, будь человеком! Не ожесточайся! Верь в справедливость! Тебе определили небольшое наказание. Мы обжалуем приговор в городской суд.
1964
ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Снег опускался на город весь день и всю ночь, словно торопясь извиниться за свое опоздание. Давно уже плотно укутались в белое одеяние крыши соседних домов, разлохматились под его тяжестью ветки деревьев, а он все продолжал падать на землю, как бы утверждая своим безмолвием, что пришел надолго и всерьез.
Она-то, умудренная прожитыми годами, знала: вечного в жизни нет, сойдет и этот первый снег, снег без значения, хотя у нее с ним и были свои особые, не совсем понятные и сложные отношения. Всякий раз, когда в воздухе появляется белый рой, на ее душу нисходит какая-то умиротворенность, а в памяти при виде снежинок назойливо всплывают строчки стихотворения, прочитанного много лет назад:
Выпал снег, и все забылось, чем душа была полна. Сердце проще вдруг забилось, словно выпил я вина…И дальше удивительное по своей простоте и мудрости, очень глубокое по содержанию четверостишие:
Снег летит — гляди и слушай! Так вот, просто и хитро, Жизнь порой врачует душу… Ну и ладно! И добро…Врачевал снег душу и ей. Она даже придумала нечто вроде ежегодного ритуала, своего рода праздника встречи с первым снегом. Про себя она так и назвала его: праздник души.
Первый снег всегда крупный, пушистый и беспомощный, словно только что вылупившиеся из яиц цыплята, которые жмутся вокруг наседки и ни на шаг не отходят от матери. Снежинки же доверчиво льнут к людям и, обманутые их коварством, за свою доверчивость расплачиваются слишком дорогой ценой, тают и слезами скатываются по лицам прохожих. Некоторые, как и она, останавливались и блаженно улыбались снегу, этому чуду природы, но большинство равнодушно проходило мимо, всем своим видом показывая: ровным счетом ничего особенного не случилось. А она любила закрыть глаза и, стоя на месте, открытым ртом ловить снежинки. Глупые, они беззлобно кололи язык, губы, щеки и умирали, так и не успев понять, почему превращались в воду. Впрочем, то же самое происходит и с людьми. Не только она, а многие не могут объяснить вечную загадку природы — смерть, а если признаться честно, то мало кто думает об этом до самого последнего вздоха, наивно полагая, что смерть не про них и они будут жить до скончания века.
Но жизнь удивительная штука! То, над чем она не задумывалась раньше, теперь стало чуть ли не главным смыслом ее существования. Мысли о смерти пришли к ней не вдруг и не сразу, а подкрадывались исподволь, обволакивая паутиной все ее сознание, и с годами навалились на ее плечи непомерной тяжестью, и она даже чувствовала от них усталость. А ведь когда-то, что там греха таить, ей казалось, что она всегда будет молодой, красивой и здоровой женщиной, и старость не коснется ее, обойдет стороной. Но годы не только изменили ее внешность и стать, но неожиданно для нее нарушили и привычный строй мыслей. И теперь, когда ей удавалось кое-как вспомнить свою жизнь, прожитые годы представлялись цепью грубых и утомительных ошибок. И виновата в этом лишь она одна. Она не умела жить, работать и даже любить. Сознание собственной вины легло на нее всей своей тяжестью. А о сожалении и говорить не приходится. Оно разрывало ее сердце, но оно бесплодно, и ничего уже нельзя исправить, жизнь потихонечку идет к своему концу. Смешно же начинать все сначала, но если бы было можно и ей представилась такая возможность, то жизнь бы пошла иным путем. Но от этого запоздалого раскаяния ей не легче, а много-много трудней.
Валентина Александровна подошла к окну. Снег все еще продолжал падать. От его холодной белизны она поежилась, и ей впервые за много лет не захотелось выходить на улицу. Больше того, она даже почувствовала к снегу какое-то неосознанное раздражение. «Совсем расклеилась! Надо бы взять себя в руки…» Боль в пояснице все еще не отпустила, и она с трудом передвигала ноги по квартире. Ей бы не мешало соснуть часок-другой, но о здоровом сне она могла лишь мечтать, как о незаслуженном даре. В последнее время ко всем недугам прибавилась еще и бессонница, которая буквально измотала ее, и если ей удавалось иногда ночью сомкнуть глаза на несколько минут, то она чувствовала себя счастливой. Но чаще она бродила по огромной квартире, как сомнамбула, мешая спать домочадцам, и забывалась только днем, где-то часам к одиннадцати. Но такой сон не приносил ей облегчения, и она поднималась с постели с больной головой, ощущая себя не только страшно разбитой, но и заброшенной и одинокой. И тогда ее голову сверлила одна и та же мысль, мысль о бессмысленности и нелепости человеческой жизни. У нее в голове произошло словно замыкание, и она все чаще и чаще ловила себя на том, что уже не может не думать об этом, даже если бы и очень захотела.
Зачем она топтала землю, если ничего не оставит после себя, кроме крохотного холмика земли или в лучшем случае скромного надгробия на городском кладбище? Нет, не тщеславие ей застило глаза, а желание разобраться и осмыслить. Рано или поздно каждый человек задумывается над смыслом жизни, только у одних это происходит безболезненно, и они смиряются с отпущенной им судьбой, воспринимая все философски: значит, так надо, но есть и такие, кто мучительно тасует прожитые годы, стараясь задним числом переиначить свою жизнь. Правда, из этой затеи редко получается что-либо путное.
Валентина Александровна не тешила себя иллюзией и не прибегала к уловкам, а смотрела истине в лицо открытыми глазами. Жизнь сложилась так, а не иначе, и здесь ничего не поделаешь, сколько ни крои. Худо, бедно ли, а она прожила отпущенный ей век и не хуже, и не лучше других, словом, как все. Как все! Оказывается, она все еще мысленно ведет спор с ним. Ведь ей казалось, что обыденность обойдет ее стороной, и у нее будет не как у всех, а на поверку вышло совсем иное. Заведенность жизни захватила ее, и она далее не заметила, как это произошло, хотя если разобраться непредвзято, то по-другому не могло и быть.
Она едва начала различать человеческую речь, как ей в голову, почти с колыбели, словно гвозди, методически забивали слова о деньгах, кооперативной квартире, машине, дорогой мебели, поездке за границу. И очень рано она уяснила для себя из разговора родителей, родных, что говорить можно и нужно не все, о чем думаешь. Правдой люди только вредят себе, да по сути дела она, правда, никому и не нужна, лишь путами связывает по рукам и ногам на пути к благополучию и достатку, и выходит, пользы от нее, как от фальшивой монеты, а мороки не оберешься. И слова не расходились с делом. От всего, что мешало карьере, освобождались безжалостно и жестоко, будь то даже такие человеческие чувства, как любовь, справедливость, честь, добродетель. Зато у них в семье не знали, что такое жить от получки и до получки, а тратили столько, сколько тратилось. В доме негласно царила подпольная религия, своего рода культ, и взрослые, а вместе с ними и дети, как язычники, молились на одного бога — деньги. После нескольких лет младенчества ее поместили в закрытый интернат, где обучались обеспеченные дети, чьи родители находились на работе за рубежом. Там ей не пришлось переучиваться или отвыкать от привитых взглядов и привычек. Она попала в среду таких же детей, как сама, воспитанных на тех же догмах, одним словом, к единомышленникам. Все они чуть ли не с первого класса, а некоторые уже с пеленок, знали, что, закончив спецшколу, поступят в институт международных отношений либо, на худой конец, в иняз, и дальше перед ними открывалась прямая и накатанная дорога, под бочок к родителям, в иностранное ведомство или в любое иное учреждение, как-то связанное с работой за границей. У них даже была своя теория, основная заповедь которой гласит: дети не устраиваются в жизни хуже родителей. И дети воспринимали как должное, само собой разумеющееся, что можно есть красную и черную икру каждый день, а не раз в году по великим праздникам, и не стоять за ней в очереди, а покупать за валюту в спецмагазине типа «Березка», куда простым смертным вход наглухо закрыт. Впрочем, как не было доступа в их круг инакомыслящим, и они варились в собственном соку, общались домами и семьями, а если представлялась возможность, то и роднились посредством брака своих детей. Время от времени касту разбавляли рабочей прослойкой, посылая на учебу в институты определенный процент рабочих с заводов и фабрик. На первых порах новички рьяно бросались в атаку, держатели акций, огрызаясь, теснились, уступая местечко под солнцем новоявленным пришельцам из другого класса. Но постепенно разница между теми и другими стиралась настолько, что невооруженным глазом их трудно было различить. Новички обрастали жиром, нужными связями и, забыв свое происхождение, уже стыдились причислять себя к славному и героическому пролетариату, а выискивали в своей родословной всеми правдами и неправдами предков с голубой кровью. На ее веку было несколько таких организованных сверху вливаний, но только она не помнит, чтобы они хоть чуть-чуть освежили атмосферу.
Валентина Александровна тоже не нарушала обычая. Как-никак, а воспитание сказалось, и она после окончания института удачно, с общепринятой в их кругу точки зрения, вышла замуж в своем же клане. Точнее, даже не вышла, а выскочила, не имея ни малейшего представления о семейной жизни. Но и до сих пор она не может вспоминать о замужестве без отвращения, хотя к мужу, как ни странно, никакой злобы уже не испытывала. Годы сняли боль, оставив одну зияющую пустоту, словно ничего и никогда не было. Зато проявила самостоятельность и вырвалась из-под родительской опеки. Ей захотелось посмотреть мир и показать себя, и простую влюбленность она приняла за любовь, наивно полагая, что чувство, как и аппетит, придет во время еды. Но любовь действительно не картошка, влюбленность быстро прошла, а муж не сумел да, наверное, и не способен был пробудить сильную страсть, вот и осталась у нее тоска по большому чувству.
Однако заграницу посмотрела! Век бы ее не видеть. Загнали ее супруга в Африку, где они провели долгих три года, показавшиеся ей целой вечностью. Она не вылезала из-за ограды посольского особняка. И климат ужасный! Жара высушила ее как тряпку и измотала не только тело, но и душу. Не чаяла поскорее вырваться домой и, когда ей представилась такая возможность, ни секунды не задумываясь, укатила восвояси. А муж остался еще на один срок. Зато привезла из Африки и машину, и кооперативную квартиру, и барахла всякого, и еще, как говорится, осталось детишкам на молочишко. А детишки у нее к этому времени уже были, двое, девочка и мальчик. Они-то и связали ее по рукам и ногам. Занялась воспитанием детей и в тридцать пять лет осталась вдовой при живом муже. Но она никогда не жалела о принятом решении. Она предпочла одиночество и не захотела копаться в грязи, хотя могла закрыть глаза на его шалости и жить, как все, как жили большинство ее знакомых замужних приятельниц. За супружескую неверность платили изменой и как ни в чем не бывало мило улыбались по утрам за завтраком друг другу, растили совместно детей, копили добро.
Она разорвала разом, как только уличила его во лжи и чуть ли не из постели у него вытащила молоденькую девчушку. Ну и нагнала она на него страху, когда неожиданно появилась в его «холостяцкой» квартире, которую он снимал тайком от нее на паях со своим приятелем. Тогда он не на шутку перетрусил за свое положение, испугался, что она закатит грандиозный скандал, подаст на развод, на службе ему непременно влепят выговор по партийной линии, и уж, конечно, никто его больше не выпустит за кордон с такой подмоченной репутацией, а у него как раз наклеивалась поездка в одну из стран Западной Европы. После пребывания в «ссылке», как окрестили в их кругу работу на африканском континенте, затем обязательно посылали на отдых в капстрану. Но она, вопреки его ожиданиям, ушла тихо, мирно, без истерики. Собрала свои вещи и вместе с детьми поселилась у родителей. И как ни уговаривали ее отец с матерью вернуться к мужу, сколько ни просил он у нее прощения и как ни соблазнял прелестями жизни в цивилизованной стране, она так и не вернулась к нему.
Но какая ирония судьбы! Не вышло у нее ничего путного и с детьми. Кровь мужа оказалась сильней, к тому же она, по-видимому, напрасно передоверилась и своим родителям, дед с бабкой слишком много общались с детьми. Сын получился копия отца: деловой, эгоистичный, и очень скоро они все трудней и трудней стали понимать друг друга, а женитьба и совсем отделила его от нее. С дочерью все получилось сложней. Унаследовав что-то от нее, она неудачно вышла замуж, родила дочку, но поступить так, как когда-то поступила она, не смогла, вот дочь и мается под одной крышей с совершенно чужим человеком. Видимость семьи сохранилась, а фактически больше всех от этого сожительства страдает их дочь, двенадцатилетняя Милочка. Девочка растет не но возрасту серьезной и впечатлительной и, тяготясь отношениями между родителями и нездоровой обстановкой в доме, часто приезжает в гости к ней, а иногда живет по целым неделям.
При мысли о внучке Валентина Александровна даже улыбнулась. Несколько раз она предлагала дочери забрать девочку к себе, пока у них не наладятся отношения с мужем, но та почему-то не соглашается с ней, и своим упрямством лишь вредит ребенку. А ведь Милочка любит ее, да и она привязалась к внучке, да так, что порой ловит себя на мысли: в ней поднимаются чувства, которые она никогда не испытывала к собственным детям. Девочка явно пошла не в их породу. У них в роду таких не было. Нежная, добрая, искренняя, и эта незащищенность перед людьми, тяга к справедливости, правде поражает ее и часто приводит к непредвиденным результатам. Вот совсем недавно она рассказала, как у них в классе проходил пионерский сбор, на котором развернулась дискуссия о красном галстуке. Один мальчик встал и сказал то, о чем знали все, но молчали: в седьмом классе все стесняются носить пионерский галстук, и как только кончается сбор, снимают его и прячут в карман. Вожатая изобразила на своем лице удивление, словно только впервые об этом услышала, и прочитала ребятам лекцию о красном галстуке, напомнив им, что красный цвет галстука не случаен, а он символизирует кровь рабочих и крестьян, и по сути дела, пионерский галстук — это реликвия… Но все тот же мальчик перебил ее, возразив, как же можно серьезно считать реликвией вещь, которую можно купить в любом магазине за полтинник… Вожатая после столь убийственного возражения так и осталась стоять с раскрытым ртом, а когда пришла в себя от изумления, то больше часа пыталась вбить ребятам в голову, что когда-то за кусок материи, окрашенной в красный цвет, рабочие шли на смерть, и что они, дети рабочих и крестьян, свято должны беречь традиции… Но упрямый спорщик и после внушительной беседы не сдался, и когда вожатая предоставила ему слово, надеясь услышать искреннее раскаяние, то он под общее одобрение всего класса такое загнул, что хоть стой, хоть падай. «А у нас в классе нет детей рабочих и крестьян… У меня, в частности, отец кандидат исторических наук, а у него, и у него… и у ней… родители ответственные работники…» Мальчишку исключили из пионеров, но его отца не только не освободили от преподавательской работы в институте и не отобрали у него партийного билета, а всего-навсего попросили обратить внимание на неправильное воспитание сына. Ее же больше всего поразил не сам рассказ внучки, а реплика, которой девочка закончила грустное повествование: «А ведь он прав, бабушк… У нас в классе действительно нет детей рабочих и крестьян… И все не только стесняются носить галстук на улице, но и оборжут любого, кто это сделает… Вот и выходит, что Юрка-то пострадал за правду…» Она сделала вид, что не расслышала последние слова девочки, и перевела разговор на другое. На самом же деле рассказ внучки потряс ее. Какое кощунство! Их поколение на подобное еще не было способно. Ну, неверие было, высмеять что-то могли, но чтобы публично отважиться на такое… Нет, она, во всяком случае, что-то не припомнит смельчаков среди своих сверстников. В свое время подобное происшествие расценивали бы как ЧП, и это дело наверняка бы дошло до верхов, а здесь ограничились лишь беседой с родителями в школе, и никаких оргвыводов. Да, чем дальше отдаляется революция, тем циничнее становится человек, забываются традиции, и никакой преемственности идеалов. Рабочим происхождением не только не гордятся, а стыдятся. Это началось уже давно, и если разобраться откровенно, то ничего особенного в данном явлении нет. Ее поколение уже ни во что не верило, а давно известно, что от неверия до цинизма — один шаг. Но он-то бы уж точно не удивился поступку мальчишки и не пытался все свалить на одну детскую непосредственность, а объяснил бы данный факт со всех сторон.
Валентина Александровна посмотрела на полку с книгами и мысленно провела рукой по корешкам. Настроение падало катастрофически. Сколько же он все-таки написал! Нужна, наверное, сатанинская одержимость, чтобы писать, когда тебя не печатают и раз за разом присылают отказы изо всех редакций. Именно так с ним и поступали.
И все же признание пришло к нему, правда с опозданием, но пришло. Он, как тот американский миллионер, который ложился спать бедняком, а проснулся богачом, стал известным сразу, в один день. Но ее, когда она думала о нем, поражало даже не это, а другое, как он, зная безнадежность своих произведений, все же продолжал изо дня в день садиться за стол и писать. Казалось, он действовал безо всякой надежды на успех, но теперь-то, задним числом, она поняла: без писания он не мог жить, и именно в работе видел смысл своего существования, подчинив этому всю свою жизнь.
Оказывается, судьба одарила ее знакомством с настоящим писателем, а она тогда не придала этому особого значения и так бы, наверное, вспоминала о нем, как о чудном парне, промелькнувшем в ее жизни, не прочти она его повесть о ней, ей же и посвященную. Вот уж никогда не думала, что художественное произведение имеет такую удивительную способность воздействовать на человека, имеющего к нему какое-то отношение. Да что там скромничать, не какое-то, а самое непосредственное! Встреча с ней пробудила в нем любовь, о которой она и не подозревала. И всякий раз, перечитывая повесть, она делала все новые и новые открытия, видела себя его глазами и восхищенно поводила головой, поражаясь фонтану чувств, хлынувших на нее со страниц книги. Слова ослепительной вспышкой высвечивали из ее жизни целый пласт, оживляли до мелочей в памяти ту осень, и она даже боялась дать волю воображению и на секунду представить, как повернулась бы вся ее, да и его жизнь, ответь она взаимностью на его любовь.
И оттого, что она выучила повесть почти наизусть, с ней произошла удивительная вещь: ей начинало казаться, что все написанное в книге случилось с ней на самом деле, и она испытала нечто подобное, и даже детали, выдуманные его писательским воображением, имели место в действительности. Но очарование слов проходило, и тогда ее охватывала щемящая тоска, и хотела она того или нет, а приходилось признавать, что мимо нее прошло настоящее чувство, а она даже и не заметила его. Вместе с этой мыслью к ней всегда подкрадывалась досада на свою близорукость и накатывалось это отвратительное состояние, которого у нее давно уже не было. Но раскисать ей никак нельзя, особенно в его день, и поэтому, даже если бы она не могла двигаться, она все равно бы вышла из дома, и пошла на вечер, посвященный его памяти.
Валентина Александровна с трудом поднялась с кресла. Пора было собираться в путь. И хотя до Центрального дома литераторов, или, как он его называл, «Гадюшника», где будет проходить встреча, не бог весть как далеко, все же она не может позволить себе такую роскошь, как опоздать и искать в темноте свободное место. Пригласительным билетом она запаслась заранее. Жаль, что внучка где-то задерживается, а то бы они поехали вместе. При девочке она бы взяла себя в руки и не выказывала наружу дурного расположения духа, и выходит, у нее не было бы так муторно на душе. В последнее время она часто ловила себя на мысли рассказать эту удивительную историю несостоявшейся любви, и рассказать не кому-нибудь, а только внучке, и все ждала, когда девочка подрастет немного. Она даже решила для себя, когда это сделает, и боялась лишь одного: не дожить до дня совершеннолетия девочки. Она уже и подарок ей приготовила, торжественно вручит Милочке несколько его писем, чудом сохранившихся в ее шкатулке с тех давних времен. Пусть по ним учится, как нужно любить, если вообще этому можно научиться. У нее был большой соблазн отдать письма в готовившийся к изданию юбилейный сборник, но она не поддалась искушению и сохранила письма у себя. Исследователи его творчества давно уже разыскивают женщину, вдохновившую его на создание лирической повести, но пока их поиски безуспешны. Он почему-то уничтожил все дневниковые записи, хоть как-то проливающие свет на таинственную незнакомку. И поэтому на каждом вечере в его честь всплывает вопрос о загадочной Н. Ф. — Брижжит, которой он посвятил свою повесть. Они наивно думают, что реальную девушку действительно звали Брижжит, и ищут ее среди его знакомых.
Идиоты! Столько лет идут по ложному пути, и никто не догадается обратить внимание на одно слово: посвящается не просто Брижжит, а поручику Брижжит! Удивительно только, как он запомнил вскользь рассказанный ему случай, приключившийся с ней на занятиях по военному делу. На их факультете готовили военных переводчиков, и вот однажды, сдавая перевод, она подписалась не настоящей своей фамилией, а из озорства вывела в конце страницы: поручик Брижжит, первые, пришедшие на ум слова. Руководитель занятий симпатизировал ей немного и в следующий раз, делая перекличку, поддержал игру и назвал ее вымышленным именем, поручик Брижжит. Так в группе за ней и закрепилось ее новое воинское звание, и на занятиях по военному делу ее уже никто по-иному и не называл. Но с тех пор столько утекло воды, и все, конечно, давно уже забыли ее проделку, да и трудно было подумать, что тот матрос-спасатель и автор повести — одно и то же лицо. Поэтому ей и самой не очень-то верилось, как столь кратковременное знакомство могло вызвать в его душе целую бурю чувств. И ответ она нашла в другом его рассказе: она совершенно здесь ни при чем, как, впрочем, ни при чем любая другая девушка. Просто у него была удивительная способность души влюбляться. Когда-то, в далекой юности, его воображение создало идеальный образ девушки-мечты, и вот изредка он вытаскивал нереальное изображение на свет и влюблялся в него. Вполне естественно, такое происходило с ним всякий раз, когда, как ему казалось, он встречал девушку своей юности, и тогда он наделял ее выдуманными чертами. Это была еще одна потребность его души, как и писательство. Он творил и в любви, но и на этом фронте тоже терпел неудачи. Его воображение сталкивалось с реальностью, и тогда он понимал, как тяжело и мучительно жить в выдуманном мире, но понимал всегда слишком поздно, когда уже поправить было ничего нельзя, и чувство, выпущенное им на волю, становилось неуправляемым. Но он слишком дорогой ценой платил за ошибки, страданием и болью.
«Поручик Брижжит!» Она даже грустно улыбнулась при этом воспоминании. Одевалась тщательно, словно готовилась в дальнюю дорогу, а не в безобидную поездку на троллейбусе в Дом литераторов. Про себя она уже решила, что поедет именно на троллейбусе. Можно, конечно, вызвать и такси, но с заказом столько мороки. И потом, у нее была своя маленькая тайна, почему она на его вечера предпочитала добираться общественным транспортом. Во-первых, такси домчит ее до места слишком быстро, а ей всегда особенно хорошо вспоминалось в дороге, и хотелось подольше побыть наедине со своими мыслями. Во-вторых, это своеобразная дань традиции.. Она уже привыкла ездить на встречу с ним на троллейбусе. Она садилась на восьмерку прямо возле своего подъезда, и троллейбус подвозил ее к Дому литераторов, а по пути следования останавливался у переулка, в котором когда-то жил он. Время сделало те места почти неузнаваемыми. Вместо двухэтажных деревянных домишек, некогда ютившихся в переулке один на другом, теперь возвышались десяти-шестнадцатиэтажные красавцы. Она, проезжая мимо его переулка, всегда вызывала из своей памяти тот старый, давнишний, так зримо и с такой любовью и теплотой описанный в его повести. Но сегодня что-то странное творилось с ней. Она не чувствовала былого волнения, собираясь в дорогу. Больше того, ей впервые за многие годы не хотелось выходить из тепла квартиры на улицу, и она действовала больше по инерции. Даже первый снег не радовал ее, а вызывал какое-то непонятное и несвойственное ей раздражение.
Валентина Александровна закрыла квартиру и остановилась перед лифтом. Нажала кнопку вызова, но не услышала привычного звука от поднимаемой кабины. Лифт не работал. Раньше ей бы не доставило большого труда сбежать с седьмого этажа вниз, сейчас же это обстоятельство окончательно испортило ей настроение. Осторожно держась за перила, она медленно начала спускаться, подолгу останавливаясь на площадке каждого этажа. Между третьим и вторым пролетом вспомнила вдруг, что забыла дома палку, но подниматься обратно в квартиру не стала, памятуя о примете, что если вернется, то не будет легкой дороги.
На улице, едва она открыла дверь подъезда, сильный холодный ветер бросил ей в лицо горсть колючего снега, словно только и искал случая, чтобы отыграться на ком-нибудь из прохожих. Она не успела отвернуться, как ветер еще раз окатил ее с ног до головы и с остервенением набросился на нее, трепал полы пальто, точно рассерженная собака. Казалось, все в этот вечер сговорились против нее. Троллейбусы, обычно шедшие один за другим, словно провалились сквозь землю, и она прождала битых полчаса, пока подошла ее восьмерка. На ветру ее здорово просквозило, и она не раз пожалела, что не вызвала такси, а поймать у них на Варшавском шоссе свободную машину в будни-то невозможно, а уж о выходном дне и говорить не приходится. Но нет худа без добра. Забравшись в полупустой троллейбус, она с особенным удовольствием перенеслась мысленно на страницы его повести, к морю, солнцу…
В дороге ей всегда хорошо вспоминалось, да и приятно было посмотреть-на себя, молодую, красивую, глазами влюбленного человека. Ее самолюбию льстило, что он так возвысил ее. Правда, она с трудом узнавала себя в образе девушки, нарисованной его воображением. Он не пожалел ни красок, ни фантазии и наделил ее такой нежностью, обаянием и возвышенностью, что сам, наверное, влюбился в выдуманную девушку, а не в живую и реальную Брижжит. Однако бывали минуты, когда ей хотелось верить, что именно такой она и была тогда, и этот образ вовсе не сплетение яви с вымыслом, а самая настоящая реальность. Ведь было же действительно и море, и солнце, и спортивный лагерь московского университета в Джемете, где они впервые и встретились. Но как чудесно у него это вышло на бумаге. Она тогда воспринимала все несколько иначе. Да и не только она. Кто же мог подумать, что так нелепо обернется их дурачество, и этот парень в черных плавках, матрос-спасатель, безнадежно в нее влюбится, да еще со временем станет писателем. Но именно так все и получилось. Она пыталась по крупицам восстановить те давнишние события, пыталась определить для себя, где же у нее вышло замыкание и почему она не ответила ему взаимностью, пропустив мимо настоящую любовь.
Стоп… стоп… стоп… Она повернула колесико памяти еще немного назад. Кто же придумал дурацкую игру? А! Ленка! Еще в поезде они договорились выдать себя за иностранок, чтобы избавиться от лишних приставаний. Эта забава не осложняла им отдых, ибо она довольно бойко лопотала по-французски, да и внешне вполне походила на экспансивную француженку, а Ленка сразу же представилась как ее переводчица. Наташка же, по их замыслу, изображала специально приставленного к ним человека из органов, охраняющего их от всяких сомнительных контактов с отдыхающими студентами. И уже в первый же день их фокус на славу удался! На танцах вокруг них не толпился народ, их не толкали, на пляже к ним не приставали, в столовой старались пропустить без очереди. Им оставалось только хорошо играть свою роль, изображая из себя важных иностранных туристов. И они блестяще справлялись со своей задачей, а по вечерам от души хохотали в палатке над незадачливыми кавалерами, робко пытающимися познакомиться с ними.
Обман раскрылся совершенно неожиданным образом. За четыре дня до отъезда, когда они уже и сами тяготились своим привилегированным положением и изнывали от выдуманной роли, не зная, как от нее освободиться. И Ленке, и Наташке нравились ребята из одной и той же палатки. Все они работали матросами-спасателями и по ночам катали многих девушек на лодке, а к ним боялись и подступиться из опасения, как бы чего не вышло. Девчонки от зависти едва не выли и так бы, наверное, не испытали прелести морских прогулок под луной, не подойди он к ней и не заговори на танцах. Она уже приготовилась ответить ему привычной фразой:
«Я не понимаю по-русски», но он опередил ее, предложил заниматься ей русским языком на взаимовыгодных началах, тут же засыпав ее вопросами о французской литературе, о современных писателях, и особенно интересовался творчеством Альбера Камю. Она растерялась и впервые за время отдыха не нашлась что ответить. По ее выражению лица он понял, что они целых двадцать дней всех водили за нос, и рассмеялся, причем так заразительно, что она не выдержала игры и тоже разразилась смехом.
А потом были удивительные четыре дня! Они все вместе валялись под солнцем на пляже, играли в карты, купались в море, а вечером совершали длительные пешие прогулки вдоль берега и конечно же катались на лодках. И стихи, океан стихов! Она никогда в жизни не слышала столько красивых стихов. Казалось, вся мировая поэзия вместилась в нем, а девчонки просили еще и еще, и он читал. Ей было приятно, что такой интересный парень ухаживает за ней, но не больше. Она даже не простилась с ним перед отъездом из лагеря. Ей пришлось уехать на день раньше, родители улетали в Англию, и нужно было увидеться с ними перед отъездом и получить наставления. С этого и начались недоразумения в отношениях между ними. Нет, она хотела, чтобы он ее проводил, но в тот день он дежурил на воде, и вышло все как-то нелепо. На море бушевал шторм, и работы у спасателей в непогоду хоть отбавляй, только и успевай вытаскивать из воды любителей острых ощущений. Вот он и не смог отлучиться со спасательного поста, а она в суете сборов просто-напросто забыла о нем и не пришла на берег, а вспомнила о «поэте», как они окрестили его, лишь на автобусной остановке. Вырвала из записной книжки листок и черкнула всего несколько слов: «Жаль, что мы не смогли проститься. До свидания. Брижжит», попросив подругу передать ему записку. Он полностью потом вставил текст записки в повесть, не изменив ни одного слова.
Но какая у него все же необузданная фантазия! Она-то написала записку просто так, воспитание не позволяло ей уехать, не поблагодарив его хотя бы за стихи, которые он им читал. А он увидел в записке какой-то особый смысл и воспринял ее чуть ли не как личную обиду. Оказывается, он уже тогда был в нее безнадежно влюблен, и ее поспешное бегство потрясло его до глубины души. Ну и фантазер! Вот уж никогда не ожидала, что простой клочок бумаги с несколькими словами вызовет такую бурю отчаяния. Но девчонки молодцы, утешили его и пригласили на вечер встречи в Москве. Они решили собраться у нее в квартире в первую же субботу после приезда из лагеря и устроить нечто вроде пикничка с танцами, вином и стихами.
А перед этим была нелепая телеграмма. Она послала ее уже из Москвы, а он написал на небольшой сюжет целый рассказ: «Неразгаданная телеграмма», хотя никакой загадки в телеграмме и не было. Телеграфистка перепутала слова, вот и получилась двусмыслица. Но ему-то, конечно, хотелось, чтобы слово «жду» относилось к поэту. Она хорошо помнит и сейчас, как подруги смеялись в Москве над ее телеграммой. «Тоскую… Сердцем Вами и праздничным столом… Валере Жемете… Володе жду Поэту поклоны поручику Брижжит…» Он опять нафантазировал бог весть что, а в действительности, зная об уговоре девчонок отметить последний день пребывания у моря небольшой выпивкой, она и решила поздравить их. Только подлинный текст телеграммы звучал так: «Тоскую. Сердцем с вами за праздничным столом в лагере Джемете. Жду. Володе и поэту поклоны. Поручик Брижжит». Ничего особенного! Его же телеграмма привела в полное отчаяние. Кто такие Валера и Володя? Кого она ждет? Их? Кому поклоны? Поручику или поэту? Он тасовал слова как карты: жду поэта, Володе, Валере поклоны, но так и остался в полном недоумении, утешившись в конце концов поклоном.
Не рассеяла она его сомнений и в Москве, когда они все собрались у нее в квартире. Он весь вечер молчал и даже не читал стихов, что вообще было на него непохоже. Но она все время ловила на себе его взгляд, однако стоило ей посмотреть в его сторону, как он тут же отводил глаза. У нее сложилось ощущение, словно он предчувствовал, что они больше не увидятся, и он хотел запечатлеть лицо в памяти надолго, фотографируя глазами малейшее движение ее души. Девчонки недоуменно переглядывались, шушукались, не понимая, что стряслось с поэтом. Они привыкли видеть его разговорчивым, веселым, а тут за весь вечер не проронил ни слова, сидит как в воду опущенный. Но в конце встречи, перед самым уходом, как бы извиняясь за свое молчание, он прочитал на магнитофон не стихотворение, а небольшой рассказ про собачку. И хотя в рассказе действительно главными действующими лицами были собачки, все поняли, что на самом деле там говорилось не о животных, а о людях. Это рассказ о несостоявшейся любви дворового пса Володьки к породистой годовалой сучке Белке. После прочтения рассказа всем стало как-то неловко за людей, стыдно за жестокость хозяина Белки, который безжалостно отдает Володьку собачникам, чтобы оградить свою породистую собачку от неистовой любви бездомного дворняги, и своим вмешательством губит и Володьку и Белку, которая, не пережив разлуки с любимым псом, бросается под машину.
Девчонок проняла эта грустная история о трагической любви двух собачек, и они просили его, чтобы он прочитал что-нибудь еще. У него были с собой рукописи других рассказов, но чтение и на него оказало неожиданное воздействие, он скис окончательно и читать наотрез отказался. По-видимому, этот рассказ был ему очень близок и дорог, и в незадачливой судьбе дворового пса Володьки он увидел собственную участь. Потом он вернулся к этой мысли еще раз и уже на человеческом материале показал неумение людей любить…
А тогда сразу несколько подруг попросили у него почитать рассказы, но он протянул рукописи ей. Это страшно польстило ее самолюбию. Она прочла рассказы и запомнила их, но больше ей врезался в память их разговор при расставании. На страницах повести он ожил, словно время и не властно над ним. Она сказала ему всего-навсего несколько слов, остальное довершила его фантазия. Она действительно пошла провожать девочек до лифта, оставив квартиру открытой, вот и торопилась скорее вернуться обратно, опасаясь, как бы дверь не захлопнулась, и тогда ей пришлось бы торчать на лестничной клетке без ключа. И все же он улучил минутку, подошел к ней. Сначала она не поняла его иносказательную речь о длинной дистанции, о бегунах, которые уже давно ушли вперед, и ему вряд ли стоит бросаться за ними в погоню, но если она даст ему хотя бы маленькую надежду, то он побежит. Она наконец-то уразумела, о чем он говорит, и согласно кивнула головой, произнеся всего одно слово: «Беги». И он сломя голову бросился в путь, рванул, как поется в одной из песен Высоцкого, «на десять тысяч, как на тысячу пятьсот, и спекся…» Но он, мужественный человек, нашел в себе силы еще какое-то время бежать по кругу, но, так и не дождавшись второго дыхания, сошел с дистанции. А ведь второе дыхание могла придать только она, но не придала, а отняла последнюю надежду.
Он все случившееся с ним мягко назвал одним словом: недоразумение, а правильнее было бы говорить о целой цепи недоразумений в их отношениях, а если отбросить все условности, то ему просто-напросто фатально не повезло. Взять опять же его рукописи, оставленные ей почитать. Рассказы ей очень понравились, и она все ждала, когда он ей позвонит, чтобы поблагодарить за оказанное доверие и высказать свое мнение. Но он не звонил, наверное, целый месяц, а затем взял и объявился в самое неподходящее время. У него все-таки была поразительная интуиция! А другим ничем не объяснишь, что он позвонил именно в то время, когда у нее в гостях находился, выражаясь его языком, «соперник, ушедший на дистанцию намного раньше его». Он, конечно, ничего не знал об этом свидании и позвонил, чтобы забрать свои рассказы. Они ему срочно потребовались, и он предложил подъехать за ними к ее дому. Но она вежливо-холодно отказала ему в скромном желании, сославшись на усталость. Они уговорились встретиться на следующее утро у метро «Проспект Маркса», даже и не подозревая, что никогда уже больше не увидятся. Конечно, его страшно огорчил и расстроил ее ответ, но ему и в голову тогда не приходила истинная причина ее отказа. Он перебрал в уме сотни версий и остановился на одной, самой правдоподобной с его точки зрения, но такой далекой от истины. Она отдала читать его рукописи кому-то из подруг, и ей нужно какое-то время, чтобы забрать их обратно и вернуть ему, а утром, перед занятиями в институте они встретятся, и все встанет на свои места. Но они не встретились утром. Напрасно он прождал битых два часа под дождем, она так и не появилась. И опять же вышло чистое недоразумение. Они не уточнили по телефону место встречи — метро «Проспект Маркса», и все, а где именно у метро, никто из них так и не сказал, вот и получилось, что он торчал на улице, а она минут десять прождала его внизу, и оба ушли, рассерженные и обиженные друг на друга. Ни он, ни тем более она даже и не подумали объясниться, да так и остались каждый при своем мнении.
Вот и все, что было на самом деле. Ни поцелуев при луне, ни жарких объятий, и ничего другого, похожего на любовь, между ними не было. Правда, было еще два телефонных звонка да письмо, чудом сохранившееся до сих пор.
Даниловский рынок. Где-то здесь неподалеку его переулок. Она так ни разу и не удосужилась посмотреть на его жилище, а в повести у него героиня после несостоявшегося свидания едет к нему домой, чтобы отдать рукописи. Это, пожалуй, самое сильное место. И как она не догадалась тогда поступить по его рецепту? Это же вполне естественно! Он так ее ждал, вздрагивал от каждого звонка в дверь, часами стоял у окна… Но странная вещь! Она так сжилась с выдуманной ситуацией, что уже не на бумаге, а наяву представляла себе, как едет к нему домой, с трудом разыскивает в переулке деревянный двухэтажный домик, приютившийся в глубине двора, поднимается по шаткой, скрипучей лестнице на второй этаж, с биением сердца нажимает на кнопку звонка, и едва открывается дверь, как она падает в его объятия, и он, завороженный, смотрит на нее, боясь спугнуть… Но только у него все вышло точь-в-точь как в стихотворении Булата Окуджавы: «Тьмою здесь все занавешено, и тишина как на дне. Ваше высочество, женщина, да неужели ко мне? Тусклое здесь электричество, с окон сочится вода. Женщина — ваше величество, как вы решились сюда! О, ваш приход, как пожарище, трудно и дымно дышать. Ну проходите, пожалуйста, что ж на пороге стоять. Кто вы такая? Откуда? Ах, я смешной человек. Просто вы дом перепутали, улицу, город и век».
Но откуда ей было знать об этом? Ей и в голову не пришло тогда, что сразу же после несостоявшегося свидания он начал писать свою повесть, в плоть и ткань которой вошла полновластной хозяйкой она, и он не расставался с ней ни на минуту, засыпая с мыслью о ней, и мучительно просыпался при едином упоминании ее имени. Это она будоражила его чувства и мысли, гнала из дома на улицу, и он часами бродил по безлюдному городу наедине с ней. А когда он наконец закончил повесть, с ним произошла ужасная вещь. Он вдруг понял, что она, подарив ему сладостные мгновения творчества, в то же время убила его, и он уже никогда не сможет принять ее, живую и реальную девушку, а та, выдуманная им на бумаге, все время будет стоять на его пути. Перед ним встала дилемма: либо разорвать написанное и тем самым избавиться от наваждения, или забыть ее раз и навсегда, выбросить ее телефон, адрес и все, что как-то напоминало ему о ней, неразгаданную телеграмму и ту маленькую записку с несколькими ничего не значащими словами. Он выбрал второе, но прежде чем исчезнуть навсегда из ее жизни, он объявился еще раз.
Приближались ноябрьские праздники, и он не удержался, набрал номер ее телефона и поздравил с наступающим праздником. Честно говоря, он ее здорово удивил своим телефонным звонком! Не ожидала она столь холодного поздравления. Он не сказал ей ни одного теплого слова, а поздравил так, словно читал выдержки из призывов ЦК КПСС. Напрасно она ждала, что он рассмеется и скажет: на этом торжественная часть окончена, и начнет читать стихи, прямо по телефону или хотя бы попросит у нее для себя один день праздников. И она бы подарила ему целых два, но он, еще раз пожелав ей счастливого праздника, повесил трубку. После этого телефонного звонка она пережила несколько неприятных минут. Ей просто было неудобно перед подругами. Ведь они уже договорились все четыре дня, отмеченные красным цветом в календаре, отгулять у нее, и она пообещала девчонкам, что будет поэт.
Но чего стоил ему предпраздничный телефонный звонок и какую бурю пережил он, она узнала из его письма, опущенного в ее ящик буквально на следующий день после праздника. Но до письма-извинения, как он назвал его, был еще один телефонный звонок. Однако скоро, как говорится, сказка сказывается, да не скоро дело делается. Легко принять какое-то решение, и ох как трудно его осуществить. Не выдержал и он. Чувство несуществующей вины, ощущение того, что он сделал что-то непоправимое и своим холодным телефонным разговором сотворил большую глупость, отрезав себе все пути к ней, желание хотя бы еще раз услышать ее голос снова толкнуло его к телефонной будке. В глубине души он, как всякий влюбленный, надеялся на успех, и ему все время казалось: вот-вот произойдет маленькое чудо, и она отзовется на его чувство, стоит ему только еще раз позвонить ей. И он набрал ее номер, но, едва услышав первые слова, опустил трубку обратно на рычаг, так и не произнеся ни звука. Шестого ноября в десять часов вечера она была в квартире не одна. Кто-то находился совсем рядом, кто-то, кому она сказала, поднимая телефонную трубку: «Сделай потише». Он слышал в трубке, как музыка с магнитофона зазвучала глуше, а она еще раз, но уже сердито повторила: «Я вас слушаю…» Но не услышала никакого ответа. Он повесил трубку, но долго не мог сдвинуться с места. Его всего прошило жаром, такую красочную картину увидел он перед своими глазами. Она, тесно прижавшись к парню, танцует под музыку, льющуюся с магнитофонной ленты, в комнате лирический полумрак, они только что выпили вина, и у нее немного кружится голова, самая малость, но ровно столько, чтобы приятно вздрагивать от прикосновения мужских рук, когда твою головку притянут к себе, и замереть от поцелуя. Он гнал от себя навязчивые видения, но они вновь и вновь вставали перед его воспаленным воображением. Верить очевидным фактам ему не хотелось, и он придумывал различные предлоги, только бы освободиться от вымышленного образа. И судьбе было угодно еще раз подарить ему надежду, чтобы затем пережить несколько ужасных часов, мучительнее которых у него не было в жизни.
На следующий день после злополучного телефонного звонка его словно осенило: «А что, если у нее был не мужчина, а она разговаривала с подругой? Какой же он идиот, ведь могло же и такое случиться. И потом, ее голос, грустно-сердитый, разве он ни о чем не говорит разумному человеку, не ослепленному страстью?» За время их короткого знакомства, и особенно, когда он писал свою повесть, на него находило такое состояние, когда он не мог больше работать, не услышав ее голоса. И он выходил в город, набирал номер ее телефона и просто слушал, как она говорила: «Я вас слушаю?.. Слушаю вас…» Для него несколько ее слов были как глоток живительной влаги, и он после такого звонка мог уже спокойно писать какое-то время, пока не испытывал потребность вновь слышать ее голос. В своем маленьком грешке он признавался ей в письме. По одной ее фразе он мог безошибочно определить ее настроение. Если она произносила: «Слушаю вас…» — и при этом растягивала слова, а потом еще раз повторяла: «Ну, что же вы молчите, слушаю вас… говорите…», он улыбался, и на душе у него становилось от ее хорошего настроения радостно и легко. И он осторожно опускал на рычаг трубку, словно опасаясь расплескать драгоценную влагу, и так с блаженной улыбкой шел по городу, стараясь как можно дольше сохранить праздничное настроение. Если же, напротив, первая фраза в трубке звучала: «Я вас слушаю…» — и притом отрывисто и резко, ему не нужно было объяснять, что она не в духе. И тогда ее паршивое состояние передавалось ему, и он чувствовал себя как-то неприятно, и ни шум большого города, ни люди, снующие мимо, ни даже мимолетные улыбки симпатичных девушек — ничто не могло вывести его из транса. В такие минуты ноги сами несли его к ее дому, и он часами простаивал на противоположной стороне, стараясь из сотни разноцветных окон отыскать ее освещенный прямоугольник. Биотоки, посылаемые им, были настолько сильны, что она даже сквозь стены ощущала, как за ней кто-то следит, все время ходит по пятам. Она беспомощно оглядывалась, вертела головой, но причину беспокойства понять не могла. А он, оказывается, действительно подъезжал к ее подъезду и, как добросовестный детектив, сопровождал ее от дома до института, но она так ни разу и не обнаружила его. Видно, профессия юриста ему здорово пригодилась, раз столь искусно он маскировался от ее взгляда. Но как он умудрялся не попасть ей на глаза, одному господу богу известно. Ведь судя по его повести, он не раз и не два находился рядом с ней, а она даже и не подозревала о такой близости. Впрочем, как не могла она подумать, что после той вечеринки больше не увидит его. Ей казалось нелепостью, несусветной глупостью вот так неожиданно оборвать знакомство. А он оборвал! Чего это ему стоило, она поняла много лет спустя, когда прочитала повесть. Обстоятельства словно сговорились против него и не только не хотели подыграть ему, а с какой-то особой жестокостью обрушились на его голову.
Несостоявшееся свидание, идиотский телефонный разговор, немые звонки, и для полноты счастья она подкинула ему этакий праздничный подарочек, когда он не выдержал напряжения и позвонил ей еще раз. И как утопающий хватается за соломинку, точно так же влюбленный готов уцепиться за любое, пусть даже неправдоподобное обстоятельство, лишь бы еще на какое-то время отдалить расставание с любимым существом. Нечто подобное произошло и с ним. Пока он писал свою повесть и ежедневно, ежеминутно, каждое мгновение находился с ней наедине, мог часами беседовать с выдуманной девушкой-мечтой, ему искренне казалось, что никакая реальная девушка не сможет бороться с ней, она все время будет стоять на его пути. Она, девушка-мечта, никогда не уживется ни с какой другой девушкой, сколь бы прекрасна и обольстительна та ни была. Но стоило ему кончить писать, стоило только на какое-то время расстаться с ней, как он почувствовал такую пустоту, что хоть вешайся. И тогда он понял, как тяжело и нереально жить в выдуманном мире, как жестоко чувства мстят, понял, что все время обманывал себя, тешась несуществующей и несбыточной мечтой, а реальная конкретная девушка живет совсем рядом, и стоит лишь позвонить ей, рассказать, как он целый месяц ни на секунду не расставался с ней, поблагодарить ее за то, что она просто существует на земле, и наверняка та, выдуманная, понравится ей, и они, может быть, даже полюбят друг друга, и тогда все, что терзало и мучило его в последнее время, уйдет само собой в небытие. Одним словом, он хотел невозможного: примирить творчество и действительность, но очень скоро убедился, что у него из этой затеи ничего путного не вышло, а причинил только себе лишние страдания.
Вот уж она никогда не думала, что писатели — такие наивные люди. Шестого вечером он принимает окончательное и бесповоротное решение: забыть ее навсегда, выбросить из своего сознания все, как-то связанное с ней, и с этой целью рвет ее телефон, домашний адрес, выбрасывает записку и неразгаданную телеграмму, далеко, на самое дно сундука, прячет повесть, а днем седьмого ноября он уже снова мечется в горячке, проклиная себя за сотворенную глупость и столь поспешно принятое решение, лихорадочно собирает в корзине для бумаг клочки разорванной записки и телеграммы, склеивает их и прячет на вечное хранение вместе с рукописями. И все это делает лишь потому, что в его воспаленном мозгу блеснул луч надежды. Сколько раз она перечитывала повесть, сколько раз мысленно перебирала в уме все перипетии тех далеких дней, и всегда не переставала поражаться его детской наивности. А ведь он тогда уже был в возрасте Иисуса Христа. Но любовь, наверное, тем и замечательна, что всех делает ненормальными. С ним же она вообще проделывала самые удивительные фокусы. Уж больно легко он подпадал под ее чары.
Стоило ему седьмого позвонить трем ее подругам — Наташке, Ларисе и Ритуле — и узнать, что они уехали на праздники в Ригу с туристической группой, как его фантазия заработала на полную мощь, и он насочинил бог весть что. Они уехали в Ригу, а она осталась в Москве! Какой же он идиот! Может быть, она специально осталась, чтобы встретить праздник с ним, или хотя бы решила подарить ему один из четырех праздничных дней, и ждет его звонка, а он сыдиотничал, не нашел ни одного живого слова, пролепетал ей по телефону несколько нелепых фраз из передовицы и повесил трубку. А шестого и совсем не ответил, когда она подошла к телефону. «А если у нее действительно был не парень, а кто-либо из девчонок? Ведь могло же такое быть? Я испортил ей весь праздник, и теперь она, наверное, сидит одна в огромной квартире и проклинает тот день, когда познакомилась с таким чеканутым парнем». И он, как был, небритый, в тренировочном костюме, выскочил в город, в первой же телефонной будке судорожно набрал номер ее телефона. Но на другом конце города никто не хотел подходить к аппарату, и из трубки раздавались длинные гудки. Ее не было дома, а он все еще не хотел верить очевидным фактам, что она где-то в компании встречает праздник и совершенно не вспоминает о поэте. Ему просто казалась кощунством данная мысль, и он целых четыре часа, с семи вечера до одиннадцати часов, пробродил по городу и не пропустил ни одной телефонной будки, через каждые пять — десять минут набирая номер ее телефона. Но из трубки по-прежнему стучали короткие гудки, а у него было такое ощущение, словно ему в голову вбивают гвозди. Ему казалось, что его биотоки могли разжалобить кого угодно и обязательно дойдут до нее, где бы она ни находилась, в любом месте, даже если бы она улетела на другую планету, настолько сильное желание увидеть ее он излучал в эфир. Он хотел в тот момент только одного: чтобы она вернулась домой и он мог услышать ее голос. Но, увы, чудес на свете не бывает. Она действительно встречала праздник в компании и была настроена совершенно на другую волну, вот его биотоки и обходили ее стороной. В одиннадцать часов вечера он позвонил ей последний раз. Окажись она дома в своей огромной квартире, он, наверное, от счастья расцеловал бы телефонную будку и уволок ее домой, как последний сувенир. Но холодно мерцали праздничные огни, а из телефонной трубки так же холодно неслись обратно его позывные. И тогда, вышагивая по безлюдному городу десятки километров, он понял, из его затеи увидеть ее ничего не получилось, да и вряд ли что могло выйти с самого начала. Та, выдуманная его воображением, никогда не сойдет со страниц повести и не пойдет вместе с ним по жизни. Но и носить ее в себе он больше не мог, ему нужно было освободиться от наваждения. Вот тогда-то он пришел домой и написал ей письмо, вложив в него все, что не вошло в повесть.
Письмо, по-видимому, он писал ночью, ибо уже утром восьмого, придя домой, она вынула из почтового ящика увесистый конверт. Он даже не доверил письмо почте и не поленился чуть свет встать, а может, он в эту ночь и совсем не ложился спать и доставил его прямо на дом. Обратного адреса на конверте не было, но она почему-то сразу догадалась, что письмо именно от него и ни от кого другого, и, не раздеваясь, залпом прочитала его.
Двойственное ощущение вызвало в ней письмо. Оно поразило ее своей одухотворенностью. Больше таких писем ей уже никто и никогда не писал. И немудрено. Ей впервые открыто признались в любви. Это она поняла, но остальное все было для нее непривычным и никак не укладывалось в голове. Она знала, что после признания в любви обычно ищут встреч, добиваются всеми возможными и невозможными средствами ответного чувства, а он, а он… сделав такой отчаянный шаг, рвал с ней окончательно, раз и навсегда, даже не попытавшись объясниться и узнать, а как же она относится к нему. Он решил за нее и за себя, и это ее удивило больше всего. Там, где у всех нормальных людей только что-то начинается, у него оборвалось самым неожиданным образом. И хотя он привел доводы в свое оправдание, но они ей показались очень туманными и неубедительными, словно что-то он не договаривал и сказать в письме не решился. И только после прочтения повести все встало на свои места. Сразу обрели смысл и его слова из письма: «Мне нет места в третьем решающем году пятилетки, не будет его ни в определяющем, ни в завершающем, и поэтому я как-то неуютно чувствую себя среди людей, и то, что я только одним буду отличаться от твоего избранника, а именно, он может стать «сволочью», а я никогда». Слово «сволочь» у него было заключено в кавычки, и внизу сделана сноска, что под этим понимается. У него был поразительный дар предвидения, и он до мелочей точно составил портрет ее мужа. Тот действительно в двадцать три года вступил в партию, в двадцать пять сотворил подлость по отношению к сослуживцу, написав на него самый настоящий донос, и за границу послали его, а не товарища. А остальное уже все дело техники: машина, квартира, деньги… А он ей ничего подобного дать не мог. Его в то время как раз выгнали с работы, и он с двумя дипломами еле-еле сводил концы с концами, перебиваясь случайными заработками, а когда, наконец, ему повезло и он нашел место на сто рэ, то это ему показалось чуть ли не верхом блаженства. По крайней мере, у него появился твердый кусок черного хлеба и он мог спокойно писать рассказы про чудных старух, которые ни один журнал не печатал. Если еще к этому добавить, что он был страшно одинок, от него отшатнулись даже самые близкие друзья, то можно понять, как воспринял он чувство к ней.
Как дар небес! Но, припав к холодному и светлому роднику и даже не глотнув живительной влаги, он отпрянул от источника с заломленными зубами. Все недоразумения, приключившиеся с ним, он воспринял как предзнаменование свыше и оставил ее. Больше он уже не звонил ей и не писал, хотя еще долго останавливался посреди города как вкопанный перед каждой телефонной будкой и ловил себя на страстном желании позвонить ей и услышать ее голос. Но строго держал данное в письме слово не тревожить ее звонками. Зато отводил душу на бумаге. Он даже придумал для себя специальный праздник, с очень красивым названием — праздник души, и таким днем для него стал день ее рождения.
В этот день она приходила к нему такой, какой он создал ее в воображении. Причем приходила без предупреждения, овладевала сознанием и долго не отпускала его от себя, а если признаться честно, то он всегда был страшно рад ей и, как гурман, смаковал каждый ее приход. На него в такие моменты нисходило какое-то странное состояние, что-то вроде опьянения, только еще приятнее.
Но праздник проходил, и начинались суровые будни. Он снова садился с утра за письменный стол и высиживал определенные часы, а потом еще нужно было добывать на хлеб насущный, и так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Он писал безо всякой надежды на успех, заранее смирясь с мыслью, что все написанное перекочует с письменного стола в сундук и там будет дожидаться лучших времен, чтобы потом вновь появиться на свет божий и зажить самостоятельной жизнью. Но как всякий отчаявшийся человек, он уже не мог остановиться и продолжал бомбить журналы своими рукописями, но редакции дружно, словно сговорившись, присылали ему отказы. Эта изнурительная и безнадежная борьба в одни ворота кого угодно могла не только вывести из равновесия, но и свести в могилу. А он находил в себе силы снова и снова садиться за стол и писать, потому что без творчества не мог уже жить, потому что только в нем одном видел смысл своего существования.
И ее вдруг словно осенило, и на нее снизошло озарение. Она поняла задним числом и его «идиотский» предпраздничный звонок той давности, и письмо-признание, а поняв, улыбнулась ему запоздалой и виноватой улыбкой. Его чувство соперничало не с ней, с живой и красивой девушкой, а с творчеством, и он отдал предпочтение не женщине, а неуловимому и капризному божьему дару. Но не только в этом состояло ее открытие. Об этом она догадывалась раньше, открытие же состояло в другом, она поняла на склоне лет, почему он это сделал. Не будь даже всех тех, с позволения сказать, «недоразумений», подыграй ему Господин Великий Случай в отношениях с ней самым счастливым образом, и все одно у них ничего бы не вышло. Он сразу понял это, а ей потребовалось чуть ли не полвека, чтобы прийти к такому же выводу.
Он и Она! Несовместимость — вот, пожалуй, самое-самое верное слово, определяющее всю суть. И точно так же, как в медицине есть понятие отторжения, когда один, еще живой организм всеми средствами борется с чужаком, искусственно пересаженным в него, и в конце концов побеждает, платя порой за победу даже такой дорогой ценой, как жизнь. Точно так же бывает и в отношениях между людьми, и особенно между мужчиной и женщиной. Вот такими двумя чужеродными существами оказались и они. Он, чувствующий себя неуютно в обществе, мучительно переживающий свое одиночество, все же не поддался всеобщему сумасшествию и оглуплению и предпочел личную свободу, неустройство, почти нищету, и она, воспитанная потребительски и чуть ли не с молоком матери всосавшая разговоры о деньгах, материальном благополучии, они, конечно, были несовместимы.
Несовместимость! Всякий раз, когда она доходила до его понимания, ей хотелось крикнуть: это неправда! И спорить, спорить с ним. Он просто испугался борьбы и спасовал перед трудностями и неудачей. Придумал красивое объяснение, перенес его на бумагу и тем утешился. В запоздалом споре с ним у нее был один свой несыгранный козырь, но он так и остался у нее в руках. Правда, порой ей удавалось убедить себя, что приди она тогда к нему, оголись, как одуванчик, от одного его прикосновения, подари ему несколько минут блаженства, и он бы променял все свое творчество за одно мгновение побыть с ней. Но она ведь не пришла, да и не могла прийти, как выяснилось теперь, и выходит, все ее сомнения от лукавого, даже спустя полвека, без свидетелей рассуждая сама с собой, у нее получался однозначный ответ: она не могла пойти за ним, не могла принять его веру, неустройство, неудачи, борьбу безо всякой надежды на успех. И значит, как ни крути, он оказался прав, что не променял дело на безделье и подчинил творчеству все свое существование. А она? Зачем топтала грешную землю? Ела, пила, спала, воспроизвела себя, родив двоих детей, и все. Было ли у нее какое-нибудь дело, настоящее, большое, оставившее после нее хоть маленький след? И сколько ни уходила она от ответа, но в конце концов пришлось признаться, что такого всепоглощающего дела у нее не было. Утешало ее лишь одно: большинство людей вообще не задумываются над смыслом жизни, а просто рождаются и умирают, так и не зная, зачем они появились на свет божий.
Валентина Александровна подняла голову и прислушалась. Водитель троллейбуса, объявив очередную остановку, добавил: «Машина следует по первому маршруту». Для ее паршивого настроения ей этого только не хватало. Восьмерка подвезла бы ее прямо к подъезду Дома литераторов, а теперь придется тащиться пешком целый квартал, а то и больше. А в ее возрасте, да еще по такой мерзкой погоде, это удовольствие не из приятных. От Центрального телеграфа до улицы Герцена ни на чем не подъедешь. Раньше совершить подобную прогулку ей бы не составило особого труда, а теперь мысль о предстоящем пути кроме раздражения ничего не вызвала. Она осторожно прошла по полупустому вагону и остановилась перед передней дверью. Водитель резко тормознул машину, и она, не удержавшись на ногах, едва не выпала из троллейбуса. На остановке никого уже не было. А она все еще продолжала стоять, переживая случившееся, и никак не решалась сделать первый шаг. Пока она находилась в дороге, не заметила, как похолодало. Сильный, ледяной ветер норовил сбить ее с ног, и она с облегчением вздохнула, когда, преодолев несколько метров, добралась наконец до перехода. Осторожно спускаясь по обледенелой лестнице, она обеими руками держалась за перила и, почувствовав под ногами твердую почву, остановилась, с облегчением переведя дух. Внизу было теплей и не лез в лицо колкий, мелкий снег, который почему-то раздражал ее больше всего, и она страшно обрадовалась, когда в переходе избавилась от этой маленькой неприятности. На нее словно нашло оцепенение, и ей не хотелось двигаться. Но какая-то непонятная и еще более властная сила толкала ее вперед. У нее было такое ощущение, что впереди ее ждет какое-то очень важное открытие, и как ни хотелось ей снова выходить на улицу, но она с горем пополам выползла из перехода и с улицы Горького свернула в переулок. Однако вместо затишья, которое она предполагала увидеть в переулке, ветер со снегом обрушился на нее с такой силой, что она невольно прижалась ближе к домам. У нее сложилось впечатление, будто она попала в аэродинамическую трубу, настолько беззащитно и неуютно она почувствовала себя здесь. Каждый шаг давался ей с превеликим трудом. Она осторожно ставила одну ногу и, прежде чем продвинуться вперед, убеждалась, не таится ли под снегом опасность, не скрыт ли коварный лед, от одного прикосновения к которому она беспомощно распластается посреди тротуара. Изредка, повернувшись спиной, мимо нее проскальзывали запоздалые прохожие, и переулок снова замирал. Люди даже не удосуживали ее взглядом, не говоря уже о какой-то помощи или хотя бы сочувствии. Она, крупная, благообразная женщина, прилично одетая, совсем не походила на старушек из его рассказов, при одном виде которых появляется жалость. Один какой-то парень остановился было около нее, видя, как она беспомощно, юзом скользит на одном месте, но затем, видимо что-то вспомнив, рванулся вперед, и она лишь проводила его глазами, полными мольбы о помощи.
Она вдруг почувствовала себя страшно заброшенной и одинокой почти в самом центре города, между шумной и бестолковой улицей Горького, всего в нескольких метрах от нее сверкающей огнями, и тихой, рассудительной улицей Герцена с ее исторической церквушкой, где венчался Великий Пушкин, со лживым Домом литераторов, куда она держала свой путь и до которого, как она поняла, ей без посторонней помощи не добраться. И как бы в подтверждение ее мысли ветер залепил снегом все лицо. Она остановилась, как-то боком прижалась к огромному дому, боясь, как бы ветер не выкинул ее обратно на улицу Горького, и заплакала от бессилия.
Сколько она так простояла не двигаясь, Валентина Александровна не помнит. Ее всю запорошило снегом, а ей совсем не хотелось шевелиться. Ветер давно уже утих, а ее к месту словно пригвоздила одна мысль, застывшая в ее мозгу: она не выдержала одиночества какие-то пару часов и расплакалась хуже маленькой, а каково же было ему, находившемуся во вражде с огромным городом не день и не два, а в течение многих лет, подумала и ужаснулась своей жестокости. Она вдруг ясно увидела его, вышагивающего по городу в снег и ветер, дождь и слякоть и чутко прислушивающегося к холодному пространству, не отзовется ли кто на его биотоки, посылаемые им раз за разом. Но напрасно он напрягал мучительно и слух и зрение, она ему так и не ответила на его страстный призыв.
В Дом литераторов она попала, когда вечер уже окончился и народ расходился. В вестибюле еще толпились люди, и она слышала, как они возбужденно обменивались мнениями. На нее даже никто не обратил никакого внимания. Больше всех опять говорили о таинственной незнакомке, и все сходились в одном: прототипом, вдохновившим его на написание повести и многих рассказов, была одна и та же женщина, след которой так загадочно исчез со страниц его дневников. И ей вдруг почему-то захотелось крикнуть: смотрите, люди, вот я… Это все было у нас… но тут же, даже мысленно, осеклась и поправила: у него… а я при всем при том только присутствовала… как вещь… как бесплатное приложение к журналу «Огонек». Но все, что написано, действительно имело место: это мне он говорил, когда мы возвращались из Центрального дома работников искусств, что у него такое ощущение, словно он взял меня напрокат и ему нужно вернуть меня в срок, но отдавать меня кому бы то ни было ему ох как не хочется, это мне он написал в письме, что как только ему повезет и он станет знаменитым, то первое, что он сделает, так это прославит меня, и у моего подъезда штабелями будут ошиваться поклонники, желающие увидеть прекрасный прототип литературного образа, это мне он говорил по телефону, что я святая и если нужно, то он и на том свете погреется за меня на угольках, а я могу спокойно порхать в раю. Это я… я… я… и у нее есть даже свидетели… живы еще Ленка, Наташка, а в кармане лежит его письмо…
Она прислушалась. Какой-то молодой парень, может быть, будущий знаменитый писатель, подавая своей девушке пальто, вскользь обронил то, о чем не раз смутно догадывалась и она: «А знаешь, я хочу написать статью, где попробую доказать, что женщина, любимая, конечно, всегда в какой-то мере является соавтором поэта или писателя, вдохновившего его на создание того или иного произведения… Понимаешь, о чем я говорю? Конечно, нужно быть Пушкиным, чтобы написать «Я помню чудное мгновенье»… но не будь Анны Керн, не было бы и этого лирического шедевра, до сих пор волнующего нас… Так и в этом случае, была какая-то женщина, оставившая след во всей его жизни, и нам ведь, по сути, все равно, как было на самом деле, ответила она ему взаимностью или, судя по повести, он, как и герой, страдал безответной любовью…»
Соавторство! Женщина всегда соавтор! Она существовала, она была, и этого вполне достаточно. Не встреть он ее, еще неизвестно, как бы сложилась его писательская судьба. Может быть, он и писать-то бросил бы совсем, а так, чтобы доказать ей ее неправоту, он продолжал творить. И от этой мысли о соавторстве у нее стало как-то покойней на душе, хотя подсознательно догадывалась, почему так ухватилась за спасательную соломинку. Она не хотела даже признаться себе, что давно уже думает о смерти, страшится ее, а особенно того, что уйдет в безвестность, а эта мысль о соавторстве хоть в какой-то мере позволит ей причислиться к бессмертию.
Валентина Александровна так разволновалась, что не заметила, как опустел Дом литераторов, и швейцар смотрел на нее с явным недоумением. Она не стала ждать особого приглашения и поспешно засеменила к выходу. На улице изумленно подняла голову к ночному небу Ветер утих совершенно, небо прояснилось, и в свете уличных фонарей особенно причудливо кружились снежинки, образуя изумрудную дорожку, следуя по которой, ее взгляд перешел на другую дорогу, звездную, и этот мерцающий путь уводил ее воображение куда-то в пространство все дальше и дальше, и она, сделав испуганно первый шаг, затем все увереннее зашагала по этой дороге.
1970


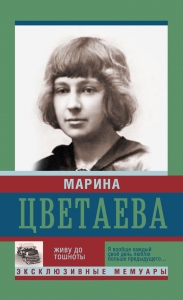



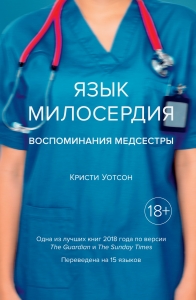




Комментарии к книге «Старый дом», Николай Степанович Сафонов
Всего 0 комментариев