Своим путем
Принято считать, что каждый человек может написать хотя бы одну книгу — книгу о собственной жизни. Но написать о себе так, чтобы биографическое повествование представляло всеобщий интерес, сможет только человек, который сам является личностью, за плечами которого большая гражданская судьба, сопряженная с судьбой страны, с судьбой истории.
Такой личностью, безусловно, является Федор Федорович Сопрунов, крупный ученый, организатор науки, общественный деятель, коммунист. Дело, конечно, не только в сегодняшних заслугах автора, но в том духовном и гражданском опыте, который обретен им на трудных жизненных дорогах и позволяет не просто описать, но с высот советского патриотизма осмыслить прошлое.
Россия кануна Октябрьской революции, Париж 20-х и 30-х годов, политические течения во французском студенчестве и русской эмиграции, армия буржуазной Латвии и установление Советской власти в Прибалтике, участие в боевых действиях в составе красноармейских частей, фашистские застенки, послевоенная Москва — все эти вехи биографии выстраиваются Федором Сопруновым в напряженное повествование, обращенное к молодежи, советскому юношеству. На страницах книги «Своим путем» автор предельно откровенен, критичен в отношении к самому себе, к своему прошлому. Этим и доверительна эта книга, которая учит гражданской решительности, нравственной цельности, политической определенности, учит любить социалистическую Родину.
ТИЛЬДА
ОТЕЦ
«Крр… Крр… Крр… да по речке… Крр… Крр… да по Казанке». Рядом, на кухне, отец вертит ручку фарфоровой кофейной мельницы, прикрепленной к стене, и напевает любимую песню.
«Дапоречке…» — передразниваю мысленно отца. — Глупо. При чем тут «да»? — Повторяю про себя слова по-французски, вставляя «oui» вместо «да», и со злорадством убеждаюсь в бессмысленности песни.
Открываю глаза и смотрю на брата Александра, который уставился на меня мутным со сна взглядом. Смазанные брильянтином волосы брата не растрепались за ночь. Сохранился безупречный пробор. Пожимаю плечами и всей пятерней взлохмачиваю свою шевелюру.
Диван-кровать, на котором спит Алька, стоит у противоположной стены нашей общей комнаты. Комнату делит на две половины невидимая, но твердо обусловленная линия от середины окна до камина. Иронически разглядываю хоккейные клюшки и огромные кожаные перчатки на стене над диваном брата и лыжи и бутсы в углу у изголовья.
Алька щурит глаза, рассматривая французские и русские книги над моим диваном. Он хмыкает, пробегая глазами по белым корешкам приложений к «Иллюстрированной России»[1].
Письменный стол брата стоит рядом с моим перед широким окном. На столе у Альки порядок. Все расставлено по местам: лампа «модерн», модные зажигалки, пластмассовый проигрыватель с десятком джазовых пластинок, фотографии кинозвезд и спортсменов. Глупая красивость! На моем столе куча тетрадей и книги. Из-под них выглядывает череп. Настоящий. Он служит пепельницей. Стол человека мыслящего.
Алька вскакивает, раскрывает окно, хватает гантели и начинает свои упражнения, не переступая на мою половину комнаты. Отворачиваюсь к стене.
Брат включает проигрыватель. С минуту колеблюсь: не сесть ли к пианино, которое стоит у моего дивана, и не забарабанить ли этюд Шопена? Сдерживаю раздражение — Шопеном джаз не заглушишь! — нащупываю томик Тургенева.
Алька выглядывает в окно.
— Фию-ю, — свистит он сквозь зубы. — А блондинетка в зеленом джемпере уже на посту.
Украдкой, поверх страницы, бросаю взгляд в окно. Оно выходит на тихий перекресток. В маленьком отельчике напротив живут девицы легкого поведения. «Блондинетка» действительно стоит у входа в отель. Солнце золотит ее волосы.
— Сегодня она что-то рано «делает тротуар», — дословно переводя на русский язык французское выражение, замечает Алька. И доверительно добавляет: — Хороша, а?
Делаю вид, что погружен в чтение. Алька косится на книгу в моих руках.
— О Дульцинеях? — ехидно спрашивает он и начинает мурлыкать песенку про Валентину.
Вскидываю плечи — твое дурацкое мнение, мол, меня не интересует.
«Чудо груди были у нее, у Валентины, у Валентины…»
«Крр… кррр…» — скрипит кофейная мельница на кухне.
«Вдоль да по речке…» — бубнит отец.
В нашей маленькой столовой с высокими панелями под старый дуб тесно и неуютно. По углам и в простенках серванты из темного дерева, у окна — большой письменный стол отца с техническими справочниками и рулонами ватмана. Окно выходит на север, и в столовой даже днем зажигают лампу.
Завтрак проходит как обычно. Мама разливает кофе, старается втянуть нас в разговор, узнать, что мы намерены делать в этот день. Мы с братом отвечаем неохотно, отец молча просматривает «Последние новости»[2].
— Хм… — вдруг начинает отец, не отрываясь от газеты. — Канал между Волгой и Доном? Нашли чем удивить! Когда я был студентом, уже говорили о таком канале. Они там берут старые проекты и выдают за свои.
Когда отец говорит «они», он подразумевает «большевики, коммунисты», а «там» означает «в России, на Родине».
— Ничего у них не получится! — категорически заявляет Алька, отламывая кусок хрустящего батона.
Отец опускает газету и смотрит на брата.
— Почему?
— Специалистов не хватит, — отмахивается Алька, явно повторяя слова, слышанные от отца.
— А русские инженеры?
— Инженеры… — тянет Алька и пожимает плечами.
Отец швыряет газету на письменный стол. Длинные усы топорщатся на его полном лице. Он повторяет:
— Вот именно! Рус-ские ин-же-не-ры!
— У них мало… — Алька щелкает пальцами и, чтобы пояснить свою мысль, берет крутое яйцо и разбивает его о свой лоб. Избегая укоризненного взгляда мамы, Алька подмигивает мне и с подчеркнутым безразличием очищает яйцо. Я скрываю улыбку.
— Молокосос! — взрывается отец, но тут же сдерживает себя и подвигает брату массивную солонку.
— Зачем яйцом? Ты лучше солонкой… На!
Алька надувает губы.
Расправив усы, отец начинает рассказывать о том, как русский профессор снимал в тринадцатом году в полтора раза больше пара с квадратного метра топки, чем за границей.
Назидательный тон отца раздражает меня. Я вставляю, чтобы прекратить разговор о технике:
— Так это было до революции.
— Ну и что ж? — накидывается на меня отец. — Что, после революции русские дураками стали?
Обиженно смолкаю. Да что он? Сам постоянно ругает «их» за то, что «они» что-то делают «там» не так, а другим не разрешает! Считает это своим монопольным правом, что ли?
Переглядываюсь с Алькой: сейчас отец заговорит о Жуковском!
Уж этот Жуковский! Отец учился и немного работал у него. И теперь чуть что, Жуковский и Чаплыгин, как некие dei ex machina[3], появляются на сцене по зову отца и, защищая честь и славу русских инженеров, победоносно противостоят Эдисонам, Эйнштейнам и Кюри.
— А вы знаете, как Жуковский рассчитал профиль винта аэроплана? Нет? Не знаете?
Дальше я не слушаю. Мне досадно и смешно, что отец так горячится, теряя чувство меры и объективности.
Много лет прошло, прежде чем я понял отца. А когда я понял, его уже не было. Я понял, что болезненная раздражительность возникла в нем от безделья и росла по мере того, как убегали годы. Способный инженер, отец не нашел себе применения за границей и постепенно превратился в экономку-домохозяйку, обслуживающую нашу семью. А семья жила на заработок матери-врача. Отец ходил на базар, возился на кухне, все делал по дому, и мы привыкли иронически относиться к его специальности инженера-механика. Чистя картошку и открывая дверь пациентам, отец испытывал чувство горечи и унижения. Только склоняясь по вечерам над чертежами своих изобретений, из которых большинство так и не было осуществлено, отец оживал и начинал бубнить: «…да по речке…»
Но это я понял много позже. В восемнадцать лет я был занят самим собой и не обращал внимания на родителей.
— …По культурному уровню и технической подготовке русский инженер никому не уступит, — торжественно заканчивает отец. Он придвигает к себе чашку и начинает размешивать кофе. О чем-то вспоминает.
Теперь я перехожу в наступление и начинаю излагать свои мысли (мне тогда казалось, что это были мои мысли — мысли незаурядные).
— Культура? Техника? Да ты пойми, это антиподы! Культура не в давлении пара в котле и не в форме крыла авиона. Напротив. Техника убивает культуру!
Откинувшись на спинку стула, произношу свою тираду, глядя в окно поверх головы отца. Точно мыслю вслух. Знаю, что мама смотрит на меня влюбленно и с легкой тревогой.
— Сводить гений человечества к техническому утилитаризму! Да это просто унизительно! Леонардо да Винчи паровых котлов не топил (это отцу) и в хоккей не играл (это брату), но был величайшим человеком. Гений творит свободно, вне законов общества и материи.
Вдруг вспоминаю, что да Винчи был не только художником, но и изобретателем.
«Zut!» — ругаюсь мысленно по-французски, надо было назвать Рафаэля или Тициана.
Но отец и брат уже бросились в лобовую атаку.
— Барчук! Сыт, одет, на машине катается. И еще отца учит! Леонардо… Ты сперва займи место среди людей, молокосос!
— Да он мадонны да Винчи не отличит от мадонны… мадонны… от другой мадонны, если надписи на картине не будет! — язвительно смеется Алька.
— Мадоннами сыт не будешь и из идеалов штанов не сошьешь. Место в жизни завоевывают трудом. Как Форд… Будешь богат, так и умен, и образован будешь. А пока нечего задаваться, когда на тебе папкины штаны.
— Да нельзя все сводить к штанам!
— Но и без штанов нельзя! — рубит отец. — Полиция заберет!
Алька и мама смеются.
Вскипев, я говорю первое, что приходит в голову. Лишь бы задеть торжествующего отца.
— С твоим Фордом и вообще с капитализмом будет скоро покончено. Не будет ни богатых, ни бедных!
Наступает пауза.
— Кто не был социалистом в молодости — у того нет сердца, — медленно говорит отец. А потом взрывается: — А ты просто дурак!
Он встает из-за стола, и мы расходимся, не закончив завтрака.
Поджидая Альку, останавливаюсь в передней перед зеркалом.
«Не может не унизить! Штаны? Да не нужны мне твои штаны. Место в жизни? Да займу я свое место. Но хвастать наперед — это пошло, понимаете, пошло! Точно торгаши подсчитывают свои будущие барыши!»
Смотрю на себя в зеркало и вдруг замечаю, что я выпучил глаза, надул щеки и вызывающе вздернул верхнюю губу. Точь-в-точь как отец, когда он в сердцах поводит своими кошачьими усами. Мне становится смешно и досадно. Стараюсь придать более интеллигентное выражение своему широкому, простоватому лицу. Привычным жестом прижимаю ладонью волосы. Они топорщатся на макушке непослушным завитком, Сую руки в карманы брюк, покачиваюсь с каблуков на носки и критически рассматриваю свой неизменный серый немнущийся костюм английского покроя, белую рубашку с мягким свободным воротником, шотландский галстук пастельных тонов и полуспортивные туфли.
«Ничего лишнего, — думаю удовлетворенно. — Все предельно скромно. Собственно говоря, мне очень мало надо в жизни. Самый минимум».
Я чувствую себя почти Диогеном.
«Туфли пыльные и не по моде? Плевать мне на это. Мой стиль — в отсутствии стиля. А это тоже стиль!»
На кухне отец сердито гремит посудой.
«Про капитализм я вставил удачно. Так ему и надо».
Тут я замечаю, что мама наблюдает за мной через приоткрытую дверь врачебного кабинета.
— Тод, ты это серьезно… про искусство? Про социализм?
Сдерживаю улыбку.
— Ну и слава богу! Но зачем ты расстраиваешь отца?
Тут открывается дверь кухни и высовывается рука отца с помойным ведром.
— Вынеси ведро, Леонардо…
— Ты на автобусе? — спрашиваю Альку, выходя с ним из дому.
— Нет. Метро идет скорее. Одна пересадка.
Переходим на французский и подтруниваем над отцом. Надоел он со своими нравоучениями.
Алька вдруг смотрит на меня с еле заметной улыбкой в глазах и серьезно говорит, указывая на тележки marchands des quatre saisons[4] у тротуара:
— Вот это фрукты!
— А арбузы? — отвечаю я по-русски, передразнивая отца. — Вот такие! — показываю руками. — Нажмешь, он трещит. Нож воткнешь — треснет! Мякоть красная, покрытая инеем!
Мы с трудом сдерживаем смех. Легендарные, мифические волжские арбузы! О них мы мечтали в раннем детстве, когда слово отца было еще непререкаемо. Но арбузные сказки отца развеялись, когда мы попробовали арбузы на юге Франции — чуть сладковатые, водянистые. Авторитету отца был нанесен первый удар.
— Салат, помидоры, андив, спаржа… — перечисляет Алька по-французски.
— А русский огурец? — продолжаю я игру. — Сорвешь, разрежешь, посолишь. Он так и хрустит во рту!
Мы смеемся. Купив дачу, отец тут же засадил весь участок огурцами. А потом развозил их по знакомым. И съесть урожай мы не могли, и выбросить было жалко. А соленые огурцы мы с братом есть не стали. Что за дикость — солить огурцы!
— Во Франции чудесные вина, — настаивает брат.
— А хлебный квас?
Снова смеемся. В погребе на даче по ночам рвались бутылки с квасом, когда отец клал слишком много изюма.
— Слушай, — вдруг говорит Алька другим тоном, прерывая игру, — говорят, студенты разнесли вчера газетные киоски и скамейки на площади Оперы. Это правда?
Киваю.
— Ты там был? — спрашивает Алька с завистью.
Не отвечаю. Рано ему вмешиваться в наши студенческие дела.
Но вот и бульвар де Гренель, С грохотом проносятся составы метро по железной эстакаде.
Алька хлопает меня по плечу, кричит: «Bye, boy!»[5] — и спешит вверх по лестнице. Я на ходу вскакиваю в автобус.
Стою на открытой задней площадке и с улыбкой смотрю на залитые солнцем улицы Парижа. Да, я студент. В прошлом году сдал экзамены по физике, химии и биологии и поступил на медицинский факультет. Да здравствует Латинский квартал!
Где-то в Воронежской губернии, в деревне Сопруны, на самой околице, стояла кузница-развалюха моего деда Прокопия — Краснобая. Бабка моя была фанатически предана «добрым» старым обычаям. Жадная до «своего», изголодавшаяся по «своему» за долгие годы тяжкого батрацкого труда. Вся в черном, высокая, крепкая как дуб, она отличалась несгибаемой волей и непреклонной верой в свою правоту. Прожила она более ста лет.
Эта бабка Сопруниха, похоронив беспутного мужа, продала кузницу и подалась с детьми — Степаном, Федором, моим будущим отцом, и Луней — в Луганск.
«Бойся бога!»
«Почитай старших!»
«Все, что достанешь, неси в дом!»
Эти заповеди бабка Сопруниха вдалбливала в головы сынов. Сыновья пошли в мать: с крепкой хваткой, мужицкой смекалкой, с глубокой убежденностью в своем праве тащить в дом все, что в руки попадает.
Сперва братья работали в Луганске на заводе. Недолго. С рабочим людом не сошлись. Когда красавица Луня увлеклась было слесарем Ворошиловым, бабка побила ее и заперла. Ненадежный, мол, человек, с революционерами путается.
У старшего брата Степана рано проявилась коммерческая жилка. Хоть и малограмотный, а легко разобрался в купеческих проделках. Вышел в дельцы. Появились деньги. Тогда, отчасти из самолюбия — «знай, мол, наших», а может, потому, что «в наше время без образования ни туды ни сюды», Степан стал помогать младшему брату Федору «выйти в люди». Был Федор способен к учебе: экстерном сдал за полный курс гимназии и на деньги брата поехал учиться в Москву, «на инженера».
Оба брата женились. Они взяли себе в жены девиц из бедных многодетных семей, но с гимназическим образованием… Осчастливили их, бесприданниц.
— Бумажки тебе больше не нужны. Ты — жена! — заявил Степан, взял у жены диплом об окончании гимназии, бросил его в печь и отвел свою молоденькую, добрую и застенчивую Полю к бабке Сопрунихе на воспитание.
Федор поступил иначе со своей Марусей. Он взял ее с собой в Москву, где она поступила на Высшие женские курсы. Одаренный, упорный, с «сопруновским» самомнением и глубокой верой в свою блестящую карьеру, Федор быстро выделился среди студентов. Увлекся научной работой, политикой, даже сблизился с революционной молодежью. Но, став инженером, забыл и науку и политику и поспешил на зов брата Степана, который ворочал к тому времени довольно крупными делами в Ростове-на-Дону.
Братья взялись вместе за дело и вскоре пошли в гору. В четырнадцатом году — перед самой войной — купили дом в Ростове. В доме сразу водворилась черная бабка Сопруниха.
Удачливо начали свою жизнь сыновья бабки Сопрунихи. Упорно добивались они своего места среди новых хозяев России — дельцов и промышленников.
Степан по старинке уповал на хитроумные торгашеские сделки. «Не обманешь — не заработаешь», — говаривал он. Федор уже понимал, что настоящая, «большая» дорога — это бурно развивающаяся промышленность России. Федор открыл в Ростове мастерские по ремонту первых автомашин, подумывал о собственном автомобилестроительном заводе и торопил брата Степана, который обещал достать необходимый для начала капитал.
С раздражением видел Федор, как, опережая его мечты, иностранные фирмы открывают свои заводы в Донбассе. Он боялся богатых и опытных иностранцев, завидовал им и уже требовал защиты «русских» интересов. «Автомашины марки «Сопрунов и сыновья», — напевал он, подбрасывая своего первенца, и весело смеялся, когда голые ягодицы взлетали высоко над его фуражкой со значком инженерно-технического института. Он был молод, здоров, умен и знал, что пойдет далеко.
С иронией следил Федор за торгашескими сделками брата Степана и добродушно посмеивался над «толстовскими идеями» своей Маруси, которая после смерти первого ребенка пошла работать врачом в больницу.
— Всех больных не вылечишь и всем несчастным не поможешь, — говорил он. — Впрочем, делай как знаешь. Лечи себе бесплатно. Твой заработок не нужен. Я семью обеспечу. С лихвой.
Среди знакомых Федор слыл человеком прогрессивным и интеллигентным.
Грянула Февральская революция.
«Эге! — решили братья. — Наше время настало».
Впрочем, после Октября братья отстранились от событий. Они ждали, когда кончится смутное время. С победой большевиков рухнули честолюбивые планы сыновей бабки Сопрунихи.
Когда Степан понял, что разорен, он напился, взял ведро с краской, вышел за ворота, созвал собак со всей улицы, вымазал им морды красной краской и пустил по городу.
Федор не стал заниматься пустяками. Скрыл боль по несбывшимся надеждам, подумал и решил: «Надолго закрыта дорога для меня, надо уезжать».
Братья условились: Степану оставаться в Ростове и сторожить дом и мастерские, которые отобрала Советская власть, Федору ехать на время за границу.
— Езжай с богом, Федор! — напутствовала бабка Сопруниха. — Я здесь присмотрю.
Федор переехал в Москву. В 1922 году ему удалось получить латвийское гражданство и выехать в Латвию, оттуда в Германию и Францию. С ним уехали жена и двое мальчиков: пятилетний Федор и трехлетний Александр.
Старшим был я.
О тех годах у меня почти не осталось воспоминаний. Помню высокую черную бабку Сопруниху, ее жесткую кровать. Помню потому, что не раз летал с этой кровати вниз головой. Смутно помню еще, а может, мне об этом рассказывали, как бабка, когда я тяжело болел дизентерией, отняла меня у матери и врачей и напоила бензином. Я выжил, понос прекратился.
— Крепкий, жить будет, — сказала бабка.
В двенадцать дня обедаю с друзьями у Люксембурга.
Говорят, что Люксембургский сад — душа Латинского квартала. Может быть. Но говорят это пожилые люди, а я покинул Латинский квартал молодым. И Люксембургский сад никогда не был для меня «душою квартала». Скорее наоборот.
Темный сад Люксембургского дворца, газоны, цветники, широкие аллеи, мраморные балюстрады и статуи, игрушечные парусники на глади большого бассейна, голые детские коленки, темные сюртуки экс-профессоров и лысых чиновников в тени деревьев — разве это «душа квартала»?
Нет, Люксембургский сад — это просто зеленый оазис, забытый семнадцатым веком в центре Парижа. И предусмотрительно защищенный от города высокой оградой.
Жить, любить, дерзать — все это там, в Латинском квартале, но хорошо пообедать — это можно только здесь, по эту сторону Люксембурга. По крайней мере, так утверждает Пьер, а он собаку съел на ресторанах. Стоит ему потянуть носом, и он безошибочно угадает, где можно спокойно и вкусно поесть!
В полупустом зале стоит тишина. Приспущенные шторы на больших окнах, удобные плетеные кресла, веселая клетчатая скатерть, глиняная ваза с ромашками на столе — все располагает к непринужденной беседе и приятному déjeuner — обеду.
Пьер отложил салфетку, придвинул чашечку кофе и весело взглянул на нас.
— Так и быть, дети мои. Когда буду врачом, приглашу вас к себе. Будет у меня просторная, светлая столовая. С большими окнами в сад. А рядом строгий кабинет в темных тонах — старая бронза и кожаные тисненые переплеты вдоль стен.
— С тайниками для интимных альбомов? — с усмешкой спросил Анри. Пьер пропустил мимо ушей. Потом, отхлебнув кофе: — Прислуги будет немного: кухарка и секретарша. Секретарша — в очках, подтянутая, недоступная. Для стиля.
— А жена?
— И жена будет. Такая… — Пьер рисует ладонью волнообразную линию.
— Под стиль твоего дома? — деловито осведомляется Мириам.
— Кто хочет сигарету?
Мягкими волнами заколыхался голубой дымок, расплывчатый и неуловимый, как наши мечты. Мечты о женщинах…
— Анри, ты тоже ищешь такую? — Жаклин повторила рукой волнообразный жест.
Анри улыбнулся и отвел глаза.
Высокий, породистый, Анри унаследовал от предков-гасконцев темный оттенок кожи и нос с горбинкой. Нос придает выражение смелости его худощавому лицу. Губы приветливо, чуть иронически улыбаются, точно хотят извиниться за прямой, настойчивый взгляд черных глаз.
На первом курсе медфака мы как-то мало замечали Анри. Он был молчалив и вспыльчив и неохотно сближался. Потом Анри вдруг исчез, почти перестал посещать занятия, провалил экзамены и чуть не был исключен. Ходили слухи о его связи с известной актрисой. Через год он снова появился среди нас и держался так, точно ничего не произошло, но он очень изменился. Повзрослел, стал интересней, тоньше. Студентки заглядываются на него, а мы ему завидуем.
— Если бы я встретил «ее», — медленно говорит Анри и затягивается папиросой, — то «она» определила бы всю мою жизнь.
— Не ново, — заметил Пьер. — Так говорил и Дон Жуан. Каждой новой любовнице.
— Самый порядочный человек.
— Кто?
— Дон Жуан.
Мы рассмеялись. Анри спокойно объяснил:
— Он искал «ее». Всю жизнь. И не остановился на эрзаце, как другие. Он остался верен мечте. Поэтому женщины любили его и прощали.
Пьер иронически свистнул, Анри вспылил:
— Он был бы мерзавцем, если бы остался с одной! Стал бы обманывать и ее и себя!
Девушки задумались. Пьер недовольно поморщился. Ну зачем портить обед? После кофе и сигарет полагается легкий анекдот.
— Друзья мои, — понижает голос Пьер. — И Дон Жуан допустил ошибку. Было это так…
Пьер рассказывает анекдот изящно, вдохновенно, преподнося изюминку, точно ядрышко очищенного ореха.
Анри весело рассмеялся, гордые губы Жаклин дрогнули в усмешке, Мириам залилась румянцем. А я прослушал — я как раз с завистью думал о том, что никогда не постигну искусства рассказывать анекдоты после обеда.
— Тод не понял.
Я вздернул плечами и отвернулся.
— Тогда объясни.
Молчу. Ну что за манера всегда подтрунивать надо мной?
Повелось это с того вечера, когда впервые я отправился с товарищами в ночные кабачки Монмартра отпраздновать окончание лицея. Были мы тогда совсем желторотыми юнцами. Товарищи держались так, точно в этой вылазке ничего особенного и нет. Я же, вероятно от выпитого вина, раскис и стал нести в самом неподходящем месте какую-то сентиментальную чушь. Получилось ужасно глупо и неуместно.
После завтрака мы отправились на факультет на лекцию Бине. Жаклин взяла меня под руку и, продолжая игру, подтрунивает надо мной:
— Тод влюблен. Ну, скажи, светлые или темные у нее глаза?
— Перестань.
— И не подумаю.
— Смотри, брошу тебя в воду.
Мы как раз проходим мимо маленького бассейна у главного амфитеатра медицинского факультета. Жаклин не унимается.
— Зачем скрывать? Признавайся, Тод.
— Подержи книги, — прошу Пьера.
Хватаю Жаклин на руки и быстро иду к бассейну. По ее растерянному лицу и молчанию товарищей понимаю всю дикость своего поступка. Но отступать поздно. Держу Жаклин над водой.
— Будешь задевать меня?
— Не буду, пусти. Дикарь! — добавляет она не очень твердо, когда я ее отпускаю.
— Вот что значит атавизм, — шутил Пьер на следующий день, вспоминая песнь о Стеньке Разине. — Удивительно, что в России еще остались женщины. Как это вы их всех не перекидали в реки!
Шутки были потом. А тогда, у бассейна, друзья были молчаливы. Выжидали. Но Жаклин протянула мне руку, и все обошлось.
Вечер я провел, как обычно, в библиотеке.
В одиннадцать библиотека закрылась. Насвистывая, с книгами под мышкой отправляюсь домой. На Буль Мише студентов почти не осталось. Они теряются в разношерстной толпе проституток, гуляк, иностранцев.
Захожу в кафе выпить чашку кофе и съесть пару бутербродов. У стойки столпились молодые растрепанные художники в свитерах, брюках из чертовой кожи и в сандалиях на босу ногу. Они громко спорят, то и дело хватают друг друга за плечо и хлопают себя по испачканным красками штанам.
«Что они, сидят на своих палитрах, что ли?»
— Ну, хорошо… — кричит один из них, рыжий детина с растерянно-наивным выражением лица. Он кивает в сторону обслуживающего нас официанта. — Гарсон — алкоголик. Этот — сексуально ненормален, — показывает он на бледного, изысканно одетого пожилого человека за ближним столиком. — Этот — просто дурак, — указывает он широким жестом на дремлющего в углу толстяка. — Но этот? Этот-то нормальный, здоровый человек! — тычет он пальцем в меня. — В конце концов, черт возьми, отдельные нормальные экземпляры должны тоже существовать, хотя бы как эталоны для сравнения! Иначе ненормальное станет нормальным, и что тогда будет?
Его товарищи поворачиваются ко мне и с интересом изучают «нормальный» экземпляр.
— Жует, как кабан. А так, пожалуй, ничего… нормальный, — соглашается низкий плотный парень с руками, измазанными красками. На пальцах левой руки довольно удачно нарисованы гуашью два перстня.
— Спросим его, — решают будущие Сезанны и обступают меня.
— Мсье, — торжественно обращается ко мне рыжий детина, — мы вас признали за нормального человека. Нет, не благодарите. Не стоит. Закройте глаза и ответьте на принципиальный вопрос. Круг — это свершение, успокоение. Круг — судьба, рождение и смерть. Круг сжимается в точку и расширяется в небосвод. Круг — начало и конец, все и ничего! Не открывайте глаза и скажите, какого цвета пространство внутри круга, который вы сейчас видите мысленно перед собой, и какого цвета пространство вокруг него?
— Внутри голубое, вокруг — черное, — отвечаю я возможно серьезнее, не открывая глаза.
— Что? Что он сказал? — изумляются художники.
— Какого оттенка голубое? — настаивает рыжий.
— Как у Леонардо да Винчи. — Открываю глаза и невольно смеюсь: лица художников озабочены, почти встревожены. Вокруг нас собралось человек десять зевак.
— Он сказал — голубого цвета, как у Леонардо! — недоумевает рыжий детина.
— Вероятно, он все же ненормальный? — размышляет вслух парень с нарисованными перстнями.
Протискиваюсь сквозь толпу и выхожу на улицу.
Ночь теплая, мягкая. Шагая и насвистывая себе под нос, думаю о круге. «Круг — судьба, свершение», — сказал рыжий детина, А в этом есть какой-то смысл. Круг действительно воспринимается как законченная фигура, в нем успокоение завершенного жизненного пути.
Будет ли моя жизнь подобна плавно изогнутой линии на голубом фоне науки или медицины?
Иду по оживленным улицам, потом по пустынным бульварам. В тени, на скамейках, тесно прижавшись друг к другу, сидят влюбленные.
Вот я и дома.
Светится окно нашей столовой. У нас гости. Из-за задернутых штор слышится нестройное пение. Тень отца, размахивая руками, дирижирует хором. Поют «Вечерний звон». Бом… бом… бом… — гудит бас отца.
Нажимаю на кнопку у парадного входа и по привычке кричу:
— Cordon, s’il vous plaît! — Дерните за шнур, пожалуйста!
Эта магическая ритуальная форма ночного обращения к всемогущим церберам парижских домов звучит примерно так: «Кордон, сьюплэ!»
Как створка устрицы, с легким гудением приоткрывается парадная дверь. Проходя мимо застекленной двери, за которой прислушивается неусыпное ухо, называю не свою фамилию, а выкрикиваю тоненьким голоском «Дюран» и спешу дальше. Дюран — это фамилия наших соседей. Прибегаю к этому небольшому обману потому, что мне надоели замечания и укоризненные взгляды консьержки, которыми она встречает меня, когда доносится хоровое пение из нашей квартиры.
Сколько раз я говорил родителям, что петь хором неприлично, особенно в семье врача. Но отец иначе не может.
Прохожу прямо к себе. Не выношу, когда взрослые люди поют как дети, с раскрасневшимися лицами и затуманенным взором.
Несмотря на плотно закрытую дверь, приходится прослушать и «Волгу, Волгу, мать родную», и «Во поле березоньку». Оканчивается, как обычно, песней «Славное море, священный Байкал». Слава богу, кажется, на сегодня все.
Гости уходят. Посуда уносится на кухню. Отец ее помоет завтра утром. Мама ложится спать. В квартире наступает тишина.
Тогда, надев старую домашнюю куртку и закурив, отец достает логарифмическую линейку и разворачивает чертежи. Он рассчитывает, думает, чертит. Изредка он трет ладонями уставшие глаза и, забывшись начинает бубнить «Вниз да по речке…», притопывая в такт ногой.
Чудак, он еще верит в свои коробки передач без шестерней, в свои моторы с переменным ходом поршня! По ночам он себя вновь чувствует инженером, и ему, вероятно, кажется, что он еще «там» — в лаборатории Жуковского.
Прошу Альку потушить настольную лампу и, повернувшись к стене, закрываю глаза.
Стоп!
Кадры прошлого, стоп!
Повинуясь усилию воли, картинки прошлого замелькали и остановились. В глубине памяти скрылось видение далекого Парижа.
И вот передо мной белизна листа бумаги. В конусе света настольной лампы блеснули привычные предметы, вернули к реальности сегодняшнего дня. Руки сами потянулись к трубке, набивают ее, нащупывают спички. В полутьме выступил рисунок латышского покрывала на диване, африканский узор на стене.
Вот на кухне пробили часы, и в ночной тишине послышался легкий шум заснувшего города. За окном в темноте сверкают огни Москвы. Вот шпиль гостиницы «Украина», там, по Дорогомиловской набережной, бегут белые и красные огоньки. На черном фоне стекла вспыхнул и погас огонек трубки. Блеснули стекла очков, седина. Мой призрачный, седой двойник.
Подумаем.
Так было. Да, так было. Более сорока лет назад. Что ты скажешь теперь?
Чужбина…
Ой, так ли? Твой родной, милый Париж, где ты пошел в школу, вырос, полюбил?
И все же чужбина…
Но, может быть, ты сам во всем виноват? Ты был глупым, самодовольным юнцом. Ты все отрицал. Ради самоутверждения. Ведь это ты бросил Париж, а не он тебя. Вспомни брата. Он был проще и лучше. Он жил Парижем, с жадностью впитывал все, и хорошее и плохое.
Брат.
Где-то в Нью-Джерси, в Сомервиле, способный инженер и удачливый бизнесмен, он руководит собственной фирмой. Жена — американка, дети — американцы. Пробежали годы. Мы редко писали друг другу. Иногда звонили по телефону и напряженно вслушивались в интонации знакомого голоса. После сорокалетней разлуки мы оба боялись встречи. Каждый боялся потерять брата, того веселого парня, который продолжал жить в памяти каждого из нас.
И все же встреча состоялась. Брат приехал в Москву со своей новой женой Кэроль.
Совсем недавно он сидел вот на этом диване, и мы смотрели друг на друга. Не отрываясь. С такой теплотой и нежностью, что неудобно писать об этом. Что только не сделает с человеком сорокалетняя разлука! Мы были беззащитны друг перед другом, не способны хитрить. Из гостиной доносились голоса Кэроль и Наташи — они говорили о детях и внуках. А мы молчали, думали друг о друге.
Каторжная жизнь брата. Вся в упорном труде, в постоянном риске. Горечь неудач и торжество побед. Производить больше, лучше, дешевле. Подавить конкурентов а Европе и Японии. Вперед, вперед!
Вот она, мечта нашего отца. Воплощенная в жизни моего брата. Но почему в глазах брата угадывается такое щемящее чувство одиночества?
Ему тоже за шестьдесят. И он должен выложить на стол итог своей жизни.
— Передо мной еще несколько лет… — Брат говорит нерешительно. Потом добавляет твердо, с чуть заметным вызовом: — Я удвою свой капитал. И умру спокойно.
Брату нужно мое признание, мое одобрение. Именно мое. Отца уже нет.
Я отвел глаза. Мы оба подумали об отце. Показалось, что он вошел в комнату.
— Мы смеялись над отцом, — сказал брат, — он был неудачником. Я добился того, о чем он мечтал. И он мог бы…
Я не смог солгать:
— Мне дорог отец именно потому, что он был неудачником.
Мы замолчали. Подойти ближе друг к другу мы не решились.
Увижу ли я снова брата когда-нибудь? Договорим ли мы недосказанное? Что думает брат сейчас обо мне? Где-то там, в Сомервиле.
Открываю ящик стола, вынимаю фотографии брата. Вот он в форме бравого американского летчика времен второй мировой войны. Вот в виде энергичного бизнесмена перед своим предприятием.
Что за маскарад!
Мой брат — это открытый парень из Латинского квартала, полный мечтаний и несбыточных надежд; мой брат — это уставший, седой человек, сидевший вот здесь на диване и так нуждавшийся в моем одобрении. А эта защитная личина не для меня, а для других. Спадет она с лица брата в его последний час.
Как трудно быть самим собой. Особенно в конце жизни. Я сам, смогу ли я дописать то, что задумал?
Отец? О нем потом. От него никуда не денешься. Волжские арбузы, соленые огурцы и квас… Материализация русской тоски по Родине.
Недавно я вспомнил о них в Копенгагене, где был по приглашению старых друзей военных лет. Я смотрел на тех, кто из тщеславия бросил Родину, и хотелось спросить: расскажете ли вы своим детям про волжские арбузы, малосольные огурцы и квас? Споете ли вы им наши песни?
Мелочь? Кто знает, мелочь ли это?
ДОМИК В ПУАНЬИ
В деревне Пуаньи, в шестидесяти километрах от Парижа, родители купили старый крестьянский дом с садом. С тех пор каждую субботу наша семья выезжает на дачу с ночевкой. И всегда это целое событие.
Я помогаю сносить в старую машину, которую мы зовем «драндулетом», одеяла, провизию — все, что берется с собой, когда семья выезжает на дачу.
— Что за глупая манера вязать узлы и узелки! — возмущаюсь я, укладывая в машину десятый узел. — Никто, кроме русских, так не делает. Навяжут узелков, а потом сами не знают, где что лежит, и начинают развязывать, завязывать, перевязывать. Почему не взять два больших чемодана?
— Не твое дело, — огрызается отец, бережно неся завернутую в платок большую кастрюлю со вчерашним борщом — «особенно вкусным». — Борщ в чемодан не положишь, а питаться в ресторане не буду, когда есть домашнее.
Численность узелков, кульков и свертков возрастает на праздники. Куличи, пироги, яйца и пирожки буквально выживают нас с братом из машины. Приходится отпихивать куличи и ставить на колени кастрюли с гречневой кашей или борщом, завернутые в газету и одеяло, чтобы не остыли. Хуже всего, когда мы везем тесто на пироги: оно или лезет из кастрюли или садится. Отец то и дело останавливает машину, щупает кастрюлю, прислушивается и нюхает крышку, открывать которую ни в коем случае нельзя.
И это при наличии в каждой деревушке ресторанчика, где можно вкусно и дешево поесть!
— Яйца курицу не учат! — обрывает нас отец. — Буду жить так, как хочу. За столом за обе щеки уплетаете, а помочь вам лень? Да и ваши французики сырную пасху уплетают дай бог!
Действительно, как-то раз на пасху у нас были мои товарищи, кажется, Анри и Эли. Отец стал их угощать сырной пасхой, и эта диковинная экзотическая пасха им так понравилась, что они съели изрядное количество. К великой радости отца, который с тех пор относится к ним с явной симпатией.
Но вот, кажется, все уложено. Отец колдует в моторе, брат крутит ручку, и «драндулет», подпрыгивая и пукая сизым дымом, увозит нас на дачу.
Поставив ноги на корзину с цветочной рассадой и косо примостив на заднем сиденье два складных полотняных шезлонга, я устроился на этот раз неплохо. Альке значительно хуже: на него то и дело валятся грабли, мотыга и секатор на палке, под ногами у него плещется «вчерашний особенно наваристый борщ». Из-за тюков с одеждой, подушками и постельным бельем, которые нас разделяют как стеной, я вижу, как брат ерзает на сиденье. Иногда при сильных толчках Алька задирает ноги кверху, чтобы борщ не забрызгал его новые модные светлые брюки. Наконец, не выдержав, он закатывает брюки до колен, оберегая их белизну, но жертвуя их безупречной складкой.
— Неужели нельзя обойтись без супа? — спрашивает Алька упрямый отцовский затылок, заросший короткими седеющими волосами. — Разве недостаточно было стыда на таможне из-за твоего борща?
Алька намекает на случай, когда таможенники обыскали наши кастрюли с кашами и супами. В тридцатых годах бензин в Париже стоил дороже, чем за городом, и у въезда в город были специальные таможни.
— Борща стыдиться нечего. Не краденый! — возражает отцовский затылок.
— Idiot, crétin! — кричит вдруг отец в окно. У выезда из города образовалась пробка. Мы застряли в длинной веренице машин. Все терпеливо ждут, но одна машина пытается вырваться вперед и втиснуться в очередь перед нами. Сидя за рулем, отец научился сносно ругаться по-французски.
— Куда он лезет! — возмущается отец.
Высунувшись в дверцу, он продолжает ругаться. Но его словесный запас быстро истощается. Отец Явно терпит поражение: он начинает повторяться, кроме того, он плохо понимает, что ему отвечает противник.
— Дубина ты стоеросовая! — кричит он теперь по-русски. — Молоко на губах не обсохло, а за руль садишься!
Временный перевес на стороне отца. Молодой француз с модными усиками озадачен. Во вражеской машине, которая почти уперлась носом в крыло нашего «драндулета», сидят молоденькие женщины. Они смеются, разглядывая тарасбульбовские усы отца.
— Олух царя небесного!
Противник окончательно сбит с толку. Но отца не устраивает легкая победа.
— Маруся, переведи ему.
— Федя, прошу тебя, — умоляет мама. — Да пусти ты его вперед. Ведь здоровье дороже.
— Алик, переведи! — строго говорит отец брату, который спрятался за узлы с постельным бельем, красный от стыда.
— Да вы что, оглохли? Ну переведи ты! — Взволнованный, с возмущенно торчащими усами, отец повернулся ко мне.
— Не знаю, как будет по-французски… Олух — это идиома.
— Сам ты идиома! Переведи как знаешь!
— Ну… можно перевести не олух… а евнух царя небесного.
Высунувшись из машины, я учтиво поклонился дамам и помахал рукой французу, который опомнился и снова стал ругаться. Вежливо передаю ему вольный перевод отцовского приветствия. Девицы во вражеской машине покатываются со смеху.
— Что? Выкусил? — Отец трогает машину, но все же успевает показать фигу противнику. — Мы вашего Наполеона в шею выгнали! — кричит отец на прощанье. Он торжествует, он уверен, что этим все сказано.
Противник пожимает плечами и вертит пальцем у виска.
До самого Пуаньи, в течение примерно часа, мы слушаем рассуждения отца о том, что русский солдат спас союзников в мировой войне.
Когда отец вышел поутру в садик в своем старом темно-вишневом халате, завязанном на толстом животе тонким пояском с кистями, он увидел, как Алька бегает по дорожке и проделывает на ходу дыхательные упражнения. Я валяюсь в постели и слышу их разговор через открытое окно.
— Вот это правильно, — говорит отец. — Давно пора заниматься гимнастикой. Бери лопату, копай грядки. — Ничего, ничего, — басит отец в ответ на возражения брата. — Это та же гимнастика. И мышцы разовьешь, и польза для дома будет. Подумаешь, тренировка дыхания! А ты копай и дыши, дыши и копай!
Алька пытается еще что-то сказать, но отец выходит из себя.
— Ты мне эти штучки брось! Всюду можно развивать координацию движений. Ты что думаешь, отец будет грядки копать, а ты будешь по дорожкам бегать и дышать? Успеешь, надышишься! Бери лопату! А старший что делает? В лес убежал или спит?
Быстро раскладываю книги и тетради на полу у кровати и натягиваю одеяло на голову.
— Опять читал всю ночь, — недовольно бурчит отец, заглянув в окно. — Раньше в лес убегал по утрам, а теперь новую моду завел. В постели валяется, барчук!
— Федя! — кричит мама из кухни. — Дай ему поспать. Он много работает.
Когда отец уходит, принимаюсь за чтение. А Алька с кислой миной копает грядки.
И почему это у родителей появилась тяга к огородничеству? Правда, мать росла в деревне — она дочь почтового служащего. И отец — сын станичного кузнеца. Но ведь они всю жизнь провели в городе.
А началось все с лука. Мама посадила десяток луковиц, и, конечно, корнями вверх: зеленые стебли странно выгибались, пробиваясь из-под земли. Потом пошли огурцы, смородина, клубника и георгины. Отец накупил справочников по садоводству и огородному делу, но приличный урожай мы получаем почему-то только один раз для каждой культуры. Всегда в первый год, когда сажаем на пробу, не по правилам. Это поддерживает оптимизм отца, который не хочет отказываться от своих агрономических исканий.
Отец любит дачу, потому что на даче он чувствует себя опорой семьи: кухней занимается мать, а он копает, чинит крышу, возится с «драндулетом». Здесь он по-настоящему глава семейства.
Мама любит дачу, потому что она может отдохнуть от приема пациентов и заняться любимым делом: испечь пирог с яблоками или сварить варенье.
Брат любит дачу, потому что может все свободное время отдавать спорту: гонять на велосипеде, прыгать, бегать, метать копье или диск.
Я же полюбил наш домик в Пуаньи за одинокие прогулки в лесу. Особенно хорошо было бродить в ранние часы, когда лес окутан туманом, а на кончиках веточек искрятся капельки росы.
— Барские замашки! Праздное шатанье! Жанжаковщину разводит, — бурчал отец, намекая на Жан-Жака Руссо, которого он, впрочем, не читал.
Послеобеденный чай мы обычно пьем на терраске. Из самовара, который по настоянию отца ставится только сосновыми шишками. Раньше меня смущал самовар — на него специально приезжали смотреть мои товарищи-французы. Потом я привык и перестал доказывать отцу, что всякая кипяченая вода одинакова. Мне и самому стало казаться, что чай из самовара вкусней.
Нередко на дачу приезжают гости, но долго не задерживаются. Настоящих друзей у нас мало. Их было бы больше, если бы не характер отца. У моей матери врожденный дар располагать к себе, но у отца не менее выраженная способность «резать правду-матушку в глаза» и отваживать от дома.
Отец признает далеко не всех эмигрантов. Одних он называет в глаза «окостенелыми мамонтами», других просто «родовитыми брехунами».
Как-то у нас перекрашивал забор какай-то именитый эмигрант. Он малярничал, конечно, временно. До падения большевиков. Отец обнаружил, что дворянин-маляр кладет один слой краски вместо двух. Поднялся скандал.
— Вы не смеете так говорить, — шипел, выпрямившись, седовласый маляр и размахивал кистью. — Я бывший камер-юнкер его императорского величества.
— Морду тебе набью, камер-юнкер! — наступал отец. — Ни шиша у меня не получишь.
— Кровопийца! — взвизгнул маляр-камер-юнкер.
— Вор, брехун родовитый!
Красный от стыда, я ушел, чтобы не слышать дальнейшего.
Неужели отец не может вести себя прилично, с достоинством?
Среди эмигрантов отец признавал инженеров, врачей, да и то тех, кто не офранцузился. Еще признавал он, конечно, людей богатых и известных, таких, как Шаляпин, Бунин, Алехин. Но те не признавали отца.
Знакомых французов у родителей почти не было. По простой причине — отец не говорил по-французски и не желал учиться французскому. Наиболее близкими друзьями нашего дома стали Берзини. Это были милые, простые люди, американцы латвийского происхождения, которые переехали на постоянное жительство из США в Париж, где у Франца Францевича были коммерческие дела, Франц Францевич был типичным латышом — невозмутимо спокойным. Его жена, Августа Карловна, была южанкой — порывистой и веселой. С выразительными черными глазами.
Отец благоволил к Берзиням, потому что они сохранили русский язык.
— С русским языком нигде не пропадешь, — говорил он, самодовольно покручивая усы. — Но почему они не учат своих детей по-русски?
У Берзиней было двое детей — четырнадцатилетняя Тильда и восьмилетний Жанно.
Берзини приезжали в Пуаньи с детьми, что ни Альке, ни мне не понравилось.
«И чего они привозят свой детский сад?»
Как-то в один из первых приездов Берзиней мы сидели с ними на террасе, и Франц Францевич рассказывал про свою далекую маленькую Латвию.
— Латыши, литовцы, финны, украинцы и всякие другие, — добродушно забубнил отец. Он был в добром настроении после сытного обеда и хорошего вина. — А, по-моему, раз жили в России, то те же русские. Чуть больше, чуть меньше, но русские.
Отец, видимо, хотел оказать честь нашим гостям, причислив их к русским.
— Ну нет, — возразил Франц Францевич, — маленькие народы достаточно натерпелись в царской тюрьме. Русские…
— Что русские? — ощетинился отец. — Ослабла Россия, так все отрекаются и бегут, как крысы с корабля! Нет уж, не прерывайте, дайте договорить!
«Готово, — решил я, — и с этими знакомыми — игрушки врозь. Отец ставит рекорды по краткости знакомств».
Мама успела отвлечь отца. Она быстро сказала:
— Говорят, полиция напала на след Ставицкого.
— Ставицкого? — повернулся к ней отец. — Чепуха! Полиция сама проводит этого жулика до границы и денег ему даст, чтобы он молчал. Все правительство замешано. Кто ближе к казне, тот и руку в казну. Половина депутатов — жулики!
Жуликов-депутатов и миллионера-авантюриста Ставицкого, скрывшегося после громкого финансового скандала, никто защищать не стал.
После обеда Алька незаметно улизнул: вскочил на велосипед и укатил. Делать было нечего: мыть посуду пришлось мне. Посвистывая, чтобы скрыть досаду, я сунул начатую книгу в карман и отправился на кухню. В подручные мне дали Тильду.
Худенькая, смуглая, темноволосая, с большими черными глазами, она послушно пошла за мной и остановилась в нерешительности посреди кухни.
— Посуду мыть умеете?
— Дома посуду моет Катрин, наша кухарка. — Тильда взглянула на меня и быстро добавила: — Умею.
Бросаю Тильде полотенце и показываю жестом, куда встать, чтобы не мешать. Эта пай-девочка раздражает меня. Она с нескрываемым любопытством следит за тем, как я грею воду и расставляю тазы.
«Вот привязалась. Действительно — детский сад!»
Сбрасываю куртку, развязываю галстук, надеваю кухонный фартук и для полного маскарада повязываю волосы цветастой косынкой. Тильда продолжает внимательно следить за мной. Открываю кран и, брызгая водой, ожесточенно мою посуду мыльной щеткой. Когда Тильда вытерла несколько тарелок, я поднес их к окну.
— Плохо вытерто! Отражаясь от гладкой поверхности, электромагнитные волны должны давать дифракцию!
Тильда молча вытерла еще раз. Теперь я нашел на тарелках «микромоли органических макромолекул».
На черных глазах навернулись слезы. Этого еще не хватало!
— Ладно, Тильда, не обижайтесь. Хотите, я вам покажу открытие, которое мы сделали с Алькой? Оно гениально. Как вообще все, что мы делаем.
Черные глаза вопросительно смотрят на меня. Она чуть улыбнулась, когда я театральным жестом взмахнул щеткой для посуды и поклонился.
— Нагретое тело отдает избыток тепла при испарении смачивающей его жидкости, причем турбулентные завихрения воздуха ускоряют испарение и теплоотдачу… Да что вы, — запнулся я, когда Тильда вдруг отвернулась и заморгала.
— Ладно, почитайте вслух, пока сохнет посуда.
Тильда берет начатый роман и, устроившись на подоконнике, читает с указанного места. Усевшись на кухонную плиту, слушаю о любовных переживаниях Манон Леско, а в большом тазу под напором струи из крана «автоматически» моется посуда.
— Тильда, что ты читаешь?
В окне появилось удивленное лицо Августы Карловны.
За чаем обсуждался мой проступок.
— Дуралей! — кипятился отец. — Неужели сам не понимаешь, что эта книга не для Тильды?
— Глупости! Никакие книги запрещать не следует. Запреты порождают любопытство, а неудовлетворенное любопытство переходит в комплекс неполноценности.
— Лоботряс ученый! — обзывает меня отец и тут же рассказывает про бурсака, забывшего, как называются грабли, пока не наступил на них и не получил граблями по лбу.
— Да подожди ты, Федя, — вмешивается мама. — Тод, ты сам подумай: ну зачем Тильде эти романы?
— Книга интересная, — говорит вдруг Тильда, уставившись в чашку.
Прошло два года.
Теперь я на третьем курсе медфака Парижского университета, работаю экстерном в госпитале. Я свободен и независим. Курю трубку. Целыми днями пропадаю в Латинском квартале, мало бываю дома. Может быть, поэтому почти прекратились мои стычки с Алькой и отцом.
По воскресеньям мы продолжаем ездить на дачу. Правда, наши семейные выезды стали менее живописными и не напоминают больше кочевье цыганского табора. Новая машина заменила «драндулет», чемоданы и корзины укладываются в багажник, за рулем чаще сижу я, чем отец, и, конечно, не ругаюсь так образно, как он. И жизнь на даче приняла более спокойный характер: отец забросил плантации огурцов и производство кваса, мама меньше увлекается пирогами и варениками.
В общем, семья теряет свой самобытный колорит и становится более похожей на другие семьи нашего круга. Сказывается также влияние нашей дружбы с Берзинями.
Берзини приезжают в Пуаньи почти каждое воскресенье.
После обеда все собираются на террасе или в гостиной. Все, кроме Альки, который теперь редко приезжает на дачу, и маленького Жанно, который отправляется в сад, залезает с ногами в шезлонг и читает весь день.
— Сегодня мы сыграем большой шлем, — говорит Франц Францевич, раскидывая аккуратным веером колоду карт и открывая блокнот для записей.
— Цыплят по осени считают, — неизменно отвечает отец и усаживается поудобней в плетеном кресле.
Августа Карловна кладет рядом с собой пучок листьев или цветов. Мама накидывает на плечи шерстяную кофту и мечтает вслух:
— Пойти бы погулять.
— Маруся, следи за картами, — ворчит отец.
Он старается угадать по надломленному углу и чуть растрепанному краю, кому попался валет пик и трефовый туз.
Мама вздыхает и разбирает карты. Начинается игра.
— Пошли? — спрашиваю я Тильду.
Она кивает.
Засунув руки в брюки и пожевывая травинку, я шагал по лесным тропинкам и думал о медицине, Латинском квартале, своем блестящем будущем.
Тоненькая, высокая и нескладная Тильда шла рядом, опустив голову и спрятав маленькие руки в кармашки замшевой куртки. Ветер трепал черные волосы, кусты цепляли за юбку, крапива обжигала голые ноги, а Тильда шла и шла, не поднимая глаз и ничего не спрашивая. Она самоотверженно лазала за мной по скалистым склонам холмов, прыгала через проволоку, продиралась сквозь чащу. Когда я останавливался, она присаживалась на пень и смотрела вдаль. Я не обращал на нее внимания. Я думал о себе.
Много сыграли родители робберов, много мы исходили с Тильдой дорожек вокруг étang du roi[6], прежде чем я привык к моей молчаливой спутнице и стал делиться своими мыслями.
Кто в двадцать лет не испытывал потребности во внимательном и благожелательном слушателе? Таким слушателем стала для меня Тильда. Я мог ей высказывать все, что думал о товарищах, профессорах, родителях, брате и о самом себе, и не бояться иронических замечаний, на которые не скупились мои друзья-студенты.
— Профессора Лаффита знаешь? Так вот, мы подобрали ключи к его квартире и, когда он уехал, ввели в гостиную старую лошадь. Из лаборатории сывороток.
Тильда широко открыла глаза.
— А пусть не проверяет посещаемость! Что мы, рекруты, что ли? Да вообще он противный тип, скряга. Дал пятьдесят франков на наш вечер, а своей курочке небось платит по сто…
Я запнулся.
— Ты знаешь, что такое «курочка»?
Тильда кивнула.
— Ну и хорошо.
Тильда вдруг сказала, взглянув на меня в упор:
— Они не виноваты.
— Кто?
— Эти женщины…
Чуть смутившись, достаю трубку. Прикрываясь ладошкой от ветра, Тильда зажигает спичку.
— Позавчера мне попало от отца. За «Адольфа». Были у меня Пьер и Анри. Они собрали скелет, что у меня в комнате, наклеили ему усики, прядь на лбу нарисовали и свесили его с балкона. Народ смеялся, аплодировал. А отец накричал: «Скелет на балконе врача. Лучшей рекламы для матери не придумал?» Терпеть не могу людей без юмора.
Затягиваюсь. Сизый дымок улетает по ветру.
— Люди без юмора опасны. Знаешь, почему Гитлер захватил Германию? Потому что у немцев нет чувства юмора.
Тильда не улыбнулась. Она повернулась ко мне и посмотрела как-то по-взрослому, серьезно и внимательно.
Пробежала весна, лето, настала осень. Дорожки засыпало желтыми листьями, лес почернел, подернулся дымкой, пропах грибами и дымом.
Воскресные прогулки вошли в привычку. Я не могу не рассказывать моему молчаливому другу о последних событиях в Латинском квартале и не делиться своими гениальными мыслями. Тильда знает профессоров и товарищей и кое в чем начинает разбираться.
— Да не сахароза, а сахараза, — сержусь я, когда Тильда путает. — Фермент, «аза»! Ну, смотри.
На корточках щепкой на дорожке черчу и объясняю. Наконец поднимаю глаза. Тильда не слушает; она прислонилась к дереву, улыбается и смотрит вдаль. Оглядываюсь на лес, на Тильду. Как она изменилась за год! Что с ней? Я стер носком рисунок, и мы пошли.
Помню, однажды стояла чудесная, тихая погода. На выцветшем небе мягко светило осеннее солнце. Оно слегка нагрело Анженские скалы. Внизу, вокруг темного озера, оголенные деревья. Лес прозрачен, как кружева.
Тильда сидит на плоском камне. По привычке она обхватила руками колени и прижалась к ним щекой.
— Знаешь, Тильда, надоела мне тихая жизнь. Латинский квартал, больница. Может, махнуть в Испанию, на войну?
Тильда вскинула голову, уставилась на меня. Потом отвела взгляд, задумалась.
— Тод, если бы тебя держали в тюрьме…
— В тюрьме?
— Да… Долго, всю жизнь. Ты бы не сдался?
Пожимаю плечами. Странная девчонка!
Чтобы переменить разговор, говорю полушутя:
— Или влюбиться. Да так, чтобы вся жизнь перевернулась.
Тильда не улыбнулась. Она внимательно смотрит, прижавшись щекой к колену.
— Понимаешь, все отдать ради нее. Весь мир — за нее! Увезти, запереть, завязать ей глаза и не выпускать из рук. Ни днем, ни ночью… Или нет. Сказать ей: ты свободна. Люби, ищи, пробуй. Я буду ждать. А она сама придет ко мне.
Я посмотрел на прозрачное небо, встал и крикнул:
— Ау… где ты?
«Где ты… где ты…» — неслось вдаль, затухая. Лес молчал.
Я сел, взглянул на Тильду На светлом фоне неба четко выделяются черные локоны. Солнце освещает смуглую щеку с нежным румянцем. Тильда смотрит вдаль и, как всегда, думает о своем. В душе шевельнулось сочувствие к угловатой девчонке.
— Тильда, у тебя красивый цвет лица.
Тильда нахмурилась.
— Знаешь, это зависит от толщины эпителиального слоя. А вот на ногах у тебя слегка шелушилась кожа этим летом. Это бывает при недостатке витамина B6.
Тильда подбирает ноги и накрывает их полою пальто. Потом говорит резко, сверкнув глазами:
— Я тебе не морская свинка для опытов!
Обиделась? Ну и глупо.
Посвистываю, потом, чтобы чем-то заняться, достаю бумажник и перебираю содержимое: права шофера-любителя, студенческий билет, пропуска, в библиотеки, письма…
— Тод, дай бумажник.
Протягиваю бумажник и начинаю рассказывать про вчерашний тяжелый случай в госпитале.
— Тод, кто такая Марта?
— Какая Марта?
— Здесь письмо от Марты.
— Ах эта… познакомились на вечеринке. Ты зачем рвешь письмо? Там обратный адрес.
Я даже привстал от удивления. Но Тильда молча порвала письмо и конверт и пустила мелкие клочья по ветру.
— Тебе письмо очень нужно?
— Да нет. Но все же…
Тильда меня не слушает.
— Тод, Жаклин красивая?
— Жаклин? Не знаю, не думал.
— А Мириам?
— Да откуда я знаю?
Неожиданные вопросы Тильды сбили меня с толку.
— А они умные?
— Умные?.. Подожди, при чем тут ум?
Начинаю сердиться.
— Пойдем домой. Становится холодно, — говорю я с досадой.
Возвращаемся через полянку, что примыкает к нашему саду. Перепрыгнув ограду, подходим к освещенному окну столовой. Игра в бридж окончена. На столе самовар. Из-за двери доносятся голоса родителей.
Тильда приостановилась, взяла мою руку и прижала к своей щеке.
О прогулках с Тильдой я не рассказывал друзьям из Латинского квартала. Не о чем было рассказывать. Так, пустяки.
Пустяки?
Прервем рассказ. Подумаем. Что ты скажешь, мой двойник на фоне темного окна? Теперь, по прошествии сорока пяти лет.
Из памяти стерлись воспоминания многих диковинных стран, где пришлось потом побывать, забылись встречи со многими замечательными людьми, а вот эти «пустяки» не померкли. Как ты думаешь, мой постаревший двойник, пустяки или сама сущность прожитой жизни?
Двойник смотрит на меня чуть иронически и молчит. Вот рядом с ним, на фоне ночной Москвы, возник стройный женский силуэт. Осторожные руки легли на мои плечи.
— Ты еще долго?
Жизнь прошла. Перед нами теперь последний отрезок пути. Дети выросли. Мы одни, только для себя. С нашей неугасшей терпкой любовью. С запоздалыми всплесками нежности и боли. Перед слиянием в приближающейся смерти…
И кольцо другое. У Тильды было колечко с тирольским эдельвейсом. Почти детское. Сколько времени прошло с тех встреч в Пуаньи?
Что время!
Как измерить боль и радость трудного пути сближения, который пришлось пройти после того, как мы встретились вновь?
Если бы я мог тогда, при встрече, сразу написать и отдать тебе эту рукопись! Вместо того чтобы годами скрывать, каким измученным и слабым я вернулся к тебе. Если бы ты могла сразу отбросить свою защитную гордость и доверить все, что ты пережила и передумала!
Опасно, повзрослев, хранить в душе мечтания юности. Опасно ловить осенью жар-птицу, промелькнувшую ранней весной.
Мы беззащитны перед любимым, и он может ранить смертельно, не ведая об этом.
На фоне ночного окна силуэт Тильды, склонившейся над моим двойником.
БУЛЬ МИШ
Бульвар Святого Михаила начинается в сердце Парижа на набережной Сены у острова Ситэ. И оканчивается у Обсерватории. Это официальный бульвар Сен-Мишель.
Но есть еще Буль Миш.
Перепрыгнув через чопорный бульвар Сен-Жермен, Буль Миш весело взбегает на холм Святой Женевьевы. Где кончается Буль Миш, сказать трудно. Для кого как! Для медиков, юристов, студентов Сорбонны — там, где улица Суффло взбирается к вершине холма, увенчанного глупейшим Пантеоном. Для физиков, химиков, географов, студентов Горного института — где-то дальше, у улицы Огюста Конта или даже Валь ди Грас. Я медик и поэтому считаю, что за улицей Суффло — это не Буль Миш, а только Бульвар Святого Михаила.
Святой Михаил, святой Жермен, святой Жак, святой Луи, святая Женевьева — как много святых в далеко не святом Латинском квартале! Но мы, студенты, не обижаемся на них! Это хорошие святые. Михаил и Женевьева, например. Да для нас они вовсе не Михаил и Женевьева, как у себя на небе, а просто Миш и Жинета. Свои в доску!
Говорят, что тротуары по обе стороны Буль Миша одинаковы. Гм… не знаю. Ни разу не поднимался по правой стороне Буль Миша. А если когда и переходил на «тот» тротуар — презренный тротуар без кафе, толкотни и веселья, — то только на минутку и тут же спешил вернуться на наш, студенческий тротуар.
Нет, теперь вспоминаю совершенно определенно, что тротуары по обе стороны Буль Миша разной ширины. «Тот» оканчивается у стен домов, а «этот» нигде не оканчивается. Он переходит в террасы кафе — столики стоят прямо на асфальте, — затем в шумные залы, где у стойки смеются и спорят студенты, потом в укромные тихие помещения — здесь перед кружками пива размышляют философы и целуются влюбленные, — и наконец через черные ходы «этот» тротуар Буль Миша прямо выходит в темный переулок и теряется где-то у старой Сорбонны.
У Буль Миша нежная душа, крутой характер и веселый нрав. Он то смеется, то хмурится. И мы всегда готовы рассмеяться с ним или сжать кулаки.
Если неуклюже развернувшись у книжного магазина из боковой улицы покажутся нелепые, ярко раскрашенные бородатые чучела профессоров École des Beaux Arts — Школы изящных искусств, мы их встретим приветственным криком. Заглядывая рыбьими глазами в окна второго этажа, профессора поползут, содрогаясь от толчков, вверх по Буль Мишу. Как не проводить почтенных старцев до вершины холма? Там, перед фасадом Юридической школы, комиссариата полиции и Пантеона, последней обители великих ученых, картонные профессора построятся в ряд. Смиренно выслушают они горькую правду о себе из уст наиболее речистых своих воспитанников. И сгорят они от стыда и от поднесенных со всех сторон зажигалок и спичек. А мы спляшем веселый танец вокруг пылающих фигур.
А «моном»? «Моном» всегда появляется со стороны Пантеона, из крутых переулков, где окопались математики и физики. Им тоже бывает необходима разрядка. И тогда они бросают клич: «Моном!» Извиваясь змеей, переходя с одного тротуара на другой, «моном» ползет вниз по бульвару. Степенные, молчаливые физики и математики, выстроившись в затылок и положив правую руку на плечо впереди идущего, маршируют в ногу, в виде бесконечной извивающейся ленты. Кому охота, тот присоединяется, и «моном» все растет и растет, спускаясь по Буль Мишу, петляя по улочкам Латинского квартала. Сигналят остановившиеся машины, бранятся и смеются прохожие, ожидая, пока пройдет преградившая им путь шеренга студентов. Потом «моном» распадется, сам собой или после вмешательства полиции, и студенты со смехом кинутся к покинутым столикам кафе заказывать новые кружки прохладного пива.
Буль Миш…
Рассказывая о нем, нельзя ограничиться воспоминаниями о веселых аутодафе профессоров, «мономах» и других проделках студенческой богемы. Латинский квартал глубже. Его неповторимый психологический климат накладывал отпечаток на студентов. Конечно, жизнь перечеркнула в дальнейшем многие наставления Латинского квартала, но кое-что осталось.
Желторотым юнцом пришел я в Латинский квартал, робким и заносчивым. Две тайны тревожили меня в то время: знания и женщины. Вернее, женщины и знания.
Большинство моих товарищей по лицею были уже знакомы с азбукой любви. Латинский квартал сразу принял их, воспитал, очистил от пошлости, научил восприятию красоты. Неповторимой прелести сближения — пусть мимолетного — с тонкой, одаренной женщиной.
Им было легко. А мне?
Небольшой читальный зал Сорбонны погружен в полутьму. На столах горят лампы под темно-зелеными абажурами, ярко освещая книги и руки читателей. Вдоль стен поблескивают переплеты книг. Тихо. Только изредка шелестят страницы. За высокими окнами ночное небо переливается отблесками большого города.
Иду вдоль столов.
Знакомый женский профиль склонился над книгой. Блестят каштановые волосы, светятся изящные руки. Я давно обратил внимание на незнакомку, знаю, когда она бывает в библиотеке. Мы обменивались взглядами. Но подойти я не решался.
Место напротив нее свободно. Сейчас или никогда!
Беру книгу, сажусь напротив. Она погружена в чтение. Как она хороша! Умное, тонкое лицо, спокойное, уверенное. Она чуть старше меня.
Почувствовав мой пристальный взгляд, незнакомка подняла карие глаза, осмотрела меня. Внимательно, чуть иронически.
Замирая, я продвигаю ногу к верхнему краю покатой подставки для ног под столом и продолжаю смотреть на нее. С надеждой. Карие глаза чуть улыбнулись, женская туфелька коснулась моей ноги под столом.
Жду на улице с бьющимся сердцем. Вот закрылась библиотека. Незнакомка подошла и молча взяла меня под руку.
На столике кафе дрожат блики от фонарей, скрытых в листве деревьев. Шумит Буль Миш. Мы прижались друг к другу в углу полупустой террасы. Молчим, ощущая, как просыпается волнение, захватывает нас. Ее колено прижимается к моему. Тонкие пальцы сплетаются с моими. Мягкие волосы щекочут щеку и шею. Теплые, умелые губы ищут мои.
Зачем я заговорил?
Мы так легко и естественно катились молча к полному слиянию. Незнакомые, но захваченные единым порывом. Мимолетным опьянением. Возможно, что завтра, встретив меня, она только кивнет и чуть улыбнется глазами. Но останутся в памяти, как жемчужины, неповторимые мгновения зачарованного вечера и пьяной ночи.
А я заговорил. Стал спрашивать, рассказывать о себе. Чары рассеялись. Ей стало скучно.
Когда я проводил ее до дома, она по-дружески поцеловала меня. И слегка оттолкнула.
Растерянный, пристыженный, брожу по пустынным улицам. Опять не так. Зачем я заговорил? Хотел быть интересным? Хотел сблизиться с нею?
А какое ей было дело до меня? Я был лишь частицей таинственного вечера, который так увлекательно начался и мог так чудесно окончиться. А я все испортил. Что помешало мне?
«Сибирский медведь неотесанный», — смеялись надо мной друзья, когда на следующий день я рассказал за кружкой пива о несостоявшемся романе. Студентки с улыбкой смотрели на меня. Колено Жаклин прикоснулось к моему под столом. Обиженно отодвигаюсь. И она смеется надо мной?
Было больно и обидно. И досадно, что я не умею через что-то переступить. Манящие девушки Латинского квартала оставались по одну сторону невидимой черты, я — по другую.
Знания…
Знания Латинский квартал раздавал щедро, всем желающим.
Меньше всего ценились обязательные знания, которые давал факультет. Они были нужны для сдачи экзаменов и зачетов. Это был принудительный ассортимент. А принуждение, как известно, злейший враг образования и культуры.
Кроме библиотеки медфака — скучной и ненавистной, — в Латинском квартале были две любимые библиотеки: Сорбонны и Святой Женевьевы. Там легко читалось. Просто так, для себя. Бескорыстно. Ламарк и Тейар де Шарден, Бергсон, схоластики средневековья и витиеватый Аристотель — они оставили глубокий след в моей памяти. О них мы спорили за столиками кафе. Именно там, за кружкой пива на Буль Мише, рождалось в жарких спорах умение мыслить и отстаивать свою точку зрения.
Библиотека Сорбонны, о которой я уже упоминал, была тихой и уютной, погруженной в мечту. Когда я уставал от чтения, я садился на подоконник настежь открытого окна и смотрел вниз, на мощенный плитками дворик, где одиноко сидели в каменных креслах Виктор, Гюго и Луи Пастер, опустив головы под тяжестью великих мыслей и голубиного помета. Пока служитель шепотом не сгонял меня с подоконника.
Библиотека Святой Женевьевы — мы звали ее Сен-Жинет — была веселой и шумной. В холле и на лестнице спорили и шумели. Как хорошо вписывались в стиль Сен-Жинет некоторые из ее постоянных посетителей! Например, мрачный оригинал в сандалиях на босу ногу и римской белой тоге, который ровно в шесть часов величаво всходил по мраморной лестнице библиотеки. До чего же хорош был этот «римлянин», когда он вынимал из-под тоги термос с кофе и пластмассовый складной стаканчик! Или математик с песочными часами и дегтярно-черными волосами, тщательно нарисованными черной лаковой краской на совершенно лысом шарообразном черепе.
Библиотекам Латинского квартала я многим обязан. Они меня научили ценить прошлое, относиться с уважении к тем, кто думал и писал задолго до нас.
У каждого, кто провел свою молодость в Латинском квартале, осталось свое воспоминание о нем. «Мой» Латинский квартал — это тот небольшой отрезок пути, вверх по улице Сен-Жак и вокруг Пантеона, который я проходил, опьяненный чтением, поздними вечерами, когда закрывались библиотеки.
Ночью Латинский квартал был особенно близким, осязаемым. Вот я поднимаюсь по улице Сен-Жак, вдоль длинного, темного, опустевшего здания Сорбонны. Мимо лицея Сен-Луи. Иду по пустынным улицам вдоль стен и ощущаю то тепло, то безразличие, то враждебность. Они исходят от стен.
У Сорбонны легко и уютно. Плоское здание полицейского участка источает подозрительность и враждебность. Юридический факультет — холодную чопорность.
Иду не спеша, прислушиваюсь к смене ощущений. Знаком каждый камень. Вот кончается тротуар под ногами, ступаю на шероховатую мостовую площади. Она выпирает пологим горбом, точно надулась от гордости: на ней темнеет Пантеон. Перед ним вытянулись казенные фасады юридического факультета и полицейского участка. Тяжелые бронзовые врата Пантеона за шестью толстыми колоннами всегда закрыты, отгораживая пыльный покой великих мужей от бренной суеты простых смертных.
А вот и мои любимицы. Две маленькие гостиницы выставили свои узенькие, высокие и грязные фасадики на уважаемую площадь. Прижавшись друг к другу, эти гостиницы, как две тощие девицы, стыдливо протиснулись одним плечом в общество святых, великих ученых, юристов и полицейских. С ними проникли в это тщеславное общество тепло, веселье, запахи дешевых духов и пудры. Иронически подмигивают светящиеся окна бедных комнат, заселенных студентами и веселыми девицами. Не знаю, чего больше — мещанской тупости или парижского остроумия — в гордом названии одного из этих захудалых отельчиков: «Гостиница великих мужей».
«Hôtel des grands hommes et des petites femmes» — «Гостиница великих мужей и доступных девиц (маленьких женщин)», — шутят студенты, и я улыбаюсь, читая золотые слова на облупленной стене.
Огибаю Пантеон, прохожу мимо однобашенной церкви Сент-Этьен-дю-Мон, где хранятся мощи святой Женевьевы, заступницы Парижа. Восемь столетий стоит на холме эта церковь, похожая на сороконожку из-за маленького фасада и большого числа контрфорсов. Ей было уже более двух столетий, когда веселый школяр Сорбонны, пьяница, бродяга и гениальный поэт Франсуа Виллон слагал в соседних тавернах бессмертные стихи:
«Frères humains qui après nous vivez…» — «Братья, живущие после нас…»
Слабо освещенная улочка сбегает вниз. За оконными шторами ночных кабачков безмолвно движутся призрачные тени. Впереди темно и пусто. Тревожно.
…Дожди нас очистили и отмыли, Мы высохли и почернели на солнце, Воронье нам выклевало глаза И выщипало бороды и брови…Прошлое — это кусочки реальности, оставшиеся в памяти.
Буль Миш, Сорбонна, улица Сен-Жак, площадь Пантеона, Сен-Этьен-дю-Мон и потом вниз, в пустоту…
Это тоже кусочек реальности, который застрял в памяти. А застрял он потому, что оказался связанным с глуповатым, но трагичным эпизодом в моей жизни.
Через несколько лет после того как я навсегда покинул Латинский квартал, в годы войны, где-то в Померании, пьяный офицер хотел позабавиться — устроил «в шутку» расстрел группы пленных. Я был в этой группе. Стреляли мимо. Но мы-то не знали…
Стыдно вспомнить ощущение унизительной рабской покорности перед смертью. И пустоту вроде запредельного торможения у насекомых. И в последний момент попытку спрятаться, уйти в дорогое прошлое, возникшее из подсознания: Буль Миш, Сорбонна, улица Сен-Жак… Они навсегда застряли в памяти.
Противная вещь — расстрел.
БАЛ ИНТЕРНАТА
— Здорово, tête de laiton — латунная голова![7]
Вздрогнув, останавливаюсь на шумной, суетливой улице де Севр у входа в больницу. Пьер протягивает мне нетерпеливую руку.
— Заснул, что ли?
— Здорово, cher maître![8]
Мы входим в старое, грязное и неудобное здание больницы.
Когда снесут последнее из обветшалых зданий старых парижских больниц, мало кто пожалеет об этом. Будут рады больные и врачи, будут рады жители соседних домов. А старикам врачам моего поколения будет грустно. В старинных больницах Парижа — Отель-Дье, Лаэннек и других — мы познакомились с ясным мышлением великих французских клиницистов прошлого, полюбили легкость и точность их языка.
— Кланяйся, ниже кланяйся! — шипит Пьер, силой наклоняя мою голову. Мимо нас проезжает сверкающий черным лаком автомобиль, и мелькают крашеные усы нашего профессора-хирурга. Сам Пьер, сорвав шляпу, театральным жестом мушкетера низко машет шляпой перед собой.
— Ты что, спятил? Он тебе покажет за такое издевательство!
— Друг мой Тод, — спокойно замечает Пьер, надевая шляпу. — Ему не до нас. Мы ничтожные пешки, а он гений, король современных эскулапов. Учись у него, и ты будешь богат и знатен. Слыхал про рентгенограмму? Нет? Тогда слушай, дитя мое.
Недавно он оперировал известного фабриканта. После операции у больного боли, прощупывается что-то. «Он» просматривает больного на рентгене и заявляет, что повторная операция необходима, но весьма сложна. Он лично не хотел бы браться за нее. Фабрикант упрашивает, действует через знакомых. Наконец «он» соглашается, но, разумеется, за тройную оплату. Больной выздоравливает, и сейчас слава об «его» искусстве гремит в высшем свете. Вот и все.
— Что было у больного?
— Если будешь задавать лишние вопросы, никогда не сделаешь карьеры. Но изволь, скажу. Сперва «он» вырезал у фабриканта аппендикс, и, заметь, совершенно здоровый, а при второй операции удалил зажим, забытый им при первой. Да что ты удивляешься, тупая башка? А я тебе говорю, что он поступил гениально. Ты что думаешь, ему деньги были нужны, когда он заломил втридорога за вторую операцию? Да начхать ему на эти деньги. Он их подарил обществу защиты животных. Он спасал репутацию врача, и не только свою, но и мою и твою. Он спасал доверие больных к нам, без которого мы бессильны. А ты возмущаешься — «нечестно»! Поклонись ему в ноги при следующей встрече.
Смотрю на Пьера и не могу понять. Всю эту историю он, возможно, выдумал. Но меня смущает другое: действительно ли Пьер думает так, как говорит, или издевается надо мной?
Пьер невозмутимо шагает рядом и вежливо раскланивается со знакомыми. Он невысокого роста, с умным, серьезным лицом. Уверенная осанка, небольшие залысины, темный костюм, высокий крахмальный воротничок и манжеты, золотые очки придают ему настолько внушительный вид, что не верится, что он студент-медик и экстерн, как и я. Можно подумать, что он уже опытный врач. Санитарки и больные нередко просят его высказать свое мнение о лечении, назначенном профессором, и он охотно это делает.
Пьер в чем-то всегда опережал меня. Не в знаниях, нет. В жизненном опыте, что ли? Он как-то скорее взрослел.
В последнем классе лицея он вступал в философские споры с учителем, и, как мне казалось, весьма успешно. Но если я потом хотел продолжить начатую им дискуссию, он пожимал плечами и спокойно опровергал свое же собственное мнение, которое только что с жаром защищал.
На первом семестре медицинского факультета, когда мы, новички, следовали за профессором по палатам и жадно ловили интонации и жесты врачей, чтобы повторять их дома перед зеркалом и постичь секрет врачебной осанки, Пьер первым обрел необходимую уверенность и непринужденность в общении с больными. Через неделю он спокойно выстукивал и выслушивал больных, — конечно, когда врачей при этом не было, — хотя еще не изучал анатомии и имел смутное представление о расположении внутренних органов.
Вот и сейчас он поставил меня в тупик этой историей про фабриканта. Допустим, это вранье. Но ведь так могло быть и в действительности. Несомненно. Так что же, он осуждает профессора, восхищается им или ему наплевать?
— Стой, пришли! — останавливает меня Пьер у входа в дежурку.
Мы переодеваемся и в белоснежных халатах и шапочках, сдержанными шагами и с серьезными лицами направляемся в палаты.
«Врач — это капитан, которого вызывают на мостик, когда судно терпит бедствие. Больной должен чувствовать твердость и уверенность врача и верить в него».
«Сострадание должно проявляться в деятельности, а не в чувствительности. Врач не может умирать с каждым больным».
«Священник, врач и нотариус — каждый из них владеет одной третью человека. Не вмешивайтесь в чужие дела, но в своей области принимайте решения сами и берите на себя всю ответственность».
Следую этим афоризмам тем более охотно, что роль капитана удовлетворяет честолюбие, а от излишних чувствительности и сострадания вполне оберегает эгоцентризм молодого, здорового и жизнерадостного темперамента.
В сопровождении медсестры обхожу длинный ряд кроватей в серой унылой палате со сводчатым потолком и небольшими окнами. Говорю с больными каким-то приподнято-бодрым и слегка покровительственным тоном. У студентов и молодых врачей такой тон скрывает неуверенность в себе, у пожилых он становится привычкой, иногда ширмой для безразличия и усталости.
«Скоро завтрак», — думаю я, многозначительно рассматривая температурную кривую у изголовья первой койки. Потом перехожу к осмотру больного и снова сравниваю признаки болезни с описанием в книгах.
Так, накапливая клинические наблюдения, точно снимки, сложенные про запас, готовился я тогда к своей будущей профессии.
Добавлю, что каждый из нас, студентов, сознавал тогда, что, помимо знаний, решающее значение будет иметь умение привлечь к себе и закрепить за собой клиентуру, которая составит основу будущего благополучия. Конечно, по окончании медицинского факультета многие получат врачебный кабинет и клиентуру отца или дяди, другие купят их у коллег, уходящих на отдых. Но ведь это еще не все. Получив по наследству, купив или отвоевав свою отару больных, врач должен проявлять постоянную настойчивость, изворотливость, дипломатические способности, чтобы сохранить и по возможности расширить за счет коллег свое жизненное пространство. А как сложны отношения пастуха и овец, то бишь врача и пациентов! Последних надо стричь, снимая побольше шерсти, но сохраняя, хотя бы внешне, моральную чистоту и материальную незаинтересованность — лучшую профессиональную вывеску врача.
Немного примиряет с тем человеком, которым я был тогда, только сознание моей искренности. Я действительно верил в этические ценности, непреходящие, существующие сами по себе, и думал, что быть честным врачом — это уметь сохранять равновесие между материальными выгодами и моральными принципами. Превращаться в стяжателя — унизительно, искателя душевного совершенства — смешно.
Профессор Бине был гениальным актером. Высокий, седовласый, одухотворенный, он входил на кафедру и задумчиво стоял, выдерживая паузу, чтобы все могли запомнить главу французских физиологов, старейшего профессора Парижского университета, академика. Аудитория замирала, понимая, что он весь ушел в свои мысли, в науку. Он начинал лекцию. Его тихий, хрипловатый голос звучит сперва задумчиво среди гробовой тишины, точно Бине с трудом и сожалением отрывается от своих гениальных размышлений, чтобы поговорить с нами. Бине ставит задачу во всей ее сложности, неразрешимости. И голос стихает, замирает. Но вот в нем начинает звучать легкая надежда, заинтересованность. А может быть, все же можно решить проблему? Идут поиски решения, высказываются догадки, и голос то крепнет, окрашивается надеждой, то вновь горестно опадает, замирает. Порой профессор как бы размышляет вслух, перебирая возможные решения, порой замолкает, приглашая подумать вместе с ним. Вот нащупана правильная мысль, в голосе надежда, сперва робкая. Но факты подтверждают. Голос крепнет, звенит надежда, радость открытия, ликование! Вцепившись в кафедру длинными руками, подавшись вперед, уставившись вдаль вдохновенным взглядом, Бине гремит, ликует, взывает. Голос звенит как иерихонская труба, призывая к подвигу во славу науки. Потом финал — голос вновь задумчивый, одухотворенный, мудро размышляющий: за решенной проблемой возникла новая, еще более грандиозная и трудная. Поистине неразрешимая. Это пролог к следующей лекции. И погруженный в свои мысли, Бине устало покидает кафедру, выходит из аудитории. Так и верится, что вот он направился в свою лабораторию ставить опыты и размышлять.
«Старый шут», — сказал Анри после первой лекции и перестал ходить. Я искренне обиделся за науку и чуть не поссорился с Анри.
«Binet, ferme ton robinet» — «Бине, заткни свой кран», — сказал Пьер на третьей лекции и тоже перестал ходить[9]. Наивный русак, я слушал Бине с упоением. Разве можно было сравнить блестящего Бине с суховатым Жолио-Кюри, лекции которого я посещал в Сорбонне?
Прошли годы, я помню самого Бине и инсценировку его лекций в малейших деталях, но не помню, о чем он говорил: Жолио-Кюри почти забыт, но содержание его лекций осталось в памяти.
Профессор Полоновский был франтом и аристократом. Читал лекции с легкой иронией и пренебрежением: «Ну что вы, дуралеи, тут можете понять?» Это бесило меня, я решил разобраться. Стал ходить в Сорбонну на лекции органиков, физхимиков, физиков. Подружился со студентами Сорбонны и назло Полоновскому был наконец зачислен moniteur — младшим ассистентом на кафедру биохимии.
Кафедра была расположена в большом сером неудобном корпусе в глубине маленького дворика, скрытого за круглым зданием амфитеатра.
Мы условились с ребятами, что они заедут за Эли и за мной на «Пегасе», и мы все вместе поедем на бал интернов.
В лаборатории тихо, совсем тихо. В большой колбе кипит розовая вода, через холодильник изредка пробегают пузырьки, капает бидистиллят. В сокслете равномерно вскипает эфир, и свет настольной лампы переливается в колбе, растекаясь волнами по белому кафелю столов. За большими окнами темные крыши, вдали мерцают огни Латинского квартала.
Руки заняты привычным делом, глаза следят за прибором, мысли бегут сами собой.
С улыбкой вспоминаю, как мама беспокоилась утром, узнав, что я собираюсь на бал интернов.
— Но у тебя нет приличного вечернего костюма, — говорила она. — И рубашки все грязные. Может быть, я успею постирать до вечера?
— Сам постирает, если нужно, — буркнул отец и подозрительно покосился на меня, когда я охотно согласился.
Не мог же я сказать, что ни вечерний костюм, ни рубашка мне не нужны, что это такой бал, где чем меньше одежды, тем лучше.
«Зют! Опять недостоверно, — ругаюсь я мысленно, просматривая расчеты ранее сделанных анализов. — Надо ставить новую серию. Патрон будет недоволен».
— Здорово, Тод! — хлопает меня по плечу Эли, который бесшумно зашел в лабораторию.
— Здорово, старик! Садись, я сейчас. Вот только доведу озоление до конца.
Эли устраивается у окна. Он садится на высокую табуретку, ставит ноги на верхнюю перекладину, опускает свои покатые плечи. Его фигура в темноте напоминает большую птицу, отдыхающую на ветке. Слегка светится бледное лицо, овальное, с большим ироническим ртом и длинным унылым носом. Вьющиеся волосы аккуратно зачесаны назад.
— Ты чему смеешься, Тод?
Я не смеюсь и даже не улыбаюсь, просто я вспоминаю забавный эпизод из жизни моего друга, который ребенком жил с родителями в Чили.
— Лама плевалась?
— Плевалась. Понимаешь, идет себе это глупое животное, высоко задрав самодовольную морду, и ни на кого внимания не обращает. А как поравняется со мной, посмотрит и плюнет. Так просто, без злобы — тьфу! Отец, мать, сестра, товарищи — все ничего! А на меня плюет. Я так и ходил заплеванный, пока мы не уехали из Чили.
Не могу удержаться от смеха. Но это не обижает моего друга.
— Ну что, стало легче? — спокойно спрашивает он. — Ну и чурбан же ты, латунная голова! Смех у тебя зарождается где-то в утробе. Сидишь, как мешок, и гогочешь.
— Ну и что?
— Тод, ей-богу, в тебе чего-то не хватает. Ты не то что более примитивен, чем мы, но ты вроде язычника. Ты о смерти когда-либо думаешь?
— Нет. Зачем?
— Истинно: дуракам счастье! Такие типы, как ты, пожалуй, и не умирают. Ведь ты чурбан, до последней секунды будешь уверен, что выживешь. Ну а когда умрешь, тем более думать не будешь. И все. Ты вроде мухи. Ты никогда не поймешь, что жизнь — это преддверие смерти.
— К черту философию!
Я запеваю:
— «J’ai eu de son cœur la fleur la plus belle dans un beau lit blanc borde de dentelle…»[10]Эли подхватывает песню. Мы поем во весь голос. Звенят стекла в старом здании.
«Le bon vin m’endort, l’amour me réveille encore!»[11]Многоголосый хор подхватил припев. В лабораторию вбегают со смехом Анри, Жаклин, Мириам, Пьер, Мишель и Ги.
— Ребята, живее! Опоздаем.
Сбегаем по гулкой лестнице. Перед парадным входом стоит «Пегас», вокруг которого уже собралась порядочная толпа зевак.
«Пегас» был приобретен полгода назад в складчину. Мы купили его на «блошином рынке» — толкучке, где он уныло стоял, заваленный тряпками, пустыми канистрами и поломанными шкафами. Нашли мы его случайно.
— Ребята! — сказал Анри, останавливаясь перед поломанным шкафом и поводя своим гасконским носом. — Я, кажется, сделал крупную археологическую находку. Эта статуэтка самого чистого греческого стиля.
— Какого века? — спросил Эли.
— Пятый век до нашей эры.
— Какой школы?
Анри несколько минут разглядывал бронзовую статуэтку и даже обошел кучу хлама, из которого она торчала, чтобы взглянуть на нее с другой стороны.
— Узнаю руку Поликлета, — решил он наконец.
— Подлинник! — согласился Ги.
Как всегда корректный и подтянутый, он не спеша, с большой серьезностью протер золотые очки и стал внимательно разглядывать статуэтку.
Рядом с кучей барахла сидел старик еврей. Низко склонив седую голову, он читал грязную книжонку, не обращая внимания на нас.
— Высокочтимый, Диоген, мудрейший циник, — обратились мы к старику. — Продайте нам Венеру Поликлета.
— Отойдите от солнца, — попросил старик и дочитал страницу. Потом уточнил: — Это не Венера Поликлета, а Венера Милосская. Ее точная копия в Лувре.
— Гм… А можно взглянуть поближе?
— Нет. Покупайте так или проваливайте.
Забавы ради мы поторговались минут пятнадцать и купили статуэтку за двести франков в складчину.
Пьер доставал деньги неохотно. На бутылку хорошего вина он не пожалел бы денег, но на такую Венеру!..
— Дрянь, а не Венера, — пробурчал он.
— Так о женщине! — возмутился Анри.
— Из Венеры сделаем пресс-папье, — предложил Эли, — и подарим Району. Это тот стиль начала столетия, который Рамон ненавидит до тошноты.
— Венеру берите сами, вместе с пьедесталом, — предупредил старик, сунул деньги в карман и возвратился к чтению.
Статуэтка не поддавалась нашим усилиям. Когда же мы разобрали кучу хлама и сбросили сломанные шкафы, мы увидели, что купленная нами фигурка украшает радиатор какого-то невероятного автомобиля-коляски девятисотых годов. Перед нами был гибрид последнего фаэтона с первым автомобилем.
— А лимузин наш! — воскликнул Анри с чисто гасконской экспансивностью. — Мы купили статуэтку с подставкой.
— Конечно, — спокойно согласился старик. — Вот уже три года, как я пытаюсь продать его за пятьдесят франков.
Мы переглянулись, Пьер процедил сквозь зубы.
— Что за манера выбирать автомашины по радиаторным украшениям!
Чтобы позолотить пилюлю, старик еврей подарил нам впридачу свою книжечку, которая оказалась «Антигоной» Софокла, и просил избавить его поскорей от «рольс-ройса».
Мы окрестили свою покупку «Пегасом» и часа два толкали нашего крылатого коня до госпиталя, где Мишель чинил его месяца три. К счастью, шины были из цельной резины. Потом мы покрасили «Пегас» в яркие цвета, нарисовали на кузове усатого ажана с белой дубинкой, написали рядом приветствие гладиаторов Цезарю перед боем: «Ave, Caesar, morituri te salutant!» — «Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!»
«Из подхалимства», — как сказал Эли.
Вот этот «Пегас» и стоял теперь перед главным входом медицинского факультета.
Ги забрался в машину и с достоинством обратился к толпе зевак:
— Граждане Французской Республики, разойдитесь! Где толпа, — там полиция, где полиция — там неприятности. Смотрите с того тротуара.
Толпа понимающе отодвинулась, но не разошлась.
Документы на машину в полном порядке, но почтенный Диоген, вручая их нам, просил не показывать их полиции.
— Зачем искушать судьбу? — заметил он вполне резонно.
Мы выезжаем на «Пегасе» только в торжественных случаях, как сегодня, например. Дело в том, что тормоза совсем не держат. В обычное время «Пегас» стоит на госпитальном дворе. Там разработан небольшой стандартный маршрут с тремя препятствиями. Студенты и молодые врачи по очереди состязаются в скоростной езде на «Пегасе». Показанное время и имена победителей украшают стену столовой медицинского персонала.
Кроме Анри, мы все имеем права шофера-любителя. Но именно Анри, который никогда не садился за руль нормальной автомашины, добился наивысших показателей на «Пегасе». Сказалась горячая южная кровь.
Сейчас, как назло, что-то не ладится. По очереди крутим ручку, нажимаем на рычаги и проверяем контакты, но мотор молчит. Публика подает советы и подбадривает нас.
— Слушай, Мишель! — возмущается Анри. — Мотор — это физический прибор. Неужели ты, физик, ничего сделать не можешь?
— Всасывание, сжатие, сгорание, удаление газов, — бормочет Мишель. — Это в нормальном моторе, а здесь?
— Принципиальная непознаваемость материи? — осведомляется светским тоном Жаклин. Мишель только морщит широкий лоб и почесывает курчавую шевелюру.
— Ну их к черту, этих Эйнштейнов! — взрывается Пьер. Он снял свой черный пиджак и расстегнул крахмальный воротничок. — «Пегас» — существо живое. Лечить буду я. Тод, беги за спиртом.
После того как мы влили спирт в карбюратор и минут десять крутили за ручку, «Пегас» неожиданно чихнул. Показалось, что Мириам и Жаклин, которые уже сели в фаэтон, одновременно икнули. Потом еще раз, еще. «Пегас» стал подпрыгивать на высоких рессорах. Публика засмеялась, глядя, как синхронно подскакивают девушки.
— Ребята, навались! Надо нагрузить «Пегас», чтобы он не рассыпался от работы мотора.
Ги поправляет свои золотые очки, садится за рычаг управления и вежливо кланяется толпе, которая аплодирует. Начинаем толкать «Пегас». Ги поднимает руку — это значит, сцепление удалось включить. Мы по очереди прыгаем в фаэтон. «Пегас» бодро подскакивает, точно стремится взлететь. Когда Ги поднимает руку перед перекрестком, мы спрыгиваем и, схватив фаэтон за крылья, тормозим.
В госпиталь Лаэннек мы въезжаем как победители, под аплодисменты экстернов.
Пора на банкет. Но сперва надо подумать о вечерних туалетах. На балу интернов не менее строго соблюдаются правила туалета и этикет, чем на приеме у президента. Мужчины носят короткие полосатые юбочки и тапочки. Женщинам полагаются, кроме того, цветные платочки, которые хитро складываются и перекручиваются. Концы платочков завязываются за спиной на уровне лопаток. Регалии, ордена и запонки мужчин, ожерелья и серьги женщин заменяет разноцветный грим. На лице и открытых частях тела появляются яркие и замысловатые рисунки. Обилие открытых поверхностей дает полный простор фантазии живописцев-любителей.
На вечер мы пригласили девушек из ближайшего кабаре. Некоторые из наших студенток тоже согласились провести вечер с нами. Они знают, что никто из нас не позволит себе лишнего.
Но как странно проявляется чувство приличия!
Девушки стесняются наших необычных костюмов. Они испытывают искреннее облегчение, когда Анри, вооружившись красками, начинает разрисовывать их спины и другие открытые части тела.
На спине Жаклин Анри рисует несколько пальм с попугаями и райскими птицами. Он настолько увлекся рисованием, что Жаклин наконец протестует:
— Оставь декольте побольше. Вечерние платья носят сейчас очень открытыми.
За пальмами и попугаями она, видимо, ощущает себя вполне одетой и даже боится быть не по последней моде!
Массивные больничные столы поставлены в ряд и накрыты грубыми простынями, на которых стоит клеймо «АП». Дешевые тарелки, граненые стаканы, погнутые больничные вилки и ножи разложены в безупречном порядке. Колбы, фарфоровые сосуды и кружки Эсмарха с вином придают столу живописный вид, гармонирующий со стенами, расписанными на щекотливые темы нашими друзьями — студентами Академии изобразительных искусств.
— Глубокоуважаемые коллеги! — Ги стучит скальпелем по кружке Эсмарха, встает, подтягивает несуществующие манжеты и поправляет на тощей шее отсутствующий галстук, потом он окидывает присутствующих торжественным взглядом. Прямо вельможа! Десять поколений знатных предков-гугенотов что-нибудь да значат! — Вы посвятили себя благородному делу — медицине! И многие из вас достигли изумительного искусства: припарки, банки, клизмы не имеют больше секретов для вас. Вы — гордость медицины и ее надежда! — Ги придерживает юбочку, которая сползает с его плоского живота. — Налейте же стаканы, выпьем за Эскулапа и споем песню рыцарей «круглого стола»!
Шум. Нестройное пение. Притворно возмущенные возгласы девиц. Еды мало, вина много, веселья — хоть отбавляй. Хорошо, что палаты с больными далеко — шум туда не доходит.
Прорывается звонкий гасконский говор — это Анри рассказывает про Пиренеи. Рядом сидит Пьер, его трудно узнать без темного костюма и крахмального воротничка. На том конце стола поют. Вижу, как одновременно открываются рты, но не слышу песни.
Среди общего веселья забавно выглядят щупленький Эли и долговязый Ги. Откинувшись непринужденно на спинку стула, положив одну на другую свои волосатые ноги, Ги попивает вино маленькими глотками и ведет светскую беседу. Эли рассеянно слушает, кивает длинным носом и поглядывает по сторонам.
Но вот я замечаю, что Анри пытается что-то сказать. Он привстал и, сложив руки рупором, кричит, но я не слышу. Он начинает объяснять жестами.
Ага, понял. Пора ехать на бал.
После ужина студенты-медики, занимающие должности экстернов и интернов, съезжаются из клиник и больниц в большой танцевальный зал, который специально арендуется и украшается на этот вечер. Там царит веселье до самого утра. Но туда приличные девушки не едут.
Попрощавшись с Жаклин и Мириам, мы забираемся в автобус. Мы не успеваем отъехать, как Анри вспоминает о «Пегасе» и начинает громко требовать, чтобы мы взяли нашего верного коня. Все поддерживают Анри.
«Пегас» привязывают тросом к автобусу. Корректный Ги надевает белую рубашку и тщательно заправляет ее в полосатую юбочку. Потом завязывает галстук, натягивает перчатки, поправляет золотые очки и садится за рычаг управления.
Мы доехали до зала Ваграм без особых инцидентов, если не считать глупых шуток прохожих, на которые Ги отвечал с большим достоинством.
У входа в зал празднества нас встречает смешанный отряд полицейских в синих пелеринах и студентов-медиков, облаченных в картонные доспехи римских легионеров с деревянными мечами у пояса. Полицейские стоят шеренгой на тротуаре, легионеры тщательно проверяют группы прибывающих, чтобы не проскользнули посторонние.
Нас пропускают по одному, и, когда приоткрывается дверь, из зала вырываются смех, крики, пение и топот ног. Ошеломленные, мы останавливаемся у входа.
Зал имеет форму подковы, с одной стороны возвышается что-то вроде сцены. Вдоль стены полукругом тянется широкий балкон, или галерея, которую поддерживают чугунные столбы. Эти столбы отграничивают что-то вроде глубоких лож под балконом. В них бочонки вина, грубые столы и скамейки. Врожденная скромность и благоприобретенная на Родине стыдливость не позволяют мне описать художественное оформление этих лож.
Ги выпрямился, Эли попятился к выходу, я приоткрыл рот.
— Сюда! — Пьер первым пришел в себя и показывает рукой на одну из лож. — Устроимся в той ложе с… — Пьер запнулся, — с таким заметным украшением.
После нескольких стаканов вина мы чувствуем себя вполне уютно. Шум и топот кажутся очень милыми, а веселье, клубком перекатывающееся по бурлящему залу, тянет к себе.
Первым встает Пьер. Пригладив всклокоченные волосы, одернув свою юбочку и похлопав себя зачем-то по голому полному животику и волосатой груди, он поправляет очки на носу и с широкой улыбкой выходит в зал.
Эли и Ги попивают вино с философским спокойствием, точно вся эта вакханалия их не касается. Правда, Эли нет-нет да поворачивает свой длинный нос в сторону зала и с трудом сдерживает привычную грустную улыбку. Ринуться очертя голову в этот омут, он, конечно, не ринется. Боже упаси! Но он не прочь наблюдать со стороны и погреться у общего веселья. Что касается Ги, то он просто великолепен. Сознание собственного достоинства так ощутимо облекает его худущее тело, что он кажется в смокинге.
Вдруг, точно пущенный из пращи, к нам в ложу влетает взъерошенный медик и падает на скамейку рядом с Ги. Он оторвался от бешеного хоровода, раскрутившегося по залу с диким гиканьем и свистом. На шее незнакомца повязаны трофеи — дамские нагрудные платочки, а на раскрашенной груди болтается фонендоскоп.
— Ра-разреши, красавица, — говорит он, отдышавшись, и тычет трубкой фонендоскопа в сторону Ги. — Я послушаю твое сердце. Ты умница, что сняла платочек, он мешает выслушать.
Сверкнув очками, Ги встает. Спокойно представляется и добавляет:
— Весьма рад познакомиться. Весьма!
Это сказано так, что взъерошенный медик начинает пятиться на скамейке…
— Гик… — говорит он. — Гик… весьма.
Свалившись с края скамейки, он довольно ловко выбегает в зал на четвереньках.
С минуту я колеблюсь — остаться с Ги и Эли или нырнуть в поток общего веселья?
«Да что я, не мужчина?»
Одернув юбочку, выхожу в зал. И меня закружило.
Далеко за полночь, усталый, потный, я болтаюсь как щепка на волнах пьяного разгула, пока меня, точно прибоем, не прибивает к «нашей» ложе. Прислонившись к чугунной колонне, стараюсь успокоить беспричинный глупый смех, который то и дело поднимается во мне в ответ на взрывы хохота в зале. Осматриваюсь.
Ги ушел. Он пробыл ровно столько, сколько надо было, чтобы не высказать нам осуждения. В ложе Пьер. Собрав вокруг себя небольшой кружок ценителей, он упражняется в остроумии. Сидя прямо на полу, компания остряков выражает одобрение очередному рассказчику, колотя кружками по опустевшим бочкам.
— Где Эли?
Пьер показывает наверх.
— Вознесся на небо?
Подумав, Пьер отрицательно качает головой и показывает на балкон.
Перешагивая через чьи-то ноги и пропуская мимо ушей брань встревоженных парочек, пробираюсь на галерею, где, облокотись на перила, одиноко стоит Эли, спокойно созерцая сверху водоворот человеческих тел.
— Ну что, отплясался, язычник? — приветствует он меня.
Под нами гудит, скачет, гогочет толпа размалеванных чертей. Хватаюсь за перила от мимолетного головокружения.
— «Оно» начинает выдыхаться, — замечает Эли.
— Оно?
— Вон «оно», — кивает он вниз. — Тысяченогое, тысячеголовое, тысячегрудое, двуполое чудовище. Пора по домам.
— Ладно, поехали. Иди к выходу, я поищу Анри.
Иду вдоль галереи, заглядывая в укромные уголки. Всюду слышатся шушуканье и приглушенный смех.
Под лестницей сидят две девушки из кабаре, устало прислонившись к стене.
— Когда взрослый — еще ничего, — говорит одна вполголоса, — но когда такой маленький болеет. Жалко его…
— Скоро пойдем спать, — отвечает другая, зевая.
Теперь я чувствую, как я устал. Где Анри?
Нахожу Анри на лестничной площадке. Он сидит на ступеньках, прижавшись спиной к чугунным перилам. Какая-то девица, свернувшись клубком у его ног, спит, положив голову ему на колени. На ее усталом накрашенном и густо напудренном лице темными полосами остались следы подсыхающих слез.
— Хорошо, идем, — соглашается Анри. Погладив спутанные волосы, он осторожно перекладывает голову девицы на ее согнутую руку. Она вздыхает и по-детски чмокает губами во сне.
Анри встает. Пошатнувшись, он хватается за перила и на минуту закрывает глаза.
Потом пристально смотрит в зал, точно впервые замечает царящий внизу разгул. Его нос с горбинкой вызывающе подается вперед, на скулах обозначились желваки, черные глаза смотрят в упор, не мигая.
Анри мертвецки пьян.
— Веселятся… изо всех сил. В поте лица своего, — говорит он язвительно. — Впустую! Ни любить, ни веселиться они не умеют. Телом, сердцем и душой. Не так это легко, как кажется, любить. А это — просто à fleur de peau — поверхностно!
— Анри, пойдем. Я безумно устал.
— Ты пьян, — резко обрывает Анри. — Пошли!
Единственный трезвый в нашей компании Эли берется развезти нас по домам на верном «Пегасе», который простоял всю ночь у тротуара среди дорогих машин.
К нашему большому удивлению, «Пегас» завелся с первого поворота рукоятки. Усевшись вчетвером в тряский фаэтон, мы возвращаемся под утро по пустынным, захламленным улицам Парижа. Эли сосредоточенно молчит, следя, чтобы «Пегас» бежал прямо, не петляя.
На душе муторно, противно. А еще этот трезвый Эли. Осуждающе молчит, длинноносый!
— Ездить не умеешь, — бурчит Пьер. — Не езда, а физиотерапия. Все внутренности растрясло.
Выезжаем на простор площади Согласия. Посреди площади плещется фонтан, темнеет вода неглубокого бассейна, окаймленного белым мрамором.
— Эли, стоп! — командует Анри. — Искупаемся.
— Ребята, что вы, — взмолился Эли. — Будут неприятности. С ума сошли!
К черту этого благоразумного святошу!
Спрыгиваем и, схватив «Пегаса» за крылья, останавливаем его без особого труда вместе с его трезвым шофером. Чихнув раза два, он замирает. Ничего, подождете, голубчики.
Присев на край бассейна, рассматриваю свои босые ноги в воде. С мокрой головы капают крупные капли. Усталость. Безразличие.
Небо светлеет. Блестит асфальт, зеленеет листва Елисейских полей и сада Тюильри, белеют каменные ограды, плывет туман над Сеной. Обелиск стрелой уходит в желтоватое небо. Все тихо. Только журчит вода, переливаясь через край мраморных чаш, и изредка шуршат шинами автомашины.
Анри бродит по колено в воде, как цапля. Узоры на его спине и груди потекли. Мокрые волосы свисают на лоб. Рукой он поддерживает сползающую юбочку. Пьер сидит рядом со мной и старается достать ногой камушек со дна.
— Старики, давайте смоем краску.
Залезаем в воду. Моемся. Потом сидим немного на скользком дне бассейна. Стараемся ни о чем не думать.
Эли остался за рулем «Пегаса». Он поглядывает на нас сверху вниз, поторапливает:
— Шевелитесь, старики. Ночь прошла, и рассеиваются темные чары Диониса.
Тоже мне остряк!
— Слушай, Эли, я, кажется, понял, почему ламы плевались.
— Ave, Caesar, morituri te salutant! — с пафосом читает Пьер надпись на «Пегасе». Потом поворачивается к Палате депутатов и поднимает руку, точно и впрямь приветствует Цезаря от имени идущих на смерть гладиаторов.
— Валяй, валяй, — говорит Анри тихо и зло. — Всем будет morituri. И скоро. По зову родины…
Сразу стало скучно и трезво.
Оглядываюсь на спящий Париж. Спит Париж. Тяжело, тревожно.
…А где-то там, в Испании, льется кровь.
Подтягиваю юбочку, поеживаясь от холода.
— Поехали, — резко говорит Анри.
От Эйфелевой башни я шел пешком, накинув на плечи легкий плащ.
После купания в бассейне слегка знобит. Прохладный ветерок гонит по грязному асфальту обрывки газет и поднимает пыль. Спят нарядные особняки. У края тротуаров стоят высокие круглые мусорные ящики. Над одним из них склонилась седая неопрятная старуха. Железным крючком она роется в мусоре. Рядом стоит бледная худая девочка лет восьми. Она удивленно смотрит на меня.
Немного дальше, у закрытой булочной, веселые парни сгружают с грузовика мешки с мукой. Они не обращают на меня внимания.
На скамейке бульвара, прикрывшись газетами, спит безработный бродяга.
Вот я и дома. Квартира пуста, родители и брат на даче.
Не снимая плаща, сажусь к письменному столу, у открытого окна. Книги и бумаги в сторону.
Светает. Перед окном — тихий перекресток. На противоположном углу — двухэтажный отель. Справа к нему прилегает гараж, слева над ним возвышается глухая кирпичная стена восьмиэтажного дома. Высокая темная плоскость стены — как декорация на сцене. Маленький отельчик, заросший плющом, совсем как игрушечный. Над дверью горит призывный красный фонарик. На стене гаража жирными буквами написано: «Пушки и самолеты для Испании!» Рядом мелом — ругательство.
Знакомый с детства перекресток кажется чужим. Точно все приобрело затаенный смысл. И домик, и высокая стена, и надписи, и девица в желтом джемпере, которая в отсутствие клиентов вышла подышать утренним воздухом.
Глупая, невозможная усталость… И непонятная тревога…
Метла дворника скребет по мостовой, с ближайшей лавчонки с грохотом снимают деревянные ставни.
Сделав усилие, встаю, иду в ванную.
«Если выехать поездом через час, еще успею в Пуаньи. К Тильде».
Прожив длинную жизнь, мы меняемся настолько, что порой сами не помним, какими мы были когда-то. Но, встретив друзей далекой юности, мы снова становимся такими, какими были в молодости. Конечно, ненадолго, но все же! Прошлое живет в подсознании, и всегда возможен кратковременный возврат к былому. Но если жизненный путь был длинным и мучительным, мы инстинктивно выключаем из памяти наиболее тяжелые отрезки пройденного пути и наш внутренний мир раздваивается: или прошлое, или настоящее. А они бывают не только очень различны, но и психологически несовместимы. И тогда воскресшее прошлое и радует и тревожит.
В свой последний приезд в Москву Эли сидел вот на этом диване, у моего стола, опустив плечи, чуть иронически скривив губы, и смотрел в окно на ночной город, на огоньки машин, бегущих по Дорогомиловской набережной. На черном фоне стекла отражался знакомый силуэт, седеющие виски, уставшие глаза и на отвороте пиджака алый скромный значок офицера Почетного легиона. Рядом со мной сидел не известный ученый, член правительственной делегации Франции, а студент Латинского квартала.
Мы говорили о наших ребятах. Ги и Куки живут недалеко от Парижа. Их имена известны в мире науки. Книги Ги стоят у меня в шкафу. Пьер и Жаклин преуспели, принадлежат к избранному кругу общества. Мириам осталась верна нашей молодости: вернувшись чудом из Равенсбрюка, она живет одна в центре Парижа, у Буль Миша. Вспомнили Латинский квартал, посмеялись. Радость ожившей юности!
А потом мы долго смотрели в окно. И из ночной тьмы на нас смотрели те, кто погиб, о ком мы умолчали. Тревога и боль ожившей юности!
Эли перевел взгляд на рисунок Шерфига, что у меня на стене: под дудочку крысолова пай-дети шагают к своей гибели.
Он ни о чем меня не спросил. Я его тоже.
Иногда я бываю во Франции. Из аэропорта Де Голль я еду не в Париж, а в деревеньку Мюллерон, что вблизи Бри-су-Форж, и провожу день или два с Ги и Куки.
Забыв о своей лаборатории, Куки накормила кур и гусей, потом, сбросив сабо[12] и подобрав ноги, свернулась калачиком в глубоком кресле перед пылающим камином. Глаза блестят как в молодости, а волосы совсем седые. Ги осмотрел фруктовые деревья в саду и грядки, отдал по телефону распоряжения дежурному по клинике и устроился рядом со мной, вытянув длинные ноги. Из Парижа приехали Мириам и Эли. Мы снова вместе, согреты теплом вина и дружбы. Ги вставил в магнитофон кассету с собственной записью, и в большом полупустом доме звучит его глуховатый голос:
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage… Et puis est retourne, plein d’usage et raison…[13]Тихо завершается жизненный путь моих друзей в пределах голубого круга, в котором начиналась когда-то моя жизнь. Трещат дрова в камине. За окном зачарованная ночь. Что-то далекое и родное теплеет в душе. Ронсар, Верлен, Рембо…
Но вот пробуждается нетерпение, растет тревога. Неужели вы не слышите подземный тревожный гул, не видите зарево вдали?
Вскочить? Распахнуть окна? Дать слово поэту-агитатору, горлану-главарю?
Стихи стоят свинцово тяжело… Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло Нацеленных зияющих заглавий.Слова звучат в уме весомо, грубо, зримо, дробят мелодию лирических стихов. И снова тянет в путь, в метель и непогоду.
У каждого своя судьба.
ПАРИЖ
Будем справедливы. Париж — не Латинский квартал и не бал интерната. Париж — это Париж.
6 февраля 1934 года мы были с Робертом Юнгом у квакеров.
Берлинец, сын писателя, Роберт бежал из Германии, когда Гитлер пришел к власти. Мы познакомились с ним случайно, в Пуаньи. Как-то он постучал в калитку нашего домика и попросил сдать ему комнату. Ломаный французский язык незнакомца расположил к нему отца, который пустил его в дом. Мы подружились с Робертом и, вернувшись в Париж, стали вместе ходить на собрания.
У квакеров мы были впервые и пошли к ним, чтобы послушать писателя Эренбурга.
В маленьком зале было тесно и душно. Эренбург рассказывал о жизни советских студентов, приводил забавные случаи: как в Москву приезжают учиться юноши и девушки из малых северных народностей, еще малограмотных, и привозят с собой амулеты. А потом через год-два сдают их в музей. Я слушал и думал: Москва? Где-то далеко, в другом мире. И где-то «там», у стен Кремля, за столиками кафе сидят русские студенты в сапогах и косоворотках и студентки в платочках и спорят о мировой революции…
После собрания мы возвращались вдоль Сены. Пахло сыростью. Тускло светили фонари. Темные ящики с висячими замками стояли в ряд на каменной ограде, сберегая до утра сокровища букинистов. По ту сторону реки чернели башни и крыши старых зданий на острове Ситэ.
Что-то смутно тревожит меня. Почему нет влюбленных парочек в тени деревьев? Нет понурых clochards — бродяг и тощих собак, которые стекаются к Сене по ночам. Город точно притаился.
— Постой, что тут происходит?
Доносится мерный топот шагов. Из боковой улицы выходит колонна людей в кожаных пальто, темных беретах и с тяжелыми тростями в руках. Они идут строем, молча.
— Скорее, скорее! — торопит их хриплый голос. — К Палате депутатов!
Вдруг впереди, над крышами домов, вспыхивает зарево. Доносится приглушенный рев толпы.
— Это у площади Конкорд, — определяю я. — Давай бегом!
Огибаем спящий Лувр, бежим вдоль решеток Тюильри. На улицах опрокинуты скамейки, вырваны решетки у основания деревьев, разбиты стекла витрин. Впереди все явственней гудит толпа. Скорее гуда!
Синеватый отблеск осветил улицу — это сунули чугунную решетку в трамвайный рельс и вызвали короткое замыкание. Пылает подожженная автомашина. Вокруг мелькают черные силуэты.
— К Палате депутатов! К Палате депутатов! — кричат в темноте.
На площади Конкорд мечется толпа. Она то бросается вперед, то, отхлынув, разбегается по площади. Над толпой тяжело покачивается крыша автобуса. Вот крыша накренилась и рухнула. Звон разбитых стекол и скрежет железа потонули в многоголосом реве.
Автобус вспыхнул. Взметнувшееся пламя распалило толпу. Она бросилась вперед.
Вдали, перед мостом через Сену, стена темных полицейских пелерин.
Прижатые к каменной ограде, мы удивленно оглядываемся. Вот мимо пробежали прилично одетые молодые люди.
— Францию французам! Долой шлюху! Долой прогнивших политиканов! Да здравствует де ла Рок!
Пригнувшись, вдоль ограды крадется тень. В руке револьвер.
Впереди раздались выстрелы. Толпа отхлынула в беспорядке. Под руки ведут раненого. На опустевшей площади лежат тела.
— Продали, суки! — хрипит голос в темноте. — Была договоренность с полицией.
В общем потоке бросаемся прочь. Сделав крюк, снова выходим к Сене и перебираемся на левый берег через мост Альма. Теперь мы в безопасности.
— От них не уйти, — говорит Роберт. — Они всюду.
— Кто?
— Фашисты. Не смейся, ты их не знаешь.
Спешу домой.
Рабочий пятнадцатый квартал проснулся. На перекрестках собираются люди. Они молча смотрят по направлению к центру города, где пламенеет небо.
А однажды рабочий Париж мощным приливом затопил Латинский квартал. Вокруг Пантеона, запрудив всю площадь и улицу Суффло, стоит толпа. Над толпой колышутся трехцветные и красные знамена. Слышится сдержанный гул, доносятся возбужденные голоса. С пением колонны трогаются вниз по улице Суффло, сворачивают на улицу Сен-Жак.
Укрывшись в подъезде, мы смотрим, как вдоль стен Сорбонны течет нескончаемое людское море. Идут люди с трехцветными лентами через плечо, красными повязками и транспарантами. В тележках едут инвалиды войны, шагают рабочие. С красными значками на отворотах темных пальто идут учителя и преподаватели. Шумной колонной течет молодежь. Над толпой перекатывается нестройное пение. «Интернационал». Народ запрудил Латинский квартал. Кажется, еще немного, и под напором людского потока подастся в сторону серое здание Сорбонны.
Такого я никогда не видел. Латинский квартал целиком занят «левыми». Невероятно! А где же молодчики в беретах, которые претендуют на безраздельное господство в этих краях?
На балконах и в окнах стоят молодые люди. Они, кажется, осыпают бранью людей на улице. Но их не слышно за мощным гулом толпы.
Вот толпа расступается, и вперед выходят старики. Один в берете, седой как лунь, шагает бодро. Другой — со сморщенным, худым лицом, тяжело опирается на палку.
— Коммунары, — говорит кто-то. — Последние.
С балкона кричат:
— Ископаемые, на кладбище! Долой коммунистов!
Старик в берете выпрямляется. Смотрит вверх:
— Спустись вниз, сопляк! Поговорим.
Смех, аплодисменты. С балкона плюют.
Идут работники библиотек, институтов, Сорбонны, Коллеж де Франс, служители, препараторы, лаборанты. Те, которых обычно не замечаешь. С ними некоторые ассистенты, профессора, преподаватели.
На отвороте пальто у пожилого профессора красный флажок. Рядом идет худощавая седая женщина. Она поправляет кашне профессора. Старик идет среди своих коллег. Спокойно, с достоинством, как настоящий хозяин Латинского квартала.
Вдруг ниже по улице Сен-Жак, там, где колонна круто поворачивает, выходя на простор бульвара Сен-Жермен, раздаются крики.
Из боковых улиц выбегают молодые люди. Над толпой мелькают трости.
— Долой республику! Францию французам! Бей коммунистов! — доносится до нас.
Ворвавшись в колону преподавателей, группа молодчиков орудует палками. Толпа пятится. Седая женщина отводит в сторону старика профессора. Он потерял очки, кашне висит на плече.
— Ну это слишком! — Из Сорбонны выбегают студенты.
Но тут с внезапным взрывом возмущения толпа смыкается. Я увлечен в водоворот спин. Над головами мелькают трости. Потом одного за другим толпа выплескивает молодчиков. Помятых, всклокоченных, без палок и беретов. Под свист и улюлюканье они скрываются в переулке. Чтобы поддержать своих, в окнах и на балконах затягивают «Марсельезу».
Нападение остановило движение колонны. Люди стоят плотной стеной. Услышав «Марсельезу», они поднимают головы. К окнам тянется море вскинутых кулаков.
— Наша «Марсельеза», наша! — негодует рабочий рядом со мной. Он подхватывает припев.
И вдруг, точно по команде, толпа грянула «Марсельезу». В такт заколыхались поднятые кулаки.
В ногу, под гимн французской революции шагают ряды. Балконы и окна опустели.
После этого выступления и до прихода к власти Народного фронта Латинский квартал переживал период неопределенности и нарастающего напряжения. Было не до «мономов».
Студенты сразу повзрослели. Латинский квартал перестал существовать как замкнутый в себе мирок. События, потрясавшие Европу, ворвались в Латинский квартал. Стычки между традиционно правыми студентами медиками и юристами, с одной стороны, и традиционно левыми «сорбоннарами», с другой, перестали походить на забавы, после которых соперники нередко собирались вместе за кружкой пива. Появилась настоящая враждебность, которая постепенно росла. Каждый выбирал свой путь. И каждый понимал, что это всерьез и надолго.
Моими друзьями стали Анри и Роберт. И Тильда, с которой мы теперь встречались в Латинском квартале, бывали на митингах и дискуссиях. Тильда как-то сразу повзрослела. Элегантная, в широком шотландском пальто, фетровой шляпке с полями, замшевых перчатках и спортивных туфлях, она сразу вошла в напряженную атмосферу того времени. Точно ждала ее. Странно, что я не видел ничего особенного в том, что она, почти девочка, так быстро и естественно стала разделять наши тревоги и надежды. Более того, она была всегда впереди, требовательная, нетерпеливая.
В Латинский квартал стали заходить продавцы «Юманите», чего раньше никогда не было. Помню, как однажды двое солидных студентов-юристов в золотых очках прижали к стене молоденького парнишку, продававшего «Юманите». Прикрывшись кипой газет, парнишка побледнел, ожидая, что его ударят: юристы медленно сняли очки, спрятали их в нагрудный карман пиджака.
Я колебался. Юридический факультет был рядом. Но Анри быстро подошел, кивнул юристам, попросил газету и долго рылся в карманах, подбирая мелочь. Юристы нерешительно отошли.
Тильда сердилась на меня два дня: «Ты почему не вмешался?»
А потом был Народный фронт. Митинги, собрания, споры. Волна, зародившаяся в пригородах Парижа, захлестнула Латинский квартал. По бульвару Сен-Жермен проходили колонны рабочих с красными флагами.
«Blum, à l’action!» — «Блюм, действуй!» — кричали мы со всеми, когда в кино мелькали кадры кинохроники из Испании.
Юристы, медики, комиссариат полиции притаились. Запахло войной.
Поздно ночью, после митинга в зале Мютюалите, я провожал Тильду домой. Она была возбуждена, ее щеки горели.
Прощаясь, Тильда посмотрела мне прямо в глаза и спокойно сказала: «Я не Тильда, я — Наташа».
На крутой улочке Ялты, заселенной греками, — их дразнили «пиндосами», — в стареньком доме с верандой жил портной Аким Будянский. С женой-гречанкой. У них было семеро детей.
Подрастая, дочери портного сменили отчество «Акимовна» на более изысканное «Александровна». Сыновья остались «Акимовичами».
Кажется, кровь всех народов Юга и Востока смешалась в семье Будянских — шумной, по-южному беспечной, всегда готовой перессориться по пустякам и тут же помириться. Выражение «устроить греческий базарчик» до сих пор бытует в нашей семье. У Будянских из поколения в поколение кто-нибудь из детей рождался с необычными черными глазами — властными и дерзкими. Портной полушутя говорил, что его прапрабабушка согрешила с ханом бахчисарайским и с тех пор нет-нет да прорвется на свет божий ханская кровь.
В восемнадцатом году после грандиозного «греческого базарчика» дом портного опустел. Сыновья-подростки ушли в Красную Армию. Сверкнув черными глазами, гимназистка Шура объявила, что уходит с ними. Никто не посмел ее удержать.
«Шура-комсомолка», «Шура-шифровальщица». Ее давно уже нет, но и сейчас бывает, звонит телефон в нашей московской квартире, и старческий голос справляется о ее судьбе. Один из тех, кто знал ее на фронтах гражданской войны или в конспирации, вспомнил свою молодость. Незабытая, незабываемая Шура.
В течение долгих лет я ничего не знал о прошлом Александры Александровны, но с удивлением и легкой тревогой следил за взглядом ее черных глаз. Прямой, решительный, иногда вызывающий и дерзкий, он легко окрашивался иронией и презрением. Шура никогда не переставала оценивать людей по мерке своей бурной юности.
На другой окраине российской империи — в Прибалтике, — в Скулбергской волости на бедном хуторе батрачил Христиан Биркенфельд. За многие поколения тяжелого подневольного труда сложился характер Биркенфельдов — неторопливых тружеников, внешне сдержанных, в душе строптивых и своевольных, как все истинные латыши. Сохранилась семейная библия Биркенфельдов. Откройте ее. С обратной стороны обложки четким готическим шрифтом выписаны имена тех, кто родился в семье с начала девятнадцатого века. Имена выстроились аккуратным столбиком, торжественно! Авраам родил Исаака, Исаак — Иакова… В конце выцветшего списка имена: Ян, род. 1894 г. Кристина и Мильда.
Ян пошел учиться в учительскую семинарию в Вальмиера, вступил в марксистский кружок, стал революционером. Редактор партийной газеты, красный латышский стрелок, участник первой революции в Латвии и гражданской войны, Ян прошел большой и трудный путь. Он работал на революцию с тем упорным спокойствием, с которым его отец вспахивал и засевал скудную землю: после непогоды неизбежно настанет лето и взойдет урожай.
В Старой Риге, на площади у Даугавы, стоят плечом к плечу три латышских стрелка. Из гранита. Ян был похож на одного из них.
Вскоре Христиан Биркенфельд остался в полном одиночестве на своем отдаленном хуторе. Вслед за Яном ушли в революцию Мильда и Кристина. Старый Христиан детей не осуждал: считал, что если принято решение, то на всю жизнь.
О чем думал Христиан по вечерам, листая семейную библию? Гордился ли он тем, что Ян и Кристина были где-то там, в Советском Союзе? Или с горечью думал о Мильде, осужденной судом буржуазной Латвии на длительное тюремное заключение? Или просто скорбил, что список имен на обложке старой библии не будет продолжен?
Москва. Одна тысяча девятьсот двадцать шестой год.
С Яном Биркенфельдом и Шурой Будянской прощались товарищи, провожая их на Запад. Они ехали по партийному заданию.
С Яном и Шурой уезжала худенькая черноглазая девочка — четырехлетняя Наташа. Дочь Шуры от первого брака.
Несколько слов, «Я — не Тильда, я — Наташа», сказанных сорок пять лет назад, определили не только течение, но и суть дальнейшей жизни. Судьба иррациональна или кажется такой, потому что мы не можем или не желаем видеть те глубинные, часто неосознанные течения, которые определяют нашу судьбу.
Слова Тильды ошеломили меня. Точно земля зашаталась под ногами. Видимо, я уже любил эту странную черноглазую девочку, хотя и не сознавал этого в полной мере.
Спокойно. Спокойно. Прокрутим еще раз в памяти старую киноленту и попытаемся разобраться, понять. Только не сбиваться на сентиментальность, на «сюсюканье», как говорил отец.
Первая любовь — восторги, боль и ревность, ошеломляющее открытие души и тела любимого человека! Сейчас, в конце жизни, я не очень ценю все это. Все это не более чем буря в стакане воды.
Но вернемся к Парижу и вспомним, кем я был тогда. Любопытным гибридом французского начала с русским. Русская и французская струи долго не хотели смешиваться. Виною было болезненное честолюбие — характерная черта детей эмигрантов. Приведу маленькую деталь. В лицее, желая блеснуть литературными способностями, я как-то написал сочинение на тему «Ссора двух приятелей». Я взял и перевел на французский язык повесть Гоголя о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, поместив действие в современную Францию. Учитель усомнился тогда в моем здравом уме, а товарищи долго смеялись над моим опусом. Это больно задело меня. В студенческие годы я чем-то напоминал пирог: русская начинка из Тургенева и Толстого с прочным внешним покрытием из французских классиков и современных писателей. Мои мечты о будущем были обычными мечтами моих сверстников: наука, врачебная карьера, интересная жизнь в кругу интеллигентных свободомыслящих людей. Комфорт, обеспеченность, широта взглядов.
Тильда вошла в мою жизнь в Пуаньи. Вошла с той интимной, русской стороны, которую я старался скрыть от знакомых французских девушек, опасаясь их иронии. Тильда была подростком, когда мы подружились, я не стеснялся ее. А теперь она была в курсе всего — мечтаний, планов на будущее. Она была как всегда молчаливая, замкнутая в себе. Кажется, меня задело ее молчание. Потом пришло опьянение. Неожиданно. И закрутило нас. Будущее казалось мне простым и ясным.
И вдруг…
Теперь о Тильде. Она была сложной, необычной натурой. Но она молчала. Я не знал ее. Вся борьба с нею, все радости и отчаяния были впереди.
Почему Тильда доверилась мне тогда? Ни разу я не спросил Наташу об этом. Сам я до сих пор не могу ответить определенно. Хотя и думал над этим всю жизнь.
С детства Тильда носила тайну в себе. Тайну, которая отгораживала ее от всего мира. Она была с раннего детства одинока. Отчаянно, высокомерно одинока. Я стал ее первым другом. Я всем делился с нею во время прогулок в Пуаньи и не требовал ответа — я привык к ее вечному молчанию. Проснулась ли в ней тоска по дружественному участию, потребность выйти наконец из своего одиночества? Она ведь знала, что я не предам ее.
Нет. Уверен, что это не могло заставить Тильду открыть чужую тайну.
Потом Тильда полюбила меня. Много раньше, чем я стал замечать ее. Она ревновала меня к Латинскому кварталу, студенткам, с которыми я встречался. Она отчаянно ждала ответной нежности, нуждалась в опоре в жизни. Но и это не могло заставить Тильду заговорить.
Еще позже мы вместе окунулись в бурные, захватывающие события. Митинги, война в Испании, Народный фронт. Тильда знала, что я искренен. Конечно, ей хотелось, чтоб я знал, что она мечтает о подвигах, чтоб я восхищался ею. Но и этого было недостаточно, чтобы она открылась.
Наконец Тильда стала моей. Что произошло тогда с одинокой, молчаливой девочкой, с детства привыкшей скрывать свои чувства и мечты?
Она сказала только: «Я — Наташа». Ничего больше. И никогда не повторила эти слова. Замкнулась в себе.
Что означали эти слова? Сближение или вызов? Или призыв, на который я не умел ответить?
Угадала ли она клетку-западню? Испугалась ли она тогда — на всю жизнь — власти, которую мог приобрести над нею любимый? И, в отчаянии спасая себя, замкнулась в своей дикой гордости?
Как трудно стало после сказанных ею слов.
AMOURS SANS LENDEMAINS — ЛЮБОВЬ БЕЗ БУДУЩЕГО
Подняв воротник пальто и отвернувшись от дождя, стою на бульваре у круглой будки для афиш и жду Тильду. Порывистый ветер бросает мокрые платановые листья в лицо женщины на афише. Прижимая к груди ребенка, женщина смотрит вверх на падающие бомбы. По плакату стекают крупные капли дождя. Точно слезы. Написано: «Испанские дети голодны, дайте им молока».
Недобрые вести идут из Испании. Берега блокированы итало-немецким флотом, в помощи отказано. Официальная Франция умывает руки.
Думаю о родителях Тильды. Вспоминаю о мелочах, на которые я раньше не обращал внимания. Как-то летом, когда мы ехали на юг, Августа Карловна вышла из машины и долго смотрела вдаль, где небо сливалось с бескрайним полем. У нее было такое странное лицо, молодое и жесткое. И прищуренные глаза, властные и нетерпеливые. О чем вспоминала она, вглядываясь в просторы полей? И как она взорвалась, когда отец похвалил Муссолини, сумевшего «навести порядок в своей стране»! А Франц Францевич? Всегда сдержанный, непроницаемый, как странно он улыбнулся, когда наш дальний родственник — Пантелей Кручинин — рассказывал при нем о бегстве белой армии из Крыма в конце гражданской войны.
Франц Францевич давал мне иногда книги о зверствах гитлеровцев в немецких концлагерях. Но почему он сердится, когда узнает, что Тильда ходит со мной на антифашистские митинги? И потом, он говорит, что занимается оптовой торговлей сухофруктами и ничем другим не интересуется, а сам знает во всех подробностях обстановку на гвадалахарском фронте.
И еще. Как странно он сидел, прикрыв глаза рукою и не проронив ни слова, когда мы были в зале Плейель на концерте Ансамбля песни и пляски Красной Армии — «хора Александрова», как говорили в Париже.
В то тревожное предвоенное время газеты были полны сенсаций: тайная отправка оружия в Испанию, террор «кагуляров» в Париже, проникновение «пятой колонны» Гитлера во Францию. Вспомнилось «дело Кутепова», «дело Саблина», таинственное исчезновение генерала-белогвардейца Миллера, слухи, которые ходили об исполнительнице народных песен Плевицкой.
Образ Франца Францевича не вязался с этими детективными историями. Я верил ему, ощущал его внутреннюю цельность и честность.
Хотя не все ли равно? Разве в этом дело?
Меня беспокоила Тильда. Что-то произошло с нею. Какая-то тень пробежала между нами.
Капля дождя упала за шиворот, я поежился и вдруг увидел Тильду. Она стояла рядом. Внимательно, испытующе смотрели на меня черные глаза из-под края фетровой шляпки.
— Пойдем.
Зимний велодром нас оглушил гулом толпы и сиянием огней. Светлыми конусами падает свет висячих ламп.
— Откройте границу! — скандирует толпа, заполнившая огромную овальную чашу велодрома.
Над эстрадой на фоне французских и испанских флагов крупные буквы: «No pasarán, y pasaremos».
У трибуны белая надпись на красной материи: «Лучше быть вдовой героя, чем женой труса». Гремит музыка.
— Пассионария! Пассионария! — несется вдруг со всех сторон. Люди подаются вперед.
На трибуне высокая женщина в черном. Ее грудной голос срывается от горечи и страстной надежды. Голос «оттуда». Голос погибших и сражающихся. Он не просит, он взывает.
— Берегитесь! Сегодня мы, завтра будет ваш черед!
Все встают. Звучит гимн Риего, потом «Интернационал». Я хотел взять руку Тильды, но она вся напряглась. Что с нею?
На обратном пути мы остановились на набережной Сены.
— Почему твой отец не хочет, чтобы ты ходила со мной на митинги?
Тильда отвернулась.
— Ну что случилось?
Тильда не отняла свою руку, но и не повернулась ко мне.
Когда я пришел домой, в разгаре был очередной «семейный скандальчик». «Отец загремел с Олимпа прямо на меня», — говорил потом Алька. Хотя виноват был он сам. Он попросил у отца увеличить карманные деньги. На «подружку»!
В буржуазных французских семьях считалось естественным, чтобы отец давал сыну-студенту деньги на «подружку». Но в нашей семье эти слова произвели впечатление разорвавшейся бомбы.
— Что?! — рявкнул отец, когда понял.
Отец бушевал. Мама молчала, бледная и отчужденная. Алька оправдывался, ссылался на физиологию. Кончилось тем, что Алька всхлипнул.
Наконец отец угомонился и тоже прослезился:
— И я был когда-то… молодым.
Алька с отцом обнялись.
Растроганный, с оттенком гордости за сына, отец решил увеличить Альке карманные деньги.
— Только смотри, — отец постучал пальцем по столу, — чтоб это не мешало учебе! Чтоб всегда была голова на плечах!
— Кто она? — сухо спросила мама.
— Маруся! — отвел отец этот неуместный вопрос и повернулся ко мне: — И тебе тоже?
Я пожал плечами и ушел к себе. До чего же они мне все надоели! Стали чужими.
Не зажигая лампы, я сидел за своим столом и думал о Тильде. Почему она отдаляется от меня?
Мамины руки легли мне на плечи.
— С тобой что-то неладно. Что с тобой?
Я не ответил.
Завершался тревожный 1937 год. Продолжал отбиваться Мадрид. В Испанию отправлялись добровольцы. В газетах писали о боях на гвадалахарском направлении. О гибели журналиста Деляпрэ.
Помню, мы шли в огромной толпе от площади Республики до Клиши, провожая катафалки с убитыми антифашистами. Стройная, элегантная Тильда шла рядом со мной, и казалось, все снова было в порядке, исчезло непонятное отчуждение, мучившее меня. Казалось, снова рядом со мной прежняя Тильда из Пуаньи, молча шагавшая по лесу, засунув кулачки в кармашки замшевой курточки.
Мы возвращались по набережным, перешли через старинный Новый мост на острове Ситэ и за памятником Генриху IV свернули в маленький сквер, выступавший в виде мыса между рукавами Сены.
Я расстелил плащ, и мы сели на плоские камни набережной. Под ногами журчала вода. По ту сторону реки справа и слева сверкали набережные. Пробегали огоньки автомашин. На мостах, перекинутых через Сену, горели цепочки фонарей.
Мы сидели молча, не шевелились. Мне хотелось обнять Тильду, но я знал, что, если я попытаюсь это сделать, она напряжется, станет чужой. Тильда смотрела на воду и молчала. О чем она думала?
Дул холодный ветер. Вода гулко шлепала о камень.
Я чувствовал себя одиноким. Два слова, сказанные Тильдой, отрезали меня от друзей, брата, родителей. Но и между нами легла невидимая преграда. Тильда была рядом — протяни только руку, — но я знал, что внутренне она настороже, обороняется от меня. Я чувствовал, что ей тяжело, что она мучается. И упрямо молчит. И я не знал, что сделать, чтобы вернулась прежняя Тильда.
Постепенно я запустил занятия, перестал работать на кафедре биохимии, реже встречался со своими друзьями в кафе Латинского квартала. И они стали раздражать меня.
Дома начались скандалы. Я не мог слушать самодовольные рассуждения отца, который не одобрял митинги и демонстрации.
— Да раздавят скоро твою Испанию. Гитлер и Муссолини наведут там порядок. Народ? А что народ? Чем он их выгонит? Серенадами, что ли? А оружия Франция не даст. И воевать из-за Испании не будет. А если сунется, Гитлер Францию разобьет. В два счета. Политиканы болтают, народ митингует.
Анархия!
Для отца хуже анархии ничего быть не могло.
— Ну, если Гитлер разобьет Францию, то и твою Россию тоже.
— Что?! — взорвался отец. — Пусть сунется!
Особой логикой отец не отличался.
— И прекрати митингование! Учиться надо, а не анархию разводить. И нечего с Тильдой шататься.
Отец был в ссоре с Берзинями, и они у нас не бывали.
Не знаю, когда у меня родилась мысль поговорить с Францем Францевичем. Больше было не с кем.
Я не очень сознавал причины, толкнувшие меня на этот шаг.
Сейчас, при зрелом размышлении, я думаю, что их было две.
Во-первых, я ощущал искреннее расположение ко мне Франца Францевича, который не подозревал, что наша дружба с Тильдой зашла так далеко. Мне было тяжело его обманывать. А после слов, сказанных Тильдой, стало еще тяжелее.
Во-вторых, и это, вероятно, было основной причиной, я боялся потерять Тильду и надеялся, что, поговорив с Францем Францевичем, сниму ту невидимую преграду, которая возникла между Тильдой и мной.
Глупая самонадеянность молодости!
Франц Францевич сидел в своем кабинете и устало смотрел в окно. Впервые я его видел таким подавленным. На столе перед ним лежали свежие газеты.
Франц Францевич не сразу заметил меня и не сразу понял, о чем я говорю.
— Я люблю Тильду, — повторил я негромко.
Франц Францевич потер виски и как-то странно посмотрел на меня.
— А она?
— Она тоже.
— Вы говорили с родителями?
— Нет. Отец будет против.
Франц Францевич долго молчал, думал.
— О чем вы говорили с ней?
— Мы будем жить вместе.
— Еще о чем?
Я промолчал.
Франц Францевич встал, прошелся по комнате и снова тяжело сел за стол. Он как-то невесело улыбнулся.
— Мы уезжаем. Тильду вы больше не увидите.
— Увижу. Мы будем вместе.
— Тод, у вашей любви нет будущего. Откажитесь от нее.
— Я люблю Тильду.
Франц Францевич долго молчал. Потом посмотрел на меня дружелюбно, почти с симпатией.
— Вы можете видеться с Тильдой. Но только с моего ведома.
Я шел домой по бульвару, перебирая в кармане пальто горячие каштаны. Дождь кончился. В лужах отражались крыши и голубое небо. Я чувствовал, что после разговора с Францем Францевичем что-то произойдет, видимо, серьезное. К лучшему? Или худшему?
Ждать пришлось недолго. Когда мы встретились, обычно молчаливая Тильда говорила возбужденно, черные глаза сверкали.
— А я? Ты обо мне подумал, когда пошел к моему отцу? Ты со мной посоветовался? Предупредил меня?
Я молчал.
— Значит, я ничто? А меня ты спросил, хочу ли я оставаться с тобой? Хочу ли я твоей жизни?
— Тильда…
— Что Тильда?
Я был подавлен, не знал, что сказать. Я чувствовал себя виноватым и не понимал в чем.
— Я люблю тебя.
Лицо Тильды дрогнуло, она отвернулась.
— Ты уедешь?
Тильда не ответила.
Наши встречи стали совсем редкими. На митинги мы не ходили, Франц Францевич запретил. Мы просто бродили по улицам, молчали. В этих встречах больше не было радостного возбуждения, ожидания счастья, как раньше, их заполняла тихая нежность и горестное предчувствие неминуемой разлуки.
Во время одной из прогулок вдоль Сены дул холодный ветер, шел дождь. Тильда простудилась. Она болела тяжело и долго. Если вечером она была одна и Жанно спал, она звонила мне по телефону, нарушая запрет Франца Францевича, и я приезжал к ней тайком.
В пустой квартире было тихо. В халатике и шерстяных носках Тильда сидела на диване рядом со мной, обхватив ноги руками и прижавшись щекой к коленям. Черные глаза, больные и грустные, задумчиво смотрели на меня. Тихие минуты счастья, просветленного, нежного. Беспомощного.
Когда хлопала дверь лифта на лестничной площадке, Тильда провожала меня на кухню и тихо закрывала за мной дверь на черную лестницу.
Однажды вечером мы сидели, как обычно, на диване. Молча. Мы очнулись, когда хлопнула входная дверь. Родители Тильды нас застали в гостиной.
Стою растерянный. Тильда низко опустила голову.
— Иди к себе, — сухо сказала Августа Карловна.
Тильда вышла.
— Вы знали, что нас нет дома? — спросил Франц Францевич, не подавая руки. Он пристально посмотрел на меня. Я кивнул.
Чтобы скрыть растерянность и стыд, я отвернулся к стене. Там висела фотография молодой женщины. Она смотрела на меня с любопытством и грустью. На фотографии была надпись: «Латвия. 1930 г.».
— Слушайте, Тод. Я разрешил вам видеться с Тильдой только открыто, с моего ведома. Почему вы пришли тайком?
Я промолчал.
— Я предупредил, что все это ни к чему. Мы уезжаем. Вы с Тильдой больше не встретитесь.
— Я люблю ее.
Франц Францевич отошел к окну и стал смотреть в темноту.
— Идите домой, — сказал он наконец, не оборачиваясь.
Я долго стоял на улице и смотрел на окно Тильдиной комнаты. Оно тускло светилось сквозь легкий туман.
Между Тильдой и мной встала глухая стена.
В смятении и отчаянии я обратился к отцу. Инстинктивно. Отец листал газету и курил, покусывая янтарный мундштук.
— Пап, Тильда должна остаться.
Отец не опустил газету.
— Я люблю Тильду.
Наступило молчание. Потом отец буркнул из-за газеты:
— Не хочу учиться, хочу жениться!
Перед сном мама, как обычно, зашла ко мне в комнату. Положила руки мне на плечи.
— Тебя подменили. Что с тобой?
Подождав немного, мама спросила тихо:
— Ты не доверяешь мне?
— Мам, послушай. Это будет большим несчастьем для всех нас, если Тильда уедет.
Мама наклонилась ко мне.
— Может быть, ты мне все расскажешь? Как раньше…
Не дождавшись ответа, мама выпрямилась.
— Ну, как знаешь. Живи своим умом.
Шли дни. Я лишился покоя. По ночам я часами сидел перед открытым окном. Почему она отдаляется, становится чужой, почти враждебной? Что же дальше?
Алька как-то проснулся и увидел, что я сижу в темноте за письменным столом.
— Слушай, так нельзя! — возмутился он. — Посмотри на себя. Что, неандертальцы не уступают? Она когда уезжает? На той неделе? Да поговори ты с ней окончательно и делай «по своей голове»! Живите пока в твоей «зубрилке», на шестом этаже.
Мое молчание не обидело Альку. Шлепая босыми ногами, он заходил по комнате.
— А они не уступят. И отец не уступит, и ее родители не уступят. У них примитивное… — Алька поискал русское слово, не нашел и просто шлепнул себя по лбу. — Это у всех после тридцати. Неандертальцы отступают только перед фактами. Фактами! Понимаешь? Но теперь уже поздно. А ты дурак, что раньше не понял.
Я не огрызнулся, и это еще больше встревожило брата.
— Слушай. У меня есть немного денег, и я еще выпрошу у отца. Давай удерем с нею. Вы поженитесь инкогнито. А после факта вернетесь.
Я отрицательно покачал головой.
— Ну, если ты тряпка, то я поговорю с нею. Отдам ей ключ от твоей «зубрилки». Женщины умнее!
А потом было последнее, нежданное свидание. Тильда пришла ко мне в «зубрилку» — так мы называли с Алькой комнату для прислуги на шестом этаже. Там я раньше занимался, когда усиленно изучал биохимию. Пришла возбужденная, чужая.
Не снимая перчаток и шляпки, она стояла у окна и говорила с вызовом:
— Любовь свободна… Понимаешь, свободна!
Я молчал и, сидя на диване, смотрел на нее.
— Не хочу зависеть ни от кого… От тебя тоже. Хочу быть свободной! Буду летчицей…
Я молча смотрел на нее. Незнакомая, гордая амазонка, проснувшаяся в молчаливой Тильде. Откуда?
А потом вдруг что-то в ней надломилось, и она снова стала прежней, моей.
Она спит, уткнувшись в мое плечо. Я прижимаю ее к себе — на узком диванчике тесно вдвоем — и машинально рассматриваю формулы химических соединений, которые я когда-то написал забавы ради на стенах и низком потолке «зубрилки».
Буря чувств улеглась. Между нами исчезла отчужденность, впервые после того, как были сказаны те злосчастные слова. Пропало ощущение обреченности. Огромное спокойное счастье переполняло меня. Рано или поздно мы будем вместе.
Прощанье было торопливым, точно мы расставались совсем ненадолго.
Надев фетровую шляпку и натянув перчатки, Тильда остановилась на пороге, оглядела «нашу» комнатку и упавшим голосом сказала:
— Если бы только у меня был ребенок от тебя. Чтобы не быть совсем одной…
За окном сверкают огни Москвы. Наташа спит. Сейчас допишу о том, как мы расстались, и покурю перед сном.
Ты всегда была умнее, тоньше, мужественнее меня. Ты чувствовала и понимала больше. Прости меня за то, что я не был тогда мужчиной. Что не мог взять тебя в свои лапы и понести нехоженой дорогой по целине, навстречу надвигавшейся буре.
Может ли быть бо́льшая вина для мужчины, чем не быть мужчиной в эти минуты?
С Францем Францевичем я простился холодно. Он отнял у меня Тильду.
— Как думаете жить дальше? — спросил он.
Я пожал плечами. Между нами мелькнула враждебность.
— Ничего, забудете. Станете врачом, женитесь. У вас будет обеспеченная, спокойная жизнь. А это, — он кивнул на значок на отвороте моего пиджака и слегка усмехнулся, — это тоже забудется…
Таким холодным я его еще не знал. Прощаясь, Августа Карловна почти не обратила на меня внимания.
Мы прошли с Тильдой в конец перрона. Мы ощущали взгляд Франца Францевича и чуть отодвинулись друг от друга.
— En voiture, en voiture. — Занимайте места, — неслось вдоль поезда.
— Напиши, чтоб я знал, кто ты и как тебя найти.
Тильда не ответила.
— Постой, надо присесть на дорогу.
Скамеек нет. Тяну Тильду к краю перрона, мы сели прямо на перрон, свесив ноги к рельсам, убегавшим вдаль.
Скорее в вагон.
На подножке вагона Тильда обернулась, вскинула голову. Она смотрела вдаль широко открытыми глазами и уже была где-то там, далеко, за пределами моего мира.
Через неделю я получил посылку с кожаным бумажником. Я догадался, что это от Августы Карловны: ироническое напутствие в спокойную, обеспеченную жизнь. В сердцах я бросил бумажник в Сену.
Прошли недели, месяцы. От Тильды ни телеграммы, ни открытки, ни письма.
Я понял, что их никогда не будет.
Нить Ариадны к Тильде — Наташе оборвалась в самом начале.
В ПОИСКАХ ПУТИ
Не обедаю я больше со студентами-медиками. Их беспечность раздражает меня.
Порвал я и с кружком «рыцарей точных наук». Не тянет сидеть за столиком кафе и слушать умные рассуждения самовлюбленных кандидатов в Эйнштейны и Пастеры.
Душно мне. И дома душно. И в Пуаньи душно.
Холодной тоской тянет от леса, точно сквозняком из погреба. Каким наивным дурачком я был, когда бродил по дорожкам, о чем-то мечтал! Обманул лес.
— Обманула и она. Так и не написала ни слова.
По вечерам я часто сижу за крайним столиком кафе «Капуляд» и смотрю на толпу. Один с Латинским кварталом. Только он понимает меня и сочувствует, шумит тысячью голосов.
К столику подсаживается Анри.
— Что, бросила тебя? Не написала?
Я покачал головой. Анри спросил:
— Где она теперь? В Америке? Ну и шут с ней. Будь мужчиной.
Я отвернулся, Анри сочувственно тронул меня за плечо.
— Пойми, старик, мы любим не женщину, а свою мечту. Женщина — предлог. Ну, случайное воплощение мечты. Случайное, понимаешь? Не та, так эта. Конечно, ты скажешь — единственная… Сам разукрасил, нарядил в свою мечту, вот и стала единственной…
Анри сунул руки в карманы брюк, вытянул ноги.
Мимо террасы по бульвару проходит колонна бастующих рабочих. В толпе зевак на тротуаре одни одобрительно машут, другие враждебно посмеиваются.
Вытянув вперед свой гасконский нос, Анри вслушивается в голоса и всматривается в лица.
— Бараны! — говорит рядом с нами приличный господин. — Не люди, а стадо баранов!
Анри поворачивается к нему:
— Мсье, если вы — человек, а они — бараны, то сочту для себя честью быть бараном.
Анри берет меня под руку.
— Пошли, здесь затхлый воздух.
Мы покинули террасу кафе и зашагали с колонной.
— Анри, я им завидую.
— Возьми у меня изложение «Капитала», — предлагает Анри. — Полезно, но сложновато. И «последней новинкой» не назовешь.
События нарастают. Война в Испании принимает все более жесткий характер, речи фюрера и дуче дышат безумием, над Чехословакией нависла угроза вторжения, во Франции разгорается социальный конфликт: рабочие решительно отказались отступить перед угрозами правительства Даладье, а крайне правые бросили открытый вызов народу — «кагуляры» перешли к террору.
Латинский квартал. Здесь сложно. Студенчество раскололось. Одни пытаются ничего не принимать всерьез… Спешат, пока не поздно, взять у жизни все, что можно. Другие, и их все больше, встревожены и ищут смысл происходящих событий. Они приступили к мучительной переоценке привычных ценностей. Все это ощупью, наугад.
Нас человек десять за длинным столом. Рядом со мной Анри. Он сунул руки в карманы брюк и откинулся на спинку стула со скучающим выражением лица. Наши новые знакомые ему не по душе. Мне тоже. Все это «bizuths» — «малыши», на два-три курса моложе нас. Они из малообеспеченных семей. Жак, который ведет собрание, просто дурно одет, серо и безвкусно. Времена меняются. Раньше таких студентов на медфаке не было.
Жак нервно отбрасывает всей пятерней свои тусклые волосы и заявляет:
— Мы собрались, чтобы решить, как очистить медфак от фашистов.
Мы переглянулись с Анри.
Но парень не шутит. Он подходит к этому по-деловому, точно собирается вымести навоз из конюшни.
Так родился кружок имени Клода Бернара. Вернее, возродился, потому что когда-то уже был такой «левый» кружок на медфаке.
Решили в качестве приманки организовать репетиции по качественному анализу для «приготовишек» и вести среди них политическую агитацию.
Конец рабочего дня в нашем кружке.
Проводив «мартышек» — первокурсников рядом нелестных замечаний об их умственных способностях, Анри присел на подоконник и посвистывает. Жак гасит горелки и наводит порядок на химических столах. Марсель — хозрук нашего кружка — снял пиджак, достал свои книги, устроился У окна и бормочет:
— Двести семьдесят пять франков и тридцать сантимов плюс шестьдесят три сорок, плюс остаток триста двадцать семь… вычитаем за электричество, бумагу, разбитое стекло…
Марсель — блестящий организатор. Он добился даже дотации от фармацевтических фирм и получил от них часть стекла и реактивов.
— Тод! — кричит Марсель. — Мы азотнокислое серебро покупали или ты его свистнул на кафедре?
— Купили.
— Да что, мы Рокфеллеры, что ли? Этак никогда не купим кресла и шкафы в коридор.
Мечта Марселя — придать убогому помещению кружка респектабельный вид солидной фирмы.
— Как с брошюрами? — спрашивает Жак. — Остались?
Политические брошюры лежат стопочкой рядом с химическими справочниками. Слушая наши объяснения по химии, заправленные политическими остротами, «мартышки» порою листают брошюры и суют их в карман.
Анри спрыгивает с подоконника.
— Лавочники вы, а не революционеры! — говорит он резко. — К черту ваш кружок! Надо не брошюрки раздавать, а действовать!
— Стекла бить в помещении Союза?
— Хотя бы! Чтоб обратили на нас внимание!
— Укуси Рамона на лекции, — предлагает Марсель. — Тогда обратят.
— Даладье угрожает. Фашисты налегают. А вы балансы выводите!
Поддерживаю Анри. После первого периода увлечения мне тоже душно в кружке.
Входят Моника и Элиан.
— Что шумите, ребята?
В присутствии студенток, особенно Элиан, которая недавно примкнула к нам, точка зрения Анри кажется более убедительной, доводы Жака — необоснованными. Девушки сообщают, что на Буль Мише собирается противник.
Даже Марсель бросает свои записи. Спускаемся к Буль Мишу. Мы взялись под руку и бесцеремонно занимаем весь тротуар. На несколько минут жизнь снова проста и увлекательна.
А на следующий день опять химия и брошюрки. И опять на душе тяжело.
В тихом переулке за медфаком — библиотека «Международного издательства».
Я изменил библиотеке Сорбонны и провожу здесь свободные часы. Среди стеллажей с политической литературой. Маркс, Ленин. Краткий курс. Совсем новенький, пахнущий клеем.
На стене рисунок из «Юманите»: Гитлер кричит в микрофон, а за его спиной, в концлагере, палачи истязают заключенных в полосатой форме.
Пожимаю плечами: «Чушь какая! Прямо страсти-мордасти! Переборщил художник».
Присаживаюсь на подоконник.
За окном дождь и порывистый ветер. Как тогда, когда я ждал Тильду на бульваре. «Бросила меня. Забыла… ну и пусть. Хватит!»…
Я решился и позвонил Моник.
Мы шли ко мне молча. Я перебирал теплые, послушные пальцы Моник и ждал, пока уляжется ощущение тоскливой тревоги. Моник с упреком взглянула на меня, но не отстранилась.
Сгущаются сумерки в «зубрилке». Черным крестом выделяется переплет окна на фосфоресцирующем холодном небе.
Ну вот и все. Стоило столько колебаться и мучиться?
Зачем я позвонил Моник? От себя я не ушел и уже знаю, что буду тяжело расплачиваться.
Тоска по Тильде не прошла. Когда я потерял Тильду?
В «Ателье» играли «Земля круглая» Андре Салакру и «Савонаролу». Возвращаюсь с Робертом после спектакля. На набережной Сены, против Палаты депутатов, — железобетонный блиндаж. Он здесь со времен путча правых, пять лет назад.
Как мир изменился за эти пять лет!
— Хорошо, мы против. Но во имя чего?
Роберт молчит. Потом говорит то, что я уже слышал много раз:
— Нельзя отрицать одного Савонаролу ради другого.
— Так во имя чего?
— Во имя человека. Его духовных ценностей.
— Они в действиях, эти ценности. Не в словах.
Роберт пожимает плечами.
— Но и не в верноподданстве!
Это наш давнишний спор.
Пустые, притихшие улицы. Над Парижем — угроза гражданской войны. Взорвана типография компартии, закрыты заводы, катится волна декретов, массовых увольнений и репрессий. В ответ — всеобщая забастовка.
— Роберт, ты уезжаешь в Америку?
— А ты не видишь, куда идет Европа?
Протягиваю руку.
— Бежишь? Ладно, прощай.
Прошло много лет. Получил я от Роберта его книги «Ярче тысячи солнц», «Лучи из пепла», «Большая машина». Роберт был у нас в Москве, и мы снова спорили. Он продолжает искать духовные ценности человечества.
Анри и ребята из кружка Клода Бернара, я им многим обязан. Они не дали мне полностью замкнуться в себе после отъезда Тильды. С ними я старался найти дорогу среди грозных событий того времени. Мы вместе возмущались ультиматумом Чехословакии, радовались мобилизации в Праге и во Франции, поддерживали твердую позицию Советского Союза. Мы готовы были идти на фронт!
Мюнхен!
Нас тошнило от слов Чемберлена: «Я привез мир для целого поколения» и от самодовольной радости обывателей: «Ловко отделались. За чужой счет!» Мы носили чехословацкие значки и рядом сидели на трибуне, слушая Клементиса.
А события разворачивались все стремительнее.
Касадо предал Мадрид. Немецкие войска вошли в Прагу. Итальянские — в Албанию. Вместе мы протестовали, участвовали в демонстрациях. Мы думали, что будем всегда вместе.
И вдруг — германо-советский пакт о ненападении!
Тут события захлестнули нас, вышли за пределы нашего понимания.
В последний раз мы вместе. За столиком кафе. Сказаны слова, которые мы не забудем и не простим друг другу. Отныне каждый пойдет своей дорогой. Но никто не решается встать первым из-за стола. Как протянуть руку одному и молча отвернуться от другого?
Наконец встают Анри и Элиан. Они уходят, ни с кем не прощаясь. Анри шагает легко, дробно стучат каблучки Элиан. Своей судьбе навстречу.
Перед самой грозой, вопреки всем и всему, Анри и Элиан уехали в Грецию, искать среди развалин Эллады любовь, о которой мечтали. Были ли они счастливы в глухой деревеньке, одни среди скал маленького острова Эгейского архипелага? Анри погиб. Элиан и ее маленького сына сожгли в крематориях Аушвица.
Потом поднимаются из-за стола Жак и Марсель. Они молча расходятся в разные стороны.
Жак остался в Париже. Он был в Сопротивлении. Только в 1944 году гестапо его выследило и расстреляло. Марсель ловко прожил годы оккупации. Сейчас он — человек обеспеченный и известный.
Спускаемся с Моник по Буль Мишу.
— Тод, — говорит она. — Я во всем согласна с тобой.
Молчу.
— Скажи, ты останешься в Париже?
Моник ждет ответа, старается улыбнуться.
Мне стыдно и тяжело.
— Нет.
Набережная Сены. Я один. Ничто не держит меня больше в Париже.
Стоп!
Посмотри мне в глаза, призрачный двойник на фоне ночной Москвы, и ответь: что мы с тобой не договариваем? Ты набиваешь трубку, возишься со спичками, тянешь время. Обдумываешь ответ? Чудак! Перед кем хитришь? Мы оба знаем, что вот так, наспех, от ребят из кружка Клод Бернар не отделаться. Спор за столиком кафе в Латинском квартале не окончен. Что ты скажешь теперь, в конце жизни, тем, кому ты не протянул руку тогда, при расставании?
Твой спор с прохвостом из пражского гестапо их мало интересует. Они сами знают, что прохвост — прохвост, а убийца — убийца. Они хотят получить ответ на свои собственные вопросы.
Вспомни, от их имени говорил молодой парень, сын твоего друга студенческих лет. Это было в 1969 году, в Париже. Засунув руки в карманы заплатанных джинсов, парень шагал по персидскому ковру из угла в угол гостиной и сыпал упреками:
— Революционеры? Да какие вы революционеры, господа коммунисты? Что в вас осталось от семнадцатого года? Мечтаете о личной карьере, тихой семейной жизни и мещанском уюте. Свое благополучие вы цените выше всего. Что вам свобода, что вам борьба?
Я смотрел на парня и думал: стоит ли отвечать? Сейчас думаю, что стоит. Не словами. Ответ должен быть в том, что я расскажу.
ЗАБЫЛИ ПРИСЕСТЬ НА ДОРОГУ
Третий месяц идет война. Странная война!
Первые дни мобилизации прошли в патриотическом угаре. Было произнесено немало горячих речей. А потом — ничего. Ровным счетом — ничего. Ни боевых действий, ни налетов.
«Drôle de guerre!» — «Ну и война!» — пожимают плечами парижане, тщетно отыскивая в газетах хоть малейшее сообщение о военных операциях. А что писать, если на границе тишь, гладь да божья благодать? Газеты ругают коммунистов и полны сообщений о преследованиях против них. «Юманите» закрыта, компартия запрещена. Прошло немного времени, и высокопарные речи приелись, нелепые слухи надоели, к затемнению парижане привыкли.
«Ну и война!» — недоумевают они, спокойно занимаясь своими делами.
Отец созвал семейный совет.
— Вы уже взрослые. Мы с матерью стареем, а вы мужаете. Нам время тлеть, а вам цвести, — с чувством говорит отец. Он любит трогательные слова в торжественные минуты. — Пора распределить ношу на все плечи. Пора вместе решать, вместе и ответ держать.
«Давно сам все решил, — думаю с досадой. — И зачем он эту церемонию разводит?»
— Столкнуть немцев с русскими Чемберлену не удастся. Не на дураков напал, — рассуждает отец. — А линия Мажино французиков не спасет. У французов и сейчас тру-ла-ла в голове. Разобьют их немцы в два счета. А придут немцы, будет голод. Надо перебираться из Парижа. Куда?..
Начинается обсуждение, в котором Алька принимает горячее участие. Я молчу.
— Ну а ты что думаешь? Сидишь как сыч, глазами хлопаешь.
Пожимаю плечами. Мне, мол, все равно. Мне действительно было все равно. Такое безразличие к судьбе семьи в тревожное время глубоко обидело отца.
— Может быть, ты и ехать с нами не хочешь? Или это тебе тоже все равно?
Обсуждение продолжается. Наконец все решают переехать в Соединенные Штаты Америки.
— Куда нас судьба ни забросит, — торжественно заключает отец, — мы, Сопруновы, всегда пробьемся. Мы выйдем в люди!
Отец обнимается с растроганными Алькой и мамой. Я незаметно вышел из комнаты. Так и остался неясным вопрос со мной.
— Просто наплевательское отношение к семье, — сказал отец. — Нет, на него рассчитывать нельзя. Он будет только обузой.
Так неожиданно выяснился мой отрыв от семьи. Произошел он много раньше, но мы старались этого не замечать, пока было возможно. Сейчас я лучше понимаю отца и готов согласиться, что по отношению к семье я тогда действительно был эгоистом. Я жил в своем мире и мучительно искал свой дальнейший путь.
В те дни меня вызвал профессор Омбредан и предложил остаться на время войны в его клинике. Работать хирургом. Я отказался. Мне не хотелось окапываться в теплом местечке, когда товарищи отправлялись на фронт.
Но время шло, и надо было на что-то решаться.
Я отправился в советское посольство и подал заявление о восстановлении в советском гражданстве. Сделал я это не из идейных побуждений — они были тогда уж очень расплывчаты и шатки — и не потому, что меня неудержимо тянуло на Родину, — что я знал о Родине? — а просто потому, что мне все надоело и опротивело. Хотелось уйти от семьи, от среды, в которой я жил, от себя самого. И где-то теплилась надежда найти Тильду. Принял меня коренастый человек с усталым лицом. Он пристально рассматривал меня, пока я рассказывал, кто я, где учусь, кем работаю, зачем пришел.
— Значит, живете на иждивении родителей и никогда не зарабатывали себе на хлеб, — заключил коренастый человек. — Живете на готовеньком?
Я растерянно кивнул.
— А зачем вам в Советский Союз?
В вопросе прозвучала настороженность.
— Ну так. Жить, работать…
— Да вы не умеете работать!
Разговор шел совсем не так, как я думал.
— Оставьте заявление, — сухо сказал коренастый человек и дал понять, что разговор окончен.
Что же мне все-таки делать дальше? Неопределенность разрешилась сама собой. Меня вызвали в латвийское посольство.
— Покажите паспорт, — сказал глухой голос, и в окошечко просунулась рука с золотым перстнем.
Я подал паспорт. Ждать пришлось долго. Наконец мне сунули вместо паспорта бумагу с печатями:
— Удостоверение для следования в Латвию для отбывания воинской повинности. Действительно в течение месяца.
— Но мне осталось совсем немного до окончания университета.
— Это нас не касается. Отсрочки отменены.
Окошко захлопнулось. Я пожал плечами. Неужели вот так и определилась моя судьба? Оказалось, что да.
Без паспорта я никуда выехать из Франции не мог. Оставался выбор: стать французом или ехать в Латвию на два года. При размышлении оказалось, что второй вариант устраивает и отца, и меня самого. Отца — потому, что он мог на два года куда-то пристроить меня и не бояться, что я буду обузой для переезда семьи в новую страну. Опытный капитан всегда облегчает свой корабль от балласта в трудные минуты. Меня — потому, что Латвия была связана для меня с Тильдой. И потом мне казалось: отправляясь в Латвию, я почти возвращаюсь на Родину.
Эли, Мишель и Ги зашли: проститься.
Ги офицерская форма к лицу. Он держится, как всегда, свободно, со спокойным достоинством. Мишель не скрывает наивной гордости. Для него форма офицера — посвящение в духовную общину французского народа. Все бы хорошо, если бы не офицерское кепи-кастрюля. Стоит Мишелю надеть кепи, и он смахивает на повара.
— Кепи испортит ему всю войну, — грустно улыбнулся Эли.
Эли верен себе. Можно подумать, что его не касается это «всеобщее безумие». Он в гражданском. Конечно, и он будет солдатом. Заставят. Но в душе он всегда будет там, в свободном мире науки.
— Оставайся с нами, — предлагает Ги.
С неожиданным волнением чувствую, как дороги мне Франция, Париж и товарищи.
Хлопнула дверь. Кусочек моей жизни ушел в прошлое.
Мама старается положить в мой чемодан побольше одежды, а я — побольше книг.
Отец заперся у себя и не принимает участия в сборах.
— На, возьми, — сует мне Алька свои любимые галстуки. — Ты там наденешь, чтобы удивить аборигенов.
Мама в десятый раз все укладывает и перекладывает, точно не может поверить, что я уезжаю. Глаза у нее распухли от слез. Она растерянна. Весь ее жизненный опыт подсказывает ей, что я — фантазер и растяпа — не справлюсь с трудностями на моем пути, — она готова разрыдаться. Но в то же время она чувствует, что я спокоен и даже счастлив. Она успокоена моим спокойствием. Вопреки разуму она верит в душе, что все будет хорошо.
Отец вышел из своей комнаты только к вечеру.
— Пойдем! — говорит он мне.
Мы кружим с отцом по тихим улицам. Мне неловко идти рядом с ним. Он семенит, и я не попадаю в ногу.
— Вот деньги, — дает мне отец небольшую пачку. — Больше дать не могу. Я должен подумать об Алике и о нас с матерью.
Мы молча идем дальше.
— Старайся закончить свое образование. Ты почти врач.
Киваю.
— Хочешь жить по-своему. Как знаешь…
Отец сказал это спокойно, точно упреки и обиды уже позади, у меня сжалось сердце: отец отпускает меня.
— Жизнь тебя больно побьет. Ух как больно… Что из тебя выйдет, не знаю. — Отец растерян и не может скрыть этого. — Смотри, как знаешь….
Пожимаю плечами. Отец хмурится.
— Свои фантазии держи про себя. Ты думаешь, что умен, а ни черта не знаешь. Помни, каждый живет по-своему. Если хочешь, чтобы тебя уважали, уважай других.
Я удивленно взглянул на отца. Что это, напутствие в жизнь?
— Через два года я вернусь.
— Этого никто не знает, — говорит отец устало. — Никто. Может быть, ты попадешь в Россию.
— Я подал заявление о восстановлении в советском гражданстве.
— Ты не думай, что тебя «там» так и ждут. Работать ты не умеешь. Никогда голодным не был. Трудно тебе будет на Родине. Смотри сам, ты не маленький. Но если будет трудно, помни, что ты русский.
Мы опять идем молча.
— Может быть, «там» кто-нибудь вспомнит меня. Кто учился со мной… — Голос срывается. Отворачиваюсь, мне жалко отца.
— Мы с матерью еще крепкие. Будем работать. Не пропадем. — Отец говорит это без укора, точно хочет сказать: «Мы надеялись на тебя, но ничего. Езжай себе, делай по-своему. Не будем тебя связывать».
Комок застревает у меня в горле. Хочу сказать, что люблю его, что уезжаю потому, что не могу иначе.
— Пап, я… ты с мамой…
Отец отворачивается и странно машет рукой. Не то хочет сказать «знаю», не то «какая уж на тебя надежда!».
— Ладно уж. Пойдем домой.
Мы поднимаемся по темной лестнице. Отец идет впереди. У нашей площадки он оборачивается и притягивает мою голову к себе.
— Увидимся ли мы когда-нибудь с тобой? — говорит он охрипшим голосом.
Поезд сейчас отойдет. Стою на подножке вагона, чувствую себя молодым, свободным. Светит яркое солнце, свежий ветерок дует в лицо. Начинается новая жизнь!
Мать, отец и брат стоят на перроне. Не отрываясь, мама смотрит на меня с восхищением и болью. Ее глаза полны слез. Алька с ожесточением хлопал меня по спине. Мама долго целовала. А отец обругал меня на прощанье «балбесом» за то, что я попытался уклониться от его отцовского благословения, и сердито ткнул меня в щеку усами.
Толчок… Еще толчок. Мамино бледное лицо стало медленно удаляться.
Поднимаю лицо к голубому небу, заставляю себя улыбнуться. Медленно проплывает перрон.
За цементной колонной знакомая женская фигурка. Лицо опущено. Моник! Ведь мы простились вчера весело и беззаботно! Почему ты здесь?
Наклоняюсь, чтоб еще раз увидеть отца, мать, брата. И вдруг меня пронизывает ощущение непоправимого несчастья.
«Присесть… Мы забыли присесть на дорогу!»
Смотрю на убегающие дома и улицы. Теперь я знаю то, что старался до сих пор не осознавать: я оторвался от всего, что составляло мою жизнь. И вероятно, навсегда.
Предчувствие меня не обмануло. Я не вернулся в семью и больше не видел отца. Он умер далеко на чужбине, в Америке. После войны я узнал из писем о его дальнейшей судьбе.
По мере того как текли годы, отец становился все более нелюдим. К Америке относился с нескрываемой неприязнью и, как когда-то во Франции, упорно говорил только по-русски, отказываясь учить английский.
Давно он понял, что никогда больше не возьмет в руки логарифмическую линейку и никогда ничего как инженер не сделает. Многое передумал он в те годы, пока мыл посуду, чистил картошку и открывал двери. Много выстрадал он, прежде чем сломиться и признать, что впустую прожил свою жизнь.
«Взял бы я палочку, — написал мне тогда отец, — и пошел бы потихоньку на восток. Домой».
Две большие радости скрасили одинокую жизнь старика: Россия выстояла в смертельной схватке с фашистской Германией, и он узнал, что его старший сын прошел сквозь все испытания, выжил и вернулся «туда».
В последние годы старик писал по ночам повести и пьесы.
— Отвезешь написанное моим русским внукам, — сказал он матери перед смертью. — Это написано для них.
О смерти отца мне рассказала мама, когда переехала к нам, в Москву.
Это было так.
Уже тяжелобольной и ослабевший, он настоял на посещении лекции «О русской культуре» в одном из американских колледжей. Лекция сразу не понравилась отцу, но, уступая просьбам матери, которая шепотом уговаривала не обращать внимания на слова выступавших, отец сдерживал себя. Он рассматривал сидящих вокруг американцев и русских. Иногда кивал, встречаясь взглядом со знакомым печальным стариком или поблекшей старушкой, иногда брезгливо отворачивался, замечая нахальное лицо «перемещенца».
Но долго сдерживать себя отец не мог. Когда один из выступавших, назвав себя инженером, стал высмеивать русскую техническую мысль, «беспомощную, загнивающую в условиях коммунистического рабства», у отца затряслись руки, и он уставился на оратора. Напрасно, схватив его за руку, мама стала шепотом успокаивать. Отец уже ничего не слышал. Он понимал только одно: оскорбляют русских инженеров! Инженеров, в числе которых он был когда-то и мог бы быть всю жизнь.
Вырывая свою руку, он встал и закричал срывающимся голосом:
— Это неправда… It is not truth, — добавил он, с трудом подбирая английские слова.
Он еще что-то говорил, но в зале поднялся шум.
— Let him speak! — Пусть говорит! — кричали одни.
— Коммунист! Долой его! — кричали другие.
Мама обращалась к окружающим, умоляя:
— Он не коммунист. Он эмигрант. Это мой муж… он болен… Не слушайте его. Он не знает, что говорит… У него сердце больное. Он уйдет… У него сын в России…
— Федя, замолчи! — дергала она отца за полу пиджака. Но тот отталкивал ее.
— …Чаплыгин рассчитал… Жуковский… — слышались отдельные слова среди нарастающего шума.
Несколько «перемещенцев» двинулись в сторону отца. Мама заметалась в испуге.
— Федя… ради бога… да плюнь ты на них… Пойдем.
Отец плюнул и заплакал.
Это было так неожиданно, что многие рассмеялись, глядя на забрызганного слюной плачущего старика. Другие замолчали. Какой-то американец показал кулак приближавшимся «перемещенцам», и они смылись.
Мать увела шатающегося старика.
Через две недели отец умер в чистой, комфортабельной, холодно-безразличной американской клинике. Чтобы не видеть пластмассового блеска палаты, отец лежал, отвернувшись к стене, и ни на кого не смотрел. Он особенно возненавидел «кикимору» — рыжую накрашенную медсестру, которая ухаживала за ним.
Он с ней поссорился в первый же день, как прибыл в палату со своей писаниной и бутылкой «Цимлянского». Эту бутылку подарил ему кто-то из советских людей, посетивших США в конце войны. С тех пор отец не расставался со своим «Цимлянским». «Выпьем с сыном, когда встретимся», — говорил он.
Бутылку у старика отбирали, прятали в шкаф. Но он снова ее ставил на подоконник и часами смотрел на отблеск солнца в темном стекле. И «кикимора» уступила.
Умирал отец долго и мучительно. Он диктовал матери свои пьесы, требовал от нее обещания, что она вернется на Родину, просил положить простой камень на могилу и ждал, ждал письма от «своего русского сына». Но были тяжелые годы «холодной войны», и я не писал.
Отец распорядился вылить «Цимлянское» на могилу после похорон. «Может, сын навестит меня»; он сам выбрал попа, который будет служить панихиду: «Этот, по крайней мере, не предатель», завещал свою логарифмическую линейку «русским» внукам. Потом простился с Алькой, мамой, «американскими внуками» и умер.
Вскоре над его могилой, политой «Цимлянским», в Лэквуде, близ Нью-Йорка, прочертил небо росписью русского технического гения полет первого спутника Земли.
ПОСЛЕСЛОВИЕ К РАССКАЗУ О ПАРИЖЕ
О Париже я написал, вероятно, излишне подробно. Это потому, что нахлынули воспоминания. А они конкретны и личны.
Латинский квартал, о котором я рассказал, давно ушел в прошлое. Исчез предвоенный Париж… Я описал жизнь студенческой богемы в Латинском квартале моей юности. Состоятельные круги буржуазии, посылавшие своих детей в Латинский квартал, считали себя хранителями традиций Европы и созидателями будущего.
И все же даже в те далекие годы среди массы благонамеренного студенчества имелась неспокойная, бунтарски настроенная прослойка. Родилась потребность осмыслить события, найти свое место в приближающемся столкновении. Друзья из кружка Клода Бернара готовились к борьбе, хотя и не очень знали за что и как. Многие из них погибли.
С тех пор прошло много лет. Мне приходится бывать в разных странах, и я внимательно присматриваюсь к учащейся молодежи наших дней. Конечно, все изменилось. Другие нравы, другие заботы. Будущее омрачено призраком безработицы. Культурные и этические основы общества поколеблены. Все в движении, и над Европой, превратившейся в небольшой островок средь бурного мира, лежат зловещие тени ядерных ракет.
Волнуется, бурлит молодежь. Среди студентов и Парижа, и Копенгагена, и других городов мне кажется, что я узнаю своих бывших друзей. Как будто те небольшие группы, к одной из которых я когда-то принадлежал, так разрослись, что охватили почти все студенчество, во всех странах мира. Неспокойная, ищущая молодежь, разве это не предвестник грядущих перемен?
В истории, которую я рассказываю, много необычного. Каждая жизнь неповторима, как неповторима каждая эпоха в развитии человечества. Мои студенческие годы совпали с затишьем перед бурей.
Беспомощным щенком стоял я у края пропасти и был свидетелем крушения. И многое увидел, и многое понял.
Ну вот, кажется, все о Париже, о семье, о далеких студенческих годах. Остановимся, подумаем.
За окном сверкают огни Москвы. В комнате тихо и спокойно. Отблеск настольной лампы лежит на окружающих предметах, родных и близких. Невидимые теплые нити тянутся к ним в полутьме.
Вот латышское покрывало на диване у письменного стола. Вот подарки друзей военных лет. Вот рисунки из Ханоя и Хошимина, привезенные в годы вьетнамской войны. Вот портрет Че Гевары. Вспомнились глаза Фиделя и пожатие его теплой широкой руки. Вот безделушки из Африки. А это что?
Да, конечно, это Мадагаскар. Пор-Берже… встреча с бывшим гестаповцем.. Я забыл о нем, увлекся воспоминаниями. А ведь именно его слова побудили сидеть по ночам над этой рукописью.
Я был проездом в Пор-Берже на севере Мадагаскара. В гостинице за столом случайно встретились четверо мужчин: выходец из Эльзаса, итальянец, мой друг-москвич и я. Вспомнили войну. Эльзасец был во время войны сотрудником гестапо в Праге, итальянец сражался в дивизии Муссолини.
Бывший гестаповец заложил руки за спину и сказал:
— Война не закончена. Основное — впереди.
Спокойно!
СТАРИК
ДАУГАВПИЛССКАЯ КРЕПОСТЬ
Двенадцатый Баусский пехотный полк латвийской буржуазной армии расквартирован в Даугавпилсской крепости. В старой крепости тишина. Мы дежурим, Озолин и я. Устроившись на табуретках перед открытой дверцей большой круглой печи, мы смотрим на горящие поленья и молчим. Расстегнув ворот френча и сняв нелепый шлем в форме горшка, провожу машинально рукой по стриженной под нулевку голове и оглядываюсь. На заиндевевших стеклах окон коридора искрами вспыхивают отблески огня, горящего в печи. На стене большой портрет его превосходительства президента Латвии господина Ульманиса. Выпяченная грудь разукрашена лентой, звездами, орденами. Лоснится самодовольное, тупое лицо мелкого лавочника.
Из карманов шинели Озолин достает несколько картофелин, открывает поддувало и закапывает картошку в золу, под дождь раскаленных угольков. Пламя ярко освещает лицо, помятое жизнью, изрытое морщинами. В роте Озолина зовут vecais — старый. Что занесло его, почти сорокалетнего, в Даугавпилсскую крепость? Старик говорит и по-немецки, и по-французски, и по-итальянски, и по-венгерски, и еще на каких-то языках. Беда в том, что понять его трудно. Скитаясь по белу свету, он выучил в каждой стране несколько слов, не заботясь ни о грамматике, ни о произношении. И все же мы понимаем друг друга.
Старик мне много помог в первые недели моего пребывания в армии. Я ведь не знал латышского языка, и для меня все было ново: подъем на заре, занятия в поле, мытье в бане, простая еда, жесткий распорядок дня. Солдаты нашей роты, крепкие деревенские парни, относились ко мне с иронией, но дружелюбно и помогали восполнить пробелы в моем образовании: учили колоть дрова, запрягать лошадь, топить печь, шить и стирать портянки.
Со строевыми занятиями я тоже быстро освоился: я повторял то, что делали все, и стал понемногу постигать ремесло солдата и основы латышского языка. Вначале на помощь приходил Озолин — если надо было, например, сдвоить ряды, он пихал меня пальцем в спину, и вместе со всеми я четко выполнял команду: раз, два, три! Или, если Озолина не было рядом, я прибегал к уловкам: когда, к примеру, мы рассчитывались на первый-второй и справа неслось, приближаясь: «Пирмайс! Отрайс!», я, не задумываясь, бодро кричал: «Татайс!» Когда надо было рассчитываться по порядку, я кричал не «Татайс!», а «Тататайс!», и все сходило благополучно. На вечерней поверке я отзывался «yes» — вместо «эс», а когда пели гимн и молитву, в такт открывал и закрывал рот. Как рыба.
Все было бы ничего, если бы не фельдфебель Калван, который возненавидел меня с первого взгляда, с той самой минуты, когда, прибыв в Даугавпилсскую крепость из Парижа, я вежливо представился ему по-французски, приподнял шляпу и протянул свою визитную карточку. С тех пор Калван осыпает меня издевками, которые я, не понимая, принимаю с улыбкой, нарядами, которым я рад, потому что могу побыть наедине со своими мыслями, подметая коридоры и чистя картофель на кухне.
Озолин нагнулся, пошарил в золе и протянул мне картошку.
— Ешь, Студент.
— Старик, как ты попал сюда?
— Война на родину загнала. Может быть, здесь отсижусь.
— У тебя семья есть?
— Не… Жена умерла, дом продан. Один я и никому не нужен. Долго батрачил, а потом ушел. Насовсем. Ты наших хозяев не знаешь.
— А почему тебя начальство не любит? Ты ведь латыш.
— Видел, как сытые псы голодную собаку гонят? Хуже, чем волка. Так и меня. У кого свой дом, тот бродячих не любит. Да и за что уважать? Ни кола ни двора…
Я задумался. Не потому ли возненавидел меня Калван, что и я бездомная собака? Ну сортом повыше, образованная, ученая, но все равно бездомная. Кто я — русский, француз, латыш?
— А меня? Тоже за это не любят?
— Угу.
Так вот оно что! Здесь я тоже «метек». За выходками фельдфебеля не просто тупость рьяного солдафона, а спесь «хозяина».
Я усмехнулся и сказал без злобы:
— Дурак он.
— Почему? Каждый защищает свое.
— И ты бы так делал?
— Не знаю… Я устал и привык к свободе.
— Глупости! Они спесивые тупицы — эти твои «хозяева»! С их дурацкой землей. Если хочешь знать, родная земля — это мысли и убеждения человека, а не место на земном шаре, где он случайно родился.
Старик качает головой.
— Когда бывало голодно, я пел наши латышские песни и вспоминал хутор, где вырос. Ты мало бродяжничал, а я много. И в тюрьме сидел.
— Чепуха! К чему привык, то и поешь.
Старик горбит спину и потирает руки у огня, точно озяб.
— Ты говоришь, Студент, что человека озлобляет «свое». А по-моему, человек просто злой и всегда будет злым.
Сон прошел, мы сидим у печки. Достаю письма из Парижа и Нью-Йорка.
«…В газетах только о Финляндии. Стало модным ругать Советский Союз и сочувствовать финнам. Это лейтмотив правительственной прессы. А другой больше нет. Что касается нашей войны с Германией, то о ней просто забыли. Все свыклись со «странной войной». Скучно в Париже. Из наших никого нет. Кто в армии, кто уехал. Обхожу «Капуляд» стороной, чтоб не видеть «наш» столик, за которым мы мечтали и спорили. И разошлись…»
Сиреневый листок, исписанный мелким почерком. Тонкая нить к прошлому.
Тикают часы. Спит Даугавпилсская крепость.
— Старик, ты веришь в человека?
— Какого?
— Человека вообще.
— Нет такого.
— Есть. В каждом из нас. Каждый должен… — Я поискал, как перевести с французского «accepter son destin» — идти своей судьбе навстречу. Честно.
— Честно? — усмехнулся Старик. — Чтоб люди были честными, нужны тюрьмы. А судьба… Так куда ж уйдешь от нее? Если денег нет.
Ирония Старика покоробила меня.
— Достоинство человека не покупается и не продается.
Старик помедлил. Потом нехотя:
— Продается. За три охапки дров.
— Недорого!
Старик не улыбнулся. Он съежился и потер озябшие руки.
— Ты у дровяного склада стоял на часах?
— Нет, а что?
— Позавчера женщина приходила. У нее дети мерзнут.
Раскрываю второе письмо, от мамы.
«…На пароходе отец куражился, говорил, что начнет новую жизнь, осуществит на практике свои изобретения, создаст фирму».
В сердце шевельнулась нежность и жалость к отцу, точно к неразумному, упрямому ребенку. Верит в свою мечту стать Фордом!
«…Действительность оказалась очень тяжелой. Денег нет. Вещи проданы. Английский мы не знаем, и нам трудно приспособиться к сумасшедшей жизни в Нью-Йорке. Алик нам помогает. Он нашел работу — «джоб», как здесь говорят, — он проводит электричество в курятниках на окраинах города. Чтобы куры больше неслись. Но он зарабатывает мало, и нам не хватает. Отец сбрил усы — так он кажется моложе — и устроился рабочим на спичечную фабрику. Продержится ли он там? На днях мастер — тоже русский — сказал отцу: «Ты у меня смотри! Я — твой босс!» Отец огрызнулся: «Не босс — а босяк!» Ты ведь знаешь отца. Боюсь, выгонят его. А я учусь, как училась во Франции, как училась всю жизнь. Чтобы иметь право практики. Тяжело мне. Скучаю по тебе…»
Старик подбрасывает полено в огонь.
— Нет у меня больше дома, — говорю ему. — Там, где я вырос, не осталось никого. Даже если захочу, не могу больше вернуться домой.
— Не ты первый, не ты последний. К прошлому вернуться нельзя.
В печке трещат дрова.
— Ты чего ушел из дому? — спрашивает Старик грубовато и идет проверить входную дверь.
— Чтоб жить, бороться.
— Калван научит тебя жить! Ты с ним поосторожней.
Калван? Я задумался. Вспомнил непрекращающиеся стычки с фельдфебелем. Однажды, в самом начале пребывания в старой крепости, он заставил меня проползти на четвереньках под койками в наказание за то, что после отбоя застал меня у печки в ночной пижаме с модной французской политической книгой в руках. В другой раз, когда я кончил подметать казарму и, присев на корточки, прищурившись выверял равнение кучек мусора вдоль длинного коридора, Калван схватил меня за плечо железной рукой и отшвырнул к стене. Фельдфебель задыхался от злости: «Издеваешься над армией, над Латвией?» Я удивился тогда его проницательности. Действительно, если уж я отказался служить во французской армии, то как я мог относиться серьезно к «доблестной» армии его превосходительства лавочника Ульманиса? Неприязнь Калвана ко мне росла. Так же, как росла моя неприязнь к латвийской буржуазной армии с ее нелепой муштрой, архаичными конными повозками, торжественной молитвой по вечерам и назидательными рассказами о победах над «красными голодранцами» в двадцатом году. Ну и армия!
И на кой черт меня занесло в эту дыру? Сколько еще прозябать в этой проклятой заплесневелой крепости?
Мои размышления прервал стук двери.
— Внимание! — кричит Старик.
В дверях командир роты лейтенант Милгравис и фельдфебель Калван.
Старик рапортует. Милгравис обводит мутным взглядом коридор. Потом садится на табурет, закуривает и подзывает меня пальцем.
— Ну как, холодно у нас после Франции? А?
Командир роты щеголяет дружеским тоном в разговоре со мной, простым солдатом, и сносным знанием немецкого.
— Небось скучно тебе в крепости после парижских шантанов? А? — Милгравис пускает струйку дыма мне в лицо и подмигивает, кивая на письма. — Письма оттуда? От всяких… э-э?
Многозначительная улыбка, окрашенная завистью, показывает, о ком думает Милгравис. Прячу письма в карман. Милгравис сплевывает папиросу, сразу меняет тон.
— Здесь из тебя человека сделают. Солдата!
Иронически смотрю в мутные глаза. Милгравис взрывается:
— Стоять смирно! Здесь тебе не балаган, не Народный фронт!
Он резко встает и идет к выходу. Поскрипывают офицерские сапоги.
— Финляндию предали и нас предадут. Французы не солдаты, а бабье, прогнившие политиканы. Не то что немцы! — бросает Милгравис на ходу. Калван кивает.
Обернувшись в дверях, командир роты и фельдфебель презрительно разглядывают нас: хороши солдаты — бродяга и беглый студент!
Хлопает дверь.
Старик просовывает метлу в ручку двери. Одну шинель мы расстилаем на столе, другой укрываемся и засыпаем сном праведников. Начхать на нее, на солдатскую доблесть!
В полку ко мне относились по-разному. Стрелки посматривали на меня с улыбкой, но дружелюбно. Им понравилось, что я отказался перейти в медчасть санитаром. Унтера, фельдфебель и младшие офицеры презирали «студентика» и «политикана». Полковник приглядывался к «белой вороне», залетевшей из Латинского квартала в Даугавпилсскую крепость. Полковник говорил по-русски и немного по-французски, раза два он беседовал со мной и однажды пригласил к себе. Я пожаловался, что Калван отнял у меня книги, привезенные из Парижа. Полковник рассмеялся, хлопнул себя по ляжке.
— Ладно, читайте. Калван и французские романы. Умора… Только помните, что без таких, как Калван, вся ваша французская культура — пфюит… Калван груб и глуп, но он солдат. А сейчас не время играть в демократию. Ваш Народный фронт чуть не погубил Францию.
Я не удержался:
— Почему?
— Как почему? Пустая болтовня! Кому это нужно?
— Народу.
Полковник побагровел.
— Народ? Все и никто. Ширма для демагогов. Дай им волю, они развалят общество.
Поколебавшись, я спросил:
— А если оно несправедливо?
— Исправляйте, улучшайте. Но не трогайте основ.
Полковник с любопытством разглядывал меня. Видимо, он впервые говорил на эту тему с подчиненным. Да еще солдатом.
Он прошелся по комнате. Что-то тревожило его.
— Все это мы знаем по восемнадцатому году. Тогда мы вовремя остановили заразу. Народ понял, что, если он послушает демагогов, он все потеряет.
— Что?
— Да то, что у него есть. Собственность. То, что копили для нас отцы, что мы передадим детям.
— Разве в этом дело?
— В этом!
Полковник сдержал себя, стал втолковывать как неразумному ребенку:
— Вы послушайте, что он говорит, ваш народ. Мои деньги, мой дом, моя семья, моя земля. Мой, моя, мое! Это основа основ. Разве непонятно?
Я пытался что-то возразить. Полковник отрезал:
— Хватит! Никто никогда не изменит природу человека.
Я промолчал. Полковник успокоился, добавил:
— В чем сила Гитлера? В том, что он вдалбливает: мой дом, мой немецкий народ, мой фюрер. Пора всей Европе понять эти простые истины и объединиться.
Полковник подошел к карте на стене. Черной штриховкой и жирными стрелами был обозначен захват Австрии, Чехословакии, Албании, Польши. Зловеще расползлась черная штриховка по карте, покрыв весь центр Европы, перекинувшись на Финляндию.
Но не это тревожило полковника.
— Прибалтика — форпост Европы, — веско сказал он, — санитарный кордон от большевизма.
И, понизив голос:
— А они там, на Западе, грызутся между собой. Опасно все это. Опасно.
Мимолетное знакомство с полковником облегчило мою службу в полку. Фельдфебель махнул рукой на меня и назначил бессменным дежурным по чистке картофеля на кухне. С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Моим другом стал Старик. Из него тоже не получился «бравый солдат, преданный президенту Ульманису». Ночные дежурства по роте у открытой дверки круглой печки были единственной отдушиной в нестерпимо затхлой атмосфере армии.
Прежде чем продолжить рассказ о Старике, нужно навести порядок на моем письменном столе. Стол завален ворохом исписанных листов. О Бельгии, Голландии, Дании, Швеции, которые я посетил по пути из Парижа в Ригу, о довоенной Латвии и о Даугавпилсской крепости.
Раньше мне это казалось интересным. Сейчас, перечитывая в сотый раз, вижу, что это ненужная чепуха. В корзину.
Значимость отдельных отрезков прожитой жизни измеряется числом страниц, которые оставляешь, когда в конце жизни критически оцениваешь пройденный путь. Восемь страничек об этом периоде моей жизни — более чем достаточно. По существу, не о чем писать. Как только студент оторвался от Латинского квартала, бурлящего и неугомонного, и попал в сонную старую крепость на берегах Даугавы, то сразу выяснилось, что мыслить самостоятельно он не умеет.
Конечно, я тогда об этом не знал. Более того, мне казалось, что мои суждения интересны и оригинальны. На самом же деле я просто не понимал, что происходит вокруг меня.
Самостоятельно ходить человек начинает рано, самостоятельно мыслить — поздно или никогда. Мудрость природы в том, что первое заметно всем, второе внешне ничем не проявляется.
ЛЕТО ЧУДНОЕ
На полпути между Даугавпилсом и Ригой на высоком берегу Даугавы стоит замок Крустпилс. Массивная четырехугольная башня возвышается над господской усадьбой, скрытой за кронами старых деревьев. За усадьбой полузапущенный парк. Дальше, у железнодорожной станции, крустпилсский сахарный завод. Сотни две домиков — это и есть город Крустпилс — растянулись цепочкой вдоль дороги по берегу Даугавы.
По эту сторону реки, на низком левом берегу, расположен город Екабпилс. Он больше Крустпилса и имеет две главные улицы. Короткие переулки пересекают их под прямым углом и выходят на песчаный берег. Берег порос кустами и усеян старыми лодками, перевернутыми вверх дном. На центральной улице стоит унылое серое здание. Вокруг двухэтажные каменные дома. Дальше, на окраинах, деревянные домики и ветхие флигелечки с садиками.
Мирно спал Екабпилс в 1940 году.
В каменных домах в центре города проживали начальник полиции, городской голова, аптекарь, нотариус, владельцы магазинов и лесопилок и другие уважаемые граждане, столпы ульманского режима. Подальше, в деревянных домах, жили ремесленники и рабочие, среди них много русских и латгальцев.
— Ну и ну! — качали головой екабпилчане, когда почтенный старик, сидя на крылечке, читал в скомканной газете о вторжении немцев в Норвегию, Бельгию или Голландию.
Нельзя сказать, что екабпилчане не были в курсе европейских событий, но странное дело, долетая до берегов Даугавы, тревожные вести теряли свою остроту. Их поглощала сонливая духота маленького города. Латыши побогаче убеждали себя, что все обойдется.
В этот тихий городок на Даугаве перевели наш полк из Даугавпилсской крепости. И Екабпилс сразу преобразился. Зычные команды и солдатские песни зазвенели из конца в конец потревоженных улиц. На центральной площади замелькали подтянутые офицеры в свежих перчатках.
Наша солдатская жизнь быстро вошла в привычную колею: учения, поверки, брань фельдфебеля, окрики офицеров и, конечно, наряды. Бессменные наряды на кухню. И все же многое изменилось с переездом в Екабпилс. То ли фельдфебельскому голосу недостает громового эха крепостных коридоров, то ли сказалось размещение рот в разных концах города, то ли влияние весны, но настроение в полку уже не то: развеялась казарменная атмосфера, царившая до сих пор.
Нашей первой роте особенно повезло: нас поместили на окраине Екабпилса в здании бывшей русской школы. Молодая листва деревьев врывается к нам через открытые окна, манит наружу. Мы не заперты, достаем газеты, по вечерам обсуждаем события.
И мое положение в роте изменилось — рота приняла меня, несмотря на то что я почти не знаю латышского языка и не упускаю случая пошутить над бравой солдатской выправкой и прочими военными доблестями. Ребята из нашей роты, простые, рассудительные, кажется, даже гордятся тем, что среди них затесался такой экзотический экземпляр рода человеческого, как студент из Латинского квартала.
По утрам стрелки отправляются на строевые учения и в наряды.
Рота выстроена во дворе. Кухонная команда — в сторонке. У солдат винтовки и ручные пулеметы, у поваров — ножи для чистки картофеля.
— Смирно! — кричит Калван. Рота замирает.
— Смирно! — кричу я. Повара замирают.
— Направо, шагом марш! — надрывается Калван.
— Шагом марш! — вторю я.
На кухне тепло и уютно. Там спрятана пара французских книг. Повара рассаживаются вокруг большого деревянного чана, приступают к чистке картофеля.
Добродушный великан латгалец Акула вертит картофелину в своих тяжелых лапах и недовольно бурчит:
— Бабья работа. Лучше на стрельбище.
— Стрелять каждый дурак умеет, а что толку?
— А как же не стрелять? Без этого нельзя.
— Почему?
— Страну защищать.
— От кого защищать, баранья ты голова?
— Ну, от других…
Пытаюсь спорить, но все против меня. Гунарс — восемнадцатилетний парень из Риги — обрывает меня:
— Да сам ты кто, Студент?
— По паспорту — латыш.
— Какой ты латыш, если ты не латыш?
— Во Франции национальность — это подданство. Приму французское подданство, буду французом.
Гунарс не верит.
— И африканцы?
— Тоже.
Гунарс бросил очищенную картошку в деревянный чан, свистнул и неожиданно заключил:
— Понятно, почему Франция погибает.
— Болван!
Старик только усмехался, советовал:
— Да не спорь ты с ними. Бесполезно.
По вечерам мы собираемся во дворе, за штабелем дров. Засунув одну руку в брюки и царапая другой пояснительные схемы на стене, я рассказываю. О Франции, о войне, о развитии общества, о капитализме. Старик помогает мне, переводит, комментирует. Стрелки слушают молча, с легкой иронией. Иногда вступают в спор. Как-то я говорил об укрупнении производства, привел пример сельского хозяйства.
— Стой, Студент, не путай, — прервал Акула. — У нас не так. Раньше, при царе, были большие имения, а потом их поделили.
— Айзсарги лучшие земли забрали, — заметил Старик.
— Но поделили. Студент говорит, хозяйства становятся крупнее. Так ты говоришь?
— Так, мелкие хозяйства разоряются. Землю скупают богачи.
— Разоряются… Это пьяницы и лентяи разоряются!
Тут опять вмешался Старик:
— У меня был хутор. Что осталось? Или я лентяем был? Пьяницей? Да?
Разгорелась перепалка. Старик твердит:
— Сильный слабого грабит. Так было, так будет.
Но ребята не согласны:
— Разоряются лентяи. А хороший хозяин всегда будет иметь доход. Без хозяина нельзя.
— Почему? — вмешивается теперь Крумин. — Мы в Рижском порту своего хозяина даже не знали. Он живет в Англии. На кой шут он нужен, такой хозяин?
Но разговоры разговорами, газеты газетами, а чувство нетерпеливого ожидания растет изо дня в день. Хочется поторопить историю, которая в своем стремительном беге по странам Европы, казалось, забыла заглянуть в наш сонный городок.
И вдруг! В один из погожих дней июня сорокового года произошло невероятное событие. Произошло необычайно просто и навсегда нарушило наше солдатское житье-бытье.
Расскажу обо всем по порядку.
День был тихим и ясным. Я стоял на посту у железнодорожного моста через Даугаву и, облокотившись о перила, смотрел вниз. Сияло солнце, сверкала гладь воды. Нерушимым покоем веяло от пустынных берегов и домиков, заснувших у реки. Я думал о Париже. Неужели правда, что погибает Франция?
Достаю последнее письмо оттуда.
«…Видел бы ты, что творится! Дороги забиты беженцами. Всюду паника: куда бежать? Как быть с имуществом? От Мишеля, Ги и Эли нет вестей. Жак в Париже. Вчера мы были с ним на бульварах, видели, как прошли сенсирцы[14]. Подчеркнуто весело, в безупречном строю. Ошалевшая от страха толпа на минуту оборачивалась, аплодировала, пела «Марсельезу» и тут же снова, еще торопливей, готовилась к бегству. Жак выругался, я расплакалась…»
Прячу письмо в карман и перевожу взгляд на залитую солнцем реку. Вдоль берега идут девушки в цветастых платьях. Они машут мне. Показываю на винтовку: я, мол, на посту. Они смеются и настаивают, чтобы я сошел. Что за глупые шутки?
Однако что там творится, в городке? У магазина столпились люди в темной рабочей одежде. К ним подходят все новые железнодорожники. Почему они не работают? И у переправы стоит толпа. Кто-то машет газетой.
Засмотревшись, не замечаю, как на мост влетает коляска. Обернувшись на грохот копыт по настилу, узнаю командира батальона. Наспех приветствую, стараясь незаметно застегнуть ворот френча. Но подполковник даже не взглянул на меня.
Наконец меня сменяют.
— Что стряслось? — спрашиваю сержанта, направляясь с ним в роту. Он не знает.
Нам навстречу попадается хмурый Калван.
— Господин фельд… — хочет рапортовать сержант. Калван не обернулся. Бросаемся в помещение роты.
— Старик, что случилось?
— Ульманис… фю-и-ит!
— Что… фю-и-ит?
— В Риге советские танки. Народ их приветствует.
— Что?!
Солдаты нашей роты спокойно сидят на койках и перешептываются. Сидят как пни! В такое время!
— Ребята, революция!
Отозвался Крумин. Хмуро и неохотно:
— Заткнись. Ты нездешний.
— А ну вас к черту! Старик, пойдем.
Мы выбежали из казармы.
На центральной площади напряженная тишина. Окна прикрыты. На лесопилке рабочие-латыши остановили пилу, курят и переговариваются вполголоса. Обращаемся к ним:
— Слыхали? Революция! Все будет по-новому!
Рабочие молчат. Наконец один из них роняет:
— Может быть, и по-новому. Может быть.
Спешим к окраинам. В деревянных домиках и флигелечках царит оживление.
У лавочки галдеж. Спорят, машут руками. В сторонке сидят старики и в сотый раз перечитывают газету.
— Долой Ульманиса!
Они уставились на нас удивленно и испуганно.
Но вот со стороны моста через Даугаву доносится топот кованых сапог. Чеканя шаг, на главную улицу вступает колонна. Впереди Калван, за ним сержанты и старшины полка. В ладно пригнанных мундирах и начищенных сапогах шагают солдаты спецроты[15].
«И Курляндия, и Лифляндия, и Латгалия наши!» — гремит песнь. Спецрота печатает шаг.
Спадает оживление на окраинах города. Расходится толпа, захлопываются двери. На лесопилке завизжала пила.
А центр городка ожил. На порог вышли почтенные горожане, распахнулись ставни, и в окнах заулыбались лица.
— Раз, два! Левой! — В голосе Калвана звенит вызывающая нотка.
К спецроте пристраиваются гимназисты и подтягивают тонкими голосами:
Balta rosa mana krutis dzied…[16]Злой, раздосадованный, возвращаюсь в роту. Старик плетется за мной. На городок точно вылили ушат холодной воды.
А в роте все то же: солдаты не спеша обсуждают события. Бросаюсь на койку и отворачиваюсь к стене.
В Екабпилс пришли части Красной Армии. Но они остановились в лесу и в городке не показываются. Спецрота патрулирует по улицам. Население молчит. Айзсарги выжидают.
И тут выступил по радио его превосходительство лавочник-президент Ульманис:
— Я остаюсь на своем посту, вы все — на своих! Ничто не изменилось.
Это была такая безмерная глупость, что все поняли: настало время перемен.
Екабпилс проснулся.
Началось с того, что в воскресенье утром в город прибыли подводы с ближайших хуторов. Вскоре всю площадь заполнила толпа крестьян и батраков. К ним присоединились железнодорожники, жители окраин. Из Крустпилса пришли рабочие сахарного завода. Толпа гудела, сперва сдержанно, потом все более напряженно. Наконец как по команде она двинулась к центру. Вперед побежали мальчишки.
Спецрота пыталась остановить толпу, но безуспешно. Толпа пропустила сквозь себя колонну унтеров и снова сомкнулась. Звучала революционная песнь. Поднялись и заколыхались самодельные красные флаги.
А нас заперли в казарме. Столпившись у окон второго этажа, мы прислушиваемся к гулу толпы.
— Что за бардак?
Похлопывая перчаткой по ляжке, в дверях стоит лейтенант Милгравис.
— Продолжать занятия!
Латыши не терпят пафоса и показухи и не принимают решение сгоряча — они будут сидеть, думать, к чему-то прислушиваться. Они должны внутренне созреть, прежде чем решиться.
«Ar prātu un pipešanu» — «Поразмыслив и покурив», — говорят латыши.
Но, приняв решение, латыши от него не отступают. Если у вас друг латыш, можете не беспокоиться: без веских, тщательно проверенных причин он не откажется от дружбы. Если у вас враг латыш, тоже можете не сомневаться: он будет верным врагом. До конца жизни.
Тогда, в Екабпилсе, наша первая рота приняла решение не сразу. Солдаты переговаривались, курили у открытых окон, прислушивались к шуму толпы. Наконец Крумин подошел ко мне и сказал:
— Валяй, Студент. Надо созвать солдат со всего полка. Поговорить.
От «солдатского комитета полка» — надо же было как-то подписать обращение — мы обратились к другим ротам, написали и расклеили в городе листовки, в которых призывали солдат собраться на митинг на спортивной площадке возле средней школы.
Вечером накануне митинга Крумин сказал, что офицеры собрались у командира полка и надо узнать, что они замышляют.
Под прикрытием кустов пробираемся к открытым окнам флигеля. Гудит голос полковника Зенина:
— Избегать инцидентов! Любое столкновение будет использовано против нас. Сохранить наших — вот задача! Что происходит сейчас, ничего не значит. Сейчас они тихонями прикинулись, но скоро выпустят когти, начнут отбирать землю, глумиться над нашей верой и обычаями. Вот тогда народ поднимется. Тогда наш час пробьет. Нам помогут с Запада. А пока — сохранить наших людей. Не давать повода.
Молчание. Потом Зенин добавляет тоном ниже:
— Все еще впереди!
Звучит голос Милгрависа. Бас полковника обрывает его:
— Не разрешаю! Поймите: надо выждать.
Осторожно выбираемся из сада. Началось…
На следующее утро листовки сорваны, и нам передают угрозы спецроты. На спортплощадке у школы собралось меньше солдат, чем мы ожидали. Они молча толпятся перед деревянным помостом, который служит трибуной.
— Пришел полковник, — шепчет Старик, показывая глазами на силуэт Зенина в тени деревьев.
Первым выступает солдат из третьей роты. Затем на трибуну поднимается невысокая женщина. Она говорит о тяжелом труде батраков и рабочих, о будущем Латвии.
Теперь моя очередь. Вскакиваю на помост рядом с женщиной. Передо мной человек сто. Дальше, оцепив спортплощадку, в несколько рядов стоит спецрота. Унтера скрестили руки на груди и вызывающе поглядывают на нас.
— На Западе, — говорю я по-русски, Старик переводит, — льется кровь и гибнут города. На Востоке строят заводы и школы. Там рождается новая жизнь! Никто не завяжет нам глаза и не заткнет рты. Мы сами выберем свою дорогу!
Солдаты слушают, молчат.
Но вот спецрота начала медленно приближаться, шаг за шагом. Впереди Калван. Сужается просвет между кольцом спецроты и толпой у помоста. Солдаты нахмурились, сдвинулись теснее.
И тут из тени деревьев выходит полковник Зенин. Он быстро проходит вперед и останавливается перед Калваном, заложив руки за спину и широко расставив ноги. Упрямо подался вперед массивный затылок на широких плечах. Калван остановился в нерешительности. Зенин делает шаг вперед. Калван пятится. За ним пятится спецрота. Круто повернувшись, полковник шагает прочь, даже не взглянув в нашу сторону.
Облегченно перевожу дыхание, кричу:
— Повернем штыки на Запад!
И спрыгиваю с помоста.
После митинга брожу по городу в радостном, приподнятом настроении. Екабпилс шумит, на улицах людно. У небольшого двухэтажного дома в центре города царит оживление. С автомашин и повозок спрыгивают люди и, громко переговариваясь, спешат вверх по узкой, крутой лестнице. Звучат возбужденные голоса и настойчивые телефонные звонки. Здесь только что обосновался уездный комитет Компартии Латвии. В одной из ярко освещенных комнат женщина, выступавшая на нашем солдатском митинге. Останавливаюсь посмотреть на нее, потом спускаюсь к Даугаве. Сгущаются сумерки, но река не спит. На воде дрожат огоньки, постукивают уключины, звучат смех и радостные голоса.
Возвращаюсь в казарму по темной аллее заброшенного парка.
Приподнятое настроение сменяется смутной тревогой. Замедляю шаги и останавливаюсь. Кто тут?
— А-а… вы? — Это сказал голос полковника Зенина. Передо мной вырос его массивный силуэт с сутулыми плечами и упрямо склоненной головой.
— Зачем вы устроили эту провокацию? Говорите. Мы одни.
Полковник ждет.
— Или вы это серьезно? Про социализм?
В голосе зазвучала злая усмешка:
— Да вас первого заберут. Эмигрант! Из Парижа! Кто поверит вам?
Хочу пройти. Тень загораживает дорогу.
— Проститутка! Потаскуха французская!
Сжимаю зубы. Ночь вокруг нас сгущается.
— А вы не остановите…
Тень сдвинулась в сторону. Глухой голос сказал из темноты:
— Все еще впереди.
По темным переулкам спешу в казарму. У глухого забора гимназисты в кепочках. Услышав шаги, они кидаются прочь. На заборе антисоветская листовка, написанная полудетским почерком. Запускаю камнем в убегающих подростков.
И вдруг вижу фельдфебеля Калвана. Растрепанный, запачканный, он тяжело опирается плечом о стену дома. Фуражка валяется у его ног.
Козыряю. Он не отвечает. Потом зовет:
— Студент!
Останавливаюсь. Калван пытается расстегнуть кобуру.
— Я пьян… На улице, — бормочет он. — Ты что не смеешься, свинья, коммунист? Я прослужил двадцать лет в нашей латвийской армии… на моей латвийской земле… А ты? Бездомная собака! — Кобура не расстегивается. Фельдфебель устало машет рукой. — Да что ты! Они предатели — Зенин и другие. Выждать хотят… Драться надо, а не ждать! Но эти свиньи не о Латвии, а о себе думают.
Калван повторяет:
— Предатели!
Потом слабо машет рукой:
— Дурак ты, Студент, что ли… Иди уж…
У бывшего дома айзсаргов остановились грузовые автомашины с тюками. На тюках сидят розовощекие, круглолицые девчата и поют «Катюшу». Протиснувшись сквозь толпу зевак, разглядываю с удивлением серые юбки, гимнастерки с кубиками и треугольниками в петлицах, красные береты со звездочками и кирзовые сапоги.
Одна из девушек ловко спрыгнула с машины. При этом разом подскочили кренделек косичек и маленький револьвер на поясе. Девушка повернулась ко мне:
— Ну, чего уставился?
— Какой ужас, — зашептали екабпилсские кумушки за моей спиной. — Женщины в армии! Вот почему дома терпимости позакрывали, безбожники этакие!
Кумушки говорили правду: екабпилсские бордели закрыли. Но к розовощеким девчатам кумушки были несправедливы. Девчата заняли «Коммерческую гостиницу» — излюбленное место пьянок и дебошей наших офицеров, вычистили ее и открыли больницу. Веселые и отзывчивые, они стали оказывать бесплатную медицинскую помощь населению и быстро завоевали симпатии и уважение екабпилчан.
Приезд медсанчасти был одной из сенсаций. А их было так много в это шальное лето сорокового года!
Шутка сказать! Митинги, собрания, шествия, горячие речи о праве на учебу, отдых и труд, о земельной реформе, о народной власти. По вечерам бесплатные концерты частей Красной Армии и показ кинокартин «Путевка в жизнь», «Чапаев», «Максим», «Истребители», «Три подруги», «Депутат Балтики», «Человек с ружьем», «Танкисты», «Веселые ребята»… Сколько картин просмотрели тогда екабпилчане! За месяц больше, чем за всю свою жизнь. А тут еще бесплатные больницы, библиотеки, школы, выборы в ближайшем будущем!
Что касается торгового мирка Екабпилса, то он переживал настоящий деловой бум! Что-то вроде «золотой лихорадки», охватившей в свое время знаменитый Даусон в далеком Клондайке. Подумать только! Лавочники с суточным оборотом в два-три куска мыла, дюжину пуговиц и пару катушек увеличили свои обороты в десятки и сотни раз! Русские все скупали не торгуясь. Цены росли как на дрожжах. Лавки были открыты с раннего утра до поздней ночи — торговля шла при керосиновых лампах и свечах, только одно тревожило коммерсантов: «А вдруг будет обмен денег и национализация торговли?»
И ко всему этому слухи. Противоречивые, тревожные, нелепые. Они зарождались и ползли по городу под покровом ночи, как только смолкали аплодисменты на концертах, гас свет кинопередвижек и пустели залы собраний. Открыли детские ясли — пополз слух, что детей заберут насильно; вышло постановление об отмене крестьянских долгов — и стали передавать по секрету: «Долги-то отменили, а землю и скот заберут».
Волновались екабпилчане, гадали: «Что дальше?» Батраки, рабочие и крестьяне-батраки твердо верили: будет лучше. Ведь хуже-то быть не могло! Торговцы и мелкие служащие колебались: может, и лучше, кто знает? Хозяева и горожане побогаче отмалчивались.
И в нашей солдатской жизни произошли удивительные перемены. Армия Ульманиса психологически распалась. Легко и как-то незаметно, точно умерла своей естественной смертью. К удовольствию солдат и большинства населения. Правда, офицеры еще собирались и шептались по вечерам, часть сержантов еще пьянствовала с горя и куражилась, но это никого не тревожило. Достаточно было появиться кому-нибудь из солдатского комитета полка, чтоб сынки айзсаргов смолкли и разошлись.
Уехали офицеры-немцы, служившие в армии Ульманиса. Они получили право на репатриацию и поспешили в «третий рейх», чтоб предоставить в распоряжение фюрера свои связи среди местного населения и свое превосходное знание Прибалтики.
Уехал один из высших офицеров нашей дивизии. Перед отъездом он пришел проститься с полком.
Деревянным шагом, с брезгливой усмешкой на тонких губах, он шел вдоль строя. Полковник Зенин сказал ему что-то. Офицер приостановился, из-под лохматых бровей ощупал взглядом мое лицо, запоминая.
Я выпрямился, не отвел глаз. Недоброе предчувствие мелькнуло в душе.
— Напрасно их выпустили, — шепнул Старик.
Армию Ульманиса переименовали в Латвийскую народную армию. Внешне мало что изменилось, но нам стали давать белый хлеб. Поэтому мы прозвали народную армию «булочкой». При «булочке» создали политуправление, и к нам однажды прибыл начальник этого политуправления. Симпатичный, обходительный, в новенькой форме, ои говорил негромко, подавал солдатам руку и представлялся: «Бруно Калнинш».
Он коротко выступил перед полком, осудил Ульманиса, призвал к порядку, демократии и социализму, упомянул о своих заслугах и длительной эмиграции в Швеции, пообещал восстановить дисциплину и ввести в армии новые порядки. После собрания пожелал побеседовать со мной.
— Мне говорили о вас как о человеке культурном, прогрессивном, с Запада. Сейчас очень нужны такие люди. По милости Ульманиса их почти не осталось в Латвии.
Начальник политуправления понизил голос:
— Надо взять в руки развитие событий, восстановить демократию и свободу личности. Иначе Латвию захлестнет мутная волна снизу. Я социалист и ценю советских людей, но их диктаторские замашки чужды нашему народу. И опасны…
Я отвернулся. Бруно Калнинш сухо попрощался.
Вскоре мы узнали, что начальника политуправления уволили, а само политуправление упразднили. Честно говоря, нам это было безразлично. Нас интересовали порядки в роге, а не где-то в верхах. А в роте была полная свобода: занятия были отменены с согласия полкового комитета, вечера мы проводили на митингах или в кино. Кружок наш собирался открыто. Мой авторитет в роте никем не оспаривался. Солдаты охотно слушали про революцию, индустриализацию, развитие науки и культуры. Даже про любовь. Но когда я пытался рассказать об обществе изобилия, обществе «по потребностям», они хмурились, им становилось неловко за меня.
— Если по потребностям, то мигом все растащут, — возражали они и добавляли: — Заткнись, Студент, со своими сказками. Мы и так за новую власть.
Латыши — народ трезвый, они прочно стоят на земле. Никогда я не говорил так много и не думал так мало, как летом сорокового года. Голову вскружила свобода, сердце было полно надежд, где уж тут было взвешивать свои слова?
— При социализме — по труду, при коммунизме — по потребностям!
Старик перевернулся на спину, заложил руки под голову и, уставившись на облака, пробегавшие по небу, спросил:
— Как это, по потребностям?
Этот вопрос Старик задает в сотый раз. И в сотый раз, добавляя новые подробности, я рассказываю про будущее общество, где никто не будет дрожать над «своим», все будут равны — латыши, французы, русские, в одной большой общечеловеческой семье.
— Когда это будет?
— Скоро.
— Мы это увидим?
— Конечно.
Старик улыбается, смотрит вверх с каким-то странным выражением уставшего лица. Морщинки в уголках глаз иронически смеются. В глубине души Старик мне не верит, и я не пытаюсь доказывать справедливость моих утверждений. Старика не интересуют доказательства, он просто любит слушать о том, как будет. Когда-нибудь. Пусть не в его жизни, а так, вообще, когда-нибудь. Подумав, Старик повернулся ко мне и спросил:
— А работать кто будет?
— Как кто? Все. Свободный труд — это радость. Понимаешь, трудиться будем не на себя, а на других. На всех.
Старик покачал головой.
— Радость, это когда работаешь на своем хуторе, на себя.
— Да оставь ты свой хутор! Ты сам говорил, что не мог прокормить себя.
— Не мог. Но все равно, легко работать только на своей земле.
Пытаюсь возразить, Старик прерывает меня:
— Подожди, Студент. Ты сам работал? Нет? А я всю жизнь спину гнул. Так что нечего мне заливать: «По потребностям да за счет других».
Я не сержусь на Старика, не пытаюсь его переубедить. Меня удивляет в нем странное сочетание горького житейского опыта и искренней, почти детской веры во что-то светлое в будущем.
Хорошие были дни, без муштры, без забот. Погода стояла жаркая, и мы целыми днями лежали на траве, в тени деревьев, смотрели на обмелевшую Даугаву, на крыши деревянных домиков и переговаривались. И конечно же, говорили о женщинах.
Надо признать, что в то время меня особенно интересовали женщины. Вернее, советские женщины, которые мелькали в кинокартинах. Меня не покидали мысли о Тильде, такой близкой и в то же время непонятной и тревожной. Тоска по ней не проходила. Я всматривался в лица героинь советских кинокартин, старался угадать, понять. Вот «она» на тракторе, вот — за штурвалом самолета, вот — на трибуне, вот — в кожанке с револьвером у пояса. Кто «она»? Чего добивается? Свободы для женщины? Независимости? Порой мне казалось, что за вызовом, брошенным миру, скрывается что-то более сложное и жизненно важное для нее. Самоутверждение ради новой, равноправной любви? Какой? Казалось, что советская героиня что-то не договаривает: распахнула двери и остановилась на пороге, прислушивается к себе. Стремится покорить мир и готова отдать его за любовь. Обычную бабью любовь.
— Старик, без свободы нет любви. Глупо думать, что роспись на бумаге или пара слов в церкви закрепляют женщину за тобой на всю жизнь. Даже ее искреннее согласие не гарантия. Даже в любви женщина остается в чем-то свободной.
— Дети закрепляют баб за нами. Так всюду.
— Я тебе не о детях. Женщину неволить нельзя. Понял?
— Так что ж, по-твоему, жену и запереть нельзя, и поколотить нельзя, если заслужит?
— Болван!
— А как она знать будет, что ты ее любишь? Не, Студент… Это тебе удобно, свобода. А жене ни к чему. За что она будет любить тебя, если ты ее крепко не держишь? Даешь ей свободу? Что она, дура, что ли?
Лето 40-го года! Даже Калван заколебался. Махнув рукой на развалившуюся дисциплину, он целыми днями сидел в своей каморке и пил шнапс. Но по вечерам ходил со всеми на советские кинокартины.
— Слушай, Студент, — позвал меня однажды Калван, — ты всем рассказываешь, расскажи и мне. Что будет дальше?
— Ну, во-первых, исчезнет противоречие между общественным характером производства и частным присвоением продукта труда. Во-вторых…
— Стой! Ты мне скажи вот что: Латвия наша останется Латвией?
— А как же?! Но без Ульманисов и фон Шторхов.
Фельдфебель махнул рукой. Потом взял помятое письмо на столе.
— Вот с хутора пишут, будто землю делить будут. Давать тем, у кого мало. Верно это?
— Говорят… Но зачем? Мелкие хозяйства нерентабельны.
Калван залпом допил стакан и хлопнул по письму.
— Будут давать землю?
— Будут совхозы. С рабочими. Все будет общее.
В пьяных глазах фельдфебеля мелькнул огонек. Он встал.
— Нас рабочими сделать? Бездомными бродягами?
Спешу уйти. Мне вдогонку пьяный смех:
— Пусть отберут землю! Пусть попробуют! Ха-ха!
Как-то меня посадили в президиум одного из собраний и предоставили слово, не предупредив об этом заранее. Случись это сейчас, я смутился бы, но тогда даже бровью не повел. Я одернул френч, подтянул штаны, вышел на трибуну и заговорил о будущем. Кажется, я объяснил советским товарищам, как построить общество изобилия, где все будут жить «по потребностям». Закончил я, как обычно заканчивали выступления в то время.
Зал аплодировал, в президиуме молчали, секретарь укома КПЛ Мильда Бундулис — это она выступала на нашем первом солдатском митинге — улыбнулась. Немолодая и незаметная, она вся преображалась, когда говорили о будущем.
После собрания я проводил Мильду Бундулис до ее кабинета в укоме. Мы разговорились, я стал рассказывать о Париже. Мильда слушала не прерывая.
На столе горела лампа под зеленым абажуром. Сверкали золотом томики Райниса в шкафу. За открытым окном притаилась тихая летняя ночь. Рассказывая про Народный фронт, я упомянул о Тильде.
И тогда это случилось.
— Тильда?
Товарищ Бундулис уставилась на меня, я замолчал. Тикали часы. Потом Мильда Бундулис медленно выдвинула ящик письменного стола и достала фотокарточку. В ярком свете настольной лампы на меня глянула Тильда.
— Моя племянница. Она в Москве.
Весна сорокового года!
Хмельная, чуть нереальная весна моей жизни. Она промелькнула как один миг. И в тот короткий миг невозможное стало возможным и несбыточное сбылось. Я нашел Тильду.
Судьба? Случайность? Как хотите.
Не меньшим чудом было то, что я уцелел.
Бродяга-студент из Парижа, случайно оказавшийся на ничейной полоске земли, мало что значил в то предгрозовое время, насыщенное, как электричеством, тяжелыми предчувствиями и предельной настороженностью. Кому я обязан тем, что остался на свободе? Пожилому комиссару из Москвы, с которым я спорил, доказывая вопреки газетным статьям, что настоящий враг — это фашизм? Мильде Бундулис, которая сразу поверила мне и до конца жизни не усомнилась в моей искренности?
Никогда, ни перед чем я не буду так преклоняться, как перед гуманностью старых большевиков ленинской школы, их верой в человека и готовностью отвечать доверием на искренность[17].
Я был восторжен и наивен, мечтал об обществе свободы и изобилия, до которого, как мне казалось, было рукой подать. И Старик поддался весенним чарам, забыл свой скептицизм, поверил в осуществимость мечты. Он смотрел на облака и слушал мои речи.
Чудно́е лето!
Кстати, знаете, почему я упомянул впервые о Тильде именно в тот вечер, именно у стола, в ящике которого лежала ее фотография? Тайна раскрылась много позже, после войны. И она оказалась очень простой: ведь фотография молодой женщины в гостиной у родителей Тильды в Париже была ее, Мильды, фотография, снятая до того, как Мильду арестовали при Ульманисе и заключили в тюрьму.
Подсознание чаще определяет наши поступки, чем мы думаем.
В далекое лето сорокового года судьба Студента решилась буднично, как-то незаметно.
Красноармеец остановил меня на улице и предложил следовать за ним. Это было очень некстати — я покинул роту всего на десять минут, в перерыве между занятиями, чтобы опустить в почтовый ящик письмо в Москву, Тильде.
В пустой комнате за столом сидели три советских командира. Писал писарь. В дверях стоял часовой с винтовкой. Командиры пристально смотрели на меня.
— Откуда вы взяли, что надо отменить частную собственность и национализировать землю?
— А как же? Мелким хозяйством социализм не построишь.
— Кто вам поручил выступать на митингах? Агитировать население?
— Никто.
Председательствующий стукнул кулаком по столу.
— Да ты знаешь, как мы с подосланными врагами расправляемся?
— А вы что кричите? Ну да, я из Парижа. Ну и что? Что, я враг народа, что ли?
Я ответил еще на несколько вопросов, потом встал, извинился:
— Простите, сейчас мне некогда, у меня срочное дело.
Поколебавшись, командиры отпустили меня, но запретили выступать на митингах со своими собственными установками. Я пожал плечами. Как будто у человека может быть другая установка, чем собственная!
Впрочем, мне действительно было не до них. В кармане лежало письмо к Тильде.
В щель почтового ящика на центральной площади Екабпилса проскользнуло письмо, упало на дно ящика.
КРАСНАЯ АРМИЯ
Как быстро пробежало лето сорокового года!
Осенью наш полк перевели в Руйена, у эстонской границы, и переформировали в 227-й пехотный полк 183-й дивизии Латвийского территориального корпуса Красной Армии. Но из Екабпилса уехали не все. Две роты, в том числе и наша первая, временно остались работать на строительстве аэродрома в Крустпилсе.
Мы жили в палатках, днем копали канавы, по вечерам сидели у костра. Офицеров-латышей с нами не было. Одних уволили, других перевели в Руйена, в Красную Армию. Не было с нами и фельдфебеля Калвана. Он не захотел остаться в армии и уехал к себе на хутор где-то у Балви. Перед отъездом пришел проститься: молча прошел вдоль строя, устало поглядывая на нас, потом занял свое место впереди и безучастно стоял, пока звучал «Интернационал». Было странно и чуть тоскливо видеть его сгорбленную спину.
Работа была тяжелая, жить в палатках было нелегко, особенно когда наступили холода и полили дожди. Но мы были свободны, и воспоминания необычного лета были еще совсем свежи.
И вот теперь мы прибыли в Руйена, и нас, опоздавших, распределили по ротам. Что будет дальше, в Красной Армии? Советских командиров и политруков я видел в Екабпилсе. Они шутили и курили с бойцами, сами носили свои фанерные чемоданы, сами ходили за покупками на базар и сами чистили свои сапоги. А по вечерам пели и плясали на сцене перед толпой изумленных екабпилчан. Это смущало наших солдат и казалось несовместимым с понятием «офицер». Но мне лично это даже нравилось: какое-то отрицание условностей — а-ля Чапаев.
Впрочем, какое это имеет значение. Служить осталось недолго: через полгода буду свободен.
— Становись!
Спускаюсь не спеша, на ходу застегиваю шинель и натягиваю перчатки.
— Вам что? Отдельное приглашение посылать?
У крыльца стоит политрук и следит по наручным часам с непомерно большим циферблатом, сколько времени уйдет на построение. Он сухо бросает:
— Затянуть ремень! Поправить шинель!
Становлюсь в строй и с любопытством разглядываю политрука. Колоритная фигура! Маленький, плотный, краснощекий, с синеватым отливом на скулах, он все время в движении. То откинет длинную полу грубоватой серой шинели, поставит ногу на ступеньки крыльца и подтянет мягкий сапожок, собранный гармошкой у щиколотки, то снимет фуражку, проведет пятерней по густой, черной как смола шевелюре и вновь наденет фуражку, сдвинув ее на затылок, то пройдется быстрыми шажками вдоль рядов, заглядывая в наши лица черными блестящими глазами. Чувствуется, что он здоров, доволен жизнью и самим собой.
— На-ле-во! Шагом марш!
Командир роты пошел впереди, политрук подпрыгнул, попал в ногу и зашагал рядом с нами.
Мы так и пришли на полигон строевым шагом. А раньше, в ульмановской армии, Милгравис шел отдельно по тротуару и, заложив руки за спину, попыхивал папироской. Перед занятиями он цедил пару слов. Занятия проводили унтера, а Милгравис позевывал в сторонке.
Теперь все иначе. Новый ротный, лейтенант Балодис, достал планшет и стал объяснять. Длинно и путано. Вмешался политрук. Он схватил винтовку из рук ближайшего солдата и повернулся к нам:
— Смотрите!
С винтовкой в руке политрук пробежал по скользкому бревну, мячиком перепрыгнул через ровик, бросил гранаты и — раз, раз! — ударил штыком оба чучела. Потом показал на циферблат часов.
— Понятно?
Стрелки кивнули, пораженные таким невероятным для офицера поступком. «Ловкий, черт!» — подумал я и стал присматриваться к политруку.
Многое мне не понравилось в нем. Политрук странно козырял — поднесет кулак к козырьку и тогда расправит пальцы; смешно сморкался — вытащит свежий платок, развернет, уткнется носом и трубит, после чего аккуратно сложит платок по складкам и спрячет; шумно отхаркивался и звучно сплевывал.
После того как я трижды сорвался с обледенелого бревна, политрук приказал мне заниматься дополнительно в свободное время под его личным присмотром. Как будто можно было нагнать за несколько месяцев все, что было упущено во времена ульмановской армии и «булочки»!
— Зачем, товарищ политрук? — заметил я резонно, переводя дыхание. — Я к этому не способен.
— Станьте смирно! Обращаться как положено! Два наряда на кухню вне очереди!
— Что, комитетчик, выкусил? — съязвил Рекстин за моей спиной.
После полевых занятий политрук пошел с нами на обед, потом в кино, пропел с нами «Интернационал» на вечерней поверке и только тогда ушел, когда потушили свет в казарме.
Я начистил чан картошки, достал книгу и устроился поудобней.
На кухню заглянул политрук.
— Зайдите вечером ко мне.
— Товарищ старший политрук, боец Сопрунов по вашему приказанию явился!
Политрук отложил баян, повернулся ко мне:
— Садись. Я тебе вот что хотел сказать. В полку есть библиотека. Там журналы, газеты. Бери читай. И другим скажи, чтоб читали. В свободное время.
Политрук хлопает меня по плечу и цитирует Горького:
— «Лучшим во мне я обязан книгам».
Задетый тыканьем и похлопыванием, щелкаю каблуками.
— Так точно, товарищ старший политрук. Разрешите идти?
«Дан приказ ему на запад…» — донеслось из-за прикрытой двери.
«Чудной, — усмехнулся я. — Видно, самому стало неловко, что сдуру накричал на меня».
Но через день политрук накричал еще пуще, когда я не вычистил винтовку.
А по вечерам, перед отбоем, только разговоров что о нем.
— Папироску предложил, — усмехнулся Старик. — Так просто. Сел рядом и предложил. И о доме спросил.
— Ты бы побольше сцапал. Для всех.
— Да я не взял. Офицер…
— Нашел офицера! — бросил Аболс. — Мужик мужиком! Вот Милгравис…
— Что, Милгравис?
Кто-то передразнил бывшего ротного, процедив в нос пару невнятных распоряжений.
Все помолчали. Вспомнилась старая крепость на Даугаве.
— А гоняет он нас пуще Калвана.
— Зато сам все делает с нами.
— И все-таки шальной. На учениях придирается, кричит, а потом с разговорами подсаживается. Это только наш такой?
— Говорят, другие тоже… Не поймешь их. Однажды в роту пришел политрук. С гармошкой. Желая расшевелить наших флегматичных ребят, он заиграл плясовую и пустился вприсядку. Солдаты остолбенели, никто не улыбнулся. Политрук резко оборвал мелодию и отвернулся к окну. Через минуту он сказал спокойно:
— Ничего, научитесь. Еще свой ансамбль организуем.
После ухода политрука Старик выразил общее мнение: «Шальной, а так — ничего».
Два раза в неделю у нас политзанятия.
Мы сидим на табуретках, политрук, фамилия его Черемисин, стоит у столика с разложенными газетами. Широко жестикулируя и тыча пальцем в заголовки, политрук говорит о «текущих событиях». В это понятие входит все: выполнение планов, вести с колхозных полей, промышленное производство, открытие новых яслей, назначение наркома обороны, падение цен на нью-йоркской бирже, военные действия в Европе и производство яиц на подмосковных птицефабриках. Политрука не тревожит, что многие плохо понимают по-русски. «Со временем поймут, — заявил он. — Как же без русского языка?» Черемисин говорит громко, с подъемом. Выпрямляясь во весь маленький рост, он говорит, точно саблей рубит, точно врывается в гущу политических событий и расшвыривает их направо и налево. В его сочном изложении события более интересны и достоверны, чем в газетах.
— Товарищ политрук, разрешите спросить? А как же пакт с фашистами? Это что? Тактический маневр в ответ на Мюнхен?
— Пакт отвечает интересам государства.
— Но можно ли жертвовать принципами?
Черемисин заговорил о великом единстве партии и народа.
— Да, но пакт с Гитлером?
Политрук трубит в платок. Потом, решившись:
— Фашизм — наш враг. Был и будет!
— Из-за пакта много французских коммунистов ушло из компартии. Писателей, профессоров.
— Маловеры и попутчики! — Интеллигентики всякие. Пролетариат с нами.
— Но…
— Все!..
Вскоре выпал снег и появились новые заботы: нас заставили сдавать нормы бега на лыжах.
— Товарищ политрук, разрешите обратиться?
Черемисин сидит на корточках и, положив листок бумаги на колено, отмечает галочкой фамилии бойцов, выходящих на старт. Неловко торчит огрызок карандаша в широкой грубоватой руке с несмываемым темным налетом. В свободное время политрук выпиливает всякие вещицы из металла.
— Что вам?
Объясняю, что по ровному никогда на лыжах не ходил. Вот с гор — пожалуйста…
— Так что ж, я тебе горки насыпать буду? Учись!
Черемисин слюнявит кончик карандаша и ставит галочку против моей фамилии.
Первые километры прохожу бодро, потом начинаю выдыхаться. Белье прилипло к телу и собралось складками, левая портянка сбилась комом и натирает ногу. К черту этот нелепый бег по ровному полю! Резко сбавляю темп и иду дальше потихоньку.
У финиша меня ждет политрук. Он взбешен.
— Да ты что, издеваешься? Я те покажу, как прохлаждаться, пентюх!
«Пентюх»?
— Товарищ старший политрук, все дело в энергии. В тканях окисляются углеводы, и энергия накапливается в упорядоченных биохимических структурах…
Взглянув на Черемисина, смолкаю. Политрук отвел руки за спину. Потом резко повернулся и ушел, не сказав ни слова.
— Ты поосторожней, — шепнул Старик.
За обедом подошел политрук и приказал выдать мне вторую порцию каши с подсолнечным маслом.
— В каше много энергии?
Он спросил это так, что никто не улыбнулся.
С того дня я ежедневно ем по две порции каши. Черемисин стоит рядом. Мы оба молчим.
Кончилось тем, что я сдал зачет по лыжам. Уж очень опротивела пшенная каша.
Но споры с политруком не прекратились.
Я был одним из немногих в нашей роте, которые говорили по-русски. А Черемисину нужен был собеседник; политрук не мог не спорить. Я тоже. Порой между нами возникали конфликты, и довольно острые, как в случае с мюзик-холлом.
Под Новый год я взялся поставить самодеятельный спектакль на сцене полкового клуба. Что-то вроде ревю из мюзик-холла. Политрук, видимо, не понял, потому что сказал тогда: «Ладно, ревю так ревю. Пусть будет национальным по форме. Но чтоб содержание было социалистическим. Понятно?» Джаз, световые эффекты и пляска полураздетых размалеванных ребят произвели сильное впечатление на публику, но Черемисин накинулся на меня: «Спектакль должен воспитывать! А ты что? Балаган устроил?»
Несмотря на неудачный опыт с новогодним ревю, политрук не отстранил меня от самодеятельности. Он даже разрешил проводить беседы на общеобразовательные темы и приходил поспорить. Его замечания были порой наивными, о леонардовской Джоконде он спросил, кем она была: крестьянкой или помещицей? А о Галилее и Джордано Бруно заявил: «Настоящие коммунисты! Только тогда об этом еще не знали. И они сами не знали».
Сейчас я думаю, что дело было не только в том, что я говорил по-русски. Черемисин присматривался ко мне как к типичному «интеллигенту» с Запада, из буржуазной Европы, охваченной пламенем войны. Черемисин знал, что ему предстоит столкнуться с этим миром — враждебным, незнакомым. Он старался понять, приготовиться.
Личной жизни у политрука не было. Весь день от утра до поздней ночи он проводил в казарме или в городе. Приосанившись, одернув шинель, он ходил по улицам и приглядывался к жизни первого буржуазного города, который ему довелось увидеть. Мягко ступали хромовые сапожки, и беспокойно вертелся по сторонам черный чуб, выбившись из-под сдвинутой на затылок фуражки.
Что искал политрук? Буржуазный мир, знакомый ему по кинокартинам о дореволюционной России? Но не было в Руйена ни общежитий-трущоб для пролетариата, ни фабрик, ни дворцов капиталистов, ни угарных кабаков с толстопузыми купчинами. Тихий городок дремал в самодовольном уюте мелкого мещанства. Осторожного, себе на уме. Готовый ответить на любой вызов, ходил по улицам политрук и приглядывался. Он знал, что противник где-то здесь, за цветастыми занавесочками окон, но не мог ни угадать, ни понять его.
В роте политрук проводил политинформации, ходил на занятия, беседовал. Но в основном усилия политрука разбивались, как о глухую стену, о непреодолимое препятствие: он не знал языка и плохо понимал психологию латышей. Молчаливая сдержанность наших ребят ставила его в тупик. А разговоры через переводчика не способствовали сближению.
Готовый к борьбе, политрук просто не знал, с кем и как бороться. А война приближалась. Времени оставалось все меньше.
Пришла весна сорок первого года. Снега потемнели, крыши и заборы стали подсыхать. На улицах появились подводы крестьян с ближайших хуторов.
Приближались выборы. Первые выборы в Советской Латвии.
На воскресенье был назначен предвыборный митинг. Политрук пригласил Старика и меня к себе домой.
Подходим к дому, где живут советские командиры, и в нерешительности останавливаемся у крыльца. Присев на корточки, политрук возится со своим велосипедом.
— Заходите, заходите! Берите ключ, входите в комнату. Третья дверь направо. Я сейчас. — И Черемисин продолжает натягивать цепь.
В темном коридоре нащупываем дверь, входим и оглядываемся.
Небольшая полупустая комната. Над железной кроватью репродукция: Ленин и Сталин на скамейке. У изголовья, прямо на полу, приемник, в ногах — сапоги, щетка, бархотка. Электрическая лампочка сиротливо болтается на шнурке, окно без занавесок. Перед окном — письменный стол. Рядом, на табурете, — примус с пузатым чайником, в углу — этажерка с учебниками.
«А ведь, пожалуй, его наиболее характерная черта — это потребность учиться и учить, — подумал я. — По нему, театр воспитывает, кино воспитывает, спорт закаляет, книги развивают, дружба возвышает, любовь облагораживает… И как ему не надоест?»
— Ну вот и я! — раздается за нашей спиной. Черемисин вытирает на ходу руки и бросает полотенце на кровать.
— Садитесь к столу. Чай пить будете? Сейчас достану печенье.
Политрук лезет за окно, в картонную коробку. Там колбаса и кусок булки. Тогда он ищет в ящиках стола. В одном — белье, в другом — слесарные инструменты, в третьем — книги, в четвертом — банка консервов и засохший лимон.
— Иринка!
В дверь заглядывает девчонка из соседней комнаты.
— Иринка, сбегай за печеньем. — Политрук достает из кармана пригоршню скомканных бумажных денег и сует их девочке: — Там тетя разберет.
Сдвинув в сторону тетради, книги и школьные учебники, Черемисин расстилает газету на письменном столе, споласкивает стаканы и стряхивает их.
Иринка приносит печенье. Черемисин кладет кулек на стол и достает надорванную пачку сахара из-под книг. В закипевший чайник он высыпает полпачки чая и поворачивается к нам:
— Скоро предвыборный митинг. От солдат будет выступать Озолин. А ты, Студент, помолчи. Понятно?
Старик стал отнекиваться, я пожал плечами.
— Все, — сказал Черемисин. — Решено.
Он покрутил ножом в чайнике и стал наливать в стаканы.
Потом политрук принялся рассказывать про Москву. Только раз был Черемисин в Москве, но рассказывать про нее мог часами.
Стынет чай, сгущаются сумерки, Черемисин рассказывает. А я гляжу в окно и думаю о своем.
Зазвенели стаканы. Это Черемисин хлопнул по столу.
— Понимаете, Москва — надежда человечества!
«Там Тильда», — думал я.
Перед выступлением Старик страшно волновался. Вспотел. Его руки дрожали. Выйдя на трибуну, он судорожно ухватился за нее. На скулах выступили красные пятна. Он долго не мог начать. Потом заговорил сбивчиво, неумело, то и дело повторяясь. Его слушали молча, а крестьяне, приехавшие с хуторов, кивали. Старик говорил о своей жизни, о том, как трудился у себя на хуторе, рассказал, как распродали за долги его землю.
— Я был хорошим хозяином, — повторял он, оправдываясь. — Я много работал.
Он говорил о самом заветном, о том, что его мучило всю жизнь. Ему надо было доказать присутствующим и себе самому, что не он виноват в том, что его хутор пошел с молотка.
Крестьяне слушали напряженно, сочувственно.
Старик понял, что его не осуждают, и сказал твердо:
— Виноваты старые порядки. Плохие порядки, несправедливые к нам, беднякам. Надо по-новому. Я буду голосовать за Советскую власть.
В тот вечер Старик долго не мог уснуть. Он сидел у меня на койке и все спрашивал:
— Так я говорил? Так?
Впервые лицо Старика не было робким и усталым.
Я смотрел на него с удивлением. В его жизнь ворвалась мечта, рассеяла накопившиеся годами сомнения, пробудила веру в будущее.
Почему Тильда не ответила? По вечерам я ухожу в пустой зал полкового клуба, чтобы побыть наедине со своими невеселыми мыслями. Пальцы машинально перебирают клавиши пианино, оставшегося от полковника Зенина. Прислушиваюсь к мелодии и думаю о Тильде. Почему она не ответила? Замерла последняя нота. В темноте слабо светятся окна. На фоне ближайшего чернеет силуэт.
— О чем вы играли? — раздается голос Черемисина. Политрук спрыгивает с подоконника и поднимается на сцену. — Боец Красной Армии играет на пианино. Здорово!
А ну его к черту! И здесь не спрячешься.
В сердцах отпихиваю вязаные перчатки, которые политрук положил на пианино. Черемисин придерживает их.
— Зачем швырять? Люди трудились.
Отворачиваюсь.
— Вы вспоминали о доме, когда играли?
— Нет у меня больше дома. Один я. Меня как-то «бродячей собакой» назвали.
— Бродячей жизни вы и не нюхали! — усмехнулся Черемисин. — Вы хоть раз были голодны? Нет? Не валялись в тифу в холодном подвале?
Черемисин снимает фуражку и всей пятерней прочесывает копну черных волос.
— Перчатками кидаетесь? А у иных нет этих перчаток. Вы вот никогда не мерзли, а мне приходилось.
Черемисин взглянул на меня, помедлил:
— Беспризорником я был. Слыхали о таких? Мать от тифа умерла, а отец… Так вот, украл я в поезде рукавицы. Зима была, холодно. Поймали меня и били. А потом колония, детдом. Вот так…
— Товарищ политрук, надоело все это. Настоящей жизни хочется. Как в дни революции или при первых пятилетках.
Черемисин берет перчатки.
— Революция? Пятилетки? Это вот! — Он показывает серые перчатки. — Это и есть пятилетки!
Черемисин зашагал по сцене, его глуховатый голос покатился по пустому залу.
Слушаю о полуголодной жизни, тяжелой работе, трудной учебе, о фабриках, заводах, Днепрогэсе, метро.
Когда мы выходили, Черемисин приостановился и полез в карман.
— Вам письмо.
«Тод, это ты? Утром чуть не попала под машину, в институте ничего не понимала. Боюсь выпустить из рук твое письмо. А оно всю зиму пролежало дома, и я ничего не знала! По вечерам, засыпая, я видела, как, отложив работу, мама сидит у лампы и думает. Все думает и думает… Ты ведь ничего не знаешь. Папы с нами нет. Уже три года. Это было ужасно. Мама постарела и замкнулась, но не перестала верить в его невиновность. А тут, когда боль немного улеглась, пришло твое письмо. И мама мучилась всю зиму, не могла решиться ни сжечь его, ни отдать мне. А сегодня отдала. «Решай сама, это твое», — сказала она и заплакала. А я верю тебе, верю, что увидимся!»
События, о которых идет речь, давно исчезли в прошлом. Сегодня за письменным столом многое воспринимается совсем иначе, чем тогда.
В маленьком городке на севере Латвии, в шестой роте 227-го пехотного полка встретились политрук, прибывший из глубин Советского Союза, и студент из Парижа. Парижа, раздавленного фашистским сапогом.
Политрука давно нет в живых, студент изменился настолько, что, когда я теперь просматриваю старые фотографии и вспоминаю прошедшее, мне кажется, что я вижу их со стороны, наблюдаю за ними с любопытством и грустью.
Студент успешно разваливал дисциплину в ульманисовской армии, в которой он просто задыхался после Латинского квартала. Но потом студента перевели в Красную Армию, появился политрук, который рьяно взялся за восстановление дисциплины и повышение уровня боевой подготовки. Вообще-то студент ничего не имел против, как и политрук, он понимал, что война неизбежна, но он считал, что дело политрука не мелкая опека, а политические дискуссии и широкие обобщения. Оба были по-своему искренни, и оба думали, что «колесо истории нельзя повернуть вспять».
Политрук верил. Ему предстояло еще понять. Студенту предстояло испытать, что у порога смерти говорит не логика, а каждая клетка тела.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Сколько дней мы идем? Не знаю. Кажется, целую вечность. Маячит перед воспаленными глазами широкая спина Акулы. Саперная лопатка подгоняет ее снизу мерными шлепками.
Была усталость. Такая, что ноги заплетались. Она забылась. На привалах я валюсь со всеми в кювет. Потом снова появляется перед глазами знакомая спина, и я шагаю дальше.
Был голод, желудок сводило. Голод притупился. Мы грызем на ходу что попадет. Мы идем обратно по знакомой дороге, по которой шли к Риге. Тогда мы оглядывались по сторонам, на ходу ловили булки и куски сыра и, смахнув рукавом пот с лица, пили молоко из протянутых крынок.
— Наши ребята, латыши, — улыбались нам женщины. А старики, вспоминая былые времена, давали нам советы:
— Вы их штыками, ребята. Штыками! Они это не любят.
Девушки кивали из окон, мальчишки просились с нами.
Впереди была Рига. Мы спешили прикрыть ее от врага.
Когда это было? Кажется, очень давно.
Когда мы пришли, Рига горела, и немцы уже перешли Даугаву. Мы повернули назад.
Сделав усилие, поднимаю голову и оглядываюсь.
Перед понурыми солдатами шагают лейтенант Балодис и Черемисин. Вдаль убегает дорога, усеянная разбитыми повозками и брошенным скарбом. В пыли плетутся семьи беглецов. Уговаривая детей, сажая самых маленьких на плечи, люди стараются не отстать от нас. Но, быстро обессилев, они отрываются от нашей колонны и садятся в придорожную канаву, понурив головы. В течение года они мечтали о новой жизни, и вот наступает расплата.
— Извините, — раздается хриплый голос рядом со мной. — Вы военный и должны знать. Правда, что на границе укрепления? Русские остановят немцев и погонят их обратно?
— Да.
Незнакомец с благодарностью смотрит на меня. У него вьющиеся волосы, нос с горбинкой и мясистые губы с горько опущенными уголками. Человек несет камень. Обыкновенный тяжелый камень. Он держит его на вытянутых руках, откинув плечи и голову назад. Он объясняет:
— Жена и дети остались там. Я опоздал.
Опоздал? не сумел? не решился? Верит ли он, что, пока он несет камень, его близкие будут живы? Или хочет искупить свою вину? Вскоре, в последний раз грустно и покорно взглянув на нас, он исчез позади в клубах пыли.
Дорога ведет через знакомые хутора и поселки. Но теперь они точно вымерли. Никто не встречает нас с хлебом и кувшинами с молоком. Да оно так и лучше. Стыдно смотреть людям в глаза. Солдаты-латыши бросают своих на милость врага, бегут без единого выстрела!
Иногда к нам подбегают мальчишки, рассказывают, что в ближайшем лесу засели фашистские парашютисты или вооруженные айзсарги. Но мы не останавливаемся.
Только когда совсем близко, за ельником, раздался женский крик, мы не выдержали и бросились туда. На лесной поляне стоял сарайчик. Мы не успели подойти, как дверь сарайчика открылась рывком и выбежала девушка с револьвером в руке. Из чащи захлопали выстрелы. Девушка упала, хотела подняться и упала вновь. Мы бросились к ней, выстрелы мгновенно смолкли. Темные волосы закрывали бледное лицо, на вышитой блузке алел комсомольский значок.
— Студент?
— Поздно. Убили.
— Негодяи! — выругался Аболс и выстрелил наугад. Лес молчал. Иногда к нашей колонне пристраиваются невесть откуда взявшиеся люди и шепчут: «Бейте своих комиссаров, ребята, и айда к нам». Но чуть щелкнет затвор, и они исчезают в кустах.
А по горизонту перекатывается гул артиллерийской стрельбы. Он то нарастает и приближается, то стихает, и тогда слышится пулеметная и ружейная перестрелка. Где фронт? Никто толком не знает. Фронт накатился на нас сзади точно волна и ушел вперед.
Нас обгоняют грузовики, изрешеченные пулями, ощетинившиеся автоматами. Опаленные в бою красноармейцы с удивлением глядят на латышских солдат, шагающих строем, и кричат нам, что сзади фашисты, что мы на ничейной земле.
Солдаты хмуро молчат. Ничейной? Почему ничейной? Это их родная латышская земля. И, точно чувствуя это, никто не трогает нас.
Но с едой все труднее. Приходится заходить в отдаленные хутора. Как-то мы пошли за едой вчетвером: Старик, Крумин, Аболс и я.
В комнате играло радио, пахло едой, за столом сидело человек шесть. Хозяин подвинул блюдо, и мы накинулись на еду.
Вдруг музыкальная передача прервалась, и зазвучал гимн Ульманиса, потом молитва: «Господь бог — наша неприступная твердыня…» Мы переглянулись.
— Оставайтесь с нами, ребята, — предложил хозяин. — Ваши винтовки пригодятся.
— Оставайтесь, сыночки, — залепетала хозяйка, — пока вас немцы не перебили.
Крумин встал:
— Спасибо за еду. Мы пошли.
— Вы что, не латыши?
А радиоприемник нашептывает: «Коммунисты надругались над нашей отчизной, расстреляли наших людей, загнали крестьян в колхозы…»
Выругавшись, Крумин вырвал вилку приемника.
— Пошли!
Аболс медленно встал, оперся руками о край стола.
— Не командуй, комитетчик!
Люди за столом поднялись. Молча, с угрозой.
Тут я вспомнил, что винтовки остались в сенях. Только Старик взял винтовку с собой, и теперь все зависело от него. Он отступил на шаг и медленно снял винтовку с плеча.
— Пошли!
Поколебавшись, Аболс вышел с нами. Мы догнали роту и молча заняли свои места в строю.
Но даже на отдаленных хуторах не всегда удается поживиться. Часто приходится голодать.
Прошло еще несколько дней. Мы свернули с большой дороги и теперь идем проселочными путями. Ружейная перестрелка прекратилась, артиллерийская стрельба ушла за горизонт, к востоку. Мы в тылу врага. Все молчат, но каждый знает, что предстоит решающий разговор. Разговор начистоту.
— Бомбы! — крикнул Рекстин и бросился на землю.
Кто пригнулся, кто прыгнул в кювет. В замешательстве я поднял голову. Выстроившись цепочкой, звено серых самолетов повисло над дорогой. Что-то сверкнуло, и вдруг с грохотом и пламенем разорвались бомбы. Точно гигантская швейная машина прострочила нашу колонну.
Раненых мы отвезли на хутор, убитых похоронили. Потом молча столпились у свежих могил. В сумерках желтели бугры. Под ними лежали ребята, с которыми мы вместе стояли на вечерних поверках в коридоре старой крепости, вместе митинговали в лето хмельное, вместе «тянули резину» во времена «булочки».
Чуть в стороне, под таким же песчаным бугром, лежал наш ротный лейтенант Балодис. Тихий, малозаметный, он принял роту от лейтенанта Милгрависа, когда нас перевели в Красную Армию и прежнего ротного уволили. Мы любили Балодиса и считали его своим. Его неожиданная гибель потрясла наших солдат, точно оборвалась очень нужная живая нить.
— Все, — сказал Аболс, ни на кого не глядя и не повышая голоса. — С меня довольно.
Он прислонил винтовку к дереву и пошел назад, к Риге. Мы проводили его долгим взглядом.
— Ребята, это из-за них… — вдруг заговорил маленький Рекстин. — Они…
Рекстин вскинул винтовку и дернул затвор.
— Положи ружье, — сказал Крумин.
— Ты предатель! — кинулся Рекстин к нему. Крумин даже не поднял глаз. Никто не шевельнулся. Рекстин стал пятиться к кустам.
— Положи ружье, ну! — повторил Крумин.
Рекстин швырнул винтовку и прошипел:
— Я тебя прикончу, собака. Еще встретимся.
Крумин кивнул. В сумерках затрещали кусты.
— Теперь все, пошли, — предложил Крумин.
Но стрелки не двинулись.
— Пусть скажет сперва.
Тут же, у песчаных могил, политрук обратился к солдатам поредевшей роты. Переводил Старик. Никто не знал, что это последний разговор с политруком.
— Мы прошли тяжкий путь. Скоро граница. Есть приказ отпустить тех, кто не захочет покинуть Латвию. Они сдадут оружие. А мы будем драться. Победа будет нелегкой, но она придет.
Политрук взглянул на брошенные винтовки.
— Ушли? Хотят отсидеться дома? С бабами? Не выйдет!
Политрук перевел дыхание.
— Не выйдет. Поймите, или с нами, или с фашистами. Третьего пути нет!
Кто-то спросил:
— Почему нет с нами наших командиров?
Вспомнились Литенские лагеря и офицеры ульманисовской армии, переведенные с нами в Красную Армию.
Солдаты молча ждали ответа. Настало время говорить начистоту. Политрук молчал, потом решился.
— Нет тех, кто колебался, мог предать. Сейчас война!
— Почему не защищали Латвию?
— Латвия, — повторил Черемисин. Он понял вопрос по одному слову. — Не могли. Понимаете, не могли. Фашисты напали внезапно, но Москвы им не видать!
— Маскава… — протянул тот же голос. И на ломаном русском языке: — Мой дом Рига, не Маскава.
Политрук выпрямился.
— Я говорю «Москва» не потому, что там мой дом. Война с фашизмом — война за всех. Русских, латышей. Пощады не будет. Или они, или мы.
Он помолчал и добавил:
— С нами пролетариат всей Европы. И Германии тоже. Коммунизм непобедим.
Солдаты стояли молча, плотной стеной. Каждый принимал решение про себя. Лишь немногие ушли тогда из нашей шестой роты. Но как не хватало нескольких слов на родном латышском языке!
В предрассветной мгле проехали повозки. Гулко цокали копыта, тихо звенела сбруя. За повозками тронулись минометчики, потом пятая рота. Теперь пошли и мы.
Идем молча, прислушиваемся.
Вдруг выстрел. Я вздрогнул и втянул голову в плечи. Еще выстрел, еще и еще. Затарахтели автоматы, застучал пулемет. Продвигаемся вперед, настороженно вглядываемся в размытые очертания кустов.
— Ложись!
Ползет туман. Хлопают выстрелы. Прошло полчаса, час. Впереди на пригорке темнеет одинокий хутор. Далее, в ложбине, — Лиепна. Так сказал Старик. Он родом из этих мест.
Лежим цепью. Слева от меня Старик, справа — Черемисин. Он сильно изменился за последние дни. Внимательно, настороженно присматривается политрук к латышским ребятам. Однако лежать так бессмысленно. Скоро станет совсем светло, и тогда нас перебьют.
— Схожу в разведку, — предлагаю я политруку.
— Нет приказа.
На меня смотрят солдаты, кивают. Надо же выяснить, что там, на хуторе. Политрук — чужак, он не сможет поговорить с населением.
— Старик, пойдем.
Старик неловко встает. Черемисин побледнел, схватился за кобуру.
— Ложись, мать твою так-то!
Это еще что за тон? Что он себе позволяет?
— Пойдем, Старик.
Политрук судорожно глотнул, обернулся на солдат, сделал вид, что не видит.
Мы пошли.
Прервем рассказ, подумаем.
Под Лиепной я совершил тогда дикий, непростительный поступок. Ослушался командира. Да еще где? В бою!
Что толкнуло студента на действие, граничащее с преступлением?
Как оценить сейчас этот поступок?
Мы совершаем преступление вместе с теми, кто до этого определял наше сознание, отвечаем за свои поступки лично, оцениваем их ретроспективно вместе с теми, кто повлиял на нашу дальнейшую судьбу.
Студент хотел покрасоваться. Доказать себе и солдатам, что он может совершить подвиг. Но была и более глубокая причина: проявилось соперничество с политруком. Столкнулась психология Латинского квартала с психологией бывшего беспризорника, воспитанника советского военного училища. Один думал о подвиге, другой — о выполнении долга. Между студентом и политруком давно имелась какая-то внутренняя недоговоренность, которая превратилась в настороженность с началом войны. Политрук относился с полным доверием к Старику, но не ко мне. Я это чувствовал, и это раздражало меня. Ну что ж, подумал тогда я, докажу ему, что могу воевать не хуже его. Я обрадовался, что Старик пошел со мной.
А что пережил тогда Черемисин? Его, вероятно, не раз предупреждали, чтобы он не доверял студенту из Парижа, эмигрантскому сынку. А он не соглашался, защищал меня. Хоть и росла в нем внутренняя настороженность.
И тут, в первом же бою, я нарушил дисциплину, подорвал его авторитет в глазах наших ребят.
Пожалел ли тогда Черемисин о своей чрезмерной доверчивости? Усомнился ли он во мне? Мелькнула ли мысль, что я враг, обманувший его? Думаю, что да.
Иначе как объяснить, что политрук так обрадовался, когда много позже встретил меня в «голодном бараке» для смертников? И понял, что я эгоцентрический самодур, но не враг.
Много испытаний предстояло пройти рядом Черемисину и мне, прежде чем окончательно исчезла взаимная настороженность.
Но об этом — потом.
Мы шли молча, Старик и я. Выстрелы раздавались совсем рядом. Немного успокоившись, мы огляделись и укрылись в глубокой придорожной канаве. Дорога слегка спускалась вниз. Впереди темнел дом.
— Доползем до хутора, посмотрим и вернемся.
Старик взвалил на плечи старый ручной пулемет системы Луиса и пополз за мной.
Домик оказался пустым. Мы залезли на чердак, пробили ногами дранковую крышу и установили ручной пулемет.
Перед нами было поле. Слева шла песчаная дорога с высокими деревьями вдоль придорожной канавы. На дороге валялись разбитые повозки. Вдали виднелся перекресток дорог и крыши домов среди листвы. Справа темнела опушка леса. Оттуда стреляли.
Мы не успели понять, что происходит, как совсем рядом раздались шаги и голоса. Мы замерли.
— Здесь никого нет, — донеслось снизу.
«Свои», — мелькнуло в уме. Я спрыгнул во двор.
У коровника несколько человек с винтовками наготове. Раздался залп. Падаю навзничь и тут же вскакиваю на ноги.
— В своих стреляете!
С крыши спрыгивает Старик, прижимает платок к моей шее. Что, я ранен?
Выясняется, что на нас натолкнулся патруль, посланный в разведку. Дальше пойдем вместе.
Но залп, раздавшийся у коровника, привлек внимание. По домику стреляют со всех сторон. Пули шлепают по бревенчатым стенам. Пытаемся отбежать, но почти тут же что-то тяжелое бьет меня по спине, и я утыкаюсь носом в землю.
Прихожу в себя от нестерпимого жара — хутор пылает. Надо мной склонился испачканный грязью Старик. Он хватает меня под мышки и тащит. Все исчезает…
Весь день я пролежал на поле боя у Лиепны, то терял сознание, то приходил в себя и силился приподняться на руках. Бой разгорался: стреляли из леса, отвечали со стороны дороги. Вдоль опушки мелькали солдаты в серой форме. Немцы!
Несколько раз с криками «ура!» пробегали наши ребята. Один раз совсем близко. Я рванулся к ним и потерял сознание.
Когда я пришел в себя, солнце было уже высоко. Дрожала и тяжело ухала земля: по полю била артиллерия. Серые фигуры мелькали теперь и справа, вдоль опушки, и слева, у дороги. На поле стояли самоходные орудия с черными крестами на броне. Одно из них открыло огонь через холм, где еще дымились остатки сгоревшего дома, другие повернули влево через дорогу и скрылись в лесу. Там нарастала перестрелка.
Я попытался отползти от трупа, лежавшего ничком рядом со мной, и снова потерял сознание.
Очнулся я под вечер. Было тихо. Перед глазами колыхалась трава. Слегка тошнило, и я куда-то плыл вместе с травой. И земля плыла подо мной.
Вдруг раздался выстрел. Он отдался острой болью в раненом тазобедренном суставе. Я сжался, прислушиваясь. Где-то рядом взмолился слабый голос. Выстрел оборвал его.
Открываю глаза и смотрю на пыльные сапоги с широкими голенищами. В них заправлены серые штаны с безупречной складкой. Френч с накладными карманами, пояс с бляхой. И вдруг…
Нацелившись в мою переносицу, сверкает дуло автомата. Над ним холодные глаза. Вот в уголках глаз появились морщинки. Сейчас выстрел.
— Mensch, schieß nicht. Ich will leben! — Человек, не стреляй, я хочу жить! — закричал я шепотом.
Глаза дрогнули. Знакомые слова пробудили в них сознание.
— Коммунист?
— Нет.
— Русский?
— Латыш.
Солдат оглянулся. Я зажмурился.
Сапоги перешагнули через меня.
Ну вот и все!
Даже сейчас, по истечении стольких лет, стыдно признавать, что война с фашизмом бесславно закончилась для меня на поле боя у Лиепны. Я не убил ни одного фашиста. Ничего, ровным счетом ничего не сделал для победы. При первом те испытании выяснилось, что я еще не был мужчиной. Я был выброшен за борт. Судьбу человечества решили другие.
А мне предстоял путь вниз, от испытания к испытанию. Я рад, что могу в конце жизни обо всем написать.
Могу ли я еще, не заслужив презрения настоящих солдат, просто вспомнить того немца, который не пристрелил меня на поле боя при Лиепне?
РАСПЛАТА ЗА МЕЧТУ
Большой квадратный двор, мощенный булыжником. Справа — желтая стена комендатуры, там были канцелярия и дежурная комната офицеров, слева — серая облупленная стена склада. По ту сторону двора — кроны деревьев. Над ними белая колокольня старой Даугавпилсской крепости и синее небо.
Сижу у облупленной стены двухэтажного здания, где когда-то размещался наш батальон. Там за спиной гулкий коридор и круглая печь, у которой мы дежурили со Стариком.
С поля боя у Лиепны судьба вернула меня назад, в Даугавпилсскую крепость…
Я долго лежал у сгоревшего хутора близ Лиепны. Потом дополз до придорожной канавы, но переползти ее не мог. В вечерних сумерках на дороге показалась телега, груженная домашним скарбом.
Понуро шагал хозяин-погорелец. Рядом шла молодая хозяйка.
— Возьмите…
Хозяин отвернулся.
— Возьмите…
Хозяйка схватила мужа за руку и решительно остановила телегу[18]. Вещи полетели на дорогу. Освободилось место для меня.
В Лиепне, в здании школы, меня положили среди раненых на полу. Вошел офицер в сером кителе с серебром.
— Латыши, поднять руку! — приказал он на чистом латышском языке.
У каждой поднятой руки офицер приостанавливался, спрашивал: «Звание? Профессия? Куда ранен?» — и указывал кивком головы, оставить на месте или тащить прочь.
У меня он поколебался — я был очень слаб и с трудом ответил, что я врач, — потом кивнул на дверь. Меня потащили вниз по лестнице и с группой раненых отвезли в больницу в Балви.
В больнице мне удалили пулю и наложили швы. Было так хорошо и спокойно в чистой постели, что хотелось прижаться щекой к добрым рукам старшей медсестры и заплакать. Но оставаться в Балви было опасно. Меня знали как комитетчика, и большинство раненых сторонились меня.
Однажды рано утром старшая медсестра подошла ко мне, шепотом предупредила о прибытии жандармов и дала гражданскую одежду. Шатаясь от слабости, я побрел прочь.
Я скрывался в лесу, полз в придорожных канавах. Крестьяне кормили меня, иногда прятали на хуторе. Один из них привез меня в Виляки, в маленькую больницу на склоне холма, у кирпичного костела. Доктор Митениекс выходил меня и, когда я немного окреп, сделал своим помощником. Митениекс, кажется, был из Риги, но мы ничего не спрашивали друг о друге.
В Виляки было много беженцев из Риги и других городов. Люди пришли за отступавшей Красной Армией, спасаясь от фашистов, и застряли здесь, в Латгалии. У них не было сил идти дальше. Да и куда идти? Фронт переместился далеко на восток.
Беженцы толпились на площади, бродили по улицам. Население городка сторонилось их. Новые местные власти следили за ними. Нашлось много людей с цепкой памятью, готовых выдать всех коммунистов и комсомольцев, всех активистов Советской власти. Из окошек с цветами и клетчатыми занавесочками пристальные взгляды следили за беженцами: «Вот они, те, кто покушался на наше благополучие». Бывшие чиновники Ульманиса и лавочники со злорадством вымещали теперь на беженцах страх за свое положение, испытанный при народной власти.
Каратели приехали на грузовиках. В новеньких френчах, начищенных сапогах. Веселые, деловитые ребята. Они сразу принялись за очистку города.
Толпы понурых людей — впереди мужчины, за ними женщины, старики и дети — поплелись из города в лес. Потом грузовики подкатили к больнице. С грузовика спрыгнули молодые люди, сбежали по ступенькам во двор больницы, зашли в палаты, выволокли раненых и больных и увезли их. К вечеру все было кончено.
На опустевшей кровати пятилетнего Руди, еврейского мальчика из Вены, невесть как попавшего в Виляки, рыдала медсестра Петерсон. Митениекс сидел у окна, сжав виски руками, и бормотал: «Никогда больше не буду заниматься политикой. Буду врачом, только врачом». Меня и других солдат из Латвийского корпуса арестовали на следующий день и привезли сюда, в Даугавпилсскую крепость.
Сижу, опустив голову, и смотрю на траву, которая пробивается между булыжниками. Рядом со мной солдат нашей роты. Спрашиваю одними губами:
— Черемисин?
— Убили. У кладбища. С ним было человек двадцать. Они отбивались часа два. Молчи!
Приближаются двое. Они медленно идут вокруг двора, вглядываются в лица сидящих вдоль стен. Сапоги остановились передо мной. Пошли дальше. На этот раз пронесло. Тех, кого опознали, собрали в кучу, пересчитали, увели. Опустевшие места вдоль стен молча заняли вновь прибывшие, которых втолкнули во двор. И снова томительное ожидание.
— Sveiki, Студент. Вот встреча! Может, выступишь здесь, как в Екабпилсе?
Поднимаю глаза. Рекстин!
— Вставай, комитетчик.
Проглатываю ком, сдавивший горло. Соседи отодвигаются.
Проснувшись от холода, подбираю ноги под грязный матрац из рогожи, которым мы прикрываемся, и оглядываюсь. Тусклый свет из окон, закрытых решетками, освещает каменный барак и грубо оструганные деревянные нары в три этажа.
Над головой доски. Там кто-то ворочается: нары трещат, и в щели между досок сыплется труха. Снизу доносится мерное посапывание. Режет бок твердый край койки. Поворачиваюсь и слегка отпихиваю Старика, который навалился во сне на мое плечо. Мы лежим вдвоем на одной койке, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее.
Наши нары крайние. За окном два ряда проволочных заграждений. За ними чернеют деревянные бараки лагеря военнопленных. Над плоскими крышами бараков — сторожевые вышки. А там — Германия.
Вот она, ловушка, в которую я попал! В Виляки я еще был на свободе и мог бежать, несмотря на слабость и ранение. Но я притаился в больнице, скрываясь от молодчиков из карательного отряда. Потом, когда нас, солдат бывшего территориального корпуса, забрали жандармы и повезли в Даугавпилс, я даже обрадовался. Я думал, там никто не узнает меня. А ведь таких, как я, уже ждали в старой крепости: ищейки были наготове. Доносчики присосались ко мне, как пиявки, и что только они не наговорили! Их чрезмерное усердие, вероятно, отсрочило мою смерть. В Даугавпилсе, видимо, и впрямь поверили, что в их руки попал «международный агент Коминтерна», и отправили меня дальше, в Стаблаг — немецкий фильтрационный лагерь для латышей. Допрашивал меня немецкий офицер, немного знавший французский язык. Я отвечал по-французски, предъявил письма из Парижа и от родителей из Америки, требовал свидания с представителем посольства нейтральной Америки, отрицал всякие связи с коммунистами.
Но в Стаблаге было немало из нашего 227-го полка, среди них был и Старик. Нашлось много таких, кто, спасая себя, стал уличать меня в участии в работе комитета полка, в выступлениях в пользу Советской власти на митингах, в проведении занятий в полку. Только Старик старался спасти меня, отрицая самые очевидные факты. Этим он меня не спас, но себя погубил. Человек тридцать, в том числе Старика и меня, отправили в глубь Германии.
И вот мы здесь, в незнакомом лагере, запертые в каменном бараке. Небольшими группами продолжают поступать из Прибалтики те, кого выдали гестапо. Это конец пути.
Закрываю глаза и, прижавшись к Старику, стараюсь уснуть.
Щелкает замок. Открывается дверь барака, и раздается звенящий звук металла о камень. Подпрыгивая и кувыркаясь, на кирпичный пол барака полетели жестяные миски.
— Un, deux, trois… — Две, три, четыре… — считает кто-то по-французски. — Zwei, drei, vier… — повторяет другой голос по-немецки. Дверь захлопнулась.
— А нам еще не капут, — говорит на соседних нарах парень в кепке, брезентовой куртке с чужого плеча и сапогах. — Кормить будут.
— Раньше или позже, один конец. Латвию больше не увидим, — отозвался сверху пожилой человек в телогрейке.
В бараке начинается движение. Люди встают, подбирают миски.
Со временем ежедневная церемония раздачи похлебки приобрела такое значение, что все остальное отодвинулось на второй план. Это происходило так.
Проснувшись от голода, мы молча лежали и прислушивались. Вот скрипнула калитка, и послышались шаги. Двое французов-военнопленных тащат бачок с похлебкой. С ними угрюмый немецкий унтер. Он аккуратно отпирает и запирает калитку и долго возится со входной дверью в барак. Потом молча стучит черпаком по полу. С мисками в руках мы становимся в ряд и по одному проходим мимо открытой двери. Черпак опускается в бачок, перемешивает похлебку, захватывает жижу с капустными листьями и картофельной шелухой, просовывается в дверь и выворачивается над подставленной миской. Унтер считает порции вслух. Французы стоят в стороне, показывая, что их не интересуют преступники, запертые в бараке. Дверь закрывается, скрипит ключ в замке, хлопает калитка, начинаются новые сутки.
Выпиваю залпом теплую жижицу. Потом запрокидываю голову и, похлопывая по дну миски, осторожно стряхиваю в рот шелуху и крупицы. Старик вылизывает миску. Голод стихает. Мы, лежим, прикрывшись матрацем, и переговариваемся.
— За что? — спрашиваю я, обращаясь не то к Старику, не то к себе самому. — Мы же не преступники.
Меня мучает сознание безысходности нашего положения.
— Хорошо. Я выступал на митингах. А тебя за что?
Старик взглянул на меня с упреком.
— Разве я говорил не так?
Я вспомнил выборы и волнение Старика на трибуне. Неужели это единственное выступление так много значит в его жизни? Мне стало неловко.
— Ты правильно говорил, Старик.
Он успокоился, натянул на себя матрац и добавил:
— Мы им сказали правду.
Я промолчал. И снова в душе поднялось мутное чувство обреченности: неужели убьют меня? Как нелепо и трагично! Я был помощником политрука. Но не официально, а так. Просто так.
Вспомнив политрука, я поежился и отвернулся к стене. Как бы угадывая мои мысли, Старик сказал:
— Студент, Черемисин жив. Его тяжело ранили, но он выжил. Он здесь, в бараке.
Пожимаю плечами. Когда политрука, заросшего, исхудалого, в гражданской одежде, втолкнули в барак, я сразу узнал его. И не подошел.
— Поговори с ним, Студент. Ему хуже, чем нам.
— А кто виноват? Призывал стоять насмерть. А сам?
— Он тоже человек.
— Нет — политрук!
Перевожу разговор на Латинский квартал, рассказываю Старику про Тильду. Старик слушает, улыбается.
Прошли недели. Положение стало трагичным. Хлеба ни разу не дали. Мы с трудом встаем за похлебкой.
Как-то ночью начальник караула решил позабавиться. Дверь барака неожиданно раскрылась, нас выгнали вон и повели к каменной стене.
Кружится голова. С вышек слепит свет прожекторов. Темной стеной стоит подразделение солдат.
— За враждебную «третьему рейху» деятельность… приговариваются к расстрелу…
Черемисин выпрямился, с вызовом подался вперед. Я прижался к Старику, судорожно схватил его руку. Стараюсь удержаться на ногах.
Я уже упоминал об этой глупой и трагической истории. Не стоит вспоминать детали.
Потом нас били прикладами, со смехом гнали обратно в барак.
— Они ушли, успокойся, — говорит Старик, натягивая на меня матрац из рогожи.
Понемногу становится легче. «А я держался ничего, — подумал я, подавив нервную дрожь, и попытался усмехнуться. — Для первого раза».
Хочу сказать об этом Старику, но он уже спит.
Неделя проходит за неделей. Чувство голода притупилось. Счет дням потерялся. Пробуждаюсь только от призывного постукивания черпака о пол. Раздача еды приобрела всеобъемлющее значение. Лишь бы хватило сил встать в ряд с миской в руках.
Сегодня двое не могли встать. Они протянули миски с нар.
— Bitte… Bitte… — Пожалуйста…
Унтер подумал, взял бачок и шагнул в барак. Он раздал каждому по черпаку. Остальное унес.
Первым умер пожилой человек в телогрейке. Потом стали умирать другие.
Однажды у моего уха раздался шепот. Чья-то рука осторожно трясла меня, задевая скрюченным пальцем.
— Слушай, ты говоришь по-немецки. Помоги мне. Я знаю коммунистов, политруков. Немцы выпустят нас, дадут хлеба. Половина тебе.
— Дерьмо!
А потом настала очередь Старика. Он быстро слабеет, говорит с трудом.
— Студент, я скоро умру. Когда найдешь ее, расскажи про меня. Ладно?
У Старика началось воспаление легких. Он бредит и задыхается, отворачивается от похлебки, которую я пытаюсь влить в его запекшийся рот. Когда еда пролилась на матрац, я заплакал. И услышал слабый шепот:
— Студент, они сильнее… но ничего… необязательно сейчас, как ты говорил… пусть потом…
Я не ответил. Когда рассвело, Старик был мертв.
О дальнейшем у меня осталось неясное воспоминание. Старик лежал рядом, твердый и холодный. Он кормил меня. Когда унтер подходил с бачком, я протягивал две миски, за себя и за Старика. Унтер давал по числу мисок.
Наступило состояние отрешенности и покоя. Родители, брат, друзья из Латинского квартала посещали меня. Я смотрел на них с любопытством. Они не волновали меня. Тильда стала бесконечно далекой.
Сегодня дали хлеб!
Тяжелый, липкий, как замазка, чудесный хлеб. Как долго заполняет он своей вязкой массой желудок и кишечник, вызывая ощущение блаженства!
Еду приносит новый унтер. Пожилой, седеющий человек, с грустными, виноватыми глазами. Он не считает протянутые миски, а раздает все, что в бачке. И хлеб раздает по списку, который вытащил из кармана френча. Спасибо тебе, человек, за то, что ты кормил и живых и мертвых.
Холодный, голодный барак постепенно ожил. Мы стали подниматься, думать о чистоте. Окружающий мир стал приобретать реальность, мертвые уходить в прошлое.
Оставшихся в живых — человек десять — вывели из лагеря и по проселочной песчаной дороге мимо редкого лесочка привели к одинокому бараку. Нас построили в ряд и приказали ждать. Справа от меня, крайним в ряду, стоит Черемисин, слева — фельдшер Меднис. Стоим молча, дожидаясь, что будет.
Вот открылась дверь барака, и крайний слева, с трудом передвигая ноги, медленно побрел в барак. Дверь закрылась. Наступила тишина, потом послышался глухой выстрел. Не очень громкий, какой-то безразличный.
И снова открылась дверь. Побрел следующий. Рядом с первой цепочкой следов на песке легла вторая. Дверь закрылась. После томительного ожидания хлопнул выстрел.
Барак в третий раз открыл дверь, ожидая третьего.
Так, одного за другим, мерно открывая и закрывая дверь, барак деловито глотал измученных людей. Они брели к нему, как на зов раскрывающейся пасти. Вокруг стояла тишина, и глухие хлопки выстрелов, как точки, отмечали размеренное течение тихого вечера.
Вот пошел широкоплечий парень в кепке, брезентовой куртке и сапогах. Перед самой дверью, точно очнувшись, он приостановился, сорвал кепку с головы и швырнул ее прочь. Потом повернулся к нам и поднял руку, прощаясь. И исчез в темноте. Барак закрыл дверь и долго смотрел на нас черными окнами. Потом вздрогнул от выстрела и открыл дверь.
Повинуясь молчаливому зову, в черную пустоту побрел мой сосед слева. Барак проглотил и его и темными окнами уставился на меня. Время тянулось бесконечно долго. И вдруг барак запел. Под сурдинку, как поют не раскрывая рта. Барак пел романс Грига «На пепел тлеющий минувшей страсти…»
Я не выдержал и засмеялся. Мне было жутко, но я не мог подавить нервный смех.
— Хватит! — резко сказал Черемисин. Я притих.
Дверь открылась, подзывая меня.
Солдат подтолкнул меня вперед, к письменному столу, закрыл дверь и прислонился к стене с автоматом в руках. На столе папки и револьвер. За столом сидит немолодой офицер и листает бумаги. Стол расположен так, что, когда я подошел к нему, я оказался спиной к открытой двери в соседнюю комнату. Там тоже кто-то сидит. Я ощущаю, как тяжелый взгляд ощупывает мой затылок.
Офицер за письменным столом поднял голову. В серых глазах усталость и легкая брезгливость.
— У вас есть документы?
Содержимое бумажника выкладывается на стол: студенческий билет, пропуска в парижские библиотеки, свидетельство интерна парижских госпиталей и ассистента кафедры биохимии, фотографии родителей.
Офицер просматривает документы и фотографии, задерживается на семейном снимке, спрашивает, где родители. Потом берет в руки фотокарточку Тильды. Я холодею. Посмотрев надпись «Париж. 1938 г.», он бросает карточку на стол.
В тот самый момент, когда, выскользнув из цепких рук, фотография Тильды упала на стол, чары рассеялись. Барак стал обычным бараком, офицер — обычным офицером. Недалеким. Грубо расставленные ловушки стали бросаться в глаза. Вот незаряженный револьвер на столе, сколько попалось на приманку? И ощущение угрозы сзади исчезло. Я готов к поединку.
— Вас не только не арестовали, как эмигранта, а оставили в Красной Армии, и вы воевали против нас. Вы сотрудничали с коммунистами?
— Я участвовал в самодеятельности, бывал на митингах, проводил общеобразовательные занятия с солдатами. Политзанятия мне не доверяли. Я — врач.
— Вы коммунист?
— Нет.
— Комсомолец?
— Нет.
— Вы враг?
— Я ваш противник.
Он поднимает чуть удивленный взгляд на меня. (Один — ноль в мою пользу.)
— Вы говорите на чистом немецком языке. Без акцента. Где вы учили немецкий?
— В Берлине, когда мне было четыре года.
— Вы были в Германии после двадцать второго года?
— Был однажды, во время студенческих каникул. Мы прошли пешком вдоль Рейна.
Я назвал несколько городков, которые посетил с товарищами, — Бонн, Арцвайлер.
— Где ваша семья?
— В Соединенных Штатах. Родители и брат — подданные США. Прошу разрешения связаться с ними через американское посольство.
Офицер усмехнулся, закрыл папку. Заговорил медленно, веско, глядя на меня в упор. Опять ловушка?
— Мы сохраним вам жизнь. Вы будете выдавать нам коммунистов.
Мгновенно нахожу решение, даже не проанализировав задачу.
— Не буду.
Так и есть, он вскакивает и кричит:
— Значит, вы — коммунист!
— Ничего подобного. Меня не так воспитали дома, чтоб я предавал тех, с кем я ем и сплю.
Офицер задумался. Я для него «белая ворона». Он явно не знает, в какой ящик картотеки врагов «третьего рейха» меня поместить.
Наступает зловещее молчание. Солдат у двери нетерпеливо перекладывает автомат из руки в руку.
И тут вдруг открывается дверь барака. На пороге — Черемисин.
— Ich Sanitäter, — говорит он громко.
Что? Теперь он стал санитаром?
— Вы что, его знаете? — спрашивает офицер. — Он — санитар?
— Прохвост он! — бросаю я в сердцах. Но киваю.
— Ja! — твердо заявляет Черемисин, не понимая.
Офицер устало усмехнулся, махнул рукой.
В живых осталось трое: фельдшер Меднис, который запел на допросе, чтобы доказать, что его привлекли к самодеятельности из-за хорошего голоса, «санитар» Черемисин и я. Может быть, было указание сохранить медперсонал?
Из вороха воспоминаний я выбираю небольшую часть событий и располагаю их по своему усмотрению. Получается что-то вроде ожерелья из фактов, нанизанных на нить времени. Давно ушедшего времени, с его неповторимой психологической окраской. Получилось правдиво и необъективно.
Студент получился лучше, чем был на самом деле, — так бывает на удачно снятой фотографии, — и стал жить сам по себе. Он мне даже интересен, и я рад, что он выжил. Но рассказ необъективен, потому что фон выписан очень слабо.
Студент был частицей многоликой, самодовольной и эгоцентричной буржуазной среды, которая переживала глубокий психологический кризис в предвоенные годы. Обыватель был растерян и напуган: события выходили за рамки его обычных представлений. Создалась благоприятная среда для развития фашизма. Прикрываясь демагогическими лозунгами патриотизма и защиты мелкой собственности, фашизм захватывал одну страну за другой, и многие не знали, что за его спиной скрывается крупный капитал, давно переросший границы и предавший интересы народов.
Конечно, были те, кто отвергал фашизм и мучительно искал опору в культурных ценностях Европы. Студент был с ними. Но разве он мог подняться до понимания исторических событий, которые стремительно приближались?
Коммунизм родился в процессе развития человеческого общества, и легко проследить его истоки. Фашизм тоже родился в человеческом обществе, и тоже легко проследить его предысторию. Происходила поляризация сознаний, столкновение было неизбежным. Решался вопрос о дальнейшем пути развития мира.
Война с фашизмом была бескомпромиссным столкновением двух идеологий. Носителями одной были народы Советского Союза, другой — Германия Гитлера.
Но сущность лежала глубже.
Помните, бывший гестаповец сказал при нашей случайной встрече на Мадагаскаре: «Все еще впереди».
Следовательно, для него, как и для меня, ценности, за которые следует бороться, не связаны исключительно с определенной страной или определенным народом. И если нам суждено снова сойтись лицом к лицу, это не обязательно в облике немца и русского, а в качестве носителей двух непримиримых идеологий.
Есть еще в мире почва для фашизма.
Но я верю, что опыт, приобретенный ценой смертей и страданий, не пропадает даром. Человечество способно, учиться и может разумно выбирать свое будущее.
Вернемся к рассказу.
ЧЕРЕМИСИН
ГЕРМАНИЯ
Мальчик подошел к вагону и плюнул. Ему было лет пять, он не умел плеваться и забрызгал свою курточку. Его личико исказилось, он готов был заплакать, но чувство исполненного долга взяло верх. Он с достоинством вернулся к родителям. Отец погладил его по головке.
Это было первое знакомство с Германией Гитлера, где-то в Пруссии, еще до «голодного барака», когда нас, латышских солдат, выданных гестапо, везли в глубь страны.
Мелкое происшествие, совсем будничное, но оно потрясло меня, почти ранило и испугало. Конечно, ребенок был тут ни при чем. Через зарешеченное окошко товарного вагона, в котором нас везли, я видел, как отец ребенка, полный господин в тирольской шляпе с пером, расспрашивал конвоиров, которые оцепили на станции наш товарный вагон, не подпуская любопытных. Потом отец наклонился к сыну, что-то сказал ему. Мальчик подошел и плюнул.
Германия. С раннего детства мне были близки немецкая культура и немецкий народ. Сразу после русского я начал говорить на немецком языке. Это было в Берлине, и мне не было пяти лет. Требовательная и добрая фрау Гудер, которая ухаживала за нами, детьми, говорила с нами только по-немецки. Она пела нам «О, таненбаум, о, таненбаум…» и «Розляйн, розляйн, розляйн рот…» и угощала сладостями — вкус ее баумкухен помнится до сих пор. Фрау Гудер привязалась к брату Алику и ко мне, и, когда через год родители переехали из Берлина в Париж, она приехала к нам во Францию и еще какое-то время жила в нашей семье. Родителям было не до нас, детей, и, вероятно, тогда, в незнакомом большом городе, среди чужих людей, говоривших на непонятном французском языке, и родилась во мне привязанность к фрау Гудер и немецкому языку, который казался своим, родным в чужой среде.
В начальной школе пришлось перейти на французский. Когда нас с братом привели в школу и оставили одних, мы попытались заговорить с французским мальчиком наших лет. Но он не понимал ни по-русски, ни по-немецки, и, естественно, мы его поколотили. Потом собрался весь класс и дружно поколотил меня с братом за незнание французского языка. Это был первый урок французского, и мы быстро заговорили.
В средней школе я уже говорил только по-французски, но немецкий не забыл. У меня были немецкие книги, я любил немецкую музыку, особенно Шумана и Шуберта. Первый спектакль, глубоко взволновавший меня, был «Сказки Гофмана» Оффенбаха.
И в студенческие годы не оборвалась связь с немецкой культурой. Моими друзьями стали бежавшие из Германии Гитлера Мишель и особенно Роберт, сын писателя из Берлина. Они примкнули к группе «левых» студентов Сорбонны, в которую я входил. Война в Испании сплотила наш маленький разношерстный коллектив. Мы были против фашизма, но не отождествляли фашизм с немецким народом и немецкой культурой.
И вот в конце 1941 года я снова в Германии в качестве политического преступника, с солдатами Латышского корпуса Красной Армии.
О лагерях военнопленных и концлагерях «третьего рейха» написано много правдивых и страшных автобиографических рассказов. Моя задача не в том, чтобы поведать о личных переживаниях тех лет и добавить еще одну страницу к летописи ужасов, а в том, чтобы дать понять социальную обусловленность идеологического конфликта, доведенного до пароксизма на пятачке лагеря смерти. Для будущего важно вскрыть причины и объяснить, почему стала возможной трагедия, пережитая человечеством сорок лет тому назад.
Ужас в том, что преступления совершали не выродки и монстры, которых не так уж много, а обычные люди, как вы и я.
RICKETTSIA PROWAZEKII — АМПУЛА С ВОЗБУДИТЕЛЕМ СЫПНОГО ТИФА
В Пруссии, у местечка Гаммерштейн, спрятавшись за сосновым лесом, на песчаной поляне стояли деревянные бараки, обнесенные проволочными заграждениями. Сюда осенью сорок первого года пригоняли советских пленных.
После войны я посетил эти места. Гаммерштейн называется теперь по-польски Счерни. У дороги, по которой нас вели когда-то, среди сосен стоят надгробные памятники на могилах русских военнопленных, умерших в немецкой неволе во времена первой мировой войны. Памятники на могилах военнопленных! Поистине то была другая война — последняя бойня по правилам, сведение семейных счетов между империалистическими державами. Подумать только — у пленных персональные могилы! Офицеров, может быть, даже хоронили с почестями? А вот в сорок первом здесь же, на пустыре, умерли десятки тысяч бойцов и командиров Красной Армии. От голода и сыпного тифа. И ничто не напоминает о них. Сгинули в песке, и все.
Поверьте, что их смерть не была так бессмысленна и позорна.
Пусть этот рассказ напомнит о тех, кто в отчаянии ушел тогда в пустоту.
Вернемся в сорок первый год.
По песчаной дороге понуро бредут измученные красноармейцы. Те, кого оглушил мощный удар натренированного и психологически подготовленного врага. Когда они очнулись, было поздно. Раненные, безоружные и оторванные от своих, они бредут в непонятный, враждебный мир.
Обогнув лесочек, миновав небольшое поле, дорога упирается в ворота между сторожевыми вышками. Между ними мотки колючей проволоки. Прибывших бегло пересчитывают, гонят через ворота. Направо — маленький неприметный барак, у самого проволочного заграждения. Из окна добродушно выглядывает симпатичный человек в штатском. Человек в штатском в лагере! Запомни, это твоя смерть или твой позор.
Если тебя поведут к этому бараку и в тебе еще будет жива крупица совести, выброси на дорогу свои драгоценности; портянку, расплющенный гвоздь или вилку, сбрось башмаки. Они тебе больше не понадобятся, а кто-нибудь найдет и обрадуется. А если в тебе умерли совесть и мужество… Впрочем, кто верит, что в нем умерли совесть и мужество до той последней секунды, когда они действительно умирают?
Человек в штатском так безмятежно спокоен и уверен в себе, потому что он ощущает свое безграничное превосходство над серой толпой понурых, как и ты, людей. И не без основания: ему даже не приходится делать усилий, чтобы выявлять врагов среди этих тупых, примитивных, как он считает, людей. На допросе он объясняет, что в лагере два отделения: одно — для друзей Германии и другое — для коммунистов и врагов. И часть пленных сама лезет на крючок, называет себя врагами. А иногда человек в штатском просто выходит на дорогу, встречает очередную колонну пленных. Он поднимает кулак и кричит: «Рот фронт». И всегда, представляете себе, всегда над толпой поднимается в ответ несколько кулаков. Несколько человек до лагеря не доходят.
Человек в штатском прекрасный семьянин, образованный, интересный собеседник и честный работник. Он добросовестно выполняет порученное дело и даже не очень заботится о своей карьере.
Его путь к фашизму был прямым и естественным. С раннего детства, в семье и школе его воспитывали в духе болезненной любви к своей родине. К Германии, давшей миру столько замечательных людей и незаслуженно страдавшей веками от своей раздробленности на княжества и королевства. Его учили, что великий Лютер первым заговорил от имени всех немцев, что железный Бисмарк тщетно мечом и кровью пытался объединить страну. Отвоевать ее законное место в Европе и мире. Обоих предали. Франция и Англия захватили вселенную, оставив Германии жалкие крохи. Но и эти крохи — былую колониальную империю кайзера — отняли. Унизили Германию в мировой войне, лишили армии и флота.
Подростком, с рюкзаком за плечами, с другими «перелетными птицами» исходил он пешком свою Германию из конца в конец. По вечерам у костра, пылавшего перед «домом молодежи», он пел со своими сверстниками, держась под руку и раскачиваясь в такт. За уходом в природу скрывалась мечта о реванше.
Юношей на митингах и собраниях он с упоением говорил об исторической несправедливости, о великой миссии Германии. Он сразу отозвался на призыв Гитлера: «Вставай, униженная Германия, настал твой черед властвовать над миром!» Конечно, не все ему нравилось, в примитивной философии бывшего унтера. Но с детства он усвоил, что порядок должен быть, что беспрекословное повиновение — превыше всего.
Гитлер стал для него символом величия Германии, освободил его от комплекса неполноценности. И он стал помогать нацистам.
Первый донос на сослуживца был мучительным переживанием для него. Сослуживец, на которого он донес, был пацифистом и язвительным ниспровергателем тех ценностей, которым он с детства поклонялся. Он не сомневался, что этот опасный остряк «плохой немец» — ein schlechter Deutsche, как говорили фашисты. Но доносить исподтишка? Убежденность с трудом преодолела в нем врожденную порядочность. Далее было легко.
Однако полное, безоговорочное доверие настоящих, закаленных фашистов принес ему донос, о котором он старается теперь не вспоминать.
Она была подругой детства, шагала рядом с ним по дорогам, пела с ним у костра, обнимала, прижавшись к нему на мягкой траве лужаек под бескрайним голубым небом. Когда он теперь вспоминает о своей юношеской любви, в нем просыпается сложное чувство стыда за содеянное, гордости за преодоленную нерешительность и облегчения — она чересчур много знала о нем. И тогда он ищет успокоения в объятиях своей нынешней добротной жены, преданной фюреру, как он сам. Она родила ему детей чистейших арийских кровей.
Партия Гитлера поручила ему не слишком приятное дело: работу идеологического ассенизатора. Но он не жалуется. Где-то в глубине души он даже испытывает гордость, окрашенную мазохизмом, что именно ему, бывшему сентиментальному и романтически настроенному обывателю, фюрер оказал такое безграничное доверие.
Нет, поистине человек в штатском — прекрасный семьянин, образованный, интересный собеседник и честный работник. Фюрер может положиться на него.
У человека в штатском большой опыт. Он работал со своими соотечественниками. Это было несложно: он понимал психологию допрашиваемых, легко улавливал скрытую враждебность или вранье — немцы как-никак всегда отличались прямолинейностью — и принимал решения обоснованно.
Потом он работал с французами. С этими было труднее — они ставили его в тупик своей изворотливостью и иррациональной логикой. После длительного допроса всегда получалось так, что он может принять нужное решение, только признав себя дураком. Приходилось выходить из себя.
С англичанами тоже было непросто. С ними нелегко было сохранять превосходство победителя над побежденными. Эти вежливые ублюдки, англичане, вели себя так, точно сыграна только первая партия матча. «С ними еще сочтемся», — думал про себя человек в штатском.
С поступлением людского материала с восточного фронта человек в штатском испытал искреннее облегчение и глубокое удовлетворение. Теоретики нацизма не ошиблись, славяне — низшая раса. Крикни: «Рот фронт!» — они поднимут кулаки.
Человек в штатском уверен в себе. Убежденность очень облегчает работу ассенизатора.
«Азиатская тупость!» — улыбнулся про себя человек в штатском и отошел от окна барака.
Он не знает, что это не тупость, а остатки веры в немецкий народ, давший Маркса и Энгельса. Вера в восстание рабочего класса против фашизма.
Пусть наивная, вера никогда не угасает сразу. Если она искренна. И, умирая, она не переходит в покорность. Но откуда это знать человеку в штатском?
Идеологическая война только начинается.
Миновав барак абвера, дорога ведет дальше, в глубь лагеря. Справа и слева — деревянные бараки. Из одного из них выходит высокий унтер в золотых очках. У него лысеющий череп, приоткрытый ворот френча и по привычке руки в карманах. Это Эрих — начальник «картая». Что такое «картай»? Ну, как бы сказать: это картотека, где на каждого заведена карточка. Переходя из ящика в ящик, карточка бесстрастно отмечает превратности твоей судьбы, пока не успокоится в ящике мертвых. Верная тебе до конца, она сгорит в печке через день после того, как тебя вывезут из лагеря на телеге в куче других мертвецов. Если хочешь, твоя карточка — это твой ангел-хранитель, и поможет она тебе не более чем ангел на небесах. Тебе очень повезет, если твоя карточка новая, из хорошего картона, и Эрих набросает твой профиль на обороте. Эрих — учитель. Он участвовал в войне на Западе, но от участия в войне на Востоке его отстранили за какие-то провинности в молодости. Если набросок удачен, Эриху бывает жалко сжигать карточку, и он ее помещает в ящик, обозначающий более легкую работу, чтоб она дольше сохранилась. Картай — символ организованности и педантичности, немецкого порядка. Чисто внешнего! На самом деле в картае так же мало порядка, как и в голове у Эриха.
Барак полицаев справа у дороги, сразу после второго проволочного заграждения, отделяющего «форлагер» от самого лагеря. И шеф полицаев Рязанцев, белоэмигрант из Польши, выходит из барака взглянуть на прибывших. Это крепкий человек лет сорока пяти, с грубым лицом и рыжеватыми усами. Он в кожаном полушубке, окантованном белым мехом и затянутом тонким ремешком, в галифе и начищенных сапогах. Сдвинув высокую папаху на затылок, гордо задрав голову и подбоченясь, он похлопывает нагайкой по голенищу, разглядывая проходящих мимо людей. Если Рязанцев скажет «я Чапаев!» и посмотрит тебе в глаза, отвернись. Он верит, что узнает коммунистов по ответному взгляду, и вытаскивает их из толпы для расправы. Со своими жертвами Рязанцев расправляется немедля. Падают ослабевшие люди. С надрывом Рязанцев выкрикивает, орудуя нагайкой: «За матушку-Русь! За православную веру! За русский народ!»
Если рядом господин в штатском, Рязанцев выпрямляется, молодцевато сдвигает папаху на затылок и на ломаном немецком языке говорит:
— Я русский! Настоящий русский! Не свинья-коммунист.
Господин в штатском кивает с усмешкой. Да, теоретики фашизма не ошиблись: русские — тупой, отсталый народ, полуазиаты.
Рязанцев — обломок прошлого.
Перпендикулярно дороге строятся первые бараки ревира — санчасти. У первого, уже достроенного, барака стоит Курт, толстый немецкий унтер, всевластный хозяин ревира.
О Курте стоит рассказать подробней.
Курт — из местных крестьян и дальше Шнайдемюле за всю свою жизнь не выезжал. Что там дальше, его не интересовало. После окончания начальной школы он ни одной книги не прочитал, кроме, может быть, «Майн кампф» Гитлера. Что там, в книгах, его тоже не интересовало. Однако, несмотря на внешнюю грубость и неотесанность, Курт обладает врожденной смекалкой и хозяйской хваткой и не лишен честолюбия. В гаммерштейновских масштабах, конечно. Тяжкая доля мелкого сельского хозяина всю жизнь угнетала Курта, он презирал горожан-белоручек, завидовал чиновникам-дармоедам. И искал виновных. Фашизм стал для него откровением: Гитлер говорил тем языком, который был понятен Курту, и говорил о том, что его давно беспокоило. Конечно же, интеллигенты, продавшие Германию, во всем виноваты. Надо отдать должное врожденному чутью Курта. Он поверил в Гитлера много раньше, чем высокообразованные финансисты, промышленники и политики. В своем округе Курт одним из первых открыто примкнул к национал-социализму. Но политика его интересует не сама по себе, а только с точки зрения его личной выгоды. Он верит, что после победы над другими народами немцы заживут припеваючи и одним из первых он получит обещанные Гитлером «фольксвагены» и другие блага. По возрасту Курт мог бы отсиживаться дома, но он добровольно надел военную форму — зачем упускать свой шанс? — и был назначен в ревир русского лагеря. Это назначение Курт резонно рассматривает как первый аванс под обещанное ему благополучие. Ревир — его вотчина, ну, скажем, как свинарник на его ферме. Курт по-деловому распоряжается жизнями доходяг в ревире и поросят на ферме. Вначале он просто отбирал у умиравших баланду и липкий хлеб и отправлял его поросятам. Потом он смекнул, что чем больше ревир, тем больше доход с него: в большом ревире большая смертность, и, если сообщать об умерших с опозданием, можно забирать остатки пищи и расширить свиноферму. Курт стал энергично строить ревир и собирать доходяг с лагерных «блоков» — так назывались отделения лагеря. Умирая на блоках, доходяги дохода Курту не дают, умирая в ревире — дают. В душе Курт относится к русским без злобы, в общем не хуже, чем к поросятам. Он хороший хозяин и готов постоять за свое: и за свой свинарник, и за свой ревир с его доходягами, сыпнотифозными и медперсоналом.
Когда фельдшера Медниса, «санитара» Черемисина и меня привели в лагерь, Курт осмотрел нас по-хозяйски, накормил баландой и зачислил в персонал «своего» ревира. «Ты говоришь по-немецки, — сказал он мне. — Будешь за старшего. Порядок нужен всюду».
Оставим на время Курта и ревир и последуем дальше за прибывшими пленными. Еще одно проволочное заграждение, и мы находимся на территории самого лагеря. Справа — недостроенный барак будущей кухни. Она будет достроена в сорок втором году, а до этого баланду будут привозить в больших деревянных чанах на подводах под присмотром французских военнопленных. Хлеб тоже привозят в лагерь извне. Если он черный, липкий и пахнет гнилью, его можно есть без опасения. Если он сероватый и сладковатый на вкус, надо есть осторожно, понемногу. Иначе бывают тошнота и рвота. Остатки хлеба, не розданного в течение дня, хранятся в маленьком деревянном складе, рядом с недостроенной кухней.
А дальше, вокруг кухни, расположены блоки. Осенью сорок первого года это были просто загоны — обнесенные проволочными заграждениями песчаные пустыри с редкой травой, которую быстро выщипали и съели доходяги, и с ямой, которая служила уборной. Через год на блоках появились бараки, но в первую зиму люди лежали на песке. На каждом блоке свои порядки, свое начальство из полицаев, свои законы. Блоками ведает Седой.
О Седом тоже надо рассказать подробней.
Небольшого роста, порывистый, уже немолодой, он, как и Курт, добровольно служит в армии. По зову сердца. Седой пошел служить после того, как его сын погиб в первые месяцы войны с Советским Союзом. Смерть единственного сына усилила бескомпромиссную ненависть Седого к русским и коммунистам. Эта ненависть не нуждается в разумном обосновании, ее истоки иррациональны. Она есть — и все! Седой — идейный, убежденный нацист. Он предан Гитлеру до последней клеточки тела. Предан — и все! Ему лично ничего не надо, кроме как отомстить за сына и умереть за фюрера.
Но сын сыном, идейность идейностью, а ненависть Седого имеет более глубокие корни. Почти два года я присматривался к нему, и судьба столкнула меня с ним при трагических обстоятельствах, о которых я еще расскажу. Мне кажется, что я догадываюсь о глубинных причинах ненависти Седого. Седой — из респектабельной семьи юристов. В молодости он восстал против той среды, где он вырос, и ушел от своих, чтобы покорить мир. Не то он считал себя гениальным художником, не то музыкантом. В конечном счете не так уж это важно. Важно другое: при всем своем безмерном самомнении, при несомненной одаренности, при способности к самопожертвованию он не был личностью. И ничего своего создать не мог. В общем, довольно банальная история. Она становится трагичной только в том случае, когда несостоявшийся гений достаточно умен, чтобы понять, что случилось. К счастью, это бывает редко, и многие, не создав ничего своего, тем не менее делают вполне приличную карьеру. Но Седой понял. И возненавидел творческую интеллигенцию не менее, чем ту респектабельную среду, в которой вырос. И вот когда он, как загнанный зверь, потеряв веру в себя, был готов вернуться к своим, разыгрывая роль блудного сына, прозвучал призыв Гитлера к покорению вселенной. Седой выпрямился во весь свой маленький рост и сказал: «Вот мой сын. Вот я. Возьми наши жизни, мой фюрер!»
Мне не пришлось встретить в жизни человека, сотворившего больше зла и пакости, чем Седой.
Нет никого опасней фанатика-идеалиста. Способность жертвовать собой ему служит оправданием готовности пожертвовать всеми другими людьми.
Те, кто осенью сорок первого года, пройдя через гестапо и абвер, попали в руки Седого, ничего никому не расскажут. И мы никогда не узнаем всего, что было. В жизни встречаются люди, о которых лучше не помнить, и бывает немало такого, о чем лучше не знать. Важна правда, а она состоит не из исключений, а из кусочков обычной жизни.
Хотя кто его знает, кем он был, Седой, — исключением или типичным явлением для фашизма?
Уух… уух… уух…
Редкие глухие удары раздаются о стенку барака, у которой стоят наши нары. Потом слышится шум, что-то падает снаружи и скребет по деревянной стенке. Доносятся ругань и снова редкие глухие удары: уух… уух…
Гляжу на светлеющее окно — день только начинается — и, съежившись под матрацем из рогожи, стараюсь сохранить немного тепла. Вот снова заскребло о стенку, и на сером фоне окна появилась голая тощая нога. Потом скользнула сверху голова. Она зацепилась за ногу и нелепо застряла, гулко ударившись о стекло. Мертвецы толчками наползают на стекло, постепенно закрывая серое небо. А снаружи глухие удары: уух… уух…
Потом я привык. Это санитары волокли из лагеря трупы доходяг[19], умерших за ночь, и бросали голые, посиневшие тела к деревянной стенке барака. Гора росла, изредка обрушиваясь. Потом приезжали подводы с баландой. Деревянные чаны стаскивали с подвод. Санитары бросали мертвецов на подводы. Французские военнопленные стояли в стороне и молча смотрели. Потом французы садились на подводы и увозили мертвецов из лагеря.
— Пан коллега, вставайте, — зовет меня доктор Флейшман.
Старик Флейшман, молодой Прудзинский, Меднис и сибиряк Терновских сидят у круглой печурки, которая стоит на кирпичах посреди барака. На печурке миска с брюквой, капустой и картофельной шелухой, выловленными из чана с баландой, привезенной в ревир.
Молча вылезаю из-под матраца, сажусь к печурке и, поеживаясь от сырости, ем картофельные очистки.
— Где Флейшман? Где старая собака? — гремит голос Курта, и дверь барака открывается от удара сапогом. — Вы что, отдыхаете? Марш на работу!
По-стариковски шаркая ногами, из барака рысцой выбегает доктор Флейшман. Развеваются полы грязного врачебного халата, и смешно топорщатся седые клоки волос над втянутой в плечи головой. Мы выбегаем за ним. Мне — в амбулаторию.
Курт уже там. «Вон!» — орет он во всю глотку, выталкивая пленных, набившихся в помещение амбулатории.
— Перевязать французов! — приказывает Курт.
Входят два французских военнопленных, из тех, что привозят баланду в лагерь и увозят мертвецов. У одного укус на предплечье, — ясно видим следы зубов, у другого — ссадина на скуле.
— Quels sauvages[20], — жалуется один из них, когда я его перевязываю бумажным бинтом. — Ils ont faim. Mais tout de même…[21]
Я молча смазываю ссадины йодом и делаю вид, что не понимаю.
— Merci, monsieur, — вежливо говорят французы и уходят с видом возмущенных, невинно пострадавших людей.
Я знаю, что произошло: пленные разбомбили повозки с баландой. Это происходит изредка и всегда неожиданно, как-то стихийно. Едут подводы с чанами по лагерю в окружении полицаев с плетками, мимо пленных, собравшихся у ревира. Сидя на песке, прислонившись к баракам, пленные горящими глазами провожают чаны с едой и молчат. Но бывает, завязнет колесо в песке и ветер отнесет запах еды в сторону доходяг. И тогда… Толпа истощенных людей молча кидается на еду. Они давят друг друга, лезут на телеги, черпают баланду руками, пилотками, выхватывают куски брюквы. Кричат полицаи, смятые толпой; стоя на телегах, французы отбиваются кнутами. Все напрасно. Никто ничего не видит и не слышит. Еда!
Часовые на вышках начинают стрелять. И тогда испуганные лошади, рванув с места, вырывают подводы из цепких голодных объятий. Толпа распадается на беспомощных людей, которых полицаи отгоняют к баракам ревира. Подводы едут дальше.
Я не успеваю осмотреть раненых и избитых, как в амбулаторию входят польские врачи. Их двое. Они немолодые, в зеленых мундирах, гетрах, зашнурованных спереди, н четырехугольных конфедератках с большими козырьками. Они приходят дважды в неделю из французского лагеря.
Французский лагерь! Зимой сорок первого года французский лагерь, о котором советские пленные знали только понаслышке, был чем-то вроде обетованной земли. Раем на земле, где люди, не то что не умирали с голоду, а ели дважды в день, курили сигареты, получали пакеты Красного Креста, посылки и письма из дому.
Польские офицеры приходят в сопровождении пожилого немецкого солдата. У ревира они дают немцу по папироске и, взглянув на наручные часы, назначают ему время, когда прийти за ними.
Войдя в амбулаторию, офицеры поморщились от зловония и, перешагнув осторожно через ворох тряпок, изодранных лохмотьев и грязного лигнина, присели у окна на табуретки, которые они предварительно тщательно протерли ватой, смоченной дезраствором, принесенным с собой.
Покуривая, они мирно беседуют, не обращая внимания на меня и на доходяг, которые толпятся у входа.
После амбулатории я отправляюсь в соседний барак для рапорта немецкому врачу, доктору Герке.
Герке из Гамбурга. Его тоже отстранили от участия в войне на Востоке за какие-то провинности молодости. И назначили в русский лагерь. Но пробыл он в Гаммерштейне совсем недолго.
Угрюмый, с отечным красным лицом и мясистым губчатым носом, Герке безучастно сидит за столом, подпирая лоб кулаком, и смотрит в окно. Рыжая грива придает ему сходство с обтрепанным, загнанным львом из зоопарка. Герке, как всегда, пьян. С самого утра.
Он не обращает внимания на рапорт. Долго молчит. Потом спрашивает, не оборачиваясь:
— Лечишь больных?
— Лечу, герр оберштабсарцт.
— Врешь. Кого здесь можно лечить? Ты посмотри, что им дают. Помои. Сколько человек может прожить, получая такие помои? А ты говоришь — лечу!
Наступает молчание. Потом Герке добавляет устало, не сводя глаз с окна:
— Подохнут. Ну и шут с ними. Выбор у них был, могли достойно умереть, как солдаты. А они…
Герке отхлебнул из стакана, задумался, добавил про себя:
— За Германию стыдно…
Обернувшись, он заметил меня.
— Чего стоишь? Я — немец, а ты кто такой? Беглый врач из Парижа? Слизняк ты с твоей клятвой Гиппократа… Лечишь, говоришь?
Массивные плечи и рыжая грива затряслись от внутреннего смеха.
— Здесь врач не нужен. Ты просто ничто, понял?.. ффюит!
Герке дунул на пальцы, отвернулся.
— Не мне судить, но… в дерьме мы все. Какой ты врач. И я тоже… Пшел вон!
Обед. На первое — жижица из баланды, на второе — брюква из той же баланды, тушенная в треснутом горшочке.
— Не бойтесь, пан коллега, — говорит доктор Флейшман, заметив, что я отшатнулся, когда открыли горшочек. — В брюкву добавлено немного лечебной мази. Совсем безвредной. К запаху привыкнете.
Действительно, я быстро привык к брюкве, тушенной с лечебной мазью.
— Я отобрал самую мягкую, без гнили, — говорит Прудзинский про брюкву и придвигает фанерку с хлебом.
Хлеб, который удавалось достать, делили на равные части. По весу. Крошки тоже делили. Ели медленно, сосредоточенно, подставляя ладонь, чтобы не потерялись крошки хлеба.
После обеда — обход палат ревира. В палатах вонь, грязь, полутьма. Пленные покрепче сидят вокруг печки, она стоит посередине палаты. Завернувшись в разодранные одеяла, прижавшись друг к другу, они о чем-то переговариваются. Пленные послабее лежат на нарах, прикрываясь вонючими матрацами и тряпками, и молчат. В полутьме не разберешь, кто еще жив, а кто мертв.
И вши. Я запомнил те две первые, которые увидел, когда пытался осмотреть одного из больных. Они спокойно ползли по серой грязной спине между торчащими остистыми отростками позвонков. Потом я перестал обращать внимание на них.
Когда я вхожу в палату, все разговоры смолкают и доходяги напряженно следят за мной. Непреодолимая стена отделяет меня от них. Они не доверяют мне. Их пугает мой иностранный акцент, знание немецкого.
— Из эмигрантов. Говорят, из Парижа. Эти похлеще немцев, — услышал я как-то за своей спиной, когда выходил из палаты.
Я пытаюсь говорить с пленными, расспросить их, установить человеческие отношения. Но получается еще хуже: отчужденность превращается во враждебность: «Расспрашивает, шпионит за нами».
Только с одним из пленных мне удалось не то что разговориться, а просто побеседовать.
Все его звали «профессор из третьего барака».
Когда я вхожу, он сидит, как обычно, у окна, привалившись плечом к стене. Белые прямые волосы. Покатый лоб. Глубокие морщины на изможденном лице. Седая бородка. На носу очки в железной оправе.
Он поворачивает голову. В очках сохранилось только правое стекло. Сквозь блестящее стеклышко правый глаз смотрит внимательно и остро. Левый глаз, с выцветшей голубизной, но-детски добр и наивен.
— Здравствуйте!
— Рад познакомиться, — кивает старик, — простите, что не встаю. Ослаб.
Пожимаю тощую руку.
— Господин или товарищ? — осведомляется старик. Потом, еще раз взглянув на меня: — Извините, вы действительно русский?
— Я жил и учился в Париже.
— И все же товарищ? Хорошо, как вам угодно. Предлагаю ему помощь. Иначе не выжить.
— О смерти можете не говорить. Я достаточно видел смертей с тех пор, как сижу у этого окна. А насчет помощи… Разве у вас есть своя еда?
— Я могу достать для вас немного баланды.
— Достать? То есть взять у них? — профессор указывает на нары. — Украсть у умирающих?
— Украсть…
— По-моему, в лагере нет другого источника дополнительной пищи.
Наступает неловкое молчание.
— Спасибо, не надо. Я не прохвост.
— Вы ученый…
— Уважаемый Федор Федорович, в годы испытаний ценность представляют не ученые, а честные люди. И разрешите мне самому быть судьей в этом вопросе. — Потом с легкой усмешкой: — Правда, умирать страшновато… Совсем как в молодости.
— Честные люди? А где они? Одни убивают, другие молчат.
Профессор поднимает руку.
— Можете не рассказывать. Ну и что же?
— Как, что же?
— Вы ели сегодня? И еще есть будете? Вот видите. Но оставим это. Мы не поймем друг друга.
Старик закашлялся. Он тяжело переводит дыхание и продолжает приглушенным голосом:
— Когда я был в вашем возрасте, мне пришлось сидеть в царской тюрьме. Это было давно, в тысяча девятьсот шестом году. Тогда я боялся. Знаете почему? Потому, что подсознательно опасался: а вдруг все напрасно, вдруг революции не будет?
В бараке тишина. Пленные слушают.
— Видите ли, уважаемый Федор Федорович, нет надобности проверять лично, чтобы знать, что при гидролизе крахмала образуется сахар. И сейчас мне нет надобности лично увидеть, чтобы знать, что мой народ справится с этой нечистью.
Старик задумался, посмотрел на нары.
— Да и не хочу пачкаться в конце жизни. Думаю, простил бы меня мой народ, если бы я принял предложенную вами ворованную еду. Но будет ли у меня возможность просить прощения? Вы молоды, а я стар.
— У кого просить прощения? Русские убивают русских.
— Где вы почерпнули понятие «русский»? В эмигрантских журналах?
— При чем журналы? Слово «русский» имеет один смысл.
— Нет, милостивый государь. Много! И несовместимых!
Наступает молчание. Входит санитар с хлебом для пленных.
— Извините, — отворачивается профессор, давая понять, что разговор окончен. — Сами видите — общественные обязанности. И… знаете что? На вашем месте я не стал бы называть себя «товарищем». Уж не обижайтесь на старика за прямоту. Прощайте.
Когда я выхожу, профессор готовит самодельные весы.
Делить хлеб доверяли не каждому.
В конце дня врачи собираются в бараке, у остывшей печки.
— Пан коллега, ваша миска на печке.
С жадностью протягиваю руку к тепловатой баланде.
— Каждый прожитый день — благо, — говорит доктор Флейшман.
В стороне сидит сгорбившись Терновских — русский врач из Сибири. Он сторонится нас, угрюмо молчит, не отвечает на вопросы. Его что-то мучает и угнетает. По ночам он мечется, кричит во сне. Дико озирается, когда его будишь.
Я пытался говорить с ним, расспрашивать. Он только глухо ответил: «Не было у меня оружия…» и замкнулся в молчании.
И для него я тоже чужой.
В бараке холодно, тянет сыростью. Когда пробегает луч прожектора, освещая крыши бараков, заделанное решеткой окно, мокрое от дождя, вспыхивает фосфоресцирующим сиянием и в полутьме видны прижавшиеся к печке фигуры. Доктор Флейшман накинул одеяло на круглую спину, зажал между колен сплетенные старческие узловатые руки и прижался лбом к печке. Его губы шепчут молитву. Прудзинский напряженно всматривается в окно. Стараюсь ни о чем не думать. Тепло от выпитой баланды рассеялось, и снова страх перекатывается холодным комочком в животе.
Вдали раздаются выстрелы. Это охота. На складе с остатками еды устроил засаду Седой. Он стреляет пленных, чтоб отучить их воровать. А они ползут от своих блоков под покровом темноты.
— Он разбрасывает вареный картофель в виде приманки, — сказал как-то Прудзинский.
Смерть ходит по лагерю. Врачи жмутся к печке. Они не друзья и не враги. Они живые, а все живое тянется друг к другу.
Об оберштабсарцте Герке я должен сказать еще несколько слов. Он был врагом. Но враги бывают разные. Одних презираешь, к другим испытываешь что-то вроде уважения.
Однажды вечером мы сидели, как обычно, вокруг круглой печки и молчали. Вдруг рывком открылась дверь барака.
— Встать! — крикнул полицай Леша, вбегая в барак.
На пороге Герке. Пошатывается, заложив руки за спину Поводит губчатым носом а останавливает свой взгляд на тушеной брюкве. Его губы вопросительно искривляются, потом снова брезгливо опускаются на квадратный подбородок.
— Уезжаю, — говорит медленно Герке. — Воевать. Против ваших. Сопрунов, переведи.
Все молчат.
— Брюквой питаетесь? Надеюсь, я сдохну, но не попаду в плен. Собачья ваша жизнь.
Перевожу. Терновских вдруг бледнеет, рывком раздирает ворот гимнастерки а, шагнув вперед, задыхаясь:
— Стреляй, собака, стреляй!
Герке молчит. Рыжие брови ползут на лоб, под ними поблескивает любопытный взгляд.
Полицай Леша замахивается на Терновских. Герке останавливает Лешу. Он вынимает руки из-за спины, медленно натягивает перчатку на правую руку а тщательно разглаживает складки. Потом бьет полицая по лицу. От неожиданности тот падает. Вскакивает и становится по стойке «смирно». Герке молча бьет его еще раз и обращается к нам:
— Не желает ли еще кто-нибудь проучить ублюдка? Прошу вас, господа, не стесняйтесь.
Руки по швам, полицай Леша повернулся к нам, дожидаясь. Каждый смотрит себе под ноги.
— Противно руки пачкать? — ухмыльнулся Герке. — Чепуха! Все мы в дерьме. По уши!
Он поворачивается и идет к двери. Проходя мимо полицая Леши, он презрительно рассматривает его.
— И это — тоже человек?
Не получив ответа, Герке уходит.
В последний раз я видел Герке накануне его отъезда. Он вызвал меня, отошел от барака, оглянулся кругом и сказал, понизив голос:
— Вместо меня нового, назначили. Сопляка вонючего. Понял?
Он еще раз оглянулся и, качнувшись, с трудом удержался на ногах. Потом добавил совсем глухо:
— Про «Nacht und Nebel» слыхал? Нет? Так вот. Живым отсюда не выйдешь. Единственный шанс для тебя — это бежать. Понял? Пшел вон!
Профессор из третьего барака умер зимой. Среди мертвецов его можно было узнать по торчащей седой бородке.
Ублюдок полицай Леша прожил три месяца. Когда выглянуло весеннее солнце, во время дикой пирушки полицаев он восстал против Рязанцева, обозвав его «гнидой». И повесился в бане.
В лагерь прибыл новый штабсарцт. Имя я его не запомнил. Разве запомнишь имена всех дрянных людей, с кем приходится в жизни встречаться?
Он был молод — в лагерь устроился, видимо, по протекции — и носил на шее шелковый платочек, который выглядывал из полурасстегнутого ворота френча. Еще помню, что у него были золотые пломбы в передних зубах.
Платочек, золотые пломбы, щеголеватая офицерская фуражка… Вероятно, было и лицо. Такое незначительное, что не запомнилось.
Это был трусливый и заносчивый человек, по натуре скорее добрый, чем злой, но лишенный внутренних точек опоры и поэтому полностью зависимый от внешнего мира.
Таких людей много. Они воспринимают и оценивают самих себя через внешние атрибуты и отношение к себе других людей. Чтобы считать себя солдатом, такому человеку необходимы знаки отличия и восхищение окружающих; чтобы почувствовать себя мужчиной, ему нужно переспать со многими женщинами и унизить их; чтобы уважать себя как специалиста, он должен иметь дипломы в ощущать зависть подчиненных. Уберите все это, а останется тоскливая пустота. Таких много.
Захват Рура, поджог рейхстага а расправа с коммунистами, аншлюс и Мюнхен, захват Бельгии, Голландии в разгром Франции — это были те признаки силы в вседозволенности, те внешние доказательства, в которых нуждалась обыватели, чтобы поверить в себя, в свою миссию «носителей европейской культуры». Расчетливые и заносчивые, они составили массовую опору фашизма.
Он откинулся на спинку стула, заложил ногу на ногу. Покуривает и снисходительно разглядывает меня. Ворот френча расстегнут. Кокетливо выглядывает пестрый платочек с надписью по-французски. В доказательство того, что он прошел как победитель по опозоренному Парижу. Стараюсь не смотреть на платочек. Мягкие складки шелка обхватывают его шею, как руки побежденной женщины. Мой Париж, наши девушки…
Стою в дверях в грязном, изодранном врачебном халате и не поднимаю глаз.
Знаю, он ждет, что я заговорю с ним по-французски. Он усмехнется и вспомнит Париж, блистательную победу, парижанок. Может быть, это облегчит мою участь, поможет пленным, умирающим от голода в ревире. Но я не могу, что-то сдавило горло.
— Quartier latin… — подсказывает он, произнося французские слова с грубым немецким акцентом. Он ждет. Он снизошел до того, чтобы позволить беглому студенту из Латинского квартала по-холуйски выразить свое восхищение победителем Парижа. И милостиво ждет.
Молчу, опустив голову.
— Пшел вон!
В другой раз, во время обхода ревира, оберштабсарцту попался на глаза умалишенный, которого мы прятали в одном из бараков. Он вышел навстречу оберштбсарцту и остановился перед ним. Лил дождь. Больной стоял голым под дождем и улыбался, поглаживая свой впалый живот.
На следующий день оберштабсарцт принес большую дозу снотворного и вызвал меня.
— На, введи ему смертельную дозу. Усыпи его, пусть не мучается.
Я отрицательно покачал головой.
— Ему же лучше. Заснет, и все. Это гуманно.
— Я врач.
— Я приказываю!
— Нет.
— Прикажу выпороть тебя.
— Я врач.
— Выпороть!
Больного убили полицаи палками. Они гоняли умалишенного туда-сюда и били, пока он не свалился. Почему-то это называлось у них «судом божьим». А меня выпороли.
Странная вещь — психика человека. Писать о самом себе с полной объективностью, видимо, невозможно. Я много раз писал об этих далеких событиях и каждый раз выбрасывал написанное. Я не мог себя заставить рассказать о том, что меня выпороли. И сейчас я упустил бы упоминание об этом унижении, если бы не понял, что это один из тех «кусочков жизни», которые необходимы для понимания истины.
После порки я лежал на животе и кусал себе руки. От боли и стыда. Обмыл меня — в конце порки я не сдержался — и перевязал «санитар» Черемисин. Закончив перевязку, он сказал спокойно: «У нас говорят, за битого двух небитых дают». И пошел.
Так Черемисин снова вошел в мою жизнь, а я избавился от неприязни к нему, вызванной его превращением в «санитары». У меня исчезли какие-то глупые представления о «героизме», похожие на лубок.
Я был одинок. К полицаям и переводчикам абвера и гестапо я испытывал непреодолимое отвращение и презрение. И не столько за их жестокость, сколько за их холуйское подобострастие перед немцами, французами, перед Европой, сдавшейся на милость победителя. И они меня ненавидели за то, что у меня было все, чего им не хватало для карьеры предателя и холуя: знание нескольких языков и глубокие корни в Европе. С Флейшманом и Прудзинским тоже не установилось близких отношений, их мистицизм и фатализм не трогали меня. Терновских и другие советские врачи, прибывшие в Гаммерштейн с восточного фронта, вначале сторонились меня. А толпа пленных, умиравших в ревире и на блоках, просто отталкивала от себя с ненавистью и опасением.
Небольшой отдушиной были встречи с французскими военнопленными и группой молодых польских врачей, которых прислали в Гаммерштейн и поселили в «форлагере» русского лагеря. Это были симпатичные ребята без той предвзятости к коммунизму, которая ощущалась у польских офицеров старшего поколения. Но и они не верили тогда, в конце сорок первого года, в то, что Красная Армия может остановить фашистское наступление. Их надежды были связаны с Англией и Соединенными Штатами Америки, которые только вступили в войну. В то тяжелое время все относились с высокомерием и бо́льшим или меньшим состраданием к советским людям, погибавшим в неволе.
Зимой сорок первого года в русском лагере вспыхнул сыпной тиф. Он быстро охватил весь лагерь. Немцы, даже Седой, перестали бывать на блоках. Полицаям сделали прививку.
И вот однажды меня вызвал оберштабсарцт и дал мне ампулу, чтобы я тоже сделал себе прививку от сыпного тифа.
Доктор Флейшман внимательно посмотрел фирменную этикетку на ампуле и покачал головой: «Стоит ли делать, пан коллега?»
К тому времени в ревире нас было человек восемь, пленных советских врачей. Четверо поделили между собой ампулу и сделали себе прививки. Мы заболели одновременно все четверо. Двое умерли. Это была не вакцина, а культура Rickettsia Prowazekii, возбудителя сыпного тифа.
Я болел тяжело. В памяти сохранилось видение глубокой черной ямы. Я медленно опускаюсь в нее. Хватаюсь за стенки, они осыпаются. Пытаюсь кричать: «Я врач!», но опускаюсь все глубже. Звучит назидательный голос профессора Района: «Священник, врач и нотариус — каждый владеет одной третью человека». Над ямой появляется львиная грива Герке, гремит его голос: «Какой ты врач, и я тоже… В дерьме мы все, в дерьме», и раздается пьяный смех. Заглядывает в яму молодой оберштабсарцт, протягивает ампулу. Опускаюсь все ниже и ниже. Наступают тишина и покой. «Каждый прожитый день — милость божья», — говорит, прощаясь, голос старого доктора Флейшмана.
Потом снова пробудилось чувство тревоги. Я в яме, но над ней клубится туман. Смутно помню доброе, старое лицо доктора Флейшмана, которое иногда выплывало из тумана. Узловатые руки что-то делали, стараясь помочь мне.
Помню Черемисина, который смачивал мне губы и стоял рядом.
Потом наступила тихая радость. Ясное, ни с чем не сравнимое чувство глубокого покоя. Я выздоравливал.
Лежу неподвижно и часами смотрю в окно, на небо. Я в бараке, среди пленных. Слышу голоса и прислушиваюсь к ним. Вижу лица и вглядываюсь в незнакомые глаза. Пленные стали близкими и понятными.
— Сижу я, значит… — рассказывает тихий голос надо мной…
Слушаю неторопливый рассказ и радуюсь. Я жив. И вокруг все живые. И баланду скоро принесут, а мне врачи пришлют «пулягу»[22].
— А тот, в яме, тоже мертвый. Задохнулся, как поэт на него навалился. Попробовал я его вытащить, не могу. Отечный, тяжелый такой. Раздел я его в яме. Сам оделся. Главное, хорошие ботинки попались: подметки крепкие, а верх вида не имеет. Значит, полицаи не отберут. Но потом-то я намучился. Кто был в Хэльме, тот знает: снимать одежду — снимай, только потом тащи мертвеца в трупарную, не то полицаи прибьют. Спасибо, ребята научили: кальсонами за шею и тащи. По грязи он сам поплыл. И того, поэта, стащил в трупарную. Жалко стало.
— Слышь, танкист, ты не про Чумака? Тот Чумак все к фашистам лез, что в лагерь приезжали. Себя «местным поэтом» называл. Стихи писал: «Мы Гитлера сыны…»
— Нет. Этот был ничего, свой. Из Москвы, говорил. Мы таких гадов, как Чумак…
— А ты помалкивай. Вон, лежит снизу.
— А ничего. Он свой. Из Парижа, но свой.
Я чуть не заплакал. Одиночество кончилось.
Потом делили хлеб. Как все, я был поглощен наблюдением за выверкой самодельных весов: коромыслом служила длинная палочка, подвешенная на веревочке. На концах коромысла, на ниточках, висели две заостренные короткие палочки, на которые натыкали кусочки хлеба. Крошки сыпали сверху на хлеб, чтоб уравновесить, если разница в весе была невелика. Или, если один кусок был заметно тяжелее другого, от него осторожно отщипывался кусочек и откладывался в сторону. Для довеска. Точно поделить хлеб было большим искусством, и все напряженно следили за дележкой.
Разложив порции на дощечке, санитар осторожно шел вдоль нар, клал куски и сыпал крошки в протянутые ладони, сложенные в виде миски.
Потом санитар выложил на дощечку еще один кусок хлеба, который он выменял на сапоги умершего накануне помкомвзвода, и спросил: «Кому?»
Молчание длилось долго. Наконец чей-то голос спросил: «Танкист?»
Лежащий на верхних нарах танкист — на него смотрела вся штуба — утвердительно кивнул и сказал: «Когда снег сойдет».
Ему отдали хлеб.
О побегах из Гаммерштейна я расскажу отдельно.
Потом пришел Черемисин. С немецкой газетой в руках. Он взял табурет, сел у печки и стал рассказывать. Все слушали, и я слушал. Политинформация!
Черемисин рассказывал, что немцев остановили под Москвой. Что идут тяжелые бои. Что гитлеровцы отступают, что освобожден Волоколамск. Черемисин рассказывал и рассказывал. Про Москву, про метро, про Сталина. Потом он стал пересказывать когда-то виденные кинокартины. Про Ленина, про депутата Балтики, про Комсомольск-на-Амуре. Он говорил и говорил. В бараке было тихо и радостно.
И так каждый день. Черемисин ходил из барака в барак. Что-то переводил по слогам из газеты, что-то выдумывал. Иногда просто пел песни.
Вы вейтесь, дорожки, одна за другою В раздольные наши края… —пел Черемисин чуть хрипловатым голосом, и я слушал, зачарованный.
И пусть не меня, а ее за рекою Любая минует гроза… Звени, золотая, шуми, золотая, Моя золотая тайга.Господин бывший сотрудник гестапо в Праге, юнец из Гаммерштейна хочет вас спросить про посылки и про открытки. Какие? Да те, которые посылали из Нью-Йорка его родители. Они искали его через Красный Крест в Женеве. Вы открытки не получали и ничего не знаете о них? Про «Nacht und Nebel» вы тоже ничего не знаете?
Бросьте, господин сотрудник гестапо! Хотите, я вам покажу кипу открыток от немецкого Красного Креста, которые мама получила в США, тогда еще нейтральной стране? И которые она мне потом привезла в Москву? Что там сказано, в этих открытках? Что сын, мол, получил посылку и благодарит, что с ним все в порядке. Вы это не писали? Так кто же их писал, эти открытки? Кто получал посылки моих родителей и международного Красного Креста? Кто подсунул мне через этого прохвоста с золотыми зубами культуру Rickettsia Prowazekii вместо противосыпнотифозной вакцины?
Дело в том, что для вас, господин из гестапо, не было советских военнопленных. Были враги и были перешедшие на вашу сторону предатели. Я не стал бы тем, кем я стал, если бы вы мне передавали тогда посылки и письма из, дому, если бы вы мне не подсунули культуру возбудителя сыпного тифа. Вы заставили юнца, которым я был в Гаммерштейне, сделать выбор, и он его сделал.
С тех пор прошло сорок лет. За эти годы много, много раз сменились клетки тела. Изменилась психика. Вот клетки мозга, те не обновляются, они только постепенно умирают. Где-то глубоко в подсознании хранится то, что было. Вас не тревожит, что у кого-то где-то в глубине нервных клеток еще хранится прошлое?
Прошли десятилетия. Все, кажется, забыто. Мы сидим с Наташей за столом, говорим о детях. И вдруг на ее глазах слезы. Знаете почему? Потому что мои руки, выйдя из-под контроля сознания, машинально собирают крошки хлеба на скатерти.
Скажите, вы не задумывались над тем, как умирали тогда десятки тысяч людей? Обыватели в Европе не знали о них или делали вид, что не знают. Победа Гитлера казалась совсем близкой, и омрачать ее не хотелось. Проще было закрыть глаза. Но вы-то видели, вы-то действовали сознательно! Неужели вас не испугало то, как умирали эти люди? Неужели вы действительно так ограниченны, что искренне поверили в «азиатскую тупость»?
Как могли вы не понять, что эти люди просто не приняли вашу Европу? Вы наглядно доказали то, о чем они раньше читали, но никогда воочию не видели, что капитализм перерождается в империализм, что психология буржуазии и мещанства порождает психологию фашизма и насилия!
Разве вы могли после этого победить Черемисина?
Отказ советских людей от вашей Европы был смертным приговором для нее!
Вы говорите, что пленные не увидели тогда настоящей Европы, не испытали радости обеспеченной жизни, не приобщились к культурному наследию Европы.
Вам ли, господин гестаповец, говорить о духовных ценностях Европы? Однако, по существу, вы правы. Это один из фундаментальных вопросов в нашей дискуссии, и мы еще поговорим об этом подробно. Но потом, после рассказа о концлагере Штуттгоф. Хорошо?
Вы готовы признать, что тогда, опьяненные близостью победы, теоретики фашизма допустили ошибку: надо было не уничтожать, а кормить советских пленных, вести среди них тонкую, убедительную пропаганду, учитывать исторически сложившиеся особенности русской души. Что-то в духе тех программ, которые разработали в наши дни специалисты «психологической войны» против коммунизма. И тогда пленные перешли бы на вашу сторону.
Вы очень наивны, господин бывший гестаповец! Разве наши враги не вели и не ведут сейчас тонкую психологическую пропаганду, когда они не уверены в победе? Но когда победа уже кажется достигнутой, как поступил фашизм тогда, как поступает империализм в наши дни? Вспомните Хиросиму и Нагасаки. Вспомните, что делали французы в Алжире, американцы во Вьетнаме. О Вьетнаме я Могу вам рассказать подробно. В качестве врача я многократно бывал там во время вьетнамской войны. Поверьте мне, что методы, которые там применялись, были вашими методами.
Вы сказали: «Все еще впереди!» Разве это не означает, что, попадись я снова в ваши руки, вы вторично не промахнетесь, как тогда с культурой Rickettsia Prowazekii?
Фашизм не был бы фашизмом и вы не были бы гестаповцем, если бы было иначе. Стоит ли напоминать основные положения из «Майн кампф» и «Мифа двадцатого столетия»?[23]
Писать о семье и Латинском квартале было легко. Между студентом и его окружением особых противоречий не было, можно было легко переходить от Студента к другим и обратно. Из общего психологического контекста выпадала только Тильда. Чем подробней описывал я ее внешне, тем меньше мог передать ее внутренний мир. Писать о событиях в Латвии стало значительно труднее. Студент замкнулся в себе, почти оторвался от реального мира. Он потускнел на фоне событий того времени. Мой двойник стал вмешиваться все активней в рассказ, дополнять его. Когда же речь дошла до Гаммерштейна, писать стало просто не о чем. Студент оказался одиноким.
Вы, наверное, обратили внимание на то, что человек в штатском, Седой, Курт описаны подробней, чем товарищи по плену. Это потому, что врагов Студент понимал лучше, они были из той же среды, что он сам.
Что касается советских людей, то в Гаммерштейне с ними установились только первые, слабые нити взаимопонимания.
ПОДВИГ?
Двадцать лет лежит эта рукопись у меня в столе. И ждет своего завершения. Ни голыми фактами, ни лирикой не отделаешься: погибшие требуют правду. Но добраться до истины может тот, кто сам дорос до нее. Годы уходят. Хватит ли сил?
Писать все труднее. Чем дальше, тем глубже лежит истина под слоем событий.
Буду думать, писать и снова думать.
Психологический перелом произошел зимою.
Осенью сорок первого года умиравших от голода и тифа пленных мучили отчаяние и стыд. И страх. Неужели все погибло? Но страна выстояла, выстояла Красная Армия. В Гаммерштейне выстояла в ту зиму кучка людей. Когда войска Гитлера были отброшены от Москвы, разжалась костлявая рука, сжимавшая горло пленных. Вопреки ожиданию фашистов с восточного фронта поступало все меньше пленных. «Третьему рейху» требовалось все больше рабочих рук. У пленных появилась надежда выжить.
Из громкоговорителей, установленных гитлеровцами в Гаммерштейне, постоянно напоминали слова Сталина, который будто бы сказал, что у нас нет военнопленных, есть только предатели Родины.
Пропагандисты Геббельса ошиблись.
Пережившие зиму сорок первого года доходяги знали: пощады от фашистов не будет. Жесткие слова Сталина успокоили. Там, в Москве, тоже знают: схватка насмерть. Вызов Гитлера принят. Партия и народ не отступят.
Не было сил, но была ненависть. В доходягах родилась воля к борьбе.
Из тех, кто выжил, выкристаллизовалась монолитная масса молчаливых людей, психологически непоколебимых. Предатели откололись, большинство пленных погибло, но те, кто остался, прошли такую закалку, что никакой коррозии больше не поддавались. Они стали бескомпромиссными врагами. Терпеливыми и хитрыми, упорными и непроницаемыми. С таким людским материалом господину в штатском сталкиваться еше не приходилось.
Господин в штатском был большим специалистом по выискиванию скрытых агентов, раскрытию законспирированных организаций и их сетей. Но ни сетей, ни агентов в лагере не было. Ничего не было. И военнопленных не было. Была монолитная масса врагов, ничем себя не выдававших, замкнутых и упорных. Испугался тогда господин в штатском или опять не понял?
Французы с удивлением и уважением смотрели на советских людей, стали делиться едой. Москва выстояла! Вероятно, это ненадолго, но все же.
Само слово «доходяга» исчезло. С весны сорок второго года бывшие доходяги замкнулись, ни слова больше о прошлом, и стали думать о будущем. Сказывалась работа Черемисиных и тех, кто собрался вокруг них.
Из котелка Черемисин сделал портсигар. Хороший портсигар: полированный, с замком, с русским узором. И променял портсигар на кипу немецких газет. Оба были довольны: и Курт и Черемисин.
Вскоре у Черемисина появился набор пилок, напильников и шкурок. Выпуск портсигаров достиг десяти штук в месяц. Курт приносил старые котелки и фляги и забирал готовую продукцию. Теперь Черемисин имел все газеты, продававшиеся в Гаммерштейне, и даже те, которые присылали французским пленным из Франции. Через пару месяцев в ревире работала небольшая мастерская: под руководством Черемисина умельцы мастерили много занятных и изящных вещиц. Курт подкармливал мастеров и забирал продукцию: она обменивалась во французском лагере на шоколад и сигареты. А те, в свою очередь, на деньги.
Потом произошло событие, внешне малозначительное, но ознаменовавшее начало длительной и упорной борьбы в лагере. В ревир, как обычно, привезли баланду с лагерной кухни. Баланду получали на кухне полицаи, выбирали из жижи все съедобное, привозили чаны с баландой в ревир. Так вот, Черемисин подошел однажды к полицаю, привезшему баланду, отобрал у него черпак и со всего маху ударил полицая черпаком. В это дело были вовлечены все, и шеф полицаев Рязанцев, и Курт. Кончилось тем, что выпороли полицая, а за баландой на кухню стали ездить санитары ревира. Курт не дал своих мастеров в обиду.
С этого дня Черемисин мог работать спокойно: ни один полицай не совался в больничный барак, где постукивали молоточки и пели напильники. Курт стоял на страже своего предприятия.
За портсигарами и брошками последовали деревянные фигурки и раскрашенные игрушки, имевшие вполне товарный вид. Теперь Курт следил за тем, чтобы кухня отпускала ревиру всю полагавшуюся еду.
Постепенно унтер проникся большим уважением к политруку, который немного говорил по-немецки, внимательно читал фашистские газеты и был скрупулезно честен в делах.
Весной сорок второго года русских стали посылать на «аусенкомандо» к «бауэрам», то есть на полевые работы к крестьянам. Это было жизненно важно, потому что, возвращаясь из аусенкомандо, пленные приносили картофель.
В ревире появились мастеровые: портные, сапожники и даже инженер. Это был пожилой человек; он соорудил печурку и по ночам варил картофель и брюкву, которые приносили с собой пленные из аусенкомандо. Из десяти сваренных картофелин он брал одну себе.
Каким-то путем в ревир стали поступать обувь и одежда из французского лагеря. В починку. И отправляться обратно. Переносом вещей из лагеря в лагерь занимались старички солдаты, сменившие молодых, отправленных на фронт. Они были рады сделать это за пару сигарет. Жизнь в лагере постепенно менялась, и по утрам уже не громоздились у барака врачей горы умерших с голоду. А в дальнем бараке ревира собирались люди, о которых ни я, ни кто другой из врачей ничего не спрашивал. Вообще надо сказать, что пережившие зиму сорок первого года никого ни о чем не спрашивали. Санитаром в том бараке был старик с белой бородой, по прозвищу Борода или Капитан.
После войны мы успели побывать у него дома, в Сумах. Его фамилия Мессарош. Член партии с дореволюционным стажем, он руководил первой партийной ячейкой в Гаммерштейне. В 1942 году.
Черемисин прекратил политинформации, рассказы и песни. Со второй половины сорок второго года их заменили сводки Совинформбюро. Со всеми подробностями. Вероятно, знали о них не все. Передавались они по какой-то никем не созданной, никем не законспирированной цепочке. Собственно говоря, и самой цепочки не было. Были бывшие доходяги, которые, не сговариваясь, делали общее дело.
Рассказ был бы интересней, если бы я мог придумать подпольную сеть в Гаммерштейне, с явками, конспирацией и т. д. Поймите, не могу — этого не было. Меня не покидает ощущение, что умершие следят из-за моего плеча за тем, что я пишу.
Постараемся добраться до сути и понять, как все происходило. На конкретных примерах.
Вот Петя, например. Он прибыл с гражданским транспортом — так называли партии людей, пригоняемых в Гаммерштейн с востока или отправляемых из лагеря дальше на запад, обычно в Норвегию. В гражданском транспорте оказалась группа детей от восьми до двенадцати лет. Без родителей, запуганные и голодные. Их мыли в бане французского лагеря.
Один из мальчишек долго смотрел на старую красноармейскую гимнастерку, бывшую на мне, потом спросил:
— Дядя… как попасть на военный завод?
— Зачем?
— Сожгу его. Или машины испорчу.
Я оглянулся на немецкого конвоира. Мальчик испугался:
— Дядя… вы наш?
Глажу остриженную головку:
— Не бойся.
Курт разрешил оставить мальчика в нашем ревире уборщиком и рассыльным.
Человек в штатском, вероятно, никогда не узнал, что именно Петя был виновником провалов многих планов гестапо в русском лагере.
Свой детский путь на Голгофу Петя прошел добровольно и честно. До конца. В двенадцать лет он уже дорос до принятия решений и еще не научился сомневаться в них.
Или Михайлов. Этот немолодой человек, бывший учитель, прибыл с военным транспортом. При заполнении карточки в картае, он спокойно заявил, что он коммунист, политработник Красной Армии. К счастью, в тот день карточки заполнял переводчик Сергей.
Ко мне примчался Петя.
— В картае больной. С тифом.
— Кто сказал?
— Сергей.
Это серьезно. В картай отправляется военврач Геннадий Мякинин. С термометром, неизменно показывающим 40°.
Удивленного Михайлова поволокли прямо в инфекционный барак. Минуя гестапо, абвер и полицаев. Сергей сам заполнил карточку. Начальник картая Эрих приказал вымыть помещение карболкой и проветрить. Михайлов выздоровел, поумнел, освоился и был передан своим на кухню. В капеллу.
Проезжая через Красногорск, что под Москвой, зайдите к пенсионеру, бывшему директору школы, Михаилу Ивановичу Соломонову (Михайлову). Он из тех принципиальных коммунистов, немного старомодных, с которыми стоит поговорить о прошлом.
Бывало, из картая, так же под руки, минуя абвер в гестапо, уводили «тифозного больного» другого сорта. Сергей молча показывал Геннадию справку о сотрудничестве с фашистами, которую ему вручил «заболевший», и сжигал ее. Такие больные не выздоравливали.
Все это шло как-то само собой, буднично. Без лишних слов.
Кухня, ревир, картай — это уже была сила, способная противостоять полицаям и в какой-то степени абверу и гестапо на территории лагеря. Вскоре были взяты под контроль связи с французским лагерем и с аусенкомандами: «айзенбанкомандо», «шнайдемюлькомандо», «бауэркомандами» и др.
И потом в лагере был Миша Флейта!
Если бы я был писателем, я написал бы про Мишку Флейту отдельный рассказ. И не один, а много рассказов. Вы бы смеялись и плакали, читая про похождения этого удивительного парня, еврея из Одессы. Более неугомонного балагура и враля, более храброго и верного друга у меня не было и не будет. Ради товарища он был готов снять с себя последнюю рубаху. Конечно, снимая одной рукой рубаху с себя, другой рукой он тащил три с зазевавшихся французов, полицаев или немецких конвоиров. Не переставая при этом играть на флейте. Мишка спас много людей, накормил много голодных. Он знал все, мог все, всегда был готов на самые дерзкие поступки. Конечно, он попадался. Обычно выкручивался, иногда его пороли. Больше других. Но много меньше, чем полагалось по лагерным правилам. Однажды его пороли по приказу самого коменданта лагеря гауптмана Лемке. Получив сколько-то ударов, Мишка спокойно встал, подтянул штаны и заявил, что больше без разрешения вышестоящего начальства он, Лемке, назначать не имеет права. По лагерным правилам. Лемке открыл рот от изумления и пошел проверять. Мишка оказался прав. Лемке написал рапорт по начальству. Через полгода пришел приказ на порку. Ее получил полицай, с которым Мишка Флейта за пачку сигарет, добытых у французов, успел обменяться лагерными регистрационными номерами. После порки полицай очумело сказал: «Хайль Гитлер» — и поплелся к себе в барак.
Мишка живет в Харькове. Он музыкант, хороший музыкант. Долгое время работал в военном оркестре.
В Гаммерштейне Мишка организовал капеллу. Настоящую. С музыкантами и хором из 6—8 человек.
Что наплел Мишка гауптману Лемке и господину в штатском про «русскую душу», я уж не знаю, но Лемке, кажется, действительно поверил, что работать русские могут только под «Дубинушку» и воспринимать пропаганду только под ямщицкие напевы. Лемке достал музыкальные инструменты и организовал капеллу.
Перед бараком, куда ее поместили, Мишка выложил камешками ноты. Первые такты песни «Широка страна моя родная…».
«Гут, зер гут», — похвалил Лемке. И даже попытался напевать: «Вольга, Вольга, майне мутер…»
Мишку знали все — и в русском лагере, и во французском, и среди немцев, и среди населения городка Гаммерштейна, и в самых отдаленных командо. Не знаю, как далеко распространилась бы молва о Мишке Флейте, если бы он не бежал из лагеря в сорок третьем году. Но об этом потом. Полицаи предпочитали с Мишкой не связываться. В ревире Мишка был своим. Ему всегда давали все, что он просил, и, если нужно было, его клали на время в ревир. В особых случаях, по его просьбе, в инфекционный барак, куда гестапо не заглядывало. Заболеть Мишка не боялся и действительно ничем не болел.
Петька обожал Мишку Флейту и, когда тот был в ревире, не отходил от него. Они вдвоем что-то мастерили, шептались, а по вечерам, сидя на ступеньках у входа в барак, тихо напевали: «По всем океа-нам и странам развеем…»
И, наконец, о Сейфуле. Угрюмом татарине, которого само гестапо выбрало и назначило уборщиком в комендатуру лагеря на основании тщательного изучения анкетных данных. Молча принял Сейфула назначение, молча переселился в «форлагер», молча убирал, мыл и стирал. Молча отдал Пете ключ от служебного кабинета гауптмана Лемке. Черемисин изготовил второй ключ: открылся доступ по ночам к радиоприемнику в кабинете коменданта лагеря. Когда в награду за честный труд Лемке налил рюмку вина Сейфуле и предложил выпить за взятие Сталинграда, Сейфула ударил Лемке пресс-папье по голове. Так же молча, не проронив ни слова, Сейфула поднялся на виселицу и был повешен.
«Избиваемый плетьми, оплеванный, в терновом венке, он нес свой крест на Голгофу…»
«И распяли Христа солдаты Понтия Пилата. И с ним распяли двух разбойников. И, умирая, обратился один из них ко Христу…»
Он говорил искренне, подняв лицо к темнеющему вечернему небу. Над черной толпой возвышался темный силуэт священника с широко раскинутыми руками. На фоне проволочных заграждений.
Стояла полная тишина. Многие впервые слышали пересказ этой древней легенды. Она странно звучала в Гаммерштейне. И находила отклик в душах людей.
«И воскрес он на третьи сутки…»
Легкий ветерок пробежал по толпе.
— Ой ты, ноченька, ночка темная… — вступила капелла. Церковных песнопений капелла не знала. Но это не нарушило таинства.
А потом на трибуну поднялся широкоплечий сангвиник. Его голос зазвучал нагло и требовательно:
— Коммунисты — мерзавцы. А вы были с ними. Вы — христопродавцы и предатели родины. Вы подняли руку на цивилизацию и религию. На того, кто отдал свою жизнь за нас… Вы должны искупить свою вину. И вместе с нами спасти нашу родину и нашу веру!
Каким надо было быть подонком, чтобы обращаться с этими словами к бывшим доходягам! От имени Родины, от имени человека, распятого на Голгофе. Только чурбан, полнейший чурбан, мог не почувствовать, как в толпе проснулась ненависть.
— Мы с Гитлером. Мы победим. С нами бог!
Стало трудно дышать от ненависти. Она висит над толпой.
И тогда Миша сделал шаг вперед, повернулся к капелле и взмахнул флейтой. Грянула «Дубинушка»… «Сама пойдет, сама пойдет…» — неслось над проволочными заграждениями.
Вспыхнули прожекторы на вышках и стали настороженно шарить в сгущающихся сумерках. Точно искали кого-то.
Белоэмигрантские проповедники и фашистские агитаторы не раз приезжали в Гаммерштейн. Но ни в сорок втором, ни в последующие годы никто из Гаммерштейна не пошел служить Гитлеру. Кроме полицаев и ищеек гестапо.
Ашмянский говорил без единого жеста. Негромко, но очень четко, как на исповеди. Он откинул голову, прижался руками и спиной к голой дощатой стене. За тонкой стенкой был барак полицаев, а дальше — гестапо.
Жандарм вопросительно смотрит на сыщика, сыщик — на жандарма. С каким наслаждением жандармской кастой я был бы исхлестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт.Голос звучит глухо, без всякой эмоциональной окраски. Точно хочет сказать «вот стою я здесь и не могу иначе»:
Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!Голые стихи, голая действительность. Толпа, заполнившая барак амбулатории, молчит.
И вдруг точно порывом ветра сорвало крышу и опрокинуло стены. В Гаммерштейн ворвался зов Родины. Капелла запела песнь оттуда. Вполголоса, но земля колыхнулась.
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой… идет война народная, священная война».
Давя сапогами проволочные заграждения, полицаев и гестапо, по лагерю шагал советский солдат.
Разошлись молча, унося в себе неповторимое чудо — видение грядущего.
Это было седьмого ноября сорок второго года.
А потом был Сталинград. Понимаете, Ста-лин-град!
В темноте слабо светится шкала радиоприемника. Мы сидим пригнувшись, закрывая шкафу. Когда пробегает луч прожектора, из темноты появляется фюрер и со стены смотрит на нас. Его голос звучит из приемника.
Берлин передает речь Гитлера. Он обращается к отборным кадрам своей партии. Слышен гул толпы, изредка прокатывается тысячеголосое «хайль!».
Черемисин внимательно смотрит на меня. Он потребует, чтобы я дословно перевел все, что будет сказано.
Голос Гитлера постепенно нарастает, напрягается, как пружина, и вдруг взрывается:
«Ich weiß nicht wann der Krieg zu Ende kommt. Aber eins kann ich euch versichern: Stalingrad wird genommen!» — «Я не знаю, когда окончится война. Но в одном могу вам поклясться: Сталинград будет взят!»
Из приемника вырвался ликующий рев толпы.
Я похолодел. Сомнений не было.
— Они возьмут Сталинград. Так он сказал.
Черемисин встал.
— Сталинград они не возьмут!
Пробежал луч прожектора, осветил политрука. Из темноты вышел Гитлер.
В окно тихо постучали. Это Петя, который дежурит снаружи. Надо уходить.
Откуда знал Черемисин, что Сталинград не возьмут? В последующие дни он ходил по палатам ревира и говорил одно: «Сталинград не возьмут!»
Ему верили.
По приказу фюрера «третий рейх» погрузился в траур. По армии Паулюса, погибшей под Сталинградом.
Звездный час человечества! Его слабый отблеск мелькнул и в Гаммерштейне. Бесшумно перевернулась страница летописи Европы.
Над лагерем висел туман. Моросил дождь.
«Вставай, страна огромная…»
Бывшие доходяги вставали, готовились к побегам, ждали весны.
Бежали пленные из аусенкомандо, из самого лагеря. Совершили побег люди из дальнего барака ревира.
Бежал и я. В день пасхи.
Много раз писал я историю этого побега. Во всех подробностях. И каждый раз выбрасывал написанное. Под поверхностным слоем фактов, пусть увлекательных, где-то в глубине лежит истина. О ней и стоит говорить.
Почему я бежал весной сорок третьего?
Было, конечно, желание участвовать в борьбе, подняться на уровень событий героического времени. Но было и другое. Сейчас, в конце жизни, я не намерен хитрить и скрывать что-либо сам от себя.
Я был с советскими пленными, участвовал в общей борьбе. Мне верили, и если я выжил как человек, то только потому, что меня приняли. Но в чем-то я оставался одиноким. Не в том прямом, элементарном смысле слова, как это было в конце сорок первого года, когда доходяги отталкивали меня с ненавистью и страхом, а предатели преследовали своей злобной завистью, а в более глубоком понимании одиночества. Советские пленные напоминали цемент, который весной сорок второго года стал «схватывать», затвердевая в единую монолитную массу. Твердость возникала не из прочности отдельных песчинок, а из цементирующего начала, которое я ощущал, но не понимал. Я тоже твердел, но сам по себе, изнутри, оставаясь отдельным камушком. Воля к побегу родилась из эгоцентрического восприятия долга перед самим собой.
Думаю, что во мне, помимо ненависти к фашизму, жило смутное опасение перед той отчаянной, бескомпромиссной решимостью, которую я ощущал в Черемисине и других. Постараюсь объяснить.
Во-первых, меня испугал Мишка Флейта. Он как-то зашел ко мне в барак и спокойно вытащил из кармана револьвер. Немецкого образца, который он, как оказалось, выторговал у немецкого унтера, отправлявшегося на фронт. За несколько золотых коронок от пленных, умерших в прошлую зиму. У Мишки было мало патронов, но он предложил застрелить пару фрицев перед побегом и вооружиться. Я отказался. Мишка бежал с другими.
Во-вторых, Черемисин, не ограничиваясь русским лагерем, стал расширять свою пропаганду, устанавливать контакты с французами и даже с отдельными немецкими солдатами. Он давал переводить листовки о положении на фронте, поручал передавать их. Было ясно, добром это не кончится.
Потом в лагере появился Беспалый. Его так прозвали, потому что у него не хватало двух пальцев на правой руке. Это был белоэмигрант, как-то связанный с гестапо, который приехал из Берлина и тихо ходил по лагерю, ни на кого не обращая внимания. В нем было что-то такое, что вызывало непреодолимое ощущение гадливости. Через Сергея, переводчика картая, я узнал: Беспалый интересуется мной, даже как-то спросил о моем брате в Америке. Откуда он мог знать?
Ну, наконец, произошло странное событие, которое заставило меня отбросить последние сомнения и решиться на побег. Это событие остается до сих пор загадкой для меня. Поэтому, чтобы не гадать, опишу, как все произошло.
Кррр… Кррр… — поскрипывает, мерно раскачиваясь, самодельное кресло-качалка, сколоченное из неоструганных досок от ящиков. После непривычно сытной еды — консервы с картошкой и даже чашка желудевого кофе — наступило состояние умиротворения. Усыпляет мирное поскрипывание качалки, напоминает что-то давно ушедшее в прошлое.
Де Менонвиль (предупреждаю, что в этом небольшом эпизоде фамилии изменены) задумчиво смотрит на меня и молчит. Мне редко удается бывать во французском лагере и провести там пару часов с главврачом французского ревира. Но когда это удается, я чувствую себя перенесенным в уголок нереального и родного мира. Нормальная еда и разговор по-французски, на милом языке моего детства, на котором можно так легко, в чуть ироничной форме выражать все, что мучает тебя, — это настоящий праздник. Пиршество для тела и ума. В духе Боккаччо.
— Сохраним трезвость среди безумия, — закончил де Менонвиль дискуссию о будущем и вспомнил Монтеня: — Vérité en deçà des Pyrénées, erreur — au delà» «По эту сторону Пиренеи — истина, по ту сторону — заблуждение».
Я не согласился:
— Нет, истина — в действии. И да простит меня Декарт, primum vivere, deinde cogitare[24].
Он усмехнулся, остановил качалку и, на что-то решившись, вышел. В комнату вошел омонье — католический священник в военной форме. По соглашению с правительством Виши военные священники назначались в лагеря французских военнопленных для обслуживания верующих. Невысокий, с темной бородкой, омонье подошел ко мне и из нагрудного кармана вынул небольшую католическую икону.
— Спрячьте. Посмотрите внимательно, — сказал священник, вручая мне икону. И вышел.
Вернулся де Мононвиль и продолжил прерванный разговор.
После возвращения в русский лагерь под конвоем старичка солдата, с которым де Менонвиль расплатился, как обычно, парой сигарет, я дождался ночи и принялся рассматривать иконку. Она легко вскрылась, и из нее выпали немецкие деньги, пропуск во Францию для вольнонаемного рабочего-француза, работающего в Германии, и инструкция на тонкой папиросной бумаге. Вот ее дословный перевод:
«Купите билет в железнодорожной кассе в Шнайдемюле. Поезжайте до такого-то пограничного пункта (название местечка я забыл). Выйдите на перрон и ждите отхода поезда. Имейте на голове берет. К вам подойдут. Сожгите этот листок».
В ту ночь я не спал. До утра я просидел, прислонившись к наружной стене барака в ревире русского лагеря, и думал, думал, думал, думал. Когда рассвело, решение было принято. Я вложил деньги и пропуск в икону, заделал ее и спрятал на балке под самой крышей барака. Там она и осталась. Я не воспользовался протянутой рукой. Почему?
Это было скорее интуитивное, чем обдуманное решение. После сорок первого года я уже не был студентом из Латинского квартала и еще не стал человеком, готовым к смертельной схватке с врагом. И потом, в подсознании была мысль о Беспалом. А вдруг икону подсовывает гестапо? Простите, господин де Менонвиль, за это оскорбительное для вас предположение, промелькнувшее тогда в моем уме, но случай с Rickettsia Prowazekii и зима сорок первого пометили меня, как всех доходяг.
В былинах сказывается, на развилке дорог лежал камень, и написано было на нем…
Я выбрал тогда самый нелепый путь: бежать с французским зубным врачом, с которым я подружился, добраться до Кенигсберга, а оттуда — в Швецию. Уйти от смертельной схватки в обезумевшей Европе.
Но страница истории уже перевернулась.
Большая рыжая корова неторопливо щиплет траву, пережевывает ее, делает несколько шагов и снова принимается щипать траву. Анри — зубной врач спит в канаве на опушке леса. Сижу рядом и, зачарованный, не спускаю глаз с коровы. Корова перестала щипать траву, подняла голову и смотрит на тропинку из леса. Между деревьев мелькает пестрый тирольский сарафан с широкой юбкой. Его носила Тильда в Пуаньи. Конечно, это она. Она выходит из леса и идет по тропинке, мимо меня. Задумчиво смотрит перед собой. Солнце освещает нежный румянец смуглой щеки. Руки засунуты, как всегда, в кармашки замшевой куртки. Колышется юбка, взлетают бабочки из травы. Корова следит за Тильдой взглядом. Позвать? Сказать, что я бежал из плена? Что снова готов бороться?
Я счастлив, так счастлив, что не могу шелохнуться. Я не позвал ее. Не мог нарушить очарование. Тильда не заметила меня. Скрылась за кустами.
Можете не доказывать мне, что это была галлюцинация. Что видения бывают после тифа, голода, побоев. Я и сам знаю, Тильды там не было. Но ведь я видел ее! Понимаете, видел! Мог потрогать ее руками, поговорить с нею.
И потом, почему корова следила глазами за цветастым сарафаном? Почему взлетали бабочки, когда Тильда проходила по полю?
Это были минуты полного счастья. До сих пор не угасло во мне чувство благодарности судьбе за царский подарок перед последними испытаниями.
Дни проходили за днями, недели за неделями. Мы шли на северо-восток.
Вначале мы прятались от случайно встреченных людей, но потом убедились, что некоторые крестьяне делают вид, что не замечают нас, хотя, вероятно, догадываются, что мы беглецы. Пленные, работавшие на фермах, даже кормили нас и пускали ночевать.
Часть дороги мы прошли пешком, часть проехали в пустых товарных вагонах. Наконец мы добрались до Кенигсберга и спокойно прошли через весь город до самого порта, неся на плече длинное бревно. Никто нас не задержал, а полицаи останавливали движение на площадях, чтобы нас пропустить. Нас приютили французские и бельгийские военнопленные, работавшие в порту.
И тут выяснилось, что дальнейший путь в Швецию закрыт. Ввиду участившихся побегов немцы стали заполнять газом трюмы кораблей перед их выходом из порта.
Мы пошли дальше на восток в надежде добраться до Прибалтики.
Это случилось средь бела дня, такого же тихого и мирного, как все предыдущие. Когда мы отдыхали у дороги, мимо нас проехал на велосипеде мальчик лет четырнадцати. Мы даже не обратили внимания на то, что на нем была форма гитлерюнгенда. Мальчик развернулся, подъехал к нам вплотную, остановился.
— Вы военнопленные? Бежали?
Мы встали, подошли. Дорога была пустынной. Мальчик испугался, побледнел. Прошла минута. Мы не решились схватить мальчишку. Он вскочил на велосипед и укатил.
Все было кончено. Через несколько часов нас схватили.
Бог с тобой, маленький прыщавый доносчик из гитлерюгенда! Я рад, что не задушил тебя тогда.
Допросы, тюрьма, допросы. И снова Гаммерштейн. Избитого, со связанными руками, меня провели по лагерю, чтобы показать: побеги бесполезны. Помню, как Геннадий шепнул: «Федор, держись», когда меня проводили мимо ревира, как Сергей пытался мне что-то передать, но его отогнали.
Ну вот, пожалуй, и все. Хотя нет, надо еще кое-что добавить.
Вскоре в ревир русского лагеря в Гаммерштейне гестапо подослало своего провокатора, некоего Зинина, кажется, зубного врача из Воронежа. Он покрутился в ревире несколько месяцев и выдал восемьдесят три человека. Когда Зинин отбирал людей, Петя не выдержал, заплакал, достал пилотку со звездочкой, которую хранил под матрацем, и стал с теми, кого выдал предатель. Его тоже увели.
В концлагерь Штуттгоф меня отвозил Седой.
Была минута, когда в купе поезда, кроме Седого и меня, никого не было. Накинуться на него, вырвать револьвер, застрелить, собаку?
Судьба предоставила мне эту минуту, чтобы я мог доказать: я достоин своего героического времени. Достоин Тильды.
Я не смог. Нет, никакого подвига я не совершил.
ДЖЕНТЛЬМЕН № 23191
Вы, конечно, знаете, что такое «черная дыра» во вселенной? В нее непрерывно устремляется поток материи. И исчезает.
Концлагерь Штуттгоф был «черной дырой», куда непрерывно стекались человеческие жизни. И исчезали.
Понятие «черная дыра» лежит за пределами нормальной психики. Заглянув в «черную дыру», никто больше не мог полностью вернуться к прежней жизни.
Мой друг Бринкман, например. После войны он поехал домой, в уютный Копенгаген, и прожил десять счастливых лет как ни в чем не бывало. Но вот он случайно посетил Штуттгоф и прошелся по концлагерю. Посмотрел на комендатуру, которую в послевоенные годы переделали в дом отдыха, на остатки бараков. И замкнулся. «Черная дыра» схватила его. Он вернулся домой, простился с женой и детьми и покончил с собой.
Касаться «черной дыры» в подсознании опасно.
Тильде понадобилось много сил и терпения, чтобы прикрыть тонким слоем живой материи «черную дыру» в моем подсознании. Буду писать осторожно. Даже самые тяжелые и отвратительные факты мало что дают для понимания «черной дыры». Она — за фактами, в глубине сознания.
Всю жизнь я думал над «черными дырами» фашизма. Они появлялись в определенных условиях. В концлагерях, например, где уничтожали толпы морально сломленных людей. Их отчаяние было предпосылкой для появления «черной дыры». Вот в Гаммерштейне «черной дыры» не возникло. Пленные преодолели отчаяние и выплюнули полицаев и шпиков из своей среды. Но там была общность мировоззрения советских военнопленных и растущая неуверенность большинства солдат, охранявших лагерь.
Концлагерь — дело другое. Особенно в первые годы войны, в пору торжества фашизма. Многоязычная, разнородная толпа людей погибала за два-три месяца, прежде чем успевали возникнуть нити взаимопонимания и доверия. И палачи были другими — фанатически преданными фашизму, молодыми, безжалостными, убежденными в своем расовом превосходстве. Во времена инквизиции доминиканцы гордились тем, что были Domini canes — псами божьими. Эсэсовцы концлагерей были псами фюрера и гордились этим.
Помню Майера с татуировкой-свастикой в углу глаз, по обе стороны носа.
В живом котле концлагеря клокотали отчаяние и страх. Пеной всплывали подонки — псы псов. Вот тогда и раскрывалась «черная дыра». Вращались гигантские жернова и перемалывали, как зернышки, человеческие судьбы. Дробили личное достоинство, надежды и убеждения. Перетирали духовные ценности Европы.
Дурманило псов не убийство, а сознание безграничного господства над жизнью. Убить личность человека было куда важнее, чем убить тело человека. Иногда попадались особо твердые зернышки. Отдельные хранились в концлагере как раритеты. Для забавы.
Помню тощего немца с горящим взглядом, который приветствовал эсэсовцев, вскидывая кулак. Его не трогали. За десять лет в нем убили все живое, кроме этого последнего отчаянного протеста. Он был экспонатом, обломком уничтоженных немецких антифашистов.
— Рот фронт! — выкрикивал тощий гефтлинг — заключенный в полосатой робе и, вытянувшись, вскидывал кулак.
— Хайль Гитлер! — отвечал эсэсовец. И улыбался.
Сладостное опьянение властью! Оно питалось отчаянием погибавших человеческих личностей. Страх жертвы переходил в ужас, опьянение палача — в экстаз всемогущества. Зияла «черная дыра». Калечила людей.
Может быть, еще где-нибудь живут бывшие псы фюрера и псы псов и млеют по ночам от дурманящих сновидений? И просыпаются в холодном поту.
Хочу слегка приоткрыть завесу над «черной дырой», где я был. В надежде — слабой надежде, что это хоть чуточку поможет избежать в будущем появления «черных дыр», которых было так много в истории человечества.
Страшно не потому, что это было, а потому, что это может быть снова. Ибо это живет в каждом из нас.
Концлагерь Штуттгоф был совсем маленьким — когда я попал туда, существовал только «старый лагерь» — и ютился он на задворках большого красивого дома комендатуры. Низкие деревянные бараки, покрашенные в зеленый цвет, были расположены в виде удлиненной буквы П. Вокруг стояли сторожевые вышки. В глубине торчала высокая массивная труба крематория.
От первого дня в концлагере остались только обрывки воспоминаний.
Лебедь изогнул шею, распустил крылья и поплыл.
Заколыхалась листва, дрогнула красная крыша и распалась на яркие блики, качнулись стены с широкими окнами: исчезло отражение большого красивого дома.
Отвожу взгляд от поверхности бассейна и стряхиваю дрему, навеянную журчанием фонтана, теплым сиянием солнца и тишиной.
Перед большим домом яркий ковер цветов. По обе стороны серые фигуры солдат-эсэсовцев, неподвижные как изваяния, с широко расставленными ногами и автоматами на груди. Аккуратно переступая длинными тонкими ногами, прямо по цветам подошла цапля и с большим достоинством приветствовала меня, щелкнув клювом.
«Как в сказке об оловянном солдатике», — подумал я и взглянул на пухлые облака на небе.
Было тихо и красиво, но сердце сжалось от недоброго предчувствия. Я понял: у нарядного замка оканчивается мир живого, мир человеческих страстей и надежд. Что дальше?
Как льдинка в глубине души затаилось чувство обреченности.
Стою у проволочного заграждения, подразделяющего лагерь на две половины. По одну сторону бродят по кругу плоские фигуры в полосатых платьях и косынках. Должно быть, женщины. По другую сторону на корточках сидят гефтлинги. Ряды грязных голов с пробритыми полосами выровнены в безупречном порядке. На изможденных лицах тупое усердие. Вытянув руки вперед, гефтлинги изо всех сих стараются удержать руки на весу и не упасть.
В дверях барака стоит проминент в чистом полосатом костюме с мюцей на голове. Он ест хлеб с мармеладом и поглядывает на гефтлингов.
— Это вам не санаторий, детки мои! А ну, Франц, поддай жару, если в вальдколонну не хочешь. Пусть попрыгают. Это укрепляет ноги.
— Слухаю, пан штубовый, — отвечает долговязый парень и начинает бегать по рядам и кричать: — Прыгать! Раз… два! Раз… два!
Гефтлинги пытаются подпрыгивать. Издали они похожи на неуклюжих полосатых жаб. То один, то другой падает. Прикрывая руками череп и низ живота от ударов клюмпами[25], упавшие стараются подняться. Не всем это удается. Несмотря на побои, некоторые остаются лежать. С их исхудалых лиц сошло выражение страха и усердия, и осталось только бесконечное безразличие.
Штубовый подходит, поворачивает головы носком ботинка, чтоб заглянуть в лицо, и выносит решение:
— Этим пора на покой.
Воспользовавшись передышкой, гефтлинги встали на колени, тяжело присев на пятки и опустив головы. Они даже не смотрят, как тащат в сторону обмякшие мертвые тела. Впрочем, один из мертвых приходит в себя и возвращается на свое место, к живым.
С остальных снимают одежду, пишут жирный номер на костлявой груди и, схватив за ноги, тащат по песку в глубь двора, где уже лежат рядами «отдыхающие». Один из мертвецов приподнимается. Он смотрит на свой голый живот, на большой фиолетовый номер и начинает оглядываться. Отыскав трубу крематория, он ползет к ней и ложится в ряд «отдыхающих».
— Рушайся, рушайся![26] — кричит штубовый.
— Рушайся, рушайся! — доносится из-за проволоки звонкий женский голосок. В дверях женского блока появилась миловидная блондинка.
Оборачиваюсь на женский голос и с удивлением смотрю на округлости груди и бедер под полосатым платьем, ловко подогнанным по фигуре.
Вдруг ощущаю опасность со спины, но не успеваю оглянуться.
— Баб захотелось?
Оглушенный, утыкаюсь лицом в проволочное заграждение. Пытаюсь повернуться, но безуспешно. Голова раскалывается. Тут замечаю, как дуло пулемета на ближайшей вышке разворачивается в мою сторону. С трудом отползаю от проволоки и встаю.
В бараке, в полутемном углу, за занавеской из старых одеял стоит столик. За ним сидит шрайбер, записывает «цугангов» — прибывающих — и распределяет их по штубам. Заметив, что у меня разбита голова и я с трудом стою, он показывает, чтоб я сел на нары.
У шрайбера мягкий акцент западных немцев. Продолговатая голова, покрытая серой щетиной. Длинное лицо с узким лбом и запавшими висками. Острый нос. Большой рот, прямой как щель. За стеклами железных очков сухо поблескивают серые глаза. На груди фиолетовый винкель.
— Не попадайтесь блоковому, — советует шрайбер. — Хотя бы сегодня… — Подумав, шрайбер достает кусок хлеба: — Нате. Можете спрятаться в углу за нарами, среди грязных одеял.
Забившись в угол, жую хлеб и смотрю на сгорбленную спину шрайбера. За занавеской крики, ругань, топот ног, гефтлингов то выгоняют, то вгоняют обратно, раздаются глухие удары. А шрайбер сидит неподвижно. Он склонил голову, ушел в себя и шепчет молитву.
Потом в бараке воцаряется тишина. Слышны только приглушенные голоса блокового Эмиля, штубового и еще кого-то.
— Тому, кто донес, дашь черпак цуляги, — распоряжается Эмиль. — А поляка, что набрехал вчера, отправить в трубу. В трубу, понял? А не в ревир, к своим. Как русский?
— Ночью говорил, что, когда Советы придут, всех проминентов повесят. И в первую очередь блоковых. Сказать Мюллеру?
— Не надо. Сами управимся. Давай его сюда.
Через несколько минут кого-то приводят.
— Собачий зад! Свинья советская! Сволочь! — шипит блоковый, кого-то избивая. — Держать его прямо!
Начинается допрос. Отвечает приглушенный, охрипший голос по-русски.
— Я врач… я говорил, что надо вместе всем держаться. Полякам, немцам, русским. Против фашистов.
Снова удары. И тот же голос:
— Не буду.
— Вы у меня все сдохнете, русские свиньи!
И опять удары. Наконец Эмиль, запыхавшись:
— Давайте вы. Но поосторожней. Чтоб не прикончить. Избиение длится мучительно долго. Наконец тишина.
И слабый хрип:
— Наши придут…
А шрайбер все неподвижно сидит за столом и шепчет молитву.
— Убирайся с блока ко всем чертям! — кричит на него Эмиль, отдернув занавеску.
Шрайбер встает и тихо:
— Я уйду. Но ты, Эмиль, ответишь за эти убийства.
— Доносить на меня? Да я тебя, мой цыпленочек…
— Нет… — хрипит шрайбер. — Эмиль схватил его за горло. — Ты ответишь перед богом. Это страшнее…
Все смеются. Блоковый отпускает шрайбера.
— Бибельфоршеров можно не бояться. Им Библия запрещает доносить, — говорит Эмиль веселым голосом. — За дело, ребята! Давай веревку. Тащи его в «вашраум»!
Вскоре голос штубового доносится из умывальной:
— Зачем привязывать? Прижмите к полу, а я потяну.
Короткая возня. Потом тишина.
Мне виден кусок пола между нарами. Вот промелькнули ноги в полосатых брюках, потом труп на поводке. Шею сдавила веревка, бритая голова с «дорожкой для вшей» откинута набок.
— За что я люблю тебя, Эмиль, — говорит вкрадчивый голос штубового, — так это за уменье поддерживать порядок.
— Порядок должен быть! — соглашается Эмиль. — Раньше был порядок в Штуттгофе. Не то, что теперь.
— Зеленка тряпка, и Леман тряпка, — продолжает штубовый. — Помнишь, как они сдрейфили, когда надо было вешать эту девчонку, пухленькую… Только Козловский…
— Хочешь совет? — прерывает Эмиль. — Когда Козловский будет тебя вешать, проверь веревку. Он тебе нарочно подсунет гнилую.
— Внимание! — раздается в дверях. Все вскакивают.
— Господин обершарфюрер, — рапортует блоковый, — на четвертом блоке двести восемьдесят гефтлингов. Все на работе, кроме блокового, штубового и шрайбера. Особых происшествий нет.
— А кто там валяется с веревкой на шее?
— Русский. Удавился.
— Сам? — с иронией осведомляется обершарфюрер.
— Сам, — весело отвечает блоковый, попадая в тон шутке. — Лишь бы не работать. Вредят как могут. Не усмотришь.
— Вот что, — говорит обершарфюрер, — все вон, кроме тебя и тебя.
Хлопает дверь.
— Ну что ж, присядем. Поболтаем, как добрые друзья.
Это сказано мягко, почти нежно. Наступает молчание.
— Что ж получается? Ваш старый друг Мюллер вам больше не по душе? — тихо, почти грустно спрашивает голос. — А он так верил своим друзьям! Ну что же вы молчите, мои канареечки, а?
Слова падают одно за другим в жуткую тишину.
— Кто из вас написал вот это? Да, да, вот эту бумажечку? О своем верном друге Мюллере. Ну, мои канареечки?
— Господин обер… — Голос штубового сорвался.
— Слушаю тебя, мой дорогой.
Длительное молчание.
— Приказал Майер… — выдавливает из себя штубовый.
— Так это ты написал, мой цыпленочек? — удивляется мягкий голос. И с огорчением: — Как печально разочаровываться в людях.
Это сказано почти шепотом. Но каждое слово падает точно лопата земли в могилу покойника.
— Господин обершар… — пытается начать вдруг охрипший голос.
— Я твой духовник, моя душечка, и назначу тебе покаяние. Придется вернуться к старым обычаям. Ты как полагаешь, Эмиль?
Эмиль смеется грудным, низким смехом.
— Не надо… — прохрипел голос.
— А как же, мой родной? Папаша Мюллер на все согласен.
— Я… сам…
— Этим ты нас так огорчишь!
Эмиль опять смеется. Куда-то убегает и вскоре возвращается.
— Вот веревка. Крепкая.
— Эмиль, поухаживай за другом. Достань мыло. Подготовь все.
Наступает тишина. Наконец голос Эмиля из умывальной:
— Готово. Иди!
— Прощай, дорогуша, — с грустью произносит обершарфюрер. — Буду ждать полчаса. Порядок должен быть, правда? А я люблю аккуратность.
Спотыкаясь о нары, штубовый уходит. Закрывается дверь умывальной.
— Эмиль! — говорит обершарфюрер деловым тоном. — Проверишь через полчаса и сообщишь. Понятно?
— Так точно, герр обершарфюрер!
Хлопнула входная дверь. Ровно через полчаса в просвете между нарами проехал на поводке второй труп. Потяжелее, упитаннее. Но так же откинута набок голова с «дорожкой для вшей».
Гимн Штуттгофа я выучил вечером, стоя на коленях во дворе лагеря. В строю гефтлингов четвертого блока.
Темнеет. На лиловом небе догорает закат. В сумерках белеют «дорожки для вшей» на склоненных головах. Шумят сосны и медленными, размеренными волнами звучит гимн Штуттгофа:
Auf den Dünen erbaut, an dem Östlichen See, Zur Zeiten geschichtlicher Wenden… На сыпучем песке, у морских берегов, В дни боев и великих свершений, Был построен рабами концлагерь Штуттгоф Ценою смертей и лишений. В лютую стужу и летний зной Работали слабые руки. Эта песнь не умрет, как умрем мы с тобой, И в ней будут жить наши муки.Зашло солнце — мы поем.
Зажглись прожектора — мы поем.
Мы будем петь и стоять на коленях, пока не поймают беглецов. Свора спущена, черные рыцари на охоте. Беглецы не уйдут. Море, Висла и ее рукава ограничивают большой треугольник, из него выхода нет. А мы будем ждать, пока принесут в лагерь бежавших. Порядок должен быть!
…Эта песнь не умрет, как умрем мы с тобой, И в ней будут жить наши муки.Прерывая пение, с крыши сияющего огнями замка СС зазвенела труба.
Слышится лай собак. С факелами в руках в лагерь входят черные охотники. Впереди невысокий человек в кожаной куртке. У его ног черная овчарка. За ним несут затравленных беглецов. Их руки и ноги связаны и продеты на палки. В ритм шагов болтаются головы, свисают клочья полосатой одежды.
— Выше головы!
Поднимаем головы. Непокорных рабов проносят перед нами.
Первую ночь я провел не на четвертом блоке, а в «бункере».
За мной пришел проминент и кратко сказал блоковому, указывая на меня: «В бункер!»
Вместо объяснений проминент обвел пальцем вокруг шеи, потом показал мне жестом, куда идти.
Тусклая лампочка освещает одиночную камеру в бункере. Чистый цементный пол, аккуратно покрашенная дверь с глазком, тщательно вымытые доски нар. Решетчатое окно под потолком. Где-то за стенами бункера скребутся и лают собаки, возбужденные недавней охотой.
Лежу на нарах и машинально читаю надписи на стенах. Почему-то запомнились три из них: «Dear old England, help us!»
«Дорогая старая Англия, помоги нам!» — написано по-английски. «Козловский — кат», «Когда капуста, в брюхе пусто. Грохувка завтра».
Не хочу и не могу восстанавливать в памяти эту ночь. Я забывался в короткой дреме, снова машинально читал надписи и снова забывался. В ушах звучала подслушанная «исповедь», и перед глазами стояла картина возвращения с охоты «черной братии». Немыслимые, но реальные, они не укладывались в сознании. Я чувствовал, что что-то смещается в душе, исчезают привычные точки опоры. Нечеловеческий мир «черных повелителей» вызвал непреодолимое чувство ужаса и гадливости. Меня тошнило от «черной дыры», и не было спасения от нее. Она сломила меня. Утром я был одним человеком, вечером стал другим.
Я искал опору в когда-то прочитанных книгах, но мир, в котором я жил до этого дня, распадался на куски. Я был гол и беззащитен перед «черными владыками».
Я обратился за помощью к отцу. Безуспешно. Он не услышал меня. Я видел его, как из глубокой ямы. Тогда я обратился к матери. При всей своей внешней хрупкости и беззащитности мама никогда не поддавалась отчаянию. Даже в той экстремальной ситуации, единственной на моей памяти, когда отец надломился и, запершись в комнате, глухо рыдал за закрытыми дверьми.
Мама пришла ко мне в бункер. Принесла утешение своего безграничного терпения и несгибаемой веры в конечную победу справедливости. Мама рассказала о своей трудной и прекрасной жизни, о которой я не знал. Прощаясь, она притянула мою голову к себе: «Потерпи немного, мой мальчик. Только до завтра. А там все уже будет позади. «Черной дыры» не бойся. Я не оставлю тебя: меня повесят рядом с тобой». Как всегда, мама верила в мое мужество. Ко мне вернулась капелька человеческого достоинства.
Когда приближался рассвет, я был готов к испытанию. С облегчением я почувствовал, что хватит сил, чтобы подавить внешние проявления отчаяния. Никто не увидит, что я сломлен. Если церемониал будет хорошо отлажен и надо будет только достойно сыграть свою роль, у меня хватит сил на это. Ни на что больше, но на это хватит.
Под утро я заснул.
Когда послышались шаги и в замке повернулся ключ, я приступил к исполнению роли, отрепетированной мысленно за ночь. Я стал у стены и начал напевать вполголоса песенку, которую мы когда-то пели в Латинском квартале. Теперь и до самого конца сосредоточиться на песенке, не сбиться с нее. Мама рядом.
На виселице стоя, на Францию с тоскою глядя, я увидал своих друзей, понятно вам? Увидел я друзей давно минувших дней.Глупая песенка, но ничего другого у меня не было.
Не знаю, сыграл бы я свою роль до конца, но думаю, что принятое тогда решение было правильным. В дальнейшем я не раз видел, как навязанная самому себе роль облегчает встречу со смертью. Вспоминаю, например, поляка, который был повешен в Штуттгофе. Он бодро поднялся на виселицу и с веревкой на шее, приподняв театральным жестом «мюцу», громко сказал, обращаясь ко всем: «До видзения, панове!» Он избежал «черной дыры».
Во всяком случае, глупая песенка, которую я пел в бункере, облегчила начало экзамена по анатомии, который мне пришлось сдавать тут же, не выходя из бункера. Экзамен с револьвером.
Когда открылась дверь, в бункер вошел худощавый офицер и уставился на меня. Я продолжал напевать французскую песенку.
— Ты врач? — спросил он, помедлив.
Я кивнул.
Он расстегнул кобуру и вынул револьвер. Приставил его к моей груди.
— Через какие органы пройдет пуля, если я выстрелю?
Я ответил по-французски, потом перечислил органы по-латыни.
— А теперь? — продолжал офицер, приставляя дуло револьвера к животу. Потом к виску.
Я отвечал спокойно. «Черной дыры» не было. Мама с интересом следила за моими ответами.
Офицер махнул рукой. Меня увели.
Не знаю, поймут меня те, кто не проходил через подобные испытания, или нет, но когда я выходил из бункера, я был счастлив. Как это ни странно — счастлив. Отчаяние вдруг сменила радость — казнь отложена — и гордость — экзамен выдержан. И не только по анатомии.
Во мне на миг проснулся студент из Латинского квартала. Иронический, веселый, уверенный в своей счастливой звезде. Смерть? А ну ее к лешему! «Ну как, выкусила, старая?» — подумал я, сдержав улыбку.
В «бекляйдунг»[27], куда меня повели, было темно, и я наткнулся на гору лохмотьев. Привыкнув к темноте, я увидел старые шкафы, разбитое зеркало и две женские фигуры в полосатых робах. Я вежливо поклонился:
— Bonjour, mesdemoiselles.
— Одеть его, — рявкнул толстый эсэсовец за моей спиной и вышел.
— Мой рост 172, — сказал я. И добавил: — Люблю, чтобы куртка была свободной и с открытым воротником.
Женщины уставились на меня. Одна из них понимала по-французски. Она вышла и — о чудо! — принесла новенький, выглаженный полосатый арестантский костюм. И даже сменила куртку на более свободную.
Потом к костюму пришили мишени. Одну мишень сзади, на спине, две — на штанах, на бедрах, одну — спереди слева, на месте сердца. Я посмотрел в зеркало, попросил пришить мишень чуть выше, как носят ордена. Женщины с удивлением смотрели на меня.
Наконец пришили винкель[28] — красный, «шпиц до гуры», что значит «политический, неисправимый», и рядом с винкелем номер 23191.
В завершение меня постригли под машинку и пробрили посередине черепа полоску — «лойзенштрассе» — «дорожку для вшей».
— Merci, mesdemoiselles, — поблагодарил я, улыбнувшись.
— Raus! Вон! — заорал эсэсовец, появившийся в дверях.
Меня отвели в самый конец лагеря, в ревир, и заперли в небольшой комнате. Посередине комнаты стоял стол, по стенам — двухъярусные койки, чистые, с одеялами, каких мы не знали в Гаммерштейне. Под потолком было небольшое окошко с занавеской, заделанное решеткой. Еще не понимая, что это означает, я сел на одну из коек и просидел в одиночестве весь день.
Под вечер пришли польские врачи-арестанты. Как я потом узнал, офицеры бывшей польской армии. Они молча стали разглядывать меня. На красном винкеле у меня была буква R, что означает «русский».
Недоброе молчание длилось долго. Наконец один из офицеров сказал:
— В тридцать девятом году вы всадили нам нож в спину.
Э нет, джентльмены, так не пойдет. Это удар ниже пояса. Я встал.
— У меня нет пижамы с собой. И зубной щетки, — сказал я спокойно.
Офицеры уставились на меня.
В комнату вошел худощавый поляк — как я потом узнал, капо ревира — и поставил миски на стол, разлил в них баланду из бачка. Мне миску он не поставил. Старший из врачей поколебался, потом процедил сквозь зубы:
— Дай и этому…
Капо принес старую грязную миску и швырнул ее мне на конец стола. Плеснул туда жижи.
Нет, дорогие мои, это не по-джентльменски! В холуях я у вас ходить не буду.
Я покрутил ложкой в миске и отодвинул ее от себя (бог свидетель, что это был героический жест). Офицеры перестали есть и снова уставились на меня.
— Где можно помыться перед сном?
Старший офицер показал на стенку:
— Здесь рядом.
Все ухмыльнулись. Я встал и пошел в соседнее помещение.
Цементный пол, в углу большая ванна, обложенная кафелем. Рядом сложены трупы избитых, замученных гефтлингов. Ах вот что! Вы думаете, я сломаюсь? Я открыл кран и, умываясь, запел веселую французскую песенку:
Пока маркиз ваш сладко дремлет, Маркиза, выйдем в летний сад…Потом вернулся в комнату врачей и сказал:
— Извините, я забыл представиться. Сопрунов Теодор. Визитной карточки с собой нет. Адрес: Риверсайд Драйв, 425, в Нью-Йорке. После войны прошу в гости. Где моя койка?
Капо ревира сделал еще попытку:
— Сегодня повесили одного… коммуниста.
— Неужели? — ответил я, устраиваясь на койке.
Капо отдернул занавеску на решетчатом окошке.
— Вот виселица! — сказал он с угрозой.
— Хорошо, посмотрю завтра. — Я повернулся спиной и мгновенно заснул. Я был на пределе.
Джентльмен № 23191 получил временно право жизни в Штуттгофе. До выяснения личности.
Одна из самых отвратительных особенностей «черной дыры» фашистского концлагеря заключалась в том, что в ней пробуждалась национальная вражда между заключенными. Эсэсовцы подстрекали поляков доносить на русских, литовцев — на поляков, немецких уголовников — на политических и т. д. Вражда возникала и сама по себе, потому что надежда выжить была ничтожной, а борьба за жизнь — отчаянной. Возникали враждующие группировки, которые уничтожали друг друга.
В сорок третьем году ревир старого лагеря был «черной дырой», и я видел много такого, о чем я писать не могу, не хочу.
Что касается меня, то я был вроде канатоходца над пропастью. Начав играть роль джентльмена-одиночки, я вынужден был продолжать эту игру перед шпиками, уголовниками, эсэсовцами, перед всеми. Никому не признаваться в своем отчаянии. Балансировать на высоте или сорваться вниз.
Бывали редкие минуты просветления. Обычно после еды, в вечерней полутьме.
— Сошью себе костюм на Маршалковской. Такой костюм… такой… эх! — мечтает вслух врач-гинеколог из Варшавы.
А маленький лысый терапевт начинает вспоминать праздничный стол на рождество. С поросенком и выпивкой. И машинально потирает руки. Немецкий зубной врач-уголовник врет про золотые перстни и шикарные виллы, а профессор-литовец вспоминает свою лабораторию и мечтает о научной карьере.
Но вот вдруг несется по коридору крик: «Затемняй, затемняй!»
Ожившие было люди снова каменеют. Побледневшие лица замыкаются, и в полутьме уже сидят, согнувшись, не люди, а лагерные номера. Каждую неделю поступает из Берлина список номеров. И когда-нибудь твой номер будет в списке.
Хирург задернул занавеску. Стало совсем темно. Сидим и ждем, пока это кончится там, за окном. На виселице. Тише, она здесь, она бродит за стеной барака…
Нужно сказать, что за ревиром, там, где перед входом в крематорий стояла виселица, обычных гефтлингов не вешали. Там вешали офицеров вермахта, важных чиновников или промышленников и таинственных дам в вечерних платьях. Их привозили в черном лимузине, и все происходило торжественно, с почестями. В белых перчатках.
Смерть, как женщина, наряжалась для парадного вечернего приема высоких гостей. А наших «крюпелей» — доходяг она встречала по-домашнему. И милостиво освобождала от страданий.
Каждое утро к ревиру пригоняли толпу понурых «крюпелей», тех, у кого не хватило сил выйти в этот день на работу. Как хозяин ревира, обершарфюрер Хаупт, по прозвищу Боров, встречал по утрам крюпелей и быстро рассортировывал: одних — лечить (обычно это были проминенты или свежеприбывшие номера), других — лупить (по мнению Хаупта, эти отлынивали от работы), третьих — списать, как отслуживших свой срок. Эти составляли большинство. После осмотра они переходили из категории крюпелей в категорию «кандидатов». И все понимали, что это означало.
Врачи отправлялись по палатам к тем, кого приняли в ревир, а Боров, капо и штубовые приступали к работе. Боров запирался в крайней комнате, у которой было несколько дверей, одна — во двор, где лежали на земле или понуро сидели вдоль барака «кандидаты», другая — в сторону крематория. Постепенно редела толпа крюпелей во дворе и росло число трупов у крематория. Время от времени приоткрывалась дверь в коридор и высовывалась волосатая рука Борова. Капо подавал свежеприготовленный шприц.
Кончив работу, Боров приходил в комнату врачей и мирно беседовал с капо и штубовыми.
Это длилось до осени сорок третьего года. Осенью гефтлинги были переведены в большой новый лагерь, построенный рядом со старым. Ревир был расширен. Стали класть в ревир всех крюпелей, и Боров отказался от своей утренней «работы». Это мало что изменило вначале: поступающие были в таком состоянии истощения, что спасти их было невозможно. Они умирали в бараках ревира. Только в сорок четвертом году, когда исход войны становился все более очевидным, питание больных улучшилось, появились медикаменты и смертность стала снижаться. Перед самым концом войны в ревире были оборудованы современная операционная и зубоврачебный кабинет (?!).
«Черная братия» пыталась скрыть следы своих преступлений.
В этот день меня назначили обслуживать цугангов. Я дежурил у бочки с дезраствором в маленьком темном помещении, рядом с душевой. Один за другим входили голые цуганги и залезали в бочку, для дезинфекции. Я должен был следить за тем, чтобы они окунулись полностью, с головой.
— Привет! — раздался вдруг знакомый голос. Передо мной стоял голый Мишка Флейта.
— Ты что, старых друзей не узнаешь? — удивился Мишка и добавил: — Закрой рот.
— Как… ты?
— Потом поговорим. — Мишка оглянулся и понизил голос. — Слушай. Ты можешь это быстренько исправить? Ну, здесь! — Мишка указал на детородящий орган. — Не можешь? Нет? Интересно, чему тебя учили в твоей Сорбонне!
Мишка задумался, потом решился:
— Ладно, научи меня по-французски. Конечно, сейчас. Тебе сказано, закрой рот. Ты что? И по-французски забыл?
— За…чем?
— Мама у меня француженка. А отец — турок. Понимаешь? Нет? Ну, Турция. Есть такая страна. Мусульмане там. Понял? Ну то-то. Не забудь. Переведешь. А теперь давай твой французский.
Через пять минут, когда вошли в душевую врач СС и Боров, Мишка Флейта приветствовал их на сносном французском языке. Боров уставился на меня. Я кивнул и объяснил, что отец у цуганга — турок, а мама — француженка. Врач СС заинтересовался, подошел, стал ощупывать и рассматривать Мишкин череп. Потом подтвердил:
— Романский череп.
— Мерси боку, мосье, — вежливо сказал Мишка, прикрывая руками низ живота. И добавил: — О ревуар, мосье.
Когда врач СС и Боров вышли, Мишка повернулся ко мне:
— Не знал, что у нас в Одессе бывает романский череп. Может, француз заезжал? Ладно, увидимся. О ревуар, Студент.
Я сдержал улыбку, на душе потеплело.
Мишка получил красный винкель с буквой F, что означало «француз», и отправился в новый лагерь, который достраивали в Штуттгофе.
Вскоре произошло небольшое событие, которое сыграло большую роль в моей жизни. Событие, о котором я буду помнить до конца моих дней. И когда за мной придет она, я подмигну ей и спрошу: «Помнишь?» И я знаю, что она тоже улыбнется.
Исчезла цапля коменданта концлагеря, а потом его любимый лебедь, который так безмятежно плавал перед красивым замком комендатуры! Его съел Мишка Флейта.
Как он это сделал, я рассказать не могу. Не потому, что не знаю, — Мишка мне не раз объяснял, как это было, — а потому, что не знаю, на каком из вариантов Мишкиных рассказов остановиться. Можно думать, что в похищении «вкусной, жирной птицы», как выражался Мишка Флейта, участвовал какой-то заключенный польский ксендз (во всяком случае, о нем упоминается в двух вариантах рассказа).
Вам, конечно, непонятно, почему я уделяю столько внимания лебедю коменданта. Постарайтесь понять. Белоснежный лебедь перед строгим, безмятежно красивым замком коменданта был символом нерушимости черного порядка. А Мишка съел лебедя! Случилось невероятное, невозможное! Украли символ, исчез зловещий талисман.
Мишка и «черная дыра» были два взаимоисключающих начала. Или он, или она. Мишка съел белого лебедя. Рано или поздно «черная дыра» должка была исчезнуть.
Почти два года проработал я врачом в инфекционном отделении ревира. Это отделение называли «шайсбараком», потому что большинство больных в отделении страдало дизентерией. А меня называли доктором Гертнером. Это прозвище возникло само собой. С наивным упрямством я брал пробы у всех поступающих в отделение и требовал проведения бактериологического анализа. Боров смеялся от души, но брал пробы и приносил ответы лаборатории. Кто писал ответы, не знаю, но текст всегда был один и тот же: «Высеян возбудитель Гертнера». Так я и стал доктором Гертнером.
В Штуттгоф я впервые вернулся лет через двадцать после окончания войны. От «шайсбарака» оставались только кирпичный фундамент и три ступеньки на том месте, где была раньше входная дверь.
Я долго стоял перед этими ступеньками и не решался их переступить. Потом я поднялся по ступенькам и пошел по покрытой снегом площадке, на том месте, где раньше стоял «шайсбарак». Три шага прямо — здесь был узкий коридорчик. Потом направо — в две небольшие палаты. В сорок третьем году здесь лежали проминенты, в сорок четвертом — литовские эренгефтлинги, датчане, норвежцы, французы и те же проминенты, с которыми к концу войны много меньше считались и которых уже не боялись, как прежде. Я мысленно прошел вдоль бывших здесь нар, вспомнил многих, и друзей и недругов. Потом я вернулся назад, в коридорчик, повернул налево. Здесь были две маленькие комнаты: одна — для капо барака. В сорок третьем году капо был уголовником — он избивал и убивал больных крюпелей, он мог ударить меня за малейшую провинность и донести на меня Борову. В сорок четвертом году капо барака сменили. Был назначен поляк, по натуре человек незлобивый и неглупый, который помог изменить порядки в «шайсбараке» и наладить хоть какое-то лечение. Другая комната была для медперсонала, в углу стоял маленький столик, за которым я обычно сидел и с которым связано для меня так много добрых и недобрых воспоминаний. Я долго стоял у того места, где когда-то был столик, и не мог справиться с нахлынувшими воспоминаниями. Вспомнил литовского профессора Старкуса, французских студентов Вея и Кинцлера, которые сидели со мной за этим столиком, многих других. Потом пошел дальше, через бывший вашраум, в большую палату. В сорок третьем году здесь была страшная грязь и стояло ужасающее зловоние. Это была палата больных дизентерией. Поступающие больные, даже не очень ослабевшие, быстро погибали от кровавого поноса, и ничего, ровным счетом ничего нельзя было сделать для их спасения. В сорок четвертом году здесь наступил перелом. Удалось навести чистоту и порядок, получить кое-какие самые элементарные медикаменты, и если не прекратить, то снизить смертность. В этой палате лежали в основном поляки и русские. Я мысленно прошел вдоль нар, на которых погибло столько людей, и в самом конце бывшего «шайсбарака» остановился на том месте, где когда-то в маленькой клетушке с отдельным выходом стоял оцинкованный стол и был умывальник. Эта клетушка называлась секционной и предназначалась для патолого-анатомических вскрытий.
Я вышел из несуществующего, но такого реального в моих воспоминаниях «шайсбарака» и оглянулся. На белом снегу следы шагов расчертили бывшее внутреннее расположение бывшего «шайсбарака».
К счастью, в тот день я был не один. Со мною был норвежец, старый друг по Штуттгофу[29], который работал когда-то со мной в ревире. Мы тут же уехали. Больше я никогда не повторял этот эксперимент — пройтись по несуществующим палатам «шайсбарака». Хотя мне не раз еще приходилось бывать в Штуттгофе на встречах бывших гефтлингов концлагеря и выступать на митингах у памятника погибшим, к бараку я больше не приближался.
Ничто не утешает и не ограждает надежней от нестерпимо трагического прошлого, чем торжественные памятные церемониалы, предназначенные в основном для посторонних.
— Не исключено, что это дифтерия, — оказал профессор Старкус и провел рукой по остриженной, круглой как шар голове. Он снял очки и протер стекла краем рваного халата. — В сильно ослабленном организме процесс может распространиться на все слизистые. Как вы думаете, коллега?
— Надо бы окрасить мазки. Посмотреть не биополярность.
Профессор кивнул.
Профессиональная беседа за маленьким столиком. Попытка хоть на короткое время уйти от реальности, забыть про «черную дыру». Но она была рядом.
В этот день Боров застрелил цуганга. Якобы при попытке к бегству. На самом деле потому, что Борову донесли, что цуганг при поступлении в концлагерь проглотил колечко с драгоценным камнем.
Труп лежал на оцинкованном столе секционной. Рядом стоял Боров и внимательно следил за нами. Склонившись над раковиной, мы промывали содержимое кишечника убитого. Старкус был бледным, его руки дрожали. Профессор, где же ваша наука? Где наша профессиональная этика?
Найденное кольцо я зажал в левой руке. За спиной стоял Боров.
И вдруг, через тонкие стенки барака послышалось громкое многоголосое пение:
Броня крепка, и танки наши быстры, И наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, Своей любимой Родины сыны.— Раз, два! — скомандовал знакомый голос Черемисина. И грянул припев:
Гремя огнем, сверкая блеском стали, Пойдут машины в яростный поход, Когда нас в бой…— Was ist los? — заорал Боров и бросился к наружной двери.
Профессор показал глазами на дно раковины. Я бросил кольцо в сливное отверстие. Мы выпрямились и уставились на открытую дверь.
Колонна из восьмидесяти трех советских военнопленных, привезенных из Гаммерштейна, вступила в концлагерь Штуттгоф.
Они вошли строем, печатая шаг, бросая открытый вызов «черной братии». В колонне был Черемисин. В Штуттгоф залетела искра гражданской войны.
В группе восьмидесяти трех, прибывшей из Гаммерштейна, был старый доктор Флейшман. Его с трудом привели со станции узкоколейки и в первый же вечер, избитого, умирающего, принесли в «шайсбарак» ко мне. Что я мог?
Я сидел рядом и смотрел на его старые руки. Они были деятельными и добрыми, когда помогали мне во время сыпного тифа. Теперь они лежали на грязном матраце из рогожи, похожие на коряги, выброшенные на песок при отливе.
Ночью он пришел в сознание, посмотрел на меня.
— Каждый прожитый день… — начал он и не закончил, забылся.
Узловатые руки покорно лежали на матраце. Пульс еще прощупывался. Порой казалось, что теперь все, старое сердце остановилось, и я облегченно переводил дыхание. Но сердце вновь оживало, и с нарастающей тревогой я оборачивался на решетчатое окошко. Приближался рассвет. «Остановись, — молил я про себя. — Ради бога, остановись». Но удар за ударом старое сердце упрямо вырывало у смерти мгновения отсрочки.
Когда послышался голос Борова, я взял старика на руки и отнес в дальний угол общей палаты, где среди зловония умирали крюпели. Я скрывал свое преступление: Флейшман не имел права на ревир, на койку для проминентов, на которой он пролежал свою последнюю ночь.
Не хватило мужества пощупать пульс на прощанье. Прости, доктор Флейшман.
Господин бывший сотрудник гестапо в Праге, я обвиняю вас в том, что вы планировали насилие и уничтожение людей. Это был один из основных методов достижения вашей цели: мирового господства. Проводившееся вами систематическое массовое убийство ничем не было оправдано, кроме бредовых идей о превосходстве одной нации над другими. Концлагеря с их «черными дырами» не были, как вы иногда объясняете непосвященным, вынужденной ответной мерой с вашей стороны. Их создание было запланировано заранее. И осуществляли вы массовый геноцид именно тогда, когда считали себя победителями.
Во всем этом ничего особенно нового нет. Все это вытекает из исторического прошлого, из вековой борьбы капиталистических держав за рынки сырья и сбыта, за мировое господство. Просто вы довели до логического конца то, что было заложено в самой сути вашего общества.
Мы оба знаем, господин из гестапо, что с исчезновением гитлеровских концлагерей сама проблема не исчезла. Разве мы не слышим и сегодня из разных стран и континентов о расовом превосходстве, об избранности отдельных народов?
Сколько усилий, сколько жертв еще потребуется, чтобы понятие о равенстве рас и народов стало всеобщим? Как я могу не гордиться тем, что понятие о равенстве людей давно стало неоспоримой истиной для советского народа? Что это было первое понятие, освоенное моими внуками?
Я не толстовец, я смотрю на вещи трезво, и после жизненной школы, которую я прошел, я знаю, что изменения в мире не проходят без тяжелой, отчаянной борьбы, которая порой принимает форму гражданской войны и насилия. Гибель людей и уничтожение материальных ценностей — большое несчастье. Кому знать об этом, как не нашему народу?
Зарождающийся мир не нуждается в насилии — перед ним будущее, уходящий мир берется за оружие, потому что его торопит время.
«ЧЕРНАЯ ДЫРА»
В своем милосердии природа ограничила способности человека к восприятию радости и боли. Ни абсолютного счастья, ни абсолютного горя не существует. Чрезмерные страдания притуплялись в Штуттгофе, восприятие мельчайших радостей обострялось. Кусок хлеба, минутный отдых, тишина, тепло солнца, простое человеческое общение становились источником истинного счастья.
Общение было последней опорой. В ожидании смерти. И для тех, кто, пытаясь выжить, боролся из политических убеждений, и для тех, кто искал утешение внутри себя.
Я уже упоминал, что в «шайсбараке» была комнатушка, сразу слева, при входе. С решетчатым окошком, столиком и табуретками. Там можно было уединиться, забыться на время.
С этой комнатушкой так много связано, что я позволю себе несколько личных воспоминаний.
Здесь бывал тощий гефтлинг-антифашист с десятилетним концлагерным стажем. Я уже упоминал о нем. «Рот фронт!» — звучал его грудной голос, когда он появлялся в дверях.
Здесь я встречался с людьми. Не с номерами, а с живыми людьми, хранившими в себе теплящуюся искорку жизни, в угрюмых потемках «черной дыры». Здесь бывали Бринкман, Кьерульф и Нильсен из Дании[30].
Здесь я читал лекции о сыпном тифе и биохимии французским студентам-медикам Вею и Кинцлеру, привезенным в Штуттгоф в 1944 году[31]. Лекции в Штуттгофе! На час забывалась окружавшая нас жуткая действительность.
Здесь бывали поляки[32] и русские, англичане, эстонцы и литовцы. Литовцев привезли в качестве заложников в 1943 году. Один из них остался близким. На всю жизнь.
Он был высокий и нескладный. Полосатая роба арестанта балахоном свисала с его плеч, когда он сидел сутулясь, опустив длинные худые руки. У него были грустные глаза, смотревшие как-то издалека; он казался хрупким и немного нереальным, как трагический задумчивый Пьеро из пантомимы.
Он был Ehrenhäftling — «почетный заключенный». Это нелепое словосочетание шло к нему, подчеркивало его отчужденность.
Однажды он спросил, откуда прибыли «русские солдаты», имея в виду группу восьмидесяти трех из Гаммерштейна. Я ответил, что прибыли они из лагеря, что под Штеттином. Вспомнив далекое детство и перефразируя известные стихи, я добавил:
Штеттин, мой сын исчез в песках. Однажды под Штеттином.Он задумался, поправил меня «bei Schwerin» — «под Шверином», и прочел все стихотворение. Он хорошо знал немецких поэтов.
Вначале я слушал его с опасением. Потом понял, что он искренен. Он был из тех, кто не мог взглянуть в «черную дыру» не сломавшись и мечтал, чтобы выжить. Я стал вспоминать обрывки французской поэзии. Сруога особенно любил Бодлера и Верлена. Он напряженно вслушивался в то неуловимое, что скрывалось за музыкой слов.
Над крышей небеса Спят в голубом покое. Над крышей тополя Качают головою.Стихи в Штуттгофе! Не смейтесь. Сруога верил в Человека. Несмотря на все его мерзкие отступничества. Верил упрямо, отчаянно. И искал опоры в мире поэзии. Человечество обеднело бы, если бы исчезли те, кто способен мечтать на пороге смерти.
Сруога выжил, но не избежал «черной дыры».
После войны я прочел его «Лес богов». За горькой усмешкой звучал отчаянный крик о помощи. Рассказывая об увиденном, Сруога протягивал руки людям, отгораживаясь мучительной иронией от «черной дыры» в подсознании. Он не мог молчать и не мог взглянуть в «черную дыру», которая раскрывалась в его воспоминаниях.
Когда я приехал в Вильнюс, его уже не было.
Упрямый мечтатель из Вильнюса! Неужели никто не понял тебя? Не протянул тебе руку помощи?
Над крышей небеса спят в голубом покое…
Спасибо тебе, Сруога, за то, что ты не сказал ни одного дурного слова о русских, за то, что ты читал стихи Брюсова в Штуттгофе.
Петер был немцем. Служил в немецкой армии в чине капитана. Его так и звали — гауптман.
Гауптман попал в Штуттгоф за то, что где-то на восточном фронте отказался выполнить приказ о расстреле заложников — женщин и детей. Гауптман был из известной семьи, разбор дела затянулся. В Штуттгофе гауптман был одинок. Он ждал, терпеливо ждал. В полном одиночестве.
Худой, бледный, с просвечивающим лицом, он всегда держался очень прямо и полосатую робу гефтлинга носил как форму. На груди у него был фиолетовый винкель, хотя, как я теперь думаю, Петер не был бибельфоршером. Его отличала редкая черта, может быть, врожденная, но скорее приобретенная в Штуттгофе: вежливая сдержанность с оттенком обреченности.
Гауптман довольно долго лежал в «шайсбараке». Однажды он попросил разрешения посидеть в комнатушке и пробыл там до ночи, неподвижно сидя на табурете и не сводя глаз с грубо оструганного столика.
— Спасибо, — сказал он, вставая. — Большое счастье — побыть одному.
Гауптман стал заходить, каждый раз извиняясь. Он молча сидел у стола, очень прямо, ни на кого не обращая внимания. Он к чему-то готовился, что-то старался понять. Про умиравших в «шайсбараке» он как-то спокойно сказал: «Счастливые, они страдают только в своем теле».
Боров относился к гауптману с грубой издевкой, за которой сквозило не то удивление, не то презрение.
Гауптман пользовался редкой привилегией, которой пользовались далеко не все бибельфоршеры в лагере. Раз в неделю, под честное слово, он мог покинуть лагерь на несколько часов. Он возвращался точно в назначенное время и докладывал дежурному СС о своем возвращении.
Мы как-то незаметно сблизились. Он рассказал много событий из своего раннего детства, совсем незначительных, но, видимо, имевших большое значение для него. Слушая, я забывал на время о «черной дыре».
Однажды утром в списке, присланном из Берлина, оказался лагерный номер гауптмана. Никого это не удивило, точно все давно ждали этого. В том числе и сам гауптман. Он попросил разрешения покинуть лагерь, чтобы приготовиться к смерти. Его отпустили под честное слово.
Черной стеной стояли у виселицы офицеры СС. Гауптман чуть более бледный, чем обычно, но как всегда спокойный и отрешенный, вернулся точно в назначенный час, козырнул коменданту, который ответил, поднялся на виселицу и был повешен.
Смерть гауптмана потрясла меня. Мне долго казалось, что он еще сидит рядом, в каморке «шайсбарака», и рассказывает о своем детстве.
Я был искренне возмущен, когда Черемисин, которого я редко видел в то время, резко отозвался о гауптмане:
— Фашист. Думал только о себе. Наплевать ему было на нас всех. Ему честное слово дороже! Кому это честное слово? Фашистам? Да плевать на такое честное слово! Был на свободе и что? Хоть бы укусил перед смертью!
Черемисин был вне себя и не стал слушать мои возражения.
— Начхать на твою Европу, если она только так умеет бороться!
Гауптман отверг фашизм, но не вышел за психологические рамки среды, породившей фашизм. Черемисин жил в другом измерении. Он уничтожал фашизм.
Гражданская война разгоралась в Европе. Это все явственней ощущалось в Штуттгофе. Как стекаются в огромную воронку потоки воды во время грозы, так стекались в Штуттгоф остатки людей, восставших против фашизма. Их сгоняли для уничтожения.
«Черная дыра» переместилась из старого лагеря в новый. В ней исчезали толпы безропотных людей с желтыми звездами на груди, которых транспорт за транспортом привозили из разных гетто Восточной Европы и помещали в отдельных бараках. Конвейер смерти работал в полную мощность. Дымила труба крематория, пылали огромные костры за лагерем.
И еще об одном заключенном, бывавшем в каморке «шайсбарака». По национальности он был поляк, но прибыл из Западной Европы. Молчаливый, замкнутый в себе, он ни с кем не общался. Его повесили осенью сорок четвертого года. Он так и остался загадкой для меня.
Он сидел за маленьким столиком и рисовал. Огрызками цветных карандашей, которые носил с собой. На обрывках бумаги, которые удавалось достать для него.
Он рисовал молча, всегда одно и то же. Фантастических крылатых насекомых, переплетенных в яростной схватке: когтистые лапы раздирают мягкие ткани брюшка, жала впиваются в жесткие панцири, хищные челюсти отгрызают крылья. В многогранниках пустых глаз насекомых — отраженные блики. От ярких диковинных цветов, среди которых перекатывается клубок извивающихся в агонии тел.
И сегодня мне достаточно закрыть глаза, чтобы возникли передо мной эти кошмарные рисунки. Но я не поддамся искушению обвести контуры на бумаге и раскрасить. Боюсь, что рисунки оживут и с ним не справишься. Пусть потеряются в глубине прошлого.
Летом сорок четвертого года из раздавленной вермахтом Варшавы прибыл транспорт с остатками Армии Крайовой. Женщины с бело-красными повязками на рукавах стояли в женском отделении старого лагеря и с вызовом смотрели на здание эсэсовской комендатуры.
Столпившись у окна, мы смотрели на них из ревира. Студенты-французы Вей и Кинцлер были бледны и молчаливы, по лицу старшего врача-поляка текли слезы.
— За каждого убитого поляка, — глухо сказал хирург, — они расплатятся десятью своими. Мы ничего не забудем.
Когда я вернулся в «шайсбарак», в каморке сидел молчаливый поляк и, как всегда, рисовал. Он поднял отсутствующий взгляд, сказал:
— Наш путь только начинается. Тяжелый путь. Мы столетиями истосковались по своему, польскому. Мы выстрадали свое право на будущее.
И вернулся к насекомым.
Помимо живых, комнатушку «шайсбарака» посещали призраки. Особенно по вечерам, когда лагерь погружался в тревожные сумерки и за решетчатым окошком мелькали отблески огней комендатуры.
Летом сорок четвертого в моем сознании стала постепенно стираться грань между живыми и мертвыми.
Приходили в комнатушку цыган, плясавший перед смертью, когда его вели в газкамеру, и учитель из Эстонии, который умер от истощения. От него осталась в памяти ономатопея — набор непонятных звуков: «Сеонсемаа, кусминухел, кордкикусямаисадел, сетлаулгемнуяикака, сеилусмаа, онминукодумаа»[33]. Приходил и погибший в лагере моряк из Шотландии, который оставил на столе запись карандашом:
«Life is but a hollow bubble, just a painted piece of trouble. You come to this world to cry, you grow older and you sigh, older still and than you die»[34].
Но чаще других приходила незнакомка, повешенная весной сорок четвертого года.
Я увидел ее мельком, приподняв занавеску на окошке в комнате врачей, выходившей, как я уже говорил, прямо на виселицу, что стояла за проволочными заграждениями, сразу за ревиром.
Торжественный церемониал был окончен. Палачи ушли. В сумерках одиноко висело стройное женское тело в черном платье. Светились матовой белизной беспомощно упавшие руки. Волнистые волосы падали черным покрывалом на лицо. Я отшатнулся от окошка. Что-то очень знакомое почудилось в облике.
Я не мог забыть ее. Конечно, я понимал, что это случайное сходство. Что это не «она». Но мельком увиденный образ не исчезал. Особенно мучили руки. Они были так похожи на «ее» руки. Всматриваясь в очертания, я искал доказательства своей ошибки и не находил. Нелепые сомнения росли. А вдруг?
В темноте каморки — матовые призрачные руки! Они или не они? А вдруг?
Этот день августа сорок четвертого остался в памяти как один из самых трагичных в моей жизни.
Их привезли отдельно, под усиленным конвоем. Они стояли плотной толпой на дороге, перед «брамой» — воротами старого лагеря. Старики, подростки, женщины. Решительные, непонятные, точно из другого мира. Они ни на кого не обращали внимания.
Комендант лагеря стоял перед ними и казался растерянным. За ним толпились офицеры СС, сторожевые псы жались к ногам коменданта. На почтительном расстоянии, подняв винтовки, стояли кольцом конвоиры, готовые открыть огонь. Притих лагерь, съежилась комендатура.
«Партизанен, партизанен», — неслось шепотом по Штуттгофу.
Лагерная машина смерти запнулась, точно не решаясь принять партизан. Их так и оставили стоять вне лагеря.
Позже в этот день прибыл гражданский транспорт из гетто одной из восточноевропейских столиц. Была моя очередь проводить медосмотр, и я пошел в душевую.
Беглый врачебный осмотр вновь прибывших большого смысла не имел, но позволял иногда выявить больных сыпным тифом и другими инфекционными болезнями. Изредка имелись также запросы на рабочие руки от фермеров, и тогда, при медосмотре, отбирались здоровые молодые цуганги для работы на ферме. Обычно медосмотр проходил в душевой санчасти старого лагеря.
Зловещие рассказы о фашистских концлагерях передавались по всей Европе, и прибывавшие в концлагерь, конечно, знали, что их ожидало. Но в этот день прибывшие люди были особенно напуганы. Среди них прошел слух, что душевая старого лагеря — газкамера, замаскированная под душевую. Такие газкамеры действительно существовали в других лагерях, — я видел их после войны, — но в Штуттгофе газкамера стояла отдельно, за лагерем, у крематория. Однако прибывшие об этом не знали.
Когда я вошел, в душевой раздавались крики ужаса и детский плач. Голые люди сбились в кучу в углу душевой. Они хором читали молитву, поднимали руки к небу. Из толпы неслись проклятия, слышались истерические рыдания. Успокоить было невозможно. Схватившись за руки, люди твердили, что бог отомстит за них. Они умоляли не тянуть, скорее пустить газ. Это было ужасно. Впервые мне пришлось столкнуться с таким страшным коллективным отчаянием и мистическим порывом.
Кончилось тем, что в душевую ворвался Боров, выгнал меня. Раздались выстрелы.
И вдруг, точно в ответ на выстрелы в душевой, затрещали пулеметы на вышках вокруг старого и нового лагеря. Послышались крики, топот ног.
«Варфоломеевская ночь», — мелькнуло в уме.
Мы все знали в Штуттгофе, что эсэсовцы имеют приказ уничтожить весь лагерь целиком, если фронт приблизится к Штуттгофу. А бои уже шли на территории Польши. Изо дня на день ждали «варфоломеевскую ночь».
Я бросился в крайнее помещение ревира, где была заранее расшатана рама окна, выходившего к проволочным заграждениям. Последний шанс.
Стрельба оборвалась раньше, чем я бросился к заграждениям.
С трудом добрался я до своей койки. И вдруг мне показалось, что там, за решетчатым окном, что-то темнеет на виселице. Сомнения стали уверенностью. Тильды больше нет. Все кончено.
Выбравшись из комнаты, я прислонился в изнеможении к окну в коридоре. Передо мной сверкал огнями замок «черных рыцарей».
Они победили…
Я не сразу заметил Черемисина и, кажется, просто не узнал его. Политрук пришел за информацией о втором фронте и о ходе боев в Польше. Польские врачи откуда-то получали эти сведения, и я передавал их Черемисину.
Политрук тряхнул меня за плечо. Я отрицательно мотнул головой.
— Все кончено. Больше не могу.
И тут раздался резкий голос Черемисина. На весь ревир:
— Товарищ помполитрука!
Я вздрогнул и очнулся.
Не буду повторять, что говорил тогда Черемисин. Все это сказано до него, и лучше великими мыслителями разных стран Европы. Но Черемисин говорил это в Штуттгофе во весь голос, с непоколебимой убежденностью. И я слушал.
— Нет, — говорил политрук, — ты не прав. Народы не будут уничтожать друг друга до бесконечности. Выход есть — коммунизм. Все остальные дороги — тупики. Нет избранных народов, нет избранных наций. Перед человечеством выбор: фашизм или коммунизм. И мы покончим с этим, — политрук кивнул на комендатуру. — Навсегда!
«Варфоломеевская ночь» была не «варфоломеевской ночью», а боем, который дали в тот день белорусские партизаны. Последний, неравный бой на полоске земли между старым и новым лагерем. Когда их повели к крематорию, они бросились на эсэсовцев, вырвали оружие и, отстреливаясь, погибли в бою. Непобежденные, несломленные. Старики, женщины и подростки.
В Мадриде, в Casa del sordo, Франциско де Гойя написал фреску «Сатурн, пожирающий своих детей». Гойя изобразил фашизм конца сорок четвертого года. Фашизм пожирал своих детей. Сперва пригнали полицейских из Норвегии, потом латышских солдат из латышских частей фашистской армии, восставших против «третьего рейха»[35], потом французов — добровольцев из легиона Дорьо, служивших на восточном фронте. В предсмертном безумии фашизм уничтожал тех, кто ему служил и кому он перестал доверять.
А в самом лагере крепла воля к сопротивлению, и репрессии уже не могли ее подавить. Из восьмидесяти трех советских военнопленных, прибывших из Гаммерштейна, в живых осталась только часть. Одних застрелили, другие умерли от лишений. Но те, кто остался, стали точками кристаллизации. К ним прикинули моряки с «Сибирякова», датчане-коммунисты, поляки, французы из движения Сопротивления, австрийцы, чехи.
Наступил конец.
Когда офицеры, торопливо и нервно, покидали Штуттгоф и выгоняли из лагеря толпы измученных заключенных, комендант Хоппе, застегивая на ходу кожаную куртку и отдавая срывающимся голосом последние распоряжения, столкнулся у открытой настежь брамы с призраком.
Высокий тощий гефтлинг с горящими глазами стоял у брамы. Поймав взгляд коменданта, он выпрямился и поднял кулак: «Рот фронт!»
Комендант отпрянул, выхватил револьвер и, с перекошенным лицом, выстрелил.
Десятилетний поединок закончился. Увидел ли тощий гефтлинг страх и отчаяние в глазах врага?
У брамы, распахнутой в будущее, осталось лежать тощее тело в полосатой робе с вытянутой правой рукой.
Опустевший концлагерь притих. И тогда из-за горизонта донесся отдаленный гул орудий.
С востока шагал советский солдат.
О последней странице штуттгофской трагедии, «марше смерти», остались только смутные воспоминания.
Под конвоем эсэсовцев колонны заключенных медленно двигались на запад. По проселочным дорогам понуро брели, спотыкаясь и падая, обессилевшие люди. Я шел в хвосте одной из колонн и тащил санки с перевязочным материалом и медикаментами. Сыпной тиф косил людей. Заболевшие брели, пока хватало сил, потом падали и оставались лежать на дороге. Я пытался помочь, но большинство не имели сил подняться.
Они оставались лежать в снегу и молча, с тоской следили за удалявшимися товарищами и приближавшимися эсэсовцами, которые шли за колонной. Короткая очередь из автомата, и все было кончено.
Дорога заключенных, угоняемых на запад, была усеяна трупами.
Переход был очень тяжелым. Оставалось совсем немного до привала, когда я почувствовал, что окончательно выбился из сил и тащить дальше санки не могу. Я повалился в снег.
Подошел Мишка Флейта, помог мне подняться, потащил санки. Когда мы наконец остановились, Мишка стал проверять, что в санках, и выкидывать лишнее.
— Инструменты? Ты кого здесь оперировать будешь, чудак? Выкинь все это. А остальное сунь себе в мешок, понял?
Мишка присел со мной в сторонке, понизил голос:
— Давай бежать. Захватим городок. Я буду комендантом, ты — при мне, как представитель союзников. Идет? Вот как заживем, пока наши придут.
Мимо нас прошел эсэсовец.
Мишка стал, посмеиваясь, рассказывать, как он одному охраннику, Фрицхену, дураку и трусу, наговорил, что он всех эсэсовцев перевешает, а того помилует, сошлет в Сибирь, если он его каждый день кормить будет.
Когда эсэсовец удалился, Мишка снова спросил:
— Так как, захватим городок? Нет? Напрасно! Мы бы это быстро организовали.
Мишку я встретил еще два раза во время «марша смерти».
Как-то мимо нас прошла колонна женщин-заключенных в полосатых платьях.
— Привет, — сказала одна из женщин низким грудным голосом.
Это был Мишка.
И второй раз, уже в самом конце марша, когда в живых осталось менее половины гефтлингов нашей колонны.
Навстречу ехали конные подводы. Военнопленные в бельгийской форме везли какой-то груз.
— Бонжур, мосье, — сказал один из бельгийцев, приподнимая пилотку. На подводе проехал Мишка Флейта.
Захватил ли Мишка городок со своими бельгийцами, я точно не знаю. Вероятно, да. Во всяком случае, он успел повоевать. И неплохо. Из всех нас у него больше всего орденов и медалей.
Недавно, празднуя свое шестидесятилетие, Мишка Флейта приехал в Москву, арендовал речной пароход и пригласил всех бывших гаммерштейновцев и штуттгофцев проехаться по каналу Москва — Волга, от Химок до Бухты Радости.
Мишка ничуть не изменился за последние сорок лет.
Дорога забита брошенными автомашинами и повозками, застрявшими в грязи. Снег растаял, и колонна заключенных медленно продвигается вперед, то и дело сворачивая с забитых транспортом шоссейных дорог на проселочные. Люди с трудом вырывают ноги из липкой грязи. Обгоняя гефтлингов, отступают на запад потрепанные немецкие части. Проходя мимо, уставшие солдаты в шинелях, испачканных грязью, угрюмо молчат, не обращая внимания на заключенных и конвоиров.
На одном из привалов за мной пришел солдат-эсэсовец и повел в ближайшую деревню. На площади перед церковью стояла группа офицеров во главе с генералом. Он испытующе смотрел на меня, пока ему докладывали, что мои родители — американцы и брат — офицер американской армии. Не зная, что меня ожидает, я молчал, сдерживая страх.
— Вы офицер американской армии? — спросил генерал.
Поразило непривычное обращение на «вы». Я отрицательно мотнул головой.
Генерал с досадой махнул рукой, меня увели.
Я не сразу понял, что эсэсовские командиры, как загнанные звери, искали лазейку: американского офицера, чтобы сдаться и бежать на Запад. Потом, на ночном привале, я понял и испытал огромное облегчение — черные палачи не фанатики, готовые стоять насмерть, а обычная трусливая дрянь. В ту ночь я уснул спокойно, уткнувшись лицом в спину незнакомого гефтлинга.
Путциг — маленький городок на берегу Балтийского моря. Здесь в апреле сорок пятого года закончился для меня «марш смерти». Дошедших до Путцига заперли в подвале каменного дома. Вечером, когда стало темнеть, послышались глухие удары. Заколачивали досками маленькие окошки, выходившие во двор.
Это был конец. Стоило столько идти, столько мучиться, чтобы погибнуть, как затравленные крысы в этом под-кале!
Мы сидели с Черемисиным у входной двери, прислушиваясь к шорохам за дверью. Когда все стихло, Черемисин достал какой-то самодельный инструмент и стал возиться с замком. Замок долго не поддавался. Потом послышался щелчок. Дверь приоткрылась.
Мы еще подождали, наконец Черемисин решился.
— Прощай, — сказал он. — Будешь жив, расскажи обо всем.
Он осторожно вышел, притворив за собою дверь.
Я долго ждал его, потом, видимо, заснул. Когда я очнулся, слабый свет пробивался между досками из окон. На полу спали гефтлинги.
Я осторожно вышел, ощупью поднялся по каменным ступеням и оказался во дворе.
Посреди двора что-то лежало. Я подошел ближе, нагнулся. Они лежали как в обнимку. Снизу задушенный эсэсовец в черной форме и, навалившись на него, мертвый Черемисин. Рядом валялись банки с ядом для газкамер.
Высоко над головой, в предрассветном сером небе, сверкали серебром два маленьких облака.
Во дворе, между каменными строениями, стояла ночная тьма. Она сочувственно укрывала страдания погибших и отчаяние живых. Под покровом ночи из подвала вышли призраки Штуттгофа. Во дворе, как в обжитой нише, столпились мертвые и живые по обе стороны черты, отделявшей жизнь от смерти. Условной черты, подобной тонкой линии мелом на камнях двора.
Я сидел на бревне, в двух шагах от Черемисина. В темноте он казался великаном. Я ждал, может быть, политрук встанет, подойдет?
Было так тихо, что, когда рядом чирикнула птица, я вздрогнул.
Небо светлело. Теперь облака сияли золотом. Слева в углу, в молочной белизне просвета между темными строениями, появились очертания кустов, обозначилась даль. В просвет утекала, растворяясь, ночная тьма и увлекала за собой вереницу призраков.
Зарождался новый безразличный день.
Потом вдруг (или мне так показалось) — я мог на время забыться — все заполнилось ярким светом. Точно включили юпитеры, направленные на небо. В просвете между каменными строениями появились зеленые луга, и вдали заблестела серая полоса моря. Теперь воздух искрился, слепил, звенел резким свистом птиц.
Оглушенный безучастным великолепием утренней зари, я втянул голову в плечи.
И вдруг лучи солнца с маху ударили по высокой крыше слева. Огнем запылали черепицы. Море посинело, его перерезала ярко-желтая полоса песчаной косы. Темное небо опустилось, нависло, дохнуло теплом.
Цветастая, голосистая весна заполнила двор, ворвалась в темные уголки, где прятались тени погибших.
Мертвый Черемисин, теперь маленький и чужой, одиноко лежал посреди плоского двора, залитого солнцем. Жужжали мухи.
От дурмана кружилась голова, тошнило. Я встал и побрел прочь. Через каменный сводчатый проход. На улицу.
Массивные ворота были приоткрыты.
Типичный немецкий городок с двухэтажными домами, за которыми виднелись пашни и поля, показался странно знакомым. Подавленный потоком впечатлений, я ушел в себя. По какой-то странной ассоциации городок воспринимался как картина Питера Брюгеля. С ее замкнутым в себе плотским и таинственным миром.
По улицам шли безразличные люди — им не было дела до меня, где-то грохотала повозка, раздавались голоса. Светило солнце, пролетели птицы, дорогу перешла кошка. Я был лишним и старался не привлекать к себе внимания.
На небольшой площади была харчевня. Я поднялся в пустой зал и сел за деревянный стол. Меня накормили, ни о чем не спрашивая. Я молча сидел за грубо оструганным столом, разглядывал доски, хлеб, яичницу, глиняную кружку с молоком. Я прислушивался к себе. Все это я уже видел. Но где? Когда? Странный мир, полный затаенного смысла. Я встал и пошел дальше, не прощаясь, не поблагодарив.
На улицах все чаще попадались пленные и заключенные. Они бродили по улицам. Ждали.
И вот послышался далекий гул. Он приближался, и вдруг с грозным грохотом в Путциг въехала колонна запыленных советских танков. Со звездами на броне, с настороженными солдатами на башнях. Танки развернулись на площади, лязгая гусеницами по булыжнику, и пошли дальше, на запад. В бой.
Сразу заволновался, зашумел Путциг. Люди бегали, что-то кричали. Слышалось пение. Пленные собирались толпами. Хлопали двери и ставни.
А там, во дворе, лежал Черемисин.
Свернув в тихую улочку, я пошел вдоль стен, стараясь не упустить то, что я вот-вот должен был понять.
Я сидел на камне у какого-то дома, когда мимо прошла группа возбужденных французских военнопленных. Они весело переговаривались и шли на запад. Я пошел с ними.
Там где-то Париж, Латинский квартал, друзья. Вспомнились наша комната с Алькой, наше окно, выходившее на тихий перекресток. Гараж, маленький отель и плоская глухая стена многоэтажного дома, нависавшая над ними, как декорация на сцене.
Вспомнился домик в Пуаньи. Тильда…
Я остановился в нерешительности и огляделся. По ту сторону улицы, через приоткрытую калитку, виднелся сад с аккуратными дорожками и зеленым газоном перед небольшим уютным коттеджем.
Надо было побыть одному, подумать.
Я зашел в сад и сел на скамейку. Ощущение потерянности и одиночества снова охватило меня. Я сидел и думал о Черемисине.
Я не сразу заметил, что у моих ног, на дорожке, лежит забавный тряпичный человечек. В ярком костюме, с большим красным носом и смешным горбом на спине. Брошенный посреди песчаной площадки, залитой солнцем. Где я его раньше видел?
В подсознании сами родились слова: «Grüß Gott, Kasperle». Нахлынули воспоминания раннего детства в Берлине. Вспомнилась добрая фрау Гудер. Как мог я забыть Kasperle, который висел на спинке моей кроватки? «Gute Nacht, Kasperle», — говорил я, засыпая, и утром приветствовал его: «Guten Morgen, Kasperle»[36].
Я взял тряпичного человечка в руки.
И неожиданно ко мне вернулось давно забытое ощущение безопасности и покоя, которое рождалось в детстве от прикосновения маминых рук. Они натягивали на меня одеяло по вечерам и осторожно заправляли его за спиной. Они нежно гладили мои волосы. «Спокойной ночи», — силился я сказать, засыпая. С ощущением маминых губ на щеке.
По утрам я лежал и ждал в сладостном нетерпении. Ну когда же она подойдет? Но вот легкие пальцы бегут вокруг шеи, щекочут, забираются за шиворот: «Вставай, лентяй». Мама знает, что я не сплю. Это игра — наша игра — по утрам. И я с трудом сдерживаю счастливую улыбку.
Волшебная страна «Раннее детство» — вечная точка отсчета, и человека, и народа, и человечества. Неужели нельзя сохранить ей верность?
«Делай добро, и тебе ответят тем же, — учила меня мама. И добавляла: — А не ответят, не огорчайся. Лучшая награда — сознание выполненного долга. Как хорошо, что ты будешь врачом!»
Комок подступил к горлу. Я оглянулся. Путциг — всего-навсего маленький городок, мимолетная остановка на моем жизненном пути. Скоро я буду дома, среди любимых книг. Начну заново. Буду делать свое маленькое доброе дело.
Я посмотрел на коттедж. Похож ли он на новый отчий дом где-то там, в Америке? Я постучусь в дверь, и меня обхватят мамины руки. И все забудется.
Не выпуская Kasperle из рук, я встал и пошел в дом. Решено: все начну от точки отсчета детства и ясной материнской любви.
— Мам! — позвал я, входя в чистую уютную переднюю коттеджа, и усмехнулся своей оговорке. Кто дома?
Никто не ответил.
Тогда я толкнул дверь наугад и вошел. В комнате я сперва ничего не увидел. Шторы на окнах были опущены. Потом различил большой портрет фюрера на стене передо мной.
А потом я увидел.
На широкой кровати, у ног фюрера, он лежал в черной военной форме. Рядом — она, дети. Все рядышком. С краю — самый маленький, хозяин Kasperle.
Револьвер валялся на коврике.
Не помню, как прошел этот день.
Кажется, я бродил по улицам и вечером вернулся на ту же скамейку. Мысли вертелись и вертелись вокруг одного и того же вопроса: зачем?
Она была матерью, мамой. А все матери одинаковы. Во все эпохи. У всех народов.
Решила умереть первой, чтобы не видеть смерть своих детей? Но как можно уйти, лишить их последней защиты успокаивающих материнских рук, последнего предсмертного обмана?
Или прижимала детей к себе, чтоб они не почувствовали приближение смерти? А сама видела. И не бросилась, не защитила?
А он стрелял…
Догорала кровавая вечерняя заря. Kasperle смотрел на меня и молчал.
Пожертвовать детьми, чтоб доказать свою правоту?
Что сломалось в человечестве? Неужели возвращаются времена «избиения младенцев»?
Наступила ночь. Стало легче.
Ни о чем больше не думая, я собирался с силами. Рядом со мной сидели Старик и Черемисин.
— К прошлому вернуться нельзя, — спокойно сказал Старик. — Поплакать над ушедшим детством можно, вернуться к нему нельзя. Не ты первый, не ты последний.
Я промолчал.
— Зачем себя обманываешь? — спросил, в свою очередь, политрук. — Ничего из памяти не выкинешь. Никуда от пережитого не уйдешь. Будешь носить это в себе. До самой смерти.
— Дай подумать. И свободно выбрать.
— Свободно выбрать? — усмехнулся Старик. — Свободно выбирают только раз в жизни. Вторично не выбирают, а продают себя.
Я положил Kasperle на дорожку, задумался.
Старик прав: жить — это идти вперед. Вперед и вперед. Пока смерть не остановит.
У каждого своя судьба. Путциг — не остановка в моей жизни, где можно сойти и пересесть в обратный поезд.
Отказаться от Тильды? Забыть Старика? Предать Черемисина?
К детству и семье, к Латинскому кварталу возврата нет.
Надо искать новых путей, бороться дальше.
Когда забрезжил рассвет и на свинцовом небе сверкнули серебром далекие облака, я встал.
Мы пошли на восток. Старик, Черемисин и я.
Нить Ариадны…
НЕ ЖДАЛИ
Пустой товарный вагон с задвинутыми дверьми — это кусочек погруженного в полутьму пространства, которое куда-то движется. Постукивают колеса, покачиваются деревянные стенки и крыша, в щелях мелькают блики света. Расстелив шинель на полу, лежу и часами наблюдаю, как в темном вагоне пробегают полоски света. После четырех лет отчаянного внутреннего напряжения нелегко возвращаться к беспечности свободы.
Когда советский офицер, записывавший мои показания в Путциге, услышал, что я студент из Латинского квартала, служил в Красной Армии, и узнал, что родители мои живут в Нью-Йорке, он прервал запись и уставился на меня. Мишку Флейту и других ребят зачислили в армию, а меня отправили в Москву.
Дни проходили за днями. Запертые в полутьме вагона, мы понемногу разговорились. О войне — ни слова. Пожилой солдат рассказывал о своем колхозе, где работал плотником, о семье. Молодой пограничник — об учебе в маленьком городе, о своих друзьях.
Постепенно я тоже освоился, стал делиться пережитым. Вначале мне не верили. «Ишь заливает», — усмехнулся молодой пограничник.
Но поездка была длинной. Вагон часами, а то и днями стоял на запасных путях. Понемногу между нами появилось что-то вроде доверия, почти сочувствия. Мои попутчики слушали, переспрашивали, уточняли подробности. Иногда смеялись или негодовали.
Потом мы обжились в вагоне. Открыв настежь двери, мы сидели рядком на полу и, свесив ноги к мелькавшим внизу шпалам, переговаривались. Смотрели на медленно проплывавшие мимо нас разрушенные станции и города, на сожженные деревни.
Израненная страна. Огромная, с темными лесами и бескрайними полями.
У обгоревших остатков домов стояли женщины и дети. Одетые кое-как, молчаливые. Они провожали поезд долгим, серьезным взглядом.
Сердце сжималось при виде опустевшей земли. Она только-только оживала после бури.
К Минску мы подъезжали под вечер. Товарный вагон бросало на разбитых путях. Как обычно, мы сидели в проеме открытой двери и рассуждали о жизни. В Минске мы долго стояли на запасных путях. Среди застрявших составов. И тут пришла весть о Победе. Крик, шум, стрельба в воздух, пение. Мы обнялись, расцеловались.
— Раз уж такой случай… — сказал пожилой солдат и сбегал куда-то. Вернулся с бутылкой.
Вскоре мы были пьяны. Я меньше других.
— Слушай, — сказал мне молодой. — Тут твои документы, там — оружие. Смотри, чтоб не пропали. А я еще немного… Победа, понимаешь?
Утром я пошел оформлять на станцию.
— Где документы? — спросил усталый дежурный.
Я порылся в планшете, нашел документы.
— Кого везете?
— Меня.
Дежурный не очень удивился. Только добавил:
— Распишись. — И занялся своими делами.
Товарный вагон раскачивается, мерно постукивают колеса. Я сижу в открытой двери, оберегая сон молодого пограничника и старого солдата. Они прошли с боями пол-Европы. Чтобы спасти человечество. Спите спокойно.
Передо мной огромная израненная страна. Моя страна.
Москва…
Мы встречались каждый день. Он сидел за столиком, разложив перед собой листы бумаги. Я рассказывал, он записывал, не упуская самой малой подробности. Он был немолодой, с седыми висками. Писал молча, изредка поднимал на меня внимательный взгляд.
Когда наконец мой рассказ был окончен и дописана последняя страница, он сказал:
— Распишись, — и придвинул мне кипу исписанных листов. — Вы свободны, — добавил он, собирая листки. — Вот адрес американской миссии в Москве. Можете отправляться к родителям.
Я отрицательно покачал головой. Он с удивлением посмотрел на меня.
— Я останусь здесь, — объяснил я ему. — У меня советское гражданство. С сорокового года.
Весь день я бродил по улицам, потерянный и ошеломленный. На пятьдесят рублей съел пять порций мороженого и, когда стемнело, прилег на скамейку на Цветном бульваре. Накрапывал дождик, я укрылся шинелью.
Слегка светились низкие облака, затихал усыпляющий говор Москвы. Наконец-то я вернулся домой. Меня переполняло чувство тихой радости и сопричастия ко всему живому вокруг меня. Точно огромная рука осторожно прикрыла меня, и далекий голос сказал:
— Ничего. Он свой…
Это чувство осталось на всю жизнь.
Я отправился по адресу, который я помнил с сорок первого года, но Тильду — Наташу не нашел. Она там больше не жила, и никто не мог ничего сообщить про нее. И Мосгорсправка не помогла.
Весь день я бродил по улицам, с упрямой надеждой встретить ее.
Нить Ариадны вновь оборвалась. У самой цели.
На следующий день я отыскал Наркомат здравоохранения и прямо отправился на прием к наркому здравоохранения СССР товарищу Митереву. Он с удивлением выслушал меня. Направил в 1-й медицинский институт, что на Большой Пироговской. У меня не было документов, но по записке, данной министром, меня зачислили на последний курс лечебного факультета.
Не буду утомлять рассказом о первых днях в Москве. Много забавных историй случилось со мной, прежде чем я хоть немного приспособился к жизни в Москве.
Например, история с трамваем.
В послевоенные годы по Бульварному кольцу, Кропоткинской улице и далее, к Девичьему полю, ходил трамвай «А». «Аннушка», как его звали москвичи. Он всегда был переполнен.
Однажды я прыгнул на ходу на подножку трамвая и ухватился за поручень. Еду, с любопытством оглядываю незнакомые улицы.
Кто-то вскочил на подножку рядом со мной и, обращаясь ко мне, сказал: «А». Я слегка отстранился. «А», — повторил настойчиво незнакомый. Думая, что это какая-то игра, я улыбнулся и ответил: «Б». Человек спрыгнул с подножки трамвая.
«Гражданин, зачем обманываете? — накинулись на меня пассажиры. — Если спрашивают «А», надо отвечать «А».
Я тоже спрыгнул и пошел пешком, размышляя над тем, что бы все это могло значить.
В материальном отношении я особенно не нуждался. Во-первых, я устроился переводчиком в одном из издательств, перевел «Молодую гвардию», пьесы Чехова и другие книги — это не заняло много времени и не мешало учебе, — а, во-вторых, я сразу усвоил образ жизни москвичей — занимать до получки, потом отдавать. Занимать, отдавать; занимать, отдавать. Просто и удобно.
Надо сказать, что после концлагеря жизнь в Москве в сорок пятом казалась отличной. Тем более что были продовольственные карточки.
Плохо было то, что я был одинок.
Окружающие относились ко мне хорошо. Почти все, с кем я встречался тогда, перенесли, конечно, больше горя, чем я. Кто потерял сына, кто брата, кто мужа или отца. Вся страна еще переживала трагедию войны. А из тех, кто вернулся, не все вновь нашли покинутое дома счастье.
Но человеку свойственно, особенно в молодости, думать прежде всего о собственном горе.
Я был одинок, глубоко одинок.
Личинка Fourmilion зарывается в песок на дне воронки с сыпучими отвесными склонами. Муравей, попавший в воронку, напрасно пытается выбраться из нее. Песок осыпается, и муравей все глубже падает вниз. Пока не погибнет на дне.
Засасывающая пустота в подсознании, оставшаяся от «черной дыры» концлагеря, чем-то напоминает такую воронку. Человек пытается вырваться из прошлого, ищет, за что ухватиться. Но все глубже замыкается в себе.
Я тоже искал, за что ухватиться. Но невидимая стена возникала вокруг меня, когда я рассказывал про Париж, плен. Я не умел найти настоящего человеческого контакта с людьми. В чем-то я очень отличался от добрых, отзывчивых, но непонятных людей, которые меня окружали. Я все больше замыкался в себе, в своем прошлом.
Я ходил на концерты. Но русская музыка показалась приподнято-лирической и чуть сентиментальной. Особенно музыка Чайковского, которого я так любил в детстве. Как песчинки под лапками муравья, пленительные мелодии скользили, не давали точки опоры. Музыка для беспечных. Она не трогала меня.
К счастью, был Прокофьев, и Шостакович, и Бетховен в исполнении Юдиной. Юдиной я многим обязан. Она поддержала меня.
Но «черная дыра» был рядом. А нить Ариадны оборвалась…
Это странное кирпичное здание «à la russe» — в псевдостарославянском стиле конца прошлого столетия — попалось мне случайно, когда я тоскливо бродил по тихим улочкам по ту сторону Москвы-реки. Третьяковская галерея. О ней я много слышал в детстве от родителей, для которых Шаляпин и Третьяковка были такими же сияющими вершинами в искусстве, как Жуковский и Чаплыгин — в науке. В Шаляпине я успел уже разочароваться в Париже: старый и больной, он больше играл, чем пел, на сцене. И, на мой взгляд, переигрывал. Поколебавшись, я решил зайти в Третьяковку.
Я бродил по залам и с любопытством рассматривал картины, но они не затрагивали меня. Я не понимал их. Не было того мгновенного контакта, который возникал перед картинами Мане, Дега, Гогена и Пикассо.
Я сидел в пустом зале и чувствовал себя, как никогда, одиноким. «Черная дыра» была рядом. Зачем прошел я бесконечно длинный путь? Никому я здесь не нужен. Никто не ждет меня…
Тут я уловил где-то рядом тональность, созвучную моему состоянию. Манила к себе картина, мимо которой я только что прошел, скользнув взглядом по невыразительным краскам и наивной композиции. Картина звала. Все настойчивей. Я встал и вернулся к ней.
«Не ждали».
Я стоял перед картиной и впервые в жизни не воспринимал живопись как что-то цельное, а читал. Как читают книгу, страницу за страницей, возвращаясь к прочитанному, предугадывая дальнейшее. Картина рассказывала. О людях, о их судьбах. Неторопливо. О прошлом, о будущем. С удивлением я понял, что реальный миг, запечатленный художником, только предлог для длинного рассказа о самой жизни. Впервые живопись не пленяла, а утешала, сопереживала.
Странное открытие! Я вернулся назад и попытался читать и другие картины. Они читались.
Это был первый шаг к пониманию русского и, может быть, советского.
Стоп. Хватит об этом. С тех пор прошли десятилетия, и нечего воскрешать в памяти переживания и суждения в общем поверхностного молодого человека, раненного, замкнувшегося в своем микрокосме. Все это мелочно.
Лучше постараемся уточнить основные особенности советских людей. Так, как они мне представляются сейчас, после сорокалетнего пребывания на Родине.
Человеку, выросшему на Западе, в общем нетрудно привыкнуть к жизни в нашей стране. Значительно труднее для него понять внутренний мир советских людей и породниться с ними.
Постараюсь объяснить.
Как мне кажется, основное, фундаментальное отличие советских людей в том, что этическое начало определяет их духовный мир и накладывает отпечаток на всю их жизнь. Полуосознанный критерий — «хорошо или плохо» — является для них мерилом всего.
Даже отношений между мужчиной и женщиной, даже ценности искусства, даже такого естественного явления, как смех.
Именно смех соотечественников послужил для меня толчком к анализу их психологии. В первое время в кино и театре смех публики заставал меня врасплох. Потом я понял, что смех советского зрителя в основном этический, как у детей, и выражает не столько наслаждение остроумием, сколько моральное облегчение: злодей наказан, справедливость торжествует. Даже самое тонкое остроумие не вызывает смеха, если направлено против того, что дорого зрителю и рассматривается им как «хорошо».
То же в отношениях к женщине. Высказать женщине неожиданно проснувшееся к ней влечение, предоставив ей право решения, вовсе не достоинство воспитанного, искреннего мужчины, а скорее предосудительный поступок. Немедленно прикройте свое влечение этическим покрывалом: пусть или вырастает в любовь, или задыхается.
Этика и любовь шагают под руку в нашей стране, и часто этика ведет любовь за руку. Увлечение — предосудительно, влюбленность — ненадежна, любовь, облеченная в этический наряд, — фундамент жизни.
То же в искусстве. Только пройдя через этический фильтр, что часто происходит неосознанно, эстетический порыв приобретает свою настоящую ценность. Любое творение искусства в нашей стране всегда должно ответить на вопрос: кому и для чего оно нужно? Как будто творят не из внутренней потребности, а для того, чтобы удовлетворить потребности других!
Пожалуйста, будьте добры, не думайте, что я иронизирую. Не прикидывайте в уме «хорошо» или «плохо» то, что я пишу. Я не оцениваю, я просто выявляю различия, мысленно переходя с точки зрения того, кем я был, к точке зрения того, кем я стал. Конечно, я немного утрирую, но только для того, чтобы подчеркнуть различия.
Подсознательная этическая шкала, по которой советские люди все оценивают, имеет две важные особенности, малопонятные для западного человека: с небольшими изменениями она воспринята всеми народами, народностями, подавляющим большинством семей и просто отдельных людей в нашей стране. Настолько освоена, что стала незаметной, как что-то само собой разумеющееся, вроде ушей или носа у человека. Лучшее доказательство вездесущности общей этической шкалы в нашей стране — демонстративное выпячивание шкалы теми немногими, у которых ее нет. Они не хотят отличаться от всех других. Вторая особенность этической шкалы наших людей в том, что она выходит за пределы личности и ее индивидуальных моральных ценностей.
Чтобы быть понятым, разрешите несколько слов об удивительном человеке, восьмидесятилетнем миссионере из Голландии, с которым я встретился в Ндоле, в глубине Африки. Подчинив свою жизнь личной этической шкале, он прожил шестьдесят лет среди местных жителей, стараясь передать им свое понимание добра и зла. Он честно завершал свой жизненный путь, казался счастливым, но, прощаясь со мной, сказал полные трагизма слова: «Я отдал бы остаток моей жизни за то, чтобы на один день стать чернокожим. Понять их, слиться с ними…» Его уважали, даже любили, но он был честным человеком и признал в конце жизни, что совершил свой подвиг ради самого себя. Он не смог слиться с теми, ради которых, как он думал, пожертвовал собой. Его этическая шкала не выходила за пределы его личности.
Так вот, для советских людей точка отсчета моральных координат не «я», а «мы». И это «мы» не ограничено национальными или другими рамками. Оно распространяется на все человечество.
Что касается личной свободы и индивидуальности человека, то, по моим наблюдениям, они не в меньшей, а вероятно, в большей степени проявляются в координатах «мы», чем в координатах «я».
Особенности психологии советских людей — следствие того колоссального эмоционально-этического взрыва, который потряс Россию в семнадцатом году. Он определил этическую тональность сознания народов великой страны, сцементировал их.
Об этот монолитный блок разбилась в конечном счете сверхмощная военная машина фашизма. И сотни тысяч пленных, которые молча погибли, отказавшись принять Европу Гитлера, тоже внесли свой вклад в общую победу.
Ценности, рожденные Октябрем, живут и продолжают расходиться кругами по нашей планете. Разрешите и здесь привести маленькое личное наблюдение. Недалеко от Фианаранцоа, на Мадагаскаре, меня пригласил малограмотный, но высококультурный старик, старейшина «фукуналула» — сельской общины, и показал мне в своем бамбуковом доме на сваях две вырезки из газет с портретами Жюля Верна и Ленина. Заметив мое удивление, он снисходительно объяснил: «Этот — самый умный человек на свете, он предвидел за сто лет полет на Луну, а этот — самый справедливый, он сказал, что «земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает». А ведь это было в глубине Большого Острова, вдали от городов, когда у нас еще не было дипломатических отношений с Тананариве. Ценности, рожденные Октябрем, расходятся кругами по нашей планете.
НИТЬ АРИАДНЫ
Вы, наверно, знаете в Москве станцию «Комсомольская»? Выходя с перрона, вы поднимаетесь по широкой лестнице, и прямо перед вами, вдоль стены, ряд телефонных будок.
Это случилось поздно ночью, когда перрон был пустынным, на лестнице, по которой я поднимался, никого не было, и никто не стоял у телефонных будок.
Я вытащил машинально листок из нагрудного кармана. С телефонным номером. Я давно носил его с собой. Телефон дала переводчик издательства, где я работал. До войны она училась в ИНЯЗе со студенткой, которая в детстве жила за границей, кажется, во Франции. Отыскав телефон в старой записной книжке, она сказала: «Фамилия не та. Но попробуйте позвоните».
Я звонил много раз. Никто не отвечал. Если даже это и был когда-то «ее» телефон, то он, видимо, давно сменился.
Попробовать еще раз? Я колебался, было уже за полночь. Дотом вошел в третью будку слева и набрал номер.
— Алло, — ответил низкий мужской голос, твердо выговаривая букву «л».
Я растерялся, потом спросил:
— Можно Наташу?
— Наташу? — удивился голос. — Кто спрашивает?
— Я учился с нею. В ИНЯЗе.
— А… — протянул голос. — Тогда знаю. Племянница. Ее нет в Москве.
— А адрес?
— Где-то был у меня. Сейчас поищу.
Молчание длилось мучительно долго.
— Вот, нашел. Записывайте. Екабпилс…
Я выронил телефонную трубку.
Она.
В Крустпилс поезд пришел ночью. Я дождался рассвета и переправился через Даугаву, в Екабпилс. Город моей весны, незабываемого лета сорокового года!
День только занимался. Я шел по знакомым спящим переулкам. Нерешительно. Шаг за шагом. С тяжелым грузом на душе. Долго стоял перед дверью двухэтажного дома, где раньше был уком партии, а теперь обком. И секретарем снова была Мильда — она вернулась из партизанского отряда.
Нить Ариадны… Она привела меня в Екабпилс. В тот же дом, в ту же комнату.
Ощупью я поднялся по ступенькам крутой лесенки и открыл дверь.
Наташа не ждала меня в эту ночь. Она спала. Она открыла глаза, когда я присел на кровать. И притянула меня к себе, теплая со сна.
Уткнувшись в ее плечо, я собирался с силами, чтобы хоть внешне быть тем, кого она знала когда-то. И она молчала и искала возврата к той Тильде, которой она раньше была.
Почему мы так беспомощны перед любимым человеком? И так боимся его суда?
Наташа не знала, что было со мной во время разлуки. И я не знал, как прожила она эти грозные годы.
Мое письмо из Москвы она получила здесь, в Екабпилсе. И сказала мужу, что любит меня по-прежнему. И хочет быть свободной. Отчаявшись, ее муж вынул револьвер. Наташа повернулась к стене и попросила: «Стреляй».
Спасибо тебе, незнакомый офицер, за то, что ты не выстрелил, когда любимая женщина отвернулась от тебя. Ты был в зените славы, и я ничего не значил рядом с тобой, бездомный пришелец.
Вспомнил ли ты, что она не хотела детей от тебя? Или понял, что нельзя убивать за чувство, которое сильнее разума?
Непостижимая тайна женской любви! Вечно девственно свежей. Ее ничто не может ни запятнать, ни унизить. Верность женской любви, хранящей целину души для того, кто должен прийти, вспахать и засеять. И продолжить себя в детях. Мудрость любви!
Когда мы встретились вновь, я был слаб и измучен. Я не мог взять Наташу на руки и нести нехоженой дорогой. Надо было освободиться от прошлого, найти себя, выбрать свой путь.
Почему я не мог тогда написать эту рукопись и отдать ей? На суд. Она помогла бы мне подняться. Но я должен был сам. Сам! Что за дикая гордость жила в нас обоих, отвергавшая жалость любимого! Для нее — в одних вопросах, для меня — в других.
Я умолчал про «черную дыру». Она сама догадалась, но не подала вида. Она верила в меня и дала мне время встать на ноги.
Она ждала детей от меня.
Начинался новый жизненный путь, не менее длинный и сложный, чем пройденный до этого.
Встретившись, мы больше не могли друг без друга.
ДО ВСТРЕЧИ
Когда ко мне заходят Старик и Черемисин — а они все чаще посещают меня по ночам, — мы вспоминаем прошлое и думаем о будущем.
Политрук стоит перед широким окном, заложив руки за спину, и смотрит на огни вечерней Москвы. Не может оторваться. Старик сидит на диване, накрытом латышским покрывалом. Это его любимое место. Он просматривает старые фотографии, перебирает содержимое ящиков моего письменного стола.
Прожитая мною жизнь не только моя, но и его. Его интересует все, что случилось после того, как мы оказались по разные стороны черты, отделяющей живых от мертвых. И особенно то, что было после войны.
— Трудно было?
— Трудно. Кому — больше, кому — меньше. Но всем трудно. Главное, что нас приняли, понимаешь?
— Чувствовали себя виноватыми?
— Да, было. Мы ведь не все сделали, что могли, для Победы. Я хочу сказать: мы — живые.
— А теперь?
— Теперь уже нет. Мы вернулись к своему измученному героическому народу. Слились с ним. Восстанавливали страну. Большинство из нас — коммунисты.
В разговор вмешался политрук. Он повернулся, спросил:
— А ты?
— Я тоже.
Политрук задумался. Долго молчал. Я не выдержал:
— Знаю, о чем ты думаешь. Не оправдал я твои надежды. Ни на поле боя при Лиепне, ни в Гаммерштейне — я бежал, когда ты схватился насмерть с врагом и тебе нужна была моя помощь, ни в Штуттгофе. Там я замкнулся в себе, спрятался в каморке. Пытался уйти от «черной дыры».
Вот ты, ты боролся. И Мишка Флейта боролся, и Качарава[37], и группа восьмидесяти трех из Гаммерштейна, и моряки с «Сибирякова», и другие наши ребята. Большинство из вас не вернулось из Штуттгофа. А я, я прятался в ревире, под белым халатом врача.
Политрук кивнул.
— Не хватило меня на четыре года борьбы, — признал я с горечью. — Ты пожертвовал собой. Я выжил.
— Иных интеллигентов и на неделю не хватило, — усмехнулся Черемисин. — Потом добавил: — Ты не предал… и прошел с нами длинный путь.
— Ты боролся словом. Я не умел.
— Учись. Борьба не окончена.
Поколебавшись, я спросил:
— Скажи, политрук… дал бы ты мне рекомендацию?
— Дал, — спокойно ответил Черемисин, — только помни, что ты — помполитрука. На всю жизнь. С тебя особый спрос. Меня-то уже нет.
Наступило молчание. За окном сверкали огни Москвы. В полутьме мы сидели втроем, связанные общим прошлым и общим будущим.
Не в этом ли смысл и счастье жизни?
Не обеспеченность, не семья, не узкий круг друзей жизненно важны для человека, а ощущение общности и взаимопонимания с народом, среди которого он живет, с обществом, в котором он работает! Но зачем говорить это Старику и Черемисину? Они знают это лучше меня.
Чтоб нарушить молчание, Старик взял шкатулку на письменном столе, стал перебирать значки, медали и ордена.
— За что дали «Красную Звезду»?
— За побег из Гаммерштейна. Но я не заслужил. Это твое.
Старик усмехнулся.
— А орден Датского Красного Креста?
— За врачевание в Штуттгофе и во время «марша смерти». Тоже незаслуженно. Мне было легче, чем другим.
— Не тебе дали, — резко перебил политрук, — а всем нашим врачам. Особенно тем, кто не вернулся.
Старик подержал в руках памятные медали из разных стран.
— С ребятами оттуда встречаешься?
Я рассказал о наших товарищах по концлагерю из западных стран. Их встретили как героев, когда они вернулись домой из концлагерей. Им предоставили особые права и материальные блага. Но разве в этом было основное?
Психологический путь, пройденный в концлагерях, — путь борьбы и лишений, — не прошло население большинства западных стран. Как правило, широкие слои обывателей стремились забыть прошлое, откупиться от него и скорее вернуться к основному правилу буржуазного общества: каждый за себя. Фашизм? Сотрудничество с Гитлером? Досадные, мол, исключения. Исторические ошибки.
— Представляешь, Старик, как им тяжело, нашим ребятам, когда вновь зарождается фашизм в так называемом «свободном» обществе?
Старик кивнул, задумался.
— Тебе повезло, Студент.
— Знаю.
Не отрывая глаз от панорамы ночного города, политрук спросил и указал на окно:
— Они что, другими стали?
— Всякие есть. Но таких, как ты, много. Я хочу сказать — в душе таких, как ты.
— Жаль, что мне не довелось…
Я промолчал, вернулся к рукописи, напечатал несколько страниц.
— Машинку чинить надо, — заметил политрук, — как-нибудь займусь. А о будущем все так же мечтаешь, как в Екабпилсе?
— Про себя.
— Коммунизм — вот он. — Черемисин кивнул на огоньки.
— Да. Лишь бы дали достроить…
Я рассказал про атомные, водородные и нейтронные бомбы, про крылатые ракеты, бинарный газ и биологическую войну. Про Хиросиму.
— И они могут решиться на это?
Я пожал плечами. Старик промолчал. Черемисин прошелся по комнате, потом сказал:
— Если они прибегают к таким угрозам, значит, они уже проиграли. Но мир надо сохранить. Ради будущего.
— Ради детей, — добавил Старик.
Политрук постоял еще немного, потом кивнул и позвал Старика.
— Ну ладно, прощай. Пойдем, Старик.
Черемисин подошел к письменному столу, взглянул на исписанные листки. И приказал.
— Пиши!
ОБ АВТОРЕ
Жизнь автора, известного советского ученого-биолога, члена-корреспондента АМН СССР, коммуниста Федора Федоровича Сопрунова, необычна, он родился в Ростове-на-Дону в 1917 году, вырос в Париже, учился в Сорбонне, перед Великой Отечественной войной служил рядовым в буржуазной армии Латвии, затем стал красноармейцем, в первом же бою с фашистами был ранен и оказался в гитлеровском концлагере. Вскоре бежал, но был схвачен и вновь оказался в лагере смерти. В 1945 году вернулся на родную землю. За помощь советским людям в фашистском плену отмечен боевыми наградами СССР и других стран.
На Родине Федор Федорович Сопрунов окончил 1-й Московский медицинский институт. В 1957 году был принят в члены КПСС. В настоящее время он директор ордена Трудового Красного Знамени Института медицинской паразитологии и тропической медицины имени Е. И. Марциновского Минздрава СССР, руководитель Всесоюзного координационного Центра по тропическим болезням, член Советского комитета ветеранов войны, принимает активное участие в работе Союза советских обществ дружбы с зарубежными странами.
Примечания
1
Еженедельный журнал русских эмигрантов в Париже.
(обратно)2
Газета русских эмигрантов во Франции.
(обратно)3
Дословно: божества из машины (лат.). Неожиданно появлялись на сцене для разрешения спора в конце действия.
(обратно)4
Уличные торговцы с тележками, круглый год торгующие овощами и фруктами.
(обратно)5
Прощай, парень! (англ.).
(обратно)6
Королевский пруд — маленький, заросший тиной водоем недалеко от нашей дачи.
(обратно)7
«Латышская» и «латунная» голова — эти слова по-французски звучат одинаково. Друзья шутили.
(обратно)8
«Дорогой метр» — принятое во Франции обращение к профессорам, адвокатам, известным писателям, художникам и т. д.
(обратно)9
Мои товарищи сразу уловили, что в науке много величавых «светил» и очень мало ученых.
(обратно)10
«Она отдала мне лучший цветок своего сердца в белой постели, расшитой кружевом» (старинная французская народная песня).
(обратно)11
«Хорошее вино меня усыпляет, но любовь меня вновь пробуждает».
(обратно)12
Деревянные башмаки, которые носят во Франции в деревнях (франц.).
(обратно)13
Счастлив тот, кто, как Одиссей, после далеких странствий… Вернулся в отчий дом, умудренный и познавший жизнь… (Стихи Дю Белле)
(обратно)14
Курсанты военного училища Сен-Сир.
(обратно)15
В спецроте проходили обучение будущие унтер-офицеры армии буржуазной Латвии. Спецрота позже других приняла перемены, происшедшие в 1940 году.
(обратно)16
«Белая роза на моей груди…» (Песнь латышских стрелков времен первой мировой войны).
(обратно)17
В Риге, на Лесном кладбище, вдоль широкой аллеи — могилы старых большевиков-латышей, соратников Ленина. Если будете в Риге, положите, пожалуйста, по красной гвоздике на могилы Яна и Мильды Биркенфельд (Бундулис). Они были цельными, преданными своей мечте. И верили людям.
(обратно)18
Я отыскал эту женщину после войны. Ее зовут Матильда Куклич. Латышское покрывало на диване у моего письменного стола — из ее дома. Взглянешь на латышский узор, и теплеет на сердце.
(обратно)19
Это ужасное слово было в ходу в Гаммерштейне в зиму сорок первого на сорок второй год.
(обратно)20
Какие дикари!
(обратно)21
Они голодны. Но все же…
(обратно)22
Добавку.
(обратно)23
Теоретические работы Гитлера и Розенберга, основных идеологов фашизма.
(обратно)24
Сперва жить, рассуждать потом (лат.).
(обратно)25
Деревянные башмаки (нем.).
(обратно)26
Двигайся (пол.).
(обратно)27
«Одевалка» (нем.).
(обратно)28
Треугольник (нем.).
(обратно)29
Георг Розеф из Осло и по сей день добрый друг. Он иногда бывает в нашей семье.
(обратно)30
См.: M. Nielsen. «Raport fra Stutthof». Хельге Кьерульф и его жена Куле и по сей день верные друзья. Мы гостили у них в Копенгагене с Наташей. Они бывали у нас.
(обратно)31
См.: P. Weil, A. Kinzler. «De l’Université aux camps de concentration». Мы встретились в Париже после войны.
(обратно)32
См. книги Дунина-Венцовича о Штуттгофе, например, «Resistance in the Nazi Concentration Camps 1933—1945», Warszawa, 1982, воспоминания Л. Сташкевича. Л. Здроевского и др.
(обратно)33
Мне сказали, что это напоминает слова эстонской песенки.
(обратно)34
Жизнь — пустой обман (пузырь), лишь разукрашенные муки. Рождаешься крича, взрослеешь и вздыхаешь, стареешь и умираешь (англ.).
(обратно)35
Калвана я увидел в последний раз в Штуттгофе. Как одного из руководителей восстания латышских солдат против вермахта, его повесили. Он умер спокойно.
(обратно)36
Здравствуй, Петрушка (нем.).
(обратно)37
См.: Новиков Л. А., Тараданкин А. К. Сказание о Сибирякове. С Качарава я встретился в Москве.
(обратно)
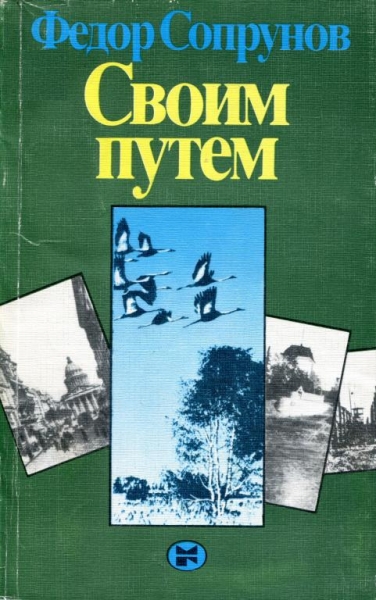

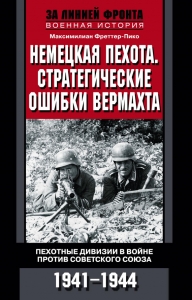





Комментарии к книге «Своим путем», Фёдор Фёдорович Сопрунов
Всего 0 комментариев