Ольга Ярикова ЮРИЙ ПОЛЯКОВ ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
*
ЖЗЛ
СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССИКИ
Серия основана в 2016 году
Оформление и макет
художника Андрея Рыбакова
© Ярикова О. И., 2017
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2017
Несколько слов от автора
Поэт, прозаик, драматург, публицист, общественный деятель. Не много ли для одного? Для кого как. Для Юрия Полякова и этого недостаточно, а потому он еще и главный редактор «Литературной газеты».
Семь издателей спорили о том, кому издавать его бестселлеры и лонгселлеры — романы и повести, востребованные читающей публикой из года в год на протяжении десятилетий. Практически все эти произведения экранизированы, и некоторые не по одному разу, а пьесы успешно идут на многих сценах в России и за рубежом. Его словечки и афоризмы, которые так много говорят о нашем времени и о нас самих, ушли в народ и вернулись обратно заголовками в СМИ, привычно зазвучали в устах политиков и общественных деятелей. Его статьи вызывают одновременно восторги и зубовный скрежет. А освоенный им художественный метод постижения действительности — гротескный реализм — дал новую жизнь классической русской сатире, восходящей к Гоголю и Салтыкову-Щедрину.
Михаил Михайлович Бахтин определяет гротескный реализм как «специфический тип образности, присущий народной смеховой культуре во всех формах ее проявления». «Гротескный образ характеризует явление в состоянии его изменения, незавершенной еще метаморфозы, в стадии смерти и рождения, роста и становления. Отношение к времени и становлению — необходимая конститутивная (определяющая) черта гротескного образа. Другая, связанная с этим необходимая черта его — амбивалентность: в нем в той или иной форме даны (или намечены) оба полюса изменения — и старое и новое, и умирающее и рождающееся, и начало и конец метаморфозы». Критик Владимир Куницын, приводя эту цитату в статье о творчестве Полякова, считает необходимым сослаться на еще одну мысль Бахтина, которая, по его мнению, хотя и не имеет прямого отношения к гротескному реализму, тем не менее многое в нем объясняет: «Бахтин утверждает, что на всех этапах своего исторического развития празднества были связаны с кризисными, переломными моментами в жизни природы, общества, человека… Грубо говоря, смеховая культура особенно мощно обогащалась в трагические эпохи. Думаю, ни у кого уже не осталось сомнений, что на наш век пришелся сам пик гротескного бытования России. Так или иначе, но элементы гротескного реализма различимы в произведениях А. Платонова и М. Булгакова («московская линия» в «Мастере и Маргарите», «Собачье сердце», «Роковые яйца» и т. п.).
Однако сказать, что метод этот за последние десятилетия смог прочно прижиться в русской литературе, — нельзя. Вот почему еще так любопытна попытка Ю. Полякова не только сохранить традиции этого метода, уходящие вглубь мировой литературы, но и развить, утвердить на почти пустынном (в этом смысле) поле отечественной словесности. Причем строго придерживаясь и второго определяющего слова — реализма. В отличие от современного постмодернизма и литавангарда, на дух не принимающих жесткую правду реального, телесного, бытового мира, творящих свой гротеск и шарж, исходя из виртуального представления о «почве» (лидер — В. Пелевин), — прозаик Поляков, соединяя концы и начала метаморфоз, остается точнейшим реалистом и в психологическом анализе персонажей, и в бытописательстве, что само по себе куда как сложнее для автора, чем свободная необязательность сочиненного вранья. Ценность этой достоверности понимаешь лишь со временем». И далее: «Разумеется, жизнь теперешняя по части гротеска весьма облегчает труды гротескного реалиста Ю. Полякова. Однако не отменяет претензий к высокому профессионализму, которые предъявляет этот жанр по определению, требуя просто-таки виртуозного стилистического и образного мастерства. Наверное, оттого так короток список практиков этого метода в литературе. Тут требуются особый талант, самобытный склад, особое, смеховое чувство языка. Поляков пародиен, но это не интертекстуальное пересмешничество, а понимание того, что жизнь движется и развивается, как бы пародируя самое себя. И потому неудивительно одиночество этого писателя в нашем поле «гротескного реализма». Отметим для себя это качество: особость. Оно много говорит о писателе и его творчестве.
У каждого успеха своя неразгаданная тайна, но с творчеством Полякова все более чем очевидно: он парадоксален, в нем уживаются вечный бунтарь, разрушитель мифов, мифотворец и конформист. Читая его книги, всякий находит в них что-то, близкое себе. Автор — сатирик и иронист? Безусловно. Бытописатель? Конечно. Любит парадоксы? Еще как! Мастерски владеет словом? Как мало кто в современной литературе. Он умеет насмешить? Практически любого! Ему даются сложные формы? Легко. Он умеет закрутить интригу? Так, что пока не прочтешь, не оторвешься. Он пишет о любви? Да. Но не только. Он пишет и о безлюбии. О том, как люди разучились любить и тоскуют по самим себе той поры, когда умели мучительно переживать и остро чувствовать.
Поляков успешен во всех своих ипостасях. Счастливый дар! И счастливая судьба?
Возможно. На судьбу Юрию Полякову роптать не приходится. И все же он — человек трудной судьбы в прямом смысле слова «труд»: трудоголик, никогда не дававший себе поблажки, ни в начале пути, ни потом, когда его настигла слава. Зато на это приходится роптать биографу: линия его жизни — редкий в литературе случай — абсолютная прямая. И главные коллизии, которые ее сопровождают, связаны с внеличностными событиями, с судьбой страны. «…Родиться в России с душою и талантом» — это про него.
Юрий Поляков — советский человек. Он открыто говорит об этом в своей публицистике, об этом свидетельствуют и его художественные тексты, как бы ни были продуманно амбивалентны его герои. Его называли «колебателем основ» — а он всего лишь честно рассказал о том, что видел и чувствовал, свято веря, что недостатки нельзя игнорировать — их надо изживать. И жизнь очень скоро подтвердила его правоту. Сегодня одни вменяют ему в вину критику советской власти, другие — критику либеральных реформ и реформаторов, игнорируя тот факт, что Поляков, не отвергая своего комсомольского и партийного прошлого, всегда оставался приверженцем идеи всеобщего равенства и таких общественных отношений, при которых каждому гарантирована возможность гармонично развиваться. Литературовед Алла Большакова назвала его «незаконным сыном соцреализма» — но, как мы увидим далее, он был очень даже законным его сыном, можно сказать, вырос из него. Недаром Сергей Владимирович Михалков полушутя-полусерьезно назвал его последним советским писателем: патриарх советской литературы, автор не только слов гимна и «Дяди Степы», но и популярных басен, создатель сатирического киножурнала «Фитиль», чувствовал в поляковском взгляде на действительность нечто родственное, понимал, что так же, как и он сам, критикуя, молодой Поляков надеется сделать советскую жизнь лучше, а советское общество — справедливее.
Помимо судьбы без извивов еще одно обстоятельство не может не смущать биографа. В серии эссе «Как я был…» блестяще-остроумно описан практически каждый жизненный и творческий период, связанный с созданием тех или иных произведений. Эти тексты невозможно ни цитировать — потому что не знаешь, где оборвать цитату, — ни тем более пересказывать; их следует читать, и, будем надеяться, они выйдут отдельной книгой, составив своеобразную творческую автобиографию, остро приправленную юмором и самоиронией. Существует еще и богатый научный пласт: творчество Полякова препарировала пара десятков уважаемых филологов и литературоведов, отчитавшись об этой работе диссертациями, научными статьями и докладами на конференциях. Биографу, не желающему ни пропасть в филологических дебрях, ни переписывать своими корявыми словами многосмысленные авторские эссе, приходится идти тернистым путем поиска особых биографических смыслов в поляковской прозе (отказавшись от идеи пересказывать ее лихо закрученные сюжеты), равно как и в событиях последнего шестидесятилетия отечественной истории — потому что по большому счету все они являются частью личной биографии. Тем более что многое из того, о чем говорит в своей публицистике Поляков, с течением времени требует все более детальных пояснений. Например, почему он считает политику первого и последнего президента СССР катастрофической для страны, а первого президента России, «гаранта демократии», — авторитарным партаппаратчиком. Это не обычные ярлыки, которые навешивают на оппонентов в остром споре, а проверенная временем позиция, но последовательно излагать факты, на основе которых он к этому пришел, по большому счету просто негде.
В одном из интервью Поляков сказал: «Каждый писатель говорит на языке своего поколения», — пояснив, что имеет в виду и особую версию родного языка, и особый мир характерных для времени явлений. Тем не менее ко многим событиям и явлениям, составляющим современность, мы никогда потом не возвращаемся, а если возвращаемся — как Поляков в своей публицистике, — то уже без подробностей. В нашей книге много фактов, посвященных советской и постсоветской истории Отечества. Нам показалось, что только через них можно понять, почему «колебатель основ» так яростно защищает сегодня от нападок социальное государство, каким был СССР, что он имел в виду, когда критиковал советскую государственную систему, а также почему эпоха Горбачева, как и время президентства Ельцина предстали в его прозе и публицистике в таком однозначно неприглядном виде. Именно поэтому существенное место в биографии уделено уже достаточно удаленным от нас событиям, которые, независимо от того, предавали их гласности или скрывали, сплетали канву нашей общей жизни и определяли будущее, которое неминуемо стало настоящим.
Глава первая «КОЛЕБАТЕЛЬ ОСНОВ» (1985–1991)
Неладно что-то в датском королевстве.
У. Шекспир. ГамлетВсякий молодой литератор непременно мечтает о том, чтобы проснуться знаменитым. Когда тебе тридцать, это, как правило, навязчивая мечта.
У тебя уже вышли два поэтических сборника и вот-вот выйдет третий, в газетах и журналах время от времени дают подборки твоих стихов, тебя приметили мэтры и рекомендовали в Союз писателей, ты знаешь, сколько стоит одна стихотворная строчка (1 рубль 20 копеек плюс 1 рубль 20 копеек — если тираж выше 20 тысяч экземпляров), и готов вдохновенно писать поэтические отзывы на важнейшие события личной и общественной жизни, а публичные чтения с твоим участием неизменно успешны…
Короче, у тебя есть всё, кроме славы.
И когда ты уже начинаешь догадываться, что не ко всем она приходит и что твоя жизнь вошла в колею, с которой, возможно, ей не суждено уже сбиться, вдруг наступает то самое утро: ты просыпаешься знаменитым.
У Юрия Полякова это утро наступило в январе 1985-го, когда он достал из почтового ящика пахнущий типографской краской номер журнала «Юность» с первой его опубликованной повестью «ЧП районного масштаба».
Вот что сам он говорит о том, как «уснул среднеизвестным поэтом, а проснулся знаменитым на всю страну прозаиком»:
«Случилось это в тот день, когда январский номер «Юности» очутился в почтовых ящиках трех миллионов подписчиков. Я тоже достал из железной ячейки долгожданный журнал, предусмотрительно вложенный почтальоном в газету (дефицитную периодику в подъездах тогда уже подворовывали), раскрыл и огорчился: с фотоснимка на меня нагло смотрел длинноносый парень, неумело канающий под «задумчивого». По советскому же канону фотопортрет должен был улучшать автора, приближая его к идеалу, когда в человеке все прекрасно — и далее по Чехову. За образец брали портреты членов Политбюро, висевшие тогда во всех присутственных местах. <…>
…Прижимая к груди журнал, я подхватился и поехал в редакцию «Юности», располагавшуюся тогда на «Маяковке» в многоэркерном доме в стиле ар-нуво — как раз над рестораном «София». На второй этаж вела лестница, достаточно широкая для того, чтобы две даже очень крупные фигуры советской литературы, пребывающие в идейно-эстетической вражде, могли свободно разминуться. Тогда писатели противоположного образа мыслей печатались в одних и тех же журналах. И это было нормально. Теперь же, если почвенник и забредет в «Новый мир», то лишь в состоянии полного самонепонимания. Так с пьяных глаз ломятся в дамскую комнату. Но и либеральный автор никогда не заглянет в логово «Нашего современника». Из боязни. Если узнают соратники по общечеловеческим ценностям, рюмки на букеровском приеме не нальют!
Главный редактор журнала Андрей Дементьев встретил меня своей знаменитой голливудской улыбкой:
— Поздравляю! Чего грустный?
— Вот фотография плохо вышла…
— Какая фотография, Юра! Ты даже не понимаешь, что теперь начнется!
Он не ошибся».
Повесть, написанную в 1981-м, не пускали в печать почти четыре года. Партийное начальство понимало, что Поляков замахнулся в ней не на комсомол в отдельно взятом райкомовском масштабе, а на политическую систему, частью которой были комсомол и комсомольские функционеры вроде героя повести Николая Шумилина.
«В те годы публикация острого романа, выход на экран полежавшего на полке фильма или открытое письмо какого-нибудь искателя правды, обиженного режимом еще в утробе матери, — все это вызывало умственное брожение и общественное смущение, которые чрезвычайно беспокоили людей, облеченных властью, — вспоминает Поляков в своем эссе «Как я был колебателем основ». — Они совещались, приглашали вольнодумцев в кабинеты, пили с ними чаи, щелкая сушками, обещали льготы, а если те упорствовали, наказывали без жалости: высылали из СССР прямо в гостеприимные объятья западных спецслужб, приготовивших изгнанцам неплохое трудоустройство, скажем, на радиостанции «Свобода». Удивительные времена! Судьбу какого-нибудь романа решали на заседании Политбюро, коллегиально, взвешивая все «за» и «против». А вот Крым могли отдать Украине просто так, с кондачка, со всей волюнтаристской дури! Странные времена…
Тем, кому сегодня за сорок, нет нужды объяснять, что такое «ЧП районного масштаба». Зато продвинутые представители «поколения пепси», читая повесть, могут удивиться: неужели вполне заурядная история личных и служебных неприятностей первого секретаря никогда не существовавшего Краснопролетарского райкома комсомола Николая Шумилина, изложенная начинающим прозаиком, могла потрясти воображение современников? Ведь тогда по всей стране, от Бреста до Сахалина, стихийно прошли тысячи читательских конференций, бесчисленные комсомольские собрания, на которых до хрипоты спорили читатели моей повести. Все печатные органы, включая «Правду», откликнулись на «ЧП…» резко критическими, мягко разгромными или сурово поощрительными рецензиями. Началось с Виктора Липатова, автора ванильных «Писем из райкома» (не путать с талантливым Вилем Липатовым, автором «Деревенского детектива»). Ванильный Липатов, как специалист, напечатал в «Комсомолке» статью «Человек со стороны», которую явно заказало начальство, не ожидавшее такого ажиотажа вокруг повести о райкоме.
Думаю, критика «ЧП…» была связана и с внешней реакцией чуждых сил. Василий Аксенов, кажется, по «Голосу Америки» рассуждал о повести, видя в ней первую ласточку весны, призванной растопить торосы Империи зла. А ведь на дворе стоял холодный январь 85-го, в Кремле доживал Черненко, еще не поевший рокового копченого леща[1], и о радикальном сломе системы свободно рассуждали только в стационаре Канатчиковой дачи. Но литература обладает удивительной способностью ранней диагностики. <…>
По тогдашним правилам игры, раскритиковали меня в прессе, конечно, не за разоблачительный пафос, а за недостаток художественности. Однако читатель, владевший основами чтения между строк (а этим искусством владели тогда все, кроме моей бабушки, не выучившейся грамоте), отлично понял: начальство в бешенстве, вместо критики отдельных недостатков молодой автор замахнулся на устои, усомнился в основах. Кстати, по логике постперестроечного абсурда, именно сервильный Виктор Липатов впоследствии сменил либерального Андрея Дементьева на посту главного редактора «Юности». <…> Все это случилось гораздо позже, а тогда в редакцию шли сотни писем, и мой телефон раскалился от звонков: меня приглашали выступить в библиотеках, институтах, школах, воинских частях, на заводах и даже… в комсомольской организации центрального аппарата КГБ».
Видимо, фотография была не такой уж неудачной: «Меня узнавали, останавливали на улице, чтобы похвалить за смелость и тут же доверительно сообщить, что в одной комсомольской организации было такое ЧП, по сравнению с которым мое «ЧП…» вовсе даже и не ЧП…» Так иронически вспоминает Поляков о событии, перевернувшем его жизнь. На самом деле ирония, конечно, пришла позже, а вначале, можно не сомневаться, автор сам был озадачен реакцией на повесть. И хотя в глубине души всегда верил в свою звезду, вряд ли мог ожидать, что первые же его прозаические вещи взбаламутят всю страну.
* * *
Под повестью «ЧП…» автор поставил две даты: 1981 и 1984 год.
Это означает, что первая редакция была закончена им еще в эпоху позднего застоя, когда страна жила в напряженном — и радостном — ожидании перемен.
К очередям, как за продуктами, так и за книгами, все давно привыкли, но в снабжении населения нередко случались досадные перебои. Страна решала гигантские задачи — и они были ей по плечу, — а из магазинов то по одному, то целым списком исчезали товары народного потребления. Вдруг пропадал репчатый лук, и за ним (по две сетчатые упаковки за 52 копейки в руки) вставала многочасовая очередь. Или сгнивала прихваченная морозом картошка. Или начисто исчезало с прилавков мясо, и в мясных отделах место «мяса б/к» занимали банки с консервами. Перебои случались с шампунем, стиральным порошком, туалетной бумагой…
Сам Юрий Поляков как-то сказал, что в эпоху всеобщего дефицита холодильники советских граждан ломились от дефицитных товаров. Метод гротескного реализма, которым он так виртуозно владеет, для того им и развивался, чтобы во времена всеобщей идейно-политической и нравственной слепоты усиливать четкость изображения, оттенять контраст между белым и черным. Но иногда не хватает подробностей. Потому что все было так, да не так.
Да, перебои с продуктами первой необходимости усилились именно в эпоху развитого социализма, в связи с чем на майском 1982 года пленуме ЦК КПСС была принята Продовольственная программа, автором которой считают недавно (1980) пришедшего в политбюро М. С. Горбачева, курировавшего сельское хозяйство. Однако программа ожиданий не оправдала.
С 1962 года СССР регулярно закупал зерно за рубежом. Но если в начале 1970-х страна импортировала около 7 миллионов тонн пшеницы в год, то в 1982-м эта цифра выросла до 45 миллионов. К этому времени Советский Союз стал и крупнейшим импортером мяса.
Производство собственной сельхозпродукции требовало постоянных субсидий — что показывает опыт развитых стран мира, — однако в том, как и на что выделялись деньги, призванные поддержать сельское хозяйство, допускалось немало системных ошибок. При росте доходов населения цены на продовольствие десятилетиями не менялись, продукты быстро исчезали с полок, а иногда до них просто не доходили, и мясники, продавщицы бакалеи и завмаги небескорыстно помогали гражданам преодолевать всеобщий дефицит в индивидуальном порядке.
…………………..[2]
…Потом на машине помчались в Жуковский, за полсотни километров от Москвы. Там, в центре городка, стоял мощный сталинский гастроном — с колоннами, мозаичным полом, золоченой лепниной на потолке, тяжелыми латунными люстрами, мраморными прилавками и огромным аквариумом, где медленно плавал одинокий карп, косясь на покупателей обреченным глазом. К стеклу приклеили бумажку: «Образец не продается». В магазине было шаром покати. В холодильных витринах лежали только желтые кости с остатками черного мумифицированного мяса, а вдоль кафельных стен высились замки, выстроенные из красно-синих банок «Завтрака туриста». Через весь зал тянулась, петляя, сварливая очередь за гречкой: килограмм в руки. Директор гастронома, кругленький и лысый, как актер Леонов, уныло сидел в кабинете, увешанном грамотами и желто-алыми вымпелами с ленинским профилем. Чего-чего, а вождя в пустом магазине хватало. Увидав на пороге гостей, «Леонов» вяло махнул пухлой лапкой:
— Не завезли.
— Мы от Александра Борисовича, — тихо объяснила Марина.
— A-а! Тогда за мной! — посвежел толстяк.
По бетонной лестнице спустились в большой, как теннисный корт, подвал. Это была пещера продовольственного Али-Бабы! Ежась от холода, они шли вдоль многоярусных полок с невозможной жратвой. Сквозь пелену горя Гена видел банки с давно забытыми деликатесами — икрой, красной и черной, крабами, осетровым балыком, тресковой печенью, атлантической сельдью, макрелью и трепангами. По закуткам стояли корчаги маслин, оливок и корнишонов. С потолка копчеными сталактитами свисали колбасы, от пола росли штабеля сыра. В аккуратных коробах желтели гроздья бананов, местами уже почерневших, в ячеистых картонках покоились апельсины, груши, персики, из бумажных оберток торчали жесткие зеленые охвостья ананасов. Целый угол занимали коробки с пивом «пилзнер».
«Теперь понятно, почему наверху ни черта нет!» — подумал спецкор и начал в мыслях сочинять фельетон «Подпольное изобилие».
Марина, оставаясь скорбно-сдержанной, мела продукты впрок, не только на поминки, но и на свой скорый день рожденья. Толстяк-директор советовал со знанием дела: «Возьмите сахалинскую семгу, она лучше, а икру берите осенней расфасовки!» Попутно он восхищался коллекцией Александра Борисовича, жалуясь, как подорожала в последнее время графика Сомова. Оно и понятно: в стране скрытая инфляция. Продукты сложили в большие коробки из-под яиц. Грузчик, воровато озираясь, вынес их через черный ход и быстро покидал в багажник «жигулей», пока не заметили озлобленные дефицитом граждане. Стоило все это больше двухсот рублей, да еще двадцать процентов сверху.
— Оформляем как свадебный заказ с доставкой на дом, — виновато объяснил «Леонов». — Иначе нельзя. Контроль и учет. Социализм…
«Да уж, социализм!» — хмыкнул Скорятин.
(«Любовь в эпоху перемен»)…………………..
В те годы страна, в отсутствие мяса, страшно полюбила вареную колбасу. «Достать» ее можно было, как правило, только в Москве. И народ потянулся на электричках в столицу. Ехали из ближнего и дальнего Подмосковья, из Тулы и Рязани, Калуги и Твери. Из областей, которые и должны были снабжать ту же столицу мясом и молоком. В среде так называемой московской интеллигенции этих людей презрительно прозвали «плюшевым десантом» — по плюшевым фуфайкам — модным в провинции полупальто, которые по преимуществу носили тогда простые русские бабы. На рассвете они выезжали в столицу, а к вечеру возвращались домой, измученные, с выбившимися из-под платка прядями, с холщовыми сумками, перекинутыми через плечо и битком набитыми съестным.
Так решали проблему хлеба насущного сельские жители и обитатели маленьких городов. Не то было в столице. Тут из-за повального дефицита каждое предприятие или учреждение было прикреплено к определенной продовольственной базе, где раз в неделю — а также к официальным праздникам — формировался заказ, который мог купить работник и который привозили на выделенной предприятием машине прямо на рабочие места. В продовольственном заказе, наряду с сырокопченой колбасой и красной икрой, появлявшихся по праздникам, обычно имелись гречка, пакет любимого всеми индийского чая со слоном на этикетке, баночка растворимого кофе, зеленый горошек, кусок говяжьей грудинки, связка зеленых бананов, которые должны были с месяц дозревать где-нибудь в темном месте, чаще всего в платяном шкафу, баночка шпрот, иногда — картошка либо все тот же репчатый лук. То есть люди получали по фиксированной цене набор продуктов, который давал семье возможность на протяжении недели нормально питаться, не простаивая в километровых очередях.
Кое-что остродефицитное в холодильниках у граждан имелось, но не более того. И хотя никто тогда не досаждал населению рассказами о правильном питании, каждый трезвомыслящий гражданин понимал, что только очень здоровый желудок способен выдержать ежедневное потребление дефицита — вместо общедоступных каш и укрепляющего говяжьего бульона.
Зато в рабочих столовых была простая, здоровая и разнообразная еда. При желании в них можно было питаться на сущие копейки — благодаря наличию все тех же каш, приготовленных со знанием дела. Существовал и специальный рыбный день, четверг, который ввел еще в 1930-е годы нарком пищевой промышленности Анастас Микоян и который, скрашивая отсутствие мяса, приучал людей к потреблению полезной для сердца и сосудов рыбы.
И все же не хлебом единым жил советский человек. Но чем же? — спросят тридцати-сорокалетние жертвы тотальной идеологии общества потребления, убежденные, что, кроме дефицита — и цензурного мракобесия, в Советском Союзе не было ничего, стоящего внимания.
Что тут ответить, имея в виду, что в разговоре с жертвами общества потребления невозможно говорить о нематериальном и неисчислимом? Можно было бы начать хотя бы с того, что тогда люди значительно меньше, чем теперь, думали о еде, хотя и тратили немало времени на ее добычу. Одевались они кто как мог, но вполне достойно. Тогда процветали ателье и частные портнихи, а некоторые женщины, выписывая журналы с выкройками, умудрялись обшивать себя и всю семью. Были такие, кто регулярно посещал комиссионку, где можно было недорого приобрести то, что сейчас именуется секонд-хендом. Были и те, кто втридорога платил за заморские вещицы знакомым фарцовщикам.
Зато граждане ходили в музеи и на концерты, доставали билеты на модные спектакли и дефицитные книги, пели в походах песни под гитару, отдыхали «дикарями» в Крыму, стояли в змеевидных очередях за билетами на выставку Ильи Глазунова, «Бег» Алова и Наумова и «А зори здесь тихие…» Станислава Ростоцкого, обменивались аккуратно обернутыми в кальку номерами толстых журналов с литературными новинками, записывались на них в очередь в библиотеках. Тогда очень многие были непременно записаны в библиотеки — и все поголовно следили за творчеством Солоухина и Гранина, Распутина и Битова, Айтматова и Белова — не таких уж легких для восприятия авторов. Книга действительно была лучшим подарком — практически для каждого, а известный писатель наделялся сверхъестественной мудростью провидца, и его слово, обращенное к битком набитому залу, ловили затаив дыхание. Но не потому, что люди опасались новых тяжких испытаний, проклиная партию и правительство, а потому, что вместе с писателями мучились вечными вопросами, которые во все времена трудно разрешить в одиночку: о душе и вечности, о совести и сострадании, о наследии предков и судьбе страны. Как видно из перечисленного, к ведению марксистской идеологии эти вопросы напрямую не относились, потому так важно было людям посмотреть на современную жизнь глазами писателя, человека, для которого его дело было не службой, а служением, практически как для священника — во всяком случае, так казалось большинству.
Над чистотой и наивностью советских людей можно, конечно, посмеяться — но они не были ни глупыми, ни незрячими. Они хотели становиться лучше и видеть, как вместе с ними становится лучше страна. Они всё понимали про «перегибы», «уклоны» и «головокружение от успехов», рассказывали анекдоты про «нехай клевещуть» и «армянское радио», до слез смеялись над собой, слушая песни Высоцкого, сидя в кинотеатре на очередной рязановской / гайдаевской комедии или выпуске «Фитиля», который принято было показывать перед художественной лентой.
На очередном съезде КПСС утверждался пятилетний план экономического развития страны. Как правило, пятилетки получали название по той основной задаче, которую были призваны решить. Принятый на XXVI съезде, проходившем зимой 1981 года, новый пятилетний план народ заранее мрачно окрестил аббревиатурой ППП — «пятилеткой пышных похорон»: возраст Брежнева и многих членов политбюро был воистину критическим. И хотя сведения о состоянии здоровья генерального секретаря составляли государственную тайну, любое его появление перед камерой, а тем более публичное выступление наглядно демонстрировало: здоровье генсека безвозвратно утрачено, и то, что он по-прежнему возглавляет самую большую в мире страну, — недоразумение, смахивающее на вредительство.
Всем было понятно, что дальше так продолжаться не может и перемены неизбежны. Вольно или невольно их ждал в стране каждый, и, конечно, все были убеждены, что перемены могут быть только к лучшему. Но не потому, что люди воспринимали ситуацию, как «хуже некуда», а потому, что, как позднее заметил Поляков, «мы все были заражены верой в необратимость прогресса». И дальше: «Тогда казалось: будущее не может быть хуже настоящего только потому, что оно будущее».
Страна была готова к освежающей, очистительной грозе — а разразился ураган. Но можно ли быть готовым к урагану?..
Вначале сбылись мрачные пророчества про ППП: в январе 1982 года в Колонном зале Дома союзов прощались с секретарем ЦК КПСС по идеологии М. А. Сусловым, в ноябре того же года — с генеральным секретарем ЦК КПСС Брежневым, в феврале 1984-го скончался сменивший Брежнева Юрий Андропов, а в марте 1985-го — пришедший на смену Андропову Константин Черненко; в этот же период умерли возглавлявший Комитет партийного контроля Арвид Пельше и министр обороны Дмитрий Устинов. Все они были членами политбюро — центрального коллективного органа управления страной[3].
Надо ли говорить, что уже после смерти Андропова все ожидали, что власть перейдет к его выдвиженцу, энергичному и амбициозному Горбачеву, явно с дальним прицелом оказавшемуся в политбюро. Но ожидания были обмануты, и агония одряхлевшей «застойной» власти продлилась еще год.
Именно в это время и вышла повесть «ЧП районного масштаба» — дальше ждать перемен было невозможно, и люди на разных уровнях сами торопили их как могли. Сейчас редко вспоминают о том, что к переменам готовилась и партия, время от времени принимавшая постановления о совершенствовании работы того или иного звена в сложном государственном механизме. В конце 1984-го ЦК КПСС озаботился совершенствованием партийного руководства комсомолом, и соответствующее постановление открыло наконец поляковской повести дорогу к читателю.
* * *
Что же представлял собой комсомол? Прежде всего, при всех свойственных тому времени бюрократических издержках, комсомол действительно представлял советскую молодежь. По данным на 1977 год в комсомоле состояли более 37 миллионов человек, чуть ли не каждый шестой гражданин самого большого в мире государства. Если говорить о гражданах комсомольского возраста (от четырнадцати до двадцати восьми лет), то, думается, тут речь может идти как минимум о 85 процентах. То есть преобладающая часть советской молодежи была вовлечена в комсомольскую деятельность на разных уровнях и в различных формах. А это означало, что в тогдашнем комсомоле был заложен колоссальный потенциал. Но дело было не только в «энергии масс».
В обязанности каждого комсомольца входила общественная работа, которую он должен был выбрать по своему усмотрению. Это могла быть стенгазета (с обязательным сатирическим разделом). Это могла быть работа по вовлечению молодежи в занятия спортом и организации спортивных соревнований. Работа с трудными подростками, в контакте с детской комнатой милиции и обязательными рейдами по квартирам для проверки условий, в которых подросток проживает. Дежурство на улицах в составе группы дружинников с красными повязками. Организация художественной самодеятельности. Шефство над детскими домами. Считалось, что все эти поручения комсомольцы выполняют не для галочки, посвящая свое свободное время созидательной деятельности на благо страны.
В уставе Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи говорилось, что комсомол «помогает партии воспитывать молодежь в духе коммунизма, неукоснительного соблюдения Конституции СССР и советских законов, вовлекать ее в практическое строительство нового общества, готовить поколение всесторонне развитых людей, которые будут жить, работать и управлять общественными делами при коммунизме».
Комсомольцы ежемесячно платили обязательные взносы, штампы об оплате которых проставлялись в комсомольском билете. В школе и техникуме — для учащихся — этот взнос составлял, кажется, 2 копейки. В институте — исходя из стипендии — это было уже 35 копеек. Работающая молодежь платила существенно больше, ее взносы зависели от зарплаты, которая в среднем составляла тогда 90—120 рублей. Благодаря в том числе и этим взносам комсомол был мощной структурой, буквально ворочавшей миллионами. Помимо зданий райкомов и горкомов комсомолу принадлежали очень популярная не только среди молодежи газета «Комсомольская правда», крупнейшее в стране издательство «Молодая гвардия» со всеми его пятнадцатью журналами, такими как «Вокруг света», «Техника — молодежи», «Молодая гвардия», «Юный натуралист», «Мурзилка», «Веселые картинки» и др. У комсомола были свои гостиницы (в Москве — «Юность» и «Орленок»), туристские базы, молодежные лагеря отдыха, центры научно-технического творчества, учебные заведения (в том числе Высшая комсомольская школа в Вешняках), поликлиники, детские сады и жилые дома, в которых получали квартиры сотрудники аппарата и всех комсомольских структур. Воистину государство в государстве. Впрочем, одно из многих[4].
Комсомол брал шефство над гигантскими, эпохальными стройками, которые получали наименование ударных комсомольских. Молодежь всей страны приезжала туда за романтикой, не гнушаясь непрестижной работой, как это было при строительстве БАМа — Байкало-Амурской магистрали. Кстати, зарплату ехавшие «за мечтами и за запахом тайги» получали очень приличную, а в таежных магазинах продавалось много такого, что в обычной жизни считалось дефицитом. Но и ресурсы страна подтягивала туда колоссальные, другое дело, насколько эффективно этими ресурсами распоряжались на местах.
Миллионы молодых людей и девушек, имевших непосредственное отношение к комсомольским структурам, составляли величайший кадровый резерв страны. «При этом комсомол болел всеми недугами советской власти, — писал Поляков в эссе «Как я был колебателем основ», — именно в нем происходило становление нового типа чиновника, способного ради карьеры на все. Даже на государственную измену. И предпринимателя, ради прибыли перешагивающего через закон, друзей, мораль. Кстати, Ходорковский работал в том же Бауманском РК ВЛКСМ, что и я, но несколькими годами позже. Впрочем, все было гораздо сложней и противоречивей. Одновременно именно в комсомоле сохранились отблески героической эпохи становления советской цивилизации, остаточная энергия того мощного пассионарного взрыва, который после революции бросил миллионы молодых людей на строительство нового мира, а потом и на его защиту. Заметьте: над Павкой Корчагиным стали смеяться гораздо позже, чем над Ильичом или Чапаевым. Но стали же! На каком-то капустнике актер Ясулович изобразил глумливую пантомиму: Корчагин сам себя закапывает в землю, сохраняя на лице улыбку идиотического оптимиста. Я сказал миму, что Корчагин строил узкоколейку, чтобы привезти дрова в замерзающий город, и смеяться вроде как не над чем. Он посмотрел на меня с недоумением энтомолога, встретившего говорящего кузнечика. Журнал «В мире книг», печатая интервью со мной, самочинно — к моему искреннему огорчению — поставил заголовок «Нужен новый Корчагин!». Ко мне подходили знакомые литераторы и, посмеиваясь, спрашивали:
— Юр, тебе и в самом деле нужен новый Корчагин? На фига?
Я отшучивался. Я тогда еще не понимал, что, открещиваясь от героя, способного ради идеи на подвиг, мы лишаем литературу важнейшего ее свойства. Ведь подвиг, начиная с Гильгамеша или Гектора, всегда был главной темой литературы. Восхищение и омерзение — вот два полюса, рождающих энергию искусства.
Но вернемся к комсомолу. Неправда, что с помощью комсомола советская власть приспосабливала к себе молодежь. Точнее, это не вся правда. С помощью комсомола молодежь приспосабливала к себе советскую власть. Кроме того, ВЛКСМ предлагал реальную возможность, как выражаются специалисты, канализации молодежной энергии. Конечно, в русле существовавшей социально-политической модели. А какой же еще? Впрочем, уже тогда немало юных людей вливались в ряды так называемых «неформалов». Нерасторопная советская власть запаздывала с реакцией на стремительно менявшуюся жизнь. Кто ж знал, что буквально через десять лет немногие сохранившие верность полуподпольному комсомолу сами станут «неформалами?».
* * *
Когда в 1982 году Павел Гусев на свой страх и риск опубликовал в «Московском комсомольце» главу из повести «ЧП районного масштаба» (о комсомольском собрании на майонезном заводе), он заработал за это «строгача» — так называли строгий партийный выговор. Имея такой выговор и еще раз проштрафившись, можно было вылететь и из партии и с работы. Гусев не мог предвидеть, что спустя два года выйдет вышеупомянутое постановление ЦК КПСС, которое в корне изменит отношение к повести партийного начальства. Но пострадал он не напрасно: на публикацию обратил внимание главный редактор «Юности» Андрей Дементьев, который и попросил автора принести рукопись в журнал. Там она вылеживалась два года, пока не подоспело постановление.
«Проблемы своих младших соратников по борьбе за коммунизм партия как направляющая сила, конечно, знала, — рассказывает Поляков. — Я бы даже сказал: знала она о неблагополучии прежде всего в собственных рядах, но, по сложившимся правилам, искала недостатки у других. Партия ведь не ошибалась, она только исправляла допущенные ошибки. Полагаю, такова особенность любой власти: авторы «шоковых реформ» во главе с Гайдаром, горячо обличавшие жестокость Сталина, — сами до сих пор не извинились за реформы «через колено». Исключение — Чубайс, который, правда, извинился не за реформы, а за несусветный гонорар, полученный за какую-то брошюрку[5].
По давней традиции, приняв постановление, в ЦК стали интересоваться, нет ли у чутких советских писателей чего-то художественно созвучного озабоченности партии делами комсомола. Спросили у первого секретаря СП СССР Георгия Маркова. Он ответил, что, кроме «ЧП…», мертво лежащего в редакционном портфеле «Юности», соцреалистическая литература ничего такого своевременно не заготовила. Связались с Дементьевым: мол, что там у вас с повестью Полякова?
— Так вы же сами запретили… — удивился он».
«Наверху» еще раз прочитали повесть и на этот раз нашли, что ее вполне можно публиковать, однако порекомендовали сменить название: прежнее, «Райком», звучало слишком обобщенно.
«Несколько дней я промучился, подбирая новое название. В голову лезла и казалась очень удачной разная чепуха, вроде «Иного не дано» или «Время — решать», но поскольку меня просили предложить три варианта, я добавил на отсев, до кучи еще и «ЧП районного масштаба». Выбрали именно его. Более того, именно это название стало идиомой и прочно вошло в русский язык».
К тому же о комсомолии, являвшейся хотя и младшей, но тоже одной из священных коров советской системы, с такой веселой вседозволенностью еще в советской литературе не писали.
…………………..
…Дальнейшие печальные события восстановить было несложно.
Оставшись в райкоме за старшего, третий секретарь Комиссарова потеряла голову из-за пионерского приветствия участникам слета и пустила все на самотек. Сложилось обманчивое впечатление, будто что-то делается, кипит работа, берутся намеченные и определяются новые рубежи, а по сути, слет, мероприятие общегородского масштаба, оказался на грани срыва. И если хоть что-нибудь сделано, то благодарить нужно вышедшего из отпуска несколько дней назад заворга Чеснокова. В распахнутом кожаном пиджаке, со свистом рассекая воздух тугим животом, он носится по райкому, звонит одновременно по двум телефонам, озадачивает сразу двух инспекторов, диктует машинистке свой кусок доклада… А может, его — на место Кононенко? В горкоме советовали.
В настоящий момент кудрявый Чесноков стоял перед первым секретарем, смотрел преданными черными глазами и, сверяясь с «ежедневником», докладывал о подготовке к слету.
— Первая позиция. Президиум. Точно будут: Ковалевский, секретарь горкома комсомола Околотков, Герой Советского Союза генерал-лейтенант Панков, Герой Социалистического Труда ткачиха Саблина, делегат съезда — она же член нашего бюро — Гуркина, ректор педагогического института Шорохов… Пока все. Нужно пригласить, только уж сам звони: космонавта, узнаваемого актера из драматического театра и обязательно ветерана, но такого, чтобы выступить не захотел, а то, помнишь, на прошлогоднем слете дед из Третьей Конной час рассказывал, как ногу в стремя ставил…
— Олег Иванович! — Шумилин невольно улыбнулся и нахмурил брови.
— Понял. Не повторится. Вторая позиция. Твой доклад. Все отделы, кроме Мухина, свои куски сдали, я их свел, Аллочка допечатывает, можешь пройтись рукой мастера.
— Фактуру по работе с подростками не забыли?
— Обижаешь, командир! Локтюков и Комиссарова расстарались. Особенно о подростках и нашем детдоме получилось здорово!
— Вот так, да? Дальше.
— Плохо с выступающими. Пропаганда пока никого не подготовила — с Мухиным разговаривай сам. Мои ребята ведут печатника, строителя и двадцатичетырехлетнего кандидата наук, представляешь? По другим отделам будут: студент из педагогического (первокурсник — ты его не знаешь), спортсмен, солдатик, от творческой молодежи, как всегда, выступит Полубояринов. Да-а, совсем забыли: от майонезного завода будет этот… как его?..
— Кобанков?
— Точно. Он к своему отчетному собранию хороший текст подготовил. Со слезой! Самородок!
— А когда у них собрание?
— Завтра. Первыми проводят.
— Вот так, да? Надо к ним съездить. — Шумилин сделал пометку на перекидном календаре.
— И последнее: школьный отдел пишет выступление на тему «За партой — как в бою!».
Краснопролетарский руководитель снова улыбнулся и спросил:
— Сколько всего выступлений?
— Девять. Из них два резервных.
— Сколько подготовлено?
— Два: Кобанков и Полубояринов…
— А слет в среду! С этого и начинал бы. Дальше.
— Третья позиция. Пригласительные билеты. НИИТД отпечатал еще в начале недели, уже разослали. Вот образец.
И Чесноков положил на стол красные глянцевые корочки с золотым тиснением.
— Красиво, — покачал головой первый секретарь. — Райком, выходит, не готов, зато билеты готовы. Дальше.
— Четвертая позиция. Скандирующая группа. Взяли молодых ребят из драматического театра; когда их слышишь, хочется встать и запеть…
— В день слета в спектакле они не заняты?
— Кто?.. Нет, наверное…
— Проверь.
— Понял. Пятая позиция. Плакаты пропаганда еще не сделала, с Мухиным разговаривай сам, у него на все один ответ: решим в рабочем порядке. Кстати, кино — в рабочем порядке — он тоже до сих пор не заказал. В последний момент, боюсь, привезет какой-нибудь «Центрнаучфильм». Ты бы позвонил, может, недублированный дадут? Актив побалуем.
— Не дадут.
— Почему?
— Вредно это!
— Понял, командир. Но тогда тех, которые для нас фильмы покупают, надо отстранять!
— Зачем?
— Потому как отравлены буржуазной идеологией: они ведь все фильмы — и не дублированные! — смотрят. Жуть! Шестая позиция. Транспортом для пионеров занимается Шестопалов. Я ему сказал: если не решит вопроса с автобусами, повезет на себе…
— Письмо в автохозяйство отправили?
— Нет еще.
— Из скольких школ пионеры?
— Из пяти.
— Где собирать будете? Где репетировать?
— Во Дворце.
— С директором договорились?
— Кажется, да…
— Кажется… За три дня до слета знать нужно! Кажется… Дальше.
— Седьмая позиция. Сцена, президиум, контакт с ДК автохозяйства, звукорежиссура — всем занимается Мухин, обещал решить в рабочем порядке, разговаривай с ним сам.
— Значит, тоже не сделано, — еще больше помрачнел Шумилин.
— Восьмая позиция. Рассадка в зале. Этим занимаются мои ребята, студенческий и школьный. Заяшников приведет первые курсы педагогического, мои обеспечат делегации предприятий и организаций, подстрахуемся школьниками. Если в зале останется хоть одно свободное место, можешь расстрелять меня при попытке к бегству. Девятая позиция. Дружинники. Локтюков все сделал. Тридцать районных каратистов придут на дежурство в поясах всех цветов радуги. Шучу. Десятая позиция. Буфет. Я договорился: трест столовых организует два лотка. Будут киоски с книгами и пластинками, посмотри список — там интересное есть… Пометь — я тебе отложу. Одиннадцатая позиция. Корреспондента из «Комсомольца» я пригласил, звонил от твоего имени, с радио тоже будут. Телевизионщики ответили, что снимали нас в прошлый раз — сколько можно? Кстати, сделать это должен был Мухин, но средства массовой информации я никому не доверяю. Ты, например, давно себя в газете на фотографии видел?
— А что?
— Ничего. Двенадцатая позиция. Приветствие пионеров. Разбирайся сам: Комиссарова, как всегда, сварганила целую мистерию. Барабаны, фанфары, дети грудного возраста читают стихи, под конец весь президиум с красными галстуками на шеях…
(«ЧП районного масштаба»)…………………..
«Сказать, что моя повесть стала полным откровением для думающей части населения, конечно, нельзя. Достаточно вспомнить «Зияющие высоты» Александра Зиновьева… Но то была «забугорная» литература, доходившая в виде слепого ксерокса или доносившаяся из трескучего вражеского эфира. А тут в журнале «Юность», трехмиллионным тиражом!»
«Сегодня даже в учебниках литературы допускают ошибку, относя «ЧП…» к перестроечной литературе. Нет, в январе 85-го, когда первый номер журнала поступил к подписчикам, о «новом мышлении» не помышлял еще и Горбачев. Бурный отклик в обществе, дискуссия в комсомоле, восторг забугорных радиоголосов — все это, конечно, насторожило власть. Меня, как я сказал выше, крепко критиковали и в печати, и во время многочисленных встреч с активистами».
* * *
В тот год хлебнувший славы писатель ощущал себя центром мира, а между тем жизнь шла своим чередом: в 1985-м с конвейера Горьковского автозавода сошла миллионная «Волга», у советской милиции появились резиновые дубинки, которые народ тут же окрестил «демократизаторами», а в Эрмитаже сумасшедший дважды ударил ножом «Данаю» Рембрандта и облил ее серной кислотой. В Москве на Октябрьской площади торжественно водрузили на постамент, видимо, последнего советского Ильича, а оборонка выдала на-гора очередные сверхдостижения: в небо родины поднялся сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, прозванный летчиками «Белым лебедем», а на боевое дежурство встали столь нелюбимые нашими заокеанскими друзьями ракетный комплекс «Тополь» с дальностью полета 11 тысяч километров и система «Периметр», гарантирующая ответный ядерный удар даже в случае успешной атаки противника.
Кстати, в том же 1985-м у Габриеля Гарсиа Маркеса вышел роман «Любовь во время холеры», с названием которого так явно перекликается название вышедшего через 30 лет романа Полякова, посвященного горбачевской перестройке. Только выводы у писателей получились разные. Впрочем, мы поговорим об этом позже.
* * *
«ЧП…», как и две вышедшие следом повести Полякова «Сто дней до приказа» и «Работа над ошибками» написаны в модном и очень востребованном в литературе жанре производственного романа, в котором особо прославился тогда канадский писатель британского происхождения Артур Хейли (1920–2004). В его романах детально описывалось, как функционирует та или иная система и как она влияет на общество и отдельных индивидуумов. При этом повествование сопровождалось драматическими коллизиями, связанными с обстоятельствами личной жизни героев, и все это на фоне кризиса системы, успешно преодолеваемого в конце.
Книги Хейли не раз становились бестселлерами номер один по версии газеты «Нью-Йорк тайме», и их перевели на 40 языков, в том числе, конечно, на русский. Самыми популярными у нас были романы «Отель», «Аэропорт», «Колеса» (не про наркотики, как мы бы теперь подумали, а про автомобильную корпорацию).
Нельзя сказать, что Хейли был первооткрывателем жанра, он скорее придал ему второе дыхание. Производственные романы успешно издавали многие члены Союза советских писателей. Правда, классический соцреализм сводил коллизию к противоборству добра и зла в масштабах цеха или завода, оканчивавшемуся, как правило, с приездом секретаря райкома, который и разруливал ситуацию. На подобных сюжетах строились многие произведения мастеров соцреализма, но на подобных сюжетах строилась и сама жизнь — хотя, конечно, не только на них.
В том, что касалось сюжета и нравственных коллизий, соцреалисты явно проигрывали Хейли. Но совсем иначе, чем все они, рассказывал свои истории молодой писатель, по-своему, по-поляковски закручивая сюжет, избегая надуманных благополучных концовок (и предпочитая им открытые) и щедро демонстрируя личную и даже интимную жизнь героев. К тому же его стилистика не имела ничего общего с произведениями жанра: уже в первых повестях проявился его дар ирониста, а ироническая интонация преобразила «производственный» жанр.
Поляков как будто шел по «производственной» схеме, но главным в его повестях стали не внешние события, а разлад героя с самим собой. При этом автор, которого в высоких кабинетах за иронию бранили, оставался сдержанно насмешлив, а к героям всепрощающе участлив. Его герои не могли более следовать привычным поведенческим клише, не знали, как быть дальше, и не верили, что смогут найти ответ там, где ищут его окружающие. Как отмечала Алла Большакова, «начиная с «ЧП районного масштаба», тема разлада с собой, с обществом становится в прозе Ю. Полякова доминирующей». Но, отметим мы, далеко не единственной.
Показывая внутренний конфликт героя, автор этим не ограничивался и был чрезвычайно дотошен в описании райкомовской структуры. Ему представлялось важным перечислить подразделения райкома и даже дать имя всем попадающим в орбиту деятельности героя функционалам. Сегодня, когда комсомол исчез из нашей жизни, эта дотошность представляется счастливым свойством, позволяющим восстановить утраченную память о том, как действовал этот механизм и из каких деталей состоял — то есть «ЧП…» представляет ныне не только художественную, но еще и историческую ценность.
…………………..
Утвердили регламент, и слово получил Ноздряков.
Деревянным шагом он подошел к трибуне, разложил странички, отпил воды из стакана, ухватился руками за микрофон и, тряся от волнения ногой, что было видно только из президиума, начал:
— Товарищи! Победным шагом идет комсомол…
Шумилина охватило привычное президиумное оцепенение. Все, что случится дальше, он знал наизусть, потому что отсидел не одну сотню таких собраний, а раньше сам готовил и проводил их. Изредка к нему сзади наклонялся Цимбалюк и шептал, что доклад он выправил, что выступления в прениях подготовлены, что Ноздряков, конечно, не подарок, но организацию тянет, с руководством, особенно с главным инженером, ладит. Лешутин его, правда, недолюбливает…
Боковым зрением Шумилин оглядел своих соседей по президиуму. Головко затвердел и стал похож на человека, которому в голову пришла большая государственная мысль. Утомленное лицо секретаря парткома выражало миролюбивую иронию: мол, если хочешь погубить хорошее дело — поручи его комсомолу. Старикова добродушно разглядывала молодежь усталыми глазами. Валя, шевеля губами, готовилась продолжить свои председательские обязанности.
Изредка главный инженер и первый секретарь обменивались ничего не значащими руководящими репликами: «Хорошо сказал!», «Они вообще у нас ребята неплохие…». Лешутин отмалчивался. Шумилин всмотрелся в зал: первым рядам, простреливающимся из президиума, приходилось слушать. В глазах ребят была давняя, загустевшая тоска. Дальше — легче: судя по ритмично ходившим плечам, некоторые девушки вязали, заочники трудились, положив тетрадки на колени, временами отрывались от писанины и пристально вглядывались в докладчика, то ли демонстрируя внимание, то ли силясь что-то вспомнить. Длинноволосый паренек приладил под гриву наушники и наслаждался карманным магнитофоном, несколько человек, склонив головы, подтверждали, что наша молодежь самая читающая в мире. В дальнем углу, кажется, конспиративно играли в карты.
А между тем докладчик после пространного перечисления успехов комсомолии майонезного завода со сдержанным трагизмом перешел к отдельным недостаткам, которые, надо отдать должное, были так искусно подобраны, что воспринимались как продолжение достоинств. Преодолеть эти недостатки Ноздряков настойчиво завещал будущему составу комитета ВЛКСМ. Наконец оратор перевернул последнюю страничку, эффектно вплавил в заключительную фразу общеизвестную цитату и вышел из-за трибуны, неожиданно напомнившей Шумилину пляжную кабинку для переодевания.
— Какие вопросы к докладчику? — поинтересовалась Валя. Собрание единогласно промолчало.
— Переходим к прениям, — решительно продолжила Нефедьева.
— Редакционная комиссия! — плачущим голосом подсказал Ноздряков…
— Ой… Ну да… Товарищи, для выработки проекта решения нам необходимо избрать редакционную комиссию. Какие будут предложения?
Комсомол безмолвствовал.
— Осипов, у тебя же было предложение! — все-таки установил контакт с залом Ноздряков.
— Да. Было, — опомнился здоровенный парень и, вскочив, стал шарить по карманам. — Вот! Значит, так: Яковлев — председатель, Полторак и Салуквадзе — члены…
— Голосуем! — призвала Валя. — Единогласно. Комиссия, можете приступать к работе.
Обрадованные члены редкомиссии вскочили с места и, прихватив с собой три странички давно составленного и даже отпечатанного текста, отправились в комнату за сценой, чтобы напиться минеральной воды, выправить опечатки и ждать своего выхода.
Потянулись томительные прения, произошедшие, как подумал Шумилин, от слова «преть». На трибуну один за другим выходили симпатичные девчата и парни, хорошие, наверное, работники, и, путаясь в полузнакомом тексте, говорили одно и то же. Чувствовалось, что и критика, и самокритика, и новые предложения — все заранее обговорено, согласовано, сформулировано, обесцвечено. Порадовал электрик Кобанков: звонким, хорошо поставленным голосом самодеятельного артиста он с чувством говорил о заводе, о своих товарищах и наставниках, обкатывая будущее выступление на слете. На патетической ноте закончив речь, Кобанков по-свойски переглянулся с районным руководством: мол, не первый год на этой работе!
Краснопролетарский руководитель мог в деталях рассказать, что произойдет дальше. После комсомольцев выступят Головко и Лешутин, они призовут к еще большей боевитости и попрекнут некоторых лодырей; секретарь парткома, может быть, иронично пожурит безынициативный комитет ВЛКСМ и его вожака. Потом ожидается торжественное слово первого секретаря о больших задачах, стоящих перед краснопролетарской многотысячной комсомолией и ее скромным, но достойным отрядом — молодежью майонезного завода. Наверняка вызовет оживление мысль о том, что коль скоро майонезцы первыми в районе проводят отчетно-выборное собрание, то и по всем другим показателям обязаны быть впереди! Затем проголосуют за прекращение прений, и Яковлев старательно прочтет проект решения. Сначала его примут за основу и сразу же — в целом, и в зале никто не задумается, зачем это двойное голосование. Дальше, почуяв близкую свободу, с торопливым единогласием комсомольцы выберут новый состав комитета и «Комсомольского прожектора». Нефедьева сообщит, что повестка дня исчерпана, поступит восторженное предложение закрыть собрание. Голосуя на ходу, ребята рванутся к выходу, образовав в дверях пробку. Оплошав в последний раз, забывчивая Валя крикнет им вдогонку объявления. Тут же сойдется новоиспеченный комитет и выберет секретарем согласованного во всех инстанциях Ноздрякова.
Так бы оно и случилось, если бы Шумилина не начала раздражать, как говорят в комсомоле, «незадействованность» зала.
Терпение краснопролетарского руководителя лопнуло, когда он увидел, как один парень в пятом ряду просто-напросто спит, уперев в переднее кресло оплетенные набухшими венами руки и положив на них черную кудрявую голову. Шумилин обернулся и поинтересовался у Ноздрякова, кто этот спящий красавец.
— Где? A-а… Бареев, наладчик из упаковочного цеха. В прошлом году после ПТУ пришел… Сейчас разбужу!
И когда на трибуне сменялись выступающие, майонезный лидер громко и ядовито заметил:
— Бареев, спать нужно дома, а не на собрании!
Наладчик вскинулся, обвел зал красными, непроснувшимися глазами, опомнился наконец, встал и извинился. Тут бы Ноздрякову успокоиться, но его, как и древних римлян, погубило излишество.
— Стыдно, Бареев! — возвысил он карающий голос. — Перед товарищами стыдно, перед районным комитетом стыдно!
— Ну хватит уже, — раздражаясь, огрызнулся парень.
— Ладно, садись. Мы потом с тобой поговорим!
— Почему же это потом? — вдруг резко спросил Бареев, и первый секретарь заметил, что у него по-хорошему упрямое лицо. — А мне не стыдно! Я третьи сутки с линией колупаюсь. Но даже если бы я трое суток подряд дрых — все равно бы на вашем собрании заснул! Это — трепология какая-то, а не собрание!
Зал очнулся.
Головко забыл про терзавшую его большую государственную мысль и оторопел. Лешутин подался вперед. Шумилин почувствовал спиной, как похолодел Цимбалюк. Ноздряков утратил родную речь.
— Отчетный доклад, — кипел наладчик, — фигня! «Мы подхватим! Мы оправдаем! Мы еще выше поднимем!..» Чего же не поднять? От слов не надорвешься. Ноздряков целый день по цехам бегал, кудахтал: из райкома приедут, из райкома приедут! Вот и хорошо, что приехали, — пусть послушают. У нас половина молодежи в общаге живет, прямо за воротами. Занимается комитет общагой? Не занимается. Про совет общежития, в котором я сам якобы состою, только здесь на собрании и услышал. Нам три тысячи на спорт выделено, а завком на эти деньги уже который год новогодние вечера устраивает. А в результате получается: ребята у нас работают, пока прописку не получат…
— Правильно! Крышу в общаге почините! — вскочил парень из дальнего угла, и с его колен посыпались карты. — Дайте мне сказать!..
И тут началось.
— Веди собрание! — сквозь шум голосов прокричал Вале посеревший Ноздряков.
— Сам веди! — огрызнулась она.
— Да они как с цепи сорвались! — с возмущением повернулся к секретарю парткома Головко.
— Не буди лихо… — усмехнулся Лешутин.
(«ЧП районного масштаба»)…………………..
Владимир Куницын подчеркивал, что Поляков много сделал для размифологизации армии, комсомола и педагогики, и, «может быть, одним из первых советских прозаиков он пытался превратить эти не очень-то заманчивые для других писателей темы — в бестселлеры». Надо сказать, что ему это несомненно удалось.
Если повесть «ЧП…» в чем-то и выдает начинающего прозаика, то в ней заложено уже много такого, что определит авторский стиль позднего Полякова. Один из коронных приемов — «говорящие» фамилии героев. Шумилин, с одной стороны, фамилия солидная, подразумевающая степенность и значительность, а с другой — содержащая коннотацию со знаменитым «шумим, братец, шумим». Но кто бы стал тогда, в 1985-м, швырять в автора камни за такую почти неуловимую и недоказуемую шалость?
На острые актуальные и трудовые темы современники Полякова писали свои произведения неким усредненным, маловыразительным языком. Такими были романы «Изотопы для Алтунина» Михаила Колесникова, «Знакомьтесь, Балуев!» Вадима Кожевникова, «Грядущему веку» Георгия Маркова, «рабочие» романы Анатолия Приставкина… Сложная работа со словом, вербальная игра считалась привилегией авторов фрондерствуюших или отстраненных от социальной проблематики: Юрия Казакова, Георгия Семенова, Андрея Битова, Фазиля Искандера, Юрия Коваля, Владимира Войновича, Василия Аксенова, Владимира Орлова. И вдруг появился автор, который, обратившись к «правильной», комсомольской теме, предложил неожиданные социально-нравственные акценты, построил текст на иных принципах: словесной игре, активном использовании профессионального сленга, ироническом переосмыслении священных идеологем, наконец, язвительной живости повествования, отсылающей читателя скорее к сатире 1920-х — к Булгакову, Катаеву, Ильфу и Петрову, нежели к прозе развитого социализма. Правда, критика, искавшая новизну и остроту исключительно у экспериментаторов, уже публиковавшихся в журналах (Валерия Нарбикова, Андрей Яхонтов, Татьяна Толстая, Вячеслав Пьецух, Александр Белай, Сергей Бардин и др.), в «ЧП…» этого новаторства не заметила. Зато заметил и оценил читатель, свободный от групповых пристрастий и предубеждений.
В дальнейшем Поляков-прозаик ставил перед собой все более сложные художественные задачи и успешно их решал. Но в первых трех повестях внешняя его задача была, как уже отмечалось, сродни тем, что стояли перед Хейли: его интересовало, как система работает, какие ее проблемы вызывают кризис и как это влияет на людей, в ней занятых. Реальная жизнь комсомола и армии была для читателей словно «терра инкогнита», и ступать на нее решались лишь немногие, несмотря на то что к комсомолу и армии были причастны миллионы — как миллионы жадно проглатывавших книги Хейли пассажиров ежедневно вылетали из аэропортов и останавливались в отелях.
Тогда большинству советских людей представлялось, что они знают, как все должно функционировать и взаимодействовать в стране; благодаря существованию идеологической системы у людей были четкие критерии, на которые они ориентировались, даже если не следовали им в жизни. Поляков безусловно представлял это большинство. Попав в армию, школу или райком комсомола, он очень скоро определял, что там не так, понимая, что не знает, как это исправить, и постоянно упираясь в несоответствие жесткой структуры ее содержанию.
В остром, все различающем взгляде угадывалась особость, выделявшая Юрия из толпы сверстников: с юности он оставался сам по себе, редко сходился с людьми до дружбы взахлеб, был наблюдателен и вдумчив. Отсюда и необходимая дистанция, позволявшая лучше видеть. Отсюда и отсутствие неоправданных надежд. И одиночество.
Прототипами Шумилина послужили два знакомых ему по комсомолу человека. Прежде всего — Павел Гусев, тогда — первый секретарь Краснопресненского райкома, членом бюро которого был с 1979 года Поляков как секретарь комитета ВЛКСМ Московской писательской организации. Это Гусев подсказал приятелю сюжет с погромом в райкоме и похищением знамени. Некоторые личные и аппаратные его проблемы нашли отражение в повести, Поляков даже наделил присловьем Гусева «Вот так, да?» своего героя. Еще одним прототипом стал первый секретарь Бауманского райкома Валерий Бударин, под началом которого Поляков работал инструктором. Бударин ушел из райкома на высокую должность заместителя председателя Комитета молодежных организаций СССР (КМО), курировавшего международные связи, а Гусев, у которого случились крупные неприятности (скорее личные, нежели служебные), — ушел в тот же КМО, но на рядовую должность. В постсоветское время судьба их сложилась по-разному. Гусев стал видным общественным деятелем, министром первого «демократического» правительства Москвы и, как говорит Поляков, «газетным магнатом». Жизнь Бударина окончилась трагически: он запил, развелся, выпал из номенклатуры, покатился по наклонной, и в 1990-е его, по слухам, зарезали в пьяной драке.
* * *
Когда в 1985-м на внеочередном пленуме ЦК КПСС генеральным секретарем избрали молодого и энергичного Горбачева, многие восприняли это событие как знаковое: наконец-то сбылись мечты о благотворных переменах. Коммунистам тогда сказали, что от них ждут предложений по совершенствованию идейно-организационной работы партии, и на партсобраниях закипели страсти. Спорили часами. В один вечер все проблемы решать не удавалось — собирались на следующий день, потом вносили предложения в письменном виде, потом обсуждали, какие принять, а какие нет, и направляли записки в ЦК. Первичные организации завалили в те месяцы аппарат ЦК своими предложениями, многие из которых были и дельными и весомыми. Только вот отклика на них не было — и вряд ли их кто-либо вообще прочитал…
Можно лишь поражаться, каким колоссальным созидательным потенциалом было чревато тогда советское общество и как бездарно распорядились им наши руководители. А очень скоро многие активисты из числа ожидавших благотворных перемен с такой же бешеной энергией принялись размахивать кувалдой разоблачительства, сокрушая все вокруг.
…………………..
Когда-то, на заре гласности, в «Мымру» (так называли между собой свою газету «Мир и мы» сами журналисты. — О. Я.) тянулись ходоки со всего СССР — за правдой, защитой, помощью, советом. Стояли к знаменитому журналисту в очереди, как к доктору, исцеляющему мертвых. Редакционные коридоры заколодило мешками с письмами, присланными в рубрику «Граждане, послушайте меня!». Люди не только жаловались, просили помощи, сигналили о недостатках, нет, они заваливали газету идеями, проектами, рацпредложениями, открытиями, — особенно много было планов добычи всеобщего счастья. Веня, помнится, бегал по редакции и всем показывал трактат учителя физкультуры из Кременчуга. Тот грезил приспособить вулканы под реактивные двигатели и превратить Землю в космический корабль, скитающийся по Вселенной в поисках лучшей доли.
— Гений! Новый Чекрыгин! — кричал Шаронов. — 0 великий русский космизм!
— Но это же бред! — возражали ему.
— Бред — двигатель прогресса!
Он телеграммой вызвал гения в Москву, они пропьянствовали неделю — тем и кончилось. Случались, правда, дельные предложения. Напримец кому-то пришла мысль за перевыполнение плана выдавать трудящимся премии не деревянными рублями, а бонами, которые получали советские заграничные труженики. Отоваривать чеки предлагалось в тех же самых ненавистных «Березках», переведенных на круглосуточный режим работы. По расчетам, производительность труда должна была взлететь на фантастическую высоту и обеспечить стране мощный рывок в соревновании экономических систем. Несли в редакцию и практические изобретения. Народный алхимик из Целинограда привез клей с красивым названием «Навсегдан», сваренный в гараже из подручных материалов. Чудо! Мазнули под ножками стула, и через пять минут оторвать мебель от пола не смог даже здоровенный Ренат Касимов, еще не покалеченный в Чечне. Съезжая из зубовского особняка, приклеенный стул так и оставили — он буквально врос в пол, оправдывая название клея. Умельцу вручили диплом и фотоаппарат «Зенит». Где он теперь, Кулибин? Пропал, наверное. Имелось у самородка еще одно изобретение, так сказать, внеконкурсное: капал какую-то хрень в метиловый спирт, и тот становился этиловым. Обпейся!
А после 1991-го люди сникли, разуверились, отупели, выживая, и не стало проектов скорейшего процветания, безумных идей блаженной справедливости, замысловатых подпольных изобретений. Ничего не стало. Слишком жестоким оказалось разочарование. Даже жалуются теперь в газету редко: не верят, что помогут. Несправедливость стала образом жизни. Гена попытался возродить знаменитую рубрику «Граждане, послушайте меня!». И что? Ни-че-го. Пришло несколько писем, в основном от психов. В редакцию ходят теперь только «чайники», от них не спасают ни охрана, ни кодовые замки…
(«Любовь в эпоху перемен»)…………………..
Отступление первое. Против антиисторизма
С тех пор прошло три десятилетия, и даже сорокалетние уже не помнят, каким был Советский Союз в эпоху позднего застоя. И легко, в угоду чьему-то художественному вымыслу или намеренной клевете, готовы поверить, что это действительно была обреченная на слом страна.
Нам придется несколько раз надолго отвлекаться от собственно биографии Юрия Полякова, чтобы восстановить в памяти события далеких лет. Прежде всего потому, что кардинальные перемены в его судьбе совпали с кардинальными переменами в жизни страны. И все, что происходило тогда, так или иначе нашло отражение в его творчестве. В противном случае нам не удастся понять, почему именно книги этого писателя из сотен выходивших тогда в свет выделили, прочли, запомнили, а главное — не забыли по сей день современники.
В 1981-м на XXVI съезде КПСС Брежнев, которому оставалось жить чуть больше года, с огромным напряжением прочел, как обычно, отчетный доклад, в котором содержалась странная фраза: «Экономика должна быть экономной — таково требование времени». Этот тезис тут же стал политическим лозунгом, который, впрочем, непросто истолковать. Понятно, что страну призывали экономить, однако куда ведет экономная экономика и как она может обеспечить развитие страны? Короче, партия признала наличие проблем, не предлагая эффективных решений.
Сегодня по всей стране огромной В жизнь претворяют партийный наказ: Должна экономика быть экономной — Это правило и для нас! —декламировали зарифмованные Поляковым строчки учащиеся ПТУ, приветствуя очередной съезд профсоюзов, собравшийся вскоре после партийного. Ничего необычного в том, что автор двух отложенных в долгий ящик повестей сочинил на заказ стихотворный официоз, не было. Как и в том, что выехавшие позднее за рубеж на ПМЖ Василий Аксенов и Владимир Войнович оказались в стройных рядах хорошо оплачиваемых авторов политиздатовской серии «Пламенные революционеры», а Андрей Синявский, известный за рубежом как Абрам Терц, публиковал в научных журналах статьи по проблемам социалистического реализма.
За стихотворное приветствие ВЦСПС выложил автору 800 рублей — немалые по тем временам деньги. Это была одна из разновидностей существовавших в ту пору подработок. В отличие от вышеназванных авторов принципиальных разногласий с советской властью у Полякова не было, и эту историю с профсоюзным приветствием он позднее охотно поведал в одном из своих иронических мемуаров…
Национальное богатство СССР в 1970—1980-х годах прирастало в среднем на 7,5 процента в год против 10,5 процента в 1960-е (при Горбачеве этот показатель упал до 4,2 процента). СССР располагал мощной многоотраслевой экономикой, обеспеченной всеми видами сырья, кадрами ученых, инженеров и рабочих. Производственный потенциал страны позволял провести необходимую работу по переустройству экономики без катаклизмов и потерь. Группа аналитиков под руководством зампредсовмина академика Владимира Кириллина подготовила соответствующий доклад, в котором финансово-экономические проблемы намечалось решать с помощью частичного отступления от плановой экономики. Однако доклад вызвал раздражение большинства членов политбюро. Кириллина сняли с работы, документ засекретили, а Косыгин, в конце 1970-х перенесший инфаркт, в октябре 1980-го был освобожден от работы (и в декабре скончался). Партия отказалась от пути, по которому успешно прошел Китай, за два-три десятилетия превратившийся в мощнейшую мировую державу.
Несмотря на некоторые негативные процессы, в том числе неблагоприятную демографическую ситуацию, в 1985-м СССР представлял собой вторую экономику мира: по объему валового внутреннего продукта (ВВП) это было почти четыре Китая и 60 процентов экономики США. СССР был на втором месте по объему промышленной продукции и на третьем — по выпуску продукции машиностроения; кстати, по площади виноградников и объему производства вин он также занимал второе и третье места.
Западная экономика находилась в тот период в не менее сложном положении. В 1970-е годы инфляция в США исчислялась двузначной цифрой. Во главе Федеральной резервной системы (ФРС) там стоял Пол Волкер, державший очень высокую ставку рефинансирования, что, как известно, сдерживает экономическое развитие. Газеты и телевидение постоянно рассказывали советским людям о кризисе капиталистической системы. Им показывали несчастных, живущих без уверенности в завтрашнем дне, без работы, а порой и без дома. Известный журналист-международник Генрих Боровик в 1985-м снял фильм «Человек с 5-й авеню» про американского бездомного — очень несимпатичного субъекта — Джозефа Маури, которому горячо сочувствовал весь СССР, как в свое время Анджеле Дэвис. Ему даже организовали визит в СССР, и американского бездомного принял председатель Президиума Верховного Совета Андрей Громыко.
Впрочем, пропаганда не лишала людей разума и чувства меры. «В чем разница между капитализмом и социализмом?» — спрашивало «армянское радио». «Капитализм загнивает социально, а социализм — капитально», — открыто зубоскалили строители коммунизма. Правда, скепсис этот был во многом наигранным — ничего, кроме своей системы, советские люди не знали, а «капиталистической» жизни себе не представляли. Направление развития в СССР по-прежнему определяла коммунистическая идеология, и ее прочность не зависела ни от курса рубля по отношению к доллару, ни от того, каких товаров недосчитывались покупатели магазинов. Возможно, не так уж неправы были члены политбюро, которые, не отказываясь от главных идеологических установок, пытались предлагать больной экономике щадящие БАДы вместо опробованных на Западе, но имеющих серьезные противопоказания лекарств. Вот только оставить все как есть было уже невозможно.
СССР был не один — в мире существовали социалистическая система, интеграция и специализация соц-стран в рамках созданного в 1949 году Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Коллективной валютой, которая обеспечивала проведение платежей и многосторонних расчетов, был переводной рубль, не имевший ничего общего с обычным. Это была первая в мире наднациональная валюта, проект которой был разработан еще при Сталине и внедрен в 1950-е годы. Государства — члены СЭВ покупали и продавали товары, если можно так выразиться, по цепочке: Болгария могла купить что-то у Венгрии, Венгрия — у Румынии, Румыния — у Советского Союза, Советский Союз — у Чехословакии, а Чехословакия — у Болгарии. Взаимозачет производился через Международный банк экономического развития, эмитировавший переводной рубль под конкретные заказы. Система стимулировала развитие экономики в странах Содружества, способствуя их интеграции и международному разделению труда. Через СЭВ не только координировалась бартерная торговля, но и согласовывались и взаимоувязывались народно-хозяйственные планы.
В конце 1980-х СЭВ оказался в кризисе. Новые правительства соцстран увидели, что им нечего ждать от горбачевской политики «нового мышления», ориентированной на Запад, и поспешили включить свои национальные экономики в общеевропейские интеграционные процессы. Тем временем Советский Союз отказался от переводного рубля, предложив соцстранам рассчитываться между собой в долларах и по мировым ценам. СЭВ распался. Долларов у соцстран не было, им пришлось обратиться к тем, у кого они были. Международный валютный фонд (МВФ), воспользовавшись ситуацией, сразу принялся диктовать, что у кого покупать. Одним мановением горбачевской руки СССР потерял рынки сбыта и создал колоссальный спрос на иностранные деньги, добровольно передав контроль за всей этой экономической зоной в чужие руки. К тому же СЭВ прекратил свое существование в самый неблагоприятный для СССР момент (в июне 1991 года), и на стране повис долг бывшим партнерам в 15 миллиардов долларов.
В январе 1985-го, когда вышла повесть «ЧП районного масштаба», страну возглавлял смертельно больной старик, Константин Устинович Черненко (1911–1985), личный друг Брежнева еще с 1950-х. Черненко при Брежневе ведал адресованной генсеку почтой, готовил материалы к заседаниям политбюро. Его считали вероятным преемником Брежнева, однако политбюро решило иначе и поручило Черненко предложить внеочередному пленуму ЦК КПСС кандидатуру Андропова. После смерти Андропова так же единогласно был выбран генеральным и Черненко. К тому времени он был тяжко болен и до самой смерти почти не покидал Центральную клиническую больницу, где иногда и проходили заседания политбюро.
Утверждения о том, что Черненко свернул начатый Андроповым курс, несправедливы: многие полезные начинания Андропова были им продолжены. Это касается и борьбы с теневой экономикой, и пресловутой политики ускорения, с которой начал в апреле 1985-го Горбачев, и других направлений реформ. Черненко первым заговорил о перестройке (хозяйственного механизма), дав новую жизнь слову, ставшему символом целой исторической эпохи. Правда, при этом он не говорил об отказе от идеологии, да это и не пришло бы ему в голову, конечно.
При Черненко получило развитие нашумевшее узбекское, или хлопковое, дело, начатое при Андропове. Расследование проводилось с конца 1970-х до конца 1980-х годов, при этом некоторые факты еще до суда предавались широчайшей огласке. Приписки в хлопковой промышленности Узбекистана были одной из составляющих большого антикоррупционного расследования. Считается, что первый секретарь ЦК КПУ Шараф Рашидов застрелился именно в ожидании громких разоблачений: Узбекистан отчитывался перед Москвой якобы тремя миллионами тонн собранного хлопка, на деле не поставляя и половины. По восьмистам уголовным делам приговорили к различным срокам лишения свободы и к высшей мере свыше четырех тысяч человек. При этом, как позднее выяснилось, следствие часто велось с недопустимыми нарушениями и даже с применением пыток.
При Черненко людей уже не отлавливали в рабочее время по баням, кинотеатрам и магазинам с вопросом: «Почему вы не на работе?» Да, следствие по «бриллиантовому» делу закрыли, и с Галины Брежневой сняли домашний арест, но другие громкие дела были продолжены. При Черненко расстреляли бывшего главу Елисеевского магазина Соколова и покончил с собой после возобновления расследования бывший министр внутренних дел Н. А. Щелоков, обвиненный во всех смертных грехах, исключенный из партии и лишенный государственных наград и звания Героя Социалистического Труда.
Пока Черненко доживал последние дни, вопрос, кому будет передана власть, вновь будоражил страну. Назывались при этом две кандидатуры: Михаила Сергеевича Горбачева и Григория Васильевича Романова, первого секретаря Ленинградского обкома. В конце 1970-х, так же как и Горбачев, Романов стал кандидатом, а затем и членом политбюро. Его называли сторонником жесткой линии и даже утверждали, что именно Романова видел своим преемником Андропов. Однако за год, который был отпущен Черненко, Горбачев вчистую переиграл Романова в борьбе за власть. Юрий Поляков считает, что это заслуга не одного Горбачева, но и тех, кто за ним стоял, и не обязательно только в СССР. «Сегодня стали доступны архивные материалы об английском следе в свержении Романовых в 1917-м, — говорит он. — Не исключено, что через полвека-век будут опубликованы документы, свидетельствующие о том, что Горбачеву тоже «помогла заграница» одолеть своего соперника, носившего, по иронии истории, ту же фамилию, что и последний российский император».
В начале 1980-х по стране поползли порочившие Романова слухи, достигшие ушей едва ли не каждого советского гражданина. Например, о том, что свадьбу дочери он справлял в одном из роскошных дворцов Петербурга, позаимствовав по случаю из Эрмитажа царский сервиз. Позднее выяснилось, что слухи были клеветническими, но кто и зачем их распускал, осталось неизвестным.
Итак, в марте 1985-го внеочередной пленум, с подачи Андрея Андреевича Громыко, избрал новым генеральным секретарем Горбачева. Учитывая промахи предыдущих генсеков в аппаратной борьбе, Горбачев начал действовать незамедлительно. В то время политбюро в подавляющем большинстве состояло из людей Брежнева, а каждый второй его член начал свою партийную карьеру еще при Сталине. Придя к власти, Горбачев сразу начал вводить во властные структуры своих сторонников. Сравнительно молодой 54-летний лидер вызывал симпатию: он говорил свободно, без бумажки, и первое время страна слушала его долгие речи, затаив дыхание.
Уже в апреле Горбачев провозгласил на пленуме курс на «ускорение социально-экономического развития». И тут же начал мощную антиалкогольную кампанию, за что получил в народе прозвище «минеральный секретарь». Продажу алкоголя ограничили, многие магазины закрыли, ужесточили административные наказания за пьянство, а в винодельческих хозяйствах Крыма, Молдавии и Краснодарского края вырубили десятки тысяч гектаров уникальных виноградников. В итоге доходы бюджета, зависевшие от госмонополии на продажу алкоголя, резко сократились; экономика страны, которую и без того лихорадило, получила ощутимый удар. Интересно, какими были на этот счет прогнозы Госплана и учитывал ли их, принимая решение, Горбачев?
Люди привыкали брать штурмом винные отделы, очереди за спиртным стояли километровые. На предприятиях и в учреждениях наладили свою распределительную систему: например, в издательстве «Молодая гвардия» на очередной Новый год, чтобы купить по госцене бутылку водки и бутылку шампанского, сотрудники должны были сдать одну-две пустые бутылки из-под тех же напитков: в стране начались перебои с тарой. Кстати, когда антиалкогольная кампания завершилась, году в 1989—1990-м вино уже продавали прямо на улицах, в трехлитровых банках, в каких прежде продавали только компот и соленые огурцы. Но пока кампания была в самом разгаре: по стране пели и плясали антиалкогольные свадьбы, людей за неравнодушие к спиртному исключали из партии, а тех, кто привык справлять с коллегами дни рождения и советские праздники, — с работы. Измучившись стоять в очередях, народ перешел на суррогаты и самогон. В магазинах надолго исчез сахар, отныне он тоже вошел в список товаров, отпускаемых согласно установленной норме на человека.
Когда осенью 1988 года правительство было вынуждено снять ограничения на продажу алкоголя, ощутимого экономического эффекта это уже не принесло, а бутылка водки на долгие годы стала средством расчета. За бутылку договаривались приварить трубы на дачном участке, починить забор, сменить смеситель на кухне…
По некоторым подсчетам, за время активной фазы антиалкогольной кампании смертность в стране резко снизилась, однако нет никакой возможности определить, сколько пьющих, умерших позднее людей пострадали от перехода на «паленый» алкоголь и денатурат. В СССР уже тогда существовал рынок наркотиков, которые начали собирать в городах свою страшную дань. Правда, их оборот был в тысячи раз меньше, чем позднее, когда в стране открылись пункты обмена валюты и в некоторых магазинах даже ценники стали писать не в рублях, а в «у. е.».
С приходом Горбачева Ельцин, в недавнем прошлом первый секретарь Свердловского обкома партии, был избран секретарем ЦК КПСС. А в декабре 1985-го, по подсказке Лигачева, Горбачев назначил Ельцина первым секретарем Московского городского комитета партии — на одну из ключевых партийных должностей, которая не вдохновила к карьерному росту только Виктора Гришина, тихо просидевшего на ней с 1968-го и до прихода Ельцина. Продвигая Ельцина, Горбачев, естественно, рассчитывал на его поддержку, но, как вскоре выяснилось, не просто просчитался — сделал ложный ход, изменивший весь расклад сил. Летом того же 1985-го Горбачев полностью отстранил от власти главного соперника: Романов был освобожден от обязанностей секретаря ЦК КПСС и члена политбюро.
Должность председателя Президиума Верховного Совета занял при Горбачеве активно поспособствовавший его приходу к власти, бессменный — с 1957 года — министр иностранных дел Громыко, прозванный американцами за неуступчивость «мистером Нет». Вместо него министром стал Эдуард Шеварднадзе, сподвижник нового генсека, с именем которого связаны позорные и предательские по отношению к стране внешнеполитические решения.
Заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС был назначен Александр Яковлев, «главный инженер» и «архитектор» перестройки. Биография Яковлева весьма символична. Он воевал в Великую Отечественную и был тяжело ранен, затем продвигался по партийной линии, в 1958–1959 годах стажировался в Колумбийском университете в одной группе с будущим предателем, а тогда — сотрудником КГБ Олегом Калугиным; защитил кандидатскую и докторскую; был заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК, членом Центральной ревизионной комиссии, когда в ноябре 1972 года опубликовал в «Литературной газете» ставшую печально знаменитой статью «Против антиисторизма», в которой обвинил целый ряд русских критиков, писателей и поэтов, а также представителей других национальных литератур в отходе от марксизма-ленинизма, пренебрежении понятием классовой борьбы и приукрашивании патриархальной дореволюционной действительности.
Особенно досталось тем, кто уважительно писал о русском крестьянстве. В статье были скрупулезно перечислены имена и фамилии, а также названия журналов, печатавших отошедших от марксизма авторов. Среди занявших неверную идеологическую позицию журналов была упомянута и «Молодая гвардия», а возмутившие партийного идеолога авторы: Вадим Кожинов, Сергей Семанов, Анатолий Ланщиков, Михаил Лобанов, Игорь Кобзев и другие — публиковались не только в указанных Яковлевым журналах, но и в издательстве «Молодая гвардия», где, кстати, в 1984-м, в преддверии перестройки, выпустил свою книгу «От Трумэна до Рейгана» сам Яковлев.
Нападки на авторов, защищавших от навета «нацию рабов», возмутили в 1972-м многих выдающихся современников. Михаил Александрович Шолохов отбил в ЦК телеграмму с требованием разобраться с партийным функционером, поучающим литераторов, как им писать о своем народе. После обсуждения статьи на секретариате и политбюро Яковлев был отстранен от работы в аппарате и направлен, как это было принято, «в ссылку» — послом в Канаду, где и пробыл десять лет. Там будущий «архитектор» перестройки и «отец гласности» завел теплые дружеские отношения с представителем классово чуждой истинному марксисту буржуазии — премьер-министром страны Пьером Трюдо.
Под влиянием Яковлева, возглавившего «интеллектуальный штаб» нового генсека, Горбачев решился на отмену цензуры и проведение так называемой политики гласности, которая, как оказалось позднее, открыла не только неограниченные возможности для публикации ранее запрещенных авторов и освещения прежде запретных тем, но и для тотального оголтелого вранья и очернения страны и ее институтов, ответственность за которые никто никогда не понес.
Яковлев возглавил созданную при политбюро комиссию по реабилитации, вернув многим умершим и погибшим «шпионам» и «врагам народа» их честное имя. Оставшиеся в живых были признаны жертвами политических репрессий и получили социальные льготы. Впрочем, много позже стало понятно, что любая политическая кампания не должна быть массовой, ибо в противном случае она превращается в кампанейщину. При пересмотре в комиссии дел репрессированных не учитывались реалии ушедшей эпохи, а судебные эпизоды изучались вне исторического контекста и даже тогдашнего законодательства. Много лет спустя в очерке о судьбе Варлама Шаламова Юрий Поляков напишет: «…Я искренне жалею тех, кто испытал на себе суровость эпохи перемен, не зря же Павел Нилин назвал свою повесть о тех временах «Жестокость», а Олег Волков свои воспоминания — «Погружение во тьму». О замечательной книге Олега Васильевича сегодня почти не вспоминают, хотя по своим достоинствам она не уступает ни Шаламову, ни Солженицыну, к тому же служит живым источником для молодого поколения гулагописцев… Но кто же станет нынче кручиниться о судьбе какого-то дворянского отпрыска, никогда не увлекавшегося ни Троцким, ни даже Лениным? Другое дело — дети революции, ею же и пожранные. А ведь прежде чем стать жертвами, мальчики-девочки, вдохновленные мировым пожаром и классовым чутьем, в 20-е без сомнения ставили к стенке людей лишь за то, что они дворяне, купцы или священники…» Поляков отмечал, что сегодняшним читателям, к примеру, солженицынский Иван Денисович представляется невинной жертвой, а между тем сидел он, как указывает сам же Солженицын, за дезертирство — страшный по тем временам проступок, который по военным законам карался расстрелом. Так что огульно оправдательное отношение к осужденным, характерное для яковлевской комиссии, вряд ли было уместно. Кстати, именно Яковлев возродил хрущевский миф о маниакальном, ничем не мотивированном сталинском злодействе. При нем же началось выдавливание из информационного пространства, прежде всего с телевидения, слова «патриотизм», о чем писал в своей публицистике начала 1990-х Юрий Поляков.
Председателем Совета министров при Горбачеве стал Николай Рыжков, разошедшийся с ним позднее во взглядах на реформы: Рыжкову не нравилось само слово «перестройка» и то, что под ней подразумевали. Как сам он рассказывал в интервью «Ленте. ру», на проведение необходимых реформ, согласно проекту, разработанному им — еще при Андропове — совместно с Горбачевым и Владимиром Долгих, потребовалось бы шесть — восемь лет, и они не должны были привести к тяжелым негативным последствиям и резкому падению уровня жизни. Но Горбачев почти сразу от проекта отказался, пойдя на поводу у «продвинутых» реформаторов, собравшихся преобразовать гигантскую страну за 500 дней — а в итоге обрушивших экономику.
В октябре того же 1985-го состоялся первый международный визит Горбачева, который он нанес не в одну из социалистических стран, как это полагалось, а во Францию, где провел переговоры с французским президентом Франсуа Миттераном. Чета Горбачевых произвела на западных политиков и журналистов весьма благоприятное впечатление. Впрочем, Горбачев стал известен Западу уже в мае 1983-го, когда, с разрешения Андропова, посетил Канаду. Благодаря рекомендации Яковлева его принял Трюдо, отнесшийся к Горбачеву с симпатией. Следующим шагом был визит в декабре 1984-го, при Черненко, в Великобританию — по приглашению Маргарет Тэтчер, с которой он познакомился на похоронах Андропова. Горбачев прибыл туда в качестве главы Комиссии по иностранным делам Совета Союза Верховного Совета СССР. Недавно Великобритания рассекретила документы, касающиеся тех переговоров. Никаких откровений они не содержат. Предъявив воинственной собеседнице карту ядерных ударов по Великобритании, разработанную советским Генштабом, Горбачев описывал ей ужасы ядерной зимы. Они говорили каждый о достоинствах своей системы, обсуждали вопросы, связанные с выездом из СССР евреев и положением диссидентов во главе с Сахаровым. Говоря о предстоявшей вскоре советско-американской встрече в верхах, Горбачев тогда заявил, что Кремль решил уделять приоритетное внимание «возвышенным идеалам мира» — словно выступал с трибуны партсъезда, а не беседовал с глазу на глаз с западным лидером. По итогам встречи Тэтчер написала Рейгану, что с Горбачевым можно иметь дело. И, как все мы знаем, она не ошиблась.
Похоже, что, говоря о возвышенных идеалах мира, Горбачев все-таки имел в виду совершенно конкретные вещи: СССР было тяжело нести бремя гонки вооружений, которую постоянно наращивали США. В этот период военные расходы составляли чуть ли не четверть бюджета страны. Горбачеву, провозгласившему в международных делах политику «нового мышления», сокращение вооружений и военных расходов представлялось реальной возможностью улучшить экономическое положение СССР. Он и его сподвижники почему-то не предполагали, что такое решение приведет к цепной реакции — сокращению занятости и свертыванию производств по всей стране (видимо, рекомендации Госплана они принципиально не рассматривали). Мало того, говоря о разоружении, советское руководство не требовало от своих партнеров адекватных шагов и стремительно утрачивало международный авторитет. С упразднением в 1991 году Организации Варшавского договора ее главный противник, блок НАТО, только упрочил свои позиции и вскоре расширился далеко на восток.
В 1970-х Советским Союзом и США была провозглашена разрядка международной напряженности, и советские люди приучались к мысли, что отныне США уже не являются главным противником СССР. Противостояние двух систем как будто смягчилось, но в 1979-м случился Афганистан, надолго заморозивший советско-американские отношения и давший в руки Запада козырь, который он будет разыгрывать еще много лет.
В СССР конца 1970-х недовольство системой не было тотальным. Люди привычно критиковали власть, но какой народ свою власть не критикует? Было, правда, у граждан недоумение относительно такой формы интернациональной помощи. Да и то, как освещались события, давали поводы для сомнений. В первые дни теледикторы называли временного председателя правительства Афганистана, назначенного после ввода советских войск, Кармалем Бабраком. Но через пару дней начальство наконец уяснило, где у афганского товарища имя и где фамилия, и дикторы стали говорить правильно: «Бабрак Кармаль». Московские остряки в те дни так и приветствовали друг друга, приподнимая шляпу: вместо «здравствуйте» говорили: «Кармаль Бабрак» — «Бабрак Кармаль».
Сами афганцы поначалу относились к шурави (советским людям) вполне лояльно, несмотря на то, что в декабре 1979-го «альфовцы» взяли штурмом дворец Амина и ликвидировали его самого. На необходимости проведения такой жесткой операции настоял Андропов, его поддержали Устинов и Громыко, хотя Брежнев и другие члены политбюро долго колебались. Андропов доложил, что в 1960-е Амин был связан с ЦРУ, а осенью 1979-го, убив лидера Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) Нур Мохаммада Тараки, захватив власть и организовав террор против членов правящей партии, Амин вновь тайно вышел на контакт с американскими спецслужбами. Просьба о вводе войск исходила от самого Амина, собиравшегося таким образом подавить намечавшийся против него мятеж, а советское руководство решило этим воспользоваться, чтобы воспрепятствовать установлению проамериканского режима в дружественной стране. Но чем дольше находились наши войска в Афганистане, тем больше втягивалось в вооруженную борьбу население страны. Афганские воины отличались выносливостью и отвагой, к тому же они воевали на своей земле, а наши солдаты срочной службы не были готовы выполнять задачи в условиях полноценной войны, хотя часто проявляли отчаянную храбрость и героизм. К тому же против Советской армии и правительственной армии Афганистана воевали многочисленные вооруженные формирования участников джихада — моджахедов, пользовавшиеся поддержкой стран НАТО и исламского мира.
Военные санатории заполнились искалеченными войной мальчишками, и матери отныне со страхом ждали известий от ушедших в армию сыновей. Транспортная авиация регулярно доставляла с юга страшный «груз 200». В том же 1985-м в Кандагаре упал первый самолет, сбитый ракетой «воздух — земля» американского производства. На одном из заседаний политбюро Горбачев предложил вывести войска из Афганистана. Накануне он тайно встретился с Кармалем, которого попытался убедить в необходимости поворота к свободному капитализму, возврата к афгано-исламским ценностям и компромисса с оппозицией. Понимания Горбачев не встретил. Кармаль не ожидал резкой перемены в позиции советского руководства, он предполагал, что Советский Союз останется в Афганистане очень надолго, если не навсегда. Его несговорчивость привела к тому, что «по состоянию здоровья» Кармаля освободили от обязанностей генерального секретаря ЦК НДПА и председателя Революционного совета, несмотря на его высокий авторитет у народа. Руководителем правящей партии стал Мохаммад Наджибулла, тут же объявивший о переходе к политике «национального примирения». Ислам был провозглашен государственной религией, а о социализме в новой конституции уже не упоминалось. Резкая смена курса деморализовала афганскую армию, а с 1 января 1992 года СССР прекратил оказывать Афганистану помощь, моджахеды тут же перешли в наступление и взяли Кабул. В 1996 году оборвалась жизнь обоих афганских лидеров: Кармаль умер в московской Первой градской больнице от заболевания почек, а Наджибуллу, четыре года укрывавшегося в миссии ООН, талибы подвергли страшным пыткам и зверски убили, повесив изуродованное тело на КПП у ворот президентского дворца…
Первая — из четырех — встреча Горбачева с Рональдом Рейганом прошла в ноябре 1985-го в Женеве, затем в Исландии они обсуждали американскую Стратегическую оборонную инициативу (СОИ) и хотя не смогли договориться, сильно продвинулись в вопросе о сокращении систем противоракетной обороны. Об этой встрече Горбачев уже не отчитался перед политбюро — вполне возможно, что причиной были его беспрецедентные уступки американской стороне. В декабре 1987-го в Вашингтоне лидеры сверхдержав подписали бессрочный договор, согласно которому стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности. Одновременно Горбачев, без условий и оговорок, согласился уничтожить новые советские ракеты СС-23 («Ока») с дальностью 450 километров, которые американцы считали очень опасным оружием и которые не подпадали под параметры уничтожаемых ракет. Стоит ли удивляться, что в мае 1988-го, стоя на Красной площади, Рейган торжественно объявил, что больше не рассматривает СССР как «империю зла»?..
В рамках того московского визита в Центральном доме литераторов состоялась встреча Рейгана с интеллигенцией. Вот что писал об этом историческом событии гротескный реалист Юрий Поляков: «Представители американского посольства предупредили наш МИД, что президенту США, страдающему аденомой простаты, будет крайне необходима туалетная комната в непосредственной близости от места общения с советскими интеллектуалами. А встречу решили проводить в роскошном дубовом зале с камином и витражом в стиле ар-нуво, ныне утраченном благодаря невежеству рестораторов и «искусству» реставраторов. И тут пришло страшное, чреватое международными осложнениями, известие: ближайший туалет располагается на втором этаже, рядом с читальным залом, куда престарелый заокенский лидер подняться никак не сможет, а лифта нет. Сначала хотели строить лифт, но отказались от намерения, так как до встречи оставалось несколько дней. Стали искать более простое решение и нашли: взгляд начальства пал на каморку возле парткома, где легендарный парикмахер Абрам Семенович стриг писателей уже без малого полвека. (Конечно, не в парткоме, а в каморке.) Движения ножницами, помазком и бритвой он сопровождал литературными и бытовыми сплетнями, каковые излагал на восхитительной смеси русского языка, идиша и одесского суржика. Решение было принято и доведено до жертвы. Несмотря на мольбы несчастного парикмахера и заступничество классиков советской литературы, цирюльню безжалостно ликвидировали. В комнатке из срочно доставленного самолетом фаянсового импорта был в лучших скоростных традициях первых пятилеток сооружен чудо-сортир, соответствующий всем мировым сантехническим стандартам. Конечно, за недостатком времени никаких канализационных труб подвести не успели — и вип-унитаз был рассчитан на всего одно облегчение высокого гостя. Однако Рейган так увлекся беседой с русскими мыслителями, что про нужник, стоивший принимающей стороне столько нервов, даже не вспомнил, отбыв к себе в резиденцию, полный впечатлений. Несколько месяцев с одноразовым отхожим местом, на которое ухлопали столько валютных рублей, не знали что и делать — разобрать такую красоту рука не поднималась. В сложной ситуации оказался и Абрам Семенович: никто ему не запрещал вновь приступить к привычному промыслу, но стричь Евтушенко или Солоухина, усадив на крышку унитаза, тоже, согласитесь, не комильфо. Он писал в инстанции, жаловался, требовал, надорвал нервы и вскоре скончался от огорчения, став не первой и не последней жертвой нового мышления генсека Горбачева…»
В 1986-м, на XXVII съезде КПСС, в новой редакции программы партии вместо прежнего курса на построение коммунизма был провозглашен курс на совершенствование социализма. К 2000 году планировалось удвоить экономический потенциал — и предоставить каждой семье отдельную квартиру. Но уже к концу 1986-го горбачевская команда пришла к выводу, что административными мерами ситуацию в стране не изменить. Из-за провальной антиалкогольной кампании бюджет недополучил 62 миллиарда рублей, а тут случились еще Чернобыльская авария и резкое падение цен на нефть.
У советских граждан авария и ликвидация ее последствий вызвали множество фобий: одни боялись выходить из дома и попасть под дождь, другие по несколько раз на дню мыли полы и обувь, чтобы избежать радиоактивного загрязнения жилья, третьи всюду ходили со счетчиками Гейгера, а четвертые — и их было большинство — активно выступали против строительства атомных электростанций, независимо от степени их надежности. По стране пронесся зловещий слух, что авария якобы была предсказана еще Нострадамусом и что в том предсказании фигурирует «звезда Полынь» (Чернобыль — производное от «чернобыльник», то есть полынь), а также «Михаил меченый», который принесет своей стране несчастья. Под «Михаилом меченым» имелись в виду, конечно, Горбачев и обширное родимое пятно у него на лбу. Позднее Юрий Поляков напишет на него эпиграмму:
Болтать до смерти не устанет. Смешон. Но это не смешно. Из-за таких Россия станет Размерами с его пятно!Авторитет власти был серьезно поколеблен — уже потому, что в первые дни трагедии она пыталась скрыть ее реальные масштабы. Власть показывала свою слабость — и это был только первый серьезный инцидент, в котором эта слабость столь наглядно проявилась. Первый, но зловещий.
Впрочем, были и другие беды, стихийные: в 1988 году в Армении случилось землетрясение, в котором погибли, по некоторым данным, 150 тысяч человек и были разрушены несколько городов и поселков. Побывавший там предсовмина Рыжков не мог без слез вспоминать об увиденном, за что злые языки тут же окрестили его «Плачущим большевиком».
Тем временем все еще слушали говорливого Горбачева, пытаясь понять, что он хочет сказать и к чему стремится. Глядя на его пассы руками, — совсем как у Алана Чумака! — народ поначалу впал в гипнотический транс и не заметил, как подошел к краю трясины, в которой чуть не погряз. Вернее, погряз — и чудом выкарабкался…
* * *
На момент публикации «ЧП…» Поляков уже выпустил два поэтических сборника, готовился к печати третий, и это дало ему основание вступить в творческий союз.
Книжные и журнальные гонорары, поездки по стране давали неплохую материальную основу. К тому же в те времена члену Союза писателей СССР в случае болезни бюллетень оплачивался из расчета десять рублей за день, а болеть, совершенно официально, не рискуя получить инвалидность, можно было до 104 дней в году. Для тех, кому посчастливилось пополнить ряды членов СП, соблазн безбедной и безусильной жизни был слишком велик, и ему поддавались не только малопишущие литераторы, но и вполне успешные. Случалось, что одни бежали к врачу уже с легким насморком, а другие литрами пили кофе, чтобы резко поднять давление. Стоит ли повторять, что книга была тогда лучшим подарком для всех, и для врачей в том числе, а в Книжной лавке писателей на Кузнецком Мосту можно было купить такие издания, которые рядовым читателям только снились… Позднее, в романах «Козленок в молоке» и «Гипсовый трубач», Поляков выведет оборотистых литераторов, зарабатывающих на жизнь как раз не сочинением, а перепродажей дефицитных книг.
Членам Союза писателей полагались так называемые «дополнительные» 20 метров — больше, чем кандидатам наук, а ведь Юрий был к тому же кандидатом, то есть у него имелись все законные основания, чтобы встать в очередь на улучшение жилищных условий. В СП долго ждать квартиры не приходилось — богатая была организация. Когда очередь подошла, он помчался за смотровым ордером в Моссовет. Мельком глянув на кудрявого розовощекого посетителя, чиновница заявила, что сыну писателя выдать документ не имеет права, пусть приезжает сам Юрий Поляков. А когда выяснилось, что это он и есть, уперлась: нечего давать квартиры молодежи, когда метров для пожилых и заслуженных не хватает. Пришлось подключать Союз писателей, который в обмен на содействие взял с Полякова обещание вернуться на работу в газету «Московский литератор», осиротевшую после внезапной смерти поэта Владимира Шленского.
Обзавелся Юрий и своей первой машиной, купив ее по списку все того же Союза писателей, и отныне лихо разъезжал по Москве на белых «жигулях» тринадцатой модели. Летом 1986-го семья даже отправилась на них в Дом творчества в литовскую Ниду. Там Юрию отлично работалось, только шестилетняя Алина постоянно жаловалась, что местные дети не хотят дружить с русской из Москвы. До развала СССР оставалось всего пять лет.
В конце того же 1986 года семья Поляковых переехала из Орехово-Борисова в трехкомнатную квартиру на Хорошевском шоссе, рядом с редакцией «Красной звезды»: писательское начальство слово сдержало. На одной площадке с Поляковыми жил литературовед Всеволод Сахаров, этажом ниже — поэт Анатолий Передреев, над ними — поэт Анатолий Парпара и критик Владимир Куницын. В том же подъезде обитал до своего развода и знаменитый прозаик Анатолий Ким.
Алина ходила в садик, умиляла маму с папой своими детскими открытиями, как все малыши, капризничала, играла в привезенную папой из загранкомандировки куклу Барби, поражавшую родителей, но особенно бабушку, своими взрослыми формами. Жена Наталья работала, а ездившая к ним теща Любовь Федоровна помогала вести дом, заботилась о внучке.
Неожиданная слава не только наделила Юрия новыми творческими возможностями, — она окружила соблазнами, без которых, увы, немыслима жизнь известных людей. Успешный писатель стремительно обрастал знакомствами со знаменитостями, его приглашали в шумные компании с неистребимым — вопреки развернувшейся антиалкогольной кампании — количеством спиртного, на встречах с читателями к нему подходили за автографом красивые женщины, жаждущие новых встреч со знаменитостью. О том, что все у них в семье было непросто, за героя говорят его стихи: то, чем обычно делятся лишь с близкими друзьями, поэты выносят на всеобщее обозрение — ведь стихи только тогда и можно называть стихами, когда они искренни:
В доме пахнет безлюдьем, Хоть все лампы горят. Мы с тобою не будем Разбираться, кто прав, виноват, Багровея от пыла, Выяснять, чья правей правота: Это все уже было — Дипломатия, и прямота, И уходы с возвратом, И прощанье с улыбкой змеи… Это страшно, как атом, — Расщепленье семьи… («Разрыв»)Вряд ли можно найти пару, которой довелось провести свой супружеский корабль через житейские рифы без происшествий и потерь, и каждый год в мире случаются миллионы кораблекрушений. Особенно непостоянны в браке люди творческих профессий, и если прежде от развода советских писателей удерживал в том числе страх схлопотать нагоняй по партийной линии, то в поздние советские годы этого страха не было уже ни у кого, даже у партаппаратчиков. И можно только восхищаться тем, что некоторым супружеским парам, в том числе Поляковым, довелось с честью пройти испытания и остаться верными данному друг другу слову. Тогда, во второй половине 1980-х, государству было не до семьи, партии — тоже, и все зависело от внутренней установки, если таковая была. Ну и, конечно, от воспитания. Оба, и Юрий и Наташа, с юности мечтали о прочной семье и сделали все, что от них зависело, чтобы мечта сбылась. В 2015-м чета Поляковых сыграла «рубиновую свадьбу» — отметила сороковую годовщину совместной жизни.
Настоящему мужчине не пристало вдаваться в подробности своей семейной жизни. Для того и существует творчество, чтобы воспоминания об изжитых радостях и неизжитой любви изливать на страницах книг. И хотя в стихах все было сказано, в интервью Юрий лишь однажды нехотя признал, что и их с Наташей семья не избежала испытаний на прочность. Точно так же, как у подавляющего большинства живущих вместе мужчин и женщин, у них случались по молодости шумные, с битьем посуды, скандалы. А однажды в стенку влетела пишущая машинка с катастрофическими для механизма последствиями. Покупка новой была тогда непростым делом, и лишь принадлежность к писательскому цеху позволила Юрию приобрести свой профессиональный инструмент, не простаивая в безнадежных очередях. (Кстати, любая множительная техника бралась тогда на строгий учет. Покупая пишущую машинку, ты должен был помнить, что отпечатанные на ней пробные образцы текста на всякий случай хранятся в соответствующих органах.)
Раза два, ослепленные взаимными обидами — а кто как не супруги умеют друг друга насмерть обижать, — они разъезжались, но всякий раз, остыв, вновь находили повод повстречаться: проверенные временем чувства, любимая дочь и семейный уют, который так ценил Юрий и который умело создавала Наташа, оказывались важнее окружавших обоих соблазнов, мелких взаимных счетов — и даже поблазнившей было мечты о новой, «сначальной» жизни, которую Юрий развенчает позднее в романах «Замыслил я побег…» и «Грибной царь». Кстати, в поздних стихах он даже признается, что и обижался «с оглядкой»:
Ах, эти семейные ссоры — Букет непрощенных обид. Язвительные укоры, Надменно-обиженный вид… Но в криках супружеской злобы Немного осталось огня. И дверью я хлопаю, чтобы Опять ты вернула меня… («Семейные ссоры»)Однажды им заинтересовавшись, слава держала Юрия крепкой рукой и уже сама управляла его жизнью. Все новые города ожидали с ним встречи, все новые залы битком заполняли сограждане, чтобы поговорить о наболевшем, поделиться сомнениями и тревогами.
«После окончания разговора с читателями организаторы мероприятия, принадлежавшие, так сказать, к местной головке, вели меня ужинать и там, расслабившись, тоже начинали жаловаться. На жизнь. Я объехал множество областей и довольных своей жизнью почти не видел. Нет, это была не злость голодных людей, это больше напоминало глухое раздражение посетителя заводской столовой, которому надоели комплексные котлеты. Хотелось иного…
Один умный старый писатель, следивший за моими успехами, как-то остановил меня в НДЛ, взял за пуговицу и сказал:
— Юра, поверь мне, старому литературному сычу, чем раньше ты забудешь о своем первом успехе, тем больше вероятность второго, третьего, четвертого успеха…»
Поездки по стране, ошеломительный успех опубликованной повести кружили его кудрявую голову недолго. Та случайная встреча в ресторанном зале Центрального дома литераторов, где буквально за каждым столиком трапезничали великие советские писатели и где вкусно и недорого можно было посидеть с друзьями за рюмашкой, оставила след в душе. Будучи трезвомыслящим человеком, Юрий и сам понимал, что, упиваясь славой, что-то неизбежно теряет. Надо работать, писать следующую вещь, не ожидая решения участи «Ста дней…», намертво застрявших в военной цензуре (о которой ходил тогда анекдот: «На цензуру упала атомная бомба. Не пропустили!»). И хотя, по его собственному выражению, он еще долго мог «гордо и гонорарно» реять над современной литературой, Поляков засел за третью повесть, тем более что тема у него уже была и он над ней размышлял: школа. Это был вновь его собственный опыт, особенно ценный тем, что тут так же, как в повести про комсомол, он мог посмотреть на школу с двух позиций: и глазами подростка-ученика, и глазами молодого учителя, не обремененного педагогическим опытом. Название пришло сразу: «Работа над ошибками». Некоторые сюжетные линии тоже долго придумывать не пришлось: Юрий и сам еще недавно занимался поисками неопубликованных текстов погибшего на войне поэта Георгия Суворова, по творчеству которого защитил диссертацию.
Хотя повесть про школу, в ней вновь много места уделено проблеме, которая волнует всякого молодого человека: как устроена карьерная лестница и какой ценой можно по ней подняться. Столкновения, происходящие между учителями и учениками, а также в учительской среде, не укладываются в привычную схему производственных конфликтов, подразумевающую выяснение истины и хотя бы временное примирение сторон. Пожалуй, в этой школе и нет конфликтов как таковых: там представлены люди из разных социальных страт, и интересы одной страты несовместимы с интересами другой. Школа — это место столкновения амбиций, где дети применяют взрослые методы борьбы с неугодным преподавателем, а их наставники выказывают полную растерянность перед жизнью, и лишь некоторые способны овладеть ситуацией — и разрешить конфликт в свою пользу.
Вот что говорит о «Работе над ошибками» сам Поляков: «Герой моей повести, журналист Петрушов, по стечению жизненных обстоятельств пришедший работать в школу, чувствовал этот разлад и пытался объединить учеников хотя бы героическим прошлым — поисками утраченной рукописи талантливого писателя Пустыре-ва, погибшего на фронте. Но и он понимал, что этого уже недостаточно. Одного прошлого мало. Тем более что рукописи все-таки горят… Честно говоря, когда я писал повесть, о проклятых вопросах кризиса национальной идеологии я еще не задумывался — просто вспоминал свой учительский опыт, впечатления, коллег, учеников… Наверное, это даже хорошо: меня вела жизненная и художественная логика, а не вычитанная концепция. Критика прежде всего оценила в «Работе над ошибками» тщательно выписанную «анатомию и физиологию» позднесоветской школы. Но и ощущение катастрофического неблагополучия, взаимного отчуждения поколений, разрыва связи времен, необходимой каждому обществу, она тоже почувствовала. А главное — почувствовал это читатель».
Повесть «Работа над ошибками» вышла в 1986 году в девятом номере дружественной «Юности». И хотя она была не менее критичной по отношению к советской действительности, чем первые две повести того же автора, препон ее публикации никто не чинил. Школьная тематика не настораживала партийное начальство — к тому же в эпоху гласности его требования к писателям заметно смягчились.
Отступление второе. «Культурная революция»
Пока власти предлагали стране лозунги, призывавшие очистить социализм от деформаций и возвратиться к ленинским нормам и идеалам Октября, СМИ уже вовсю печатали письма Ленина, где тот призывал расстреливать священников, чем больше, тем лучше, экспроприировать церковные ценности, изымать излишки сельхозпродукции у крестьян, создавать концлагеря и т. д. В различных изданиях выходили статьи о Ленине, Сталине, Жданове, Молотове, Кагановиче, Хрущеве, Троцком, Бухарине, Пятакове, Рыкове, Ежове, Берии и многих других советских деятелях. Об одних — гневно-разоблачительные, о других — скорбно-сочувственные. Начиналось бессмысленное для постижения революционного времени разделение исторических персонажей на палачей и жертв. Поляков, севший как раз за повесть «Апофегей», живо откликнулся в ней на происходящее. Не случайно его герои — молодые историки, не согласные со «сказками тетушки КПСС».
Интересна в этом смысле и вставная новелла про «бомбиста», которого в момент взрыва перенесло на время в развитой социализм и которого застрелили как провокатора его сподвижники, когда, вернувшись, он пытался рассказать им, за какое светлое будущее они борются. Молодой Поляков уже понимал, что мечта, материализовавшись, становится неузнаваемой. Но и в том, что касается прошлого, он тоже усматривал проблему: как и многие современники, он понимал, что прошлое легко извратить ради сиюминутных политических целей. Позднее в статьях и публичных выступлениях он не раз затрагивал тему «настоящего прошлого» — кстати, так стала при нем называться одна из самых популярных рубрик в «Литературной газете».
В перестройку в СМИ стали наконец появляться имена тех, кто не по своей воле покинул родину на «философском» пароходе, генералов, воевавших на стороне белых, писателей русского зарубежья. С 1987-го стали одно за другим печататься запрещенные когда-то цензурой «Чевенгур», «Ювенильное море» и «Котлован» Андрея Платонова, «Мы» Евгения Замятина, «Окаянные дни» Ивана Бунина, «Собачье сердце» и «Роковые яйца» Михаила Булгакова, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, произведения Александра Солженицына и Василия Гроссмана. Огромный резонанс вызвали вышедшие накануне, в 1986-м, новые романы Чингиза Айтматова «Плаха» — о наркоторговцах, Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» — о сталинских репрессиях, Владимира Дудинцева «Белые одежды» — о разгроме ученых-генетиков, «Змеелов» Лазаря Карелина — о торговой мафии, «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина о депортации чеченцев и ингушей.
В годы перестройки — как правило, по решению ЦК КПСС — на телевидении появились передачи, которые были призваны разоблачать недостатки советской системы и демонстрировать необходимость коренных перемен. В 1987-м в эфир Ленинградского телевидения вышла передача «600 секунд», в которой ведущий Александр Невзоров рассказывал об основных, на его взгляд, событиях дня. Передачу смотрела вся страна. В углу экрана шел обратный отсчет секунд, пока ведущий комментировал сюжеты о коррупции среди чиновников, критиковал депутатов Ленсовета, а позднее — речистого демократа Анатолия Собчака, ставшего мэром города. Программа всегда была на пике скандала, показывала неприглядные стороны повседневной жизни: насилие и разрушения, мертвецов и нечистоты. В 1988-м, в эпоху самого страстного разоблачительства, Невзоров был признан лучшим журналистом года. Но вскоре его взгляды начали меняться. Он затрагивал в программе тему православия, стал вдруг защищать от нападок СМИ омоновцев, противостоявших сепаратизму в Прибалтике, замедленной съемкой показывал, как следует голосовать на референдуме о сохранении СССР. Позднее он рассказывал, как в январе 1991 года, движимый либеральными чувствами, поехал в Вильнюс разоблачать произвол ОМОНа, но увидел то, что не хотели видеть «борцы за демократию»: профессионалов, честно выполнявших свой долг и несмотря ни на что не применявших оружия, бойцов, поносимых всеми и преданных центральной властью. В итоге Невзоров снял фильм с многозначительным названием «Наши»; затем последовали «Ликвидация» и «Рижский ОМОН» — фактически о том же самом. «Все, о чем я говорил, искренне, — вспоминал он об этом в интервью Сергею Минаеву. — Я видел феноменальных по своему достоинству, по своей храбрости и чистосердечности людей. И псковских десантников в Вильнюсе, и альфовцев, и омоновцев Вильнюса, и Болеслава Макутыновича и Чеслава Млынника, и их ребят, и ту часть прокуратуры Латвии, которая готова была встать на защиту империи, на защиту Союза. Не быть вместе с ними — это было выше человеческих сил». Невзоров единственный в сентябре 1993-го не показывал негативных репортажей о деятельности Съезда народных депутатов. Мало того, он тогда отправился из Питера в Москву, чтобы участвовать в противостоянии на стороне Верховного Совета, однако по пути был арестован. В последний раз «600 секунд» вышли в эфир 1 октября 1993-го, незадолго до штурма Белого дома, после чего программа была навсегда закрыта.
Огромной популярностью пользовалась передача «До и после полуночи», ежемесячно (или даже чаще) выходившая в прямой эфир с марта 1987-го по 1991 год, с субботы на воскресенье. Автор и ведущий Владимир Молчанов предлагал зрителям самые неожиданные сюжеты, в частности, такие, которые представляли привычные исторические факты в неожиданном ракурсе. Например, в одной из передач было подробно рассказано о высоком уровне жизни и статусе рабочих Прохоровской мануфактуры на Красной Пресне, где во время Декабрьского восстания 1905 года шли особенно ожесточенные столкновения рабочих с правительственными войсками. О доступных им социальных благах (которым и в советское время можно было позавидовать) и поездке лучших из них с хозяином на Всемирную выставку в Париж.
Писатель Юрий Поляков был частым гостем у Молчанова. Как, впрочем, и у ведущих «Взгляда», еще одной суперпопулярной программы, самой рейтинговой в эпоху перестройки. Впервые она вышла 2 октября 1987 года и прекратила свое существование в апреле 2001-го. Ее первыми ведущими были Олег Вакуловский, Дмитрий Захаров, Владислав Листьев и Александр Любимов. Затем появились Александр Политковский, Сергей Ломакин и Владимир Мукусев. Приглашали также известных журналистов Артема Боровика, который много писал о проблемах Советской армии, отслужив из журналистского интереса в американской, и Евгения Додолева, специализировавшегося на сенсациях. Решение о создании пятничной молодежной передачи было принято ЦК с подачи секретаря по идеологии Александра Николаевича Яковлева. Ведущие обсуждали в прямом эфире самые разные темы. Они вызывали тогда всеобщую симпатию, хотя их беседа никого ни к чему не обязывала. Главное, что программе по-настоящему удавалось, — разоблачительство, критика всего и всех, кроме демократов. Программа стала одним из символов перестройки, и когда в январе 1991-го ее выход в эфир приостановили, манифестация в ее защиту собрала десятки тысяч человек.
В качестве гостей в студию приглашали известных людей, и каждый выпуск широко обсуждался в СМИ. Однажды в эфире был показан сюжет о первом легальном советском миллионере Артеме Тарасове, разбогатевшем на кооперативной деятельности. Его заместитель по кооперативу предъявил журналистам партбилет, в котором была поставлена отметка, что он заплатил за месяц партвзносы в размере 90 тысяч рублей — в то время как средняя зарплата в стране составляла тогда 120 рублей.
В августе 1988-го во «Взгляде» появились следователи Гдлян и Иванов, которые вели тогда хлопковое дело. Они использовали прямой эфир, чтобы сообщить, что имеют основания для привлечения к уголовной ответственности ряда делегатов XIX Всесоюзной партконференции. В одном из выпусков был показан сюжет о положении наших военнопленных в Афганистане, который не пустила в эфир программа «Время». «Взгляд» представил зрителям «ДДТ», «Наутилус Помпилиус», «Кино». Именно в эфире «Взгляда» Марк Захаров впервые озвучил мысль о необходимости захоронить Ленина и сжег свой партбилет. Ведущие открыли тему так называемого русского фашизма, когда в здании ЦДЛ случился скандал между представителями «Памяти» и демокритического «Апреля» и были разбиты очки литератора Анатолия Курчаткина[6].
Информационно-аналитическая передача «Прожектор перестройки» выступала с громкими разоблачениями и критикой возникавших в ходе реформ перекосов. В ее адрес тоже ежедневно приходили тысячи писем. Примером затрагиваемых тем может служить история с гонорарами эстрадных певцов, которые получили право договариваться о концертах напрямую, минуя Министерство культуры и директоров филармоний. О том, сколько получали самые известные, в передаче не говорилось, зато было обнародовано, что диск-жокей Сергей Минаев получал за концерт две тысячи рублей, и это возмутило телезрителей. Сам Минаев позднее утверждал, что этот сюжет был сделан по заказу тех, мимо кого стали отныне проплывать эти огромные суммы.
За пару лет до так называемой гласности Главная редакция программ для детей и молодежи запустила проект «До 16 и старше». Программа шла в дневное время, когда старшеклассники уже возвращались из школы, а взрослые еще были на работе. В ней говорилось о движении рокеров и беспризорниках, о наркомании и алкоголизме среди молодежи, о дедовщине в армии, проблеме досуга и взаимоотношениях подростков с родителями. Такого уровня откровенного разговора о проблемах молодежи прежде на телевидении не было. Стоит ли говорить, что автор «ЧП…» и «Работы над ошибками» был частым гостем и этой передачи.
«Музыкальный ринг», выходивший на Ленинградском телевидении в 1984–1990 годах, тоже знакомил страну с не появлявшимися прежде на экранах рок-музыкантами. Ведущие Тамара и Владимир Максимовы предоставляли площадку «Аквариуму», «Браво», «Секрету», «Звукам Му», «Поп-механике», «Алисе» и многим другим, давая публике возможность задавать музыкантам острые вопросы.
В те годы стали модными телемосты с Америкой, которые проводили Фил Донахью и Владимир Познер и на одном из которых советская участница сказала свое знаменитое: «У нас в Советском Союзе секса нет!» — имея в виду только то, что, как и большинство советских женщин, она не представляла себе интимную связь без любви. Юрий Поляков был на этом «мосте», как и на других передачах, которые вел Владимир Познер.
То, что он регулярно появлялся на самых модных молодежных передачах и вообще на телевидении, по тогдашним понятиям означало, что он признан властью. При советской власти перед телеаудиторией выступал ограниченный круг литераторов. Обычно это были фронтовики и поэты-эстрадники. Из женщин-писательниц чаще других на телеэкранах появлялись Римма Казакова, Белла Ахмадулина, Лариса Васильева.
Телевизионщики выделили Полякова из писателей его поколения благодаря тем же качествам, которые ценны и в комсомоле, и в школе, и в газете: умению свободно говорить на разные темы, быстроте реакции, чувству юмора и смелости высказываний. Это тоже было веянием времени. Чаще всего его приглашали во «Взгляд», где он по-приятельски общался со «звездами» нового телевидения — Листьевым, Любимовым, Мукусевым, Политковским. Правда, со временем происходящее в стране стало вызывать у него скептицизм, и это сказалось на отношениях с либералами-взглядовцами.
«Мы летели в Америку на встречу «восходящих лидеров», — вспоминает Поляков. — Взглядовцы были, кажется, в полном составе. Мы выпивали, обсуждали новости. Они были очень горды тем, что, несмотря на запрет Горбачева, пустили в эфир сюжет про Шеварднадзе, который, объявив о возможности фашистского переворота в стране, пригрозил своей отставкой. Не знаю, где уж он нашел у нас фашистов. Впрочем, красно-коричневой угрозой тогда все пугали друг друга, как в пионерском лагере мы ночами стращали сами себя жуткой сказкой про гроб на колесиках. Все политики с правдой не дружат, но Шеварднадзе был уникальным, эпическим лгуном и предателем, что и подтвердил в бытность президентом Грузии. Я ответил взглядовцам в том смысле, что бывают в жизни государства ситуации, о которых в эфире надо рассказывать осторожно, а иногда и просто помолчать. Они набросились на меня с хмельной принципиальностью:
— Ты понимаешь, что сказал?! Да если нас заставят хоть на йоту поступиться правдой, мы швырнем заявление об уходе! Мы пришли в эфир ради правды! А ты хочешь цензуры!
— Я не хочу, чтобы с помощью телевидения разрушали страну!
— А мы, значит, разрушаем?!
В общем, поссорились.
Прошло два с небольшим года. В Кремле сидел Ельцин. Меня после большого перерыва позвали во «Взгляд», где я все и сказал: про развал СССР, про ураганное обнищание, про бессовестных нуворишей, про очернение истории и так далее… Листьев слушал меня с какой-то ветхозаветной грустью, но не перебивал, лишь тонко улыбался, когда я горячился, разоблачая антинародный курс Гайдара. Отговорив свое в эфире, я отправился к знакомым девушкам в редакцию «До и после полуночи» и из телецентра вышел лишь часа через два. Долго бродил, разыскивая брошенный в спешке на обширной стоянке свой темно-синий «Москвич-2141», которым страшно гордился. Потом я понял, почему не сразу его нашел: мою машину загораживал огромный никелированный джип очень дорогой модели и сейчас-то мало кому доступный, а тогда производивший впечатление инопланетного транспортного средства. У джипа стоял Листьев. Увидав меня, он немного смутился, потом спросил:
— Как тебе тачка?
— Фантастика!
— На ней даже по болоту ездить можно.
— А как тебе мое выступление?
— Молодец. Ты знаешь, что мы теперь в записи выходим?
— Не-ет…
— Теперь так… Ну давай, не забывай нас!
Мы разъехались. Все мои филиппики против антинародного режима вырезали. Во «Взгляд» меня больше не приглашали. А Влада вскоре убили. Из-за денег».
Фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», снятый на студии «Грузия-фильм» еще в 1984-м, вышел на экраны в январе 1987-го. В тот год его посмотрели 13,5 миллиона советских зрителей, и он получил Гран-при на Каннском фестивале. В следующем году его ждали шесть основных призов новой отечественной кинопремии «Ника», в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую мужскую роль. Гениальный фильм Данелии «Кин-дза-дза!» получил тогда два второстепенных приза: за звукорежиссуру и музыку.
Ныне «Покаяние», со всей его, по выражению журналиста Виктора Мараховского, «Обжигающей Правдой», благополучно забыт, а сюжет этой чрезвычайно пафосной ленты поразительно смахивает на позднюю чернуху. То, что он был так горячо встречен в конце 1980-х, свидетельствует, что люди были уже готовы принять любые черные мифы о себе и своей истории. Вот воспоминание очевидца, которое привел в своей статье о фильме Виктор Мараховский:
«Была зима. Я стоял в трехчасовой очереди, намотанной в несколько слоев вокруг кинотеатра «Пушкинский», в шубе одного сокурсника, валенках другого и собственной теплой шапке. Я и остальные стояли там, потому что не могли не пойти. Потому что, во-первых: у фильма был рекламный слоган, на тот момент стопроцентно абсолютно выигрышный и обеспечивающий суперкассу вообще чему угодно: «Запрещенное кино, снятое с полки»; вся мощь советской агитмашины еще до премьеры была развернута на пропаганду «Покаяния». Его разобрали во всей центральной прессе, его пропиарили по телевизору, пересказав, какие глубокие символы и смыслы оно несет. Не посмотреть его было нельзя — это значило выпасть из круга приличных людей.
Самого фильма я не помню, естественно. Но помню, что тоже был воодушевлен и впечатлен — ну вот, от нас скрывали правду, а теперь-то она выходит на поверхность.
…Уже много позже кое-кто из нас осознал, что это был один из первых случаев, когда вся гигантская сила государственной пропаганды была направлена фактически на самоуничтожение государства».
В январе того же 1987 года на экраны страны вышел документальный фильм латышского режиссера Юриса Подниекса «Легко ли быть молодым?», который вызвал не меньший ажиотаж, чем пафосное «Покаяние». Фильм ярко демонстрировал глубокий кризис идеологии в советском обществе. Молодежь в нем показана растерянной перед реальной жизнью, не имеющей духовно-нравственных ориентиров. Герои сами признают, что у них нет высоких целей, есть только материальные. В фильме никто ни разу не упоминает комсомол. Но особенно поражало зрителей, что герои плохо или совсем не говорят по-русски, предпочитая латышский. Это наглядно демонстрировало, что единая общность — советский народ — не такая уж единая: ведь именно русский язык и русская культура были ее цементирующей силой.
В 1987-м вышел на экраны и триумфально прошел по стране фильм Александра Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего…», проникнутый, можно сказать, перестроечным антисоветским пафосом. Фильм имел огромный резонанс, в нем снялись замечательные артисты Валерий Приемыхов, Виктор Степанов, Владимир Головин, Нина Усатова и др. Здесь сыграл свою последнюю роль Анатолий Папанов. В 1989-м картина «Холодное лето…» была удостоена Госпремии и премии «Ника».
Одним из основных культурных событий времен перестройки стал и фильм Сергея Соловьева «Асса». Его премьера состоялась 1 апреля 1988-го во Дворце культуры МЭЛЗ на Яузе. В фильме приняли участие популярные рок-музыканты, в саундтрек вошли песни БГ и группы «Аквариум», Жанны Агузаровой и группы «Браво», группы «Кино». В конце фильма на экране появляется Виктор Цой, исполняющий свою знаменитую «Хочу перемен!», а перед ним — огромная толпа зрителей с огоньками в поднятых руках. Кстати, по странному стечению обстоятельств, премьерный показ фильма в США совпал с августовским путчем 1991 года, что обеспечило ему дополнительный успех у местной публики.
В 1988-м на экраны страны вышла и снятая на «Лен-,фильме» лента Сергея Снежкина «ЧП районного масштаба». Похоже, это был самый однозначно антисоветский фильм эпохи перестройки. Его поначалу даже выпустили в режиме «закрытого показа» для партийно-комсомольского актива, что по тем временам было уже анахронизмом. А когда ленту разрешили крутить в кинотеатрах, билеты на него достать было невозможно. Одни зрители отмечали, что первый секретарь райкома партии — вылитый фашист Геринг, другие восхищались тем, что комсомольский вожак Шумилин снимает аппаратный стресс с любовницей прямо на кухне, ткнув ее головой в салат. К прозе Полякова это имело отдаленное отношение, а вот к разрушению страны — самое непосредственное. Но подробнее мы поговорим о фильме позднее.
В том же году зрители ломились на «Маленькую Веру» Василия Пичула (аудитория — 55 миллионов человек). Фильм неприглядно показывает повседневную жизнь обычных советских людей, где есть место бытовому насилию, преступности и свободным нравам, вплоть до платной любви. Многие посмотрели его еще и из-за интимных сцен, столь нехарактерных для стыдливого советского кино. Наталья Негода, исполнившая главную женскую роль и признанная «Советским экраном» лучшей актрисой 1988-го, стала секс-символом перестройки. В 1988–1989 годах фильм получил несколько международных призов, а Негода вскоре снялась в фотосессии для «Плейбоя» и упорхнула в Америку.
Знаковым для того времени стал и документальный фильм Станислава Говорухина «Так жить нельзя», который снимался в его родном городе Березники, а также в Ленинграде, Нью-Йорке, Гамбурге, Берлине и Баку и который, по версии все того же «Советского экрана», был признан лучшим фильмом 1990 года. Правда, говорухинский фильм был скорее антигорбачевским, чем перестроечным, поскольку режиссер показал в нем бедственное состояние страны в поздний перестроечный период. Недаром некоторые утверждают, что эта картина Говорухина сыграла определенную роль в избрании председателем Президиума Верховного Совета РСФСР — в пику Горбачеву — Ельцина.
17 мая 1991-го, ночью, по Ленинградскому телевидению в передаче «Пятое колесо» был показан сюжет-мистификация, в котором участвовали музыкант Сергей Курёхин и журналист Сергей Шолохов. Сюжет строился в виде интервью, которое Шолохов брал у Курёхина, выступившего в роли молодого исследователя. Этот «исследователь» высказал убеждение, что Ленин долгие годы употреблял галлюциногенные грибы и со временем сам превратился в гриб (будучи одновременно еще и радиоволной). К такому выводу «исследователь» подводил зрителей постепенно, излагая ход своих рассуждений и подкрепляя его цитатами то из Сергея Аксакова, то из Карлоса Кастанеды. Курёхин убедительно продемонстрировал приемы манипуляции массовым сознанием, когда под видом объективной истины в сознание людей вколачиваются самые нелепые представления.
Сюжет вышел в эфир в самый разгар так называемой гласности, когда публиковались статьи и показывались сюжеты о многих прежде закрытых и недоступных исторических фактах, преподносившихся в искаженном либо усеченном виде — в угоду политическим взглядам ими оперировавшего. Зрители, привыкшие в советское время читать и смотреть чистый официоз, в годы перестройки легко принимали за правду заведомое вранье, а потому очень многие приняли сообщаемое Курёхиным за чистую монету. И поняли, что стали жертвами мистификации, ближе к окончанию передачи, когда сам Курёхин, его друг Шолохов и съемочная группа уже не могли сдерживать смех.
Наряду с телепередачами особым спросом пользовалась в те годы разоблачительная пресса, из которой своими сенсациями выделялись журнал «Огонек» и газета «Московские новости». «Огонек», имевший давнюю, еще дореволюционную историю, принадлежал тогда издательству ЦК КПСС и был очень популярен. Более четверти века его возглавлял поэт и драматург Анатолий Софронов, которого в либеральных кругах считали мракобесом и антисемитом. В 1986-м, по предложению Лигачева, на этот пост назначили Виталия Коротича, поэта, писателя и публициста. Его стихотворение «Последняя просьба старого лирника» в переводе с украинского Юнны Мориц стало известной песней супругов Никитиных «Переведи меня через майдан».
Победителями становятся те, кто в итоге пишет историю. А значит, армия поэтов и писателей ничуть не менее важна, чем просто армия, и ее должны возглавлять только самые достойные. Выбор Лигачева не был случайным: публицистика Коротича по духу ничем не отличалась от произведений других известных журналистов и бойцов идеологического фронта — Юрия Жукова, Валентина Зорина, Генриха Боровика. Западную критику в адрес СССР Коротич клеймил как злостную клевету и антисоветчину. Он писал: «Мы обязаны знать об этом и помнить: в Советском Союзе воплотились мечты всех трудящихся на земле» и т. д. За одну из своих самых известных книг — «Лицо ненависти», в которой Коротич разоблачал капиталистические нравы США, сопоставляя их с социальным прогрессом в Советском Союзе, автор был удостоен в 1985 году Государственной премии СССР.
Коротич занимал пост главного редактора, одновременно будучи секретарем правления Союза писателей СССР. Вот как описывает деятельность своего «прораба перестройки» сайт журнала «Огонек»: «С его приходом журнал повернул на 180 градусов. Трудно в мировой истории вспомнить издание, которое оказало бы на политическую жизнь страны такое же сильное влияние, как «Огонек» эпохи перестройки. Публицистика «Огонька» стала школой демократии в изголодавшейся по свободе стране. Разоблачения стали культовым жанром всей журналистики. Начинал эту эпопею журнал «Огонек»… С ним связаны эпоха «гласности», смена политической формации, крах советской власти — сначала в умах людей, а потом и в реальной жизни».
Оценка, конечно, преувеличенная, но по сути верная. Сотрудничая тесно с либеральной «Юностью», Поляков тем не менее не был автором «Огонька». Лишь однажды он выступил в этом журнале с острой заметкой в поддержку писателя Владимира Крупина, подвергшегося резкой критике со стороны ГлавПУРа за рассказ об изломанной судьбе воина-афганца.
В 1989 году американский журнал «Уорлд пресс ревью» присвоил Коротичу звание «Зарубежный редактор года». В том же году он был избран народным депутатом СССР и стал членом Межрегиональной группы. А 19 августа 1991-го, находясь в США, сдал билет в Москву, опасаясь репрессий со стороны ГКЧП, за что через неделю решением журналистского собрания редакции «Огонька» был освобожден от должности.
«В середине 1990-х, — вспоминает Юрий Поляков, — на каком-то мероприятии я стал случайным свидетелем разговора Андрея Дементьева и Виталия Коротича, преподававшего где-то на Западе и наезжавшего порой в демократическую Россию.
— Ну как, не скучно тебе там? — не без ехидства спросил Дементьев.
— Бывает. Но я тогда иду в магазин, покупаю свежей малинки — очень люблю! Съем — и отпускает… — искренне ответил Коротич.
Волосы шевелятся, когда понимаешь, что от таких «малиноедов» зависела судьба страны!»
Кстати, на пике разоблачительства — в 1990-м — тираж «Огонька» составил 4,6 миллиона экземпляров по сравнению с 2 миллионами в 1986-м. В 1991-м он упал до 1,8 миллиона, а в 1994-м — до 74 тысяч.
Еще один «рупор перестройки», газета «Московские новости» прежде выходила на английском и ряде других языков. Но в 1980 году, в преддверии московских Олимпийских игр, политбюро приняло решение выпускать ее и на русском. В 1986-м газету возглавил журналист и писатель Егор Яковлев, автор целого ряда книг о Ленине и антирелигиозных брошюр в духе Емельяна Ярославского. Одновременно Яковлев занял пост заместителя председателя правления агентства печати «Новости» (АПН), которому принадлежала газета, а затем возглавлял Всесоюзную телерадиокомпанию (ВТРК), переименованную при нем в Российскую телерадиовещательную компанию «Останкино».
«Московские новости» не были столь популярны, как «Огонек», но газета тоже была нарасхват, и ее главным девизом тоже стало разоблачительство. Добившись в 1990 году отделения газеты от АПН, Яковлев положил начало так называемым независимым российским СМИ. В число учредителей тогда вошли сам Егор Яковлев, а также Юрий Черниченко, Александр Гельман, Юрий Левада.
В 1986-м, незадолго до вступления перестройки в активную фазу, была возобновлена передача «Клуб веселых и находчивых», закрытая в конце 1971-го. Шутить стало можно, а в 1988-м студенты шутили уже напропалую. Как известно, тогда речь шла уже о том, чтобы отменить статью 6-ю главы 1-й Конституции 1977 года о партии как руководящей и направляющей силе советского общества, и кто-то из кавээнщиков на всю страну озвучил просьбу: «Партия, дай порулить!» Среди шуточек того сезона была и такая: «10 процентов верят в загробную жизнь, 20 процентов — в светлое будущее, а остальные — атеисты».
Вот как спустя 30 лет описывал состояние смущенных «культурной революцией» умов Юрий Поляков:
…………………..
— Дайте сказать! — Вехов поднял руку так, словно в ней был факел.
— Погодите, — поморщилась Болотина. — Вон товарищ давно уже просит слова. — Она благосклонно кивнула старичку доцентской внешности, и тот поспешил к освободившейся трибуне. Председатель клуба «Гласность» наблюдал за этим с насмешливым презрением человека, давно привыкшего к несправедливости.
— Позвольте небольшой исторический экскурс? — спросил старичок, обживая трибуну.
— Если коротко, не возражаю, — разрешила Елизавета Вторая.
— Спасибо! Начнем, как говорили древние, от яйца Леды. — Его голос обрел лекционную плавность. — Такая, с позволения сказать, кафкианская ситуация сложилась в нашей стране из-за того, что в конце 1920-х свернули НЭП, хотя Ленин недвусмысленно заявлял: новая экономическая политика всерьез и надолго! Он считал социализм торжеством цивилизованных кооператоров. Однако в 1927 году был законодательно изменен статус предприятий. Целью стало не извлечение прибыли, а выполнение плана, спущенного сверху. А ведь Николай Иванович Бухарин, провидец, предупреждал: мы слишком все «перецентрализовали»! Но Сталин знал: рыночный, а точнее, хозрасчетный социализм несовместим с личной диктатурой…
— Короче, Склифосовский!
— Завязывай лекцию читать! — крикнули из зала. — Видели мы твоих цивилизованных кооператоров. Кулебяка рубль стоит!
— Ничего страшного, коллеги! — успокоил доцент. — Конкуренция и спрос сформируют нормальные цены. Сейчас многие перегибы происходят из-за того, что бюрократия сопротивляется перестройке и делает все, чтобы народ разочаровался в-реформах. Не позволим! — крикнул доцент, сходя с трибуны.
— Нужна чрезвычайная комиссия по борьбе с врагами перестройки! — гулко вмешался Вехов. — Надо выявлять и…
— Расстреливать? — уточнил спецкор.
— Если надо — и расстреливать.
— Чем же вы тогда лучше Сталина? — не вытерпела Мятлева.
— У нас другая цель.
— Какая же?
— Свобода.
— Значит, ради свободы все разрешено?
— Все, кроме слезинки ребенка! — Вехов ответил ей перевернутой улыбкой.
— Значит, можно и книги с полок воровать? — осведомилась Болотина.
— Вот, товарищ Скорятин, прошу зафиксировать. — Библиофил презрительно указал на директрису длинным суставчатым пальцем. — Враги перестройки и клевету активно используют, чтобы задавить народную инициативу.
— Вы не о том, не о том все говорите! — застонала изможденная дама в цыганской шали. — Главное, что наша дорога не ведет к храму!
— А почему дорога должна вести обязательно к храму? — хихикнул Колобков, желая вернуть Зоино внимание. — Она может вести, например в баню…
— Куда-куда? Он что там такое говорит?! А еще из райкома… — зароптали те, кто видел фильм «Покаяние». — Издевается!
Мятлева покосилась на Илью с неловким смущением, так девочка-отличница смотрит на одноклассника, несущего у доски позорный вздор. А она с ним вчера зачем-то поцеловалась…
— Ну не обязательно в баню, можно и в библиотеку… — чуя неладное, попытался исправить ошибку пропагандист.
— Библиотека — тоже храм! — почти не разжимая губ, произнесла Елизавета Михайловна. — Геннадий Павлович, а вы что молчите?
— Дайте ему сказать! Человек из Москвы ехал! — донеслось из зала. — Не затыкайте рот!
— Никто никому ничего не затыкает. Надо оставить время на вопросы.
— Колокольный звон — не молитва! — подытожил Скорятин. — Если есть вопросы, задавайте!
— Есть! — усмехнулся Вехов. — Почему в СССР одна партия? Странно, не правда ли? Партии создаются, чтобы бороться за политическую власть. С кем? Ежу понятно: с другими партиями. А с кем борется КПСС? Сама с собой или с народом?
— Сама с собой. Лигач Горбача подсиживает. Нет, с народом борется! Водку — по талонам продает! — вразнобой закричали из зала…
(«Любовь в эпоху перемен»)…………………..
К вышеперечисленным факторам «эпохи перемен» стоит добавить события, напрямую не связанные с культурой, но имеющие отношение к зрительской аудитории и ее восприимчивости. В 1989-м Центральное телевидение, неизвестно с чьей легкой руки, начало масштабный эксперимент над страной: транслировало сеансы журналиста Чумака и психотерапевта Кашпировского. Впечатлительные телезрители «лечились» водой, «заряженной» Чумаком с помощью пассов руками, зато на сеансах Кашпировского они якобы массово исцелялись, вот только некоторые так и не выходили из транса и в результате оказывались в психоневрологической больнице.
Атеистическая идеология утратила тогда свою актуальность, и в конце 1987-го Церкви — для начала — передали знаменитую Оптину пустынь, основанную в XIV веке и закрытую в 1918-м, а также ярославский женский Толгский монастырь XIV века. В 1988-м, в тысячелетнюю годовщину, церковный праздник Крещения Руси был отмечен на государственном уровне.
Празднование началось в Великом Новгороде, где в конце мая всем народом отмечался День славянской письменности и культуры и куда съехался буквально весь цвет русской творческой интеллигенции: писатели, поэты, актеры, музыканты, режиссеры, историки, ученые-филологи и т. д. Среди гостей праздника были Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, Олег Трубачев, Никита Толстой, Владимир Личутин, Игорь Шафаревич, Аполлон Кузьмин, Сергей Семанов, Олег Михайлов, Георгий Жжёнов, Владимир Минин и многие другие. Участвовал в праздновании и Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Великий Новгород с его древними храмами и добросердечными жителями в эти дни буквально преобразился. На всех площадках собирались толпы, люди танцевали, пели народные песни и слушали церковные песнопения, в Свято-Юрьевом монастыре вечерами проходили народные гулянья. В июне основные торжества по случаю тысячелетия Крещения Руси прошли в Москве и ряде других городов, но по сравнению с Новгородом это был уже чистый официоз. С 1991 года, то есть уже при Горбачеве, была возрождена традиция празднования Рождества на государственном уровне, а 7 января был объявлен нерабочим днем. Правда, тогда в храмах еще не стояли «подсвечники», — высокопоставленные чиновники с демонстративно благостными лицами, — это началось позднее, уже при Ельцине.
* * *
Вот что говорил о «культурной революции» историк искусств и реставратор Савва Ямщиков на конференции «А. С. Пушкин как мировоззренческое явление национальной традиции», проходившей в 2009 году: «Наиболее страшным из итогов 25-летнего нашего так называемого «постперестроечного» времени я считаю то, что за это время нас заставили потерять память. С этого началась вся эта бархатная революция, которая стоила нам не меньше жертв, чем война и революции небархатные. Помните, с чего все начиналось? Кого они прославляли на страницах журналов? Бухарина. Бухарина, который сказал, что большевикам имя Есенина вспоминать не нужно, что если мы будем хвалить Есенина, то не дай бог и до Тютчева «докатимся». Это было продолжение той же самой троцкистско-ленинской революции. Чего было ждать от этих подразгулявшихся ребят? «Московские новости» Егора Яковлева говорили о демократии, а он в то же время продолжал снимать 90-серийный фильм о Ленине, обобрав все Останкино за свой сценарий. А был уже 1989 год…»
* * *
С выходом «ЧП…» и «Работы над ошибками» писательское начальство обратило внимание на талантливого молодого автора и вовсю принялось его продвигать.
«Как-то я пришел в наше литературное министерство — Союз писателей СССР, расположенный в «доме Ростовых» на улице Воровского (теперь Поварская), — вспоминает Поляков. — Кажется, мне надо было оформить документы для заграничной командировки, о чем прежде и не мечталось. Иду и вижу: мне навстречу по узкому коридору, подобно тугому поршню, движется второй человек в СП СССР Юрий Николаевич Верченко. Он был настолько толст, что на самолет ему брали два билета: в одном кресле не помещался. В коридоре разойтись с ним можно было, лишь нырнув в какой-нибудь кабинет. Что я и сделал. Но прежде почти не замечавший меня литературный генерал остановился, хитро улыбаясь, поманил пальцем-сарделькой и спросил:
— Знаешь уже?
— Что, простите?
— Не знаешь? Тогда слушай: вчера Михаил Сергеевич хвалил твое «ЧП…» на политбюро. Сказал: побольше бы нам таких. Понял? Только не зазнавайся!
— Ну что вы! — Я замотал головой, изображая послушное смущение, которое так нравится начальству.
— Ладно-ладно, скромник! — Он посмотрел на меня с внимательной усмешкой раскройщика судеб.
Потом не раз я встречал в жизни этот примерочный взгляд начальства, выбирающего очередного кандидата на выдвижение. Меня двинули в 86-м, избрав сразу секретарем Московской писательской организации и СП РСФСР, а также членом правления СП СССР. Теперь, когда литературное сообщество превратилось в нечто среднее между профсоюзом бомжей и клубом вольных графоманов, понять степень моего возвышения трудновато. Чтобы люди, забывшие или по молодости лет не знающие номенклатурных раскладов, поняли, о чем речь, могу дать подсказку. Представьте: вы сразу стали членом совета директоров Газпрома, Роснефти и Сбербанка. Одновременно! Так понятнее? Остается добавить: в те далекие годы известный писатель занимал в кремлевской табели о рангах очень высокое положение. А как же! Ленин, Сталин, Брежнев — все писали книги. Нынче это место принадлежит медальным спортсменам и ночным мотоциклистам, прикрепившим к рогатому рулю наш триколор.
Когда перед съездом писателей СССР обсуждали состав высшего органа — будущего секретариата, мудрый Георгий Мокеевич Марков, увидав в списке секретарей и мою фамилию, сказал:
— Вы что, совсем хотите парню жизнь испортить!
И меня гуманно понизили — переместили в правление. Мой вертикальный взлет вызвал сдержанное негодование коллег и даже эпиграммы:
Гляжу на Полякова Юру. Активен — этим и хорош. Вошел, как лом, в литературу. Куда ты, комсомолец, прешь!<…> Обиду и раздражение коллег понять можно: многие за право войти в какое-нибудь занюханное правление без устали наушничали, интриговали и гнули партийную линию так, что в конце концов сломали. <…> А тут какого-то сопляка после первой же повестушки буквально опутали литературными лампасами с ног до головы. Обидно, да?»
Осенью 1986-го Юрий узнал, что за «ЧП…», вызвавшее такое сильное раздражение у властей предержащих, в том числе у комсомольского начальства, ему присудили премию Ленинского комсомола. Известие застало его в доме творчества «Гульрипши» под Сухуми. Судьба «ЧП…», после стольких лет неопределенности, наконец сложилась удачно: в том же году повесть появилась в молодогвардейском сборнике «Категория жизни», составленном Эрнстом Софроновым. А в 1987-м в Театре-студии Олега Табакова была поставлена инсценировка «ЧП…» под названием «Кресло» с Михаилом Хомяковым, Алексеем Серебряковым, Ириной Алексимовой и Мариной Зудиной в главных ролях. Собственно, с шумного успеха спектакля и началась знаменитая «Табакерка». Правда, с тех пор не просто утекло много воды — автор и режиссер заняли позиции в противоположных идейно-политических станах, и, возможно, поэтому театр не любит вспоминать о спектакле, шедшем тогда с аншлагами.
В декабре 1986-го еженедельник «Собеседник» под заголовком «Портфеленосцы комсомолу не нужны» опубликовал интервью, в котором Юрий утверждал, что перестройка в комсомоле свелась к очередным «планам мероприятий по перестройке»: «Будто заасфальтированное поле — ни одного живого росточка. Выступления заранее обговорены, согласованы, отрепетированы. Восторженные рапорты, парадные слеты, бесчисленные постановления, пышные резолюции. Работа? Подчас имитация таковой. Райкомовцы из простых хороших парней превратились в меру расторопных, в меру невозмутимых и осторожных чиновников. Я побывал на десятках читательских встреч, меня приглашали в самые разные молодежные аудитории, начиная с моего «родного» дэза и кончая редакцией газеты «Правда». И всюду, как я понял, в каждой комсомольской организации, велика она или мала, есть «хронически улыбающаяся секретарша», от которой никогда ничего толком не добьешься. Процветает своя Шнуркова — есть у меня такая «обреченная на формализм» героиня неопределенно-комсомольского возраста. Не придуман, не сочинен заворг Чесноков — работящий, энергичный, напористый парень, немного — для равновесия — изображающий из себя разгильдяя. Да, он справится, не подведет, не сорвет работу, ему дорого дело. Не потому, что это дело, которому он служит, а потому, что это дело, которое служит ему».
В 1986-м Юрия неожиданно разыскал мэтр советского кино Евгений Иосифович Габрилович (1899–1993), автор сценариев более двух десятков нашумевших советских фильмов, среди которых «Два бойца», «Коммунист», «Убийство на улице Данте», «В огне брода нет», «Твой современник», «Начало», ну и, конечно, «Ленин в Польше» и «Ленин в Париже». Габрилович предложил совместную работу: написать сценарий про современную жизнь, об активной коммунистке, которую приглашают на работу в райком. Роль героини они писали для Ирины Муравьевой, а снимать картину должен был ее муж Леонид Эйдлин.
В своем блестящем эссе «Как я был врагом перестройки» Поляков рассказал, как два коммуниста писали сценарий о том, что чрезвычайно волновало обоих: о людях во власти, от которых зависело дальнейшее развитие страны. Им искренне хотелось разобраться, как энтузиасты горбачевского призыва решают задачи управления, распоряжаются судьбами людей. И обманываться они не могли: у одного был колоссальный жизненный и творческий опыт, у другого — опыт аппаратной, пусть и комсомольской работы и цепкий взгляд сатирика, а потому неудивительно, что пришли они к неутешительным выводам.
Не стоит также удивляться, что в 1987-м, в эпоху оголтелых разоблачений, сценарий фильма про партаппаратчиков был зарублен худсоветом Четвертого творческого объединения во главе с режиссером Владимиром Наумовым, а выплаченный авторам аванс списан по статье «творческая неудача». Поляков полагает, что зарубить сценарий самого Габриловича можно было лишь с согласия либо по указке «архитектора» перестройки Яковлева, к которому, кстати, авторы поначалу собирались обратиться за поддержкой — сразу после разгромного заседания худсовета. Вопрос о публикации многих книг, как и о съемке фильмов, в советскую эпоху часто решался на политбюро либо кем-то из его членов. Но не странно ли, что в 1987-м, когда можно было критиковать всех и вся, худсовет не прошел сценарий, в котором критиковались партаппаратчики, в сущности, низового звена? Нет, не странно. Дискуссия о методах партийного руководства была не выгодна именно тем, кто только что пришел к власти, потому что речь шла о методах партийного руководства их последователей, а эти методы ничем не отличались от методов прежних партаппаратчиков. Уже наломав дров, они тем не менее не собирались сворачивать с курса, равно как и руководствоваться девизом врачей «Не навреди!».
Время тогда было такое: одна публикация либо премьера поднимала бурю обсуждений, вспомним хотя бы книги самого Полякова про комсомол и школу. Несмотря на сбивавшие с толку разоблачительные телепередачи, фильмы и публикации, люди еще остро реагировали на подобные темы, сами включались в поиски причин и, конечно, искали виновных. В том, чтобы их найти, ни Горбачев, ни его соратники не были заинтересованы — так же как в том, чтобы спасти от слома советскую политическую систему.
Вот как через 30 лет написал об этом Поляков: «Теперь я понимаю: попав меж двух жерновов, наш сценарий был обречен в любом случае. С одной стороны, интеллигенция сладко агонизировала в эйфории разрешенного свободомыслия, ей наконец-то позволили вольно выражать исконно-заветное неудовольствие страной обитания и неуспешным народом. Ради этого почти сексуального счастья она прощала власти все ошибки и несуразицы, обещавшие впереди серьезные потрясения. Даже самая осторожная критика хаотичных методов и туманных целей ускорения воспринималась как злостное покушение на главное завоевание — свободу слова. Спрашивать, куда идем, считалось неприличным. Интеллигенцию волновал другой вопрос: почему идем так медленно? О хлебе насущном пока вообще никто не задумывался, полагая это прямой обязанностью постылого государства, которое, собственно, и собирались рушить с помощью заморских консультантов. Когда в 1990-е выяснилось, что генерал спецслужб, а позже депутат от демократов Калугин — американский агент, все отнеслись к этому спокойно, как к самому собой разумеющемуся. А кто же еще? Ведь «умный человек не может быть не плутом»!
Со временем стало очевидно: в высшей номенклатуре есть серьезные люди, отлично понимающие губительность горбачевской «перестройки». Напомню, сам термин появился в эпоху реформ Александра II Освободителя, и «гласность», кстати, оттуда же. Они, эти люди, сознательно вели страну к потрясениям, к обрыву, чтобы в падении и хаосе одним махом сменить политический и экономический строй СССР. Скорее всего, и распад Советского Союза был заранее запланирован и оговорен. Еще Сахаров советовал поделить одну шестую часть суши на несколько десятков уютных кусочков, а Солженицын тяготился «южным подбрюшьем». Что и говорить: мелко нарезанная Россия — давняя золотая мечта Запада. Кому ж приятно возделывать свой лилипутский садик, если за забором начинаются угодья великана?
Судя по всему, Яковлев и был координатором сил, направленных на радикальное переустройство страны, на капитализацию под лозунгом «Больше социализма!». Думаю, неприятие нашего «антиперестроечного» сценария шло если не от него самого, то от его ближнего круга. Ведь зарубить фильм, освященный именем Габриловича, Героя Соцтруда и бесчисленных госпремий, можно только с высочайшего согласия. Таковы были тогдашние правила игры. Да и сегодняшние тоже. А чего, собственно, испугались-то? Неужели одна кинолента могла изменить ситуацию в стране, переломить настроения, повернуть вспять историю? Теперь в это трудно поверить. Нынче даже премьера, превращенная мощным пиар-прессингом в событие века, проходит по стране косым дождем. Но тогда все было иначе. Помните, какими морально-политическими бурями стали ленты «Маленькая Вера», «Россия, которую мы потеряли», «Так жить нельзя», «Покаяние», «Легко ли быть молодым?». Да и снежкинское «ЧП районного масштаба», к которому приложил руку автор этих строк. Именно литература и искусство помогли свернуть на антисоветскую сторону многим доверчивым мозгам. Это были мощнейшие «антисоветики» (по аналогии с антибиотиками), убивавшие в сердцах все социалистическое.
Напомню: к 1987-му у людей стали появляться вопросы к новому курсу. Точнее других сформулировал недоумение писатель-фронтовик Юрий Бондарев, сказавший с высокой трибуны, что страна похожа на самолет, который взлететь-то взлетел, а куда садиться, не знает. Как же набросилась на него передовая свора! А какие битвы велись вокруг письма скромной ленинградской преподавательницы Нины Андреевой! Его опубликовали в «Советской России» под заголовком «Не могу поступаться принципами!». Стольких проклятий не удостаивалась даже Фанни Каплан, стрелявшая в Ильича. Ведь сознание советского человека воспринимало критику, допущенную на газетную полосу, экран телевизора или кинотеатра, на театральную сцену или в радиоэфир, как отчетливый призыв бороться и одолеть негативные тенденции жизни. Именно так осуществлялась в нашем однопартийном обществе обратная связь. Появление в этой атмосфере сгущающегося недоумения и недовольства Горбачевым антиперестроечного фильма, в создании которого принял участие живой классик советского кино Габрилович, а главную роль сыграла всенародная любимица Ирина Муравьева, могло бы стать щелчком детонатора. Но могло и не стать… История капризна, как женщина.
Если бы фильм запустили в производство по утвержденному плану в 87-м, на экраны он вышел бы как раз к концу 88-го, в переломный момент, когда уже многие были готовы сказать Горбачеву: «До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес!» Именно в этом году мы проскочили точку невозврата. А могли ведь остановиться, свернуть и пойти, скажем, «китайским путем» обновления без самопогрома. Лично я ради эволюционной модернизации еще лет десять посидел бы на скучнейших партсобраниях, повторяя детскую риторику, разработанную партией для простодушных рабфаковцев 20-х годов. Но многим уже хотелось «делать историю», им нравилась стремительная «собчачизация» общественной жизни с трибунными истериками и призывами в непросчитанные дали. Да и рубль, сорвавшись с цепи безнала, делал свое дело. «Корейки» уже вылезали из подполья, пилили свои золотые гири и вступали, пока закулисно, в большую политическую игру. Не сомневаюсь, отмашку на закрытие «Неуправляемой», как, впрочем, и других антиперестроечных поползновений, дали те, кто хотел, чтобы точку невозврата страна прошла, не заметив. Так и случилось. И хороши бы мы были, послав жалобное письмо Яковлеву. Марионетки жалуются кукловоду на то, что кто-то дергает их за нитки. А недовольных марионеток, как известно, складывают в сундук…»
Для «великого Габра», как называет его Поляков, это была единственная в своем роде попытка безоглядно высказаться. После нее он замолчал и уже до самой смерти сценариев не писал. Для Полякова же это был очередной урок — и бесценный опыт, которым не раз довелось воспользоваться. Оптимизма соавтору «Габра» добавляло и то, что по обеим вышедшим в свет повестям уже были написаны сценарии и даже ушли в производство — на «Ленфильме» и Киевской киностудии им. А. Довженко. А столичная Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького заинтересовалась «Ста днями до приказа». Другое дело, что автор не мог и предположить, какими получатся фильмы и как это скажется на его писательской репутации.
В 1987-м в «Советском писателе» вышла четвертая, последняя чисто поэтическая книга Юрия Полякова «Личный опыт». Дальше шла проза: все по Пушкину.
* * *
У «Ста дней…» по-прежнему не было никаких перспектив. Удалось лишь весной 1984 года опубликовать в «Московском литераторе» фрагмент под названием «Призыв». Читая его, несложно понять, почему повесть не пропускали в печать: так писать об армии было тогда не принято.
…………………..
Ночью, после медосмотра, меня растолкал Жорик и сообщил, что, по разговорам, нас собираются загнать в такую глушь, где, кроме забора, нет никаких достопримечательностей. Выход один — застрять в карантине до следующей партии, которую, по тем же слухам, должны направить в знаменитую дивизию, прошедшую с боями до Померании и со славой вернувшуюся в Московский военный округ. Как застрять, Жорик тоже знал: нужно симулировать какое-нибудь серьезное заболевание.
Ни грипп, ни желудочное расстройство, легкомысленно предложенные мной, не подходили. Тут нужно было нечто особенное, парализующее многолетний опыт военврачей. И Плешанова осенило! Всю оставшуюся ночь мы мучительно вспоминали читанные в «Здоровье» и слышанные от пострадавших симптомы спасительного недуга, а утром поскреблись в дверь врача. Жорик, краснея и запинаясь, стал излагать выстраданные нами приметы пикантной болезни. Седой краснолицый капитан с золотыми змеями в малиновых петлицах слушал нас очень внимательно, сочувственно и даже задавал наводящие вопросы:
— И утром тоже?
— Утром особенно, — признавался Плешанов.
— Та-ак. А у товарища?
— И у товарища.
— Та-ак. А где же вы с ней познакомились?
— В кино.
— Та-ак. И адреса не знаете.
— Не знаем.
— Та-ак. А приметы помните?
— Конечно. Высокая, полная (Жорик выставил вперед два локтя). Справа, на нижней челюсти — золотой зуб.
— Зуб или коронка? — встрепенулся капитан.
— Зуб! — убежденно подтвердил мой приятель.
— А ты как думаешь? — Врач испытующе поглядел мне в глаза.
И тут с отчетливым ужасом я понял, что капитан давно обо всем догадался и просто-напросто издевается над нами. Подхватив недоумевающего Жорика, я попятился к двери, но, вопреки ожиданиям, военврач не стал нас ставить по стойке «смирно» и вызывать начальника карантина, а только спросил вдогонку:
— Швейка-то вы хоть читали?
— Читали, — ответил еще ничего не понявший Жорик. — Но давно, в детстве.
— В детстве нужно «Буратино» читать! — гаркнул капитан и пристукнул рукой по столу, зазвеневшему никелированными инструментами…
Еще помню, как поздно вечером нестройной колонной нас вели мыться в пустые районные бани, и по пути, умолив сержанта, я, задыхаясь, носился по переулкам в поисках работающего телефона. А потом, уже бросив монету и прижав к уху гудящую трубку, никак не мог вспомнить номер. У Лены почему-то никто не подходил, у моих было намертво «занято». В конце концов я дозвонился и загнанно объяснил, где находится наш карантин, а на следующий день на КПП уже разговаривал с мамой и Леной, жалостливо смотревшими на меня.
— У вас, наверное, плохо кормят? — спросила мама у дежурного по КПП.
— Нормально кормят. Через два года он у вас ни в одни штаны не влезет! — успокоил офицер и попросил закругляться.
Он оказался прав: сегодня со всей ответственностью можно констатировать, что в армии я увеличился на два размера и роскошные серые брюки «бананы», купленные перед самым призывом, теперь на меня не налезут.
Как говорит старшина Высовень, хорошего человека должно быть много!..
(«Сто дней до приказа»)…………………..
31 мая 1985 года тот же фрагмент вышел в «Московском комсомольце», то есть в столичной печати. И снова цензура не возражала. Получалось, что целиком повесть к печати запрещена, но по частям — пожалуйста.
Весной 1987-го Юрий был избран делегатом XX съезда ВЛКСМ. Взыскуя справедливости, он воспользовался высокой трибуной, чтобы обратить внимание общества на проблему неуставных отношений в армии и заодно напомнить о судьбе запрещенных военной цензурой «Ста дней…». Но не только об этом говорил он в своем выступлении:
«Я представляю на съезде творческую молодежь — самый престарелый отряд комсомола. Здесь уже говорилось, что среди членов Союза писателей фактически нет людей комсомольского возраста (то есть до 28 лет. — О. Я.). А ведь десять лет назад, когда вышло постановление ЦК партии о работе с творческой молодежью, писатели комсомольского возраста были.
Из истории советской литературы мы знаем, что когда-то существовали комсомольские писатели. Они пользовались такой популярностью среди молодежи, что в сравнении с ними меркнет тотальная слава наших эстрадных звезд. А сегодня есть у нас писатели — властители комсомольских дум? К сожалению, нет. Сегодня мы сначала радостно рапортуем о том, что только в столице за год выходит более ста первых книг молодых и немолодых авторов, а потом яростно боремся с серостью в литературе, причем все показывают пальцем друг на друга.
…Сегодня мы с горечью говорим о двойной морали, распространившейся среди молодежи. А не поискать ли нам ее истоки также и в той двойной реальности, которую преподносило да и преподносит нам искусство? Приведу пример. Призвался юноша в армию и сразу же столкнулся с так называемыми неуставными отношениями, отвратительным явлением «дедовщины», разъедающим изнутри солдатские коллективы. Но вот тот же юноша открыл книгу об армии и погрузился в некий прилизанный мир, не имеющий ничего общего с подлинной армейской жизнью. «Если в книге описана наша армия, то где тогда, простите, нахожусь я?» — недоумевает воин. И делает вывод: если писателю, вооруженному методом социалистического реализма, можно видеть одно, а писать другое, то уж мне, грешному, думать одно, а говорить другое — и подавно.
Я уверен, самой пронзительной страницей нашей литературы ближайшего десятилетия будет афганская тема, тема высокая и трагическая. И может быть, автор, еще недавно выполнявший интернациональный долг, уже пишет кровью сердца правдивую, непростую книгу. Но я не пожелаю ей той судьбы, которая выпала на долю моей повести «Сто дней до приказа», направленной против «дедовщины». Шесть лет хождения по мукам согласования! И только недавно, наконец, повесть обрела союзника в лице ГлавПУРа…»
Отметим, с каким знанием законов советской системы оратор балансировал на грани дозволенного, сумев объявить союзником противника публикации повести — Главное политическое управление Советской армии. Не помогло: после перерыва на трибуну вышел Герой Советского Союза «афганец» Игорь Чмуров и обвинил Полякова в клевете на армию. Говорят, этот абзац ему поспешно вписал в текст выступления куратор-политработник. Зал аплодировал стоя.
«Я сначала демонстративно сидел, — с досадой вспоминал о своем минутном малодушии Поляков, — но, поймав укоризненный взгляд руководителя нашей московской делегации Вячеслава Копьева, тоже встал и, чуть не плача, начал аплодировать человеку, обвинившему меня во лжи. А ведь на дворе был не 37-й, а 87-й — и никто за отказ аплодировать вместе с залом меня бы не расстрелял…»
Если бы съезд проходил в июне, критику Полякова, возможно, встретили бы с пониманием. Но это было за месяц до приземления у стен Кремля спортивного самолета, незаконно проникшего на территорию СССР, так что не стоит удивляться тому, что выступление Полякова вызвало гневную отповедь военных. Впрочем, несмотря на неприятный эпизод, автора «ЧП районного масштаба» избрали на съезде кандидатом в члены ЦК ВЛКСМ — по тем временам это был солидный социальный статус.
Летом и осенью 1987-го отрывки из «Ста дней…» были опубликованы в «МК» и «Книжном обозрении», а в ноябрьском номере «Юности», через семь лет после написания, повесть наконец вышла целиком. Военная цензура была уже не в чести, и Андрей Дементьев, даже не известив об этом всесильную прежде инстанцию, наконец поставил повесть в номер. Дело было в том, что в мае в сердце Москвы приземлился самолет «Сессна», который пилотировал восемнадцатилетний спортсмен-любитель из Западной Германии Матиас Руст. Как потом выяснилось, летевший на низкой высоте легкий самолет постоянно вели подразделения ПВО, над ним пролетали наши истребители, но советские летчики не получили команды на уничтожение (сказался скандал со сбитым недавно южнокорейским лайнером). «Сессна» благополучно села на Большом Москворецком мосту и, сбрасывая скорость, докатилась до собора Василия Блаженного, после чего незваный гость вылез из самолета и был арестован.
Советским гражданам эту историю представили как непростительный просчет командования Военно-воздушных сил страны и провал системы ПВО. Горбачев тут же сместил министра обороны Сергея Леонидовича Соколова и командовавшего ПВО дважды Героя Советского Союза, одного из лучших советских асов в годы войны Александра Ивановича Колдунова. Оба военачальника были политическими противниками Горбачева, они справедливо усматривали в его «мирных инициативах» угрозу безопасности страны, и генеральный быстро с ними расправился. Высказывалось даже мнение, что Горбачев якобы сам спланировал этот позорный для армии инцидент, чтобы воспользоваться поводом для существенного сокращения и подрыва авторитета советских вооруженных сил. Вот что писал американский специалист по национальной безопасности Уильям Одом: «После полета Руста в Советской армии были проведены радикальные изменения, сопоставимые с чисткой вооруженных сил, организованной Сталиным в 1937 году».
В народе Красную площадь на какое-то время стали именовать «Шереметьево-3». Остряки утверждали, что у фонтана напротив Большого театра выставлен пост милиции — на случай, если всплывет американская подводная лодка.
Но военным было не до шуток.
Почва для шквала критики была подготовлена. На фоне антиармейской пропаганды повесть «Сто дней до приказа» прозвучала сдержанно, без перехлестов, а потому особенно сильно задела за живое. Про дедовщину в армии знали практически все: и те, кто в ней служил, и те, кто провожал туда своих мальчишек. Мало того, в конце 1980-х дедовщина процветала уже в особо уродливой форме, с выраженным этническим компонентом. Сильные и крепкие ребята из Средней Азии или с Кавказа сбивались в стаи и умело издевались над малахольными маменькиными сынками со Среднерусской возвышенности, тем более что те плохо ладили между собой и друг за друга не вступались. Их стайный инстинкт остался в далеких 1960-х, во временах подворотен с гитарой и портвейна «три семерки». Комсомол уже не сплачивал молодежь и не помогал ей находить общий язык с окружающими, а воспитательная работа в армии не могла быть на высоте в эпоху, когда само государство утратило собственные опоры, и его шатало как пьяное.
«…Я надолго стал врагом армии номер один, — вспоминает Поляков. — До сих пор многие офицеры, заслышав мое имя, начинают играть желваками, хотя потом, выпив и разговорившись, обязательно сообщают, что все мной описанное еще цветочки, а мне следует знать и про ягодки, которые полными горстями они трескали в своей командирской жизни…
Был даже такой забавный случай. Газета «Мир новостей» проводила какое-то мероприятие, и я оказался рядом с маршалом Д. Язовым, бывшим министром обороны. Мы разговорились о фронтовой поэзии, и он очень порадовался, что есть, оказывается, еще в молодом поколении люди, разделяющие его любовь к ней. Мы наперебой читали друг другу наизусть — Майорова, Гудзенко, Луконина… Потом он подозвал кого-то из газетчиков, видимо, желая уточнить мое имя, но, услышав, что это «тот самый Поляков», помертвел лицом и больше со мной не разговаривал… Не важно, что к тому времени «Сто дней…» уже вошли в школьную программу. Рана осталась. И я его понимаю. Говорящих правду не любят. Лгущих презирают. Выбор невелик… Драма в том, что наша писательская честность была востребована ходом истории не для созидания, а для разрушения — армии в том числе. Почему? И могло ли быть иначе? Не знаю… Увы, снежная лавина иной раз сходит из-за неосторожно громкого слова альпиниста. Но от этого она не перестает быть природным катаклизмом, в сущности от человека не зависящим. И последняя деталь. Где-то году в девяностом мне позвонил председатель Комитета по делам армии тогдашнего Верховного Совета СССР и сказал, что есть мнение назначить меня главным редактором газеты «Красная звезда». Я воспринял сказанное как остроумный розыгрыш. Оказалось, со мной не шутили.
— Это же генеральская должность, а я всего-навсего рядовой запаса… — пытался отшутиться я.
— Это не важно. О звании не беспокойтесь. Вы нам нужны, чтобы разогнать этих ретроградов. Мы знаем, как вы относитесь к армии…
— Откуда?
— Читали ваши «Сто дней…».
Мне стало не по себе. Наступала эпоха либерального необольшевизма».
Известный писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев в большой статье «О наболевшем» отметил общественную значимость повести и ее несомненные литературные достоинства: легкость чтения, живой современный язык, выписанные характеры. «И писал он эту вещь почти без всякой надежды на публикацию. Давайте признаем это немаловажным качеством для писателя, к тому же молодого!» — заметил Кондратьев.
Высоко оценил художественные достоинства повести и критик Павел Ульяшов: «…Четко обозначив проблему, автор сумел все действие повести «вместить» в двое суток, показав при этом при помощи ретроспекций и ассоциаций весь цикл армейской службы. Таков изобразительный итог повествования. Повествования, где ответы на поставленные вопросы не вычисляются, как то часто бывает, волюнтаристическими построениями автора, а как бы постигаются самими героями…»
Полякова, конечно, хвалили далеко не все. В военных изданиях выходили подборки читательских откликов тенденциозного содержания, и, конечно, по всей стране прокатилась волна встреч с читателями и бурных обсуждений. Автора буквально разрывали на части.
Теперь в Советском Союзе читали, обсуждали, откликались в прессе, рецензировали и инсценировали-экранизировали уже три повести Полякова. Можно лишь поражаться тому, как близко к сердцу приняли люди проблемы, о которых поведал молодой автор, как охотно они признали эти проблемы своими, желая разобраться, что с этим делать и можно ли что-то изменить. Вряд ли в русской литературе второй половины XX века наблюдался хоть один подобный случай, когда целых три произведения молодого писателя одновременно читала и обсуждала вся страна.
А сколько было театральных постановок! Правда, не все они в конце концов состоялись. Для Ленинградского академического театра им. А. С. Пушкина, знаменитой Александринки, Поляков подготовил пять вариантов инсценировки своего «ЧП…». Но в итоге спектакль, поставленный ученицей художественного руководителя театра Игоря Горбачева, был снят после прогона, несмотря на расклеенные по городу афиши. Согласно официальной версии, постановка не удалась. Однако ходили слухи, что режиссеру в Смольном (то есть в обкоме) сказали: «Хватит нам одного «ЧП…», на «Ленфильме». В самом деле, Снежкин как раз снимал там свой фильм, самую успешную и художественно убедительную экранизацию первых повестей Полякова, заслуживающую отдельного разговора.
Но прежде хочется сказать о том, почему автора трех хоть и критических, но вполне лояльных советской власти повестей прозвали «колебателем основ». Так же как и чуть более поздний «Апофегей», это были повести, написанные в духе критического реализма, который, согласно марксистской литературной теории, обусловливает социальной средой обстоятельства жизни человека и его психологии. Сам писатель, рассказывая историю их создания, признавал, что тогда его вело не возмущенное гражданское чувство, ведь ножницы между декларируемым идеалом и реальной жизнью были для всех привычны, но писательский азарт, вера во всесилие слова. По молодости ему хотелось, назвав вещи своими именами, ликвидировать эти ножницы. Конечно, как всякий писатель, осмысливая явление, Поляков несколько сгущал краски, типизировал, иронизировал, что особенно раздражало противников его творчества среди высокого начальства. Но делал он это отнюдь не с сокрушительными целями. Он искал новый язык и новый стиль, которые позволяли решать художественные задачи, отвечавшие веяниям времени. Он высвобождал в себе творческую энергию, которая позднее сподвигнет его на создание все более ярких и неожиданных вещей — и она электрическим током пробегала по строчкам, искря юмором и заряжая читателей желанием непременно что-то исправить в окружающей действительности. Недаром они так горячо встретили публикацию повестей и часами были готовы обсуждать прочитанное.
Спустя десятилетия Поляков пришел к выводу, что своим творчеством выражал чаяния той части общества, которая готова была реформировать систему, опираясь на ее достоинства и постепенно избавляясь от недостатков. Но эта сила осталась невостребованной, проиграла, а победили те, кто первейшей задачей считал именно разрушение. Потому-то диссидентствующие коллеги недолюбливали «колебателя основ», чувствуя в нем чужака, несмотря на то что в те годы Поляков относился к советской действительности с гипертрофированной критичностью. Отчасти это было связано со свойствами характера, но в большей степени — со средой, в которой он вращался. В литературных студиях и институте принято было либо отзываться о советской власти негативно, либо рассказывать о ней анекдоты: такая позиция была характерна для интеллигенции.
Кстати, западные издатели, охотно переводившие любое литературное инакомыслие из СССР, первые повести Полякова проигнорировали: слишком советские по духу. А в ГДР в 1986 году центральное молодежное издательство рассыпало уже набранную повесть «ЧП районного масштаба»: слишком остро для функционеров Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). Самыми отважными в соцлагере оказались болгары: в 1990-м перевели две повести — о комсомоле и о школе.
Между тем в СССР заметная часть литераторов доходила в критике всего советского до ненависти и полного неприятия. Правда, это не мешало им публиковать вполне советские по духу произведения и делать карьеру в аппарате Союза писателей, а то и по партийной линии. Нет ничего удивительного в том, что первые повести Полякова оказались востребованы властью: резкая критика, но не ради модернизации страны, а ради смены поколения управленцев была уже модным трендом. Никто не собирался бороться с дедовщиной в армии, никто не собирался очищать партийные ряды от партократов. Напротив, вперед тогда пробились те, кто в борьбе за власть проявлял и беспринципность, и жестокость.
Неудивительно и то, что почти сразу после публикации встал вопрос об экранизации «ЧП…». Права на повесть тут же купила «Сценарная студия» — созданная при Госкино хозрасчетная организация, искавшая и доводившая до ума сценарии, которые она потом с прибылью продавала киностудиям страны, явно не поспевавшим за стремительно менявшейся литературной ситуацией. Желавших снять картину было несколько, но худсовет «Ленфильма», купивший сценарий, остановился на Сергее Снежкине, который ни дня не был в комсомоле, на первом курсе ВГИКа женился на мексиканке (вызов по тем временам!) и буквально с младых ногтей причислял себя к идейным антисоветчикам. Сценарий, написанный Поляковым совместно с Петром Корякиным по заказу «Студии», отражал всю амбивалентность повести, и режиссера, человека максималистских взглядов, это не удовлетворило. Если в повести основная тема — проблема морального выбора героя, его внутренний конфликт с самим собой, то в фильме Снежкина коллизия решена иначе: это история законченного карьериста, увиденная глазами неравнодушного художника.
Как известно, язык литературы напрямую на киноязык не переводится, хотя положительный опыт в советском кино имелся: вспомним хотя бы «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Хождение по мукам» Григория Рошаля или киноэпопею Сергея Бондарчука «Война и мир», которая буквально цитирует роман Льва Толстого.
Переделывая литературный сценарий в режиссерский (такова была принятая технология), Снежкин ссылался как раз на то, что у кино свои законы и свой язык, который намного грубее литературного, а потому для него больше подходит «черно-белый» формат. Снежкин расчеловечил Шумилина, сняв фильм, на идейно-художественном уровне подтверждавший его личное убеждение, что советская власть не имеет права на существование. Поляков показывал в повести, что за дебошем в райкоме стоит драма старшеклассника, которого оскорбили в лучших чувствах, походя, по формальному признаку не приняв в комсомол, куда он вместе со всеми стремился. Даже в описываемые времена для многих молодых людей вступление в ВЛКСМ оставалось важным жизненным событием, да и мало кто был готов становиться изгоем среди одноклассников. Было и практическое объяснение столь массовому вступлению в комсомол: для подачи заявления во многие вузы страны от абитуриентов требовалась комсомольская характеристика, а в ограниченный контингент, воюющий в Афганистане, не брали добровольцев без рекомендации комсомольской организации. Понадобилось немало усилий, в том числе и «ЧП районного масштаба» (прежде всего в театральной и киношной версиях), чтобы десятилетиями нажитый авторитет комсомола поколебать.
Но режиссера Снежкина волновало совсем другое. У него Шумилин спьяну останавливается у портретов членов политбюро, которые имелись тогда во всех городских районах, и, глядя на лики небожителей, представляет себе еще один портрет: видит себя, с благородными сединами и Звездой Героя Соцтруда. «Ждите!» — говорит он, подмигивая портретам. Последняя сцена фильма еще более символична: похищенное знамя (которое в повести проходит как одна из многих художественных деталей) найдено, и Шумилин несет его ночью по безлюдному Ленинграду. «Искать знамя, когда потерян смысл жизни!» — восхищались рецензенты, усмотрев в этом главную идею фильма…
Когда Поляков увидел, что получается у Снежкина, он попытался возражать, но ему ответили: вы не понимаете законов киноискусства. Фильм «ЧП…» (с дебютантом Игорем Бочкиным в главной роли) — это памфлет, изобличающий чудовищную систему и людей-монстров, которые ее представляют. Герой фильма — конченый мерзавец и карьерист, легко переступающий через судьбы людей, в том числе близких. Это наглядно показано в эротических сценах, с женой в спальне и любовницей на кухне, вызвавших особый интерес у неизбалованного эротикой советского зрителя. Таким мог стать герой Полякова годы спустя. Мог, но не обязательно бы стал! Ведь автор завершает повесть за мгновение до рокового шага героя, и у читателя остается надежда, что Шумилин не расплатится за свою карьеру судьбой мальчишки.
Тогда, в 1988-м, фильм был воспринят на ура. Правда, как уже сказано, вначале на широкий экран его не пустили и пару месяцев устраивали закрытые просмотры, ну а потом настало время длинных очередей в кинотеатры.
«Мы ездили в Астрахань и в течение недели ежедневно, семь сеансов подряд, собирали полный зал огромного кинотеатра. Люди смотрели фильм, стоя в проходах, а потом обсуждали. Зрители выходили из зала, одни — со слезами на глазах, другие — со словами: «Расстреливать их надо!» — вспоминает Поляков. — Этот страстный, сделанный на нерве фильм имел феноменальный успех. Думаю, когда-нибудь его будут изучать как иллюстрацию к тому странному состоянию умов, которое в конечном счете привело к крушению великой страны под названием Советский Союз. Но именно поэтому его постсоветская судьба незавидна. В отличие от «Маленькой Веры» его редко показывают по телевидению. Увы, искусство, рожденное в озлоблении политической борьбы, как правило, недолговечно. Если это, конечно, не «Броненосец «Потемкин». Впрочем, и в этом шедевре мне не хватает гуманитарного пространства…»
Поскольку фильм назывался так же, как и книга, многие решили, что он воистину передает мысли автора повести, и среди ответственных комсомольских и партийных работников у Полякова появились скрытые и явные недоброжелатели, если не сказать враги. И в будущем, в различных, порой весьма странных обстоятельствах, ему не раз приходилось с этими людьми встречаться. Даже став миллионерами, они не забыли Полякову своей искренней комсомольской обиды. Один владелец роскошной виллы на Лазурном Берегу упрекал писателя, что тот без всякой симпатии описал в «ЧП…» заворготделом Чеснокова. «А ведь заворги — это мозг райкома! Я знаю, я сам был заворгом!» — восклицал владелец заводов, газет, пароходов. Вот ведь удивительно: все осталось в прошлом, и комсомол, и даже страна, а обида осталась…»
В 1988-м на Киевской киностудии им. А. Довженко режиссером Андреем Бенкендорфом был снят фильм «Работа над ошибками». На главную роль режиссер пригласил дебютанта Евгения Князева, ныне народного артиста России. В целом фильм передает настроение повести, но и он далек от оригинала. К тому же герой получился у режиссера и актера вялым и неубедительным, аморфным; он ни разу в фильме не ведет урок в прямом смысле этого слова: не говорит о своем предмете — русской литературе, а потому совершенно непонятно, как ему удается держать внимание класса и быть интересным для своих учеников. По всем этим причинам, а также из-за отсутствия снежкинской страстной идейности «Работа над ошибками» не стала событием, хотя и прошла по экранам страны. По-настоящему раскрыл потенциал «Работы над ошибками» театральный режиссер Станислав Митин. Он поставил в Ленинградском ТЮЗе спектакль, имевший большой резонанс у молодежи, которая после каждого представления бурно обсуждала увиденное.
С фильмом «Сто дней до приказа» получилось еще хуже. Его ставили на Киностудии им. М. Горького, куда отдал свой сценарий Поляков. В то время там подвизался «молодой гений» Хусейн Эркенов. Он вызвался снимать картину, мотивируя свое желание тем, что у него в мирное время погиб на срочной службе родственник. Сам Эркенов никогда не служил, зато точно знал, как разоблачить армейские порядки. Когда Полякову показали черновой монтаж, он был ошеломлен: то, что он увидел, никакого отношения к его повести не имело. Совпадали лишь название фильма, фамилии героев и место действия — современная армия. «Постановщики часто отходят от первоисточника, но Эркенов совершенно потерял из виду повесть, — рассказывает Поляков. — Например, робкая симпатия героя, рядового Купряшина к библиотекарше Елене, несчастной в браке со старшим лейтенантом Уваровым, в фильме трансформировалась в долгое плавание в бассейне и крупные планы гениталий радикально обнаженной Елены Кондулайнен, ставшей после этого признанной секс-бомбой советского и постсоветского кино».
Непонятные символы и болезненные аллюзии ему категорически не понравились, и он без обиняков сообщил об этом руководству киностудии. Директором был тогда Александр Рыбин, в прошлом оператор, а главным редактором — коллега-писатель Владимир Портнов, по совместительству еще и секретарь парткома. Поляков заявил руководству, что он против того, чтобы фильм вышел на экраны, поскольку отснятый материал никакого отношения к повести не имеет. В постсоветские времена автору надо долго судиться, доказывая, что его замысел подвергся намеренному искажению. В советские достаточно было написать заявление, и, если художественный совет находил претензии автора справедливыми, картину клали на полку, а то и просто смывали: серебро, необходимое для производства пленки, было в дефиците. Так, сверхтребовательный к себе и другим Владимир Богомолов отправил на полку сериал, снятый по его замечательному роману «Момент истины» на Рижской киностудии. Да, некоторые фильмы не выпускались в прокат из-за обнаруженной бдительным начальством антисоветчины, но таких было мало, в основном на полку попадали ленты, наглядно свидетельствовавшие о режиссерской неудаче.
Это был скандал. Поляков, уже известный человек, кандидат в члены ЦК ВЛКСМ, секретарь Союза писателей, собирался писать заявление с требованием «закрыть фильм», а между тем студия израсходовала немалые деньги. Даже перерасходовала, ибо «молодой гений» фонтанировал идеями. К тому же Поляков изначально предлагал другого режиссера, но студия настояла на своем кандидате, убеждая автора, что Эркенов — будущий гений вроде Пазолини или Антониони и писатель сам будет потом гордиться, что в фильмографии титана нового отечественного кинематографа будет значиться экранизация его ранней повести. Рыбин и Портнов принялись убеждать автора отказаться от его намерения, но тот стоял на своем: если молодой режиссер хочет самоутверждаться и самовыражаться, почему он это делает за счет писателя и его широко известной повести? Пускай снимает кино по собственному оригинальному сценарию. Ответ на риторический вопрос был очевиден: по заявке никому не известного режиссера ни позиции в тематическом плане киностудии, ни денег никто бы не выделил. Наконец Портнов отозвал разгоряченного автора в сторонку: «Юра, если ты это сделаешь, меня просто снимут с работы. А у меня большая семья!» Это был убийственный аргумент для человека, которому не так давно, после ссоры с главным редактором «Смены» Альбертом Лихановым, самому пришлось уйти в никуда — «на вольные хлеба». И Поляков пожалел собрата по перу.
…Через несколько лет, когда «Сто дней до приказа» показывали в уже объединенной Германии, после демонстрации фильма кто-то спросил членов съемочной группы: «Мы правильно поняли, это ведь фильм о гомосексуализме в Советской армии?» И Поляков снова пожалел — уже о том, что заявление тогда так и не написал…
* * *
В марте 1988-го газета «Советская Россия», придерживавшаяся умеренно-консервативных позиций, опубликовала письмо преподавателя Ленинградского технологического института Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами!», вызвавшее очередную бурю эмоций. Андреева осуждала появившиеся в прессе материалы, огульно критиковавшие социализм; вступилась она и за сталинскую эпоху. В письме говорилось: «Вместе со всеми советскими людьми я разделяю гнев и негодование по поводу массовых репрессий, имевших место в 30—40-х годах по вине тогдашнего партийно-государственного руководства. Но здравый смысл решительно протестует против одноцветной окраски противоречивых событий, начавшей ныне преобладать в некоторых органах печати».
Автор письма выступила с критикой и либералов, которых обвинила в западничестве и космополитизме, и сторонников «крестьянского социализма», очевидно, имея в виду славянофилов советского извода. В качестве заголовка Андреева использовала переиначенную цитату из речи Горбачева на одном из пленумов ЦК: «Принципами, товарищи, мы не должны поступаться ни под какими предлогами». Ныне эта фраза в его устах кажется чистым недоразумением.
К весне 1988-го в политбюро сложились две группировки: радикальных реформаторов во главе с Яковлевым и сторонников постепенных перемен, которых возглавлял Лигачев, и обе они, борясь друг с другом, поддерживали Горбачева, точнее, апеллировали к нему. Позиции реформаторов были сильнее. Попытка идейного контрнаступления консерваторов закончилась неудачей: Яковлев анонимно опубликовал в «Правде» разгромный ответ Андреевой и ее единомышленникам, обвинив их в ретроградстве и сталинизме, и Горбачев решительно его поддержал. Кстати, когда сегодня перечитываешь оба документа, поражаешься, насколько точна, логична и дальновидна была Нина Андреева, если отбросить, конечно, неизбежную по тем временам перестроечную риторику, и насколько лукав, сумбурен и демагогичен был ответ «архитектора» перестройки.
…………………..
Скорятин снова посмотрел в зал, увидел несколько нетерпеливо поднятых рук и кивнул немолодой женщине с больными глазами.
— А как вы относитесь к статье Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами» в «Советской России»? — спросила она. — Вы с ней согласны?
— Нет, не согласен. Это платформа антиперестроечных сил. Кому-то очень хочется назад, в тоталитарное стойло.
— Но ведь про Сталина же она правильно пишет… — пророкотал, борясь с одышкой, Федор Тимофеевич и звякнул наградами.
— И что же она пишет? — Гена придал лицу такое же выражение, с каким Исидор выслушивал Галантера, заведовавшего юмористической полосой «Мымры».
— Что даже Черчилль признал: Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой.
— Лучше бы он оставил в живых пятьдесят миллионов, замученных в ГУЛАГе!
— Геннадий Павлович, а вам что-нибудь в нашем прошлом нравится? — не удержался Колобков.
— Да, храмы, которых так много в вашем замечательном городе.
— Лучше бы магазинов побольше! — тоскливо крикнул кто-то.
— Ну что такое говорят? То баня, то магазины…
— А вот Нина Андреева пишет… — К трибуне подбежал мужичок и развернул вырезку, истершуюся на сгибах: «Наверное, не одной мне бросилось в глаза, что призывы партийных руководителей повернуть внимание «разоблачителей» еще и к фактам реальных достижений на разных этапах социалистического строительства словно бы по команде вызывают новые и новые вспышки «разоблачений». Заметное явление на этой, увы, неплодоносящей ниве — пьесы М. Шатрова. В день открытия XXVI съезда…»
Зал снова завелся.
— Надоели вы со своей Ниной Андреевой. Вчерашний день. Про будущее скажите!
— Нет, сначала надо сломать прошлое…
— Будущее совсем не обязательно строить на обломках прошлого…
— Ну, хватит, хватит! — Директриса махнула рукой. — Видите, Геннадий Павлович, сколько у людей вопросов, и решать их нужно постепенно…
— Пропасть, Елизавета Михайловна, преодолевают в один прыжок, в два не получится… — отчетливо произнес Скорятин[7].
Зал зааплодировал.
— Вообще-то через пропасть не прыгают, а строят мост, — переждав хлопки, грустно заметила Болотина. — Ну, не будем больше мучить гостя…
(«Любовь в эпоху перемен»)…………………..
«В конце 1989-го стало понятно, к чему все идет, — вспоминает Поляков. — Я отреагировал на это чисто художнически: резко отрицательно изобразил в своей новой повести Ельцина, который был тогда надеждой всех наших либеральных деятелей».
Кто-то из исследователей его творчества подметил, что главное значение в книгах Полякова имеет не основной сюжет и даже не его ответвления, а некий общий фон, который у автора всегда неслучаен и часто провидчески точен. В повести, план которой созревал в его голове и которая, конечно, будет о любви, одним из персонажей этого общего фона был Ельцин, набиравший тогда политический вес. У автора, в отличие от страны, не было иллюзий в отношении этого человека. Так же как в отношении конфликта Ельцин — Горбачев. Позднее Поляков так объяснял, откуда знал уже тогда, что представляет собой Ельцин: «Как редактор «Московского литератора» я был хорошо знаком с сотрудниками отдела пропаганды горкома партии и знал от них, что вытворял Ельцин в горкоме, как не задумываясь ломал людям судьбы; мне рассказывали о нелепых решениях, которые он принимал спьяну. Уже тогда были очевидны его патологическая властность, мстительность, монархические замашки». Правда, когда в конце 1987-го Ельцина убрали из Московского горкома, все, и Поляков тоже, насторожились: каким бы грубым он ни был, этот человек говорил партийной верхушке правду, не пытаясь понравиться. Но очень скоро остатки иллюзий в отношении Ельцина развеялись, а в новой повести от них не осталось и следа. Сатирически изобразив в повести Ельцина и дав своему персонажу прозвище БМП, Поляков проявил уникальный дар предвидения, и то, что первый президент России в августе 1991-го провозгласил победу демократии с танка, а не с бронемашины пехоты, сути не меняет.
Ниже приведены несколько небольших фрагментов, дающих исчерпывающее представление о выведенном в повести персонаже:
…………………..
— Я очищу район от всей коррумпированной дряни! — Эти слова БМП произнес сразу после своего прихода, на первом же бюро райкома партии. — Кто не хочет работать по-новому, пусть уходит сам. Сам! Когда за дело возьмусь я, будет поздно…
Чистякова коробила даже не показательная жестокость нового шефа, странная для нынешнего поколения аппаратчиков, а святая уверенность Бусыгина в своем праве определять тех, кто нужен, и карать тех, кто не нужен. Словно прибыл БМП не из подмосковного городишка, где, извините, та же Советская власть со всеми ее достопримечательностями, а из некоего образцового царства-государства, эдакого Беловодья, которое сам создал и которое дает ему право учить прогнивших столичных функционеров уму-разуму…
«А может быть, — размышлял Валерий Павлович, — нас просто всех порешили убрать, вроде того как меняют поколения компьютеров или телевизоров? Такое уже было… А для удобства прислали эту, как точно выразился дядя Мушковец, машину для отрывания голов. Но почему же тогда просачиваются слухи, будто у БМП напряглись отношения с благодетелем и однокашником, посадившим его в райком? Что это? Надерзил по врожденной хамовитости или приобрел слишком большую популярность? Народу ведь нравится, когда летят головы, люди и бокс-то любят за то, что на ринге кого-то лупят по морде, кого-то, а не тебя… Или совсем другое: Бусыгин сам запускает дезу, чтобы расшевелить и выявить прикинувшихся друзьями ворогов?.. Впрочем, нет, для него это слишком тонко…»
Наконец объявили перерыв, и участники конференции метнулись к буфетным стойкам и лоткам книготорга, а президиум проследовал в комнату за сценой. Там, в отличие от недавних времен, не было севрюжно-икорного разврата, но имелись бутерброды с югославской ветчиной и крепкий чай. Бусыгин нехорошо обвел взглядом стены, обшитые темным деревом, мягкую финскую мебель, задержался на авторской копии известной картины «Караул устал», усмехнулся и бросил:
— Прямо-таки апартаменты…
— Стараемся, Михаил Петрович, — по-китайски закивал головой директор ДК.
— Оно и видно, — не по-доброму согласился БМП, надломив правую бровь. — Умеет столица жировать! Всю страну прожрет и не заметит…
Сказав это, Бусыгин подошел к столу, положил в чай один-единственный кусочек сахара и стал прихлебывать, не притронувшись к бутербродам. Остальные последовали его примеру.
Бусыгин обрушился на Краснопролетарский райком, как ураган «Джоанн» на курорты атлантического побережья. Знакомясь с аппаратом, он сразу заявил: «Кто не чувствует сил работать в новых условиях, пусть поднимет руку!» Никто, разумеется, не поднял, ибо последним человеком, осознавшим, что не может работать в новых условиях, был отрекшийся от престола государь император Николай Александрович.
Из райкома стали исчезать люди. Заведующий промышленным отделом, три года назад перетянутый Ковалевским из парткома производственного объединения, а ранее бывший начальником лучшего цеха, проговорив с Бусыгиным пять минут, вышел из кабинета со слезами на глазах и тут же написал заявление… А БМП, как Гарун аль-Рашид, благо в лицо его покамест не знали, ходил по магазинам района и невинно интересовался у продавцов, куда девались мясо и колбаса, точно и в самом деле не знал, куда они подевались! Продавцы отвечали дежурным хамством, тогда Бусыгин скромно стучался в кабинет директора магазина, снова выслушивал торгашеское хамство, но уже на руководящем уровне, а в тот самый момент, когда, призвав на подмогу дюжего продавца мясного отдела, его начинали вытряхивать из кабинета, доставал свое новенькое удостоверение — и владыка жизни, директор продмага, распадался на аминокислоты.
Бусыгин на встрече с избирателями пообещал закрыть в райкоме спецбуфет и закрыл. Пообещал провести праздник района и провел — с тройками, скоморохами, лоточниками, сбитенщиками. <…> Было у БМП еще два пунктика: тиры, чтобы пацаны не шастали в подворотнях, а готовились к службе в армии, и бани-сауны, чтобы рабочий человек после трудового дня мог передохнуть и попариться… И если какой-нибудь директор завода, не выполнявшего план, закладывал у себя на территории тир и баню, то сразу же попадал в число любимцев нового районного вождя…
(«Апофегей»)…………………..
Юрий Поляков профессионально знал современную литературу и прекрасно в ней ориентировался, стараясь не повторять неудач коллег по перу. Ему не хотелось обращаться к туманному, амбивалентному иносказанию, как это сделал Маканин в повести «Человек свиты». О загадке человека власти Поляков написал реалистически, обозначив, в каких условиях такие люди действуют. Схожие задачи ставили перед собой Георгий Марков в романе «Грядущему веку» и Александр Мишарин в пьесе «Равняется четырем Франциям», но оба явно имели в виду, что книгу будет читать, а пьесу — смотреть высшее партийное начальство, и потому постарались его не обижать. У Полякова такой оглядки не было, он всегда был внутренне свободен и писал, как считал нужным, и про личную жизнь, и про аппаратную борьбу. «Когда я берусь за перо, то сразу забываю, что у меня есть жена и партбилет!» — иронизировал он.
«Апофегей» вышел в журнале «Юность» весной 1989-го «и сразу вызвал шквал негодования в либеральном стане, где я навсегда стал персоной нон грата. Дошло до того, что Ельцин на митингах вынужден был объяснять, мол, клеветническая повестушка Полякова написана по гнусному заказу партократов на радость агрессивно-послушному большинству. Так витиевато в ту пору либералы называли основную часть народа, не желавшего развала страны и безоглядного прыжка в рынок.
Нет, я не страдаю манией величия и понимаю: моя сатира на будущего «царя Бориса» была крошечной частицей неудавшегося сопротивления силам распада. Но все-таки, черт возьми, и я повитал в сферах геополитики…» — так рассказывает Поляков о своей во многих смыслах поворотной повести.
«Его первая по-настоящему гротесковая, имевшая феноменальный успех повесть «Апофегей»… оказалась единственным достоверным литературным свидетельством жизни партаппарата эпохи застоя. Никто более не удосужился проникнуть в жизнь этого организма, сыгравшего не последнюю роль в новейшей судьбе нашего Отечества», — писал о повести Владимир Бондаренко. Не вполне согласимся с критиком: на наш взгляд, повесть еще не была гротесковой, переход к гротескному реализму окончательно произошел только в следующей вещи, в «Парижской любви Кости Гуманкова». В «Апофегее» гротескным был лишь один образ. Но какой!
Если до этого Поляков критиковал советскую власть, и это всех устраивало, в том числе саму власть, то теперь он замахнулся на «святое» — вывел в окарикатуренном виде тех, кто призывал народ шагнуть от «совка» в светлое демократическое будущее, перемахнуть пропасть.
Человек, выведенный в «Апофегее» под именем Бусыгина Михаила Петровича, или БМП, лишь на словах был демократом, а на деле — деспотом и самодуром, «машиной для отрывания голов». А ведь на его прототипа, Ельцина, делали ставку либералы, обещая народу осчастливить его полным набором демократических свобод. Поляков зорко усмотрел в нем типические черты человека, азартно занятого аппаратной игрой и не особо задумывающегося о том, к чему его действия приведут. Писатель словно предчувствовал, что люди, для которых аппаратная игра стала смыслом жизни, зарвавшись, проиграют не только чьи-то карьеры и судьбы, но целую страну.
Поляков вспоминает:
«…Главный редактор «Юности» Андрей Дмитриевич Дементьев проявил твердость, ставя «Апофегей» в номер, ибо многие в редакции были уже заражены ельцинской бациллой и активно выступали против публикации. В первую очередь мой давний недоброжелатель Виктор Липатов, который по насмешке судьбы стал первым заместителем Дементьева и с вежливой непримиримостью при помощи многоходовых интриг начал выдавливать меня из журнала. Но я был членом редколлегии, и сделать это было не так-то просто. Кстати, после выхода журнала Ельцину, уже изгнанному из Политбюро, но набиравшему вес в борьбе с КПСС, на встречах часто задавали вопрос, как он относится к повести «Апофегей». Будущий гарант резко отвечал: «Это провокация и гнусные происки партократов». Насмехательство над первым российским президентом мне долго потом не могли простить, особенно либеральные критики и демократически нездоровые граждане. Да и не простили, по сути.
Повесть имела успех, была выпущена отдельной книгой гигантским даже по тем временам тиражом — полмиллиона экземпляров. Причем уже не государственным, а кооперативным издательством Литфонда РСФСР, который возглавлял тогда Валерий Долгов. С тех пор она переиздавалась (чтобы не соврать!) раз двадцать пять. Однако если кто-то полагает, будто успех пришел к ней из-за того, что автор без прикрас описал судьбу партаппаратчика да еще запустил сатирой в набиравшего власть народного любимца, он глубоко ошибается. На самом деле читательский восторг вызвала прежде всего смелая любовная линия, и я даже на некоторое время стал провозвестником возрождения эротики, бунинской традиции в отечественной словесности, умученной большевиками. Кто же знал, что вскоре в словесность ворвутся Виктор Ерофеев и Владимир Сорокин, для коих самая изысканная эротика — это непотребные надписи на стене сортира.
Успех повести был таков, что Студия детских и юношеских фильмов имени Горького решила экранизировать, а Академический театр имени Маяковского инсценировать «Апофегей». Соответственно, мной были написаны сценарий и пьеса. Сценарий начинался так: Надя Печерникова, уехавшая с мужем в Америку и вылечившая там сына, прилетела на побывку в Москву и вдруг, случайно попав на какой-то тщательно организованный стихийный митинг в поддержку свободы, с изумлением обнаружила на трибуне, среди борцов за демократию и своего бывшего возлюбленного Чистякова, и Убивца, и доцента Желябьева… Она стоит, слушает, удивляется и вспоминает все с самого начала».
Вот как оценивала повесть тогдашняя критика. Влиятельная в то время Т. Иванова писала в «Огоньке»: «Я слышала голоса и ее ярых сторонников, и ее не менее ярых противников… Гбда три да, пожалуй, два назад никто бы ее не опубликовал — крамола, посягательство на незыблемый авторитет партаппарата и вообще слишком много насмешек…» В газете «Советский патриот» в посвященной «Апофегею» большой статье Н. Романович утверждал: «История вознесения и ниспровержения Михаила Петровича Бусыгина, за неуклончивость прозванного БМП… еще вчера показавшаяся бы из ряда вон, сегодня воспринимается как нечто совершенно ординарное и даже типичное. И кто-то наверняка начнет искать аналогии с реально существующими персонажами. Но не стоит этого делать. Поляков не писал с натуры. Как истинный художник, он брал явление и исследовал его со свойственной ему прямотой и бескомпромиссностью. Те, кто помнит его «комсомольскую» повесть «ЧП районного масштаба», не могут не отметить, как вырос автор… Существенно углубилось его знание жизни, еще более окрепла гражданская позиция, утвердились ценностные приоритеты, что, естественно, приходит лишь с опытом — писательским и человеческим. А опыт этот давался Полякову с кровью: вряд ли кому из его коллег доставалось такое количество плевков, пинков и зуботычин…» Л. Симкин в «Молодом коммунисте» пытался составить по повести «портрет сорокалетних» — так называлась и его статья.
Совсем другую позицию заняли ведущие литературные издания. В статье «Динамика конъюнктуры» на страницах патриотического журнала «Кубань» Г. Соловьев писал: «На мой взгляд, художественная ценность этого опуса весьма скромная. Это «обличительная» трафаретка с этакой эротической приманкой, как и все творения Полякова, рожденные конъюнктурой, с заметным пристрастием к «жареному», обывательски сенсационному…» Рецензент либеральной «Невы» Е. Щеглова невысоко оценивала художественный уровень повести, правда, отмечала ее социальную остроту: «Ни любовь, ни естественная привязанность не могут поколебать устои, на которых взросли поколения партийной элиты. Поэтому кривизна сосуда, в котором их, наподобие китайских уродцев, выращивали, есть единственная ведомая им реальность. Пусть меняются лозунги, пусть чередуются руководители, пусть гремят революции…» Увидев достоинство повести лишь в ее жанровой новизне и выражая мнение, что искать художественные удачи в ней бессмысленно, А. Агеев писал в «Литературной газете»: «Апофегей» я с уважением отнес бы к прозе, которую можно назвать социографической, может быть, натуралистической…»
Е. Иваницкая в «Литературном обозрении» недоумевала: «…Фарсовый прием принес автору редкостную, удивительную удачу. Придуманное им слово «апофегей» (происходящее от сложения «апофеоза» и «апогея») пошло в речь и явно приживается… «Парламентским апофегеем» назвала трагифарсовую историю выборов Янаева в вице-президенты Людмила Сараскина и даже не заключила в кавычки язвительный неологизм…» Вот как она оценивала содержащуюся там политическую сатиру: «…в повести «Апофегей» остался абсолютно незамеченным и «невостребованным» тот пласт повествования, в котором автор предлагает свою версию (метонимически прикрепив ее к райкомовским реалиям) известных драматических событий, произошедших в партийных верхах в ноябре 1987 года. Герой считает (всем ходом действия автор поддерживает его точку зрения), что дело всего-то лишь вот в чем: у партийного новатора «напряглись отношения с благодетелем»… Что это? Надерзил по врожденной хамовитости или приобрел слишком большую популярность?» Следует заметить, что свой «литературоведческий анализ» Иваницкая провела в 1992-м, когда Ельцин был уже полновластным хозяином в Кремле, а о том, что ему многократно приходилось на встречах с общественностью давать повести оценку, было широко известно.
Определяя жанр повести, Владимир Куницын позднее писал: «…В «Апофегее» так сложно переплелись и драма, и элементы трагедии, и фарс, и сатира, и бурлеск, и бытовой реализм, и переплелись так органично и неразрывно, что кажется, будто автор создал свой новый жанр, в котором пока один и работает». Доказывая, что стилевая специфика ранних повестей Полякова отображает происходящие в обществе глубинные процессы, Алла Большакова замечает:
«Начнем с очевидного: первые повести Юрия Полякова «Сто дней до приказа» (1979–1980), «ЧП районного масштаба» (1981–1984), «Работа над ошибками» (1985–1986), «Апофегей» (1988–1989) усыпаны советизмами, идеологемами, свернутыми в аббревиатуры: ЦК ВЛКСМ, ЧП, КВН, РК, КПСС, ОБХСС, РУВД, БАМ, ЖЭК, ДЭЗ, КПП, — и даже выдуманными: типа СМТ (Союз музыки и танца), СМЖ (Союз матерей и жен), СОД (Союз одиноких девушек). На первый взгляд их функция ограничена номинативностью, простым называнием без какой-либо попытки придать обозначаемому эмоциональную окраску. Между тем эти аббревиатуры несут у Полякова дух недовоплощенного времени — двойственного, массово-безликого, героического, циничного, аскетичного и по-своему грандиозного и виртуального, как готические шпили сталинских высоток. <…> Языком аббревиатур передается и феноменальность идеологии (выносящей за скобки все «лишнее» — звуки, краски, чувства), и ее переход в стадию фразеологического развеществления, когда изъясняющиеся на идеологическом эсперанто люди перестают воспринимать живое слово. Оно для них подобно отторгаемым в какой-то иной мир «вульгарно-материальным» проблемам, поскольку обнажает уязвимость оторванных от земной почвы идеалов.
Впрочем, речевые знаки (а где знак — там и идеология) советской ментальности, скажем, в «Апофегее» — повести о (не)состыковке советского периода с горбачевской перестройкой — это не только «священные аббревиатуры», но и коды обманутого ожидания. В изображении встречи двух некогда пылко влюбленных на фоне партконференции, должной, по задумке БМП, «продемонстрировать небывалое единение краснопролетарского лидера с широкими народными массами», используемая автором аббревиатура ХПН, кажется, обещает хеппи-энд: и в отношениях бывших влюбленных, и в развитии другой «любовной» линии — «власть и народ». Увы, под странным буквенным сочетанием скрывается едва ли излечимая болезнь сына главных персонажей: хроническая почечная недостаточность. Процесс аббревиации, в частности, образования от ФИО партийного лидера Бусыгина Михаила Петровича, «просвещенным» словом заигрывающего с народом, аббревиатуры БМП — с полной перекодировкой семантического ядра («боевая машина пехоты») — раскрывается как нездоровая речевая мутация: признак затяжной болезни страны, сначала переименованной из Российской империи в СССР, а потом и вовсе в усеченное РФ, знаменующее упрощение, разуподобление, утрату национальной идентичности».
Заметим, что утраты национальной идентичности все-таки не было, но была затяжная болезнь, которая могла к ней привести, — со всеми вытекающими из этого последствиями.
В новой повести писатель, конечно, не мог ограничиться лишь такой специфической целью — разоблачением партаппаратчиков. Темы для своих книг Поляков брал прежде всего из себя: несколько раз примеривал образ жизни и мыслей аппаратчика, смотрел, что могло получиться, пойди он этим, карьерным путем. До «Апофегея» включительно его, человека целеустремленного и амбициозного, тема власти, партийной карьеры волновала по-настоящему. Однажды сделав выбор в пользу творчества и отказавшись от высокого поста в ЦК ВЛКСМ, он несколько раз возвращался к точке отсчета, пытаясь понять, куда бы завела его дорога, про которую на камне судьбы написано: «Направо пойдешь — станешь частью номенклатуры». И каждый раз приходил к выводу, что там его ждал тупик.
Но главная тема повести, конечно, — любовь, страстная, безоглядная, окрыляющая — и преданная. Как отмечала Алла Большакова, «в первой по-настоящему крупной повести Полякова «Апофегей» главный герой ради карьеры жертвует своей любовью: даже не жертвует ею, а предает. Он знает, что поступил подло, но… Нравственный закон словно опускается на уровень ниже, превращается в некую догму, которая существует для массового человека, но вовсе не для небожителей. Личность и нравственный закон теперь уже как бы начинают сосуществовать в параллельных измерениях. И даже подлые поступки подпитываются надеждой на то, что все это случайность, которую можно исправить: ведь всегда из одного измерения можно перебраться в другое. К тому же всегда можно списать собственные проступки на Систему: по принципу «все так делают».
Заметим все же, что не стоит сводить проблему взаимоотношений главных героев исключительно к карьерной устремленности молодого партаппаратчика. Если бы все было так, не было бы у повести столь долгой и успешной издательской жизни (ее переиздают до сих пор) и не вышел бы в апреле 2012 года на канале «Россия 1» одноименный четырехсерийный художественный фильм, поставленный Станиславом Митиным, с Марией Мироновой, Даниилом Страховым и Виктором Сухоруковым в главных ролях — одна из лучших на сегодняшний день экранизаций Полякова.
Нам представляется, что конфликт лежит намного глубже: это конфликт человека, лояльного к системе, хотя и признающего ее недостатки (таким нынче, из далекого далека, видится герой повести Валерий Чистяков), и человека, не приемлющего систему ни в каком виде и усматривающего в ней исключительно подавляющие и карательные функции и маразматические, достойные осмеяния черты (такова Надя Печерникова, героиня, с которой не складывается общая судьба у Чистякова). Думается, что этот конфликт — не конфликт подлеца и преданной им подруги, но конфликт двух мировоззрений, которые ни при каких обстоятельствах не могут примириться.
Надежда Печерникова — решительная, уверенная в себе и своей правоте женщина — смотрит на возлюбленного несколько свысока, с высоты своей правды, которую она принимает за истину. Эту ее черту убедительно передала в одноименной картине Мария Миронова. Ее героиня не готова поступаться ради Валерия своими взглядами, не готова даже просто смолчать. А ведь именно из-за ее невоздержанности на язык у них происходит конфликт: когда Чистяков, находясь в ГДР, сказал тост про дружбу, разрушающую стены, ехидная Надя придала его словам политический смысл и сделала это прилюдно, что едва не стоило ему карьеры. Надя умна и образованна, но ей не приходит в голову, что окружающие не обязаны разделять ее радикальные взгляды на советское общество, и именно ее свобода от любых рамок делает несчастной их любовь. Естественно, что после истории, так явственно обнаружившей разницу мировоззрений, они уже не могли быть вместе.
Кстати о Берлинской стене, которая становится косвенной причиной расставания героев. Для целых поколений она стала символом холодной войны — и разделенной немецкой нации. Историкам давно известно, что инициатива ее возведения принадлежала властям ГДР, а не Советского Союза, который пошел на этот шаг после настойчивых просьб и даже шантажа со стороны Вальтера Ульбрихта, руководителя ГДР и первого секретаря ЦК правящей Социалистической единой партии Германии. Историкам — да, но широкой общественности — нет. А основанная на рассекреченных документах книга американского исследователя X. М. Харрисон, посвященная этой проблеме, название которой звучит по-русски примерно следующим образом: «Как Советы подвели к стене»[8], — почему-то до сих пор не переведена на русский.
В свое время Валентин Распутин сказал: «Русский мужик должен быть в народе, а не в населении», — имея в виду, что русскому человеку для полноценного мироощущения необходимо видеть себя частью огромного целого, а не быть песчинкой среди других таких же песчинок. Можно предположить, что то же чувство равно свойственно и другим народам, в том числе немецкому. А это значит, что разделение народа не может не сказаться на его мироощущении. Кстати, после ухода из жизни Распутина Юрий Поляков оказался одним из тех немногих, кто с высоких трибун и в телеэфире напоминает сегодня о том, что после 1991-го самым разделенным народом оказались русские и их воссоединение в любой форме, адекватной историческим условиям, — одна из главных задач Российского государства.
Разрушение стены началось с того, что в мае 1989-го, под влиянием происходивших в СССР событий, Венгрия разрушила укрепления на границе с Австрией. Руководство ГДР не собиралось следовать этому примеру, но в конце октября — начале ноября с началом массовых протестных демонстраций прежнее руководство СЕПГ ушло в отставку. 9 ноября представитель правительства Гюнтер Шабовски, выступая на пресс-конференции, которую транслировали по телевидению, огласил новые правила выезда из страны: граждане ГДР отныне могли получать визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Случилось то, что случилось: сотни тысяч смотревших трансляцию восточных немцев высыпали на улицы и устремились к стене. Пограничники не смогли оттеснить толпу водометами и были вынуждены открыть границу. Навстречу жителям Восточного Берлина вышли тысячи жителей Западного, и начались народные гулянья.
Какое-то время Берлинская стена еще стояла, но очень скоро ее начали бить, кромсать, расписывать граффити, растаскивать на куски. Через год, после встречи в Архызе канцлера Германии Гельмута Коля и Михаила Горбачева, земли бывшей ГДР влились в ФРГ, и остатки стены были снесены, за исключением нескольких фрагментов, оставленных на память для будущих поколений. Возле одного из сохраненных для туристов КПП прикрепили мемориальную доску с профилем Брежнева: ее сняли со стены дома на Кутузовском в Москве, где жил генсек, и привезли в качестве правительственного сувенира в Берлин в начале 1990-х. По слухам, эта идея принадлежала Сергею Станкевичу, тогдашнему вице-мэру столицы.
Немцы прекрасно понимали, что если бы не советская перестройка, если бы не согласие Горбачева безо всяких условий вывести войска, воссоединение Германий было бы невозможно. Многие потом вспоминали, как незадолго до тех событий, в июне 1987-го, президент Рейган, выступая у Бранденбургских ворот на празднованиях по случаю 750-летия Берлина, патетически призвал Горбачева разрушить Берлинскую стену. Эффектный жест, такой же эффектный, как сделанное незадолго до этого на Красной площади заявление о том, что СССР уже не является «империей зла». Но стоит ли истошно радоваться, если тебя щедро похвалит основной стратегический противник?..
Невозможно отрицать особый дар Полякова предугадывать, предчувствовать события. Повесть вышла в майском номере журнала «Юность» за 1989 год, а через полгода пала Берлинская стена. Некоторые либеральные критики именовали Полякова «конъюнктурщиком», основываясь на том, что его острые вещи об армии и комсомоле вышли ко времени, словно на заказ. При этом они словно забывали, что написаны повести были тогда, когда затрагиваемые в них темы считались запретными, и повести поначалу попали в разряд «непроходных». Критики другого направления, например Владимир Бондаренко, напротив, считают, что некоторые свои произведения Поляков создал словно бы в провидческом трансе, позволяющем предугадывать события.
Нет ничего удивительного в том, что своими вещами Поляков, что называется, попал в яблочко: он не то что следил за конъюнктурой — он активно жил в своем времени, обладая характером, не позволявшим ему занимать позицию стороннего наблюдателя.
Отступление третье.
Как ссорился Борис Николаевич
с Михаилом Сергеевичем
Уже в 1987-м народ начал грустно зубоскалить: смеялся над тем, как Горбачев говорил: «новое мышление», «важно начать», «я это дело начал». В интеллигентных кругах всерьез обсуждали, как получилось, что, проучившись пять лет в столь достойном заведении, на философском факультете МГУ, Горбачев сохранил все неправильности южнорусского просторечия. По наблюдениям Полякова, «…юный узбек, еле говорящий по-русски, проведя два года в армии, возвращался в аул, свободно владея великим и могучим, конечно, в его казарменной версии».
Как же мог сложно обучаемый генсек столь скоро и резко перестроиться по отношению к партии, которая дала ему все, в том числе неограниченную власть?.. В СССР тогда появилась частушка:
По России мчится тройка: Мишка, Райка, перестройка, —а затем и очередной анекдот из серии про «армянское радио»: «Армянское радио спросили: «Что будет после перестройки?» — «Известно что: перестрелка».
Кстати, именно таким прогнозом в своей «повести катастроф» «Невозвращенец» поразил и запомнился в 1988 году прозаик Александр Кабаков. Какое-то время этот прогноз казался забавным — никто не верил, что все так и будет на самом деле. Но когда в 1991 году все тот же Сергей Снежкин завершил и показал экранизацию «Невозвращенца», сгустив, по своему обыкновению, краски и обострив конфликты, лента не произвела на зрителей никакого впечатления. К тому времени одно за другим, словно мины замедленного действия, страну начали сотрясать народные волнения, густо замешенные на национальном вопросе, — в Алма-Ате (1986), Нагорном Карабахе (1988), Минске (1988), Фергане (1989), Тбилиси (1989), Баку (1990), Душанбе (1990), Вильнюсе и Риге (1991).
Всякий раз для усмирения толпы руководству приходилось прибегать к помощи армии, и всякий раз Горбачев в итоге открещивался от военных, выполнявших приказ. Возможно, именно по этой причине в августе 1991-го маршал Язов не решился поднять армию для наведения конституционного порядка в распадающейся стране. А ведь это, по мнению Полякова, был единственный способ если не сохранить Советский Союз, то разумно его «реструктурировать», сберечь экономические связи и геополитическое единство, избежать хаоса и создания этнократических, антирусских режимов в Прибалтике и не только там. Надо сказать, что в последние годы существования СССР центральная власть вообще не противодействовала усугублявшейся межнациональной розни.
Тем временем Ельцин у себя в горкоме ввел диктатуру, безжалостно избавился от неугодных, в том числе первых секретарей райкомов. Зная, что это даст ему безоговорочную поддержку народа, он провозгласил своей целью борьбу с номенклатурными привилегиями. Время от времени Ельцин демократично ездил по Москве на общественном транспорте, заглядывал в магазины — зарабатывал себе дополнительные политические очки. По инициативе Ельцина появились продовольственные ярмарки, на которых жители столицы могли запастись товарами напрямую от производителей. При нем был введен запрет на снос исторических зданий (видимо, история с поспешным сносом Ипатьевского дома в Свердловске оставила след в его душе) — что, кстати, не помешало и дальше сносить архитектурные шедевры под видом реставрационных работ: от многих исторических московских зданий остались лишь фасады — правда, со стеклопакетами, конечно. При Ельцине был введен День города и начали разрабатывать новый генплан Москвы, что ничуть не препятствовало потом лужковской «точечной» застройке.
Тем временем Горбачев принял решение о прекращении уголовного преследования за инакомыслие и возвратил сосланного в Горький академика и нобелевского лауреата Андрея Дмитриевича Сахарова, а при политбюро, как уже было сказано, работала комиссия по реабилитации. Когда Ельцина избрали кандидатом в члены политбюро, у него начались конфликты с Лигачевым и Горбачевым, и напряжение постоянно росло. В октябре 1987-го на пленуме ЦК КПСС Ельцин раскритиковал стиль работы Лигачева и медленные темпы перестройки и предостерег товарищей по партии от зарождения культа личности Горбачева. Возможно, у него имелись основания так говорить. Как всякий не очень успешный руководитель, Горбачев чурался публичной критики и предпочитал выслушивать в свой адрес только комплименты. Он уже привык к тому, что за рубежом его встречали восторженные толпы с криками: «Горби! Горби!» — но таких толп давно уже не было дома, в СССР. Здесь от него требовали внятных ответов на наболевшие вопросы, ответов, которых он не знал.
На пленуме Ельцин демонстративно попросил освободить его от обязанностей кандидата в члены политбюро, и на него тут же обрушились с критикой высокопоставленные коммунисты, в том числе Яковлев, прежде оказывавший всяческую поддержку. Выслушав товарищей по партии, явно ожидавший другой реакции Ельцин признал свое выступление ошибочным. Соответствующую резолюцию вынес и пленум, освободив его от занимаемых должностей. Поскольку стенограмма его выступления была опубликована отнюдь не сразу, по рукам разошлись несколько вариантов, один другого ярче. Как потом выяснилось, наиболее радикальный написал активный сторонник Ельцина журналист Михаил Полторанин. В его варианте содержалась гораздо более острая критика партийного руководства, чем та, на которую на самом деле решился Ельцин. Именно такая критика, какой, по мнению Полторанина, ждал от него народ. Ельцин попал в больницу с сердечным приступом, ему сочувствовали, ожидая, что в ближайшем будущем он отправится «в ссылку», как когда-то Яковлев, но… его оставили в рядах номенклатуры, в том числе в ЦК, назначив на должность первого заместителя председателя Госстроя СССР.
Летом 1988 года он стал делегатом XIX Всесоюзной партконференции, на которой собралось немало партийцев, считавших курс руководства ошибочным и губительным для страны. Ниже приводится фрагмент из выступления писателя-фронтовика Юрия Васильевича Бондарева, в те годы первого заместителя председателя правления Союза писателей РСФСР:
«Дорогие товарищи!
Нам нет смысла разрушать старый мир до основания, нам не нужно вытаптывать просо, которое кто-то сеял, поливая поле своим потом, нам не надо при могучей помощи современных бульдозеров разрушать фундамент еще не построенного дворца, забыв о главной цели — о перепланировке этажей. Нам нет нужды строить библейскую Вавилонскую башню для того, чтобы разрушить ее или, вернее, увидеть ее в саморазрушении, как несостоявшееся братство не понявших друг друга людей. Нам не нужно, чтобы мы, разрушая свое прошлое, тем самым добивали бы свое будущее. <…> Мы, начав перестройку, хотим, чтобы нам открылась еще не познанная прелесть природы, всего мира, событий, вещей, и хотим спасти народную культуру любой нации от несправедливого суда. Мы против того, чтобы наше общество стало толпой одиноких людей, добровольным узником коммерческой потребительской ловушки, обещающей роскошную жизнь чужой всепроникающей рекламой.
Можно ли сравнить нашу перестройку с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка? <…> Мы непобедимы только в единственном варианте: когда есть согласие в нравственной цели перестройки, то есть перестройка — ради материального блага и духовного объединения всех. Только согласие построит посадочную площадку в пункте назначения. Только согласие. Однако недавно я слышал фразу, сказанную молодым механизатором на мой вопрос об изменениях в его жизни: «Что изменилось, спрашиваете? У нас в совхозе такая перестройка мышления: тот, кто был дураком, стал умным — лозунгами кричит; тот, кто был умным, вроде стал дурак дураком — замолчал, газет боится. Знаете, какая сейчас разница между человеком и мухой? И муху и человека газетой прихлопнуть можно…» <…> За последнее время, приспосабливаясь к нашей доверчивости, даже серьезные органы прессы, показывая пример заразительной последовательности, оказывали чуткое внимание рыцарям экстремизма, быстрого реагирования, исполненного запальчивого бойцовства, нетерпимости в борьбе за перестройку прошлого и настоящего, подвергая сомнению все: мораль, мужество, любовь, искусство, талант, семью, великие революционные идеи, гений Ленина, Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну. И эта часть нигилистической критики становится или уже стала командной силой в печати, как говорят в писательской среде, создавая общественное мнение, ошеломляя читателя и зрителя сенсационным шумом, бранью, передержками, искажением исторических фактов.
Эта критика убеждена, что пришло ее время безраздельно властвовать над политикой в литературе, над судьбами, душами людей, порой превращая их в опустошенные раковины. Экстремистам немало удалось в их стратегии, родившейся, кстати, не из хаоса, а из тщательно продуманной заранее позиции. И теперь во многом подорвано доверие к истории, почти ко всему прошлому, к старшему поколению, к внутренней человеческой чести, что называется совестью, к справедливости, к объективной гласности, которую то и дело обращают в гласность одностороннюю: оговоренный лишен возможности ответить.
Безнравственность печати не может учить нравственности. Аморализм в идеологии несет разврат духа. Пожалуй, не все в кабинетах главных редакторов газет и журналов полностью осознают или не хотят осознавать, что гласность и демократия — это высокая моральная и гражданская дисциплина, а не произвол. <…>
Та наша печать, что разрушает, унижает, сваливает в отхожие ямы прожитое и прошлое, наши национальные святыни, жертвы народов в Отечественную войну, традиции культуры, то есть стирает из сознания людей память, веру и надежду, — эта печать воздвигает уродливый памятник нашему недомыслию, Геростратам мысли, чистого чувства, совести, о чем история идеологии будет вспоминать со стыдом и проклятиями так же, как мы вспоминаем эпистолярный жанр 37-го и 49-го годов.
Вдвойне странно и то, что произносимые вслух слова «Отечество», «Родина», «патриотизм» вызывают в ответ некое змееподобное шипение, исполненное готовности нападения и укуса: «шовинизм», «черносотенство». <…> Наша экстремистская критика со своим деспотизмом, бескультурьем, властолюбием и цинизмом в оценках явлений как бы находится над и впереди интересов социалистического прогресса. Она хочет присвоить себе новое звание «прораба перестройки». На самом же деле исповедует главный свой постулат: пусть расцветают все сорняки и соперничают все злые силы; только при хаосе, путанице, неразберихе, интригах, эпидемиях литературных скандалов, только расшатав веру, мы сможем сшить униформу мышления, выгодную лично нам. Да, эта критика вожделеет к власти и, отбрасывая мораль и совесть, может поставить идеологию на границу кризиса.
<…> В самой демократической Древней Греции шесть черных фасолин, означающих шесть голосов против, подписали смертный приговор Сократу, величайшему философу всех времен и народов. Демагогия, клевета, крикливость лжецов и обманутых, коварство завистливых перевесили чашу весов справедливости.
Свобода — это высшее нравственное состояние человека, когда ограничения необходимы как проявления этой же нравственности, то есть разумного самоуважения и уважения ближнего. Не в этом ли смысл наших преобразований?»
Но партийное руководство подобные выступления игнорировало, чьи бы они ни были. Зато либеральный авангард, против которого оно и было направлено, хорошо запомнил слова автора «Горячего снега». В прессе развернулась кампания против Бондарева, его выступление сравнивали с письмом Нины Андреевой и даже называли писателя-фронтовика «Ниной». После 1991-го его имя, идеи и книги постарались вытеснить из сознания читателей. Когда Юрий Поляков, возглавив «Литературную газету», целенаправленно занялся возвращением на ее полосы советских классиков, имена которых годами не упоминались в литературной печати, одним из первых стал Юрий Васильевич Бондарев. Вчитываясь сегодня в пророческие строки давнего выступления Бондарева, понимаешь, что именно это направление отечественной гуманитарной мысли продолжил и развил позднее Поляков, в конце 1980-х формировавшийся как публицист.
Ельцин тоже выступил на партконференции, но его волновало совсем другое: ему нужно было как можно скорее разделаться со своими противниками и доказать свою правоту. Вернувшись к мнению о ретроградстве Лигачева, год назад признанному им ошибочным, опальный партийный босс настаивал теперь на необходимости удалить его из состава политбюро и вновь выступил против привилегий партийной элиты. В конце речи он попросил о политической реабилитации. В ответ Егор Кузьмич Лигачев произнес свое знаменитое: «Борис, ты не прав!» Фраза тут же ушла в народ, и вскоре на улицах Москвы появились молодые люди, вместо комсомольского носившие на груди значки «Борис, ты прав!», «Нас не объ-Егоришь, нас не подКузьмишь!», «Борис, борись!».
Вскоре после конференции, принявшей резолюции по «углублению перестройки» и «демократизации советского общества», на сентябрьском пленуме произошла самая крупная со сталинских времен «чистка»: Горбачев решительно избавился от всех, кто выражал хотя бы малейшее недовольство его политикой, и в политбюро, и в ЦК. Но это не спасло его от скорого краха, ибо то, что он делал, не вызывало сочувствия даже у сторонников.
Осенью 1988-го Горбачев занял пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, то есть стал главой государства. А весной 1989-го были впервые объявлены свободные выборы народных депутатов, и Ельцин, выдвинув главным пунктом своей программы борьбу с привилегиями, одержал уверенную победу в Московском избирательном округе, получив рекордные 91,53 процента голосов при явке почти 90 процентов. Его кандидатура даже была выдвинута в качестве альтернативы Горбачеву на роль председателя съезда, однако Ельцин неожиданно взял самоотвод.
Зато в Верховный Совет Ельцин не прошел, и история страны могла сложиться иначе, если бы в его пользу не отказался от своего мандата депутат Алексей Казанник (назначенный впоследствии генеральным прокурором РФ и удержавшийся в этой должности менее полугода). Благодаря Казаннику Ельцин стал членом Верховного Совета и как заместитель председателя Госстроя возглавил комитет по строительству и архитектуре, а значит, вошел в состав президиума. Вокруг этого политического тарана образовалась Межрегиональная депутатская группа (МДГ), объединившая в своих рядах очень разных людей, в том числе демократов первого призыва. Вот имена некоторых из них: ученый и философ Сергей Сергеевич Аверинцев; писатель Александр (Алесь) Михайлович Адамович; будущий первый президент Киргизии А. А. Акаев; полковник ВВС Виктор Имантович Апкснис (вышел из МД Г осенью 1989-го); нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов; педагог и психолог, действительный член АПН СССР Шалва Александрович Амонашвили; историк-востоковед, будущий глава Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба (до 1990 года); доктор исторических наук, член редколлегии журнала «Коммунист» и ректор Историко-архивного института Юрий Николаевич Афанасьев; будущий заместитель председателя Счетной палаты, ныне колумнист «Литературной газеты» Юрий Юрьевич Болдырев; будущий госсекретарь РСФСР, преподаватель марксистско-ленинской философии Геннадий Эдуардович Бурбулис; писатель Василий (Василь) Владимирович Быков; мировой рекордсмен и олимпийский чемпион Юрий Петрович Власов; следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР Тельман Хоренович Гдлян; драматург-публицист А. И. Гельман; доктор юридических наук Алексей Иванович Казанник (Омск); писатель и публицист Юрий Федорович Карякин; один из создателей Интернационального движения трудящихся Эстонской ССР Евгений Владимирович Коган; главный редактор журнала «Огонек» Виталий Алексеевич Коротич; будущий министр социальной защиты населения в правительстве Ельцина и уполномоченный по правам человека в РФ при Путине Элла Александровна Памфилова (до декабря 1989-го); журналист, будущий министр печати и информации РСФСР/РФ и глава межведомственной комиссии по рассекречиванию документов КПСС Михаил Никифорович Полторанин; доктор экономических наук и будущий первый мэр Москвы Гавриил Харитонович Попов; экономист и будущий первый премьер-министр Литовской Республики Казимера Прунскене; будущее доверенное лицо Ельцина на выборах президента РСФСР и будущий губернатор Новгородской области Михаил Михайлович Прусак; член-корреспондент АН СССР и будущий академик РАН Юрий Алексеевич Рыжов; академик АН СССР и один из создателей водородной бомбы Андрей Дмитриевич Сахаров; доктор юридических наук и будущий первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Александрович Собчак; старший научный сотрудник Института всеобщей истории, один из лидеров Московского народного фронта Сергей Борисович Станкевич; кандидат исторических наук, в будущем — советник Ельцина по межэтническим отношениям Галина Васильевна Старовойтова; Герой Социалистического Труда Николай Ильич Травкин; знаменитый офтальмолог Святослав Николаевич Федоров; публицист Юрий Дмитриевич Черниченко; доктор физико-математических наук, в недалеком будущем подписавший от Белоруссии Беловежские соглашения Станислав Станиславович Шушкевич; композитор Родион Константинович Щедрин; журналист, ведший отдел расследований в «Литературной газете», Юрий Петрович Щекочихин; член-корреспондент АН СССР, эколог Алексей Владимирович Яблоков; главный редактор газеты «Московские новости» Егор Владимирович Яковлев и др.
Ельцин стал сопредседателем МДГ. Как вспоминал Гавриил Попов, в позитивной части своей программы группа, в которую входили столь разные по взглядам люди, договориться не смогла. Зато, по предложению Сахарова, объединилась в отрицании: МДГ единодушно выступила за отмену шестой статьи Конституции СССР.
Как ни странно, среди участников съезда не оказалось Юрия Полякова, секретаря Союза писателей РСФСР, кандидата в члены ЦК ВЛКСМ, члена правления возглавляемого академиком Лихачевым Фонда культуры, человека, у которого было к тому времени громкое всесоюзное имя. Вот как об этом в обычной своей манере рассказывает сам Поляков:
«Мне позвонили сверху и сказали, что хотят меня выдвинуть на съезд народных депутатов от комсомола, но для этого надо пройти формальное собеседование с кем-то из членов бюро комсомольского Олимпа. Я поехал в Политехнический проезд, где меня поджидала первый секретарь ЦК ЛКСМ Армении, жгучая брюнетка с усами, явно ко мне нерасположенная. Надо заметить, что в регионах номенклатура была настроена более консервативно. Происходящее в Москве казалось им верхом неблагоразумия, что, в общем-то, верно. Возможно, сказалось и другое обстоятельство: накануне собравшемуся пленуму ЦК ВЛКСМ показали фильм «ЧП районного масштаба», вызвавший во многом законное негодование. Ленту, кстати, представлял я, а не Снежкин, устроивший тем временем «чес» по стране. Мне и досталось на орехи. Даже те, кто давно смирился с моей повестью, получившей к тому времени премию Ленинского комсомола, снова заточили на меня зуб. Похоже, комсомольская богиня из Еревана была из заточивших. Мы поговорили довольно бурно. Она обвинила меня в расшатывании устоев и разрушении единства страны. Я, будучи, по совести сказать, с бодуна и на нервах, ответил ей со всей похмельной прямотой. На заседании секретариата она резко выступила против меня. Будь она из славянских республик, на худой конец из Казахстана, с ней, возможно, и поспорили бы, переубедили: тогдашний «болтливый комсомольский бог» Мироненко относился ко мне с симпатией. Но с национальным кадром, тем более из Армении, где взрывалась одна беда за другой, спорить не стали. В итоге моя кандидатура не прошла, что, наверное, и к лучшему. Кстати, года через два я обнаружил армянскую деятельницу среди тех, кто громко ратовал за выход Армении из СССР. Очнулась!
Впрочем, я совсем не переживал о случившемся, наоборот, когда, не обнаружив меня в списках делегатов от комсомола, сразу несколько вузов предложили меня выдвинуть, так сказать, от народа, я отказался. Мне тогда казалось, что писатель должен заниматься своим делом, наблюдать, думать, писать, а коллективная политическая борьба отвлекает от письменного стола. Отдав всю молодость общественной работе, я упивался творческим одиночеством. Глупо? С точки зрения писательского ремесла вовсе нет. А вот с учетом того, куда повлек нас рок событий, конечно, нелепо… Впрочем, пальму первенства тут держит Солженицын. Дописывая книгу о революции 1917 года, он опоздал к революции 1991-го на три года, а потом очень удивлялся, что Гайдар со своей командой над ним откровенно потешаются…»
Отголоски этих настроений Полякова можно найти в его статье «Из клетки в клетку», опубликованной в 1990 году в пилотном номере газеты «День»:
«Нашей пропаганде всегда было милее «свободолюбивый», нежели «свободный». Оно и понятно: свободолюбивый человек безопаснее, чем свободный. Глумливая мудрость бытия заключается в том, что, ступив на путь борьбы за свободу, человек тут же попадает в зависимость от законов этой борьбы. И он уже идет не туда, куда влечет его свободный ум, а куда влечет логика политической схватки.
Мне кажется, с высот свободного ума застойное единомыслие мало чем отличается от единомыслия перестроечного: так угрюмо преданный принципам ретроград тождествен обаятельно-беспринципному прогрессисту. По конечному, так сказать, результату… Разумеется, никто и не помышляет о башнеслоновокостном варианте: не зависеть от происходящего в стране невозможно, но независимо оценивать происходящее можно и должно. Именно в этом смысле свободный ум одинок, именно в этом смысле одиночество — единственная нравственная позиция, позволяющая художнику давать гуманистическую оценку происходящему. Классическая русская литература достигла горних высот именно потому, что ее создавали люди, знавшие цену одиночеству».
Чем хуже становилась ситуация в стране, тем больший политический вес набирали члены группы, но главным образом — Ельцин, после смерти Сахарова ставший ее единоличным лидером. В марте 1990 года образованное на базе МДГ движение «Демократическая Россия» одержало победу на выборах, взяв курс на «декоммунизацию и суверенизацию».
Во второй половине 1989-го трудности в экономике переросли в полномасштабный кризис, экономический рост замедлился, а в 1990-м сменился падением. Символом рубежа 1980—1990-х годов стали пустые полки магазинов. В городах появились так называемые карточки покупателя, по которым каждый мог купить ограниченное количество товара. На детей сливочное масло можно было приобрести, предъявив карточку и паспорт, в котором дети записаны. Общество, зараженное, как вирусом, антисоветизмом и антикоммунизмом, переживало период глубочайшей депрессии. В телепрограмме отныне на долгие годы центральное место заняли фильмы про трудную жизнь бандитов и проституток, а подавляющее большинство читавших в общественном транспорте книги погрузились в детективы. Старики еще не начали рыться на помойке, как в 1990-х, при Ельцине, но уже просили у метро подаяние, вспомнив времена, когда считали каждую копейку. А на копейку уже ничего нельзя было купить, даже спички.
С легализацией частной собственности в стране появились фондовый и валютный рынки, массово закрывались государственные предприятия: заводы, фабрики, фермы, комбинаты…
Летом 1989 года в «Правде» была опубликована перепечатка из итальянской газеты «Република» — о том, как пьяный Ельцин выступал в США. В народе, сочувственно относящемся к пьющим мужикам, статью восприняли как провокацию по отношению к борцу с привилегиями и честному коммунисту. Разразился скандал, и главный редактор газеты покинул свой пост, хотя тогда уже было понятно, что по собственной инициативе он бы эту статью в номер не поставил. Сам Ельцин объяснял свою утреннюю неадекватность принятым ночью снотворным, и даже если ему не верили, почему-то все равно прощали. Жгучий стыд, когда он спьяну взялся дирижировать оркестром, страна испытала значительно позже, в 1994-м. И это случилось на торжествах по случаю вывода из Германии советских войск…
Осенью 1989-го произошло знаменитое падение с моста: поздно вечером на милицейский пост у правительственных дач пришел совершенно мокрый Ельцин и заявил, что на него напали неизвестные, затолкали в машину и, накинув на голову мешок, сбросили с моста в Москву-реку. При этом Ельцин не стал писать заявление и попросил никому о происшествии не сообщать — но инцидент получил огласку, а факт нападения не подтвердился. История эта надолго затмила другие новости: вся страна гадала, что на самом деле случилось и кто были те неизвестные, что так неумело покусились на жизнь борца за демократию. К тому же обследование места, где он якобы упал с моста, показало: человек, сброшенный с такой высоты в неглубокую в том месте речку, должен был получить тяжелые увечья. Для некоторых, пусть пока немногих, эта история послужила отрезвляющим толчком в понимании Ельцина и той роли, которую он может сыграть в судьбе страны.
В марте 1990-го на внеочередном Съезде народных депутатов СССР Горбачев был избран президентом СССР, которым он оставался чуть более полутора лет. В апреле 1990-го в авиационной аварии в Испании Ельцин получил травму позвоночника; через месяц, во время выборов председателя Верховного Совета РСФСР, в прессе появились намеки, что авария была подстроена КГБ. Пост Ельцин занял не без проблем, Верховному Совету пришлось голосовать по этому вопросу трижды, а уже 12 июня высший орган законодательной власти РСФСР под председательством Ельцина принял Декларацию о государственном суверенитете России, согласно которой устанавливался приоритет российских законов над союзными. В России стремительно активизировались центробежные силы.
Еще через месяц Ельцин выступил на XXVIII, последнем съезде КПСС с резкой критикой Горбачева и объявил о своем выходе из партии. Партия ему была уже не нужна: он обладал реальной государственной властью и поддержкой народа.
7 ноября 1990 года слесарь Ижорского завода Александр Шмонов во время праздничного шествия на Красной площади, затесавшись в ряды демонстрантов, попытался застрелить из обреза Горбачева. Покушение не удалось, и когда его арестовали, Шмонов объяснил, что считал убийство Горбачева необходимым для проведения демократических выборов в стране. (Кстати, его судьба сложилась благополучно: после лечения в психбольнице он стал правозащитником.)
Вот как в январе 1991-го в беседе с главным редактором «Московского комсомольца» Павлом Гусевым оценивал сложившуюся ситуацию Юрий Поляков:
«…То, что происходит в стране, конечно, пока никакая не революция, и слава богу! Это действительно, извините за банальность, перестройка — попытка перестроить общественно-экономическую жизнь страны в соответствии с моделями, которые в других странах показали свою изобильность. Только бы не вышло у нас как с купленным на валюту импортным оборудованием, годами лежащим под дождем и превращающимся в металлолом — радость моего пионерского детства…
— Но разве новые люди, выдвинутые перестройкой, не гарантия необратимости перемен?
— А где вы видели новых людей? Просто из партера, в крайнем случае из амфитеатра, они пересели в президиум. Людей «с улицы» единицы, и не они делают погоду…
— По-моему, вы противоречите сами себе. Отсутствие новых людей — это хорошо или плохо?
— Это реальность, которую один может считать хорошей, а другой плохой. И противоречив не я, а жизнь. Когда я вижу человека, пошедшего в политику, меня, честно говоря, меньше всего интересуют его политические убеждения… И пусть человек с лицом мелкого снабженческого жулика распишет мне картины и путь всеобщего благоденствия, я ему никогда не поверю… Присмотритесь к некоторым вершителям наших перестроечных судеб. Вот один — в его глазах горит желтый огонь бескорыстной веры в себя. Вот другой — телевизионный павлин, никогда не помнящий того, что сам же говорил вчера. Вот третий — в своей горделивой напряженности он чем-то похож на добропорядочную даму, опасающуюся, как бы кто не напомнил ей о временах, когда она зарабатывала на жизнь общедоступностью…
— Я что-то никак не пойму: вы либерал или консерватор?
— Давайте оставим классификацию до тех пор, пока в магазинах не появится хоть что-нибудь. Консервы, например…
— А какие у вас сегодня отношения с армией?
— В солдаты, как видите, не забрили.
— А хотели?
— Литератор, нарушающий табу, должен быть готов ко всему… Но должен сказать, мыслящие военные на меня никогда не обижались и даже поддерживали, а соотношение думающих и бездумных в армии, по моим наблюдениям, примерно такое же, как и в других местах…
— Не связаны ли эти ваши наблюдения со слухами о военном перевороте?
— Если бы мои убеждения зависели от колебаний политической ситуации в стране, то, наверное, в 1980 году я написал бы не «Сто дней», а какой-нибудь благостноуставной текст, что мне, кстати, и советовали сделать на беседах в тогдашнем ГлавПУРе. Но сегодня… когда земля ходит под ногами, я не вижу особой доблести в том, чтобы играть в дразнилки с обозленной, и подчас справедливо, армией. Говорю это вам как давний нелюбимей Министерства обороны. Меня вообще беспокоит та ожесточенная конфронтация, которая возникла нынче между людьми речевого жанра и представителями других видов труда, не только военными. Тот факт, что голова соображает, еще не значит, что она может существовать отдельно от тела… Что же касается разговоров о возможном военном перевороте, то они мне чем-то напоминают слезные просьбы братца Кролика не бросать его в терновый куст…»
В начале 1991-го Ельцин в телевыступлении потребовал отставки Горбачева и передачи власти Совету Федерации, где заседали руководители союзных республик. Ситуация в стране ухудшалась, и руководство рассматривало вопрос о введении чрезвычайного положения. Возглавлявший КГБ В. А. Крючков считал режим ЧП единственным средством стабилизировать ситуацию, но Горбачев его не поддерживал. В январе 1991-го была проведена так называемая павловская реформа. Указ об изъятии из обращения и обмене 50- и 100-рублевых купюр образца 1961 года Горбачев подписал 22 января; сообщили о нем по телевизору в 21 час, когда сберкассы, где можно было обменять купюры, а также магазины, где их должны были принимать, были закрыты. Едва диктор Анна Шатилова зачитала сообщение, как по всей стране пожилые люди схватились за валидол: в последние полгода-год зарплату и пенсии выдавали как раз этими купюрами, и очень многие, откладывавшие деньги на черный день и собственные похороны, с удовольствием заменили мелкие купюры крупными: их было проще хранить и пересчитывать. Согласно указу обмен надлежало произвести всего за три дня, с 23 по 25 января, и обменивать было разрешено не более тысячи рублей на человека. Остальные купюры, если такие имелись, подлежали обмену только с разрешения специальной комиссии и в ограниченный срок. Снять в сберкассе можно было не более 500 рублей в месяц. А поскольку граждане имели право открывать вклады в нескольких сберкассах, в том числе в разных городах, в паспортах им проставлялась отметка о выдаче денег.
Паника, охватившая миллионы людей, была неописуемой. Если бы была такая статистика, она бы наверняка показала, что число инфарктов и инсультов, в том числе с летальным исходом, возросло на порядок. В сберкассах были толчея и давка. Ловкачи, имевшие доступ к кассам с мелкими купюрами, производили обмен прямо на улице, за приличный процент, и за три дня обогатились. Самые находчивые граждане разменяли 50—100-рублевые купюры в тот же вечер в кассах метро, железнодорожных вокзалов и у таксистов, когда не все еще знали об указе. Кому-то удалось отправить самим себе крупные переводы в почтовых отделениях при вокзалах, работавших до 24 часов. Некоторые успели купить самые дорогие железнодорожные и авиабилеты на несколько дней вперед, а после окончания обмена сдать билеты и получить деньги.
По замыслу премьер-министра Валентина Сергеевича Павлова, конфискация должна была стабилизировать денежное обращение в стране, изъяв избыточные денежные массы, помочь в борьбе с фальшивомонетчиками и спекулянтами. Наделе главным итогом реформы стала утрата доверия к действиям правительства, которое, столь же неожиданно, установило со 2 апреля новые цены на товары и услуги, в три раза выше предыдущих. После павловских реформ большая часть населения оказалась за чертой бедности и Горбачева кляли уже в открытую, на каждом углу.
Попытки привлечь внимание общества к самодурству Ельцина ни к чему не приводили. На одном из заседаний Верховного Совета РСФСР было зачитано «письмо шести», подписанное заместителями Ельцина Светланой Горячевой и Борисом Исаевым, председателями обеих палат Владимиром Исаковым и Рамазаном Абдулатиповым и их заместителями Александром Вешняковым и Виктором Сыроватко, в котором подписанты выражали возмущение авторитарным стилем Ельцина. Но в защиту Ельцина активно выступил его первый заместитель и будущий главный враг Руслан Хасбулатов, и депутаты оставили письмо без последствий.
В соответствии с решением съезда народных депутатов в марте был проведен всесоюзный референдум по вопросу о сохранении СССР. «За» высказались 112 миллионов человек — 76 процентов голосовавших. Одновременно с всесоюзным прошел всероссийский референдум, по его итогам в России был учрежден пост президента, и через три месяца им стал Ельцин. До конца Союза оставались считаные дни.
Горбачев в Ново-Огареве готовил новый вариант союзного договора. В работе над документом принимали участие представители только девяти из пятнадцати союзных республик. Договор предусматривал федеративное устройство союзного государства, а его подписание было назначено на 20 августа. Но в ночь на 19-е москвичи, жившие на Можайском шоссе и в прилегающих к нему районах, услышали странный тяжелый гул, а кто-то даже видел, как на Москву медленно двигались танки. Утром, проснувшись, жители столицы обнаружили в городе войска. При этом в некоторых магазинах чудесным образом появился остро дефицитный сахар. Но танки в городе! Зрелище было зловещим. Стараясь не заглядывать в смертоносные дула, люди спрашивали у сидевших на броне танкистов, чаще всего выходцев из Средней Азии (их, видимо, много было в Советской армии в силу чисто демографических причин): «Что вы здесь делаете?!» Центральное телевидение транслировало балет «Лебединое озеро», а по радио передавали «Заявление Советского руководства», из которого следовало, что президент Горбачев, находящийся с семьей в Форосе, болен и власть перешла к вице-президенту Геннадию Янаеву и Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). Дикторы зачитали также обращение к народу, в котором ГКЧП, ссылаясь на «экстремистские силы», взявшие курс на развал СССР, обещал вывести страну из кризиса, правда, не раскрывая, как намерен это сделать. Позднее Горбачев утверждал, что был изолирован заговорщиками в Форосе и не имел связи с внешним миром, а 20 лет спустя, под давлением обнародованных фактов, признал, что был в курсе происходившего, рассчитывая, видимо, выждав, вернуться победителем в усмиренную чужими руками Москву. Ну а в случае неудачи снова откреститься от исполнителей, как он делал уже не раз…
По распоряжению участника ГКЧП министра обороны Язова в Москву было введено 279 боевых машин пехоты, 148 БТР и 362 танка Кантемировской дивизии. Загородную дачу Ельцина в Архангельском взяли под наблюдение, но распоряжений в отношении него почему-то не поступало, и он беспрепятственно прибыл в здание Верховного Совета РСФСР, впоследствии получившее название «Белый дом». Там Ельцин выступил, заявив, что считает действия ГКЧП антиконституционными. Из руководителей союзных республик его активно поддержал только глава Киргизии А. А. Акаев, остальные саботировали решения ГКЧП, но не вступали в открытую конфронтацию. Кабинет министров СССР (кроме министра культуры Николая Губенко) и политбюро ГКЧП поддержали. Из национальных руководителей за путчистов были только председатель Верховного Совета Белоруссии Николай Дементей, первый секретарь ЦК компартии Украины Станислав Гуренко и президент Азербайджана Аяз Муталибов. В странах Балтии в поддержку ГКЧП выступили руководство компартий Литвы и Латвии, а также Интердвижение Эстонии.
Танковый батальон, направленный к Белому дому, где собралась огромная толпа сторонников Ельцина, вскоре перешел на сторону взявших его в плотное кольцо демонстрантов, и на одном из танков окруженный охранниками Ельцин зачитал свое обращение «Гражданам России». Среди протестующих быстро распространился слух, что войска якобы получили приказ штурмовать ночью Белый дом, и сторонники президента России заблокировали подступы к нему троллейбусами, готовясь, если придется, погибнуть за демократию. И хотя никакого штурма не было, ночью во время протестной акции под танками по неосторожности погибли трое молодых людей из числа сторонников Ельцина.
Вокруг Белого дома постоянно находилась многотысячная толпа, там кипела жизнь: жарились куры гриль, раздавали горячий чай и съестное, привезенное со всей Москвы горожанами. Были там и ящики для сбора средств в пользу защитников Белого дома, куда многие охотно опускали свои трешки, пятерки и десятки. В среду во всей этой деловитой суете уже ощущалось радостное предчувствие победы.
Действительно, 21 августа войска были выведены из Москвы, а за Горбачевым отправились две делегации: от ГКЧП — во главе с Лукьяновым, Язовым и Крючковым, которую он не принял, и от сторонников Ельцина — во главе с вице-президентом РСФСР Александром Руцким и премьер-министром Иваном Силаевым. 22 августа, вернувшись из Фороса и отрицая свою причастность к ГКЧП, Горбачев заявил: «Имейте в виду, настоящей правды никто не узнает», — а 24-го сложил с себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС и в ноябре вышел из партии.
Участников ГКЧП арестовали, но отпустили под подписку о невыезде, а производство дела было прекращено по амнистии, и только дело генерала армии В. И. Варенникова, не признавшего себя виновным, было доведено до суда, который оправдал его за отсутствием состава преступления. Сразу после поражения путчистов, при странных обстоятельствах, покончили с собой маршал Советского Союза Сергей Ахромеев, советник Горбачева, и управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина, не имевший никакого отношения к деятельности ГКЧП. Ранее при странных обстоятельствах погибли министр внутренних дел Борис Пуго и его жена.
…………………..
Скорятин вспомнил, как Исидор с пылающим лицом вошел в кабинет, где, томясь, дожидался коллектив, собранный для сверхважного сообщения. После победы над гекачепистами главных редакторов правильных газет собрал у себя Яковлев. Видно, они там не только совещались, но и отмечали триумф демократии. Шабельский был элегантно нетрезв и трогательно счастлив. Он обвел присных влажным отеческим взором и улыбнулся:
— Господа, поздравляю: Пуго застрелился!
Народ почему-то захлопал, а Веня Шаронов выкрикнул экспромт:
— Пуго от испуга скушало друг друга!
Все захохотали.
Скорятин тоже смеялся. Но, хихикая, он удивлялся не тому, что покончил с собой суровый латыш — министр внутренних дел, на которого очень рассчитывали и красно-коричневые, и все нормальные люди, уставшие от горбачевских виньеток. Гену поразило другое — небывалое прежде обращение «господа». Еще вчера все они были товарищами.
— Шампанское! — крикнул Исидор.
Распахнулись двери, и черно-белые официанты внесли подносы с шипучими бокалами.
— Ура, до дна за нашу и вашу свободу!
(«Любовь в эпоху перемен»)…………………..
Вскоре после августовских событий 1991 года, в октябре в журнале «Столица» была опубликована статья Полякова «И сова кричала, и самовар гудел…». Она начиналась такими словами: «Представьте себе, что вы живете на леднике, медленно и невозвратно сползающем в пропасть». Так ощущал то время Поляков.
«…Мы умудрились предложить миру даже свой особенный вид военного путча, — писал он, — являющегося составной частью демократического процесса: черные начинают и сразу проигрывают. Весь минувший год о предстоящем перевороте кругом говорили с той усталой уверенностью, с какой обычно говорят о недалеком очередном отпуске. Перебирались имена предполагаемых диктаторов, предугадывались сроки, спорили: отменит хунта талоны на водку или, наоборот, введет сухой закон…» И далее: «И вот еще — чтоб закончить про военный путч. Сам для себя я называю его военный пуф. «Пуф», по Далю, — надувательство, нелепая выдумка».
Тогда — а опубликована статья, напомним, в октябре 1991-го — это мало кому приходило в голову. Только тем, кто знал больше других. Например, Павлу Вощанову, который с июля 1991-го по февраль 1992-го был пресс-секретарем Ельцина и во время августовского путча проводил пресс-конференции в стенах Белого дома. Вощанов позднее вспоминал, что во время путча в бомбоубежище «был накрыт стол, и Борис Николаевич с ближайшим окружением «расслаблялись», ожидая разрешения ситуации». Ну чем не пуф?!
Пока ликующая толпа сбрасывала с постамента памятник Дзержинскому на Лубянской площади, Горбачев подписал постановление Госсовета о признании независимости Литвы, Латвии и Эстонии — в нарушение закона «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзных республик из состава СССР», предусматривавшего проведение в них референдума, а также переходный период для решения всех спорных вопросов, в том числе пограничных. Виктор Илюхин, бывший тогда старшим помощником генпрокурора СССР и начальником управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов о государственной безопасности, возбудил против Горбачева уголовное дело по статье 64 УК (измена Родине) — и был моментально уволен из органов.
8 декабря, в день подписания Беловежского соглашения, вице-президент РСФСР Руцкой предложил Горбачеву арестовать подписантов — Ельцина, Кравчука и Шушкевича, — но тот отмахнулся: мол, законной силы то, что они подписали, не имеет. А через 17 дней в телеобращении объявил о сложении с себя полномочий президента и передал Ельцину ядерный чемоданчик. В тот же день Государственный флаг СССР, гордо реявший над Кремлем, был спущен на глазах у ошеломленного советского народа и вместо него поднят трехцветный флаг РСФСР. Великой общности, о которой так много говорилось в последние 20 лет, советского народа не стало в одночасье. А накануне, 21 декабря, решением Совета глав государств СНГ президент СССР получил пожизненные льготы: специальную пенсию, медицинское обеспечение семьи, личную охрану, госдачу и персональный автомобиль.
Отныне Ельцину предстояло работать с документами и дирижировать оркестром, а Горбачеву — ездить по миру с высокооплачиваемыми лекциями, на которых он щедро делился опытом разрушения великой страны.
* * *
Вот что сказал Поляков в интервью корреспонденту газеты «Московская правда» Л. Фоминой, опубликованном в тот памятный день, 21 декабря, когда никто еще не знал о том, что стране покажут вечером в программе новостей: «…Люди, которые после упорной борьбы положили наконец руки на рычаги власти, гораздо лучше знают, как отстранять от этих рычагов своих противников, чем как при их помощи управлять страной. Второй раз за столетие в пылу борьбы за власть разрушается то, чего ни в коем случае нельзя трогать, — так называемые государственные устои. Это похоже на то, как если бы противоборствующие силы в Голландии взорвали все дамбы и плотины, — страна, находящаяся, как известно, ниже уровня моря, была бы залита водой, и погибли бы все. У кого-то, конечно, есть спасательные катера и даже яхты, кто-то уже успел «катапультироваться» за рубеж. Но у основной массы нашего народа нет даже спасательных кругов. И я, как многие, кто никуда не собирается «уплывать», смотрю на все это с тоской.
Л. Ф. Сейчас очень трудно понять, в каком государстве мы живем — СССР, ССГ, СНГ… Каждый день приносит новые сюрпризы. Недавно, проснувшись, мы узнали, что живем уже не в Центре, не в столице Союза, а просто в Москве. Как вы, коренной москвич, к этому отнеслись?
Ю. П. Москва — это такой исторический и геополитический центр, что от перемены расположения каких-то присутственных мест ничего не изменится. Для меня гораздо важнее географической символики те исконно российские земли, которые в результате административного идиотизма оказались по другую сторону намечающихся границ между суверенными государствами. Земли предков — это не торт с надписью «Дорогому другу в день рождения!». Съел — и забыл. Забыть могут политики. Народ помнит всегда. И припомнит…»
Так в ту пору думали немногие, а осмеливались высказывать свои мысли вслух и вовсе единицы. Тем более значимым для «молчаливого большинства» было именно интервью писателя, которого столь уверенно записали в «колебатели основ». Само время толкнуло его к публицистике, и в ближайшие годы она станет одной из важнейших составляющих его творчества.
* * *
Пока СССР еще не распался, единственной, по мнению многих, силой, способной ее удержать, оставалась армия. Но она была дезориентирована и ошельмована, а военная форма уже воспринималась как символ всего самого реакционного, если не сказать позорного.
Именно тогда Поляков почувствовал горячее желание написать об армии что-то доброе и жизнеутверждающее, тем более что вышедший по повести «Сто дней до приказа» фильм не имел ничего общего не только с первоисточником, но и с самой армией (не забудем, что режиссер никогда не служил и имел об армейской службе самое смутное представление).
Одна киностудия заказала Полякову сценарий об армейских буднях, и он засел за работу, решив написать добрую комедию. К началу 1990-го сценарий был готов. Сюжет пришел в голову остроумный и неожиданный: вместо косящего от армии сына служить отправляется мама. На киностудии веселый сценарий понравился, фильм взялся снимать уже знакомый нам Леонид Эйдлин, который собирался занять в главной роли свою супругу Ирину Муравьеву. Однако и этот совместный проект не удался. Пока актриса худела, чтобы сыграть травести в новой «гусарской балладе», а режиссер мучился проблемой, в каком жанре снимать, реалистическом или буффонадном, — случилось то, что случилось: август 1991-го, ГКЧП и все остальное. Тогда же на «Мосфильме» прервалась работа над фильмом «Парижская любовь…», а на Киностудии им. М. Горького — над картиной «Апофегей». Причина чисто экономическая: бюджет каждой картины исчислялся огромной по советским временам суммой — по 150 тысяч рублей. В конце 1991 — го на эти деньги уже нельзя было устроить даже приличную дружескую пирушку…
А сценарий фильма «Мама в строю» пролежал в столе много лет и уже в наше время был наконец опубликован как киноповесть.
* * *
Повесть «Парижская любовь Кости Гуманкова» вышла на самом излете советской власти, в 1991-м, в летних номерах журнала «Юность». Она была написана по заказу парижского издательства «Робер Лафон», но издатели сочли ее «слишком советской», хотя это не помешало ей вскоре выйти во Франции в другом издательстве — «Ашет» и успешно продаваться. Вот как рассказывает об истории создания повести автор:
«Кажется, в конце 1989 года мне позвонила Алла Шевелкина, переводчица, сотрудничавшая с журналом «Либерасьон», и сообщила, что знаменитое издательство «Галлимар» ищет современные русские романы, где события так или иначе связаны с Францией. «Нет ли у вас чего-нибудь такого?» — «Есть!» — бодро отозвался я, соврав лишь отчасти. Мне давно хотелось написать что-нибудь трогательное и смешное о советских людях за границей, ибо я, спасибо комсомолу и Союзу писателей, нередко выезжал за рубеж и насмотрелся там всякого. Но замысел я откладывал, колебался, в какую страну отправить будущих моих героев. И во время телефонного разговора меня осенило — в Париж! Любовь в Париже казалась мне вершиной изысканной романтики.
…Во все времена тема «русские за границей» несла в себе изрядный заряд юмора и самоиронии. Суровая и часто навязчивая заботливость Советского государства привела к формированию народа-дитяти, а наш нынешний рывок в рынок есть не что иное, как новый крестовый поход детей. Итоги первого похода общеизвестны, результаты второго также уже очевидны. Да, профессор, шкодливо толкающий гостиничному портье банку черной икры, чтобы купить жене модную кофточку, а своей молоденькой аспирантке — соблазнительные трусики, это смешно и унизительно. Но профессор, стреляющий себе в сердце из охотничьего ружья, потому что гибнет дело всей его жизни — наука, потому что аспирантка пошла на панель, а жена сидит полуголодная, — это страшно и подло! Когда в 1990-е мы это вдруг поняли, было уже поздно.
Берясь за повесть, я был полон, как сказал поэт Гитович, «веселой злобы» и стремления еще раз подтвердить свое лидерство среди тех, кого сегодня я бы назвал критическими романтиками, еще я кипел желанием стать первым в робко нарождавшейся советской эротической прозе. (Задача, достойная зазнавшегося подмастерья!) А тут как раз придумалось и такое изюмистое название — «Французская любовь». И теперь, благодаря душке Горбачеву, можно было, отринув многоточие, отобразить «странности любви» со всем позднесоветским раблезианством. Лишь с годами понимаешь: вовремя поставленное многоточие — самый верный признак настоящего мастерства… Впрочем, тогда я все еще хотел написать эротическую повесть с элементами резкой критики свинцовых мерзостей советской действительности.
Наступил 90-й год. Газеты и телевизор все настойчивее убеждали меня в том, что я — «совок» и живу в «бездарной стране», являющейся к тому же еще «тюрьмой народов» и «империей зла». Ирония и сарказм, взлелеянные моим литературным поколением для борьбы с идеологически выверенной дурью, вдруг, буквально на глазах, превратились в стиль общения средств информации с народом. Ухмыляющийся и двусмысленно подмигивающий Гурнов, плешивый теледиктор с кривыми зубами стал символом времени.
И я понял, что мне совсем не хочется писать эротико-разоблачительную повесть, а хочется сочинить просто историю любви. Да, потерянной, да, утраченной, но совсем не из-за Советской власти, которая в худшие времена могла жестоко, навсегда разлучить двоих, предназначенных друг другу судьбой. Но теряют любовь люди обыкновенно по своей вине, политический строй тут ни при чем! Я изменил плейбойское, а скорее даже — плебейское название «Французская любовь» на другое — «Парижская любовь Кости Гуманкова». И еще я осознал, что в окружавшей меня жизни, конечно, много нелепостей, но большинство из них заслуживает лишь снисходительной улыбки, а не ненависти.
Это разочаровало некоторых моих вчерашних хвалителей, мгновенно превратившихся в хулителей. От меня ждали вклад в «науку ненависти», в которую, по-моему, вложили денег больше, чем во все остальные науки и искусства, вместе взятые. А я вдруг написал добрую, смешливую, но снисходительную повесть о неуспешной любви времен застоя. Как же это не понравилось! Особенно критикам, видевшим в тогдашней литературе исключительно стенобитную машину для сокрушения «империи зла». Ни одна моя вещь, кроме «Демгородка», не вызвала таких критических залпов со всех сторон. Я был похож на голубя, принесшего оливковую ветвь на ковчег в тот момент, когда его обитатели, перессорившись, дрались стенка на стенку. Надеюсь, читателям, пережившим и путчи, и танковую стрельбу в центре столицы, и шоковую терапию, и хроническое беззарплатье, и прочее, совершенно невообразимое в прежние времена, теперь стало ясно, кто был прав в том давнем споре!
«Парижская любовь Кости Гуманкова» вышла в летних номерах «Юности» за 1991 год. Начав первые главы при социализме, подписчики журнала дочитывали окончание уже при капитализме… На фоне последних и решительных боев за власть, развернувшихся в агонизирующем Советском Союзе, повесть и в самом деле выглядела иронической пасторалью. Критика — и правая, и левая — мою вещь решительно отринула, а вот читатели полюбили сразу и навсегда. Получить в библиотеках «Юность» с «Парижской любовью…» было невозможно — всегда на руках, а Интернета тогда еще не завели. Повесть тут же вышла отдельной книжкой тиражом 100 тысяч экземпляров и с тех пор выдержала несколько десятков изданий. Почти на всех встречах с читателями кто-нибудь непременно признается, что это — его любимая книга, читанная несчетное количество раз…
Не стал издавать «Парижскую любовь…» и «Галлимар», сочтя ее слишком «советской», зато она вышла в другом крупном издательстве — «Ашет», которое осенью 1991-го пригласило меня на презентацию в Париж. Я получил гонорар две тысячи франков и чувствовал себя, богаче Газпрома и Роснефти, вместе взятых…»
Редакционная коллегия «Юности», согласившись с мнением Липатова, поначалу отвергла повесть, и только после вмешательства Дементьева был найден компромисс: маленькую стостраничную вещицу решили печатать в трех летних, самых невостребованных номерах. Но несмотря на это читатель заметил и полюбил «Парижскую любовь…», которая и по сей день — одна из самых читаемых книг Полякова.
Тем временем критика объявила повесть откровенной неудачей. Елена Иваницкая в «Литературном обозрении» в большой статье «К вопросу о…», посвященной творчеству Полякова, писала: «Парижская любовь Кости Гуманкова» тихо разваливалась в летних номерах «Юности», и теперь читатель, у которого хватило терпения дождаться последней фразы, может окинуть взглядом всю груду кирпичей, из которых автор пытался свое произведение сложить. Замысел, кажется, был грандиозен: показать на примере некоей «специальной» туристической группы все предперестроечное общество и эпилогом дать его перестроечную судьбу…
Его повести были явлением не столько литературы, сколько литературно-общественной жизни…»
«…Вокруг поносили и рушили ненавистный «совок»: кто-то мстил за дедушку, отсидевшего то ли за анекдот про Сталина, то ли за двойную бухгалтерию, кто-то взъелся, потому что это стало выгодно, кто-то просто наслаждался шелестом свежих знамен. А мне вдруг захотелось написать об уходящей советской эпохе по совести, искренне, а значит, не злобно, — вспоминает Поляков. — Ведь ту жизнь, которой мы жили до 91-го, можно назвать скудной (хотя с чем сравнивать — с войной?), нелепой (хотя с чем сравнивать — с пьяными ельцинскими загогулинами?), несправедливой (хотя с чем сравнивать — с приватизацией?), но невыносимой назвать ее никак нельзя. Вероятно, невыносимой она была для отказников, сдавших партбилеты, уволившихся с престижной работы и сидевших на чемоданах, ожидая разрешения на выезд из «этой страны». Ненавистью отъезжающих и заболела почему-то почти вся постсоветская литература. Большинство, кстати, никуда не уехали, а многие из отбывших потом вернулись, но осадочек, как говорится, остался».
«Парижская любовь…» вначале разочаровала поклонников Полякова, привыкших к разоблачительному пафосу его вещей, к их нелицеприятной правдивости. Так часто бывает: творческое развитие писателя идет не по тому пути, который кажется очевидным почитателям. Подчиняясь внутренней логике собственного таланта и характера, писатель выбирает естественный для него путь и способ самовыражения, и, хотя и хочет понравиться, он не готов «поступаться принципами». С течением времени становится понятной логика его развития. «Колебателю основ» был чужд пафос разрушения. Он не хотел самоутверждаться в позиции борца с советской властью, и у него не было иллюзий относительно тех, кто шел на смену прежним руководителям страны.
Еще летом 1991 года, когда повесть вышла, многим казалось, что, как бы ни была сильна и сокрушительна критика власти, существованию СССР ничто не угрожает. Но интуиция подсказывала Полякову: Советский Союз обречен, как уходящая под воду Атлантида, и он смотрел на нее, прощаясь и прощая, стараясь запомнить дорогие черты…
…………………..
…Друг Народов то вскакивал со стула, то снова садился, то вглядывался в часы, которые вынимал из жилетного кармана, а то, выставив свои заячьи зубы, начинал что-то нежно шептать товарищу Бурову. Тот выслушивал его с державной непроницаемостью и медленно кивал. Я огляделся: в комнате, кроме меня и руководства, сидели еще пять человек — четверо мужчин и одна женщина. В проходе, между столами, виднелась ее наполненная хозяйственная сумка, и женщина явно нервничала, так как инструктивное собрание все никак не начиналось, а ей, очевидно, нужно было поспеть в детский сад и забрать ребенка еще до того, как молоденькие воспитательницы, торопящиеся домой или на свидание, начнут с ненавистью поглядывать на единственного оставшегося в группе подкидыша. А может быть, подумал я, она торопится, чтобы забрать ребенка не из детского сада, а из школы, из группы продленного дня? Трудно сказать наверняка: блондинки иногда выглядят моложе своих лет.
— А кого ждем? — решил я прояснить обстановку.
— Вы спешите? — сурово спросил товарищ Буров. — Нет…
— Тогда обождите. Вопросы будете задавать, когда я скажу… В этот миг дверь распахнулась, и в комнату вступила пышная дама лет пятидесяти с высокой, впросинь, прической, еще пахнущей парикмахерской. Одета она была в тот типичный импортный дефицит, который является своеобразной униформой жен крупных начальников.
— Разве я опоздала? — удивилась вошедшая.
По тому, как засуетился Друг Народов, а товарищ Буров привел свое лицо в состояние полной уважительной приветливости, я утвердился в догадке, что вновь прибывшая дама — жена большого человека. Именно жена, для самодостаточной начальницы на ней было слишком много золотища и ювелирщины.
— О чем вы говорите! — вскричал замрукспецтургруппы, целуя Н-ской супруге руку. — Как раз собирались начинать…
— Везде такие пробки… Даже сирена не помогает! — приосанившись, объяснила она.
«3. Пипа Суринамская», — записал я. Это такая тропическая лягушка (ее недавно показывали в передаче «В мире животных»), она, в зависимости от ситуации, может раздуваться до огромных размеров, но, бывает, и лопается от натуги.
— Ну что ж, начнем знакомиться? — радостно выпростав зубы, спросил Друг Народов и выжидающе глянул на рукспецтургруппы, а тот, помедлив для солидности, разрешающе кивнул, как лауреат-вокалист кивает нависшему над клавиатурой концертмейстеру:
— Не возражаю.
(«Парижская любовь Кости Гуманкова»)…………………..
После публикации этой повести про Полякова стали говорить: «Острый писатель кончился, Поляков стесал зубы». А он, напротив, торил свой путь и совершенствовал метод, который стал для него определяющим в освоении действительности и подчинении ее художественному замыслу, — метод гротескного реализма. Владимир Куницын заметил, что, воодушевленный успехом первых повестей, Поляков писал «Апофегей» и «Парижскую любовь…» уже «на публику», заранее рассчитывая на читательский успех. Критик так сформулировал свое впечатление от «Парижской любви…»:
«Уж не знаю, какой у автора юмор — галльский, раёшный, лукавый, но читал я эту повесть о нашей дурацкой жизни, ни разу не оторвавшись и смеясь порой до слез. Тут уж перлы остроумия идут один за одним, сплошным косяком, и не пустого, зубоскального остроумия, что особенно располагает к автору, а опять же прочнейшим образом замкнутого или на психологическую обрисовку персонажей, или на восхитительную совдействительность, оказывается, неисчерпаемую на юмористические сюжеты, если посмотреть на нее тем самым взглядом нормального человека… Описывается в повести поездка нашей тургруппы в Париж. Автор блестяще разработал саму драматургию сюжета, уже в него заложив массу комических возможностей. Кажется, он спрессовал в сюжете все типичные ситуации подобных загранвояжей недавних и «благословенных» застойных времен. Здесь и вычисление всеми участниками поездки обязательного стукача, с взаимными подозрениями (один комический узел), и разнообразнейшая палитра чувств советских людей, впервые столкнувшихся с роскошно гниющим Западом (второй узел), и свой «соскочивший» (невозвращенец), и, как в романах Агаты Кристи, где убийца всегда из самых не подозреваемых, штатный стукач, и трогательная любовная интрига, и Париж, Париж, не подготовленный к сногсшибательной изворотливости поднаторевшего в борьбе за существование светлого ума советского человека!
Что же так привлекает в стиле прозаика Ю. Полякова? Может быть, его виртуозное умение сталкивать в одной фразе живую, разговорную речь с затертыми штампами устойчивых словесных оборотов, которые в этом столкновении приобретают неожиданно смешной и ироничный смысл? Особенно если это штампы из надличностного языка, рожденного в бюрократических потугах аскетического государства».
Заметим, что критик недаром называет произошедшее в Париже с героем не любовью, но «трогательной любовной интригой». Только прочитав повесть, читатель понимает, что уже в самом ее названии скрыта грустная авторская ирония. Ведь отношения Кости Гуманкова с Аллой скорее напоминают робкую попытку любви, и в этом неоформленном и неоформившемся чувстве особенно ярко проявляется характер героя, со всех сторон зажатого обстоятельствами и условностями. Это первый из затем созданной автором галереи образов «диванных мечтателей», людей нерешительных и не нашедших себя в жизни, которые уверенно сменили в произведениях Полякова целеустремленных партаппаратчиков. Это те самые «лишние» для своего времени люди, в которых читатели так часто обнаруживают собственные черты. Своего рода символом подобного человеческого типа стал «диваноборец» Виталик из комедии «Женщины без границ». Но о драматургии Полякова мы еще поговорим. А пока смеем предположить, что этот образ автор тоже выписал «из себя», рассказал о собственном внутреннем опыте, а не о результатах сторонних наблюдений, недаром так много мужчин ассоциируют себя с его героями.
Не сопротивляясь обстоятельствам, далеко не уйдешь либо вообще не сдвинешься с места. В его собственном характере изначально содержалась эта раздвоенность: целеустремленность сочеталась с ленью, активная общественная позиция — с заботой о личном благополучии, преданность однажды сделанному выбору — с жаждой новых впечатлений. Эти парные черты наличествуют в каждом человеке, и каждый справляется с ними по-своему. Поляков избрал самый естественный для него путь: стал проигрывать в своем творчестве варианты судьбы, от которых в жизни осознанно отказался. Но, начиная с «Парижской любви…», он уже не просто делился с читателем историей — он играл с ним в увлекательную игру, а играя, смешил, рассказывал небылицы, столь похожие на правду, что они порой воплощались в жизнь. За этим внешним весельем скрывается по-прежнему серьезный и пытливый взгляд человека, которому не все равно. Но это лишь добавляет остроты поляковскому юмору.
* * *
Непритязательная на первый взгляд история «парижской» любви содержала множество сатирических тем и мотивов, тесно связанных с текущей политической борьбой. И автор явно был не на стороне тех, кто снова хотел капитально изменить страну. Вспомним хотя бы эпилог: невозможно не заметить, что о кардинальных переменах в жизни персонажей, а значит, и общества, произошедших за пять перестроечных лет, автор говорит с явной усмешкой — совершенно не в духе того пораженного перестроечным вирусом времени.
…………………..
…Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать о Париже и моей парижской любви… С тех пор прошло несколько лет. Началось, идет и, видимо, уже никогда не кончится то, что мы самонадеянно именуем Перестройкой. Конечно, специально я не интересовался дальнейшими судьбами членов нашей спецтургруппы, но так или иначе хоть что-нибудь знаю про каждого…
Забавная, но в духе времени, история приключилась с Гегемоном Толей: он все-таки урыл того, кого собирался. Им оказался председатель завкома, часто выезжавший за границу, а по возвращении стращавший рабочий класс ужасами Дикого Запада. Толя зашел к нему в кабинет якобы по личному вопросу и молча дал в глаз. Разумеется, Гегемона строго наказали, сняли с Доски почета, чуть не засудили, а немного позже, когда начались забастовки, Толю как борца с режимом избрали председателем стачечного комитета, еще кем-то и еще кем-то… Короче, теперь на Урале он большой человек вроде Валенсы в Польше…
Торгонавт выпутался-таки из истории с перстнем, хотя ему пришлось одеть в новые перчатки всю шереметьевскую таможню. Говорят, сейчас он председатель кооператива, продающего за рубеж молодой московский авангард.
Друг Народов, как и боялись, вскоре после своего исчезновения объявился на радио «Свобода» и выступил с жуткими разоблачениями. Конечно, все, о чем он рассказывал, мы отлично знали и сами, но услышать это из-за бугра да еще от знакомого человека было приятно. А недавно уже в качестве заезжего фирмача он выступал по нашему телевидению и небрежно советовал нам, как выкарабкаться из кризиса. За годы, проведенные в бегах, он посолиднел, явно себя зауважал и вставил ровные, белые зубы.
.. А вот о Диаматыче я слышу постоянно: он теперь знаменитый публицист и депутат. В своей нашумевшей статье «Сумерки вождей» он, между прочим, утверждает, что если бы в застенках НКВД все твердо говорили «нет», то сталинизм рухнул бы сам собой… Интересно, ждет он моего связного или уже перестал?
Товарища Бурова за всю эту историю поперли с партийной работы. Он страшно переживал, запил, разошелся с женой и даже однажды забрел к нам в «Рыгалето». Мы с ним выпили пивка с водочкой, вспомнили Париж, наше соперничество из-за Аллы, погоревали над его загубленной карьерой… Но жизнь непредсказуема: недавно товарища Бурова признали жертвой застоя, честным аппаратчиком, пострадавшим от партократии, и назначили на хорошую должность в Моссовет.
Пековский стал директором нашего «Алгоритма». Его выбрали на альтернативной основе, предпочтя правдолюбцу Букину. Почему? Ну, во-первых, ему пошло на пользу то великодушество, с которым он помогал мне поехать в Париж. Во-вторых, Пека вовремя развелся с дочкой бывшего зампреда и даже выступил на собрании с разоблачениями этой коррумпированной семейки. В-третьих, нашим вычислительным дамам нравятся дорогие одеколоны Пековского…
(«Парижская любовь Кости Гуманкова»)…………………..
* * *
«…В 91-м, когда еще не развалили Советский Союз, летом, меня пригласили в Париж на презентацию «Парижской любви…», которую выпустили в издательстве «Ашет». После презентации меня позвали на телевизионную передачу «Культурный бульон», очень популярную тогда во Франции… Все деятели культуры, писатели просто мечтали попасть в число ее гостей. И вот меня привозят во французскую студию, сажусь — открывается дверь, и входит «Жофрей де Пейрак», актер Робер Оссейн, пришедший представлять книгу «Человек или Дьявол?». Он садится рядом, и мы выходим в прямой эфир. Я сижу ни жив ни мертв. Вдруг «граф де Пёйрак», фантастический любовник рыжей Анжелики, наклоняется ко мне и по-русски, с легким одесским акцентом спрашивает:
— Колбаса нужна?
Я смотрю на него в испуге. Тут мы уходим на рекламу. У нас тогда еще не было рекламы, а у них была. И я удивленно спрашиваю:
— А зачем мне колбаса?
— Вы же голодаете!
— Нет, вроде не голодаем…
— Странно… Мне говорили: голодаете!
— Откуда вы так хорошо знаете русский?
— Родители из Одессы. Я все-таки дам тебе колбасы.
Мы вышли из рекламы, и ведущий начал пытать меня в эфире с французским изящным ехидством. Больше я никогда с Оссейном не встречался.
В 2005 году мне звонит режиссер Константин Олегов, поставивший фильм «Парижская любовь Кости Гуманкова», и приглашает на премьеру, попутно сообщив, что приготовил сюрприз. Я спрашиваю: «Какой?» — «Увидите».
И вот премьера, сижу и вижу, что он, режиссер, снял себя в главной роли, чему я всячески препятствовал, но, как оказалось, безрезультатно. Думаю: «Ну ничего себе сюрприз!» Когда зажегся свет, режиссер спросил: «Ну и как сюрприз?» — «Какой?» — «А вы разве не узнали?» — «Тебя? Узнал, к сожалению!» — «Да нет, не меня. Вы разве не узнали Мишель Мерсье, «Анжелику — маркизу ангелов»?» — «Какая Анжелика?! Где Мишель Мерсье?» Оказалось, увядшая женщина, ничем не напоминавшая красавицу, волновавшую мое созревающее воображение, в самом деле знаменитая Мишель Мерсье. В фильме она играла учительницу, в доме которой ночуют в одной постели герои повести, и Костя по-рыцарски не прикасается к даме. Как рассказал режиссер, «человек или дьявол» давно ее бросил, в кино она не снимается — не зовут, и Олегов взял ее на роль, потому что стоило это очень недорого. Вот вам удивительное совпадение, которое при желании можно считать мистикой».
А можно — очередной «опоясывающей рифмой».
Но вернемся в 1991 год.
«21 августа я встретил в Коктебеле в Доме творчества. Писатели бурно обсуждали события в Москве. По поводу выскочившего, как черт из табакерки, ГКЧП одни радовались, другие испуганно негодовали. Шумные и веселые до того украинские «письменники» исчезли, словно их депортировали. Местная почта была завалена телеграммами в Москву и Киев в поддержку наведения законного порядка. Один московский поэт Н., кавалер всех орденов, лауреат всех премий и член всех правлений, ходил, потирая руки: «Ну, теперь наведут порядок! Теперь вся эта демократура попляшет!» А когда стало ясно, что путчистов просто подставили, что власть захватил Ельцин и боннэровская ватага, а хитроумный путаник Горбачев вернулся из Фороса на развалины, поэт Н. сел на лавочку перед столовой и заплакал.
— Вы чего? — спросил я.
— Думал, Юра, не доживу! — ответил он, всхлипывая.
— До чего?
— До того, как раздавят гадину!
— Какую гадину?
— Тоталитаризм!»
* * *
У Андрея Гончарова в Театре им. Вл. Маяковского еще в 1989 году решили инсценировать «Апофегей». Длилась эта история целых два года. Автор носил в театр вариант за вариантом, а Гончаров и завлит с пушкинской «фамилией Дубровский их забраковывали. Худрука и завлита не устраивало, что аппаратчики получаются в спектакле не слишком хорошими и даже скорее плохими людьми. «Поймите, Юра, они ведь такие же, как мы с вами, у них жены, дети, матери… Надо найти ключ… Надо еще подумать…» — настаивали в театре.
В конце августа 1991-го, вернувшись из Коктебеля в Москву «победившей демократии», Юрий первым делом помчался в театр: теперь-то все сомнения должны отпасть. Там он нос к носу столкнулся с Дубровским, с которым они не виделись месяц, не больше.
— Ну что, теперь у вас нет замечаний? — не сомневаясь в ответе, спросил Поляков.
— Да что вы, Юра! Ведь вы художник, должны понимать: ваши герои какие-то все обаятельные, добрые, несмотря на то что лютые партократы. А разве они люди? Они мерзавцы! Чудовища, которых надо раздавить…
Так закончился советский период жизни и творчества Юрия Полякова.
Глава вторая МАЛЬЧИК С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЗЛЕТОМ (1954–1973)
Только то в человеке прочно и надежно, что всосалось в природу его в первую пору жизни.
Ян Амос КоменскийЮрий Поляков родился в рабочей семье. Его отец Михаил Тимофеевич был электриком сначала в Мосэнерго, которое располагалось на Балчуге, в Замоскворечье, прямо напротив Зарядья и будущей гостиницы «Россия». Потом, до самой инвалидности, Михаил Тимофеевич трудился на оборонном заводе «Старт», занимавшем чуть ли не целый квартал между Елоховским собором и площадью трех вокзалов.
По отцовской линии род Поляковых происходит из села Деменшина Скопинского района Рязанской области. Михаил Тимофеевич появился там на свет в 1927 году. Видимо, в конце 1920-х, когда началась индустриализация, Тимофей Федорович Поляков и перебрался с семьей в Москву, но очень скоро его жизнь нелепо оборвалась: переходя улицу, он попал под трамвай. По семейному преданию, дед Тимофей был запойный, а когда пил, буянил. Видимо, буйный нрав деда и его преждевременная смерть сказались на характере бабушки Анны Павловны Поляковой, маленькой старушки, страшно мнительной и вечно всем недовольной. Баба Аня сначала работала уборщицей в метрополитене, а в поздние годы, вместе с дочерью-инвалидом Клавдией, клеила на дому бумажные цветы. С Клавой, до этого вполне благополучной и здоровой девушкой, еще в юности случилось несчастье. Она работала на ткацкой фабрике и как-то, возвращаясь с вечерней смены, повстречала хулиганов, сильно ее напугавших (насколько сильно, семейное предание, как говорит Поляков, скорбно умалчивает), и этот случай послужил толчком к развитию у юной ткачихи душевной болезни. На склоне лет она даже была признана недееспособной, и племянник Юрий стал ее опекуном.
Внука баба Аня любила до самозабвения и все сетовала, что тот плохо ест, а он, как истинный пионер, учил старушку грамоте и проявил недюжинные учительские способности, потому что бабушка у него научилась читать, расписываться и даже немножко писать. Умерла она в 1977-м, когда Юра служил в армии, и сейчас уже некого спросить, какой была ее девичья фамилия, откуда она родом и где познакомилась с будущим мужем, — хотя с уверенностью можно предположить, что ее родня тоже проживала в Деменшине, в крайнем случае — в соседнем селе. Похоже, что именно бабушка Анна стала прототипом бабушки Марфуши в романе «Любовь в эпоху перемен», с ее народной мудростью, присловьями и прибаутками.
Оставила бабушка след и в его поэзии: Что за погода, черт возьми: Апрелем пахнет воздух. Весны смешенье и зимы В непостижимых дозах. Капель за окнами стучит, А завтра стужа будет. И бабушка моя ворчит: «Вот ноне так и люди!» (1977)На родине отца Юрий Поляков впервые побывал уже в зрелые годы. Сегодня Деменшино — это крохотная деревня в несколько домов, которая слилась с соседним селом Успенским, но Поляковы — однофамильцы или дальние родственники — живут там по сию пору.
«Моя родня — это рязанские крестьяне, которые несколькими волнами подались в Москву. Мой дед по материнской линии Илья Васильевич Бурминов попал сюда еще до революции. Он служил мальчиком в Сытинской лавке, то есть с детства был связан с книгой. Потом по этой линии и пошел: окончил книжный техникум, работал директором книжного магазина на Бакунинской улице. Я этот магазин застал, он стоял недалеко от того места, где теперь туннель Третьего кольца, возле уцелевшей старообрядческой церкви, где прежде располагалась секция бокса, куда я ходил, кажется, в восьмом классе — до первого нокаута. А домишки XIX века, в том числе и тот, одноэтажный книжный магазин, простояли там до середины 1970-х и были снесены, когда началась застройка Бакунинской улицы многоэтажками.
Мальчиком я покупал в магазине книги на сэкономленные от обедов деньги, получал подписные тома Детской энциклопедии и с гордостью нес домой. Там долго работала старушка, помнившая деда. Меня она знала (мама познакомила) и каждый раз восклицала: «Как же похож на Илью Васильевича!».
Деда Юра никогда не видел: в 1941-м тот был еще вполне призывного возраста и сразу получил повестку, но до фронта не доехал: пропал без вести. Согласно семейному преданию, немцы разбомбили эшелон, в котором дед следовал на фронт. Кстати, в кровавой неразберихе первых месяцев войны подобная судьба постигла многих призванных в армию — солдаты погибли, ни разу не выстрелив во врага. Спустя годы Юра напишет об этом в стихотворении «Мой фронтовик»:
До фронта не доехал он, Дорогой не прошел победной. Взлетел на воздух эшелон — И стал воспоминаньем дед мой. Вот он стоит передо мной — Русоволосый, сероглазый Солдат, шагнувший в мир иной, Так и не выстрелив ни разу… Война! Ты очень далека. Но вечно близок День Победы! И в этот день я пью за деда — За моего фронтовика!Родной брат деда Иван Васильевич пошел по той же линии, окончил книжный техникум. Так это обычно и бывает: кто-то из деревенских устроится на новом месте и тянет за собой родню. Иван Васильевич всю жизнь проработал в системе, которая называлась «Книга — почтой». И хотя он жил долго и умер в 1978 году, Юра с ним виделся редко, в основном на семейных праздниках. А когда Ивана Васильевича не стало, Юре передали, что тот оставил ему свою библиотеку. Внук тут же помчался ее забирать, сожалея, что не заказал машину. А приехав, обнаружил, что библиотека человека, всю жизнь проработавшего с книгами, состояла из более чем скромной стопки: восьмитомника «Тысячи и одной ночи», «Декамерона» и первого после долгого перерыва, 1955 года издания, бирюзового томика Есенина. Но и эти книги представляли для Юры великую ценность: все они в те времена входили в разряд остродефицитных.
Бурминовы были родом из деревни Гладкие Выселки Захаровского района той же Рязанской области. Женился дед Илья Васильевич на местной, Марье Гурьевне Чивиковой, привез жену в Москву, и они жили с ней на Овчинниковской набережной, где им дали комнату в небольшом деревянном доме с палисадником. У них было две дочери: Валентина и Лидия, будущая мама героя этой книги.
Не так давно Юрий Поляков побывал на родине деда и бабки в Гладких Выселках. «Когда-то это была огромная по нашим среднерусским представлениям деревня, — рассказывает он, — где проживали больше тысячи человек. Пока искал родню, выяснил, что Бурминовых там называли Барминовы. Дом Вассении Чивиковой был на одном конце деревни, а дом Минодоры Барминовой — на другом. Дед Гурий Егорович Чивиков, отец бабушки Мани, погиб, кажется, в германскую. А вот дед Василий Карпович Барминов умер в 1934 году. Именно он еще задолго до революции пришел в Москву и стал работать в типографии Сытина, куда потом определил сыновей Илью и Ивана. Мать и тетка часто вспоминали пруд, на который выходил окнами дом и огромный сад бабушки Васёны. Пруд еще остался, но сама деревня усохла, сжалась до десятка домов, занимая четверть от одной из своих прежних улиц. Кое-где видны еще остатки садов, а пруд теперь оказался вдалеке от деревни: Дома вокруг него не сохранились. Заросший пустырь».
Не дождавшись писем от ушедшего на фронт мужа и получив в конце концов извещение, что тот пропал без вести, Марья Гурьевна после войны вышла замуж за Жоржика, деда Георгия. Вот как вспоминает о ней Поляков: «Бабушка Марья Гурьевна тоже была неграмотной, такой и осталась до конца жизни, но во всем остальном являла собой полную противоположность бабушке Анне: крупная, спокойная, жизнерадостная. Если баба Аня после гибели мужа даже не пыталась наладить личную жизнь, сурово осуждая женщин, которым это удавалось, то Марья Гурьевна ее бурно налаживала. Она жила с Жоржиком, фронтовиком, которого я и считал дедом, а после его внезапной смерти в 1964-м от инфаркта, погоревав, раза три сходилась-расходилась с другими пожилыми кавалерами, пока не дожила до старушечьей безмятежности. Умерла она в 1989 году».
Отголоски конфликта между двумя бабушками, по-разному понимавшими вдовью честь и долю, нашли отражение в семейном романе «Замыслил я побег…». Правда, «строгая» бабушка вобрала в себя еще и черты Елизаветы Михайловны, свекрови старшей дочери Бурминовых Валентины, в замужестве Батуриной. Елизавета Михайловна происходила из обрусевших немок, была хорошо образованна и до революции служила гувернанткой в богатых домах. Приезжая в гости к тете Вале в коммунальную квартиру на четвертом этаже старинного дома, построенного великим Казаковым (угол Большого и Малого Комсомольских переулков), Юра с удивлением рассматривал альбом со старыми фотографиями, запечатлевшими солидных мужчин в котелках и дам в затейливых шляпках. Эта неведомая родня относилась к линии дяди, Юрия Михайловича Батурина, военного музыканта, в свободное от службы время игравшего в джазовом оркестре. По обмолвкам взрослых можно было догадаться, что отца Ю. М. Батурина репрессировали. Но когда и за что — не понятно. Хлебнувшее лиха поколение не любило распространяться на такие темы.
В судьбе мальчика тесно переплелись, влияя на его формирование, самые разные семейные традиции и уклады. Так, на летние месяцы семь лет подряд Юра ездил на родину деда Георгия в Селище под Кимрами. Эти места, как и речка Колкуновка, подробно описаны в романе «Грибной царь». Знание деревенской жизни и живой народной речи пришло к будущему писателю именно по этой линии.
Когда деревянный дом на Овчинниковской набережной снесли, а на его месте построили позднюю, без архитектурных излишеств, сталинскую многоэтажку, бабушка Маня получила неподалеку комнату на восьмом этаже надстроенного дореволюционного доходного дома. Но это случилось в середине 1950-х. А во время войны вся семья ненадолго уезжала в эвакуацию, запомнившуюся как тяжелое испытание. С раннего детства Юра слышал рассказы о продовольственных карточках, которые страшно было потерять, о вкусных котлетах из картофельных очисток, о бомбежках и жизни впроголодь. Наверное, именно по этой причине Лида Бурминова, окончив школу, продолжила учебу не где-нибудь, а в пищевом техникуме. В то время среднее, среднее специальное и высшее образование было платным, и в столице плата за обучение была выше, чем в других городах страны, но все же вполне доступной для всех слоев населения.
На Маргариновый завод в Балакиревском переулке Лида Бурминова попала по распределению, вернувшись с практики из Воронежа, а через несколько лет, после замужества и рождения ребенка, ей дали комнату в расположенном рядом с заводом общежитии. Там, в доме номер один по Балакиревскому переулку, и прошло Юрино детство.
Родители его познакомились еще школьниками, в конце войны, когда Бурминовы вернулись из эвакуации. Оказались в общей дворовой компании: от того места на Маросейке, где жил Михаил, до дома Лидии на Овчинниковской набережной было минут 15–20 ходу. Михаила в конце войны чуть не забрали на фронт, даже обмундирование выдали, но потом было решено распустить призывников его года по домам. Во всяком случае, согласно семейному преданию, сестры Лида и Валя ходили провожать Мишу в военкомат.
Романтическая любовь, как правило, долгой не бывает и редко перерастает в глубокое чувство. Вскоре Михаила призвали в армию, а Лида окончила школу и поступила в техникум. И вряд ли оба думали, что детское знакомство определит всю их дальнейшую судьбу.
Тогда в сухопутных войсках служили три года, а Михаил отдал армии почти четыре — долго не увольняли в запас: после Фултонской речи Черчилля обострилась международная обстановка, и вчерашние союзники вполне серьезно рассматривали варианты ядерных ударов по лежавшему еще в руинах Советскому Союзу. Но воевать отцу не пришлось, к великому огорчению родившегося много лет спустя сына. Вот как он описал это в стихах:
А мой отец не побывал на фронте. Сказал майор, взглянув на пацана: — Вот через год, когда вы… подрастете… — А через год закончилась война. А через год уже цеха гудели. И мой отец не пожалел трудов, Чтоб на российском, выдюжившем теле Белели шрамы новых городов. Но мирные заботы уравняли Хлебнувших и не видевших огня, И в нашем общежитии в медали Своих отцов играла ребятня. На слезные расспросы про награды Отец читал мне что-то из газет. — Не приведи! Но если будет надо, Заслужим, а пока медалей нет! — Я горевал. А в переулке сонном Азартно гомонил ребячий бой, Но веяло покоем, миром, словно Не выдохшейся майскою листвой. И мне, над кашей бдевшему уныло (Пока не съем — к ребятам не пойду!), Все реже, реже мама говорила: — Эх, нам в войну такую бы еду! — …Тянулись дни, и годы пролетали, И каждый очень много умещал. И я забыл, взрослея, про медали, Да и отец уже не обещал. Но каждый раз, услышав медный голос (Наверно, доля наша такова!), Отец встает. Но речь опять про космос За холодящим — «ГОВОРИТ МОСКВА…».Пока Михаил служил, Лидия, отучившись, прошла в Воронеже практику и получила распределение в Москву. Когда же, демобилизовавшись, Михаил Поляков вернулся, через какое-то время они встретились, то ли случайно, то ли в прежней, но уже повзрослевшей компании, и юношеское чувство вспыхнуло с новой силой.
Михаил вместе с сестрой и матерью жил в двухэтажном доме на углу Маросейки и улицы Архипова (ныне Большой Спасоглинищевский переулок), в двенадцатиметровой комнатке без окон. Это непритязательное здание, по-видимому, относящееся к первой трети XIX века, когда Москва спешно застраивалась после наполеоновского пожара, сохранилось и поныне, там теперь магазины и офисы. Сюда Михаил привел молодую жену, сюда же они с Лидией принесли из роддома, который находился напротив Немецкого кладбища в Лефортове, сына-первенца. Жили, конечно, скученно — так же как и большинство простых москвичей.
Появился ребенок на свет не 12-го, как это записано в свидетельстве о рождении и паспорте, а рано утром 13 ноября 1954 года: Лидия Ильинична, хотя и была членом партии, верила в дурные приметы, и ей удалось уговорить персонал роддома (кажется, трешницу кому-то сунула), чтобы сына записали 12-м числом. Лидия Ильинична всю жизнь проработала на Московском маргариновом заводе: технологом, начальником первого в Москве майонезного цеха, начальником Бюро рационализаторских предложений — было при социализме и такое. В партию она вступила в Воронеже, когда недолго работала там секретарем райкома комсомола: в ней смолоду кипел общественный темперамент, полученный затем по наследству сыном. Помимо основной производственной нагрузки она и позднее постоянно занималась общественной работой, став в итоге секретарем партийной организации своего маленького завода.
Конечно, партийным родителям и в голову не пришло крестить младенца: кто ж тогда хотел неприятностей по партийной линии! О крещении позаботились бабушки: составили между собой целый заговор и втихаря понесли туго запеленутый сверток в храм на Елоховской улице. Но там их ожидало разочарование. В кафедральном соборе священники не могли совершить это таинство без свидетельства о рождении и паспортов родителей. Тогда молодые бабушки (а обеим не было еще и пятидесяти) отнесли внука в другую церковь — то ли присоветовал кто, то ли сами сориентировались, но вот в какую — неизвестно. Когда уже взрослому внуку захотелось это выяснить, спросить было уже некого. Правда, действующих церквей в столице в те годы оставалось совсем немного. Не исключено, что окрестили Георгия в одном из храмов в районе Пятницкой улицы: там поблизости проживала Марья Гурьевна.
Со слов бабушек известно, что, когда священник собрался погрузить младенца в купель, тот крепко ухватил его за бороду, и батюшка с улыбкой изрек, что мальчик непременно станет большим человеком. В очередной раз слушая на домашних посиделках эту семейную историю, внук-комсомолец, осведомленный о лукавстве служителей культа, снисходительно заключал, что батюшка был, видимо, не прост: и крестным угодил, и душой не покривил, ведь маленький человек непременно рано или поздно вырастет и таким образом станет большим. Правда, при этом в глубине его крещеной души теплилась смутная надежда, что большим он все-таки станет совсем в другом смысле, и ради этого он готов был много и упорно трудиться.
В своем проступке — тайном крещении внука — бабушки признались Лидии не сразу, а несколько месяцев спустя, и та страшно переживала, ожидая серьезных неприятностей по партийной линии: ведь в церкви, пусть и со слов бабушек, а не по документам, данные об отце и матери младенца, как и положено, записали. Теперь-то общеизвестно, что такие «проступки» совершали не только Юрины бабушки, и никто не может привести фактов, свидетельствующих о том, что родителям крещеных детей приходилось отвечать за это партбилетом или выговором. Во-первых, как ни убеждает нас в обратном ополчившаяся на православную церковь либеральная пресса, священники на своих прихожан не доносили. Во-вторых, как полагает сам Поляков, многие «карательные слухи» советская власть распускала про себя намеренно: это было действенное средство в борьбе новоявленной коммунистической идеологии с тысячелетним религиозным сознанием народа. Верить в Бога было можно, но втихомолку, а демонстративно стоять в храме со свечкой могли только старушки в платочках, так же как читать прилюдно долго не издававшееся при советской власти Священное Писание и другие отравленные «опиумом для народа» книги. В позднюю советскую эпоху власть смотрела снисходительно даже на освящение на Пасху куличей, а из всевозможных православных организаций ее беспокоили лишь те, что объявляли своей священной целью борьбу с коммунизмом. Кстати, как позднее выяснилось, внуки и правнуки членов политбюро тоже оказались крещеными, исключая, видимо, адептов иных конфессий. Интересно, их-то какие бабушки крестили, неужто жены высшей партийной элиты?
Литературное поколение Полякова формировалось в ту пору, когда советский богоборческий пыл уже охладел. Но и тогда религиозную литературу достать было непросто. У Юры Библия была: огромную книгу в телячьей коже, изданную в начале века, подарила внуку бабушка Марья Гурьевна. Много позже этот эпизод найдет отражение в пьесе «Одноклассники». Понимая, что стал владельцем воистину диковинной книги, книгочей Юра с особым вниманием читал то, что особенно впечатляло подростка, например эротическую Соломонову «Песнь песней» — до метафизики он еще не дорос. Кстати, в ту пору в серии «Библиотека атеиста» стали выходить достаточно взвешенные работы по истории религии, например знаменитая «Жизнь Иисуса» Эрнеста Ренана. А в конце 1960-х вся страна зачитывалась «Библейскими сказаниями» польского литератора Зенона Косидовского.
В доме на Маросейке у бабы Ани Юра жил до двух с половиной лет и из того времени смутно запомнил лишь цветастую занавеску, отделявшую закуток, который занимала их маленькая семья. Еще запомнилось, что в потолке этой комнаты без окон было выходившее на чердак оконце. Крохотному мальчугану казалось, будто он видел, как в пыльном оконце временами мелькали тени: маленькая и большая, мышка и кошка. А может, так ему говорили взрослые, когда укладывали спать.
Вскоре Лидии Поляковой дали комнату в общежитии Маргаринового завода в Балакиревском переулке, рядом с товарными путями Казанской железной дороги, Казанки. Пожилые люди называли переулок по-дореволюционному — Рыкунов. Здесь Юра провел уже целых 12 лет. Это был старинный трехэтажный особняк с парадной лестницей, мозаичными полами, остатками наборного паркета, каминами и лепниной на потолке. Двор закрывали огромные, как в рыцарском замке — так казалось местным мальчишкам, — железные ворота с метровым засовом. Как тут было не играть в рыцарей! Тем более что по телевизору они уже смотрели фильм «Александр Невский», и не раз. А кое-кто умудрился побывать в кинотеатре на польских «Крестоносцах» по одноименному роману Генрика Сенкевича, хотя вообще-то дети до шестнадцати на него не допускались. У дворовых рыцарей были свои доспехи, изготовленные из больших жестяных банок, в которых на завод привозили китайский яичный порошок, необходимый для производства майонеза. Мальчишки таскали их с завода и вырезали из податливой жести нечто похожее на шлемы и латы.
Но чаще всего они играли в «Чапаева», то есть в белых и красных, или в войну. Вот как он вспоминал об этом в повести «Работа над ошибками»: «…мы носились на самокатах с подшипниковыми колесиками, изображая летучий эскадрон, призванный успеть спасти тонущего Чапаева… <…> после наших самокатных гонок из-за вибрации тарахтящих по асфальту подшипников затекала нога, нужно было садиться на газон и терпеливо ждать, пока вместе с игольчатым покалыванием в тело вернется движение».
Кстати, на роль «белых» кто-то еще и соглашался добровольно, а вот «фашистами» становиться никто не хотел. Обычно проблема решалась с помощью считалочки:
Эники-беники ели вареники, Эники-беники клёс, Вышел пузатый матрос!Или вот такой:
На золотом крыльце сидели Царь, царевич, король, королевич, Сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Говори поскорей, Не задерживай добрых И честных людей.Мальчишки целыми днями гоняли по двору мяч, играли в прятки и казаки-разбойники, девчонки прыгали через веревочку или чертили на асфальте классики и скакали по клеткам, бросая биту: плоскую жестяную баночку из-под гуталина, заполненную песком. Еще девочки делали секретики: тайно зарывали в клумбе или под кустом, накрыв стеклышком, фольгу, фантик от конфеты или цветочек, — а мальчишки непременно находили и разоряли эту красоту.
Вот как описывал двор своего детства поэт Юрий Поляков:
Давайте чаще думать о вчера — Ведь мы вчера сегодняшними стали. Из детского забытого двора Ведут пути в немыслимые дали. Двор маленький и нам уже в упор. В таком от дружбы никуда не деться: Обремененный шпагой «мушкетер» Бросает вызов рыжему «индейцу». Уже в игре возможно различить И неучей, и будущих ученых: Одна занозы пробует «лечить», Другой уже косится на девчонок. Один всегда шатается без дел, Второй чуть что — размазывает слезы, А третий где-то что-то подглядел И мелом на стене строчит доносы. Уже есть правдолюбцы и лжецы, Есть трусы, огражденные отцами, Есть мальчик, сочиняющий концы К историям с печальными концами… И все с опаской смотрят за забор, Где слышен шум автомобилей грозных, Где строгий светофор глядит в упор И где запрещено гулять без взрослых. И невдомек смышленой детворе, Что там все те же — радости, напасти И что на роковой проезжей части Законы те же, что и во дворе…На первом этаже особняка располагалась заводская столовая, а на втором и третьем — собственно общежитие. «Это был, как я теперь понимаю, интернационал, — вспоминает Юрий Поляков. — Там жили русские, татары, евреи, латыши, украинцы, сейчас уже всех не упомнить. И в классовом смысле наблюдалось у нас большое разнообразие: по некоторым приметам могу сказать, что кое-кого из жильцов вполне можно было причислить к «бывшим». Если и не дворяне, то, по крайней мере, представители купеческого сословия. Пожилая наша соседка Алексеевна иногда заманивала меня в свою комнату конфеткой, поила чаем и показывала альбом с порыжелыми фотографиями. «А это я!» — гордо указывала она на девочку с огромным бантом, сидящую верхом на пони». Еще она показывала тарелочку с царскими вензелями — из тех, что бесплатно раздавали на Ходынке во время коронации Николая II. Спустя 25 лет, глядя из окна своей новой квартиры на обширное Ходынское поле, превратившееся в экспериментальный аэродром, Юрий Поляков в воображении рисовал картину жуткой давки, в которой погибли и были покалечены около двух тысяч человек. За это происшествие непричастный к нему царь и получил свое прозвище Кровавый.
Семье Поляковых повезло: в общежитии им дали комнату на втором этаже, в бывшей господской части, с высокими потолками и лепниной; на третьем потолки были значительно ниже и никаких украшательских излишеств там не наблюдалось. Собственно, первоначально на втором располагалась огромная зала, в которой когда-то давали, наверное, балы и которая в советское время превратилась в маленькие семейные комнатки, вмещавшие в себя все радости и горести обычных советских людей. В смысле удобств на втором и третьем этажах все было одинаково: кухня с умывальником, а на первом — туалет с мужским и женским отделениями, один на все общежитие.
Вот как описывает это житье Поляков:
…………………..
…Когда грабили награбленное, дом [купца-оптовика] наскоро переоборудовали под коммунальное бытие. Впрочем, поначалу совсем недолго в здании помещался районный комитет левых эсеров — скоротечных союзников большевиков. Без сомнения, сюда в сверкающем, как светлое будущее, лимузине наезжала «эсеровская богородица» Мария Спиридонова. Специалисты по отстрелу великих князей, эсеры, увы, не владели подлинно научным методом борьбы за власть. Это их и погубило. Вскоре после июльского мятежа 1918 года особняк «купчины толстопузого» отдали рабочим Второго молокозавода. Необъятный жилфонд, где, бывалоча, маялся дурью богатый оптовик, говоривший на четырех языках и коллекционировавший Матисса, при помощи фанерных перегородок поделили на тридцать восемь комнаток. С тех пор если одна семья наслаждалась кудрявой головой лепного купидончика, грозившего пальчиком с потолка, то другая ячейка общества имела перед глазами более прозаические части оного тельца. Когда же в субботу вечером все хозяйки разом начинали стирать белье в одинаковых оцинкованных корытах, по коридорам общежития полз такой густой туман, что ходить можно было только ощупью. В остальные дни корыта в три ряда висели на стенах, словно щиты предков в рыцарском замке.
…Мы делили двор с заводской столовой, поэтому он всегда был завален пустыми ящиками, коробками, картофельной шелухой, а в здоровенных алюминиевых кастрюлях заветривались свежеоскобленные ребра и мослы. Казалось, наряд милиции недавно спугнул компанию подгулявших людоедов.
(«Ветераныч»)…………………..
Здесь, на ящиках, и собирались обычно мальчишки, чтобы решать свои серьезные дела. Денег ни у кого из них не было, как правило, не было и игрушек, а им до жути хотелось разжиться всякими мальчишескими сокровищами, и потому у них было принято меняться. В ход шли марки, старинные монеты и даже боевые награды, заметив исчезновение которых отцы-фронтовики обычно ограничивались подзатыльником, потому что сами частенько отдавали ордена и медали детям для игр. Но попадались мальчишкам и бесхозные награды, оставшиеся от тех, кто ненадолго пережил войну…
Видимо, именно тогда Юра, которого так огорчало отсутствие у отца боевых орденов и медалей, начал собирать конверты с изображениями Героев Советского Союза — была у Союзпечати такая серия. Причем не просто собирать — а непременно выяснять, за какой подвиг героя наградили и какова была его судьба. Где теперь те конверты? Бог весть…
Мужики, среди которых было немало фронтовиков, по воскресеньям рассаживались во дворе на скамьях за добротным широким столом и играли в домино, а временами, отложив костяшки, до хрипоты спорили, кто умнее, Сталин или Жуков, и где опаснее на войне, в танке или пешкодралом. Говорили они и о политике, но так, что мальчишки ничего понять не могли. Особенно горячими были споры в конце пребывания у власти Хрущева, потому что жизнь тогда заметно ухудшилась, с хлебом и мукой наблюдались перебои, а порой и кастрюлю либо детское пальтецо негде было «достать». В те времена как раз вошли в обиход эти два слова, «достать» и «выбросили» — не в смысле бросили, а в смысле выложили на прилавок. Но при этом столица не голодала, а советские достижения, особенно в области космоса, неизменно добавляли оптимизма людям, привычным к житейским трудностям. На XXII съезде говорили, что через 20 лет уже наступит коммунизм. Недолго оставалось потерпеть.
Правда, с января 1961-го была проведена деноминация, а на самом деле — девальвация рубля: один новый рубль приравнивался к десяти старым. И люди долго привыкали к непривычным — и слегка подросшим — ценам, постоянно уточняя, сколько это будет «по-старому».
«Многие были из деревень, — вспоминает Юрий Поляков, — и потому в эту среду естественно перешла деревенская простота общения. Совершенно нормальным считалось, скажем, когда мальчишки играли в коридоре, спросить: «Мать где? В ночную смену? Пошли, поужинаешь с нами».
Отношения были добрые не только к детям: скандалов и прочих буйств в общежитии почти не случалось. Разве какая-нибудь хозяйка начнет громко стыдить в коридоре перебравшего и припозднившегося мужа. От одной мысли, что их слышит все общежитие, мужикам становилось не по себе, и они старались больше на выяснения не нарываться. Может, когда коммунальный быт только начинал складываться, где-то и случались безобразия, но не в заводском общежитии, потому что это как казарма: тут либо порядок, либо бардак».
Если и попадались временами неряшливые соседи, их быстро учили уму-разуму: раз на них наорут, что кастрюлю не туда поставили, два, — а до третьего раза уже не доходило: ведь проще все делать как надо, чем постоянно выяснять отношения с местными тетками. Согласно установленному дежурству хозяйки по очереди убирались в местах общего пользования, а потому обитатели общежития непременно блюли чистоту.
«Впрочем, всякое бывало, — рассказывает Юрий Поляков. — У наших соседей Чаругиных был родственник, который, выпив на праздник, начинал буянить и угрожать, что наложит на себя руки. Все этого страшно боялись, но водки ему почему-то наливали, зато потом вязали полотенцами, иногда в этих целях занимали полотенца и у нас. Однажды, в очередное буйство, он схватил с кухонного стола нож и приставил к сердцу: вот-вот зарежется… На шум из комнаты вышла моя мама, всплеснула руками и сказала: «Это же наш нож! Новый! Отдай немедленно!» Он отдал нож и заплакал… Насмешливый дядя Коля Чаругин, в прошлом танкист-фронтовик, а в ту пору начальник бондарного Цеха, эпизод запомнил и впредь, если родич начинал буянить, ехидно интересовался: «Может, ножик для тебя у Лидии Ильиничны попросить?» Тот смущался и стихал…
Бытовых неудобств я не чувствовал, не воспринимал, хотя на это большое общежитие приходилось всего по два унитаза в мужском и женском туалете. Душа вообще не было, детей мыли в оцинкованных корытах, висевших по стенам, подобно рыцарским щитам. Те, кто постарше, ходили в Доброслободские бани у метро «Бауманская», а если «по-быстрому», нас пускали вечером в душевые завода, благо проходная в двух шагах. Вместо мыла мы использовали заводской соапсток — специальную эмульсию для мытья майонезных банок. Отмывал он все, включая родимые пятна.
Умывальники были на двух кухнях и в постирочной комнате. Году в 1965-м, когда уже родился мой брат Саша, общежитие начали постепенно расселять. В числе первых освободилась комната, в которой жила с семьей главный технолог завода Галина Коровяковская, и там, за небольшой выгородкой, был свой умывальник. Очередь в туалет или умыться была для всех обычным делом, и когда нам дали эту комнату с умывальником, на который была надета оранжевая резинка, мне это представлялось головокружительным комфортом».
В каком-то смысле патриотическое воспитание Юриного поколения совершалось естественно, через общение с живыми участниками войны: можно было послушать их рассказы, потрогать протез ноги, потерянной на Курской дуге, подержать в руках настоящий десантный нож, отправивший на тот свет немало фрицев. Пионерская дружина 348-й школы носила имя Героя Советского Союза Александра Лукьянова, совершившего в январе 1942 года таран в небе над Волховом. По ходатайству школы его имя присвоили переулку, в котором потом расположился Бауманский РК ВЛКСМ (по его путевке Лукьянов был направлен в школу летчиков), описанный в повести «ЧП районного масштаба». Юра Поляков пионером присутствовал при торжественном переименовании переулка, чувствуя свой вклад в увековечение памяти о герое.
…………………..
…Когда одну из комнат на первом этаже школы отдали под Музей боевой славы, нам объявили: тот, кто сдаст в музей больше всех экспонатов, поедет в Волхов возлагать венки к могиле летчика Александра Лукьянова в день его рождения. С заездом в Ленинград, разумеется. В ту пору бесхозных медалей, пряжек, пилотных звездочек, гильз и прочего у пацанов было завались, поэтому мудрые организаторы усложнили задачу: к каждому дару должен непременно прилагаться мемуары написанный рукой фронтовика. Мысль найти больше всех экспонатов для музея овладела мной, как благородная, но мучительная болезнь.
В нашем общежитии фронтовики были. Они тогда были везде. Первым делом я обратился к дяде Коле Чаругину — наши комнаты располагались рядом. Бывший танкист сразу понял меня и одарил удивительной вещью — карандашом-фонарем, позволявшим писать в темной утробе танка боевые рапорты. После недолгих уговоров он разборчивым подчерком написал о том, что особенно запомнилось ему в боевой жизни. А запомнился ему тот день, когда их полк стал гвардейским. Видимо, так оно и было. К чему лукавить перед малолетним соседом? Полночи я ворочался, борясь с соблазном не отдавать дивный карандаш-фонарь в музей, а оставить себе в личное пользование, но чувство пионерского долга, усиленное мечтой о Ленинграде, все-таки победило.
Вторым фронтовиком, к которому я побежал с просьбой, был безногий инвалид Бареев со второго этажа. Он любил поговорить с детьми о войне и, услышав мою просьбу, прослезился — давно мечтал оставить что-то в назидание грядущим поколениям. Правда, никаких фронтовых вещичек, кроме медалей, у него нет, а их отдавать не положено. Но мемуары он напишет с удовольствием. Я,тяжело вздохнув, сказал, что подожду…
С одним-единственным даром надеяться на Волхов и Ленинград было смешно, и я решил совершить невероятное — выпросить что-нибудь у Комкова, тоже фронтовика, даже офицера, правда, после войны сидевшего в тюрьме. К тому времени он вернулся в семью, многочисленную и шумливую, как цыганский табор. Если кого-то в общежитии хотели обвинить в неряшливости, разгильдяйстве или скупости, то говорили: «Ну, у вас как у Комковых!» Когда, подловив Комкова утром у дверей, я попросил дать экспонат для музея вкупе с мемуаром, он посмотрел на меня так, точно я, третьеклассник, канючу у него на водку. Но я не отставал, караулил возле умывальника, стерег у туалета, одного на всех, встречал с работы… Наконец он сдался, выругался и вынес мне вполне сносную полевую сумку с рваным следом от осколка.
— А воспоминание?
— Какое еще воспоминание?
— О ваших подвигах.
— О подвигах… ладно, подумаю… — смутился он. — Потом как-нибудь…
— Мне завтра надо! Я подожду!
— Тебе, парень, дознавателем работать!
Через час я вернулся в нашу комнату счастливым: два дара с воспоминаниями у меня имелись, а значит, и шанс поехать в город на Неве.
— Тебя Бареев три раза спрашивал! — рявкнул отец, увидев меня. — Сходи, а то скачет на одной ноге туда-сюда. Будит!
Я вздохнул и пошел забирать невольные мемуары. Написал он много, целую тетрадку: от призыва до ранения, во всех подробностях. Я чувствительно поблагодарил.
— Знаешь, я тут подумал, — вдруг сказал он. — Медали, конечно, я тебе не отдам, а вот «Ворошиловского стрелка» забирай! Э-эх! — Бареев протянул мне очень похожий на орден витиеватый знак с фигуркой красноармейца, стреляющего из винтовки.
Влетев в комнату, осиянный, я узнал, что в мое отсутствие прибегала скандальная жена Комкова, требовала назад полевую сумку, но отец, в тот день трезвый, а значит, злой как черт, сказал ей что-то такое, отчего она исчезла.
…Через две недели я нес венок к могиле летчика Лукьянова на кладбище возле Волховской ГЭС. Бойцы палили в воздух из карабинов с примкнутыми штыками. Мать героя плакала и поправляла черную ленту. А через пару дней я уже ел изумительный ленинградский пломбир наблюдая «Невы державное теченье».
Много-много лет спустя, вспомнив тот бареевский знак отличия за меткость, щедро подаренный школьному музею, я вставил упоминание о нем в сценарий, называвшийся сначала «Женщина по средам», как и одноименная повесть Виктора Пронина, превращенный талантом Станислава Говорухина в знаменитый фильм «Ворошиловский стрелок».
(Из неопубликованного. «Повесть о советском детстве»)…………………..
Люди тогда очень много работали. С восьми утра до пяти вечера на улицах можно было встретить только стариков, инвалидов, «декретных» женщин — с животами или колясками — и детей школьного возраста, порой вместо уроков направлявшихся смотреть кино. Вагоны метро в эти часы ходили полупустые, свободно было и в наземном транспорте. Зато вечером на неярко освещенных улицах появлялась толпа однотонно и безыскусно одетых трудящихся — рабочих и служащих, торопившихся домой либо в магазин, за простой и общедоступной едой: хлебом, молоком, колбасой.
На пятидневку страна перешла только в 1967-м, до этого была шестидневная рабочая неделя, то есть у родителей и детей был всего один день на домашние дела и развлечения: ритм жизни был жестким, как и сама жизнь.
Интеллигенции в общежитии почти не водилось, хотя людей, предававшихся культурному досугу, было достаточно. Например, еще одна соседка Поляковых, Серафима Калинова, работавшая в заводоуправлении, запойно читала книги, и не какие-нибудь романы, а, например, серию «Жизнь замечательных людей», тома которой в сереньком переплете Юра впервые увидел именно у нее. Став постарше, он любил заходить к соседке, чтобы обсудить прочитанные книги. Родители знали: если пальто на вешалке, а сына в комнате нет, значит, он или на чердаке играет с Мишкой Петраковым в «тимуровцев», или обсуждает с тетей Симой проглоченный накануне роман Беляева…
В единственный выходной семейные вылазки в музей или театр случались редко. Женщины обстирывали домочадцев, на всю неделю готовили еду, а мужики возились с каким-нибудь мелким домашним ремонтом или под окнами лихо забивали «козла». И все же культурная жизнь имелась и в общежитии — благодаря так называемому сектору соцкультбыта профсоюзной организации. Летом чуть ли не в каждый выходной организовывались так называемые массовки: за счет завода трудящихся возили на автобусах по музеям и усадьбам Подмосковья, а осенью — в лес по грибы.
«Возвращаясь, скажем, из музея Чайковского в Клину, — вспоминает Юрий Поляков, — мы останавливались на опушке, расстилали одеяла, скатерти, раскладывали снедь, откупоривали бутылки… Потом пели:
На побывку едет Молодой моряк — Грудь его в медалях, Ленты в якорях.Или:
Сладкая истома, Черемухи цвет… Усидишь ли дома В восемнадцать лет!Директор Маргаринового завода в массовках, как правило, не участвовал: ссылался на больной позвоночник. Впрочем, поговаривали, что, имея привычку приударять на службе за сотрудницами, он побаивался, как бы мужья на выезде, выпив, не поквитались с ним за домогательства. Зато прочее заводское начальство ездило с удовольствием и в обязательном порядке. И это естественно: советское общество было тогда довольно однородным, резкое расслоение началось позже.
Надо признать: Советская власть радела о просвещении народа. Куда только не увлекали массовки заводчан! Недавно меня пригласили в Переславль-Залесский, где я ни разу, кажется, не был. Но когда я поднялся к ботику Петра и тайком от смотрительницы коснулся его окаменевших деревянных боков, вдруг понял: я уже был здесь, давно, в детстве, и даже вспомнил, как меня отругали за то, что трогал реликвию рукой».
Отец Юры Михаил Тимофеевич был кудрявый красавец, в молодости походил на актера Всеволода Ларионова, исполнявшего главную роль в фильме Леонида Лукова «Пятнадцатилетний капитан» (1945). Но учиться он не хотел — обычного для советского человека социального честолюбия у него не наблюдалось. Немного увлекался фотографией, щелкал «ФЭДом», время от времени сам печатал снимки, растворяя в специальных баночках проявитель и закрепитель и высушивая фотографии, раскатав валиком на зеркале шкафа или оконном стекле. Но главным его занятием, как говорила с досадой мама, было лежать на диване. Она ничего не могла поделать с тем, что муж, придя с работы, тут же принимал горизонтальное положение — и больше ему как будто ничего и не надо. Не был отец и страстным болельщиком, игроком или «юбочником», даже выпивал без фанатизма, хотя и часто, — так что специфических мужских разговоров они с сыном никогда не вели. Впрочем, и о том, как дела в школе, отец не спрашивал, хотя и гордился его успехами. Возможно, понимал, что ему не о чем беспокоиться: отпрыск с самого детства был самостоятельным и ответственным человеком. Позднее, когда в семье завелся телевизор, в лежании отца на диване появился некий смысл: футбол и хоккей показывали часто.
Лидия Ильинична с трудом заставила мужа поступить в электротехнический техникум, писала за него конспекты, добилась того, чтобы он доучился и получил диплом. Когда Михаил Тимофеевич техникум окончил, его поначалу повысили, но более ответственная работа у него с ходу не заладилась, и отец махнул на все рукой, на всю жизнь оставшись сменным электриком.
«Я так понимаю, что любовь у родителей сохранилась. Они вместе прожили всю жизнь, до самой смерти отца, — рассуждает Юрий Поляков. — Правда, отношения были достаточно сложные. Судя по периодическим бурным объяснениям и собиранию вещей, брак временами оказывался на грани распада. Видимо, имелись со стороны отца какие-то внесемейные отношения, иногда, правда, всплывал и какой-то «воронежский след», намеки на который страшно задевали мать. Однако отношения мужа и жены — это клубок взаимных обид и прощений, и другим его лучше не разматывать. Все же главной причиной домашних ссор было то, что отец выпивал. Правда, делал это тихо, запойным и буйным, как дед, не был и каждое утро непременно поднимался и шел на работу.
Однажды — он уже был на пенсии, а я работал в редакции — мы крепко выпили, и я заночевал у них на «Бабушкинской». Утром отец будит чуть свет: «Вставай, работу проспишь!» — «А я, наверное, сегодня не пойду… Голова раскалывается…» — «Как это не пойдешь?! — опешил он. — С ума сошел! Вставай сейчас же!» Да, суровые наказания за опоздание и прогулы Сталин вводил, но не для таких, как он, а для таких, как я…»
На работе отцу регулярно выдавали спирт, «протирать контакты», и, понятное дело, экономия этого расходного материала была поднята на недосягаемую высоту. Заводские умельцы слудили Михаилу Тимофеевичу из оборонной нержавейки небольшую манерку, умещавшуюся в боковом кармане, и он преспокойно проносил дефицитный спирт через проходную. Семейному бюджету эта привычка ущерба не наносила, даже наоборот, но в перспективе, конечно, сказалась на здоровье, ну и на отношениях в семье. Впрочем, так жили не только Поляковы, уже тогда во многих семьях именно женщины тянули воз бытовых забот. Но разводиться в те времена было не принято: развод осуждался партией и обществом, это была процедура публичная, о ней непременно сообщали в «Вечерней Москве», и не всем даже полностью утратившим согласие семьям хватало мужества через нее пройти.
«Я застал время, когда в «Вечерке» на последней полосе печатались объявления о предстоящих разводах, так сказать, для острастки, — вспоминает Юрий Поляков. — С общественным мнением тогда очень считались. В нашем общежитии, а это под сорок семей, я почти не помню разводов, хотя всякое, конечно, случалось. Когда стало известно, что родители друга моего детства Пети Коровяковского разошлись, в общежитии новость обсуждалась долго и подробно, хотя к тому времени они уже переехали в отдельную квартиру. «Уйти от такой интересной женщины, как Галина Терентьевна!» — «Характер у нее тяжелый!» — «А без характера лучше?» — «При чем тут характер? Ходок он и есть ходок!»
Отец другого моего сверстника Миши Петракова пил так, что его привозили из пивной на дровяных санках. Как сейчас помню: зима, мы играем во дворе, и вдруг кого-то везут. Кого? Дядю Володю. Хотя трезвый он был абсолютно нормальный, разумный и работящий мужик.
У наших отцов была простая мужская жизнь: они вставали в шесть утра, отрабатывали тяжелую смену и рано ложились спать. Одно слово — рабочий класс. Мужиков в общежитии было много, но крепко выпивали только двое, несколько человек, включая моего отца, как тогда выражались, поддавали, остальные же позволяли себе только по праздникам и 9 Мая, которое тогда еще не было выходным днем. Был в общежитии мужик, пивший до чертей, так он в конце концов и повесился. Помню, все вдруг забегали, я выглядываю из комнаты — а его несут: лицо синее, кудри всклокочены. Но чтобы мужики скандалили и дрались, а бабы ругались, склочничали — такого не помню. Шла размеренная жизнь, и каждый знал, что можно и чего нельзя. Ощущения, что я вырос в советском коммунальном аду, как сейчас пишут некоторые авторы, детство которых прошло в наркомовских квартирах, у меня не осталось…
Мама все время была занята на работе, а дома обычно готовилась к собраниям, писала отчеты. Когда стала начальником цеха, главная у нее проблема была — считать стеклотару, за которую она несла материальную ответственность, буквально за каждую разбитую майонезную банку. Помню, я засыпаю, а она сидит: «Восемь тысяч двадцать пять, восемь тысяч двадцать шесть…»
Время от времени в цехе изготавливали пробные партии майонеза, которые не шли потом в серию. Мне довелось попробовать эксклюзивные виды, от серийного выпуска которых завод по каким-то причинам отказался: майонез шоколадный, майонез с крабами, майонез томатный — все это было безумно вкусно. Примерно раз в месяц случался такой день, когда мама говорила: «Я сегодня поздно, у нас спецлиния». Я долго не мог понять, что это за спецлиния такая. Видел только, что в этот день на заводе все страшно суетились. И однажды наконец спросил, что это означает. Она говорит: «А это мы делаем майонез для спецобслуживания». Я спросил, чем он отличается от обычного. Или это какой-то другой майонез? Она говорит: «Тот же, просто мы и яичного порошка и всего остального кладем, как положено по ГОСТу». Значит, обычно они чего-то не докладывали, сырье экономили, чтобы план перевыполнять».
С 1957-го по 1961-й Юру водили на Большую Почтовую улицу в детский сад. От садика до общежития с километр ходу: пересечь Бакунинскую и дальше по Балакиревскому переулку, до самого Маргаринового завода.
Где-то там, в конце пятидесятых — Мальчик «Я» с веснушчатым лицом. В курточке, в сандалях рыжеватых Еле поспевает за отцом. Сероглазый, с уймою вопросов («Почему?» — и нет иных забот), Мальчик «Я», пошмыгивая носом, По Басманной улице идет. В праздники Москва нетороплива. Он читает вывески подряд. Пьет отец, покряхтывая, пиво. Мальчик «Я», зажмурясь, лимонад. Это может показаться странным, Но шумят, толпясь перед пивной, Очень молодые ветераны С еле различимой сединой. Мальчик не улавливает соли Разговоров: что-то о жене, О станке, о плане, о футболе — Только ни полслова о войне. <…> («Мальчик «Я»)Так оно и бывало, когда они ходили с отцом на первомайскую демонстрацию или просто гуляли по праздничной Москве. Если из садика Юру забирал отец, он по дороге заглядывал в пивную и рюмочную, что попадались на пути. При Сталине и в первые годы после него почти 20 процентов экономики составляла так называемая потребкооперация, которая процветала и на селе, и в городе — в том числе в виде маленьких забегаловок, рюмочных и пивных. Это уже при позднем Хрущеве, одержимом троцкистскими идеями всеобщей централизации, в том числе общепита, забегаловки прикрыли. Тогда у работяг возникла проблема с выпить-закусить, и они принялись позорно распивать во дворах и на детских площадках.
…………………..
Олег в дошкольный период своего существования однажды сильно подвел отца. Труд Валентинович, как обычно, вел сына из детского сада и остановился на Солянке возле ларька, где собирались после работы окрестные мужички и куда изредка прикатывал на своей тележке инвалид Витенька, столь поразивший некогда детское воображение Олега. Отец остановился с закономерной и вполне невинной мыслью выпить конвенционную кружку пива. В процессе взаимной притирки Людмила Константиновна после долгого сопротивления все-таки сделала уступку неодолимому родовому башмаковскому влечению к выпивке и разрешила мужу 1 (одну) кружку пива после работы. Она-то и называлась «конвенционной». Труд Валентинович вроде бы на это согласился. Но демоны искушения не дремали и в тот вечер явились в виде двух мужичков, купивших в гастрономе бутылку «Зубровки» и подыскивавших третьего. Кстати, напрасно утверждают, будто русский народ в пьянстве не знает меры. Знает. И эти стихийные, совершаемые по какому-то подсознательному порыву поиски третьего — тому свидетельство. Разве нельзя выпить бутылку вдвоем? Конечно, можно. А поди ж ты…
Труд Валентинович колебался недолго, но строго-настрого предупредил сына: если мама будет спрашивать, что пили, намертво тверди: пиво.
— А это пиво? — удивился Олег.
— Конечно, пиво. Только в бутылке. Так вкуснее…
Как выпивающий мужчина никогда не перепутает на вкус пиво и «Зубровку» (хотя цвет примерно одинаковый), так жена выпивающего мужчины никогда не ошибется, что именно — пиво или «Зубровку» — употребил супруг, прежде чем заявиться домой.
— Да нет, Люд, кружечку, как обычно! — обиделся даже Труд Валентинович.
— Может, это какое-нибудь особенное пиво, повышенной крепости?
— Обычное. Жигулевское. Правда, старое, зараза, мутное…
— И в бутылке! — добавил Олег, крутившийся под ногами у выяснявших отношения взрослых.
— В бутылке?
— В бутылке, — окончательно обиделся на такое недоверие Труд Валентинович. — А что, разве пива в бутылках не бывает?
— Бывает. А что, Олеженька, было нарисовано на бутылке?
— Бычок.
— Какой бычок?
— А вот такой. — Будущий эскейпер приставил указательные пальчики ко лбу и замычал.
Из-за ширмы вышла доживавшая уже последние месяцы бабушка Лиза и, чуть надломив в презрительной улыбке сухие, бескровные губы, поплелась на кухню. Так с тех пор и повелось: если Труд Валентинович выходил за рамки внутрисемейной конвенции, ему задавался лишь иронический вопрос: «А пиво было с бычком?»
(«Замыслил я побег…»)…………………..
Удостоверившись, что муж нарушил уговор, Лидия Ильинична устраивала «разбор полетов» утром, перед сменой, что называется, на трезвую голову. Правда, подобные эпизоды случались не часто, к тому же похмельным синдромом отец не страдал, как уже говорилось, исправно ходил на работу и никогда не болел. Бюллетенить он начал уже после сорока, когда у него обнаружили сахарный диабет и гипертонию, после чего и дали инвалидность. Умер Михаил Тимофеевич в 1994-м, без малого шестидесяти восьми лет от роду. Последние два с половиной года, после тяжелого инсульта, он лежал пластом, на муку себе и родственникам. Лидия Ильинична сильно горевала, но пережила мужа на целых 25 лет. А вот после похорон младшего сына слегла и умерла 10 сентября 2016 года, когда версталась эта книга.
Отец стал прототипом одного из героев романа «Замыслил я побег…», Труда Валентиновича Башмакова. Правда, феноменальными знаниями истории мирового футбола, которыми обладал и зарабатывал на жизнь герой романа, Михаил Тимофеевич похвастать не мог. Эту особенность автор позаимствовал у своего полного тезки дяди Юрия Михайловича Батурина и младшего брата Александра, с детства бредившего футболом.
Неподалеку от общежития, помимо особняков и доходных домов, стояли обычные деревянные сооружения, которые топили дровами (их подвозили из сараев на грузовых санках). «К этим островкам почти деревенской Москвы даже не провели канализацию — так и остались в засаженных сиренью и золотыми шарами палисадниках выгребные ямы. Можно было увидеть и старушек, лузгавших семечки на завалинке. Но над всей этой патриархальщиной высились корпуса комбината, овевавшего окрестности запахами неудавшихся пищевых концентратов».
Важной достопримечательностью Юриного детства стало необычное здание на Спартаковской площади, построенное в 1910 году в стиле «русский модерн» и относящееся к памятникам истории и культуры. Вначале там располагалась Московская хлебная биржа, затем — Дом пионеров Первомайского района, куда Юра ходил так же исправно, как и в школу. Ныне это театр «Модернъ», где идут пьесы известного писателя и драматурга Юрия Полякова. В его жизни, как мы увидим, случалось немало таких «опоясывающих рифм».
Бакунинская улица тянется от Елоховской церкви (тогда это был патриарший кафедральный собор). Рядом с церковью, в хорошо сохранившейся дворянской усадьбе с флигелями располагался еще один центр притяжения: Библиотека им. А. С. Пушкина, куда заядлый читатель Юра Поляков прилежно ходил в школьные и студенческие годы. Вправо от Бакунинской уходит Большая Почтовая, куда, как уже говорилось, Юру водили в детский сад. Рядом — Рубцовская набережная, район, в народе именуемый Чешихой, один из самых хулиганских в послевоенной Москве. В начале 1960-х сюда, в Рубцов переулок, в новую, силикатного кирпича четырехэтажку переселили с Маросейки бабушку Анну Павловну с тетей Клавой. Юра частенько к ним забегал: квартира была хоть и коммунальная, но тихая и малолюдная.
На пересечении Балакиревского и Переведеновского переулков стояла 348-я школа, в которой Юра учился от первого до последнего класса. А если пойти по улице Фридриха Энгельса (параллельно Большой Почтовой и Бакунинской) в сторону Бауманской, справа можно увидеть типовое здание школы, где с 1974 года располагался факультет русского языка и литературы Московского областного педагогического института им. Крупской, где учился студент Поляков. Неподалеку, на улице Радио — классическое здание бывшего пансиона благородных девиц, ныне — основной корпус переименованного в университет института. Возле площади Разгуляй (в десяти минутах ходьбы) — здание бывшей гимназии, где располагалась 27-я школа рабочей молодежи, куда Юрия распределили после окончания вуза. А в двух шагах отсюда, на улице Героя Советского Союза Александра Лукьянова, в Бауманском райкоме ВЛКСМ Юрий работал инструктором, о чем, собственно, и написал повесть «ЧП районного масштаба».
Краснопролетарский район Москвы, который так часто фигурирует в романах и повестях Полякова и которого на самом деле не существует — как Гринландии Грина, — удивительно похож на перечисленные места. Кстати, продвинутые московские гиды, водя по этим местам тематические экскурсии, нередко вспоминают повести и романы Полякова, сделавшего эту часть старой Москвы частью своего художественного мира. Существование вымышленного, но достоверно изображаемого места — одно из непременных составляющих поляковской — и не только поляковской — поэтики. Его Краснопролетарский район населяют герои, напоминающие прототипов лишь отдельными чертами и обладающие гротескными качествами, что характерно для творчества Полякова, но совсем не характерно для реальных людей. Зато, обобщенные и типизированные, эти качества делают литературные образы парадоксально узнаваемыми.
Но вернемся в Балакиревский переулок, расположенный слева от Бакунинской улицы и названный в честь рабочего пуговичной фабрики, погибшего за советскую власть в ноябре 1917-го, когда в Кремле засели юнкера. До этого переулок назывался Рыкунов, по имени владельца стоявших здесь домов, и, как уже говорилось, он упирался в добротную кирпичную стену Казанской железной дороги. Двор напротив Юриного общежития местные жители называли «жидовским», по мнению Полякова, не придавая этому названию негативного смысла: там стоял один из первых советских кооперативных домов. Такая роскошь в те времена была доступна только представителям творческой интеллигенции и зажиточным евреям, в основном врачам и юристам. Но, думается, все же отрицательная коннотация в этом названии имелась, причем классовая: стоявший неподалеку, в Малом Демидовском переулке дом красного кирпича, где жили старые большевики, называли просто «еврейским».
Из ныне исчезнувших строений Балакиревского переулка Юре особенно запомнился двухэтажный деревянный дом, очень похожий на те, что показывают в фильмах про революцию, когда жандармы с шашками, прозванными в народе «селедками», гонятся за отстреливающимся революционером.
«В этом доме жил мальчик, с которым мы дружили. Я почему-то до сих пор помню его фамилию — Кобельков. Когда познакомились, я сообщил, что живу в общежитии, а он вдруг:
— А вот мы снимаем комнату.
— Как это — снимаете?
— Ну как, мы платим, у нас хозяйка есть.
— А почему она ваша хозяйка?
— Как почему — дом-то ей принадлежит!
Мои советские мозги не вмещали, как это человек в городе может владеть целым домом.
— Ей принадлежит двухэтажный дом?! — спрашиваю. — А почему его у нее в революцию не отобрали?
И он мне сказал интересную вещь:
— А она сама была революционеркой!»
Об атмосфере семейных праздничных застолий и отношениях, сложившихся среди Юриных ближайших родственников и до известного времени определявших его взгляды на жизнь, вновь свидетельствует поляковская проза.
…………………..
В детстве Гена обижался, если родня выискивала в его внешности признаки неведомых пращуров. По выходным и праздникам собирались за большим столом у бабушки Марфуши. Родня выпивала, закусывала, налегая на треску под маринадом. Семейный остроумец дядя Юра нахваливал:
— Белорыбица, чистая белорыбица!
Поначалу родичи насыщались, не обращая внимания на малолетнего Гену, тихо ловившего магнитной удочкой красных картонных рыбок из бумажных прорубей. Взрослых интересовало другое: гадали, за что сняли Хрущева, почему разбился Гагарин, до хрипоты спорили, погасят ли послевоенные облигации.
— Ага, погасят и еще добавят! — сомневался всегда хмурый отец.
— Точно погасят! — уверял дед Гриша. — Сталин обещал.
— Сталин людей сажал! — встревал вольнодумец дядя Юра, игравший на барабане в ресторанном оркестре.
— А теперь, значит, не сажают, только выкапывают? — усмехался дед.
— Он полстраны посадил!
— Вроде образованный ты, Юрка, мужик, а мозгой не пользуешься. Посчитай! Если половина сидела, значит, вторая половина их стерегла, кормила и дерьмо вывозила. Кто же тогда воевал?
— Штрафники.
— А строил?
— Зэки.
— Э-э… Одно слово — барабанщик.
— Он «Голос Америки» ночью слушает, — наябедничала на мужа тетя Валя. — Спать не дозовешься.
— Смотри, Юрка, посадят тебя, тогда узнаешь!
От облигаций и Сталина обычно переходили к искусству: дивились, что у балерины Ватманской целых два мужа, и оба законные, ей официально разрешили, иначе она не может танцевать, а ее любят за границей. Политика! Обсуждали скандал в мире кино, такой громкий, что его отголоски достигли даже самых простодушных застолий. Артистка Ирэна Вожделей изменила мужу, легенде советского экрана Косте Клочкову, и не с кем-нибудь, а с негромким певцом Максом Шептером. Однако после развода вышла замуж не за него, а за другого всенародного кинолюбимца Мишу Лукьянова и сразу же, без обиняков, родила дочь.
— От Шептера! — хмыкал отец, относившийся к людям с тяжелой подозрительностью.
— Почему от Шептера? — удивлялась мать, напротив, слишком доверчивая к коварствам жизни. — Лукьянов сразу бы догадался!
— А на ребенке что, написано?
— Вот и написано, — вступала в разговор тетя Груня. — Ты, Павлик, на сына посмотри! Нос у Генки твой. Или чей?
— Нос Пашкин, точно! — поддерживал дед Гриша.
— Губы Нюркины, бантиком, — подхватывала стихийную генетическую экспертизу бабушка Марфуша.
— А глаза-то карие в кого? У Павло серые. У Аннет голубые. Кто нахимичил? — хихикал дядя Юра. — Эх вы, вейсманисты-морганисты!
— В моем доме попрошу не выражаться! — словами из «Кавказской пленницы» предостерегал отец.
— В меня, — сознавалась бабушка Марфуша.
— В тебя? — Все с удивлением вглядывались в ее глаза, подернутые белесой глаукомой.
— В меня! Гриш, ты забыл, что ли, старый?
— Забыл, — соглашался дед. — Точно, карие были, как мед!
— А кудрявый Генка в кого? — спохватывалась тетя Груня, озирая родню. — Вроде не в кого…
— В отца моего. Степан Кузьмич, ох, кучерявый был, да еще с трехрядкой ходил, — объясняла бабушка Марфуша. — Девки за ним по селу табуном бегали. Мать все глазоньки выплакала. Но терпела — любила до смерти.
— А уши? В кого Генка лопоухий? — ехидно спрашивал дядя Юра.
— Погоди, дай вспомню… Васек был лопоухий.
— Какой Васек?
— Братик мой. Умер в двадцать девятом, совсем мальчиком, с голодухи. Вот уж лопоухий был, даже батюшка смеялся, когда крестил…
— Отстаньте от меня! — вскипал малолетний Скорятин. — Это мои уши!
Он отшвыривал магнитную удочку и убегал в длинный коридор большой коммунальной квартиры. Там, между шкафов, ящиков, сундуков можно было спрятаться, затаиться^ погрустить, даже поплакать от обиды, а если повезет, напроситься в гости к Жилиным — у них имелся цветной телевизор «Рекорд». Остальные довольствовались пока черно-белыми, а у бабушки Марфуши вообще стоял на комоде древний КВН с крошечным экраном, который увеличивали с помощью выдвижной водяной линзы. Дорогущий «ящик», шептались соседи, Жилины смогли купить, потому что сам, работая в мясном отделе продмага, обвешивал покупателей. Только много лет спустя Гена догадался, что стал свидетелем расслоения коммунальной общины, вскоре распавшейся. Соседи, получая отдельные квартиры, разъезжались к черту на кулички — в Измайлово, Нагатино, в неведомые Новые Черемушки. Первыми купили кооператив Жилины.
Почему маленького Скорятина задевало бесцеремонное обсуждение его внешности и злило сходство с неведомыми дедушками-бабушками? В ребячестве он воспринимал это как грубое вмешательство в свою особенную, отдельную жизнь, как посягательство на свою неповторимость. В детстве чувствуешь себя единственным экземпляром, даже смерть других людей еще не имеет к тебе отношения. Ты сам по себе. Ты уникум! А тут, оказывается, кудри тебе достались от какого-то сельского гармониста, глаза от бабушки, а уши вообще от мертвого мальчика. Ну как не надуть мамины губы бантиком? Потом, повзрослев, даже постарев, понимаешь: сходство с родней, живой и давно истлевшей в земле, радостное узнавание своих черт в лице дочери или сына — наверное, самое главное в жизни. Это и есть, в сущности, бессмертие…
(«Любовь в эпоху перемен»)…………………..
* * *
Всю жизнь прожив в Москве и добрую треть жизни проведя в старой ее части, облик которой долго оставался неизменным, Юрий Поляков привык возвращаться в места своего детства, благо до них всегда было рукой подать. Он и сам не заметил, как прочно закрепился сразу в двух реальностях, одновременно существовавших в сознании. Видимо, поэтому все его герои по-родственному связаны с ним общностью воспоминаний. Рефлексируя о прошлом, они непременно переносятся мысленно в ранние годы, словно сверяя свой нынешний вкус к жизни со вкусом детства, и случается это с книжными героями, пожалуй, чаще, чем с их прототипами.
Вслед за поэтом Поляковым каждый из героев Полякова-прозаика мог бы сказать:
Мой переулок! Ты уже не тот: Иные зданья, запахи и звуки… И только Маргариновый завод Дымит, как будто не было разлуки. И достают ветвями провода Деревья, что мы с другом посадили… Ну вот и воротился я туда, Куда вернуться я уже не в силе. Ну вот и оглядел свой старый дом, Где так легко дружилось и мечталось, Ну вот и убедил себя, что в нем Уж ничего от детства не осталось… Спасибо, жизнь, за то, что ты добра! За новизну, за нужные утраты, За то, что все вокруг не как вчера… Так легче понимать, что нет возврата!Да, многие здания, дорогие сердцу писателя, стоят и поныне, однако в целом от облика прежней Москвы мало что сохранилось. Ту Москву, увековеченную в детской памяти, можно увидеть лишь на старых фото да на полотнах художников. Вот как писал об этом сам Поляков в предисловии к альбому произведений художника Евгения Куманькова «Москва!.. Святая родина моя!»:
«Когда смотрю на давнюю, 1959 года, пастель Куманькова «Первая зелень (Плотников переулок)», я чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Наверное потому, что сам я вырос в Балакиревском переулке, где тогда еще сохранились вот такие же купеческие особняки — с каменным первым и деревянным вторым этажом, — украшенные резными наличниками. Сохранились еще и высокие дощатые заборы, из-за которых поднимались старинные липы и вязы. А у ворот нашего особняка, отданного под заводское общежитие, стояла на приколе точно такая же «победа», единственная на весь переулок. Я даже до сих пор помню фамилию ее владельца — Фомин. В «Первой зелени» не видно бетонно-стеклянной Москвы. Она тогда еще только задумывалась в архитектурных мастерских, только начинала проявляться в городских очертаниях».
Тогда на старинные московские улочки еще выходили вечерами со своими венскими стульями и рассаживались у подъездов старорежимные старушки в неизменных валенках. А по утрам горожане просыпались от призывных криков: «Ма-ла-ко! Ма-ла-ко!» Это на лошадке, запряженной в телегу, им привозили утреннее молоко жители близлежащих деревень.
И все же Москва начала стремительно менять свой облик много раньше, уже в конце 1940-х. В ней появились знаменитые «семь сестер» — сталинские высотки, ставшие символом советской Москвы. Среди них — торжественно открытое в 1953 году новое здание университета, здание Министерства иностранных дел, жилые дома на Котельнической и Кудринской, гостиницы «Ленинградская» и «Украина». В основу высоток были заложены идеи средневековой готики и русского зодчества; при этом каждое здание имело свой неповторимый облик, будучи богато декорировано снаружи башенными надстройками, портиками, колоннадами и лепниной, — и изнутри: гигантскими, во всю стену, зеркалами и скульптурой. Сталин принимал непосредственное участие в разработке проектов, а здание советского МИДа именно по его предложению украсил не предусмотренный прежде шпиль.
Согласно первоначальному плану, высотки, символ Новой Москвы, должны были взять в кольцо любимое детище Сталина — так и не построенный Дворец Советов, место проведения сессий Верховного Совета СССР, всевозможных празднеств и торжеств.
Проект архитектора Бориса Иофана представлял собой грандиозное многоярусное здание с обилием колонн, увенчанное гигантской фигурой Ленина с простертой в неизъяснимо прекрасное будущее рукой. Дворец Советов высотой 420 метров — самое высокое сооружение в мире — предполагалось возвести на месте храма Христа Спасителя, взорванного с этой целью в 1931 году. Но когда закончилась война, все силы и средства были брошены на восстановительные работы, и проект заморозили, а после смерти Сталина планы переменились. Дворец Советов решили строить на Воробьевых горах и по другому проекту, но и этот план не был осуществлен. Вместо него в Кремле появился железобетонный Дворец съездов, открытие которого приурочили к началу работы XXII съезда КПСС (1961); на месте храма Христа Спасителя начал действовать самый большой в мире открытый плавательный бассейн «Москва», а станция метро «Дворец Советов» стала именоваться «Кропоткинской».
В год Юриного рождения город был относительно небольшим и даже скорее патриархальным, а со всех сторон к нему лепились деревни и деревушки, с садами и огородами, пением петухов и мычанием пасущихся на Фоне многоэтажных высоток коров. Но уже в 1960-е эти живые деревни поглотил стремительно растущий город, а в самой столице маленькие улочки сменили широченные проспекты — как это было с одноэтажными Хамовниками, на месте которых появился Комсомольский проспект, широкая транспортная магистраль, связавшая Центр с Юго-Западом. Застраивались улица Горького (ныне Тверская), Садовое кольцо, Ленинский, Ленинградский и Кутузовский проспекты, проспект Мира; шла реконструкция старых районов Москвы. Из деревянных хибарок возле Киевского вокзала люди переезжали в благоустроенные коммуналки в сталинских домах на Кутузовском проспекте, за панорамой «Бородинская битва», открытой в 1962-м на месте бывшей деревни Фили. В Лужниках возводился огромный комплекс, получивший название «Город спорта», а на Воробьевых горах в самом начале 1960-х был открыт новый городской Дворец пионеров, в котором работали десятки детских кружков, клубов и творческих коллективов. В 1957-м на площади Дзержинского (ныне Лубянской) открылся самый большой в СССР, построенный по мировым стандартам магазин «Детский мир». В 1959-м начал функционировать аэропорт Шереметьево, где в первый же день приземлился рейсовый Ту-104, прилетевший из Ленинграда, и ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства, которая прежде называлась Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой. С 1958-го по 1960-й в московском метро установили турникеты, а до этого у прохода к поездам стояла дежурная в униформе, которая брала у пассажиров билетики и, надорвав, бросала в высоченную конусообразную урну, очень впечатлявшую маленького Юру.
Тогда же, в 1958-м, на площади Маяковского появился памятник поэту скульптора Александра Кибальникова, а на улицах городов и поселков — люди с красными повязками членов Добровольной народной дружины, помогавшей милиции наводить общественный порядок.
В эти годы в Москве шла массовая застройка новых жилых массивов: Юго-Запада, Хорошево-Мневников, Измайлова, Филей… Одновременно велись работы по реконструкции и сооружению новых магистралей, благоустройству и озеленению, развитию транспорта и связи, увеличению мощности водопроводной и канализационно-очистной систем. Открывались детские и юношеские спортивные школы, а в домах культуры и домах пионеров — все новые и новые кружки. В каждом московском микрорайоне в трех — пяти минутах ходьбы были школа, столовая, магазины, детские сады и ясли, почта и предприятия бытового обслуживания.
Москва строящаяся магнитом притягивала к себе людей. В основном это были крестьяне, уезжавшие из своих деревень в поисках лучшей доли. В колхозах тогда вместо денег были трудодни, в обмен на которые получали производимую в хозяйстве продукцию — главным образом зерно; из него мололи муку, им подкармливали скотину и домашнюю птицу, за содержание которых в частном хозяйстве приходилось платить налог. Налогом облагались и приусадебные участки, где деревенские выращивали картошку и прочие овощи-фрукты. Пенсия у колхозников была в разы меньше городской, а деревенская жизнь — в разы тяжелее, несмотря на скученность и тесноту, с которой сталкивались люди в городе. Жизнь в деревне была размеренной, раз и навсегда сложившейся, завязанной на годовые циклы и переменчивую погоду. В городе же все кипело и бурлило, все непрерывно менялось; здесь были другой ритм и другое течение времени.
Москва остро нуждалась в рабочих руках, при строительстве объектов здесь использовали труд не только профессиональных строителей, но и неквалифицированных рабочих, немецких военнопленных, заключенных. Рабочие и строители жили в общежитиях и на особые удобства не претендовали. Деревенские женщины, работавшие на заводах и фабриках, частенько устраивались в свободное от смен время убираться в квартирах обеспеченных москвичей, обстирывать их либо гулять с маленькими детьми.
Для скорейшего решения жилищного вопроса принятый еще при Сталине новый генеральный план предусматривал повышение этажности в Москве до восьми— двенадцати этажей, ввод в эксплуатацию более простых и функциональных строений, без колоннад, башенных надстроек, портиков и прочих «излишеств», усложнявших и удорожавших строительство, — такие здания в основном и появились на Комсомольском, Ленинском и Ленинградском проспектах; они гораздо менее индивидуальны, чем те, что строились ранее.
Обстановка в мире была неспокойной, и в людях жила тревога. Недаром по радио, которое в каждой комнате в коммуналке, в каждой отдельной квартире никогда не выключали, словно в невольном ожидании дурных вестей, — тоже характерная примета времени, — помимо звучавшего ровно в шесть утра гимна, помимо классической музыки, опер и радиоинсценировок русской и советской классики, помимо новостей постоянно передавали звучавшие как заклинание песни о мире, которые Юра очень скоро запомнил наизусть. Тогда о мире говорили так же много, как теперь — о возможности новой мировой войны.
Особенно часто передавали «Бухенвальдский набат» Вано Мурадели на стихи Александра Соболева. Его пел молодой красавец Муслим Магомаев, отец которого погиб на фронте за несколько дней до Победы:
Люди мира, на минуту встаньте! Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон — Это раздается в Бухенвальде Колокольный звон, колокольный звон. Звон плывет, плывет над всей землею, И гудит взволнованно эфир: Люди мира, будьте зорче втрое, Берегите мир, берегите мир! Берегите, Берегите, Берегите мир! (1958)И «Хотят ли русские войны?» Эдуарда Колмановского на стихи Евгения Евтушенко, которую взрослые неизменно распевали на праздничных застольях:
…Да, мы умеем воевать, Но не хотим, чтобы опять Солдаты падали в бою На землю горькую свою. Спросите вы у матерей, Спросите у жены моей, И вы тогда понять должны, Хотят ли русские, хотят ли русские, Хотят ли русские войны! (1962)Впервые ее исполнил Марк Бернес, а летом 1962-го, когда в Москве проходил Международный конгресс за всеобщее разоружение и мир, его делегатам в качестве сувениров вручили пластинки с этой песней, записанной Георгом Отсом на нескольких европейских языках.
Ощущение хрупкости человеческого существования на Земле было в те годы общим. Поэты-эстрадники ретранслировали в массы эмоции, воспринятые ими от тех же «масс»: после тяжелейшей войны, в ядерный век люди особенно остро хотели мира и искренне тревожились о будущем планеты.
Любимая, спи… Мы — на шаре земном, свирепо летящем, грозящем взорваться — и надо обняться, чтоб вниз не сорваться, а если сорваться — сорваться вдвоем. (Евгений Евтушенко «Любимая, спи») …Не посылай мне снов, в которых — страх. Есть явь. Есть озабоченность штабов. И есть Земля, оглохшая от драк, давно потрескавшаяся от бомб… (Роберт Рождественский «Просьба»)Я — Гойя!
Глазницы воронок мне выклевал ворон,
слетая на поле нагое.
Я — Горе.
Я — голос
Войны, городов головни
на снегу сорок первого года.
Я — Голод.
Я — горло
Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью голой…
Я — Гойя!
О грозди
Возмездья! Взвил залпом на Запад —
я пепел незваного гостя!
И в мемориальное небо вбил крепкие звезды —
Как гвозди.
Я — Гойя.
(Андрей Вознесенский «Гойя»)Тема борьбы за мир была чрезвычайно популярна и у поэтов не особенно известных: такие стихи охотнее, чем лирику, печатали газеты и журналы. Забегая вперед заметим, что у молодого поэта Юрия Полякова тоже, конечно, были антивоенные стихи. Понимая очевидную заезженность темы, он старался найти некий необычный ракурс, и иногда ему это удавалось:
Четверо юных поэтов с кружками зимнего пива, Сгрудившись над картошкой в пакетиках слюдяных, Перебивая друг друга, прихлебывая нетерпеливо, Задиристо выясняли, кто же из четверых Лучший поэт на свете, лучший поэт эпохи, Чьи же стихи любимым будут взахлеб читать, Будут класть под подушку в третьем тысячелетье, Лет через двести, триста, лет через двадцать пять! Кто же останется? Кто же? Быстро стемнело в сквере. Гаркнула тетя Груня, кружки сдавать веля… Все мы останемся в мире, в разной, конечно, мере. Если Земля останется. Слышите вы, Земля! (1978)* * *
В первой главе мы много говорили о политике — и должны вновь к ней обратиться, чтобы, выйдя из узкого семейного круга и взглянув на малую Юрину родину — Москву, изменить масштаб и посмотреть уже на мир — и даже ненадолго подняться в космос, ибо всё, что в мире тогда происходило, пусть неосознанно, было пережито им вместе со страной.
Что же представлял собой тот хрупкий мир? Из выдвинутой Сталиным доктрины о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране (ее последовательным сторонником был и второй человек в партии Георгий Маленков) после смерти «вождя народов» был сделан вывод, что основой советской внешней политики должно стать мирное сосуществование противоборствовавших во всех сферах капиталистической и социалистической систем. При этом необходимы были международные гарантии такого сосуществования. Тем более что незадолго до окончания Великой Отечественной бывшие союзники уже разрабатывали планы нападения на СССР, и мир, не окончив Вторую, был на волоске от третьей мировой. Весной 1949-го США начали активную разведывательную деятельность в приграничном воздушном пространстве Советского Союза, которая продолжалась не один десяток лет. К тому времени Америка приняла план войны с СССР под названием «Дропшот». На первом этапе его осуществления Пентагон планировал подвергнуть СССР массированной бомбардировке: в течение 30 суток на главные города страны предполагалось сбросить 300 атомных и 200 тысяч обычных бомб.
И хотя от этих планов США отказались, в каком-то смысле мировая война все же велась в 1950–1953 годах в Корее, где на стороне Северной Кореи негласно выступили Советский Союз и КНР, а на стороне Южной — США, Великобритания и ряд других стран. В 1946-м сдетонировал Индокитай, где на протяжении восьми лет шла война, которую Франция при поддержке США и Великобритании вела за сохранение своих колоний. Нет ничего удивительного в том, что СССР и КНР поддерживали народы Индокитая в их освободительной борьбе. С 1954-го по 1962-й шла война за независимость на севере Африки (недаром 1960-й стал годом Африки: тогда на карте появились сразу 17 новых государств).
Впрочем, не все было спокойно и в социалистическом лагере. Летом 1956-го вспыхнуло восстание в польском городе Познань, а осенью, на фоне начавшейся в СССР кампании по разоблачению культа личности Сталина — в Венгрии. Правительство Матьяша Ракоши, «ученика Сталина», проводило крайне жесткую политику, вызывавшую массовое недовольство. К тому же Венгрия обязана была выплачивать СССР, Чехословакии и Югославии контрибуцию, составлявшую четверть национального продукта, и экономическое положение страны было тяжелым. События начались с мирной демонстрации студентов, а закончились массовыми беспорядками. По просьбе венгерского руководства в Будапешт были введены советские войска. Оружия они не применяли, но их появление в столице обострило ситуацию. Войска вернулись на место дислокации, но в Будапеште начались погромы. Толпа расправлялась с коммунистами, сотрудниками госбезопасности и их родственниками, их пытали, вешали, им заливали лица кислотой. Закрылись магазины, аптеки, фабрики и вокзалы — началась гражданская война. Тогда войска вошли в столицу снова, и на этот раз солдаты уже стреляли боевыми. Встретив упорное сопротивление, в город ворвались танки, расчищая дорогу десантникам и пехоте. В беспорядках погибли сотни и даже тысячи людей с той и с другой стороны, в стране было сформировано новое правительство под руководством Яноша Кадара, а Советский Союз оказал Венгрии значительную и безвозмездную материальную помощь.
В 1949-м был создан военный блок НАТО, а в мае 1955-го, в ответ на присоединение к НАТО ФРГ, страны Восточной Европы и Советский Союз подписали Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, на ближайшие 36 лет обеспечив существование биполярного мира. Кстати, только в январе 1955-го Президиум Верховного Совета принял указ о прекращении состояния войны с Германией, и в сентябре была достигнута договоренность о возвращении на родину нескольких тысяч остававшихся в СССР пленных немецких солдат.
США (с 1945 года) и СССР (с 1949-го) уже обладали ядерным оружием; вскоре появилось оно у Великобритании (1952), Франции (1960) и Китая (1964), а в 1961 году Советский Союз испытал на Новой Земле водородную 60-мегатонную «царь-бомбу»; военное противостояние становилось смертельно опасным для всей планеты. Это особенно ярко продемонстрировали Берлинский (1961) и Карибский (1962) кризисы.
Считается, что Карибский кризис послужил толчком к началу разрядки международной напряженности, которой Советский Союз добивался с 1946 года. Впрочем, впервые с предложением о всеобщем разоружении выступил в 1899 году русский царь Николай II на международной конференции в Гааге, что вызвало насмешки его венценосных родственников в Германии и Великобритании. Не найдя поддержки, СССР предложил сократить обычные и ядерные вооружения и остановить гонку вооружений, однако и это не вызвало одобрения западных держав, и созданная ООН Комиссия по разоружению на протяжении ряда лет безуспешно искала компромисс.
В 1959-м на Генеральной Ассамблее ООН Хрущев вновь озвучил идею всеобщего и полного разоружения, которое, по его мнению, можно было осуществить всего за четыре года. Советская инициатива была, конечно, единодушно одобрена международным сообществом, но к ее практическому воплощению никто приступать не собирался. Успехом завершились лишь переговоры в 1963 году в Москве, где подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой, что было чрезвычайно актуально в связи с воздействием подобных испытаний на экологию Земли: ядерные державы успели взорвать уже немало бомб, радиоактивная пыль множество раз облетела всю планету и осела в ее самых дальних уголках.
Мирные инициативы СССР подкреплялись в середине 1950-х односторонними действиями: выводом советских войск и ликвидацией военных баз в Финляндии, Австрии, Китае и Румынии, уменьшением состава группы войск в Венгрии, ГДР, Польше, а также сокращением советских вооруженных сил и расходов на оборону.
Приступая к военной реформе, Хрущев объявил, что средства, сэкономленные на финансировании вооруженных сил, будут направлены на отмену некоторых налогов, повышение жизненного уровня, увеличение жилищного строительства, сокращение рабочего дня, а также субсидирование национальной экономики и «широкую помощь слаборазвитым странам». Понятно, что этот длинный перечень свидетельствует не столько о мудрости руководства, сколько о его склонности к социальной демагогии.
Каждая советская семья, а уж тем более члены партии, как Юрина мама, непременно выписывала хотя бы одну из центральных газет, где регулярно публиковались принимаемые партией и правительством постановления, а также многословные выступления Хрущева, который, пользуясь любым предлогом, громил американскую военщину. Там же печатались карикатуры на империалистов всех мастей, которые Юра любил разглядывать. Их обычно изображали с хищным оскалом и увешанными бомбами, которыми они угрожали миру. Неудивительно, что так популярны были в стране песни о мире, а фразу «лишь бы не было войны» повторяли как заветное желание миллионы.
Когда Юра пошел в школу, вместе с одноклассниками на уроках гражданской обороны он примерял противогаз и старался запомнить, какие подручные средства можно использовать для индивидуальной защиты в случае ядерной атаки. В классной комнате с проектором им показывали кино про бомбоубежище в метро, где по сигналу тревоги выдвигались мощные стены, призванные защитить москвичей от оружия массового поражения. И потом, шагая вместе с родителями по гулким переходам метро, он опознавал порой металлические щитки, скрывавшие до неведомой страшной поры спасительные выдвижные стены.
Дворы сталинских домов, строившихся в начале 1950-х, непременно оборудовали бомбоубежищами, куда на ознакомление водили школьников на уроках гражданской обороны. Интересно, чем теперь заполнены эти огромные подземные пространства, наглухо закрывавшиеся тяжелыми, невероятной толщины дверьми?..
Едва научившись делать атомные бомбы, Советский Союз тут же взялся осваивать мирный атом: в 1954-м, в год Юриного рождения, в Обнинске начала работу первая в мире промышленная атомная станция, а чуть позже, в 1957-м, вышел в свое первое плавание атомный ледокол «Ленин». Тогда же были заложены первые атомные подлодки, а в Дубне начал работать самый совершенный в мире синхрофазотрон. Год Юриного рождения был ознаменован еще одним событием, эхо которого докатилось до нашего времени: в честь 300-летия Переяславской рады Хрущев подарил Украине полуостров Крым, за который столько было пролито русской кровушки, в том числе в Великую Отечественную. Логика в этом поступке, объясняемом хозяйственными причинами, была политическая: очень уж лютовал Хрущев в бытность свою первым секретарем ЦК компартии Украины, перевыполняя планы по массовым чисткам. Вероятно, ему казалось, что этим «подарком» он загладил свою вину.
Вскоре после Юриного рождения плату за обучение в старших классах средних школ и вузах, введенную в 1940-м, отменили, а затем приняли постановление об учреждении при вузах подготовительных курсов, чтобы обеспечить равный доступ к высшему образованию представителям всех сословий, независимо от их материальных возможностей и даже от уровня обучения в школе. В сельских школах часто не хватало предметников, и учились сельские ребята порой, что называется, вопреки обстоятельствам. Теперь при поступлении в вуз предпочтение оказывалось абитуриентам, имевшим не менее двух лет трудового стажа либо отслужившим в армии.
Столица жила в те годы насыщенной культурной жизнью: в 1955-м в Музее изобразительных искусств прошла выставка картин из Дрезденской галереи, ввезенных в СССР в качестве военных трофеев и спасенных советскими реставраторами: картины были обнаружены в штольнях заброшенных каменоломен, где они находились в промозглой сырости и были серьезно повреждены. Бригада реставраторов под руководством Павла Корина десять лет возвращала картинам жизнь, и это была первая и последняя встреча с ними советской публики, которая с ночи занимала очередь за билетами: вскоре коллекцию возвратили в Дрезденскую галерею.
В те годы частично открыли для посещений Московский Кремль, появился новый московский театр «Современник», а несколько позднее — любимовский Театр на Таганке, впервые прошел московский Международный конкурс им. П. И. Чайковского, одним из победителей которого стал полюбившийся советским людям Ван Клиберн, а в журнале «Техника — молодежи» вышел роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», которым позднее будет зачитываться Юра Поляков. В начале 1960-х в телеэфир вышли «Клуб кинопутешественников» и «Клуб веселых и находчивых», а по радио начали транслировать воскресную передачу «С добрым утром!», с которой начинался выходной во всех советских семьях.
В 1957-м шумно прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов с новой эмблемой — «Голубем мира» Пикассо. На московских улицах впервые появились венгерские «икарусы», «Волга ГАЗ-21» и латвийские «рафики», а потом и знаменитый «горбатый» «запорожец». Облик столицы стремительно менялся, словно она торопилась расти вместе со своим маленьким жителем.
* * *
В феврале 1956-го, на закрытом заседании XX съезда КПСС, Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». А после съезда началась так никогда и не кончавшаяся ревизия советского прошлого, на долгие десятилетия расколовшая общество и повлиявшая на отношения СССР со странами соцлагеря и компартиями многих стран. В 1961-м тело Сталина вынесли из мавзолея, где он упокоился рядом с Лениным, и захоронили у Кремлевской стены. А Сталинград переименовали в Волгоград, хотя прежнее название навсегда осталось в мировой истории в связи со Сталинградской битвой, и оно увековечено в названиях улиц многих городов Европы. Имя Сталина надолго стало запретным в СССР, а фильмы о войне, где солдаты поднимались в бой с криком: «За Родину! За Сталина!», — были пе-реозвучены, хотя все и читалось по губам. Только при Брежневе Сталина начали упоминать — в связи с событиями Великой Отечественной. Юный поэт Юрий Поляков сам оказался свидетелем того, как при появлении на киноэкране Сталина зрители стихийно поднялись и начали аплодировать:
Киносеанс. Спокойно в темном зале. Вдруг кресла гром аплодисментов залил. И зрители в порыве общем встали: Через экран шел сам товарищ Сталин. Неторопливо, в знаменитом френче, Сутулясь, он партеру шел навстречу, Как будто чудом до сегодня дожил, А люди били яростно в ладоши, От радости калошами стучали: Ну наконец-то, мы о вас скучали! Усы, усмешка, голова седая… Я тоже хлопал, недоумевая… (1973, 2014)Доклад Хрущева ознаменовал собой начало идеологических послаблений, вошедших в историю под названием хрущевской оттепели. Из Уголовного кодекса исчез термин «враг народа». Президиум Верховного Совета снял режим спецпоселения с депортированных финнов, шведов, норвежцев, поляков, немцев, курдов, армян, корейцев, китайцев, белорусов, литовцев, эстонцев, евреев и русских из Харбина, выселенных в 1930-е годы из приграничных районов; послабление получили и так называемые коллаборанты — греки, румыны, крымские татары, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкары, кабардинцы и турки-месхетинцы. Общегражданские права им возвращали постепенно: вначале выдали паспорта, затем были амнистированы сотрудничавшие с оккупантами; калмыкам, карачаевцам, балкарам, чеченцам и ингушам была возвращена автономия.
Эти перемены заметно сказались на культурной жизни страны, на ее литературе и кино. Символом новой литературы стали произведения родившихся в один год писателей-фронтовиков: роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» (1956) и повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (написана в 1959-м; опубликована в 1962-м). Стоит упомянуть и имевший огромный резонанс рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» (написан в 1956-м; опубликован в 1956—1957-м в газете «Правда»). В романе Дудинцева показано, как честного человека по навету посадили в тюрьму, у Солженицына — и это было неслыханно для прежней советской литературы — действие происходит непосредственно в лагере, где главный герой отбывает срок за дезертирство, а Шолохов с сочувствием говорит о судьбе пережившего немецкий плен и концлагерь простого солдата, геройского человека — вопреки тому, что в войну оказавшихся в плену солдат и офицеров считали предателями родины. Уже в 1959-м рассказ Шолохова был экранизирован, и фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» удостоился главного приза на Московском кинофестивале. Советская литература, прошедшая горнило войны и репрессий, вновь говорила с читателем о житейских трагедиях, о несправедливости, о воле к жизни и преодолении, которыми так силен русский человек.
Для Хрущева в те годы важнейшим был тоже вопрос преодоления — культа личности, а на самом деле — списания на Сталина преступлений, к которым был причастен он сам. О том, что в ГУЛАГ попало немало людей, действительно участвовавших в политической, а то и террористической борьбе с советской властью, почему-то перестали вспоминать. Обществу внушалось, что все поголовно репрессированные были ни в чем не виноваты. В этом смысле наиболее востребованным из писателей оказался тогда именно Солженицын, отсидевший в лагере по политической 58-й статье за нарушение правил и ограничений фронтовой переписки, что, кстати, каралось в любой действующей армии. Правда, очень скоро автор «Одного дня…» и его бескомпромиссная зацикленность на лагерной теме стали вызывать у власти опасения. Власть полагала, что, сосредоточившись на ошибках и трагедиях, сопровождавших строительство социализма, общество может лишиться энтузиастической веры в светлое будущее. Видимо, эти опасения были не напрасны: спустя 30 лет увлеченная разоблачительством страна пошла вразнос и в итоге распалась. «Целили в коммунизм, а попали в Россию», — констатировал философ А. А. Зиновьев. Именно о том, что недопустимо, борясь с политическим режимом, вставать на сторону геополитических недругов своей страны, писал Юрий Поляков, ведя жаркую полемику в 2014 году с «солженицынским пулом», воглавляемым вдовой нобелевского лауреата. Но подробнее об этом поговорим ниже.
Многие и тогда, в 1950-е, понимали: огульное очернение сталинской эпохи чревато бедой. Недаром уже в 1957-м, вскоре после XX съезда КПСС, Хрущева чуть было не сместили с поста первого секретаря ЦК КПСС, и если бы не заступничество маршала Жукова, это неминуемо бы произошло. Жуков и его сторонники настояли на выносе вопроса на пленум, а там противников Хрущева заклеймили как «антипартийную группу Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова» и вывели из состава ЦК, а потом исключили из партии.
Жукову Хрущев отплатил черной неблагодарностью: в том же году, находясь в загранкомандировке, Жуков был выведен из состава президиума и освобожден от обязанностей министра обороны. Вернувшись в Москву и спустившись с трапа самолета, опальный полководец спросил встречавшего его в аэропорту маршала Малиновского:
— Ну и кого, Родион, назначили министром обороны?
— Меня, — смущенно ответил тот.
— Слава богу! А я боялся, что Фурцеву…
В этом историческом анекдоте точно передан дух эпохи: министр культуры Фурцева вместе со многими мастерами искусства активно поддержала Никиту Сергеевича в его борьбе с «антипартийной группой». А сам Хрущев вскоре занял еще и пост председателя Совета министров. Политика, которую он проводил, вызывала острые кризисы как внутри страны, так и на международной арене. В 1962-м, из-за неурожая, в магазины выстраивались длинные очереди за хлебом. Перебои наблюдались даже в столице. В народе росло недовольство властью, а в Новочеркасске оно вылилось в бунт, подавленный с редкостной жестокостью, что не было чисто советским изобретением, так же случалось и в Европе, и в Америке. Тем временем в апреле 1964-го было бурно отмечено семидесятилетие «дорогого Никиты Сергеевича», которому присвоили звание Героя Советского Союза.
Хрущев обладал бешеной волей к власти, но ему не хватало слишком многих качеств, необходимых руководителю такой огромной державы. В кругу членов президиума вскоре созрел очередной заговор, и в октябре 1964-го, когда ничего не подозревавший Хрущев отправился на отдых к морю, на заседании президиума, а затем и пленума ЦК были обсуждены допущенные им грубые ошибки и «дорогого Никиту Сергеевича» освободили от партийных и государственных должностей «по состоянию здоровья». Никто не попытался его защитить, и даже Фурцева выступила против «верного ленинца». На октябрьском пленуме впервые прозвучал термин «волюнтаризм», в котором Хрущева упрекали выступавшие. Первым секретарем был избран подсидевший Хрущева Леонид Ильич Брежнев, а председателем Совета министров Алексей Николаевич Косыгин. Имя Хрущева не упоминалось в печати до самой его кончины, а некролог в «Правде» вышел очень краткий и в какой-то усеченной, неполной рамочке. У советских граждан долго были свежи в памяти события, связанные с этим именем. Недаром так дружно смеялся зал, когда в народной комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (премьера — весна 1967-го) один из отрицательных персонажей произносил слово «волюнтаризм», а другой ему отвечал: «В моем доме попрошу не выражаться!» Как ни удивительно, цензура шутку пропустила. Ходил такой анекдот: «Умер Хрущев и попал на тот свет, где его встретили Ленин и Сталин. У обоих на лбу буквы: ТК. Хрущев посмотрелся в зеркало — и у него тоже ТК. «Что это значит?» — удивился он. «Я — творец коммунизма», — объяснил Ленин. «Я — тиран коммунизма», — добавил Сталин. «А я кто?» — спросил Хрущев. «А ты, Никита, — тля кукурузная!» — в один голос ответили оба вождя». В народе свергнутого лидера не любили.
* * *
Самыми прорывными в ту пору были достижения СССР в деле освоения космического пространства. В октябре 1957-го с полигона Тюратам, получившего позднее наименование космодром Байконур, был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Его сигналы мог слышать любой радиолюбитель в любой точке земного шара. С того дня начался отсчет космической эры человечества, а слово «спутник» облетело Землю и вошло во все языки мира. Вскоре советские спутники сфотографировали обратную сторону Луны, долетели до Венеры и прислали снимки поверхности этой планеты. Все шло к тому, чтобы в космос полетел человек. Там уже побывали, и не раз, собаки, а у американцев — обезьяны, правда, не все животные благополучно вернулись на Землю. В декабре 1960-го у Королева погиб очередной собачий экипаж: из-за неполадок в системе торможения и невозможности предсказать траекторию падения спускаемого аппарата его пришлось уничтожить.
Хрущев требовал как можно скорее отправить в космос ракету с человеком, чтобы опередить американцев, но Королев считал такую поспешность неоправданной. Он поставил перед собой задачу вывести на орбиту корабль с человеком только после двух (всего двух!) успешных пусков. В марте 1961-го на корабле «Восток» с манекеном «Иваном Ивановичем» слетала в космос Чернушка, затем, когда до полета Гагарина оставалось всего 18 дней, «Иван Иванович» побывал в космосе со Звездочкой.
Космический корабль «Восток» с первым человеком на борту сделал всего один виток вокруг Земли, но это было эпохальное событие — и личный подвиг Юрия Алексеевича Гагарина. Не все системы корабля и спускового аппарата были отлажены, гарантировать его безопасность никто не мог. Корабль изначально оказался на траектории на 100 километров выше запланированной, и в случае нештатной ситуации естественный спуск за счет гравитации проходил бы намного дольше расчетного, а на такое время на корабле не было запасов воды и питания.
Гагарин провел на орбите простейшие эксперименты: пил, ел, делал карандашные записи, — а свои ощущения записывал на бортовой магнитофон. Не зная, как отреагирует на такие перегрузки человеческая психика, ученые приняли меры, чтобы космонавт в случае умопомрачения не мог управлять кораблем: для перехода на ручное управление была предусмотрена специальная процедура — его можно было осуществлять, лишь вскрыв конверт с кодом и набрав код на панели управления. За 108 минут полета случилось несколько нештатных ситуаций: автоматика при торможении не сработала на разделение отсеков, перед входом в атмосферу корабль 10 минут беспорядочно вращался со скоростью один оборот в секунду, в более плотных слоях атмосферы спускаемый аппарат наконец отделился. К десятикратным физическим перегрузкам Гагарин был готов, сложнее было пережить психологические: при входе в атмосферу обшивка корабля загорелась (температура снаружи достигала 3–5 тысяч градусов Цельсия), по стеклам иллюминаторов потекли струйки жидкого металла, а сама кабина начала потрескивать. Катапультировавшись на высоте 7 километров, Гагарин чуть не задохнулся: в скафандре не сразу открылся клапан, через который должен поступать наружный воздух. Приземление произошло не в ПО километрах от Сталинграда, как ожидалось, а южнее, и, чтобы не оказаться в ледяной воде Волги, Гагарин стропами скорректировал свое приземление в Саратовской области, недалеко от города Энгельса. Все эти обстоятельства долго составляли тайну, и мы узнали о них спустя много лет, когда его уже не было в живых.
Гагарин сразу стал любимцем миллионов людей на планете, а с его полета установилась традиция, согласно которой в Москве, на аэродроме, космонавта встречал руководитель страны, и он по ковровой дорожке шествовал прямо от трапа самолета, чтобы доложить об успешном завершении полета. Гагаринский проход по ковровой дорожке к встречавшему его Хрущеву запомнился всему миру… развязавшимся шнурком ботинка. Правда, советские граждане этого не увидели: о шнурке знали только на Западе, благодаря западным кинооператорам, снимавшим его проход. Многие тогда запомнили эту трогательную деталь, выдающую обычные человеческие эмоции и вызывающую сильные ответные чувства: любви, признательности и восхищения…
Космическая тема и судьба Гагарина сыграли огром-иую, если не определяющую роль в формировании поколения Юрия Полякова, во всяком случае той его части, которая была настроена на созидание и самореализацию в советском социуме. На вопрос: «Кем ты хочешь быть?» — многие его сверстники отвечали: «Гагариным!» И никто над этим не смеялся. Недаром, вспоминая детские ощущения, Поляков написал много позднее стихотворение, пронизанное космическими символами и мотивами:
Еще ты спишь, рассыпав косы, Любимая… Но мне пора! Я выхожу в открытый космос Из крупноблочного двора И улыбаюсь сквозь зевоту Всему, чего коснется взгляд: Вокруг меня компатриоты, Подобно спутникам, летят, Бег с циферблатами сверяя, Гремя газетой на ветру, Докуривая и ныряя В метро, как в черную дыру. Тоннель из тьмы и света соткан. Но к солнцу лестница плывет. Растет уступами высотка, Напоминая космолет. Строку задуманную скомкав, Я застываю впопыхах, На миг влюбляюсь в незнакомку С печалью звездною в очах. И вновь спешу, прохожий парень, Мечту небесную тая. Я твой неведомый Гагарин, Москва, Вселенная моя! («Московская юность». 2014)* * *
В августе 1961-го — гагаринского — года в космос полетел космонавт номер два Герман Титов, который пробыл там уже целые сутки, так что западный обыватель, с умелой подачи СМИ, переполошился, увидев в этом чуть ли не угрозу существованию западного мира. В СССР эта новость уже не ошеломила, но была встречена, конечно, с огромным энтузиазмом. Пройдет немного времени, и советские люди привыкнут к тому, что вдруг прервется радиопередача и торжественно, сдерживая ликование, диктор произнесет: «Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!..» — и сообщит об очередном успешном запуске пилотируемого космического корабля.
В сентябре 1961 — го могло произойти еще одно событие, эпохальное только для Юры: он мог пойти в школу. До семи лет ему оставалось всего два месяца, и обычно, при настойчивости родителей, в таких случаях детей в первый класс брали. Тем более что читать мальчик легко выучился сам, еще в пять лет. А воспитательницы в детском саду, отмечая его раннее развитие и склонность к рассуждениям, даже в шутку называли его «профессором». Но Юрины родители настаивать не стали, решив: пусть еще подрастет, тогда и учиться будет легче. Обычно «продвинутые» родители непременно использовали возможность отдать мальчика в школу пораньше, чтобы к окончанию у него была в запасе лишняя попытка поступить в вуз, не рискуя сразу, как тогда выражались, загреметь в армию. Но, как это часто бывает в простых русских семьях, Юрины родители честолюбивых планов насчет сына не строили, несмотря на щедрый прогноз проницательного священника, и не готовили сына к штурму карьерных высот.
Вот как описаны Поляковым виды на будущее мальчика из рабочей семьи.
…………………..
Отец в день рождения тоже ставил Гену затылком к притолоке и делал охотничьим ножом затеей.
— Сколько? — спрашивала мать.
— Пять сантиметров прибавил, жираф! Еще десять сантиметров — и можно в армию сдавать.
— Какая-ить, армия? Паренька в ремесленное не возьмут, — вздыхала бабушка Марфуша, по старинке называя ПТУ «ремесленным училищем».
— Да бросьте вы, мама!
— Хошь брось, а хошь подними!
Спор шел из-за довольно большой, с двухкопеечную монету бородавки, выросшей у ребенка на правой ладони, прямо посередке. Виновата была, без сомнений, серая пупырчатая жаба, жившая под крыльцом отрядного корпуса в пионерском лагере «Дружба». В самом конце смены Гена с приятелем жестоко замучили бедную тварь, изошедшую перед кончиной мстительной слизью, от которой, как известно, и случаются бородавки. Теперь бабушка стенала, что мальчик не способен сжимать в руке молоток или напильник, а значит, не сможет заработать себе на хлеб. То, что ее внук во взрослой жизни может предаться иному, не рукомесленному делу, старушке даже не заходило в голову. Родителям, кстати, тоже…
(«Любовь в эпоху перемен»)…………………..
Юра с детства был предоставлен самому себе, и результат получился поразительный: мало кто из ровесников так стремился к знаниям, как он. К тому же учеба с самого начала давалась легко, а потому ему все время хотелось заглянуть куда-то еще, узнать о том и об этом, попробовать все сразу: и балалайку, и трубу, и бокс, и легкую атлетику, и рисование, и фотодело…
Известный психолог Александр Нил много лет назад открыл в Англии школу для детей, не желающих учиться. К нему их привозили отчаявшиеся родители, а Нил, который понимал, какое давление на детей оказывали дома, предоставлял им полную свободу: они могли делать что захотят. Обычно за пару недель детям страшно наскучивало бегать, играть и валять дурака, и они сами приходили в класс. Только одна девочка продержалась в ничегонеделании несколько месяцев, но в итоге и она сдалась.
В классе Нил своих подопечных не удерживал, и если им было неинтересно, они могли встать и уйти. Изучаемые предметы дети выбирали сами. В итоге из школы не вышло ни одного нобелевского лауреата, зато все ученики получили специальное образование и профессию, к которой были наиболее склонны: из них вышли хорошие врачи и учителя, инженеры и воспитатели.
Возможно, родители, насильно устремляя ребенка к знаниям и за него планируя его будущую жизнь, нарушают какие-то биологические ритмы, согласно которым развивается не только тело, но и душа, и разум. Так что Юрины родители, сами того не подозревая, применили к сыну самую передовую методику, позволяющую человеку по собственной воле, без понуканий, овладеть знаниями и определиться в жизни. У них не было особых ожиданий в отношении сына, им важно было только, чтобы он вырос хорошим человеком. Они не примеряли ему профессий, не внушали ужас перед теми из них, что связаны с физическим трудом, не пугали армией, как это делали многие папы и мамы. Короче, родители не ставили перед ним задач — и настало время, когда он сам их себе поставил.
Первоклассником Юра стал в 1962-м. Школа № 348 находилась буквально в 300 метрах от общежития, так что водить его туда было незачем, он с первого класса Добирался до школы сам. Про маньяков тогда слыхом не слыхивали, а из истории с «Мосгазом» почему-то вывод был только один: нельзя открывать дверь незнакомым людям. О том, что эти опасные люди тоже ходят по улицам, почему-то никто не думал.
«Это было одно из тех типовых школьных зданий, которых теперь становится в Москве все меньше, — вспоминает Юрий Поляков. — Мою школу тоже снесли и воздвигли на ее месте современный комплекс. Но и прежняя, построенная сразу после войны, тоже была хороша! Все продумано. Четырехэтажное здание, в плане напоминающее букву «П». С боков входы в служебные квартиры учителей, а между выступающими, как бастионы, из стены боками встроен большой спортивный зал. За ним — спортивные площадки. С фасада — беленые яблони и груши: пришкольный сад. Над входными дверьми, массивными и парадными (а как же, здесь начинается путь в Страну знаний!) — четыре алебастровых плафона с профилями Пушкина, Толстого, Маяковского и Горького. Все как один классики отечественной литературы. Ни тебе Суворова, Щепкина, Кутузова, Поддубного, Чкалова, Лобачевского, Менделеева, Циолковского… Интересно, правда? Идея явно шла от Сталина, особо ценившего писателей. А ведь в эти двери за десять лет обучения я входил, за вычетом каникул и пропусков по болезни, не менее двух тысяч раз. Ну как тут не задуматься о литературном поприще? Кстати, впервые мне приспичило высказать это намерение чуть ли не в пятом классе, в сочинении на тему: «Кем я хочу быть?» Так прямо и сообщил: буду писателем, а заодно кратко изложил сюжет задуманного и начатого (три страницы уже написал!) романа о пиратах. Мудрая Ирина Анатольевна, наверное, улыбнулась, подчеркнула красными чернилами ошибки — и запомнила…»
В классной комнате стояли еще старые парты с откидными крышками и отверстием для чернильницы-непроливайки. В «Работе над ошибками» Поляков вспомнил эти парты, которые не сразу сменили легкие и не такие удобные столы:
«Парты у нас были мощные, монолитные и словно покрытые наскальными рисунками, их каждый год закрашивали толстым слоем зеленой краски, но следы поколений, оставленные перочинными ножами и другими острыми предметами, все равно проступали: мальчишечьи и девчоночьи имена, соединенные многозначительными плюсами, прозвища злых учителей, незапоминающиеся формулы… Переходя из класса в класс, мы вырастали из своих парт, как из детской одежды, — и это называлось взрослением. Приветствуя входящего учителя, мы вставали и хлопали откидными крышками — и в этом была какая-то особенная торжественность».
Те, кто учился в то время, помнят это лихое и якобы ненарочитое хлопанье в начале и в конце урока.
В первых трех классах занятия начинались с того, что дежурный разносил в специальном деревянном ящике чернильницы. Иногда кто-нибудь из озорства совал в чернильницу кусочек промокашки, и тогда тот, кому она досталась, обмакнув перо, к удовольствию соседа, ронял на раскрытую тетрадку кляксу. Потом появились уже не классные «непроливашки», а индивидуальные, которые дети носили в портфеле и которые все-таки проливались, и чтобы этого не произошло, их надо было стиснуть учебником и пеналом. Написанное в тетради важно было вовремя промокнуть розовой или голубой промокашкой (помните, у Андрея Вознесенского: «Живет у нас сосед Букашкин / в кальсонах цвета промокашки»?), чтобы чернила не размазались, иначе могут за неряшливость снизить оценку. На чистописании школьники выводили с нажимом палочки и крючочки, учились проводить волосяную линию и правильно держать наклон. Это было трудно, и у Юры тоже не сразу получилось. Сейчас-то муки чистописания вспоминать забавно, а тогда:
«У матери был идеальный почерк, а у отца что-то напоминающее предынфарктную кардиограмму. Я пошел в него, писать красиво мог, но только с помощью страшного волевого усилия. Стоило чуть ослабить внутреннюю гайку — и буквы пускались вприсядку. А в самом начале, когда осваивались прописи, настоящим кошмаром стала для меня маленькая буква «в». Она решительно не получалась, особенно соединительная петелька. Я плакал, сажал кляксы, ломал перья, вырывал испорченные страницы из тетради и все-таки победил ее, зловредную, навсегда. Однако свой почерк и сам иной раз не могу разобрать…»
В третьем классе детям разрешили писать авторучками. В решительный момент — во время контрольной по арифметике или диктанта — у кого-нибудь непременно заканчивались в авторучке чернила. Нерадивый ученик брал склянку с чернилами, что хранилась в шкафу у учителя, и обнаруживал, что крышка плохо отвинчивается, точнее — совсем не поддается. И пока он с ней возился, урок благополучно подходил к концу.
Юре не было нужды прибегать к подобным хитростям. Наоборот, ему страшно нравилось первым решить примеры на контрольной по арифметике или до срока закончить изложение и получить у учительницы разрешение постоять в коридоре в ожидании звонка. Ему и списывать не приходилось — списывали обычно у него, и потому самые хулиганистые мальчишки в классе относились к Юре хорошо, не толкали и не подставляли ножку на переменках, не задирались после уроков и не устраивали ржачку, если у него что-нибудь не сразу получалось на физкультуре — а такое ведь время от времени случалось с каждым: в этом возрасте и равновесие держать, и контролировать свое тело умеют далеко не все.
Мальчишки, как водится, больше всего любили уроки физкультуры, когда нужно лазить по канату, прыгать через козла, метать мяч, играть в пионербол. Юра Поляков все это делал без особого восторга. Нельзя сказать, что он был рохлей или слабаком, но к мускульной доблести особо не стремился, да и драться не любил, предпочитая словесную дуэль. Со временем, если между одноклассниками возникала конфликтная ситуация, готовая перерасти в драку, Юру звали, чтобы кончить дело мирными переговорами.
Зато он увлекался внеклассным чтением, когда его (или кого-то еще из отличников) учительница вызывала к доске, и он читал вслух интересные книжки: веселые, смешные, грустные, героические, — а когда звенел звонок, 3 «Б», заслушавшись, дружно умолял Ольгу Владимировну почитать еще немножечко, чтобы поскорее узнать, что дальше. Юрина первая учительница, как он потом понял, представляла собой характерный для советской школы тип преподавателя, у которого со школой связана вся жизнь. Она была спокойна, участлива, по-настоящему внимательна к ученикам и старалась подметить в каждом особые таланты.
«Классе в третьем, — вспоминает Юрий Поляков, — мы писали изложение про первомайскую демонстрацию. Ольга Владимировна прочла мое изложение в классе, а после очередного родительского собрания задержала мать: «Обратите внимание, у вашего сына явные способности. Он хорошо пишет, подбирает интересные выражения, сравнения. Я давно преподаю и знаю: такое редко встречается».
Слышать это было, конечно, приятно, но трудно себе представить, что бы могла сделать Лидия Ильинична для развития способностей сына, тем более в том его «незрелом» возрасте. Возможно, в интеллигентной семье ребенка стали бы заставлять читать умные книги, записывать свои впечатления от поездки на дачу и декламировать перед гостями выбранные родителями стихи. Но Юрины папа и мама продолжали придерживаться передовой методики Александра Нила…
Говоря о советском детстве, нельзя не коснуться такого феномена той эпохи, как «пионерское лето». Вся страна была покрыта сетью пионерских лагерей, куда после окончания учебного года устремлялась основная часть детского населения. Юра не стал исключением. Девять лет подряд он уезжал в июне на первую смену в лагерь «Дружба», расположенный рядом с платформой «Востряково» Павелецкой дороги и принадлежавший на паях Маргариновому заводу, Макаронной фабрике и предприятию с загадочным названием «Клейтук». Путевка со всеми профсоюзными скидками стоила всего 9 рублей, а многодетным семьям вообще давалась бесплатно. Отъезд в пионерский лагерь был серьезным событием в жизни ребенка: вместо привычных школьных друзей множество новых, незнакомых лиц и долгая разлука с родителями. Кстати, пионерский лагерь «Дружба» Юрий Поляков описал в романе «Гипсовый трубач», где, начиная с названия, немало трогательных страниц навеяно богатым на события пионерским летом. К этой теме он обращался и в стихах.
Жизнь в пионерском лагере была строго регламентирована, даже военизирована: подъем, питание и отбой по горну, утренние и вечерние построения: равняйсь — смирно, рапорт сдан — рапорт принят, флаг поднять — флаг спустить. В столовую — строем, в клуб кино смотреть — тоже строем. Если провинился — наряд на кухню. Впрочем, в свободное время занимайся чем хочешь: играй в футбол или в КВН, строй авиамодели, пили лобзиком, шей в кружке мягкую игрушку, пой в хоре, декламируй Маяковского, готовь номер для смотра художественной самодеятельности, выпускай стенгазету. Ну а если ты очень смелый, можешь вместе с ребятами из соседней деревни совершить «набег на садоводов» — поесть вволю кислых яблочек, а потом угодить в медпункт с расстройством желудка. Правда, за такое могут и из лагеря выгнать, как выгнал товарищ Дынин Костю Иночкина.
«Популярный фильм режиссера Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» ныне воспринимается многими как почти реальная картина советского детства, на самом же деле это очень талантливая карикатура, шарж, — делится своими мыслями Юрий Поляков. — Большинство детей, с яслей воспитанных в коллективистских традициях, в том числе и меня, такая жизнь вполне устраивала, мало того — она нам нравилась. Для некоторых мальчиков и девочек из малообеспеченных или неблагополучных семей внимание вожатых, насыщенный культурный досуг и регулярное хорошее питание (не все города снабжались, как Москва) вообще было в диковинку. Юный Элем (Э-нгельс, Ленин, М-аркс), сын крупного московского партчиновника, думал иначе, его такая заорганизованная жизнь в номенклатурном, а значит, образцовом пионерском лагере раздражала и смешила. Что ж, у богатых свои причуды».
Вот как — совершенно в духе гротескного реализма — обсуждают такой «конфликт интересов» поляков-ские герои Кокотов и Жарынин:
…………………..
— Фильм-то хоть помните?
— В общих чертах…
— В общих чертах, — передразнил Жарынин. — Эх вы, пророчества надо знать наизусть! Я вам напомню… Образцовый пионерский лагерь. Все дети ходят строем, купаются по команде, участвуют в художественной самодеятельности, едят с аппетитом и прибавляют в весе. Мечта! Но один пионер Костя Иночкин строем не ходит, купается когда и где захочет, да еще дружит с деревенскими мальчишками. И тогда директор лагеря товарищ Дынин отправляет Иночкина домой, к бабушке. Костя, не желая огорчать старушку, тайно возвращается в лагерь. Друзья-пионеры, пряча его от Дынина, оформляются, как оппозиция директорской диктатуре. В итоге: Дынин уволен…
— Это я все помню, — раздраженно заметил Кокотов. — Ну и где тут пророчество?
— Сейчас объясню. Чего, собственно, добивается Дынин? Порядка, дисциплины, организованного досуга и прибавки к весу. Кстати, эта мания — откормить ребенка — осталась от голодных послевоенных лет. Разумеется, в сытые семидесятые это выглядело нелепо. А вот в девяностые, когда в армии для новобранцев устраивали специальные «откормочные роты», это уже глупым не казалось. История повторяется. Но вернемся к Дынину. Ведь все, чего он требует от детей, абсолютно разумно! Вообразите: если три сотни пионеров перестанут ложиться, просыпаться и питаться по горну, откажутся ходить строем, начнут резвиться и бегать сами по себе… Что случится?
— Хаос, — подсказал писатель.
— Верно! А если дети станут купаться где попало, без надзора взрослых? Что есть пионер-утопленник? Горе — одним, тюрьма — другим. Так?
— Это самое страшное! — передернул плечами бывший вожатый. — У меня однажды девчонка из первого отряда пропала. Думали, утонула в Оке. Даже водолаза вызывали. Я чуть не поседел в двадцать лет. Верите?
— Еще бы! А контакты с деревенскими? Это же гарантированная эпидемия. Так кто же он, наш смешной и строгий Дынин, требующий соблюдения всех этих правил коллективного детского отдыха? Догадались? Думайте!
— Не знаю. Сдаюсь.
— Дынин — это советская власть!
— Да ладно вам!
— А вот и не ладно! Вспомните, незабвенная советская власть занималась тем же самым: порядок, дисциплина, организованный досуг, рост благосостояния народа… Другими словами, прибавка в весе.
— А кто же в таком случае Иночкин?
— А Иночкин — это неблагодарная советская интеллигенция, которая всегда ненавидела государственный порядок, но жалованье хотела получать день в день. И какую отличную фамилию Элемка придумал для героя. Иночкин! Значит, инакомыслящий! Маленький, милый, но уже безжалостный разрушитель государственного порядка…
(«Гипсовый трубач»)…………………..
Если отвлечься от аллегорий, невозможно не согласиться с тем, что ничего предосудительного в желании взрослых навести порядок не было: опыт любого, даже самого лояльного к детям педагога показывает, что невозможно организовать их безопасный и качественный отдых без жесткой дисциплины.
Для Юры выезд в пионерский лагерь «Дружба» был долгожданным событием. Не он один был таким старожилом: там у него были товарищи и подруги, с которыми они вместе взрослели от лета к лету. Там они играли в «Зарницу», которую начали проводить по всей стране в 1967 году. В этой военно-спортивной игре принимали участие ученики 4-х—7-х классов. «Зарница» входила в план начальной военной подготовки в средних школах в связи с сокращением службы в Советской армии с трех до двух лет. В первое время она еще не стала мероприятием для галочки и очень воодушевляла и мальчишек, и девчонок. Они с удовольствием ездили на стрельбы, выслеживали в поле десант противника либо сами ходили в разведку, бегали, прыгали — получая зачеты и очки, по которым определялся победитель. Первый финал игры прошел в Севастополе, на знаменитой Сапун-горе, куда, конечно, ни Юрин отряд, ни другие отряды их пионерлагеря не попали, а позднее Юра уже выбыл из «зарницы некого» возраста.
Зато они ходили в походы с ночевкой к речке Рожайке, пели у костра песни и увозили домой пионерские галстуки, испещренные автографами новых и старых друзей. Как у большинства мальчишек, в лагере у Юры было прозвище, закрепившееся за ним с первой смены, — Шаляпин. Однажды в мальчишечьей палате вышел спор, кто лучше, Лемешев или Козловский. Даже в те годы среди взрослых, особенно мам, сохранялось много «козлисток» и «лемешисток» — фанаток обоих певцов. Спор получился жарким, и стороны обратились к рассудительному Юре. И восьмилетний «профессор», выслушав доводы антагонистов, неожиданно объявил, что лучше всех Шаляпин. И ведь спорить с этим трудно. В самом деле, мощный бас по сравнению с тенорами не может не казаться мальчишке лучше! Как это ни удивительно, Юру и его ровесников тогда по-настоящему волновали подобные высокие материи.
Когда кончалась первая смена, Юру ожидало совершенное счастье — Волга! Пока дед Георгий был еще жив и крепок, Юра уезжал с ним и бабушкой Маней на Волгу, в деревню Сел ищи, родные дедовы места. Очень скоро они стали родными и для Юры, и семь лет подряд он радостно готовился к предстоящему путешествию, на два летних месяца становясь деревенским жителем. Домой возвращался, поднабравшись местных словечек и невольно копируя деревенский выговор. Когда вместо «вон там» он говорил «эвона», взрослые невольно смеялись, а мама украдкой вздыхала. Разница между сельской родней и городской была тогда незначительной, вот только жили они очень по-разному: в деревенском сельпо зияли пустые полки, и денег там ни у кого не было, а комната на лето сдавалась за 50 копеек в день, что было для хозяев существенным заработком. Дети особенно остро чувствовали не только разницу в образе жизни, но и в манере речи, неосознанно подражая живому деревенскому языку. Правда, деревенские словечки пропадали из речи так же быстро, как смывался летний загар.
Дачи тогда у кого-то, конечно, были, но в Юриной школе редко можно было услышать фразу: «Мы едем на дачу». Девчонки и мальчишки либо по две-три смены проводили в пионерском лагере, либо, как и Юра, отправлялись на пару месяцев в деревню.
В Селищах земля была возделана, у каждого были огород и небольшой садик, тем не менее запасов из Москвы приходилось брать с собой немерено: крупы, макароны, чай, тушенку, «Завтрак туриста», желудевый кофе «Дружба»…
Из Химок до Кимр их вез теплоход, хотя по Волге еще ходили и колесные пароходы, похожие на знаменитую «Ласточку» из фильма «Жестокий романс». Выгрузившись на пристани со всеми своими чемоданами, узлами и авоськами, они пересаживались на катер, но прежде бабушка Марья Гурьевна пересчитывала вещи: все ли на месте. Внук жался поближе к взрослым: в городе было много цыган, а они, как стращали его взрослые, крали не только чемоданы, но и зазевавшихся детей.
«Когда из-за поворота реки открывался вид на Селищи, у меня невольно начинался внутренний монолог, в каком-то выспренно-торжественном стиле: «Здравствуйте, дорогие Селищи! Наконец-то я снова встречаюсь с вами!» — с грустной усмешкой вспоминает Поляков. — А ведь я был еще ребенком лет семи-восьми. Литература начинала пробиваться во мне откуда-то из непонятных глубин. Кто знает, может, мой далекий предок был племенным сказителем… Во всяком случае, истории я всегда рассказывал неплохо. Писателю лучше всего вырасти у моря или на большой реке. Река явно подпитывает человека какой-то особой энергией. То, что начальные годы своей жизни я провел именно здесь, на Волге, и именно летом, когда душа свободна… — думаю, сыграло определенную роль в моей творческой судьбе».
На катере путешественники плыли до Селищ примерно час, а там, пристав к понтону (в ту пору такие причалы были у каждой прибрежной деревеньки), выгружали скарб, дед шел к родственникам за лодкой, и оставшиеся полкилометра, почти до самого дома, шли на веслах, едва умещаясь в до краев заполненном пожитками суденышке.
Деревенская жизнь была богата не только событиями, но и какой-то внутренней тишиной. В городе он учился, и ему нужно было запоминать тьму всевозможных вещей — здесь мог просто сидеть на берегу и наблюдать, как набегают на берег волны от прошедшего мимо теплохода, как дважды в день причаливает к понтонной пристани катер с хлебом, как несут с него деревянные лотки в сельпо, мог жадно вдыхать плывущий по деревне запах свежего хлеба — и влажный запах Волги, которым невозможно надышаться. Тогда этот берег выглядел совсем иначе, чем теперь: песчаная часть была значительно шире, из песка торчали огромные мареновые валуны, оставленные отступавшим ледником. А вдоль берега мимо палисадов шла пыльная дорога, по которой ездили грузовики и подводы с зерном, молочными бидонами и сеном. Рано утром, чуть свет, дачников будили громкие автомобильные гудки — это бригадир вызывал на работу и увозил в поле хозяйку дома тетю Шуру Кащееву: зарабатывать трудодни. Советская колхозная деревня жила насыщенной трудовой жизнью. Особенно это было заметно, когда вечером через всю деревню пастухи гнали огромное стадо, и хозяйки разбирали своих буренок, а через полчаса из каждого хлева доносился невыразимый запах парного молока.
Деревня тогда почти вся состояла из обычных для этой местности бревенчатых изб, крытых дранкой. Среди них попадались и дореволюционные. Немцы сюда не дошли, здесь не было тех страшных разрушений, что принесла война. Наоборот, сохранялись обломки быта ушедших эпох, а порой и вовсе диковинные вещи: как-то, копаясь в сарае, среди гвоздей и шурупов мальчишки нашли большой екатерининский медный пятак, и эта находка их чрезвычайно впечатлила.
Деревня, сельские виды, сельские люди, сельские пейзажи, лесные чащи, широкая Волга, походы в лес за грибами, впечатления от природы постоянно появляются в прозе и стихах Юрия Полякова — и это все отсюда, из Селищ, мест, где проходили счастливые летние дни его детства.
Я в лес вхожу, как в дивную страну, Перешагнув крутых корней пороги. Шумит листва, пни помнят старину, Росистою травою вяжет ноги. Седых стволов качающийся скрип Органную напоминает мессу. И если я найду волшебный гриб, То вызову зеленых духов леса…Исследователи отмечают точность и конкретность описаний природы в его прозе, и особенно это заметно в «Грибном царе», где природа фактически стала одним из персонажей романа.
Но какая река без рыбалки, а тем более Волга! Это настоящий мужской промысел, азартный и даже порой опасный. «Однажды мы поплыли на противоположный берег, где было озеро, теперь высохшее. Когда возвращались, поднялись волны, да еще сломалось весло. И вдруг из-за поворота реки возник огромный трехпалубный теплоход, он сверкал стеклами, грозно гудел и хмурился на нас двумя черными якорями. С берега кажется, будто теплоходы плывут медленно, а этот стремительно вырастал над нами, как многоэтажный дом. Отец с дедом кое-как стянули сломанное весло ремнями, и буквально в последний момент мы выскочили из-под острого носа гиганта…»
Воспоминания о рыбалке вылились и в стихи: Когда мы свой улов несли домой, Прохожие с расспросами совались, А дед с отцом рядили меж собой О рыбинах, которые сорвались. О, были удивительно вкусны Уловы те! От памяти немею… А после про рыбалку снились сны — Такие, что куда Хемингуэю!Сейчас многое изменилось в Селищах — коров не стало, катер в деревню не ходит, зато есть прямая дорога в Кимры. Поля и берега густо заросли деревьями, а валуны еле видны из воды, уровень которой регулирует Угличская ГЭС. Бывая здесь в поздние годы, Юрий Поляков особенно остро ощущает, как быстро и безжалостно стирает природа следы человеческих усилий. К этой мысли он часто обращается при виде запустения некогда дорогих сердцу мест.
Природа стирает людские следы, Как будто прорехи латает. Мелеют колодцы, дичают сады, Бурьяном поля зарастают…Да и лес в округе стал сохнуть и умирать. А комаров здесь, как и прежде, тучи, от них не помогали ни мазь «Тайга», ни одеколон «Гвоздика», которыми тогда запасались городские, выезжая на природу. У деревенских было свое верное средство: покурить самосад. А дед Георгий перед сном жег в избе на сковородке можжевельник, и комары мгновенно улетучивались, после чего окна закрывались и можно было ложиться спать.
Ныне Селищи из деревенской глубинки превратились фактически в дачный поселок, где с немногими ветхими избушками соседствуют добротные современные дома под черепицей, окруженные высокими заборами, и заборы эти тянутся прямо к реке: чтобы искупаться, надо долго плутать по лабиринту частнособственнических выгородок. Вдоль берега в рассеянной задумчивости уже не побродишь. Вспоминая знаменитую строчку Некрасова: «Выдь на Волгу: чей стон раздается…», Поляков с грустью шутит, что ныне это уже не так легко сделать: выйти на Волгу, к воде…
В конце августа семья возвращалась в Москву с вязанками сушеных грибов, банками черничного и малинового варенья. Дома, на письменном столе, Юру ждала стопка учебников, на обложках которых значилась новая цифра, и год от года она менялась: 3, 4, 5, 6…
* * *
Совместное обучение в школе было введено только в 1954-м, до этого мальчики и девочки учились раздельно. Возможно, в том были свои плюсы, но в совместном обучении их, конечно, гораздо больше. Присутствие девочек создавало атмосферу веселой тайны: уже чуть ли не со второго класса у мальчишек и девчонок возникали влюбленности, сплетались заговоры, летали по классной комнате записки, страдали от тайных чувств косички и портфели. Стесняясь девочек-санитаров, проверявших руки и уши по утрам, перед входом в класс, мальчишки старались вовремя стричь ногти, а плохо выучив урок, сгорали от стыда у доски.
Юра был как все. В пятом классе ему очень нравилась Шура Казаковцева, девочка с удивительными светло-карими глазами. Однажды на уроке пения Юра решился поведать ей о своих чувствах. Набравшись храбрости, шепнул: «Знаешь… У тебя глаза, как шарики с Казанки…» — и был поражен тем, что в ответ Шура метнула на него взгляд, исполненный негодования.
Мальчишки тогда таскали с товарной станции Казанской железной дороги зеленые и медово-янтарные стеклянные шарики. Они были диаметром сантиметра три, и их назначение было никому не известно, но поскольку шарики были очень красивые, они входили в число сокровищ наряду с марками, этикетками и прочими вещицами, которыми мальчишки хвастали друг перед другом. Шуре явно была неизвестна высочайшая ценность «шариков с Казанки», и она не могла благосклонно принять сказанное, а тем более счесть услышанное за комплимент.
Другая девочка, оставившая след в его душе, жила в доме через дорогу, в аспирантском общежитии педагогического института. Звали ее Надя Кандалина. Они с мамой приехали из Кустаная, потому что мама училась в аспирантуре и должна была защищать диссертацию. Окно комнаты Нади было на четвертом этаже, справа от пожарной лестницы. И у Юры созрел героический план, как завоевать ее сердце: подняться вечером по этой лестнице и постучать в окно. А когда Надя подойдет и отодвинет занавеску, поступить, как и положено смельчаку: показать рожки или скорчить смешную рожицу. Такая отвага без ответа не останется. Договорившись с друзьями, Юра решился. Мальчишки его подсадили: пожарные лестницы расположены высоковато над землей, не допрыгнешь. Вначале он бодро карабкался все выше и выше и долез уже до третьего этажа, как вдруг зачем-то глянул вниз — и голова закружилась, а руки и ноги сделались ватными, и лоб покрылся испариной. Оказалось, что Юра страшно боится высоты. И этот страх оказался сильнее любви! Друзья с помощью старших еле сняли одеревеневшего Дон Жуана с пожарной лестницы — хорошо еще, милицию не вызвали. А вскоре Надя вернулась к себе в Кустанай.
Было и еще увлечение в старших классах, оставившее в сердце первый печальный опыт — женской неверности, что, конечно, со временем отразилось и в стихах:
Его девчонку видели в кино С тем длинноногим из восьмого «Б». И вот лицо тоской искажено. И все теперь темным-темно в судьбе… Отец твердит, что это ерунда, А он, мальчишка, нюни распустил. Мать говорит, что это не беда, А полбеды, — чтоб он ее простил. А он кусает губы до крови, А он кричит, что все на свете — ложь! Ты, паренек, сожмись, переживи, Ты в жизни все тогда переживешь!Школа и школьная любовь были одни из главных тем у молодых поэтов. Поэт Юрий Поляков тоже не раз обращался к этому незабываемому опыту:
Дразнилки, ссоры, синяки, крапива. Весна. Соседний двор. Идет война. А в том дворе, убийственно красива, Была в ту пору девочка одна. Я жил, учебник не приоткрывая. Ремень отцовский потерял покой. Была граница — это мостовая, Я вдоль бродил, но дальше ни ногой. Пришла метель на смену летней пыли. Велись слезопролитные бои, А во дворе у нас девчонки были, Конечно, не такие, но свои. В руках синица, и мало-помалу Любовь пропала, где-то… к февралю. И девочка-красавица пропала — Квартиру, видно, дали журавлю! Смешно сказать, через дорогу жили. Я был труслив, она была горда. Что нынче для меня дворы чужие? Но есть пока чужие города… (1974) Года летят и тянутся минуты. Ворочаясь бессонно до утра, Я часто вспоминаю почему-то Ту девочку с соседнего двора… (2014)Спустя 35 лет поэт, ставший известным драматургом, щедро подарит это стихотворение своему персонажу — талантливому, но опустившемуся стихотворцу Феде Строчкову из знаменитой пьесы «Одноклассница».
На уроках труда в начальных классах мальчишки вместе с девочками учились пришивать пуговицы и штопать носки (очень важное для жизни умение!), а позднее, пока девочки вышивали цветочки и прочую ерунду крестиком и стебельком, а самые ловкие — гладью, мальчишки выстругивали рубанком указки — если, конечно, получалось. Самую лучшую указку, гордясь собой, можно было принести в класс учительнице. Дальше у девчонок начиналось домоводство, их учили шить и даже готовить — и мальчишкам порой кое-что перепадало из их стряпни в качестве угощения. Сами они тем временем вытачивали из деревянных болванок какие-то формы: учились работать на станке.
Юра рано пристрастился к чтению и много времени проводил в библиотеке, а в школьную библиотеку бегал чуть ли не на каждой переменке. Когда записался в детскую районную, приносил домой сразу большую стопку книг и «проглатывал» раньше срока, так что скоро библиотекарша надолго задумывалась, глядя в формуляр и решая, что ему еще предложить.
Читал допоздна, с фонариком под одеялом, в основном приключения и фантастику: Жюля Верна, Александра Беляева, Майн Рида, Вальтера Скотта и др. И до выхода на экраны фильма «Мама вышла замуж» ему даже в голову не приходило, что поздние бдения сына не оставляли родителям времени на личную жизнь, ведь вставать на работу им приходилось намного раньше, чем Юре — в школу.
…………………..
Я проснулся до будильника. Отец допоздна слушал футбольный репортаж и не выключил приемник. Сначала послышались размеренные пощелкивания, а потом нашу комнатку заполнил громокипящий гимн Родины. Музыка вскипала и накатывала торжественными волнами.
Отец чертыхнулся, зашарил в темноте, но не сразу нашел нужную кнопку — транзистор новый и непривычный. Гимн еще раз вскипел и оборвался.
Отец, кряхтя, сел на кровати и, чертыхаясь, выключил радио, стоявшее на тумбочке. Если бы он слушал репродуктор прикрепленный в углу и похожий на черную шляпу, не пришлось бы вставать. Но с тех пор как на заводе ему подарили к 23 февраля транзисторный приемник «Сокол» в кожаном футляре, отец слушает только его, приложив к уху. Мать сердится: «шляпа» вещает бесплатно, а для «Сокола» нужно время от времени покупать батарейки «Крона». Кроме того, она не верит, что транзистором отца наделил завком, и подозревает какую-то Тамару Викторовну. Но он без конца дает «честное партийное слово», и мать, тоже член партии, вынуждена верить.
— А что у нас там такое? — тихо спрашивает отец щекотливым голосом.
— Не надо! — сердито шепчет мать. — Убери руку! Дай поспать!
— Все равно через полчаса вставать…
— Не надо, говорю тебе! Профессор наверное, проснулся…
— Хочешь, проверю? Я знаю, когда он притворяется…
— Не хочу! Слушай лучше Тамаркин транзистор!
— Ну вот, снова-здорово! Я ей про Фому — она мне про Ерему!
Отец возмущается, встает с кровати. За окном еще не рассвело, а лишь слегка посерело. И его белая майка сама движется по темной комнате, вися в воздухе, будто у Человека-Невидимки. Эту книгу я дочитал позавчера и стал фантазировать, как буду бродить по общежитию, незамеченный, заходя в комнаты, а летом в пионерском лагере смогу безнаказанно заглянуть в девчачий душ. В прошлой смене Лемешев на спор залез туда, но они такой крик подняли, что его чуть не выгнали из лагеря.
Отец гремит спичками, подходит к окну, встает коленом на широкий и низкий мраморный подоконник, открывает форточку и чиркает спичкой. Она вспыхивает в сложенных ладонях и напоминает лампу под красным абажуром. На минуту в рыжем свете видны его кудрявые волосы, густые сдвинутые брови и небритые щеки, западающие при затяжке. В комнате пахнет «Беломором» и холодной уличной свежестью. Отец курит и присматривается ко мне, я стараюсь дышать ровно.
— Профессор спит, — многозначительно сообщает отец.
— Нет! — твердо отвечает мать.
«Профессор» — одно из моих прозвищ. Родители говорят, что так звали меня воспитательницы в детском саду. На вопрос, как я вел себя в течение дня, они обычно отвечали: «Хорошо вел! Другие носятся, орут, проказят, а ваш все время сидит и думает, как профессор. Не ребенок — чудо!» Потом это прозвище забылось, и я стал «гусем», так как у меня низкий гемоглобин и бледное лицо. Затем стал «Пцырохой»: когда ездил с дядей Юрой к морю, в Новый Афон, в списке станций вместо трудного абхазского названия «Пцырсха» я по ошибке прочитал «Пцыроха». Пассажиры страшно хохотали и даже из других вагонов приходили, чтобы поглядеть на «пцыроху». Затем меня звали «делегатором». Как-то мы пошли в зоопарк: посмотрели тигров, львов, слона и стали искать крокодилов-аллигаторов. Когда нашли, я попросил отца поднять меня на руках над толпой и закричал: «Ну, где же, где ваш делегатор?!» Народ дружно прыснул. Дело было в канун съезда, и радио ежечасно твердило, как делегаты съезжаются в Москву со всех уголков необъятного Советского Союза. Каким образом в моем сознании делегат и аллигатор слились в загадочного «делегатора» — не ясно…
Но в последнее время меня снова стали звать «профессором», так как я выменял за марки плоский китайский фонарик с цветными фильтрами и читал под одеялом Жюля Верна. Отец страшно злился, срывал с меня одеяло, отбирал фонарик.
— Спи!
— Не хочу!
— Тогда дай родителям выспаться…
— Я никому не мешаю…
— Мешаешь!
— Отдай ребенку фонарик. Пусть немного почитает…
— Нет, не пусть! Итак уже в очках! Ослепнет — ты его кормить будешь?
— Я не ослепну! — твердо обещаю я.
— Спать! Дай сюда книгу!
— Сам не читаешь — так сыну дай почитать!
— Я вам сейчас всем дам почитать! — сурово обещал отец и включал в сердцах транзистор.
— Значит, говоришь, завком подарил? — зевая, чтобы вопрос выглядел как можно равнодушнее, спрашивала мать. — Ну-ну… Читай, сынок! Лучше вслух.
Повзрослев, я сообразил, что мои чтения с фонариком под одеялом мешали личной жизни родителей. Возможно, по этой самой причине и появилась неведомая Тамара Викторовна с транзистором. С другой стороны, вот так — в общежитиях и коммуналках — в ту пору жила почти вся страна. И ничего: семьи не распадались, дети зачинались в изобилии и росли в коммунальных коридорах. Кстати, это воспринималось как норма, ведь старики еще помнили деревенскую жизнь, когда в избенке обитали сразу три поколения, а в холода еще забирали к себе из хлева скотину, чтобы не замерзла. Будильники, наверное, напоминали им деревенских петухов с их бодрым утренним кукареканьем…
(Из неопубликованного. «Повесть о советском детстве»)…………………..
Жили, конечно, тесно. Стол, за которым Юра готовил домашние задания, был отгорожен фанерной перегородкой от телевизора, чтобы экран не мешал мельканием картинок. Со звуком проблем не было: умелый отец пристроил наушник и слушал трансляцию матча, не мешая ребенку и лишь иногда срываясь на крик: «Ну, ей! Ну! Эх, косоногий!» Но и это обстоятельство шло Юре только на пользу: углубившись в работу либо чтение, он научился ничего вокруг не замечать. К тому же по телевизору временами показывали отличные фильмы про революцию, Гражданскую и Великую Отечественную войну, про трудовые подвиги и конфликты, даже про любовь. Ну а если крутили «Волгу-Волгу», «Карнавальную ночь», «Гусарскую балладу» или «Веселых ребят» — все были счастливы.
…………………..
Фильмы про любовь мне не нравились. Когда на экране целовались, я отворачивался и просил: «Скажите, когда нацелуются!» Зато меня почему-то очень волновали идейные споры между героями, скажем, между горячим командиром и рассудительным комиссаром, большевиком и меньшевиком в пенсне, передовым бригадиром и чиновником… Слушая спор и еще не понимая смысл, я всегда спрашивал, чаще у отца:
— А кто прав?
— Он! — отвечали мне, для наглядности показывая пальцем.
— Я так и думал…
Как-то отец глянул на меня с недоверием. А во время другого фильма, где снова спорили, кажется, девушка, едущая по распределению в Сибирь, и юноша, решивший остаться в Москве, внезапно спросил меня:
— А теперь кто прав?
— Она.
— Гляди-ка, верно…
Сам не знаю почему, но по каким-то неуловимым приметам я с детства умел угадывать, на чьей стороне правота…
(Из неопубликованного. «Повесть о советском детстве»)…………………..
К самостоятельности не только в суждениях, но и в быту толкала сама жизнь. Родители весь день на заводе, бабушки тоже еще работают. Обедал Юра в заводской столовой, на оставленные мамой 40 копеек: полтарелки супчика, биточки с картофелем, хлеб, а на сдачу — бутылка лимонада. Эта картина и сейчас стоит у него перед глазами: вот, вернувшись из школы, он заходит в комнату, где посредине стоит круглый стол, накрытый сиреневой с желтыми кистями скатертью, а на столе, на блюдечке — две двадцатикопеечные монеты. Если монет не было, Юра заваривал себе суп из пакетика. Эти супы изготавливали поблизости, на заводе пищевых концентратов. Когда очередную партию термически обрабатывали, над районом стоял какой-то тошнотворный запах, который, правда, быстро улетучивался.
Но по воскресеньям семья была, конечно, вместе. Много лет спустя поэту Юрию Полякову попадется в руки фотография, запечатлевшая характерную для его семьи воскресную сценку:
Найдешь позабытое фото Впервые за несколько лет, А в мире прибавилось что-то, Чего-то давно в мире нет… На карточке: мамой ведомый, Я чем-то обижен до слез — На фоне старинного дома, В котором родился и рос. А рядом — чужому неведом, Но виден и маме, и мне, Отец мой с новехоньким «ФЭДом» «Внимание!» крикнул извне… С тех пор из былого маячит, От глупой обиды поник, Нахмуренный худенький мальчик — Мой девятилетний двойник.В третьем классе их приняли в пионеры, и Юра вместе со всеми дал торжественное обещание, которое тогда печатали на обороте тетрадок в линеечку (на тетрадях в клеточку красовалась таблица умножения): «Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Советскую Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия». Готовясь к приему, надо было вызубрить и законы пионеров Советского Союза, которые, кстати, наизусть не спрашивали:
• Пионер предан Родине, партии, коммунизму.
• Пионер готовится стать комсомольцем.
• Пионер равняется на героев борьбы и труда.
• Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества.
• Пионер лучший в учебе, труде и спорте.
• Пионер — честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду.
• Пионер — товарищ и вожатый октябрят.
• Пионер — друг пионерам и детям трудящихся всех стран.
Юра, как и подавляющее большинство сверстников, воспринял их как непреложные жизненные правила, которые, кстати, нисколько не противоречили его собственным представлениям о том, что хорошо и что плохо и как следует жить.
Принимали их торжественно, в Музее М. И. Калинина, который располагался напротив Дома Пашкова, — теперь в этом особнячке находится одно из подразделений государственного книгохранилища. Для юных пионеров провели небольшую экскурсию, и особое впечатление на мальчишек произвел лежавший в витрине личный браунинг «всесоюзного старосты».
Общительного и рассудительного Юру Полякова, который пользовался авторитетом в классе, сразу выбрали председателем совета отряда, носившего, между прочим, имя писателя Аркадия Гайдара. Конечно, выбрали не без подсказки учительницы Ольги Владимировны, но ведь ей-то и виднее. Со временем он стал председателем совета дружины школы имени летчика-героя Лукьянова, а когда вступил в комсомол — комсоргом класса, а позже — секретарем школьного комитета ВЛКСМ.
От пионерского времени остались самые светлые воспоминания: дела, которыми они занимались, увлекали всех, независимо от поведения и прилежания в учебе. Вначале это был сбор металлолома. Классы между собой соревновались, кто больше соберет бесхозных ржавых железяк, валявшихся всюду на унылых пустырях, в канавах, просто на газонах. Пионеры в своем общественно полезном рвении умудрялись побывать везде, в том числе на полузаброшенных стройках, откуда тащили батареи, трубы и прочие необходимые для строительства предметы. И взрослые поняли, что детский энтузиазм лучше использовать там, где он меньше всего может навредить. Пионеров переключили на сбор макулатуры. Какие невероятные горы пыльной бумаги они отовсюду натащили: старых газет, журналов, рукописей, тетрадей! Люди охотно отдавали детям никому не нужные, а совсем недавно как будто необходимые каждой семье книги: сборник речей Сталина, его работу «Марксизм и вопросы языкознания», Краткий курс истории ВКП(б) и много других раритетов, изъятых из библиотек, но пылившихся у них на антресолях и в кладовках.
…………………..
Мы заходили в парадные, поднимались по лестнице, пахшей кошками, останавливались у высоких дверей и, встав на мыски, нажимали звонок.
— Дети, вам чего?
— Мы собираем макулатуру.
— Что собираете?
— Ну, всякую ненужную бумагу.
— А вы знаете, что ненужная бумага тоже денег стоит, четыре копейки за килограмм? Вон идите во двор, там много бумажек валяется, заодно и чистоту наведете… — отзывался иной раз какой-нибудь подозрительный скопидом. — А может, вас кто подослал?
— Конечно, послал!
— Кто-о? — Скопидом начинал коситься на коммунальный рогатый телефон. Аппарат был обычно прикреплен к стене, испещренной телефонными номерами, которые жильцы наскоро записывали карандашиком, висевшим на веревочке.
— Совет дружины! — гордо отвечали мы.
Но чаще взрослые охотно выносили нам перетянутые шпагатом пачки газет и затрепанные учебники. Продавать населению за макулатурные талоны дефицитных Купера, Конан Дойля или Дрюона тогда еще не додумались. А тащить накопления в пункт «Вторсырья», к тому же постоянно закрытый из-за отсутствия тары, мало кому улыбалось. И вот однажды случилось чудо: открыв нам дверь, какая-то домохозяйка очень обрадовалась:
— Ой, как хорошо-то! А то у нас сосед померз комнату нам отписали, а книги теперь куда девать, даже не знаю… — и повела нас в коридор.
А там вдоль стены стопками стояли книги в старинных кожаных переплетах с золотым тиснением, старые журналы с незнакомыми названиями «Весы», «Аполлон». Отдельно высилась башня из темных аккуратных томиков, на титульных листах которых был изображен развалившийся на низкой кушетке дядька с венком на голове. В руках он держал длинную палку, загнутую на конце кренделем.
— Забирайте! Вот оттого, что пылью разной дышал, и помер! — сказала тетка. — Тащите, а то старьевщикам отдам!
На подмогу вызывать пришлось почти весь класс, чтобы унести столько макулатуры. Мне понравилась книжка со смешными картинками, и я по пути, пока друзья переводили дух, занес ее в общежитие, заодно и водички попил. Когда мы дотащили добычу до школьного двора и добавили в нашу кучу — победа стала очевидна! Первое место и переходящий вымпел с профилем Ильича, которого почему-то всегда изображали с шеей мускулистой, как у штангиста Юрия Власова. Но радовались мы недолго.
— Это откуда? — дрожащим голосом спросил математик Ананий Моисеевич, страстный библиофил. Он даже вспотел, перебирая принесенные нами книги.
— Кто-то умер. И нам все отдали.
— Боже, это же Клондайк! Полное собрание «Академии», — твердил он, тыча в мужика с крючковатым посохом. — Не может быть! Подшивки «Аполлона», «Весов»… Арцыбашев — собрание сочинений. «Шиповник»! Я с ума сойду!
Срочно послали за библиотекаршей — и книги унесли.
Года через четыре, когда я сам стал собирать книги, мне часто вспоминалась эта чудесная история, и я грезил, как захожу к той ненормальной домохозяйке, обнаруживаю этот Клондайк и один, тайно, с помощью верного друга Мишки Петракова, чтением не интересовавшегося, переношу сокровища домой. А та книжка, которую я себе оставил, называлась «Круги по воде». Да-да, знаменитый сборник рассказов Аркадия Аверченко, тогда еще в СССР не переиздававшегося, с иллюстрациями не менее знаменитого Реми… Она и по сей день в моей библиотеке…
(Из неопубликованного. «Повесть о советском детстве»)…………………..
Разложенная на груды с гордо возвышающимися над ними табличками «3 А», «3 Б» и т. д. макулатура каким-то образом взвешивалась (а возможно, просто оценивалась на глаз), и детям объявляли победителя. Как правило, наградой были переходящие вымпелы, поездка вместо уроков в музей, поход в театр, а для классов постарше — поход с ночевкой. Электричка, лесные заросли, тучи комаров, а в конце — костерок, веселые и грустные песни чуть не до утра, когда учителя вдруг становятся просто взрослыми: усталыми, беспокойными, но участливыми и компанейскими. Они с удовольствием подхватывали, вторя ученикам, гимн советского туриста, песню Ады Якушевой:
Вечер бродит по лесным дорожкам, Ты ведь тоже любишь вечера, Погоди, побудь еще немножко, Посидим с товарищами у костра…И рассказывали притихшим ребятам не только о своем пионерском детстве — а вообще о жизни, как они сами ее понимали. Дети узнавали о трудной судьбе, об утратах и семейной жизни своих наставников, учились другими глазами смотреть на них и те отношения, которые складываются в школе между учителем и учеником.
В театр они ходили, можно сказать, регулярно: по школам распространяли самые дешевые билеты почти во все театры Москвы вплоть до Большого, за исключением, пожалуй, «Таганки» и «Современника», постановки которых были во многом экспериментальными. Особенно часто Юра с классом бывал в областном кукольном театре, расположенном недалеко от школы. В основном дети посещали спектакли по произведениям, входившим в школьную программу, но бывали и на современных пьесах — в театрах имени Пушкина и Гоголя. Ходили классом и в кино, а потом писали сочинение, например, про «Сказку о потерянном времени». Впрочем, Юра-то как раз времени и не терял.
Когда в 1964 году в семье Поляковых появился еще один сын, Саша, Юре исполнилось десять, и, сколь ни удивительным это покажется, к тому времени он уже вполне определился со своим кругом интересов. Дома все было просто и понятно, однако интеллектуального общения, столь необходимого в этом возрасте, он там получить не мог. Не было и избыточной ласки, что вполне характерно для того времени. Зато все это, кажется, с лихвой получили следующие поколения, и трудно сказать, пошло ли это им на пользу. Во времена Юриных детства и юности родители строили свою жизнь в соответствии с традиционными представлениями, опираясь на опыт собственных отцов и матерей. В той системе воспитания главным чувством, которое сопровождало человека из детского сада в школу и затем во взрослую жизнь, было чувство долга. И если ты выполнял возложенные на тебя обязанности — в учебе и помощи по дому, — никто уже не посягал на твою свободу проводить время так, как ты считал нужным. Юра помогал маме с уборкой, если она просила, ходил в магазин. С рождением брата центром внимания родителей и главным объектом их забот стал младший сын. Но ревности и других тяжелых чувств это у Юры не вызывало. Трагедии утраты родительской любви, лежащей в основе творчества многих современных писателей, наш герой не пережил. Родители помогали, поддерживали, учили хорошему, но быть духовными водителями, говорить по душам и постоянно контролировать сына они не пытались и даже не проверяли у него уроков. Если Лидию Ильиничну и вызывали в школу, то лишь для того, чтобы объявить очередную благодарность за примерного ученика. Вспоминая об этом времени, Юрий Поляков видит в таких отношениях здоровое крестьянское начало: в большой семье все должны друг другу помогать, должны друг о друге заботиться, не переступая границы «личного пространства» (такого выражения тогда, конечно, не было, но само понимание было) и не навязывая своих мнений, позволяя человеку самому определяться, учиться на собственных ошибках. Когда брат слегка подрос, Юра водил его в садик и забирал из садика, ездил к нему на родительский день в пионерский лагерь, пытался наставлять. Даже в стихах, присланных домой из армии:
А знаешь, брат, и двойка не пустяк, Когда и дня нам не дано для пробы. А детство, юность, зрелость — это так… В судьбе ориентироваться чтобы. Из детства все: умение дружить, Любить, терпеть, врагам давать по шее, И, как ни высоко, уменье жить, И умирать, поднявшись из траншеи. И потому, братишка, не «пшено», Твои, лентяй, позорные оценки. …Но ты не слышишь, ты следишь в окно Смешные переулочные сценки. Есть мир, что виден лишь из окон школ, Огромный, многоцветный, многошумный. Звенит звонок — и все, что ты прошел, С доски стирает в тишине дежурный.Стихийное уважение родителей к личному пространству младшего сына не дало результата, вернее, дало — но отнюдь не тот, какой получился у старшего. В чем было дело — в эпохе ли, в чертах характера, в неожиданно давшем себя знать дедовом гене — но жизнь у Саши не задалась. Веселая компания во дворе, ранний неудачный брак, заброшенная учеба, алкоголь, безделье, вначале вынужденное, а потом и «ради принципа» — и смерть от запоя в 49 лет.
Брат лежит в спокойствии мучительном. Как же быстро минул классный час! Навсегда ты стерт с доски учителем, Ничему не научившим нас… (2013)* * *
В десять-одиннадцать лет Юра самостоятельно определял круг своих интересов, и они лежали вне пределов их уютной, хотя и тесноватой комнаты: все его свободное от школы было время расписано. Дворовые игры ему быстро прискучили, вокруг было столько интересного — а со школьными товарищами интересно было не всегда. Главным местом, местом притяжения стал Дом пионеров Первомайского района, в котором он нашел множество занятий по душе. Тогда уже построили Дворец пионеров на Ленинских горах, но ребят из 348-й туда не возили — в этом не было никакого резона. Местный Дом пионеров был немногим хуже и располагался рядом, туда можно было добежать за пять минут и без сопровождения взрослых. Беззаботные были времена! Над мальчишками, которых бабушки возили со скрипкой на занятия, просто смеялись — «маменькины сынки». Так и говорили: «Кто вас украдет?» А кружков в Доме пионеров было множество — на любой вкус.
…………………..
Сначала я соблазнился кружком струнных инструментов — уж очень здорово выглядела треугольная лакированная балалайка-секунда, которую мне под мамину расписку немедленно выдали на дом совершенно бесплатно. Советская власть на детях не экономила. Я разучил русскую народную песню «Не лети, соловей», стер подушечки пальцев, понял, что жизнь балалаечников не мед, и к струнному искусству охладел. Зато был очарован огромной, витой, сверкавшей как новенький металлический рубль трубой — ее притащил к себе на третий этаж толстогубый Мишка Петраков. Теперь по вечерам общежитие сотрясали звуки, похожие на те, что издает прочищаемая под напором воздуха сантехника. Я сдал балалайку и пошел записываться в кружок духовых инструментов. Руководитель, дядька со свекольно-красным лицом, видимо, от постоянных надувательных усилий, критически осмотрел мой природный щечно-губной аппарат и предложил несерьезный английский рожок. Я, конечно, обиделся и переметнулся в авиамодельный кружок, помещавшийся в одной комнате с судомодельной секцией. Там, пользуясь отсутствием обоих руководителей, ушедших на собрание, из разрозненных деталей истребителей, бомбардировщиков, линкоров, субмарин и еще чего-то я ухитрился собрать монстра, похожего на то, чем позже прославились создатели фильма «Трансформеры». Но вернувшиеся с собрания руководители не поняли, что я опередил свое время, и мне пару недель пришлось пробавляться плетением макраме, пока я не нашел себя в ИЗО — студии изобразительного искусства…
(Из неопубликованного. «Повесть о советском детстве»)…………………..
В Дом пионеров детей часто водили целым классом на встречи с интересными людьми. Юре запомнилась встреча с комсомольцем 1920-х годов, арестованным в 1937-м и выпущенным после смерти Сталина. Тот много и подробно говорил об энтузиазме первых комсомольцев, их делах и очень глухо, вскользь, о врагах и клевете. Оратор был родным братом расстрелянного генерального секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева. Много лет спустя, в 1986-м, после успеха «ЧП районного масштаба», Юрий задумал написать историческую пьесу «Вожак и вождь» о конфликте Сталина и Косарева, который виделся ему как схватка честного молодежного лидера с диктатором. Но ему отказали в доступе в архив, о чем он с гневом сообщил в комсомольской прессе. Когда же через два-три года с материалами удалось ознакомиться, выяснилось: заготовленная художественная схема не годится. Косарев являлся активным участником сложной политической интриги, борьбы за власть, а в комсомоле с самого начала очень сильны были позиции троцкистов и леваков-интернационалистов, более озабоченных мировой революцией, нежели судьбой своей страны, стоявшей перед страшной войной. Пьесу «Вожак и вождь» Юрий не написал, но интерес к этому сложному времени, которое напрасно связывают с одним лишь именем Сталина, к судьбам людей, вовлеченных в идейную схватку за власть, сохранился у него навсегда. Во всех его романах обязательно есть линия, уходящая вглубь советской истории. Это Красный Эвалд в «Грибном царе», четыре брата Болтянских и Жуков-Хаит в «Гипсовом трубаче» и эпизоды, связанные с другими персонажами.
Именно в Доме пионеров Юра впервые увидел живых писателей и даже смог с ними поговорить. В большом зале, где теперь идут спектакли театра «Модернъ», вместе со сверстниками, затаив дыхание, он слушал замечательную писательницу Наталью Кончаловскую, которая читала им новую главу из своей стихотворной книги «Наша древняя столица», а потом рассказала о том, как в соавторстве с мужем, поэтом-орденоносцем Сергеем Михалковым, они сочинили знаменитую басню про упрямых баранов, встретившихся на узкой тропинке:
И ответил баран: «Ме-е! Ты в своем ли бараньем уме? Пусть отсохнут мои ноги, Не уйду я с твоей дороги!»Думал ли ученик третьего класса Юра Поляков, что через 30 лет будет весьма близок с Сергеем Владимировичем, который полушутя назовет его «последним советским писателем»?..
Приходил в Дом пионеров и Александр Волков, который читал отрывок из очередного продолжения своего знаменитого «Волшебника Изумрудного города», правда, не уточнив, что позаимствовал этот мир из знаменитой американской сказки «Волшебник страны Оз». Впрочем, наш Буратино — переложение похождений иностранного Пиноккио, и он от этого ничуть не хуже, а даже интереснее и ярче своего прототипа. «Урфин Джус и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей»… Советская детвора тогда с нетерпением ждала продолжения приключений девочки Элли и ее друзей, как многие годы спустя дети ждали новых книг про Гарри Поттера. В тот день писатель читал главу из своей новой книги «Желтый туман». Он держал близко к глазам странички с машинописью, а один раз остановился, вынул из кармана самописку с золотым пером и что-то поправил в тексте. Юра затаил дыхание: вот, оказывается, как пишут книги!
Встречи произвели на Юру незабываемое впечатление: он вдруг понял, что писатели, создающие необыкновенный мир, от которого захватывает дух, — на первый взгляд самые обычные люди. И в то же время что-то есть в них такое, что притягивает внимание, заставляет прислушиваться к их словам.
Особенно запомнилось обсуждение только выпущенной в свет повести «Будьте готовы, ваше высочество!» с участием автора, Льва Кассиля. Напомним, что действие книжки происходит в Крыму, в пионерском лагере «Артек», а герои — простая советская девочка Тоня и наследный принц одного из экзотических королевств, дружественных СССР. История по тем временам не такая уж фантастическая: дети и внуки руководителей стран так называемого третьего мира охотно учились и отдыхали в Советском Союзе. Лев Кассиль, внешне очень похожий на диктора Юрия Левитана, внимательно слушал выступления юных читателей, подготовленные явно не без помощи учителей, снисходительно кивал, подробно отвечал на вопросы. С грустной улыбкой он реагировал на готовность пионеров немедленно отправиться в далекую экзотическую страну, чтобы бороться с проклятыми «мерихьянго», устроившими переворот и лишившими юного принца трона.
— А кто они такие, эти «мерихьянго»? — вдруг спросил прежде молчавший мальчик в очках. — Я смотрел в словаре и географическом справочнике — там таких нет.
— Конечно нет… — удовлетворенно кивнул писатель. — Это слово я придумал сам.
— А разве можно придумывать слова?
— Писателям можно. Если постараться, то придуманное слово может даже потом остаться в языке.
— Как это?
— Ну вот ты… Как тебя зовут?
— Юра.
— Вот ты, Юра, знаешь, например, слово «промышленность».
— Знаю. У меня мама в пищевой промышленности работает.
— Очень хорошо! А ты знаешь, что раньше, такого слова в русском языке не было, а придумал его писатель Карамзин? Знаешь?
— Нет. А как вы придумали слово «мерихьянго»?
— Очень просто. Они кто? Враги. А у нас кто враги?
— Фашисты! — подсказали сразу несколько голосов.
— Фашисты. Верно. Но мы их победили. А сейчас наши враги — американцы. Точнее, американская военщина. Я взял американцев, отбросил первую букву «а», чтобы в глаза не бросалась, и прибавил латино-американское бранное выражение «янго»…
— А янки не от этого выражения?
— От этого. Откуда ты знаешь?
— Я читал «Янки при дворе короля Артура».
— Уже? Молодец. В общем, прибавил «янго» — и получилось…
— Мерихьянго…
— Правильно.
— А как вы думаете, Лев Абрамович, это слово останется в русском языке?
— Надеюсь, Юра. Если на это не надеяться, то и книжки писать не стоит…
Так или примерно так выглядел разговор ученика 348-й школы Юры Полякова с классиком детской литературы Львом Абрамовичем Кассилем. Остается добавить, что придумывание новых слов с годами стало любимым занятием гротескного реалиста Юрия Полякова. Иные из его неологизмов, как мы знаем, действительно задержались в языке.
В четвертом или пятом классе Юра себя нашел — записался в изостудию.
…………………..
Одно время я сидел за одной партой с Колей Виноградовым, который, как и я, насмотревшись фильмов с Гойко Митичем, рисовал на промокашках и в черновых тетрадях индейцев. Причем у него они получались явно лучше, чем у меня. А поскольку нам обоим нравилась одна и та же Шура Казаковцева, стерпеть такого превосходства я не мог. Еще пытаясь овладеть вершинами струнно-духовой музыки, я заметил на третьем этаже Дома пионеров просторную комнату, где по стенам висели гипсовые маски и кудрявые капители, а ребята что-то рисовали на больших листах, прикнопленных к деревянным мольбертам. Туда я и отправился.
— А рисовать ты умеешь? — спросил меня бородатый руководитель изостудии.
Звали его Олегом Ивановичем, и, кроме бороды, он носил, даже в помещении, черную беретку с петелькой на макушке.
— Ну садись… — Он установил передо мной мольберт и прикрепил к нему лист бумаги. — Что хочешь нарисовать?
— Индейца!
— Хм… Так уж сразу индейца. Попробуй сначала вот это! — И он поставил передо мной белый кубик.
— Это же совсем просто!
— Ты уверен? У тебя какой карандаш?
— Обычный.
— Покажи. Нет, для гипса «Т» не годится. Лучше «М». Я тебе сейчас дам, а потом купишь себе набор «Конструктор». Точилка у меня на столе. Нет-нет, отложи ластик. Не надо сразу стирать линию. Сотрешь, когда поймешь, какая из них правильная… Работай!
Произведенный мною на свет куб обладал удивительной особенностью: каждая его грань существовала сама по себе, подчиняясь своему особому закону перспективы. Казалось, прежде чем попасть на лист, куб использовался в качестве мяча на школьном спортивном дворе.
— Ну что ж, бывает и хуже, — рассудительно заметил Олег Иванович.
— А можно мне еще красками попробовать? — попросил я, кивнув на других ребят, склонившихся над акварельными натюрмортами.
— Конечно можно! Через полгодика…
В изостудии я задержался. Обзавелся карандашами, углем, медовыми акварельными красками, стоившими в специальном магазине на Кузнецком довольно дорого. Когда совершенно самостоятельно, держа под мышкой большую этюдную папку с тесемками, я шел взрослыми шагами на третий этаж, чьи-то мамы и бабушки, дожидавшиеся с шубками на коленях своих начинающих гениев, смотрели на меня с уважением.
— Ну-с, — строго говорил Олег Иванович.
И я раскладывал перед ним на полу, как водится у настоящих художников, акварели, сделанные в Селищах во время каникул. Мои юные соратники по борьбе за изобразительную верность действительности оставляли мольберты и подходили ближе.
— Недурственно, — хвалил Олег Иванович. — А вот тут ты подсушил… И не надо рисовать каждую травинку, надо писать траву. Понял? Завтра идем на выставку в МОСХ!
— А вы там экспонируетесь? — солидно спрашивает юный бородач, который давно уже закончил десятилетку, два раза не прошел по конкурсу в Строгановку, но продолжает упорно ходить в изостудию.
— Есть там одна моя вещичка… — с ворчливым удовольствием отвечает Олег Иванович. — Еще сезанненком был… Так, что уши развесили? По мольбертам!
(Из неопубликованного. «Повесть о советском детстве»)…………………..
Олег Иванович Осин, ученик академика Гелия Коржева, очень интересный художник, «мягкий» советский авангардист, занимался станковой живописью, графикой, работал в области монументально-декоративного искусства, иногда выставлялся. Вел он изостудию в те давние годы, возможно, ради постоянного заработка, а может быть, и по велению сердца. Ребята у него занимались самых разных возрастов и дарований. Трудно сказать, научил ли он их рисовать, — тут, пожалуй, никуда не уйти от природы, это либо дано человеку от рождения, либо нет, — зато много дал ученикам для понимания живописи, для развития их эстетического вкуса. Именно он приучил своих питомцев читать книги по искусству, ходить на вернисажи. Тогда в Москве они случались не так уж и часто, и Юра успевал почти на все.
Впрочем, развивая дух, он не забывал и о теле. Вместе с одноклассником Петей Кузнецовым, жившим поблизости, переменил несколько секций. В те годы по школам постоянно ходили тренеры, предлагали желающим попробовать себя в разных видах спорта — заботились о будущих рекордах. Ну как устоишь, если тренер, пришедший на урок, спрашивает: «Ребята, вы хотите быть мушкетерами?» Кто ж не хочет! Но, оказывается, прежде чем взять в руки рапиру, нужно долго учиться стоять в позиции, двигаться на полусогнутых ногах и делать выпады, рискуя вывихнуть бедро… Нет, это Юре никак не подходило!
Петя Кузнецов уговорил его пойти на легкую атлетику. Тренировались в Сокольниках, на стадионе им. Братьев Знаменских. Называлось это пятиборьем: бег с препятствиями, прыжки, метание копья, диска и толкание ядра, поначалу четырехкилограммового. В этой секции Юра немного задержался, но не из-за успехов, которых как раз не наблюдалось: копье летело вверх, а не вдаль, ядро толкалось в обратную сторону, барьеры во время бега падали, словно сбить их было главной задачей бегуна. А когда Юра чуть не угодил в голову диском тому же Пете Кузнецову, тренер Григорий Маркович Рудерман, племянник автора песни «Эх, тачанка-ростовчанка», сказал: «Хватит! Положение становится опасным!» Но отпускать парня ему не хотелось: во время долгих тренировок он любил с ним поговорить. Условились так: атлет-неудачник продолжает ходить на тренировки, вместе со всеми разминается, а потом садится на трибуне рядом с Григорием Марковичем, и они беседуют, наблюдая, как остальные наращивают спортивное мастерство. Чаще обсуждали прочитанное, в частности бабушкину Библию, которую Юра дал тренеру почитать. Большая редкость по тем временам: Священное Писание впервые издали при советской власти лишь в 1950-е, а потом снова был долгий перерыв — Хрущев обещал показать по телевизору последнего попа и, видимо, ради этого развернул беспрецедентную по своей бессмысленной жестокости борьбу с религией. Взрывали старинные храмы и монастыри; житья не давали священникам, буквально гнобили и без того немногочисленное сословие; присматривали за теми, кто ходит в храм. В начале 1960-х Юра вместе с другими мальчишками бегал смотреть, как взрывают остатки Зарядья с его изумительными церквями. От Овчинниковской набережной через Балчуг это совсем недалеко. А потом он ходил в новый кинотеатр «Зарядье» смотреть кино и даже, став поэтом, выступал в огромном зале этого киноконцертного комплекса на юбилейном вечере своего старшего друга Андрея Дементьева. Бывал он не раз и в гостинице «Россия», где по традиции останавливались делегаты важнейших форумов — комсомольских, партийных, писательских. Ныне принято сокрушаться о тех тоталитарных временах, когда по невежественной указке сверху, никого не спросив, сносили памятники культуры, в том числе Зарядье, с его монастырем, церквями, первой в столице синагогой… Но уцелевшие тогда памятники продолжают сносить и в наши дни, не обращая внимания на протесты защитников культурных ценностей.
Обсуждали они с Григорием Марковичем и книжные новинки, которыми тренер, сам из литературной семьи, живо интересовался. Юра делился своими удачами на рынке книжного дефицита. В семье Поляковых имелась поначалу всего одна книга, «О вкусной и здоровой пище»: сборник кулинарных рецептов и советов по приготовлению пищи, изданный под редакцией наркома пищевой промышленности А. И. Микояна. Этой книгой мама очень дорожила, хотя и редко в нее заглядывала — только по большим праздникам, в ожидании гостей. Потом появились несколько хороших изданий классики. Лидия Ильинична награждала ценными изданиями рационализаторов Маргаринового завода, ну и себя не обделяла. Кстати, отсутствие личных книг в советских домах совсем не означало, что люди не читают: многие предпочитали библиотеки. Но Юра мечтал о большем и с шестого-седьмого класса начал собирать семейную библиотеку. Родители купили по случаю книжный шкаф, о котором сын долго просил. По случаю потому, что книжный шкаф тоже был дефицитом. Надо было записываться в очередь или ждать, когда подвернется случай. И такой случай подвернулся: привередливая покупательница, заметив царапину на полировке, отказалась от замечательного румынского шкафа со специальными подставочками для книг, стоящих во втором, дальнем ряду.
Теперь шкаф нужно было заполнять, экономя на обедах и завтраках, аккумулируя любые попавшие в руки в качестве родственного дара или пожертвования денежные средства. Юра стал завсегдатаем букинистических магазинов, которых в те времена было не так уж много: на Разгуляе, в проезде Художественного театра, на улице Кирова, на Сретенке и, конечно, знаменитая «Книжная находка» возле памятника первопечатнику Ивану Федорову. Подержанные книги тогда, если это не был раритет, стоили совсем недорого. Одним из первых приобретений стал серенький трехтомник Куприна, выпущенный Худлитом в 1954 году — в год Юриного рождения. Это было самое полное советское издание писателя после его возвращения на родину. Оно и сейчас стоит у Поляковых дома, в Переделкине. На титуле — штамп букинистического магазина и поставленная товароведом новая цена: 2 рубля 25 копеек. Такая покупка была начинающему книголюбу по карману. А вот в другой раз ему не повезло. Однажды, зайдя в букинистический на Сретенке, он увидел невозможное чудо: на полке стоял белый, тоже худлитовский, шеститомник Бунина. Он стоил 5 рублей 40 копеек, а с собой у него было без малого 4 рубля. Решение созрело мгновенно: домчаться до Маросейки и занять недостающее у тети Вали в счет будущего дня рождения. Через полчаса, тяжело дыша, мальчик влетел в магазин и чуть не заплакал: шеститомник как раз заворачивали очкастому гражданину, сокрушавшемуся, что у одной из книг помят корешок. Это огорчение будущий лауреат Большой золотой медали Ивана Бунина помнил долго. Возможно, поэтому в поляковской библиотеке имеются целых четыре собрания сочинений Бунина, включая самое последнее, полное. Впрочем, это похоже на правило: книги авторов, оказавших явное влияние на формирование его стиля, в библиотеке Полякова встречаются в разных, дублирующих друг друга изданиях. Бунин, Булгаков, Ильф и Петров, Гашек, Салтыков-Щедрин, Гоголь…
В том упущенном бунинском собрании сочинений не было и не могло быть, конечно, «Окаянных дней». Исполненная гнева и ненависти к большевикам книга навсегда лишившегося родины Бунина была в СССР запрещена, даже в спецхране Ленинки ее получить было непросто. В посевовском издании она появилась в библиотеке Полякова в эпоху перестройки, после поездки в США в составе большой делегации советской молодежи.
«Нам строго-настрого запретили брать там какие-либо книги, но у меня дрогнуло сердце, я не мог отказаться от «Окаянных дней» Бунина, о которых много слышал, но, естественно, не читал. Шел 1987 год, Советская власть была уже как бы на излете, но при желании еще могла и прибить. Собирая чемодан, я замотал книгу в какие-то покупки, но когда прилетел в Москву, сердце у меня, как говорится, билось о партбилет. Делегации тогда ходили через специальный проход, но красного и зеленого коридоров тогда не было и в помине: на выходе стояли жесткие, как ротвейлеры, советские таможенники. Я постарался сделать максимально беззаботное, каникулярное выражение лица, но когда подошел, таможенник, практически не глядя в мою сторону, внезапно сказал: «Откройте!» — указав на мой чемодан. Не понимаю, как это получилось, но мгновенно я стал мокрым насквозь — и почувствовал, как пот стекает по ногам в ботинки. Не было смысла пререкаться: если подчинюсь, могу отделаться партийным выговором, а начну скандалить — вообще из партии выгонят. Я обреченно открываю чемодан, а таможенник, все так же на меня не глядя, говорит: «Это я не вам! Вот вы, следующий, откройте! А вы идите!» И я пошел, хлюпая мокрыми ботинками.
Зато дома, когда собрались друзья, я выложил на стол «Окаянные дни»… Если бы я сегодня выложил платиновые часы «Ролекс», никто не был бы так потрясен и так бы мне не завидовал! Такова была в ту пору сила книги…»
Но вернемся к спорту. Едва Юре исполнилось четырнадцать (раньше было нельзя), он записался в секцию бокса. Мужчина должен уметь постоять и за себя, и за любимую девочку! В Балакиревском переулке в этом отношении было спокойно: здесь круглосуточно работали предприятия, в несколько смен. Курсировали народные дружинники с красными повязками — те же рабочие заводов и комсомольцы, получавшие за выполнение этой повинности дополнительные дни к отпуску. Но главное — взрослые постоянно шли с работы или на работу, а взрослых мужиков шпана побаивалась: среди рабочих было немало фронтовиков, которые круто могли разобраться с любым сборищем хулиганов. А вот на Рубцовской набережной, где жила баба Аня, в Чешихе, резали постоянно. В темное время суток там по-настоящему страшно было ходить.
Обычно местная шпана, сбиваясь в стаи, воевала в основном между собой и не трогала посторонних. Случалось и по-другому, но уже в порядке исключения. Юра усвоил правило: если ты не принадлежишь к компании, с которой шпана враждует, к тебе не пристанут. Но однажды ему все-таки здорово досталось. Потом оказалось, что от обычных ребят, не имевших отношения к местной шпане: компании просто захотелось почесать кулаки. Так что бойцовские навыки лишними не были.
К тому же тогдашние известные боксеры, например олимпийский чемпион Валерий Попенченко, были национальными героями и образцами для подражания. Есть к чему стремиться! Секция по боксу общества «Спартак» располагалась в старообрядческом храме на улице Фридриха Энгельса, рядом со Спартаковской площадью. Юра тогда учился в восьмом классе. Сначала, конечно, общая физическая подготовка, обучение тому, как двигаться по рингу, защищаться, уклоняться, наносить удары… И вот после нескольких месяцев тренировок будущего Попенченко поставили в спарринг с парнем, который ходил в секцию уже года полтора. Впервые оказавшись на ринге, Юра почувствовал себя настоящим боксером, ведь у него была даже своя капа, не профессиональная, разумеется, а сделанная какими-то умельцами, за 1 рубль 36 копеек. Перчатки тоже выдали — старые, сильно поношенные, со сбившимся войлоком. Но противник тут же провел прямой удар, какой в младшей группе еще не проходили — и защиты от него не знали. Удар пришелся в лоб и был такой сильный, что у Юры перед глазами все вспыхнуло и он почувствовал тошноту. Бой закончился за явным преимуществом. Голова болела с неделю, в течение которой Юра на занятиях не появлялся. А когда пришел, тренер спросил: «Почему тебя не было? Болел?» Юра объяснил, что после спарринга, во время которого он пропустил удар, у него болела голова. «После одного удара? Целую неделю? — удивился тренер. Юра кивнул. — Знаешь что, мальчик: это не твой вид спорта. Занимайся чем-нибудь другим. Вот тебе рубль тридцать шесть, давай назад капу, и чтобы я тебя здесь больше не видел!» Так завершилась его боксерская карьера. А спустя лет тридцать писатель Юрий Поляков проводил мастер-класс в литературном объединении МВТУ им. Н. Э. Баумана. По окончании ему показали печальное место — те лестничные перила, с которых упал в пролет и разбился насмерть великий Попенченко — его случайно толкнул выбежавший из аудитории студент. Такова официальная версия…
После бокса Юра не оставлял надежды овладеть искусством рукопашного боя и вместе с тем же Петей Кузнецовым походил еще и в подпольную секцию карате. Руководил ею обладатель черного пояса. «Гением карате» Юра, конечно, не стал, но кое-какие навыки ему пригодились. А подпольная секция карате со знанием дела описана им в романе «Гипсовый трубач» в главе «Первый брак Натальи Павловны».
Впрочем, какие бы далекоидущие планы ни ставил перед собой юный человек, жизнь всегда может вмешаться самым неожиданным образом. Жить в мальчишеском сообществе и быть свободным от него невозможно. Кто откажется от запретного портвейна или сигареты, предложенной заядлым четырнадцатилетним курильщиком из местных верховодов? Выходя из школы, Юра попадал в мир, где царили совсем не те правила и порядки, что на комсомольском собрании. Будучи питомцем заводского общежития, он эти законы знал и с ними считался. А с одним из школьных хулиганов «в законе» Сашей Сталенковым, с которым старались не конфликтовать даже учителя, Юру связывали приятельские отношения. Это он выведен писателем в повести «Работа над ошибками» в образе хулигана Кирибеева, которого боялась вся школа. В своем классе Саша никого не трогал: одноклассники, в том числе Юра, давали списывать домашние задания и подсказывали, когда вызывали к доске, на что преподаватели закрывали глаза, мечтая выпустить хулигана из восьмого класса и забыть, как кошмарный сон. И вот однажды, в благодарность за списанную контрольную, Саша пригласил Юру прогуляться по вечернему Балакиревскому переулку. Когда стало ясно, что прогулка имеет целью битье окон в любимой школе, было поздно. На звон стекла выбежал сторож, кто-то еще… Попался, естественно, Юра. Перепуганного злоумышленника привели к директору домой. Директора и завучи в те годы часто жили в небольших служебных квартирах при школе. В Юриной школе в такой квартире жил бывший директор, недавно вышедший на пенсию и еще не переехавший из служебного помещения.
— Ну и зачем ты это сделал, паршивец? Тебе что, двойку поставили?
— Да нет у меня двоек!
— А какие у тебя оценки?
— Четверки-пятерки.
— А кто твой классный руководитель?
— Осокина.
— Ирина Анатольевна? А как твоя фамилия?
— Поляков.
— Не может быть! Она мне про тебя все уши прожужжала. Отличник. Активист. Окна зачем бил, активист?
— Не знаю…
— Кто тебя подбил? Был с тобой еще кто-то?
— Не помню.
— Ты скажи еще: темно было…
Бывший директор растерялся. Он понимал: если позвонить в милицию, в детской комнате у подростка, конечно, вызнают, кто с ним был и кто организовал налет. Но на репутации мальчика будет поставлен крест. В начале жизни с пути могут сбить и не такие серьезные проступки. Битье стекол в школе закончится постановкой на учет в детской комнате. К тому же к любимчикам, обманувшим надежды, учителя всегда особенно строги: можно из пионеров вылететь, а про комсомол надолго забыть. В общем, жизнь парню испортят раз и навсегда. И директор сказал:
— Иди…
— Спасибо… — растерялся Юра.
— Осокиной скажи спасибо! Она же, если такое про своего любимца узнает, не переживет. Но запомни: такое сходит с рук один раз. Это, парень, не твоя компания. Им как с гуся вода: одним приводом больше… Аты себе жизнь сломаешь. Никому про это не рассказывай. Даже Ирине Анатольевне. Понял?
— Понял.
На другой день его, конечно, подстерегли сталенковские ребята и с угрозами выпытывали, не выдал ли Юра тех, с кем бил стекла.
— Смотри, на перо посадим!
— Если бы выдал, вас бы уже в милицию забрали.
— И то верно. Короче, умник, ты теперь с нами повязан!
* * *
В 1969 году семья Поляковых получила отдельную двухкомнатную квартиру в 5-м Ватутинском переулке, недалеко от станции Лосиноостровская в Бабушкине, которое тогда только вошло в состав Москвы и было еще застроено деревянными теремами — остатками дореволюционного дачного Подмосковья. Именно в этих местах, рядом со знаменитым прудом Торфянка, поселил автор героя своего романа «Любовь в эпоху перемен». Юра как раз оканчивал 8-й класс, но о том, чтобы переменить школу, даже слышать не хотел. И это было правильное решение. От возможного дурного влияния по прежнему месту жительства он был избавлен, новых дворовых друзей не завел, а подростковые нравы на окраинах стремительно растущей столицы тоже оставляли желать лучшего: здесь-то и начались проблемы у младшего брата, попавшего под влияние дворовой шпаны.
Юра в новую квартиру приходил только ночевать, очень рано вставал и добирался до школы на автобусе, электричке и троллейбусе. Мама давала немного карманных денег, покупала «сезонку» — проездной билет на целый квартал. На переменках, в свободное от общественной работы время он учил уроки, а день после школы у него был расписан: секции, кружки, подготовка к институту. Но случались и воскресенья, когда Юра, проснувшись, с недоумением вспоминал, что ему некуда спешить, и срочно придумывал себе занятие. Ехал на выставку или в театр, где перед началом можно было купить дешевый билет на балкон.
«Помню, как из самого последнего ряда огромного зала Театра Советской армии я смотрел спектакль по пьесе «Тот, кто получает пощечины» Леонида Андреева. Главную роль исполнял народный артист СССР Андрей Попов, известный всей стране по роли Петруччио в фильме «Укрощение строптивой». На огромной сцене, где легко выстраивался в спектакле «Конармия» эскадрон всадников, этот рослый актер казался не больше оловянного солдатика. Лица не видно было совсем. Но кисти рук в белых перчатках летали над его головой, подобно двум крошечным мотылькам… И лишь попросив у соседки на минутку бинокль, можно было разглядеть его страдающее лицо…»
Комнату они делили с братом, у которого были совершенно другие интересы. Саша не стал книгочеем, как Юра, но попал под влияние дяди, Юрия Михайловича Батурина, и стал футбольным фанатом. Отныне брата интересовали только футбол и хоккей, причем исключительно в спартаковской версии: «На свете нет еще пока команды лучше «Спартака»!» Фанатную среду того времени и самого дядю Поляков выписал потом в романе «Замыслил я побег…». Правда, дядя, как здесь уже говорилось, был много сложнее романного персонажа: отлично играл джаз, разбирался в музыке, классической и современной. А тезка-племянник, человек немузыкальный, от дяди фанатизмом к музыке не заразился. Классическую музыку он начал слушать и понимать ближе к тридцати, даже книги стал писать, слушая Моцарта, Листа, Брамса, Шуберта или Чайковского.
Юра всерьез занимался изобразительным искусством, продолжая ходить в изостудию. Записался в Клуб юных искусствоведов при Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Пройдя там полный курс лекций и семинаров, получил удостоверение, согласно которому мог водить в музее экскурсии для школьников. И несколько таких экскурсий провел: «Взгляните налево, перед вами знаменитые стога Клода Моне, которого не следует путать с другим выдающимся французским художником, предтечей импрессионизма Эдуардом Мане…»
В старших классах Юра сблизился с одним из дальних родственников, выпускником искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ Юрием Константиновичем Дорошевским, женатым на Юриной двоюродной тетке Валентине Ивановне, дочери родной сестры Марьи Гурьевны — Аграфены. Виделись они нечасто, по общим семейным праздникам, однако Юра общение с ним чрезвычайно ценил и при встрече обязательно заводил искусствоведческие разговоры, чему тот несказанно удивлялся, Юра ходил на все выставки и неплохо для своего возраста разбирался в живописи. Случались и такие беседы:
— Юрий Константинович, а как вы относитесь к Роже Сомвилю?
— Сомвиль? Есть такой. В Бельгии. А в чем дело?
— Ну как же, на Кузнецком Мосту сейчас выставка.
— Ах вот как! Надо пойти!
— Я ходил. Представляете, там был сам Роже Сомвиль!
— Неужели?! Ну и как он?
— Нормально. Я задал ему два вопроса: как он относится к Мазерелю…
— К Мазерелю. Есть такой. Ну и как он к нему относится?
— Сказал: уважает.
— А второй вопрос?
— Что он думает об Илье Глазунове.
— Ну и что он об Илюше думает?
— Стал советоваться с женой.
— Он приехал с женой?
— Да! Она его натурщица. Там полно ее портретов. В общем сказал, что тоже уважает. Хотя, знаете, дама, которая переводила, морщилась…
— Знаешь, Юра, на будущее — не спрашивай ни у кого про Глазунова…
— Почему? Разве он плохой художник?
— Не в этом дело. Как-нибудь объясню…
У Юрия Константиновича была необычная работа: он занимался продажей произведений советских художников различным организациям — заводам, колхозам-миллионерам, министерствам и ведомствам. «Трудно было представить себе зал заседаний без монументального полотна «Лампочка Ильича в стойбище тувинских скотоводов» или скульптурной композиции «Юность выбирает подвиг!» — много позже поиронизирует племянник, рассказывая о необычном роде занятий родственника в романе «Гипсовый трубач».
Был у Юры с детства еще один очевидный талант: он хорошо рассказывал истории, часто придумывая их на ходу. Сюжеты брал из жизни и прочитанных книг, переиначивал, дополнял, компоновал на свое усмотрение — так, чтобы было поинтереснее, и мальчишки заслушивались. Особенно популярны были такие рассказы в пионерском лагере, где вечером после отбоя наступало его время, и не было предела полету фантазии.
— Давай, Шаляпин, рассказывай, а то не заснем!
— На чем остановились?
— Виконт провалился в парижское подземелье…
— Значит, провалился и потерял сознание, а когда очнулся, увидел впереди огоньки…
* * *
Особенно ярко креативные наклонности проявились у Юры в девятом классе, когда все увлеклись игрой в КВН. В Бауманском районе проводился районный конкурс с отборочными турами по школам. Желавших со сцены острить и балагурить набралось много, но когда ребята принимались готовить приветствие и домашнее задание, искрометность куда-то улетучивалась и дальше перелицовки бородатых анекдотов дело не шло. Ирина Анатольевна, которой педсовет поручил готовить команду, была в отчаянии. Конечно, взрослые могли придумать что-то и за детей, но вся соль и заключалась в том, чтобы разбудить творческие способности подростков. Это уже потом кавээновские приветствия, домашние задания и даже остроты стали заказывать профессиональным юмористам и целым бригадам остряков. Из таких закадровых сочинителей отчасти и сформировался потом авторский актив «Клуба 12 стульев», знаменитой 16-й полосы «Литературной газеты», которую Поляков возглавит через 30 лет.
Интерес к КВНу разбудил в Юре дар веселого сочинительства. Он придумал название команды — «КВА», «Клуб веселых активистов», написал стихотворное приветствие, гимн команды. Постепенно раскочегарились и остальные. А Юра стал капитаном и выиграл потом не один поединок с другими капитанами.
С кавээновских подрифмовок началось, как ни странно, Юрино стихотворчество. После сценариев он увлекся пародиями, и лишь затем появилась лирика, а к пародийному началу он вернулся значительно позднее — в прозе.
К восторгу всей 348-й, «КВА», победив соперников, в том числе и спецшколу, вышла в финал, а капитан триумфальной команды веселых и находчивых стал всеобщим любимцем, будучи вдобавок секретарем комсомольской организации школы, редкое сочетание формального и неформального лидера в одном лице. Конечно, бывали и огорчения. Привыкнув легко побеждать капитанов других команд, в финале Юра расслабился и проиграл поединок. Во всяком случае, так решило жюри во главе с замечательным педагогом-методистом Августом Давыдовичем Шапиро, одним из руководителей городского Дворца пионеров и школьников, где сходились в поединке остроумцы Бауманского района.
— Разве я был хуже? — чуть не плача, спросил потом Юра Ирину Анатольевну.
— Ты был не лучше! — ответила она. — А должен быть лучше. На голову. На две. Чтобы никто даже не сомневался!
Этот урок запомнился ему на всю жизнь.
Но в тот раз победила тем не менее команда «КВА».
…………………..
Был теплый апрель. Поздний вечер. Из переулка Стопани мы вышли гурьбой на бульвар. около «Кировского» метро. В ушах еще стояли овации, щеки горели от счастья первенства, а наши девочки в руках несли цветы поклонников. И тут, прямо у памятника великому острослову Грибоедову, мы лицом к лицу столкнулись со знаменитой Риной Зеленой, жившей, очевидно, поблизости.
— Ой, это вы! — воскликнул, кажется, Сережа Воропаев.
— А что, меня так трудно узнать? — удивилась Зеленая голосом обиженной девочки.
— Легче, чем по «Рубину»! — вставил Валера Сердобов, еще не остыв от кавээновской манеры над всем подшучивать.
Он имел в виду низкое качество первых советских цветных телевизоров.
— Ой, только не надо острить, умоляю!
— Простите нас, Рина Васильевна, — вмешалась Ирина Анатольевна, тоже пошедшая гулять с нами по ночной Москве. — Ребята взволнованы. У них большой день! Они сегодня выиграли финал КВН.
— Я не смотрю по телевизору КВН! — отрезала знаменитая комическая актриса.
— Не по телевизору, не по телевизору! — загалдели мы наперебой. — Здесь выиграли, здесь, рядом, во Дворце пионеров.
— Ах, во Дворце пионеров? Тогда другое дело! Но умоляю вас, мальчики-девочки, не делайте из юмора профессию! Это совсем не смешно…
(Из неопубликованного. «Повесть о советском детстве»)…………………..
Юра и сам чувствовал, что заигрался. Вот его эпиграмма того времени:
Друзья, шутите, только в меру, Не буду приводить примеры, Но можно зашутиться так — Полтинник примешь за пятак. Тогда возможен нервный шок И даже заворот… остроумия!Согласитесь, неплохо для девятиклассника. И когда любимца школы и признанного острослова пригласили в городскую команду КВН и Ирина Анатольевна велела ему отказаться от заманчивого предложения и готовиться в институт, он беспрекословно подчинился.
В эссе «Как я был колебателем основ» Поляков так писал о своей учительнице: «Ирина Анатольевна происходила из семьи дореволюционных интеллигентов, принявших советскую власть, работавших на нее и, как водится, пострадавших от нее в 1930-е годы. Ко всему происходившему в стране она относилась с иронией, правда не переходившей в презрение. Я бы назвал ее взгляды ироническим патриотизмом. Это вообще особенность русской интеллигенции — посмеиваться над государством, критиковать и даже недолюбливать его и в то же время честно ему служить. В нижних слоях общества, в той же рабочей среде, где я рос, отношение к государству было совершенно иное. Нет, это не раболепие, о котором любят, сидя на собранных для эмиграции пожитках, рассуждать иные кочующие интеллектуалы. Это отношение я сравнил бы с восприятием родной природы — иногда благосклонной и щедрой, иногда жестокой и разрушительной, но неизбежной и неизбывной. Эти два чувства, одно из которых привито в семье, а другое получено от любимой учительницы, как-то странно переплелись в моей душе. <…>
Я рос под сильнейшим влиянием Ирины Анатольевны. Она не только учила меня литературе, но и жизни. Причем учила особыми, своими методами.
— Значит, встречаться она с тобой не хочет?
— Нет, — вздыхал я, почти сломленный первой сердечной неудачей.
— Ясно. Рекомендую Голсуорси. «Конец главы». Читать перед сном…»
* * *
Занимаясь в изостудии, Юра мечтал стать художником. К тому времени он привычно делился своими планами с Ириной Анатольевной, которая была посвящена во все его тайны, в том числе сердечные. Ее личная жизнь не сложилась: в молодости она вышла замуж за военного, но тот, как многие фронтовики, пристрастившись к «наркомовским ста граммам», не смог остановиться, и они, прожив несколько лет, расстались. Она на всю жизнь осталась одна, жила сначала с мамой, потом в одиночестве. Бездетная, к Юре она относилась так, как, наверное, относилась бы к собственному сыну: заботливо, требовательно, с верой в его особое предназначение. И к выбору любимцем профессии отнеслась со всей серьезностью. Она хорошо разбиралась в искусстве и понимала: выбрать творческую профессию, не имея настоящего таланта, значит, сломать себе жизнь. Втайне от Юры она поговорила с руководителем изостудии Олегом Осиным, а потом решила перепроверить его точку зрения, попросила посмотреть Юрины работы опытного художника-педагога Николая Ивановича Лошакова, отца выдающегося русского советского живописца Олега Лошакова. Юра отправился на судьбоносную встречу с папкой акварелей и рисунков под мышкой. Приехал, как положено, разложил все на полу — и сразу почувствовал: художник не знает, что сказать. К тому времени Юра привык к бурной реакции окружающих на свои литературные придумки, на пародии и ранние стихи. Подобного он ожидал и здесь, но вдруг увидел, как художник мнется, подыскивая слова.
— Ну что ж. Хорошо! Вот только тяжеловат гипс у тебя.
А Юра-то видел, что гипс не то что тяжеловат — он просто чугунный.
— Ну… в акварельках получше… Но переходы пока не получаются… Акварель — не рисунок… Ну ничего, через годик приходи, посмотрим, что и как.
Уходил Юра расстроенный. И, конечно, сразу отправился к Ирине Анатольевне. С родителями он вопрос о своем будущем не обсуждал, у него был только один советчик и одно доверенное лицо. Ирина Анатольевна подтвердила его опасения:
— Да, Юр, я с ним говорила. Надо уметь себе признаться: большого таланта у тебя в изобразительном искусстве нет. Но способности есть. Давай думать, что еще тебе могло бы подойти. Что-то такое, где талант, может, и не нужен, а изобразительные способности нужны. Умение придумать. Возможно, тебе подойдет Архитектурный. Запишись-ка ты на подготовительные курсы.
Юра подумал-подумал — и поступил на полуторагодичные курсы, которые размещались в центре Москвы, в Рождественском переулке. Теоретически он был более чем подкован, проштудировав «Всеобщую историю искусств» и окончив курсы юных искусствоведов при Музее им. А. С. Пушкина. Стараясь, как всегда, сделать все возможное для достижения цели, он записался и в Клуб юных архитекторов, работавший при московском Доме архитектора. Однако все складывалось не так, как он хотел. На курсах главным оказался тоже рисунок. И как Юра ни бился, вместо гипса у него по-прежнему получался чугун. А у ребят, которые ничего не знали об истории искусства, с гипсом все было в порядке. Юра стал смотреть, как они работают: как держат карандаш, как кладут сеточку, — и повторять за ними их приемы. Бесполезно! У них — гипс, у Юры — чугун! Но он держался: озабоченные проблемами пола подростки шептались, что скоро будет обнаженная натура. Как такое пропустить, если даже в Пушкинском музее при виде Дианы, раздевшейся для купания, замирает сердце? Позднее выяснилось: обнаженку дают рисовать уже студентам.
Да и в Клубе юных зодчих не клеилось. Причем в буквальном смысле. Дело дошло до макетов, которые ребята вырезали из ватмана и склеивали особым клеем, полученным из пинг-понговых шариков, растворенных в жидкости для снятия лака: он был совершенно незаметен в местах склеек. Однажды им дали задание: придумать и склеить макет бассейна. Юра придумал, как ему казалось, оригинальный бассейн с мозаикой и, очень довольный собой, принес на занятия. Но когда увидел, какие чудеса выставили остальные, ему стало стыдно за убожество, которое у него получилось.
В клуб в основном ходили дети из семей творческой интеллигенции, учившиеся, как правило, в спецшколах. Одевались они по советским временам модно и дорого. В своих единственных брюках, пошитых из синей армейской диагонали (подарок прапорщика Батурина), и в зеленом свитере, связанном тетей Валей, он чувствовал себя неловко среди юношей в настоящих «дивайсах» и девочек в кожаных и замшевых юбочках. Все они друг друга знали, а Юра был для них посторонним. Это ощущение он потом передал в своей прозе:
…………………..
Марина явно принадлежала к той части однокурсников, которых теперь назвали бы мажорами, а тогда именовали блатняками. Они были веселы, надменны, беззаботны, одеты в недосягаемую «импорть», курили «Мальборо», в крайнем случае «Союз — Аполлон». <…>
На Гену, ходившего на занятия в единственных застиранных джинсах и свитере домашней вязки, блатняки взирали с сонным недоумением, им казалось, что человек, не одетый в настоящие «вранглеры» и замшевую куртку, не имеет никакого права учиться на журналиста. Он в долгу не оставался и смотрел на них с презрением, как Мартин Иден на глупых и алчных добытчиков. Выходило вроде бы неплохо: брови от природы у него были хмурые, а подбородок Скорятин для достоверности выдвигал вперед…
(«Любовь в эпоху перемен»)…………………..
Но главным, конечно, было другое: Юра понял, что способностей к профессии архитектора у него нет. Открытие неприятное — но и важный урок. В юности человек не знает своих способностей, и хорошо, если жизнь ставит его в такую ситуацию, когда он может понять, что в какой-то области наделен чем-то большим, нежели другие. И наоборот: если ты встал на ложный путь, важно, чтобы жизнь как можно скорее позволила тебе в том удостовериться. Некоторые способности можно развивать, в чем-то можно тренироваться, можно научиться перераспределять свои силы — но ни музыкантом, ни художником, ни архитектором без особых талантов стать невозможно. Писателем, кстати, тоже.
«Сейчас я с ужасом думаю, что было бы, пойди я по тому пути, — вспоминает Юрий Поляков. — Неправильно, не по таланту выбранное поприще — это беда! В искусстве, если нет природных задатков, говорить о самовоспитании, саморазвитии, трудолюбии — пустое…»
Но сразу отказаться от продуманного, согласованного с любимой учительницей плана было, конечно, непросто. Однажды Юра после занятий остался в школе и рисовал человеческий череп, хранившийся почему-то в пионерской комнате.
— Что делаешь? — спросила, заглянув в кабинет, Ирина Анатольевна.
— Да вот, рисую свое архитектурное будущее…
— Ясно. Нечто подобное я и подозревала. Будем поступать на филологию.
Сначала собрались в МГУ. Юра даже съездил на день открытых дверей на Воробьевы горы и заблудился в циклопическом здании с бесконечными коридорами и скоростными лифтами. На этажах можно было увидеть иностранцев: индусов, китайцев, арабов, африканцев… А с верхних этажей была видна вся Москва, до самых окраин. Какое счастье и удача — учиться в таком замечательном вузе! Именно так и сказал Юрий Поляков зимой 2015 года, выступая перед студентами и преподавателями в большой аудитории Шуваловского корпуса МГУ с лекцией, посвященной итогам Года литературы.
Юра начал готовиться к поступлению в МГУ, но Ирина Анатольевна принялась его отговаривать.
— Юра, туда тебе будет сложно поступить… Ты человек настроений. Один раз что-то делаешь очень хорошо, а в другой раз, в другом состоянии, делаешь то же самое гораздо хуже. Помнишь, что ты мне понаписал про роман «Мать»? А конкурс туда очень большой. Запасного года у тебя нет. Ошибиться нельзя — уже осенью в армию…
Слово «армия» она, в прошлом жена боевого офицера, с которым живала в гарнизонах, произносила с отчетливым ужасом. Ирина Анатольевна была уверена, что солдатская служба несовместима с Юриной тонкой душевной организацией. И, наверное, она бы очень удивилась, узнав, что в том числе опыту, приобретенному в армии, ее любимый ученик будет обязан своими успехами в поэзии, а потом и в прозе. В общем, вела себя Ирина Анатольевна так, как большинство интеллигентных мамаш, имеющих сыновей призывного возраста. Между тем родители Юры относились к такой перспективе совершенно спокойно. «Армия еще никому не повредила, — считал Михаил Тимофеевич. — Провалишься. Отслужишь. Поступишь. А нет — работать пойдешь!» Но Юру так восхитил МГУ, что он готов был рискнуть и даже отдать родине положенные два года, а потом снова пойти на приступ высотки на Воробьевых горах — ведь демобилизованные сдавали экзамены вне конкурса…
Но Осокина настаивала на своем. В главный вуз страны, как, впрочем, и в другие престижные высшие учебные заведения, поступали порой не столько по знаниям и способностям, сколько по связям и деньгам. Ходило даже словечко «позвоночник», обозначавшее абитуриента, принятого по звонку. И анекдот: «У армянского радио спросили, почему прекращены вступительные экзамены в Ереванский университет. Армянское радио ответило: потому что все билеты проданы…» Уже складывалась система, пышно расцветшая после 1991-го, когда, за приличное вознаграждение, детей готовили к экзаменам преподаватели, принимавшие потом вступительные экзамены. Ирина Анатольевна не стала посвящать Юру во все эти тонкости, но порекомендовала поступать на факультет русского языка и литературы в Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской. Он располагался неподалеку, на улице Радио, и школа № 348 была у него базовой: в ней проходили педагогическую практику студенты, в свое время в их числе оказался и Юра.
* * *
В подготовке Юры к поступлению принимал участие, без преувеличения, весь педагогический коллектив. Ирина Анатольевна старалась довести написание сочинения и разбор сложного предложения до автоматизма, гоняла своего любимчика по экзаменационным билетам прошлых лет, которые добыла для нее знакомая преподавательница высшей школы. Иностранным языком с Юрой занимались обе школьные «немки» — Нонна Вильгельмовна Федорова и Людмила Борисовна Лохтюкова. Квартира была обвешана листками с немецкими временами, склонениями, исключениями, и младший брат ныл, мол, некуда налепить график чемпионата по футболу.
Учителя помогали Юре бескорыстно. Преподавателя по истории (тогда хорошего историка в коллективе не было) нашла директор школы Анна Марковна Ноткина. Это был профессиональный и очень дорогой репетитор, готовивший для поступления на истфак МГУ. Но и он занимался с Юрой безвозмездно, включив его в группу, куда еще входили сестры-близняшки из состоятельной семьи. Преподаватель объяснил родителям, что это очень действенный педагогический прием: «Ваши девочки будут тянуться за продвинутым мальчиком и добьются гораздо больших успехов».
Пол года Юра ездил на занятия в просторную квартиру в сталинском доме, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы при поступлении получить по истории «отлично». Вопрос попался об Октябрьской революции, и он принялся рассказывать про переворот буквально по минутам, горячась, словно сам и свергал Временное правительство.
— Такое впечатление, что вы там были! — улыбнулся преподаватель, ставя пятерку.
Но сначала был последний звонок. Юра заранее купил хорошую мягкую игрушку. По традиции первоклашки вручали десятиклассникам букетики, а старшие дарили первоклашкам что-нибудь на память. Девять лет назад, вручив букетик, взамен Юра не получил ничего: выпускник просто улыбнулся и сфотографировал малыша. Петьке Коровяковскому достался тогда надувной мяч, а Мишке Петракову — большой пластмассовый Буратино. Обидно было до слез, и Юра плакал в углу, пока внимательная старшеклассница, узнав про беду, не подарила ему смешного бегемотика.
Потом были выпускные экзамены — генеральная репетиция вступительных. И наконец выпускной вечер. К нему готовились серьезно. Юрий Михайлович Батурин, знавший толк в мужской одежде, сам экипировал племянника. Был куплен отличный польский серый костюм с двумя разрезами, как у Андрея Миронова в «Бриллиантовой руке», прекрасные импортные ботинки вишневого цвета — отложил знакомый продавец в обувном магазине на Покровке. В довершение всего дядя подарил моднючий шелковый галстук с абстрактным узором в стиле Хуана Миро, как определил племянник.
На выпускном вечере, в переполненном актовом зале, Юра прочел свои немного неуклюжие, но очень искренние стихи:
Сегодня мы зрелы! У нас аттестаты! Мы рады, мы даже как будто крылаты. И словно огромные сильные крылья Нам в жизни просторы дорогу открыли.Через 40 лет драматург Юрий Поляков — сатирик и иронист — вложит эти строчки в уста все того же поэта-бомжа Феди Строчкова из пьесы «Одноклассница».
* * *
В тот год к полученным вступительным баллам стал приплюсовываться средний балл из аттестата. Многие десятиклассники, спохватившись, стали договариваться в школе о пересдаче непрофильных для них предметов, чтобы повысить средний балл, а значит, и шансы поступить. В начале 1970-х уже мало кто планировал пойти после школы на завод или в армию — все устремились к бесплатному высшему образованию, и конкурс в вузы был огромный. В педагогическом имени Крупской абитуриентов было, кажется, 20 человек на место — чуть ли не больше, чем в МГУ. И при поступлении Юрин средний балл за аттестат — 4,7— стал очень весомым, хотя и не решающим фактором.
Лето было в самом разгаре, у школьных учителей наступило время отдыха, но классная руководительница и директор школы не собирались пускать Юрину судьбу на самотек. Ирина Анатольевна как могла поддерживала советами, Анна Марковна ходила с Юрой на вступительные экзамены, чтобы, не дай бог, кто-нибудь его не обидел. Все-таки «гордость школы»! Вопреки сомнениям Ирины Анатольевны, Юра сдал все экзамены на пятерки и, набрав 24,7 балла из 25 возможных, был зачислен на факультет русского языка и литературы.
1 сентября взволнованный Юра уже студентом вошел в тесный старинный флигель, где располагался факультет русского языка и литературы. Первую лекцию прочла им профессор Анна Александровна Журавлева, специалист по советской литературе. Едва она заговорила о величии Шолохова, сидевшие рядом две модные студентки странно переглянулись: как раз начиналась подхваченная радиоголосами антишолоховская кампания — скандал вокруг авторства «Тихого Дона». Ребят на курсе было совсем немного, и они держались друг от друга поначалу особняком: Тимур Запоев, Саша Трапезников, Женя Бутенин, Витя Фертман… Девушки, смеясь, с интересом разглядывали однокурсников. Впрочем, так было только до «картошки», на которую отправились в конце сентября, прослушав пропедевтический курс. Трудились на колхозных полях, начинавшихся прямо за старинным городком Бронницы, что в низовьях Москвы-реки. Там быстро перезнакомились и передружились. Оказалось, Трапезников и Запоев тоже пишут стихи, а Бутенин глубоко интересуется античной историей. Там же, в Бронницах, сложились компании, сохранившиеся потом на все время учения. Картошку и капусту в пойме реки собирали с энтузиазмом, вечером пели под гитару у костра:
А в первые минуты Бог создал институты. Адам его студентом первым был. Он ничего не делал, Ухаживал за Евой, И Бог его стипендии лишил…Несмотря на «сухой закон», жили весело: в сельпо продавалось «плодово-выгодное» вино в трехлитровых банках. Умудрились спалить дотла «бунгало», выделенное студентам для проживания, так что все заработанные в полях деньги ушли на возмещение колхозных убытков. В аудиторию вчерашние незнакомцы вернулись почти друзьями, начались пирушки в общежитии, располагавшемся, между прочим, в Бабушкине, через дорогу от Юриного дома. Закрутились первые курсовые романы. Тон веселой жизни задавали москвичи, пришедшие в пединститут в основном за филологическими дипломами и учительствовать впоследствии не собиравшиеся. От них резко отличались серьезные девушки из деревень и малых городов Подмосковья, они-то как раз готовили себя к преподавательской работе и потом, как показала жизнь, посвятили себя школе, вынеся на плечах тяжкие 1990-е, когда «реформаторы», вроде замминистра Асмолова, откровенно разваливали систему образования. Будучи москвичом, Поляков своим поведением и отношением к учению скорее напоминал усердных областников. Атмосфера легкой расслабленности, которая воцарилась на курсе (до окончания далеко — можно пока вовсю радоваться жизни), Юру почти не коснулась. Профессор Лев Феодосьевич Колосов, читавший введение в языкознание, вспоминал потом, что с первого семестра Юра выделялся серьезным отношением к учебе, а труднейший фонетический диктант написал лучше всех. Неудивительно, что на первом же комсомольском собрании его ввели в бюро ВЛКСМ курса.
Так началось его вхождение во взрослую жизнь.
Отступление четвертое. «Вражьи голоса»
Еще в 1960-е годы, с появлением в массовой продаже приемников с диапазоном коротких волн, значительная часть советской интеллигенции стала более-менее регулярно слушать «вражьи голоса». Так называли радиостанции «Голос Америки» (с 1947 года на русском языке), «Свободу» (до 1953 года «Освобождение»), финансируемые Конгрессом США, и «Немецкую волну» (с 1962 года на русском языке). Как удачно кто-то срифмовал, «Есть обычай на Руси / Ночью слушать Би-би-си».
Делалось это не потому, что те, кто слушал, были убежденными антисоветчиками, а потому, что советская пропаганда часто придерживала информацию, скрывала трагические факты и важные события, неясные слухи о которых доходили до ушей и смущали умы. К сожалению, почти до самой гибели советской власти наверху так и не поняли, что продуманная интерпретация случившегося гораздо выгоднее сокрытия фактов. Но даже в разгар гласности, при Горбачеве, власти умудрились довольно долго скрывать масштабы Чернобыльской катастрофы. При Сталине практически все коротковолновые приемники были на учете, и слушать «забугорное» радио было просто опасно. А уже при Хрущеве и затем при Брежневе черпать информацию из вражьего эфира стало принято.
Сейчас это звучит парадоксально: люди хотели знать правду — и слушали «вражьи голоса»! Но тогда именно так и было. И если одни относились к услышанному как к версии реальных событий, то другие верили чуть ли не каждому пробившемуся сквозь эфирные помехи слову. Первые так же учились читать между строк советскую прессу: стараясь по порядку слов и другим, почти неуловимым признакам понять, о чем на самом деле речь. И некоторые добивались больших успехов: по тому, в каком порядке выступали на пленуме члены политбюро, они определяли расклад сил в верхах. Вторые, которых было совсем немного, советскую прессу вообще не читали. Интересно, что позднее именно они стали безоглядно верить каждому печатному слову перешедших в собственность крупного бизнеса и представлявших себя рупором демократии газет.
В 1960—1970-е годы в народе стали особенно популярными политические анекдоты и частушки — благо за них уже срок не светил. Чем пафоснее звучал советский официоз, тем сильнее была потребность, снижая пафос, насмешничать над властью. Рассказывали, например, такой анекдот: газетный киоскер на вопрос, какие издания есть в продаже, отвечает: «Правды» нет, «Известия» кончились, остался «Труд» за две копейки». Особенно богаты были в этом смысле 1970-е — все кому не лень рассказывали анекдоты про Брежнева, и каждый второй — неприличный. Например, когда генсека компартии Чили, арестованного хунтой, обменяли на диссидента Владимира Буковского, тут же появилась частушка:
Обменяли Корвалана На Володьку хулигана, Где б найти такую б…, Чтобы Брежнева сменять?Сегодня осталось лишь диву даваться: что же могло так людей раздражать? Физическая немощь одного человека, символизирующая дряхлеющую власть? Его любовь к наградам и поцелуям? И нет ли какой-то связи между неприличными анекдотами о главе государства и тем, что происходит дальше со страной? Ведь не было ни у кого предчувствия, что система может в одночасье рухнуть — не было, а случилось! Может, не так уж неправ был Розанов, когда, яростно выступая против Гоголя, утверждал, что революцию подготовило его насмешничество и зубоскальство?..
Понимание разрушительной силы иронии и глумливого сарказма довольно рано пришло к гротескному реалисту Полякову. Вот что он писал в «Литературной газете» в 1988 году в нашумевшем эссе «Томление духа»: «…Отличительная черта моего ровесника — ирония. А что вы хотите, если любой доклад тогдашнего пятизвездочного лидера по содержанию и исполнению был смешнее всякого Жванецкого?! Блистательный щит иронии! Мы закрывались им, когда на нас обрушивались грязепады выспреннего вранья, и, может быть, поэтому не окаменели. Со временем, думаю, выйдут в свет сборники анекдотов и черного юмора — свидетельства горького народного оптимизма. Надеюсь, они собраны, по крайней мере, компетентными органами, и мы убедимся, с каким мужеством и блеском люди отстаивали свое право не верить в директивную ложь, не любить придуманных героев, не восхищаться несуществующими победами. Я даже предвижу будущую монографию о том, почему трилогию «Малая Земля» — «Возрождение» — «Целина» народ гениально окрестил «Майн кайф»… Со школы помню: загнивавшей дворянской молодежи была свойственна «вселенская скорбь». Мое поколение страдает «вселенской иронией». Но ведь энергия духа, ушедшая на разрушение миражей, могла пойти на созидание! Ирония вполне может быть мировоззрением отдельных граждан, деятелей культуры, даже ответработников (кстати, среди них я чаще всего встречал ироничных людей). Но ирония не может быть мировоззрением народа! Она не созидательна…»
Не правда ли, интересная позиция для автора, как раз в это время сочинявшего свой насыщенный сатирой «Апофегей». Впрочем, к этим созидательным противоречиям в творчестве Полякова мы еще вернемся.
Радиостанция «Голос Америки» вела передачи в вечернее время. После привычных позывных голос, который по акценту легко было распознать среди других звучавших в эфире голосов, с легкой гнусавинкой и едва уловимым акцентом произносил: «В эфире «Голос Америки» из Вашингтона». Дикторами там были в основном эмигранты второй волны, или «невозвращенцы»: так называли тех, кто по тем или иным причинам не вернулся в Советский Союз после окончания Великой Отечественной. Как правило, это бывшие военнопленные и интернированные либо люди, запятнавшие себя сотрудничеством с немцами, которых на родине ожидали лагеря. Еще один парадокс: платой за возможность жить в «свободном мире» было для них сотрудничество с радиостанцией, напрямую связанной с ЦРУ!
Еще в 1949-м, при Сталине, руководство СССР приняло решение глушить «вражьи голоса», а потому слушать их было довольно трудно, это требовало определенного напряжения и упорства. Со временем аудитория «голосов» расширилась, что можно отнести к серьезным просчетам официальной советской пропаганды. А с началом перестройки «голоса» глушить перестали: в СССР была отменена цензура, и очень скоро в стране не осталось ничего такого, что не подвергалось бы порицанию или осмеянию со стороны возглавивших редакции газет и журналов некогда усердных слушателей этих голосов.
…………………..
Как и большинство советских «юношей, обдумывающих житье», я не избежал влияния «вражьих голосов» и прилежно слушал их многие годы. А открыл я их, наезжая в гости к моему дяде Юрию Михайловичу Батурину. Будучи джазистом, он прежде всего искал в чуждом эфире новые музыкальные ритмы и темы, их в советском музыкальном пространстве было маловато, но, конечно, не отказывал себе и в удовольствии выяснить, что клевещут об СССР из-за бугра. Многие тогда бродили по волнам в поисках мелодий, а натыкались на информацию. Кстати, всеобщей битломании моего поколения я как-то избежал. Мне, конечно, нравилась песенка «Girl», но умирать в счастливых судорогах оттого, что ливерпульская четверка в паузах между куплетами шумно набирает и выпускает из легких воздух, мне совершенно не хотелось.
Иногда, приезжая в гости в Большой Комсомольский переулок, я заставал дядю Юру на тахте возле большой радиолы «Ригонда». Он слушал, скажем, музыкальный «Севооборот» из Лондона или спор политологов на мюнхенской «Немецкой волне» о том, сможет ли когда-нибудь Москва искупить свою жуткую вину за танки на Вацлавской площади. Кстати, вопрос о том, сможет ли Мюнхен искупить вину за то, что именно в этом городе окреп нацизм, политологов нисколько не беспокоил. Но это я понял позже. Поначалу пойманный вражеский голос было слышно отчетливо, почти как отечественное радио, но потом, словно нащупывая в эфире вредную станцию, накатывала сначала одна помеха, потом вторая, и наконец членораздельная речь пропадала в диком трескучем вое. Дядя, подмигнув, некоторое время вращал колесико, шаря в эфире, и снова натыкался на заглушенную станцию. Но там уже говорили о заграничных чудачествах беглой сталинской дочери Светланы. Кстати, когда я жил в Орехово-Борисове, из наших окон виднелся за лесом частокол антенн. Это и была станция глушения «вражьих голосов», построенная до войны, чтобы Коминтерн мог из Москвы звать в светлое завтра мировой пролетариат, а позднее ее сделали «глушилкой». Чем не символ деградации, которую пережила советская идеология?
Иногда в комнату Батуриных заглядывал сосед Алик, толстый, смешливый директор вагона-ресторана, и говорил совершенно серьезно:
— Значит так, Башашкин, звонили из КГБ и просили, чтобы ты сделал звук потише!
— Как из КГБ?! — бледнел я.
— Шутка. Слышал, Гиндин из Большого на гастролях в Италии сбежал?..
— Слышал. Я с ним как-то халтурил на свадьбе, — сообщал дядя. — Он совсем не пил. А это подозрительно!
— Понял! — кивал сосед и через пять минут приносил водку в похожем на колбу ресторанном графине и бутерброды с красной затвердевшей икрой, явно оставшейся с прошлого рейса.
Я тоже стал ловить «голоса» на нашем стареньком приемнике «Рекорд». Помимо прочего, мне под них хорошо рисовалось, а я еще надеялся превратить свой чугун в полноценный гипс. Каждый свободный вечера сделав уроки, я шуршал карандашом, рисуя розетку или маску. Особенно любил я слушать чтение книг запрещенных в СССР писателей. Одно время регулярно передавали «Архипелаг ГУЛАГ» в исполнении сбежавшего, как и Гиндин, актера Юлиана Панича. Его плачущий голос, повествующий о бедах безвинно посаженных в тюрьму, до сих пор стоит у меня в ушах. Такую же безысходную интонацию я встретил в жизни еще лишь однажды, когда случайный попутчик в поезде рассказывал мне, как ни за что ни про что отсидел двенадцать лет, убив по неосторожности жену.
Отец, погруженный в свой заводской мир с интригами вокруг спирта для протирания контактов, долго не вникал в то, что это я слушаю по вечерам, а когда сообразил, надавал мне по шее, сообщив, что таких дураков, как я, он вдоволь насмотрелся, когда служил срочную в конвойных войсках. И мне пришлось уйти в подполье: без свежего ветра свободы, дувшего из всех щелей «железного занавеса», я уже не мог… Судя по всему, такой зависимостью страдали многие. Однажды, дожидаясь троллейбуса, я услышал, как интеллигентный гражданин, разглядев висевшие напротив остановки портреты членов Политбюро, промолвил:
— Странно…
— Да, действительно! — живо согласился второй, проследив направление его взгляда.
— А у нас всегда так, — подтвердил третий. — Я еще позавчера вызвал из «Зари» мастера холодильник починить — и до сих пор никого!
Все трое имели в виду одно и то же: «голоса» два дня передавали о снятии с поста члена Политбюро Кириленко, а его портрет все еще висел.
Это было главным, что привлекало к «голосам»: оттуда можно было услышать то, о чем в СССР помалкивали. К тому же интонация была выбрана очень точно: дружеское сочувствие к лишенному правды советскому народу вкупе с искренним желанием помочь ему в этом горе, неизбывном, пока у власти находятся кремлевские геронтократы. Злорадство появилось у них значительно позже.
Довольно долго я был убежден, что там и в самом деле работают рыцари правды и паладины истины. Но в 1989-м в составе большой советской делегации я попал в Париж в рамках двухсотлетия Великой французской революции, и меня как автора нашумевшей повести «Сто дней до приказа» пригласили в парижскую студию радио «Свобода». К моему удивлению, располагалась она не в особом вещательном здании, а в жилом доме напротив, на той же лестничной площадке располагалась чья-то квартира, о чем свидетельствовала латунная табличка с именем. Впрочем, внутри все было как положено: звукоизоляция, записывающие агрегаты, микрофоны с черными поролоновыми наконечниками. Беседовал со мной Семен Мирский, похожий на неулыбчивого Хазанова.
Его голос, низкий, красивый, исполненный бархатной правдивости, я помнил по забугорным передачам, а теперь вот увидел этого человека вживую. Он располагал к откровенности, и, отвечая на вопрос, что я думаю о Советской армии, я простодушно ответил: несмотря на трудности, служить нужно, и чем сильнее армия — тем спокойнее. Он аж подскочил в кресле:
— Нет-нет, так нельзя! Надо перезаписать…
— А что не так?
— Да все не так!
— Но я так думаю!
— Да мало ли что вы там думаете!
Мы нашли компромиссное решение, свернув снова на тему страдания интеллигентного и не совсем русского мальчика, угодившего в лапы старослужащих садистов…
Когда ныне я изредка прихожу на эфир «Эха Москвы», то сразу вспоминаю парижскую студию радио «Свобода», Семена Мирского и его слова: «Да мало ли что вы там думаете!» С чего бы это?
(Из неопубликованного. «Книга о советской юности»)…………………..
* * *
Юра, как и многие его сверстники, в пятнадцать-семнадцать лет только начинал интересоваться политикой, и вначале речь шла скорее не о международных делах, а о социальной и национальной политике в СССР. Конечно, в детстве он слышал, и не раз, как взрослые обсуждали отставку Хрущева и денежную реформу, как, возмущаясь чем-то, говорили: «При Сталине бы такого не было!» — или даже: «Сталина на них нет!» Взрослые радостно обсуждали введение в стране пятидневной рабочей недели и сокращение срока службы в Советской армии; решали, поможет ли создание лечебно-трудовых профилакториев в борьбе с пьянством. Всегда были темы, которые волновали всех: в 1967-м это была сбежавшая из страны дочь Сталина Светлана Аллилуева и ее бурная личная жизнь. В 1968-м — ввод войск в Чехословакию и «социализм с человеческим лицом», в марте 1969-го — события на острове Даманском и герои-пограничники. Землетрясение в Ташкенте, гибель советской дизельной подводной лодки К-129, убийство Джона и Роберта Кеннеди, массовое убийство американскими солдатами мирных жителей во вьетнамской деревне Сонгми, «красные бригады» в Италии и «культурная революция» в Китае, папирусная лодка «Ра» и Анджела Дэвис, угон советского самолета и гибель бортпроводницы Надежды Курченко, советский «Луноход» и совершившие посадку на Венере и Марсе «Венера-7» и «Марс-3»… Конечно, будущий писатель вместе со всеми гордился нашими достижениями, но еще мало что понимал, чтобы выработать собственное отношение ко многим мировым событиям.
И был подвержен самым разным влияниям — учителей, старших ребят, родственников, «голосов»…
В 10-м классе, готовя реферат по обществоведению, Юра попытался уяснить, как в новой исторической общности, советском народе, успешно происходят два разнонаправленных процесса: расцвет национальных культур и стирание межнациональных граней, о чем торжественно сообщалось на партийных съездах.
«Ну какой же может быть расцвет при стирании? — вспоминал он о своих тогдашних сомнениях в статье «Лезгинка на Лобном месте». — Окончательно запутавшись, я пошел за помощью к учителю. Он снисходительно похлопал меня по плечу и весело сказал: «Это и есть диалектика, дурачок!» Но глаза у него были грустные-грустные… Позже он уехал из СССР, считая, что в СССР евреев затирают. А другие, горячась, доказывали мне, что, наоборот, на всех хороших местах, особенно в торговле и культуре, сидят одни евреи, а русские на них ишачат. Вот и пойми, кто прав!»
Национальный был не единственным вопросом обществоведения, заставлявшим Юру задумываться. Он точно так же не мог постичь, как и где происходит стирание различий между городом и деревней: деревенские впечатления были слишком свежи в памяти, чтобы понимать, что, во-первых, стирать различия придется очень долго, а во-вторых, что процесс этот вряд ли будет добровольным. Разве согласятся деревенские по-хорошему отказаться от хозяйства, от скотного двора и огорода, от садика с яблонями и вишней, от ленивого собачьего лая из-за каждого забора?..
На бытовом уровне его занимал вопрос, почему американские джинсы, привезенные однокласснику из-за границы, с каждой стиркой становятся только красивее, а отечественные «техасы», купленные в «Детском мире», после первой же постирушки линяют и скукоживаются. «Зато… мы делаем ракеты / И перекрыли Енисей, / А также в области балета / Мы впереди… планеты всей», — объяснял из магнитофона Юрий Визбор.
В памяти невольно запечатлевались часто звучавшие по радио экзотические имена: Сиримаво Бандаранаике, Кваме Нкрумо, Иди Амин, Зульфикар Али Бхутто, Нородом Сианук, Гамаль Абдель Насер, Индира Ганди, Джафар Нимейри, Чжоу Эньлай, «предатель конголезского народа» Чомбе… Запоминались вместе с пропагандистскими клише, неожиданно всплывая в сознании. Когда Юра невольно выдал тете Вале дядю, перебравшего с соседом Аликом, директором вагона-ресторана, Юрий Михайлович с досадой сказал: «Ты, племянничек, совсем как Чомбе, предатель конголезского народа!» Все эти имена стали частью памяти его поколения. Они прочно связывают его с той эпохой: с детством, со школой и политинформацией перед уроками, на которой одни дети рассказывали другим о жертвах военных режимов в странах Африки и Латинской Америки и борьбе трудящихся за свои права… Короче, «свободу Анджеле Дэвис»!
В 1963-м в «Известиях» была опубликована поэма Александра Твардовского «Теркин на том свете», острая сатира на современную жизнь, номенклатурных работников и бумажную круговерть, на избыток начальников и пренебрежение человеком. В самом начале поэмы, объясняя читателю про «тот свет», Твардовский заранее дал отпор идейным критикам:
Ах, мой друг, читатель-дока, Окажи такую честь: Накажи меня жестоко, Но изволь сперва прочесть. Не спеши с догадкой плоской, Точно критик-грамотей, Всюду слышать отголоски Недозволенных идей. И с его лихой ухваткой Подводить издалека — От ущерба и упадка Прямо к мельнице врага. И вздувать такие страсти Из запаса бабьих снов, Что грозят Советской власти Потрясением основ. Не ищи везде подвоха, Не пугай из-за куста. Отвыкай. Не та эпоха — Хочешь, нет ли, а не та!Поэт, придерживавшийся либеральных взглядов, сын раскулаченного крестьянина, фактически предрек «потрясение основ» именно через литературу — что и произошло спустя всего 20 лет, хотя началось именно тогда, в 1960-е. В мрачной поэме-сказке с иронией рассказывалось о существовании того света в двух вариантах, «нашем» и капиталистическом, разделенных непреодолимой стеной. В «нашем» все самое лучшее — но там все заорганизовано и непереносимо скучно, там даже покоя нет — лишь мрак и суета. А главное — из «нашего» света нет выхода! И народный герой, героический Теркин чуть ли не тоскует о военном времени: «Но покамест есть война — / Виды есть на выход». Что хотел сказать писатель? Зачем понадобилось ему «потрясать основы»?..
Впрочем, вряд ли автор всегда отдает себе в том отчет. Начинающий литератор Юрий Поляков, садясь за свои «Сто дней до приказа» и «ЧП районного масштаба», тоже не мог помыслить, что его повести будут активно использованы в политической борьбе для потрясения, а затем и сноса советской власти, к которой сам он питал сложные, но отнюдь не враждебные чувства.
* * *
В заводском общежитии вместе с Юрой жили два его товарища — Петя Коровяковский и Миша Петраков, которых мы уже не раз упоминали в нашем рассказе. Их матери тоже работали на Маргариновом заводе: Лидия Ильинична, как уже говорилось, начальником Майонезного цеха, Галина Терентьевна Коровяковская — главным технологом (третий человек на заводе), а тетя Шура Петракова — фасовщицей на конвейере. Коровяковский-старший был вообще большим начальником — директором хладокомбината, очень ценная по тем дефицитным временам должность. Три друга пошли в первый класс в один год, но судьба их, как говорится, разбросала: Миша попал в 1 «А», Юра — в 1 «Б», а Петя — в 1 «В». Хотя, возможно, опытные педагоги специально расформировали дворовую команду, чтобы не отвлекали друг друга от учебы.
После первого класса Коровяковские определили Петю в английскую спецшколу, но мальчик наотрез отказался туда идти. Для него это была катастрофа: его хотели оторвать от друзей, от школы, где все было привычно и знакомо и куда даже зимой можно было добежать без куртки, а в новую надо ехать на троллейбусе. Соглашался он только при условии, если с ним в новую школу пойдет кто-то из верных друзей. Коровяковский-старший договорился, хотя это было очень непросто, что в спецшколу возьмут еще и Юру, для чего следовало пройти всего-то собеседование. Почетную обязанность отвезти сына в Измайлово на собеседование возложили на Михаила Тимофеевича, заканчивавшего работать раньше. Но отец, придя с работы и хлебнув с устатку из манерки, забыл об ответственном задании, а когда вспомнил — было поздно, и потому вернувшейся с работы жене он сказал, что собеседование отменили, так как класс уже полностью укомплектован.
Правда, конечно, всплыла, но не скоро. Петя быстро привык к новой школе, ну а Коровяковские, одними из первых, переехали в новую квартиру у станции метро «Бауманская». После окончания спецшколы Петя поступил в Институт восточных языков, где изучал китайский. Служил на радио в «Иновещании», куда иногда приглашал и молодого поэта Полякова, чтобы тот рассказал китайским друзьям о триумфах советской литературы. Там, кстати, неплохо платили: 10 рублей за машинописную страницу. Несколько лет Петя работал в Китае, потом — на ТВЦ. Одно время часто появлялся на экране с репортажами, в том числе из Чечни. Командировки в горячие точки сильно подорвали его здоровье, и он ушел отовсюду, успев выпустить брошюру для узкого круга, где описаны ужасы, которые ему довелось увидеть на войне.
Мишка Петраков после 8-го класса поступил в техникум, но жизнь посвятил музыке. Кстати, желание стать ударником в ВИА появилось у него после того, как на Юрином дне рождения он познакомился с Юрием Михайловичем Батуриным, человеком небезызвестным среди столичных джазистов. Миша заочно окончил музыкальное училище, играл в ресторанных ансамблях. В студенческие годы друзья часто встречались. Если совсем не было денег, Юрка с Петькой узнавали, где Миша играет, ехали к нему — для музыкантов и их друзей в ресторане был всегда накрыт стол. Правда, ансамбль чаще развлекал ресторанную публику где-то на окраинах Москвы, например в Бескудникове. Но однажды Мишка подменял заболевшего ударника аж в самом «Метро-поле», куда друзья немедленно отправились. Петя, влившийся в ряды золотой советской молодежи, уже бывал здесь. Но Юра оказался в легендарном ресторане впервые. Он невольно озирался и, вспоминая прочитанные мемуары, старался определить столик, за которым любил сидеть Михаил Светлов.
— Представляешь, возможно, когда-нибудь будут говорить, что вот за этим самым столиком сидели мы с тобой! — сказал он другу после энной рюмки.
— С чего бы это еще? — удивился Петя.
— Ну а если кто-нибудь из нас прославится?
— А ты еще собираешься прославиться? — с иронией посмотрел на однокашника Коровяковский.
— Не отказался бы…
— Ну что за детский лепет, Юра! Какая слава? Зачем? Человек должен прожить единственную жизнь интересно и с комфортом…
— И все?
— А что тебе еще надо?
Оркестр ушел на перерыв, и к друзьям подсел веселый Мишка:
— Ребята, поздравьте меня!
— Женишься?
— Нет. Начал писать рок-оперу!
Впрочем, такой или похожий разговор состоялся уже в конце 1970-х.
Коровяковские получили квартиру в 1963-м, а Поляковы — в 1968-м. Семья Петраковых оставалась в общежитии дольше всех, до 1974-го, когда туда стали заселять лимитчиц, — надо же было заполнять пустеющие ряды рабочего класса. Кстати, Юра наведывался в свое родовое гнездо и позже, он вел там литературный кружок, куда принес свой рассказ про первую любовь юный юрисконсульт Маргаринового завода, студент-заочник Михаил Барщевский, ныне знатный юрист и известный адвокат, не чуждый литературного творчества. Нередко встречаясь в телестудии у Владимира Соловьева, Поляков и Барщевский вспоминают тот давний эпизод.
В последних числах апреля 1973 года друзья собрались в общежитии, чтобы отметить восемнадцатилетие Миши Петракова. Конечно, крепко выпили — не без того, — и разговор зашел о том, кто кем мечтает стать. Новорожденному предложили озвучить мечту первым, но он застеснялся. Тогда придумали выход: «Пусть каждый напишет, кем хочет быть через 25 лет. Запечатаем конверт сургучом и будем хранить». Сказано — сделано: каждый написал, как видит свое будущее, листки сложили в конверт, запечатали сургучом, который соскребли с какой-то бутылки — тогда еще пробки иногда заливали сургучом, а конверт оставили у Мишки, до востребования.
Наутро всем было тяжело. Вот как описал поэт Юрий Поляков свое состояние в шутливой поэме «Минувшие дни», написанной тогда же:
Свинцовая тяжесть в затылке. Добить умоляющий взгляд. Использованные бутылки По чину построены в ряд: Портвейн за «пшеничной» и ромом, А дальше — сухое вино. Все прочее пахнет погромом — Так, видно, и было оно…Далее рассказывается, как, не сумев поставить на ноги виновника торжества Михаила, Юра и Петя отправились в поисках освежающего пива. Утром купить его можно было только в бане или кинотеатре. Будучи студентами-гуманитариями, друзья сосредоточились на учреждениях культуры. В кинотеатре «Новатор» на Спартаковской площади их ждало разочарование: еще не завезли. В кинотеатре «Встреча» на Садовом кольце та же история. Удача им улыбнулась только в «Уране» на Сретенке, где теперь Театральный центр. Но чтобы достичь пива, надо было купить билет на сеанс, а давали в то утро фильм «Мировой парень» с актером Николаем Олялиным. То был лирический гимн советским автогонщикам, противостоящим за границей волчьим законам капиталистических ралли. Кстати, песня из фильма «Лишь только подснежник распустится в срок…» до сих пор популярна. Петр, воспитанный в спецшколе и Институте восточных языков в традициях презрения к советскому агитпропу, заявил, что эту лабуду смотреть не станет. Юрий, ловивший «голоса» и хлебнувший фронды в пединституте, с ним охотно согласился, но в очередь за билетами они все-таки встали: очень хотелось пива. Рядом оказалась симпатичная черноволосая девушка, которая с аппетитом ела инжир. Похмельная молодость легка на новые знакомства, и вот уже они едят инжир втроем. Девушка сообщила, что работает поблизости, в ЦСУ, что они с подругой сбежали с работы, что фильм все хвалят…
— А где подруга?
— Подойдет к сеансу…
Друзья в благодарность за инжир угостили ее пивом:
И так нас с Петром закачало, И так посветлело в зрачках… Подруга явилась к началу. Серьезная. Даже в очках.Подругу звали Наташа Посталюк. В 1975 году она станет Поляковой.
В 1999-м, зимой, Юре позвонила жена Миши Петракова и сказала, что он умирает. Про его болезнь, рак простаты, давно знали, неумело лечили, и какое-то время он держался. Друзья поехали к нему на Краснобогатырскую улицу. Очнувшись от обезболивающих, Миша — он страшно изменился — с трудом узнал друзей и еле проговорил:
— Конверт, заберите, конверт… Я не вскрывал… Я не знаю…
— Какой конверт?
— С будущим!
— С каким будущим, Миша?
Сначала думали, бредит, но потом вспомнили про запечатанный сургучом конверт 25-летней давности.
«Мишка умер через два дня, — вспоминает Юрий Поляков, — и мы его похоронили. А на сороковины позвонил Петька:
— Давай съездим на могилу, вскроем наш конверт. Как раз двадцать пять лет исполнилось…
На кладбище мы помянули друга, плеснули водки на свежий холмик, сломали окаменевший сургуч, распечатали…
Петька написал, что через 25 лет будет послом. Мишка мечтал через четверть века стать композитором, симфонию написать. Развернули мой листок: хочу стать известным писателем!
— Смотри-ка, ты один угадал… — не глядя на меня, тихо проговорил Петька.
Мы еще выпили водки, сожгли на Мишкиной могиле конверт с мечтами и разъехались по домам…»
Глава третья СТИХОБОРЬЕ (1973–1984)
Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.
В. МаяковскийЮрий Поляков утверждает: «Для того чтобы стать хорошим прозаиком, какое-то время надо обязательно побыть поэтом. И не обязательно хорошим».
Он и сам довольно долго был поэтом. Причем не просто поэтом — а успешным, признанным. Его стихи печатали в газетах и журналах, он выступал на телевидении, вел поэтическую передачу на Всесоюзном радио, руководил семинарами, ездил со стихами по стране, в центральных издательствах выходили его поэтические сборники, был удостоен за стихи литературных премий — имени Маяковского, Горького, Московского комсомола…
После выхода второй книги «Разговор с другом» в 1981 году, двадцати шести лет от роду, его приняли в Союз писателей СССР. На всю страну поэтов — членов СП в возрасте до тридцати было не более десятка. В Москве — в ту пору — трое: Николай Дмитриев, Владимир Топоров и Юрий Поляков.
Обычно первые поэтические строки появляются вместе с первой любовью. И в этом смысле Юрий, как мы уже говорили, — исключение. «Я начинал именно с иронических стихов, — вспоминает Поляков, — с того, что потом вдруг оказалось новаторством, прорывом и стало генеральной линией в виде концептуализма, а мы просто развлекались в школе, оттачивая неожиданные рифмы и рискованные сравнения, не считая это серьезной поэзией».
Но если взять академические издания классиков отечественной поэзии, легко заметить: стихотворные шутки и иронические послания друг другу были необходимым элементом формирования нового поколения с его стилем и миропониманием. Кстати, стихи, вошедшие в поляковском собрании сочинений в раздел «Юношеские», написаны явно в духе будущего автора гротескного реализма. Впрочем, не без влияния Маяковского из школьной программы:
Буря ревела, Била о пристань. Ночь окривела Звезд на триста.Поиск неожиданной метафоры, сравнений виден уже и в ранних стихах:
Останкино, словно огромный термометр, Торчит из горячей подмышки Москвы.Даже одно из первых любовных стихотворений «Женщина», написанное в шестнадцать, явно содержит попытку соединить пылкость первых чувств с самоиронией:
Чего же ты хочешь, женщина? Чего же ты хочешь, женщина? В моем интеллекте трещина, Трещина поперек! Из этой пылающей трещины В глаза восхищенной женщины Капает, капает, капает Самый бесценный сок! А щеки горят от радости, Глаза потемнели от жадности, А руки все тянутся, тянутся В погоне за самым большим, За тем, что хранится бережно, О чем вспоминают набожно (И цвета, наверное, радужного!), Так вот чего руки хотят! И тянутся, тянутся к трещине, Все ближе и ближе и ближе… Чего же ты хочешь, женщина? Не любви же?!А от иронии — буквально один шаг до пародии.
Все студенческие годы Юрий и сочинял пародии, безуспешно рассылая их по редакциям. Не стоит удивляться, почему молодой честолюбивый стихотворец обратился именно к этому жанру: после многолетнего пребывания на задворках литературной жизни пародия вышла тогда на переднюю линию, и случилось это во многом благодаря Александру Иванову, который вел сверхпопулярную передачу «Вокруг смеха». Среди участников были в основном авторы переживавшего свой взлет «Клуба 12 стульев» с 16-й полосы «Литературной газеты». 30 лет спустя, возглавив «ЛГ», Поляков нашел прежде знаменитый клуб в упадке и паутине эпигонства. Но тогда весь огромный СССР припадал к телевизорам, ожидая, как под конец передачи к микрофону выйдет высокий и тощий, усами смахивавший на Дон Кихота Александр Иванов и прочтет новую пародию, например на Эдуарда Асадова:
Они студентами были, они друг друга любили, И очень счастливы были в своем коммунальном раю. Вместе ходили в булочную, вместе посуду мыли, И все знакомые радовались на крепкую их семью. Но вот однажды, вернувшись домой в половине шестого С набором конфет шоколадных, красивым и дорогим, Подругу свою застал он играющей в подкидного, Представьте себе, в подкидного играющую с другим. — Любимый! — она сказала, и влажно блеснули зубы, — Я еще поиграю, а ты пойди постирай. — Он побледнел, как наволочка, сжал посиневшие губы И, глядя куда-то в сторону, глухо сказал: «Играй!» И больше ни слова. Ни слова! Ни всхлипа, ни стона, ни вздоха, И тут ее как ударило: да ведь случилась беда! Все было просто прекрасно, и сразу стало так плохо… Обул он белые тапочки и ушел навсегда. Мещане, конечно, скажут: подумаешь, дело какое! Да разве за это можно жену молодую бросать?! …Сейчас он лежит в больнице, лечится от запоя, А чем она занимается, мне неудобно писать…Слушая Иванова, десятки миллионов увлекавшихся литературой и, в частности, поэзией советских зрителей разражались хохотом. Его популярность была феноменальна, ведь авторских передач на тогдашнем телевидении было по пальцам пересчитать, и он был своего рода монополистом на эфирное чувство юмора. Когда после 1991-го в эфир хлынул юмор весьма низкого качества, оттеснив короля пародии, Иванов этого не пережил в буквальном смысле слова.
Надо сказать, что пародии начинающего стихотворца Юрия Полякова вполне в духе «ивановской школы»: это не стилистическая пародия, а скорее фельетон на цитату, как метко определил подобный жанр поэт и журналист Александр Аронов. Вот одна из немногих пародий Полякова, опубликованная в альманахе «Поэзия», где иронический раздел вел отдаленный потомок Козьмы Пруткова Ефим Самоварщиков, за которым скрывались молодые озорные поэты Александр Щуплов и Михаил Молчанов:
…На меня надвигался рояль. В. Сикорский Не хочу вас пугать беспричинно, Но душа за поэта болит. Друг мой так же шутил с пианино. И теперь навсегда инвалид!Вот еще пародия, оставшаяся в архиве автора и в печать не принятая:
Овец
А вот в отдельной клетке хмурый, Огромный обезьян. Самец… Ты принимаешь вызов гордо, Бескомпромиссен ты в борьбе, И что такое «про» и «контра», Совсем неведомо тебе. Валентин Солоухин «Узверей» Не отличая «про» от «контра» Загвоздок и альтернатив, Застыл он, взгляд суровый гордо К воротам новым обратив. Протест в душе бараньей зреет, Отвага светится в глазах. Стоят ворота — он звереет. И вдруг удар — трах-тара-рах! Ворота повалились наземь. За ними повалился он, Но не моргнули овцы глазом И не покинули загон. Нет, не понятен подвиг стаду! В пыли найдя себе конец, Лежит, осмеянный в награду, Овец. Наверное, самец…На первом курсе факультета русского языка и литературы, который все называли «литфаком», Юрий сразу оказался в окружении пишущих ровесников. С однокурсником Александром Трапезниковым и его старшим братом Леонидом, выпустившим уже первую самиздатскую книжку стихов, они организовали литературный кружок, назвав его «Ротонда» — по имени парижского кафе, где бывали Модильяни и Жак Превер: жизнь литературной богемы, описанная Ильей Эренбургом в книге «Люди, годы, жизнь», вдохновляла тогда многих.
…………………..
Мы собирались в большой квартире Трапезниковых, располагавшейся в сталинском доме рядом с метро «Щербаковская», читали стихи, разносили друг друга в прах, спорили о политике, о том, что в стране надо все срочно менять, лучше с помощью вооруженного восстания. Особенно много говорил об этом Леня Трапезников, вылетевший из института за прогулы и устроенный куда-то лаборантом благодаря связям отца, военного прокурора. Иногда прибегал Саша Равич и читал всегда одно и то же стихотворение, других у него, по-моему, не было:
Одернув беленькое платьице Своей одежды снеговой, Моя Москва к рассвету катится По сладко спящей Беговой…Потом он хватал телефон, доставал записную книжку и начинал зазывать к нам «на стихи» дам самых разных кругов, от молодых балерин из Большого до лимитчиц с завода железобетонных конструкций. Интересно, что ни те, ни другие никак не соблазнялись. Саша Трапезников обычно сидел в темных очках и молчал, витая где-то между Сенекой и Калидасой. Меня просили прочитать мои юмористические стихи про Чапаева и Анку-пулеметчицу, которые всю ночь играли в шашки… Мы много пили, периодически спускаясь в гастроном. Иногда в комнату заглядывал старший Трапезников и призывал нас сбавить обороты, но Леня и Саша в один голос грубо гнали его вон. Прокурор вздыхал и уходил. В доме витала мрачная тайна: третий брат, невероятно талантливый юноша, не так давно застрелился из хранившегося дома наградного пистолета. Виноватым, судя по всему, считали отца…
(Из неопубликованного. «Книга о советской юности»)…………………..
Тем временем Юрий стал писать уже не только пародии, но и лирику. Общение с продвинутой литературной молодежью расширило его представления, в круге чтения появились книги авторов, прежде недоступных. В ту пору в слепой машинописи или даже в ксероксе можно было прочитать все то, чего не выдавали в библиотеке. Сперва было много «стихов о стихах» — обычная болезнь молодого поэта, спешащего рассказать всем о том, как трудно сочинять в рифму и какое это особое мучение — творчество:
О чувство нестерпимой яркости, Что в мире бесконечном разлита! О чувство безнадежной ярости, Когда строка не та, опять не та…Цикл назывался «Стихоборчество» и носил следы явного ученичества. Однако не отсюда ли известный неологизм Полякова «Стихоборье», который он придумал в 1995 году, чтобы назвать так свою передачу — турнир поэтов на «Семейном канале»? Имелось в этом цикле и стихотворение, в котором мальчик, рисуя простым карандашом, мечтает о коробке карандашей цветных, а теперь вот ребенок вырос, стал поэтом, «бьется над строчкой каждой — и вновь с простым карандашом и разноцветных жаждет». Как тут не вспомнить хрестоматийные строчки его будущего учителя Владимира Соколова, открывавшего каждое свое избранное одним и тем же юношеским, почти детским стихотворением:
Как я хочу, чтоб строчки эти Забыли, что они слова, Детали: небо, крыши, ветер, Сырых бульваров дерева! Чтоб из распахнутой страницы, Как из открытого окна, Раздался свет, запели птицы, Дохнула жизни глубина.Нечто подобное через несколько лет случится с тоже почти отроческим стихотворением Полякова «Зачем вы пишете стихи?», ставшим его визитной карточкой и включенным во все сборники автора.
Чувствуя необходимость дальнейшего развития, Юрий посещал и другие литературные кружки, а в конце 1973 года состоялось событие, во многом определившее судьбу литераторов этого поколения: при горкоме ВЛКСМ и Московской писательской организации открылась литературная студия, по уровню творческих семинаров явно соперничавшая с Литинститутом. Ректором студии стал известный критик Евгений Сидоров, выпускник Высшей партийной школы, зять легендарного главного редактора «Вечерней Москвы» Семена Индурского и будущий первый министр культуры в ельцинской России.
Занимались студийцы в Доме научного атеизма на Гончарной, тогда улице Володарского. Семинары вели знаменитости: фронтовики Александр Межиров (1923–2009) и Борис Слуцкий (1919–1986), а также не успевший повоевать, но окончивший артиллерийское училище и в неполные восемнадцать ставший командиром взвода Евгений Винокуров (1925–1993), автор знаменитого стихотворения «Москвичи», в 1958 году положенного на музыку Андреем Эшпаем. Это были люди, опаленные войной, поколение, перед которым Юрий преклонялся, поэты, творчество которых было ему близким по духу. Не случайно его курсовая работа по литературе так и называлась «На фронт ушедшие из школ». Военная лирика Александра Межирова». Стихи Межирова Юрий знал наизусть:
Отец ворчал, что отпрыск не при деле, Зато колода в лоск навощена, И сигареты в пепельнице тлели Задумчивым огнем. Как вдруг — война!(Забегая вперед скажем, что, возглавив «Литературную газету», Поляков поручил срочно разыскать в американском доме престарелых эмигрировавшего из СССР после смертельного наезда на пешехода Александра Межирова и попросить у него стихи.)
…………………..
Когда я объявил моей научной руководительнице Анне Александровне Журавлевой, что хочу написать курсовую о Межирове, она поморщилась: «Может быть, лучше Наровчатов или Василий Федоров? Нет? Ну как знаете…»
МОПИ имени Крупской считался институтом, где витал русский дух. Возглавлял его профессор Василий Федорович Ноздрев, известный физик-акустик, сочинявший стихи, даже состоявший членом Союза писателей. Кафедрой советской литературы, к которой я прибился, заведовал Федор Харитонович Власов, невероятный толстяк, друживший с Леонидом Леоновым и написавший о нем две книги. Как я понимаю теперь и не понимал тогда, оба были влиятельными участниками «русской партии», противостоявшей силам «космополитизма», окопавшимся вроде бы в МГУ и прочих культурно-просветительских учреждениях. Тогда мне все эти разговоры казались страшной ерундой. Вспомнил я о них в 1991-м, когда само слово «русский» вдруг стало неприличным, по крайней мере, в телевизионном эфире. Впрочем, Власов вскоре после моего поступления в вуз умер, а Ноздрева сняли и, кажется, именно по причине его обостренного отношения к национальному вопросу. Поговаривали, будто он давал указания срезать на вступительных экзаменах евреев. Вероятно, это неправда, так как на нашем курсе евреи учились как ни в чем не бывало. Так или иначе, но писать о Межирове, как я понял со временем, явно не принадлежавшем к «русской партии», мне никто не запрещал, и я получил за эту работу пятерку.
(Из неопубликованного. «Книга о советской юности»)…………………..
В Литературной студии Юрий попал в семинар Вадима Витальевича Сикорского (1922–2012), поэта не самого знаменитого, но, по оценке Полякова, «чрезвычайно профессионального и образованного».
В 2012 году, с искренней признательностью, Поляков напишет о своем первом наставнике статью-некролог «Не может вечным быть небытие…»:
«Умер Вадим Витальевич Сикорский. На 91-м году жизни. Один из могикан некогда многочисленного и могучего племени советских поэтов, точнее, поэтов советской эпохи. Он дебютировал с книгой «Лирика» в 1958 году уже зрелым человеком, а по меркам нынешних скороспелых дебютов — и вовсе «стариком». Его стихи были лаконичны, афористичны, сдержанны, почти лишены примет неизбежной тогда политической лояльности, что выгодно отличало их от многословия эстрадной поэзии, изнывавшей от этой самой лояльности. В предисловии к «Избранному» в 1983 году он писал: «Главным в поэте я всегда считал уникальную способность оказаться наедине с миром, со вселенной, со звездами, с самим собой. Умение взлететь ввысь сквозь любые учрежденческие потолки, сквозь стены и этажи увеселительных заведений, сквозь тяжелые железобетонные стены любых подвалов».
Сикорский был всегда сосредоточен на странностях любви, на вечных и проклятых вопросах:
Ничто не вечно — ни звезды свечение, ни пенье птиц, ни блеск луча в ручье, — ничто не вечно. Смерть не исключение: Не может вечным быть небытие.В годы войны, сын известной переводчицы, он оказался в эвакуации в Елабуге, дружил с Муром, сыном Цветаевой, и ему досталось — вынимать великую Марину из петли. Об этом он иногда, под настроение, хмуро рассказывал нам, молодым стихослагателям, посещавшим его семинар в Литературной студии при МГК ВЛКСМ и Московской писательской организации. Педагогом Вадим Витальевич был блестящим: одним изумленным взглядом, одним ироническим цитированием мог навсегда вылечить начинающего от пристрастия к рифмам типа «была — ушла». Много лет работая в отделе поэзии «Нового мира» под началом своего друга Евгения Винокурова, он помог с публикациями в этом сакральном журнале советской эпохи многим дебютантам, в том числе и мне. После 1991-го, когда в поэзии воцарился концептуальный цирк, Сикорский ушел в тень, его публикации стали редкостью, он сел за большой роман, главу из которого «ЛГ» напечатала несколько лет назад. До последнего времени он оставался бодр, в его крепком стариковстве явно угадывался некогда полный страстей красивый, сильный мужчина, овладевший не одной женской привязанностью, чувствовавший себя без любви, «как скульптор без глины». С присущей ему самоиронией он как-то назвал себя в стихах «атлетическим повесой». И мне хочется, вопреки строгому жанру эпитафии, процитировать мое самое любимое стихотворение ушедшего поэта «Встреча», по-моему, замечательное:
Опасность была не уменьшена Ни светом, ни тем, что — народ… Почти нереальная женщина Навстречу спокойно идет. Из облака солнцем точенная? На лбу — неземного печать? Нет, мысль, на слова обреченная, Об этом должна промолчать. Решусь объясниться лишь косвенно: Всю мудрость налаженных дней, Как нечто никчемное, косное, Забыв, я пошел бы за ней. Устроенность жизни, направленность Всех помыслов, все, чем я жив, Я сжег, если б ей не понравилось, К ногам ее пепел сложив. Такая мне богом обещана. Потупясь — себя отстраня, Смертельно опасная женщина Прошла, не коснувшись меня.Прощайте, Вадим Витальевич! В судьбе человека, посвятившего себя стихам, много горечи, но есть и одна привилегия: его ждет не только вечная жизнь за гробом, но и неведомая судьба в параллельных мирах высказанного поэтического слова».
* * *
Правда, прежде чем оказаться в студии, Юрий приобщился к обычным страданиям жаждущего признания молодого поэта. Он рассказал об этом со свойственным ему юмором в эссе «Как я был поэтом».
…………………..
Путь советского юноши, заболевшего стихами, был предрешен. И путь этот лежал через литературные объединения, которых в ту пору было несметное множество. Без преувеличения вся страна была покрыта густой сетью этих самых объединений. Они организовывались при заводских многотиражках, домах культуры, горкомах комсомола, писательских организациях. Их двери были гостеприимно распахнуты и для поседелого графомана, и для желторотого гения. <…>
Однако в литобъединение начинающий поэт попадал не сразу. Сначала он должен был убедиться в том, что литературный мир жесток и несправедлив. Как только у юного сочинителя скапливалось несколько, по его мнению, законченных стихотворений, он всеми правдами и неправдами находил доступ к пишущей машинке. Да, доступ! Это сейчас на каждом шагу компьютеры да принтеры, а вот в 1970 году я ехал через всю Москву к моей тете Вале, служившей секретарем-машинисткой в Главторфе, и она, отрываясь на бесконечные звонки и вызовы начальства, печатала мои первые стихи на казенной пишущей машинке. <…> Первой моей собственной машинкой стал списанный с баланса Маргаринового завода, где работала моя мама, реликтовый «Рейнметалл». Его огромная каретка возвращалась по окончании строки на место с таким грохотом и мощью, что вполне могла бы использоваться в качестве стенобитного агрегата. Но это случилось позже…
Итак, вы молодой поэт, впервые держащий в руках собственные стихи, отпечатанные на машинке. Пока ваши строчки, черканные-перечерканные в творческих муках, таятся в тетрадочке, все это остается вашим личным, интимным делом. Теперь же, когда четверостишия выстроились на бумаге, как парадные полки на Красной площади, вы вдруг осознаете, что просто не имеете никакого права скрывать от общества плоды ваших первых вдохновений! Вы чувствуете себя почти профессионалом, вкладываете стихи в конверты и отправляете сразу в несколько адресов — в «Литературную газету», «Юность» или «Новый мир»… Письма, конечно, должны быть заказными, и, заплатив деньги, вы еще несколько минут стоите у окошечка, наблюдая, не забудет ли почтовая девушка положить ваш конверт в нужную кучку. А то ведь не дойдет заказное до адресата — и та же редакция «Нового мира» не будет через неделю потрясена открытием нового ярчайшего таланта.
В том, что редакция будет потрясена, вы ни минуты не сомневаетесь. И не потому, что глупы или не образованны. Я встречал докторов наук и высокоумных людей, пишущих совершенно несусветную чушь. <…> И дело не в уме или образованности. В принципе, а в период становления особенно, поэт вообще не может оценить написанный им текст, он оценивает лишь тот упоительный замысел, то «приближение звука», которое подвигло к сочинительству. И, перечитывая готовые строчки, он не в состоянии оценить результат. <…>
…Никакой поэт никогда не может оценить свои стихи совершенно объективно. Я с этим часто сталкивался в редакторской или составительской работе. «Старик, делаем антологию, неси пять лучших стихотворений! Лучших. Понял?» — «Понял». И он, действительно, понял и будет сидеть полночи, мучиться и отбирать, отбирать и мучиться… В результате принесет пять худших или вообще никаких стихотворений. И в этом смысле прав Пастернак, обмолвившийся:
Но пораженье от победы Ты сам не должен отличать…В противном случае вместо головокружительных пиков поэтических побед мы бы имели утомительное высокогорное плато.
Но вернемся к отправленным письмам. Через неделю вы начинаете нервно заглядывать в почтовый ящик. Странно! По вашему твердому убеждению, потрясенный «Новый мир» должен откликнуться немедленно. Но где же ответ? Его нет. Нет через месяц. Нет и через полгода. Вы жалуетесь кому-то из опытных знакомых, и тот радостно объясняет, что ждете вы совершенно напрасно, ибо в журналах работают исключительно злодеи и завистники (это отчасти верно), и они никогда ваши стихи не напечатают. Из зависти к таланту. Такое объяснение немного успокаивает, но как-то ночью вы просыпаетесь от страшного подозрения, а наутро бежите в библиотеку читать «Юность» и «Новый мир». Так и есть! Какой-то опубликованный поэт имярек пишет, что «у лета крылья махаона», а у вас было:
Вокруг ошалевшее лето На крыльях стрекозьих парит…Обокрали! <…>
Но вот через год, уже потеряв всякую надежду, вы лениво лезете в ящик за утренней газетой и обнаруживаете большой конверт с логотипом «Нового мира», а там все ваши стихи, исчерканные красным карандашом, и короткая рецензия, смысл которой обычно один и тот же: хорошо, что вы сочиняете стихи, а не пьете горькую, но вам еще много нужно над собой работать.
«…Вот, например у вас написано:
И нюхая букет еще вначале, Ты думала, Инесса, о конце…О каком именно конце думала Инесса? И не кажется ли автору, что следует осторожнее пользоваться великим и могучим!..» «Мерзавец! — возмущаетесь вы. — Неужели он не понимает, что речь идет о трагической предопределенности любви!»
Все он, мерзавец, доложу я вам, понимает, но с концом вы и в самом деле погорячились. Далее, в рецензии вам непременно сообщат, что «возьми» и «позови» не рифма, а «любовь» и «вновь» рифма, но за нее в приличном литературном обществе могут просто набить морду. Мало того, у вас непременно отыщут строчки с так называемыми неприличными зияниями. Например:
Когда ж опали наши розы, Вас укачал полночный поезд…В заключение рецензии непременный совет: «А идите-ка вы, юноша, в ближайшее литературное объединение!» И подпись, допустим, литературный консультант Шилобреев.
— Как Шилобреев! — восклицаете вы. — Да я же читал его стихи. Он же графоман! Он сам не умеет писать… Мафия…
Обычно на первой, зубодробительной рецензии ломается добрая половина начинающих, отсеивается, уходит в иную, бес-стиховую жизнь. Но другая половина, превозмогая обиду, не отказывается от мечты и выясняет адрес ближайшего литературного объединения.
Я оказался во второй половине.
…Особенно запомнился мне… ответ, кажется, из «Студенческого меридиана», подписанный Владимиром Шленским — автором замечательной песни «Ах, необыкновенное танго послевоенное!». Впоследствии мы подружились и поддерживали отношения до самой его внезапной смерти в середине 1980-х. <…> Однажды, выпив в ЦДЛ, я мстительно напомнил о его уничижительной рецензии. Он пожал плечами, мол, не помню, знаешь, сколько у меня вас было! Это называлось работать «на заруб». Заведующий отделом поэзии вываливал внештатному рецензенту кипу подборок и говорил коротко: «На заруб». За каждый «заруб» рецензент получал, кажется, десятку и ходил, что называется, по локоть в крови начинающих поэтов. Но, с другой стороны, на десятку в те времена можно было погулять в ресторане.
Как правило, рецензенты даже не вчитывались в тексты, выискивали орлиным взором несколько «ляпов», благо их хватало, и рубили сплеча. Впрочем, бывали исключения. Например поэт Илья Фаликов в довольно сдержанной рецензии на мою рукопись где-то в середине 1970-х обмолвился, что, по его мнению, Поляков скоро перейдет на прозу. Вчитался…
Сегодня со всей прямотой могу сказать: рецензенты зарубили мои первые стихи совершенно справедливо — это было беспомощное ученичество, хотя какие-то строчки отмечались как удачные. Например у меня имелся длинный-предлинный рифмованный диалог поэта с самим собой о том, зачем он, дескать, пишет стихи. Начинался диалог так:
— Зачем вы пишете стихи? Вы что же думаете, строки Умеют исцелять пороки И даже исправлять грехи? Зачем вы пишете стихи?..… Любимое занятие начинающего поэта… поразмышлять о тайнах творчества, в которых он ни черта еще не смыслит. «Стихи о стихах» — бич юных поэтов, за что их корят рецензенты и наставники. Мой диалог поэта с самим собой тоже был подвергнут решительной критике, некоторое снисхождение заслужили лишь первая и последняя строфы:
— Ну хоть один от ваших виршей Стал добродетельней и выше? Скажите прямо, не тая! — Один? Конечно! Это — я.Их-то я и оставил. Пожалуй, это единственное из моих юношеских стихотворений, которое я включил в первый и последующие сборники. «…>
Переболев обидой, я внял совету и отправился в литературную студию при Московской писательской организации и горкоме ВЛКСМ. <…>
В нашем семинаре собралось десятка два начинающих поэтов и поэтесс, не считая нескольких обязательных в таком месте рифмующих шизофреников. Кто-то так потом и сгинул безо всякого литературного результата, но многие стали настоящими профессионалами. Иных уже нет в живых. Признанный лидер нашего семинара Ефим Зубков, автор песни про пароход детства, повесился в 1976 году в собственном туалете. Его строчку про женские ноги, прорастающие в весенней толпе, отметил Вознесенский. Замечательный и недооцененный поэт Евгений Блажеевский, любимец Сикорского, умер в конце 1990-х. Один за другим ушли уже в новом веке — Александр Щуплов, Игорь Селезнев, Юрий Чехонадский, незадолго до смерти напечатавший у нас в «ЛГ» философскую статью о том, что с годами бег времени для человека ускоряется не по субъективным ощущением, а вполне реально, физически — и он подтверждал это математическими выкладками. Правоту покойного поэта я год от года ощущаю все острее!.. Однако еще активно трудятся на различных литературных нивах Александр Буравский, Наталья Сидорина, Владимир Вишневский… Это все наш семинар! Поколение. <…>
Главный смысл семинара состоял в том, чтобы научить нас даже не писать, а понимать стихи. А чужие стихи понять и оценить гораздо проще, чем свои. Владимир Николаевич Соколов как-то раз очень точно заметил: «Свой стиль у поэта появляется не тогда, когда он понимает, как должен писать, а тогда, когда он понимает, как писать не должен». Оказавшись в кругу себе подобных, сознаешь: несмотря на всю свою высокоталантливую исключительность, ты совершаешь те же самые ошибки, что и остальные сочиняющие граждане. А обнаружив двусмысленные «концы» в строчках товарища по перу, начинаешь иначе воспринимать собственные сочинения.
Занятия семинара проходили так. Назначался «виновник торжества». Допустим, выбор падал на тебя. Заранее размножив свои стихи с помощью дружественной машинистки, ты раздавал подборки товарищам по семинару, а первый экземпляр вручал, разумеется, руководителю. И трепетно ждал своей очереди… Ты уже знал, чем заканчивались такие обсуждения для других, но верил: с тобой все будет иначе! Семинар просто содрогнется от открытия небывалого таланта, на руках тебя качать, наверное, не будут, но все-таки…
И вот наступает день «Ч». С утра меня трясет и лихорадит, или, как выражается нынешняя молодежь, плющит и колбасит. Домашние встревожены: «Юра, что случилось?» Я отшучиваюсь. Ну как, в самом деле, признаться, что ты ждешь и отчаянно трусишь предстоящего семинарского обсуждения, предназначенного стать твоим звездным часом?! В последний раз, запершись в туалете, я, профессионально завывая, репетирую чтение лучших моих стихов. Таких, например:
Мелким дождиком неистребимым Обернувшись, как целлофаном, Одинокие гроздья рябины Исступленно зацеловал он…Ну разве это не гениально? Все будет хорошо.
— Кто у нас сегодня? — спрашивает Сикорский, окидывая зал взором усталого патологоанатома.
И вот я на трибуне. Да, забыл сказать: мы занимались в конференц-зале, где имелась роскошная могучая трибуна, очевидно, для политических просветителей с их нудными докладами. В креслах — коллеги по литературному цеху. Одни смотрят ободряюще, мол, держись, старик! Это соратники и друзья. Другие поглядывают с чувством явного эстетического превосходства. Это литературные недоброжелатели и соперники. Все как в большой словесности! А откуда-то из самого уголочка шлет взоры, полные нежности и восхищения, некая милая девушка. Это — моя девушка. Она знает все мои стихи наизусть, восхищается ими еще больше, чем я сам, и пришла сюда, чтобы разделить мой триумф.
— Ну-с, начнем! — объявляет Сикорский.
Я ощущаю во всем теле праздничную невесомость и начинаю. Сикорский внимательно слушает, что-то помечая на полях рукописи, а иногда после какой-нибудь особо удачной, на мой взгляд, метафоры отрывается и смотрит на меня с картинным удивлением, словно я безбилетник, предъявивший ему, контролеру, вместо билета бланк анализа мочи. (О, этот взгляд я запомнил навсегда!) По количеству таких «изумлений», если понаблюдать из зала, можно предугадать результаты обсуждения, а точнее — показательной порки.
Странное чувство испытываешь, выходя читать стихи залу. Еще минуту назад ты был абсолютно уверен в своей гениальности, но, увидев устремленные на тебя глаза слушателей, вдруг осознаешь, что ты, идиот, совершенно напрасно вознамерился морочить людей своей рифмованной белибердой. Освищут, зашикают — и поделом. Нет, еще хуже: отреагируют мертвым, ледяным молчанием. Впервые я читал стихи публике на каком-то студенческом празднике в переполненном актовом зале МОПИ имени Крупской. Это были пародии. Я сочинил «Мартовский триптих», пытаясь представить, как могли бы написать про весенних кошек Асадов, Евтушенко и Вознесенский — в те годы популярные до невменяемости. За несколько минут до выхода я решил еще раз проверить себя и шепотом прочитал пародии какому-то слонявшемуся за кулисами старшекурснику.
— Чепуха! — констатировал он, выслушав.
Тут меня объявили, я побрел на сцену, как на казнь, и зачем-то начал декламировать… Зал смеялся и долго мне аплодировал.
— Здорово! — похвалил тот же старшекурсник, поймав меня, окрыленного, за кулисами.
Счастье публичного признания можно, наверное, сравнить только с восторгом обладания прекрасной женщиной, еще недавно недоступной, а вот теперь нежно и покорно трепещущей в твоих объятьях…
Но вернемся в Дом политпросвещения. Я заканчиваю чтение стихов и на ватных ногах возвращаюсь в зал, друзья ободряюще пожимают мне руки, литературные недруги иронически усмехаются, а взор девушки обещает мне все, о чем только может мечтать молодой поэт.
— Ну-с, — предлагает Сикорский, — прошу высказываться. Кто у нас первый оппонент?
— Я! — с тихой улыбкой расчленителя-извращенца встает и идет к трибуне один из моих лютых литературных недругов.
И начинается Великое Избиение Поэтического Младенца. Никто лучше собратьев по перу не видит твоих огрехов и никто не умеет так чудовищно их громить. Все у меня не так: и ритм, и рифма, и настроение, а моими сравнениями и метафорами не стихи инструментовать, а забивать сваи в вечную мерзлоту.
— Ну что это такое: «Мелким дождиком неистребимым обернувшись, как целлофаном, одинокие гроздья рябины исступленно зацеловал он»?! Почему, например целлофаном, а не полиэтиленом? — вопрошает оппонент.
Зал хихикает. Я скрежещу зубами, ибо гордился рифмой «целлофаном — зацеловал он». Это удар ниже пояса. Общеизвестно, что ради рифмы в стихи не то что целлофан — тринитротолуол притащишь… Вот сволочь!
— Почему у тебя дождик «неистребимый», а гроздья «одинокие»? Это не точно. Эпитеты случайные.
— Не случайные! — вскакиваю я со своего места.
— Случайные!
— Почему?
— Потому. Ходасевича надо читать! — бьет он наотмашь. Полузапрещенного в то время Ходасевича я, конечно, не читал, о чем, наивный осел, как-то признался товарищам в курилке. <…>
— «Исступленно зацеловал он» сказано не по-русски, — продолжает избиение так называемый оппонент. — Можно исступленно целовать. Исступленно зацеловать нельзя.
— Можно! — снова вскакиваю я.
— Нельзя.
— Можно!!
— Нельзя…
Все смотрят на Сикорского.
— Нежелательно, — вздохнув, отвечает он.
— Но все эти огрехи — ерунда… — замахивается для смертельного завершающего удара оппонент. — Тебе просто не о чем писать. Какие-то пейзажики и прочая мура. В стихах нет судьбы. У тебя в жизни не было настоящей трагедии. Вот если бы твоя любимая женщина попала под трамвай…
В глазах моей девушки, жмущейся в углу, ужас. Под трамвай ей явно не хочется, даже ради моей поэтической судьбы.
— А у тебя была трагедия? — окончательно вскакиваю я.
— Была, — отвечает мой гонитель с той горделивой поспешностью, которая не оставляет сомнений в том, что и у него никакой трагедии пока в жизни не было. Разве что отец из загранкомандировки джинсы не привез.
«Ничего, — подбадриваю себя я. — Сейчас за меня заступятся…» Но друзья, на поддержку которых я рассчитываю, вяло пытаются возражать и от растерянности хвалят какие-то мои совершенно необязательные строчки, нажимая на то, что молодой талант, даже если он и не совсем еще талант, заслуживает бережного к себе отношения. Тем более что обсуждаемый поэт, то есть я, — отличный товарищ, хороший человек и даже комсомольский активист. В глазах моей девушки появляется то выражение, какое обычно бывает при виде собачонки, раздавленной уличным транспортом. Сикорский все больше хмурится. И я с ужасом понимаю: моя жизнь, во всяком случае литературная, не удалась. Личная жизнь, кстати, тоже под угрозой…
Наконец товарищи по перу сказали все, что про меня думают, довершив черное дело, начатое «расчленителем». Теперь все смотрят на Вадима Сикорского. Надо заметить, он был в своих разборах объективен, хотя и строг до чрезвычайности. Не ругал он только явных графоманов — щадя этих чаще всего нездоровых людей, приносивших на обсуждения бесконечные стихотворные поздравления друзьям к праздникам и дням рождения.
— М-да, — вздыхает Сикорский, обегая глазами симпатичных девушек в зале. — А почему вы не прочитали «Февраль»?
— Какой февраль?
— Ну вот, у вас в подборке:
Снег цвета довоенных фото Лежит, подошвами примят. Ворчанье шин. На поворотах Трамваи старчески скрипят…— Оно мне не удалось! — гордо объявляю я.
— Да, стихи неровные… «Ворчанье шин» — плохо. Ворчать на вас будет жена (короткий взгляд на мою девушку). «Старчески скрипят» — тоже плохо: «штамп». У вас вообще какой-то штамповочный цех! «Лежит, подошвами примят» — неуклюже… Хотя имеет право на существование. А вот «снег цвета довоенных фото» — хорошо. Даже очень хорошо! Работайте над собой! Кого обсуждаем в следующую пятницу?
— Меня… — жалобно сообщает мой главный погромщик.
И в моей душе расцветает чертополох возмездия. <…>
После обсуждения мы, как водится, пьем в скверике обязательный портвейн. Друзья, отводя глаза, объясняют, мол, все дело в том, что я плохо читал свои стихи, что у Сикорского какие-то неприятности в «Новом мире», что наши литературные враги просто сволочи и пишут еще хуже, чем я…
— Ой, извини!
Потом, проводив девушку домой, я еду к себе на станцию «Лосиноостровская» в полночной электричке. Спасительный наркоз портвейна неумолимо выветривается, и леденящая оторопь непоправимого диагноза убивает сердце. Диагноз состоит из двух слов: «Я бездарен»…
Кто не писал стихов, никогда не поймет это состояние. Ты вдруг осознаешь, что вожделенный, прекрасный мир, где гениальные метафоры прыгают, как райские птицы, с одной стихотворной ветки на другую, для тебя закрыт навеки. Никогда, никогда, никогда ты не войдешь в этот поэтический эдем, не хлопнешь по плечу задумавшегося над строкой великого собрата и не спросишь: «Ну как, брат Пушкин?»…
После того, первого обсуждения я два дня пролежал на кровати, отвернувшись к стенке, не подходил к телефону и отказывался от пищи. Мои родители, не имевшие к литературе никакого отношения, шепотом жалели о том, что их сын связался с этими чертовыми стихами. Впрочем, девушка по имени Наташа, несмотря на случившийся на ее глазах унизительный разгром, во мне не разочаровалась и вскоре стала моей женой, каковой и остается по сей день. Явление, надо сказать, довольно редкое в нашем многобрачном литературном мире.
Обычно после таких зубодробительных обсуждений отсеивалась примерно половина начинающих поэтов. Но у тех, кто выдержал, пережил, поднялся, — в душе совершался какой-то рывок, прорыв на некий иной уровень. Много позже я даже понял, что скачкообразное развитие литературного дара у пишущего человека случается именно в дни отчаянья и презрения к себе, а не в дни озарений и всеобщего признания. Мне трудно объяснить, почему так происходит… Одно могу сказать уверенно: графоманы никогда не мучаются сомнениями и в отчаянии не жгут написанное. Они с усталым удовольствием потирают поясницу, встав от поэмы, написанной в том ясном душевном состоянии, которое напоминает отлаженное пищеварение.
Я пережил. Перемучился. И пошел. Дальше в литературу…
…………………..
Пока Юра «перемучивался», учеба в институте шла своим чередом. Вот как об этом времени вспоминает доктор филологических наук Лев Колосов:
«…В 1972 году в институт поступает Юрий Поляков. Филологический факультет к тому времени уже был разделен на два: русского языка и литературы и иностранных языков… Факультет находился тогда во флигеле, пристройке к основному зданию на улице Радио; когда-то в этих помещениях располагался детский сад. Стенная газета называлась в то время «Литфаковец». О литературном объединении уже давно говорилось: «Родник иссяк». Но не иссякли, как видим, таланты. В те годы на факультете работали известные ученые-филологи и замечательные преподаватели: профессор А. М. Новикова (устное народное творчество), профессор Г. Л. Абрамович (введение в литературоведение, русская литература XIX века), профессор 3. Т. Гражданская, профессор В. Н. Богословский (зарубежная литература), профессор А. В. Дудников (современный русский язык, методика преподавания русского языка), профессор А. А. Журавлева, под руководством которой Ю. М. Поляков защитил кандидатскую диссертацию, и др.
Юра Поляков был блестящим студентом. Тяготея, как нетрудно догадаться, к дисциплинам литературоведческого цикла, он отлично учился по всем предметам. Будучи студентом первого курса, Юрий Поляков слушал у меня, тогда еще начинающего преподавателя, курс «Введение в языкознание». Помню экзамен, который сдавала по этому предмету его группа, в ней было не меньше 35 человек. Экзамен длился семь часов, а Юрий как джентльмен пропускал девочек вперед и сдавал экзамен последним. Получив свою заслуженную пятерку, он сказал, что изучение курса «Введение в языкознание» очень много дало и в плане изучения литературы. Мне кажется, что интерес к лингвистическим дисциплинам, к русскому языку способствовал формированию особого языка его произведений — одного из главных (если не главного) достоинств его литературного творчества.
Запомнилась мне и ироническая улыбка, часто появлявшаяся у Полякова-студента при разговоре. Ничего удивительного: ирония, а иногда и самоирония становится затем определяющим признаком его произведений…»
Довольно скоро Юрий стал весьма заметной фигурой на факультете. Снова сыграл свою роль КВН, который был популярен и в пединституте. Но надо было думать и о будущем.
«Конечно, я верил в себя, в свою звезду, — вспоминает Поляков, — но уверенности в своей избранности, в том, что я рожден безусловным гением, у меня никогда не было. В отличие, скажем, от моего друга и сверстника Игоря Селезнева, совершенно искренне считавшего себя равновеликим Пастернаку и даже Пушкину. Я понимал, что успех в литературе совсем не обязателен. И смолоду, под влиянием Ирины Анатольевны, всегда имел программу-максимум и программу-минимум. Ведь всерьез рассчитывать на то, что ты вдруг проснешься знаменитым, нельзя. Помню, как моя учительница говорила мне: «Юра, вот ты идешь домой, а там ждут жена и дети, они хотят кушать, а ты им говоришь: «Милые мои, сегодня у нас только духовная пища. Давайте читать Пушкина вслух» — и смотрела на меня со своей непередаваемой победной иронией. После первого семестра мы с ней держали совет и решили, что для начала мне нужно защитить диссертацию, стать преподавателем высшей школы, а потом, опираясь на этот плацдарм, продолжить поход в литературные палестины. Я нацелился на аспирантуру и с первого курса начал заниматься научной работой, благо меня сразу выделила профессор Анна Александровна Журавлева, читавшая пропедевтический курс по литературе. Вскоре определилась и тема… Брюсов! Я сам ее выбрал. Журавлева меня поддержала, но, будучи опытным научным руководителем, всегда доводившим своих аспирантов до кандидатской степени, твердо сказала: «Пусть Брюсов, но послереволюционный!».
Интересы начинающего литератора не ограничивались институтом. «Мне приходилось все время «ходить на сторону». Я интуитивно понимал, что курс советской литературы, который нам давали, — детский сад, что за один семестр выучить латынь или древнеславянский невозможно. Я сознавал, что марксизм-ленинизм — это вообще какая-то странная дисциплина, не имеющая отношения к реальной жизни. Тут надо вот о чем сказать: я с самого детства был естественным лидером, и меня постоянно выдвигали на различные общественные посты. Я был председателем совета отряда, председателем совета дружины, секретарем комсомольской организации школы. Я ходил на все семинары для активистов, посещал городскую комсомольскую школу, ездил в инструктивные лагеря, готовясь к собраниям, писал тексты выступлений. Всю коммунистическую риторику я усвоил на стилистическом уровне идеально и мог воспроизводить ее в любом виде по любому поводу. Я воспринимал ее как набор церемониальных правил, в которые не вдумывался и в которые до конца не верил, хотя и уважал за размах. Другое дело, что я с детства отождествлял себя со своей страной. Это был естественный патриотизм, который, видимо, шел из семьи, потому что дома никогда не велись разговоры об «этой стране», о «немытом народе». Их просто не могло быть, потому что мы сами были этой страной и этим народом, которому за неимением ванны в общежитии приходилось мыться в рабочих душевых Маргаринового завода. Родители о политике говорили исключительно в бытовом плане: «Ну вот, теперь из-за этой Кубы в очереди за хлебом не достоишься».
В институте Юрий столкнулся со сверстниками, исповедовавшими иные взгляды, сформировавшиеся в семьях с другими традициями. Впрочем, эти инакомыслие и инакочувствование пока еще укладывались в рамки «советскости». Общественная гиперактивность нового товарища, тут же ставшего комсоргом курса, вызывала раздражение. Некоторым однокурсникам казалось, что Поляков «всюду лезет», Юра же недоумевал, как можно не выступить за курс в команде КВН.
«Из шестерых моих однокурсников, — вспоминал он позднее, — трое стали известными литераторами. Про меня вдумчивый читатель и сам, очевидно, догадался. Назову также Александра Трапезникова, отличного прозаика, сочинявшего в ту пору странный сюрреалистический роман про говорящие рога и стихи про «маленьких злобных эриний». «Почему маленькие? Откуда вы взяли! — возмущалась преподавательница «антички» Ирина Шталь. — Эринии — трехметровые тетки с железными когтями!» А еще нельзя не упомянуть Тимура Запоева, который известен ныне любителям поэзии как поэт-концептуалист Тимур Кибиров. Помню, он всюду ходил с томиком Блока из «Библиотеки всемирной литературы» и сочинял что-то грустно-символическое, но в общении с товарищами был чрезвычайно ехиден. Когда много лет спустя узнал, что он сменил свою изумительную, Богом данную фамилию на рахат-лукумный псевдоним, я был поражен. Тот же Николай Глазков, из которого, по сути, и вышел весь наш отечественный «концептуализм», отдал бы половину своей печени за фамилию «Запоев». Всю печень, конечно, не отдал бы, так как был человеком серьезно пьющим. Кстати, знаменитый поэт-сатирик Владимир Вишневский (в ту пору Гехт) тоже учился на нашем же факультете, но курсом старше, и сочинял вполне лирические стихи, например, про мальчика, подающего во время футбольного матча мячи. На самом деле он, разумеется, имел в виду себя, начинающего поэта, который еще всем покажет. И показал! Есть такое выражение в театре «Актер Актерыч». Так называют человека, который всем видом старается подчеркнуть свою причастность к сцене, говорит утробным голосом, а ходит наподобие тени отца Гамлета. Вишневский вел себя как заправский Поэт Поэтыч. В разгар студенческой пирушки он мог вдруг погрустнеть, уйти в уголок, достать хорошенький блокнотик, сувенирную авторучку и, ощупывая взыскующим взором пустоту перед собой, заняться сочинением стихов. «Володя, рюмку пропустишь?» — звал кто-то неосторожный. Но на него сразу шикали: «Т-с! Человек стихи пишет. Не видишь, что ли?» Я всегда царапал набежавшие строки на клочках бумаги, терял, горевал об утратах и завидовал, глядя на Володин блокнотик. После института мы довольно долго поддерживали отношения. Но как и большинство юмористов, обсмеивающих все, что шевелится и даже умерло, Вишневский не переносит остроты в свой адрес. Как-то представляя его на большом вечере в ЦДЛ, я сказал: «Чехов утверждал, что краткость — сестра таланта. Выступает брат таланта — Владимир Вишневский!» Я-то имел в виду его знаменитые стихи в одну строчку, вроде «Давно я не лежал в Колонном зале». Но он понял по-своему, обиделся — и наши пути разошлись.
Но если в Вишневском тогда невозможно было угадать будущего корпоративного сатирика, то я в ту пору как раз отдавал предпочтение пародиям и стихотворному юмору:
Теперь дома особенные строят: Я слышу, как внизу бифштекс горит, Как наверху кого-то чем-то кроют И как «звезда с звездою говорит»…Кстати, подражание, переходящее в пародирование, — нормальный путь стихотворного ученичества. Ибо, смеясь, с прошлым расстается не только общество. Смеясь, пародируя, ерничая, молодой поэт расстается со школярством, с зависимостью от литературных авторитетов. Да, Некрасов писал: «И скучно и грустно, и некого в карты надуть…» Дурачился. Но ведь он еще написал и «Русских женщин», и «Кому на Руси жить хорошо»… Если бы мне кто-нибудь тогда, в студенческие годы, предсказал, что игра со знаменитыми цитатами лет через двадцать станет основным содержанием русской поэзии и будет называться «постмодернистской интертекстуальностью», я бы просто рассмеялся. В начале минувшего столетия поэзия явилась полноправным участником и даже организатором грандиозного цивилизационного слома. В конце XX века не менее грандиозный катаклизм она (не вся, конечно, но тем не менее) прохихикала и пробалагурила. Неисповедимы пути Слова! Можно, конечно, упрекать поэтов. Но, с другой стороны: а если «иронизм» — на самом деле не что иное, как неосознанная ими самими реакция на чуждость, ненужность катаклизма нашей российской государственности и культуре?..»
Почему Юрий выбрал для научной работы творчество именно Брюсова? В ту пору многие увлекались поэзией Серебряного века, которую официальная филология именовала «русской литературой XX века дооктябрьского периода».
«Еще учась в школе и скитаясь по букинистическим магазинам, я купил изумительный двухтомник Брюсова пятидесятых годов, в сиреневой обложке. Очень красивое издание! «Фиолетовые руки» и «тень латаний на эмалевой стене» особого впечатления на меня не произвели, а вот такие строки запали навсегда:
Есть тонкие властительные связи Меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант не виден нам, пока Под гранями не оживет в алмазе. Так образы изменчивых фантазий, Плывущие, как в небе облака, Окаменев, живут потом века В отточенной и завершенной фразе…Мне это было необычайно близко! Изучение творчества Брюсова давало возможность проникнуть в таинственный Серебряный век, спрятанный в спецхраны и затаившийся до поры в раритетных изданиях. Причем проникнуть вполне официально, ибо, вступив в ВКП(б) во время Гражданской войны, автор «Огненного ангела» вошел в когорту советских классиков, диссертации о которых писать не возбранялось. До 1991 года биографы настаивали, что Валерий Яковлевич стал коммунистом в 1918-м, когда Деникин был под Тулой. А это — подвиг, достойный уважения! Ведь, победи белые, ни о каком «философском пароходе» речи бы не было. Повесили бы бедного Валерия Яковлевича на одном фонаре с Маяковским. Но после крушения Советской власти биографы поэта стали доказывать, что Брюсов вступил в ряды в конце 1919-го, когда победа большевиков стала очевидной. А главным побудительным мотивом было пристрастие поэта к кокаину, сведшее его в могилу в пятьдесят лет: спасительный порошок выдавался только своим, «товарищам».
Выбор Юрия подразумевал, что, если удастся, он смог бы всерьез заняться Серебряным веком и, возможно, посвятить свою жизнь исследованию этой terra incognita. В случае же, если вдруг окажется, что в советские идеологические рамки дореволюционный Брюсов помещен быть не может, Юрий готов был по совету А. А. Журавлевой сосредоточиться на его послереволюционной литературной и просветительской деятельности. Так оно, кстати, и вышло.
Юрий не ограничился бдениями в читальном зале Исторической библиотеки, а очень скоро стал одним из завсегдатаев Мемориального кабинета Брюсова на проспекте Мира, рядом с Аптекарским огородом. Этот особнячок в стиле «модерн» был филиалом Всесоюзного литературного музея. Сам кабинет занимал первый этаж: там все осталось как при Брюсове: большой письменный стол, зеленая лампа, огромная библиотека. Юрий не пропускал заседаний, которые собирали вместе удивительных людей: Анастасию Ивановну Цветаеву, Нину Константиновну Бальмонт-Бруни, Владимира Брониславовича Муравьева, Сергея Васильевича Шервинского, Виктора Максимовича Жирмунского[9]…
«Я там погрузился в атмосферу Серебряного века гораздо раньше, чем он вошел в моду, — вспоминает Поляков. — Это очень много добавляло моему институтскому образованию, так же как и запрещенная литература, которая в перепечатках ходила по рукам и которой можно было разжиться буквально на одну ночь. В музее мне разрешали пользоваться некоторыми книгами. Хранительница кабинета Елена Владимировна Чудецкая, секретарь жены Брюсова Иоанны Матвеевны, в молодости была актрисой, играла у Марджанова, потом у Образцова, о котором рассказывала страшные вещи: якобы он был самодур и даже вампир и доводил актеров до самоубийства…»
В 1973 году, когда отмечали столетие Брюсова, Юрий напечатал о нем статью в институтской многотиражке «Народный учитель», насажав там столько ошибок, что научный куратор Мемориального кабинета Алексей Китлов хотел вызвать молодого коллегу на дуэль: после фронтовой контузии этот замечательный филолог-полиглот страдал приступами неуправляемой ярости. Помирила их Елена Владимировна Чудецкая.
В 1975-м в здании случился пожар (на втором этаже, в Союзе журналистов загорелся электрочайник), и Юрий принимал участие в спасении фондов, которые пожарные залили водой. Музей закрылся на много лет.
* * *
Летом 1973-го Юрий вместе с другими студентами работал в стройотряде в селе Большое Ивановское в Раменском районе Подмосковья. Строили коровник. Студенты 1950-х поднимали целину — студенты 1960-х строили коровники и сельские школы, аббревиатура ССО — студенческие строительные отряды — была у всех на слуху. А с 1974-го в жизнь комсомольцев надолго вошла аббревиатура БАМ: Байкало-Амурская магистраль была объявлена всесоюзной ударной комсомольской стройкой, на XVII съезде комсомола было решено создать штаб строительства БАМа, и туда потянулись эшелоны с тысячами молодых энтузиастов. Не все там удержались, а многие очень скоро растеряли свой энтузиазм. Появились шутки и анекдоты: «Что будет, если Брежнева ударить головой о рельсы?» — «БАМ». Или такая вот расшифровка: БАМ — «Брежнев Абманывает Молодежь»… Сегодняшний Поляков считает, что, учитывая военно-экономическое значение магистрали, нельзя исключать в этом деле и идеологические диверсии. Теперь, когда рассекречены многие документы, рассказы о длинной руке ЦРУ, над которыми потешались на кухнях всезнающие советские интеллигенты, представляются не такими уж дурацкими: вышло в свет несколько монографий, убедительно показывающих, что скандал вокруг зарубежной публикации романа «Доктор Живаго» был виртуозно спланированной многоходовой операцией американских спецслужб. Мало того, они теперь откровенно бравируют давней своей удачей: им тогда, борясь с «империей зла», удалось осложнить и без того непростые отношения политического руководства СССР с творческими деятелями. Странно, что нынешняя власть не делает никаких выводов из тех давних провалов и ошибок в сфере культурной политики.
В 1973-м никакого БАМа не было и в помине. Студенческие строительные отряды были заняты обычным трудом, столь востребованным на селе, где уже остро не хватало рабочих рук — самые энергичные по-прежнему уезжали в город: на заработки, на учебу — и чаще всего уже не возвращались. Юрий, отметим, был не рядовым бойцом стройотряда, а комиссаром, то есть не только выполнял дневную норму, но еще и отвечал за культурно-массовый досуг. И все бы ничего, но, прямо как в книжке про Гражданскую войну, комиссар вступил в конфликт с командиром отряда.
«Работа в ССО не была благотворительной, — вспоминает Юрий Поляков, — труд студентов оплачивался по общим нормам, исходя из освоенных объемов. Существовала система тарифов и нарядов, которые командир отряда «закрывал» совместно с представителями заказчика, в нашем случае — совхоза. Деньги были немалые даже в Нечерноземье, а чем дальше от Москвы, тем они становились больше — благодаря коэффициентам: студенты того же МОПИ имени Крупской, работавшие в Тургайских степях, получали за сезон до 800 рублей — огромные по тем временам деньги. Понятно, что при таком раскладе не столь уж редки были всевозможные махинации. Заказчики были заинтересованы в том, чтобы заплатить поменьше. Если удавалось договориться с командиром отряда, объем и категории выполненных работ занижались, наряды закрывались по минимальным ставкам — а в результате бойцы получали гораздо меньше, чем заработали. Зато пошедший на сделку командир внакладе, конечно, не оставался. Речь о тех самых «откатах», которые, увеличившись тысячекратно, стали бедствием нашей экономики после 1991 года. Против попытки занизить объем выполненных работ и выступил комиссар Поляков на собрании отряда. Шум докатился до областного штаба ССО, на место выезжала комиссия, в которую вошел и студент-старшекурсник М. с факультета русского языка и литературы, почти тридцатилетний отпрыск преподавателя, и скандал с трудом замяли…» С этим М. Юрию доведется еще встретиться, причем очень скоро.
Стройотрядовская тема, конечно, нашла отражение в творчестве, она встречается и в «Работе над ошибками», и в «Гипсовом трубаче». Осталось на память о том лете и шуточное стихотворение, сочиненное для стенгазеты, которую выпускал в отряде комиссар-поэт:
Среди студентов говорят: «Тот не студент, который Не ездил летом в стройотряд И не месил раствора. Усталость мускулы свела И голова лохмата. О, как сначала тяжела Обычная лопата!» Когда работаешь за двух, Почувствуешь на деле, Что не всегда могучий дух Живет в могучем теле. Но сила явится в руке — Заговоришь с веками На самом древнем языке «Тычками» и «ложками». То куртку дождь протрет до дыр. То солнышко ошпарит. И скажет местный бригадир: — Ну и дает, очкарик! Проходит срок. Приходит час Прощания тяжелый. Мычаньем провожают нас Коровы — новоселы… («Элегия о стройотряде». 1973)Сразу после стройотряда, по путевке институтского профкома, Юрий отправился в дом отдыха «Репино» на Финском заливе. Осенью Карельский перешеек необычайно красив, что не могло не вдохновить молодого поэта. Впрочем, вдохновляло не только «пестрое природы увяданье». Домой он привез целый цикл стихотворений, который так и назывался «Осень на Карельском перешейке».
Белый мох под ногами трещит, Весь пинцетами хвои усыпан. И залив где-то рядом шуршит, Усыпляюще и неусыпно… (1973)Те же юношеские впечатления отразились и в поздних стихах, собранных автором в цикл «Времена жизни» (2010–2015):
Те женщины, которые могли бы Когда-то жизнь мою переверстать, Они в свои вернулись судьбы… Либо Ушли туда, где ждет нас благодать. С иными я успел на фото сняться: Их лица непростительно грустны, Мне иногда они ночами снятся, Потом я долго помню эти сны, Где вновь я молод, вновь изнемогаю. За дюнами залив песком шуршит, И девушка влюбленными шагами К поэту на свидание спешит.Осенью 1974-го в институте начались занятия третьего семестра, а в литературном объединении возобновились семинары. Юрий все глубже врастал в бурную литературную жизнь столицы. Сейчас принято изображать эпоху «застоя» как мрачное время всеобщей пассивности и молчания. Это совсем не так. Творческая жизнь била ключом: в том же Центральном доме литераторов, куда молодым сочинителям всеми правдами и неправдами удавалось проникнуть, в течение вечера можно было побывать на обсуждении новой книги и поэтическом вечере, а в довершение выпить рюмку по соседству с классиками — Ваншенкиным, Лукониным, Боковым, Межировым, Рождественским, Мартыновым… На стене Пестрого зала, где чаще всего происходили возлияния, красовались изречения известных завсегдатаев. Среди других особо выделялось назидание пострадавшего от питейных излишеств Михаила Светлова:
О молодые, будьте стойки При виде ресторанной стойки!В 1974-м Юрием были написаны стихи, вошедшие с небольшими изменениями в первый поэтический сборник: «Мураново», «Зачем вы пишете стихи?», «Железнодорожное сравнение»… В лучших вещах, в отличие от многих сверстников, он уже приблизился к профессиональному уровню, и сам это ощущал. В том же году случилось знаменательное и давно ожидаемое событие: 29 марта в «Московском комсомольце» вышла подборка стихов молодых поэтов с предисловием мэтра Вадима Сикорского. Сикорского попросили дать в газету стихи участников семинара, и он отобрал стихотворения Игоря Селезнева, Валерия Капралова и Юрия Полякова. У Юры он взял «Февраль», с тем самым «снегом цвета довоенных фото».
«О первая публикация! Она незабываема, как первая женщина! Тогда Москва была усеяна газетными стендами, чего теперь нет и в помине. Возле стендов всегда стояли люди. Странно — ведь газета стоила всего две копейки. Вроде бы купи — и не мучайся. Но нет: стояли и читали. Я шел по Москве, высматривая стенды «Московского комсомольца», и пристраивался рядышком с каким-нибудь углубившимся в газету гражданином в надежде, что он в этот миг упивается именно моими стихами. Но граждане читали в основном про спорт».
Первая публикация стала поводом завести альбом, в который поначалу аккуратно помещались вырезки из газет и журналов, где публиковались Юрины стихи либо упоминалось имя молодого, рано обратившего на себя внимание поэтической общественности поэта.
«…В «МК» работал благоволивший ко мне (да, пожалуй, ко всем молодым литераторам) поэт и журналист Александр Аронов. Я тогда жил в Орехово-Борисове, на окраине Москвы, и мы были с ним соседями. А еще поблизости обитал поэт и переводчик Григорий Кружков. Мы называли себя «Орехово-Борисовской школой». Кружков даже написал такие смешные стихи:
В Орехово-Борисово Не встретишь черта лысого. Зато там есть Аронов, Поэт для миллионов, Кружок его дружков, Дружок его Кружков…»Благодаря этой дружбе — но и политике газеты, привечавшей молодых, стихи Юрия Полякова стали время от времени появляться на полосах «МК». Александр Аронов был не только блестящим поэтом, другом Бродского, но феноменально образованным человеком, автором необычной для того времени философско-иронической лирики. Например, маленькой поэмы «Кьеркегор и Бог». Но широкой публике он в основном известен как автор песни «Если у вас нету тети…» из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Много лет спустя Поляков с любовью изобразит старшего друга в своем романе.
…………………..
Когда пространство между опускающимся полом и перемычкой этажа сократилось до полуметра, он сунул в щель ногу — лифт дернулся и встал.
— Здорово! — восхитился Дочкин.
— Ну что ты делаешь, ребенок с длинным хером? И так жить не хочется! — взныл светлокожий негр с синяком под глазом.
Веня Шаронов — сказка и легенда «Мымры» — плохо сохранившийся пятидесятилетний мужчина с худыми ногами и большим животом, смахивал на негра: жесткие мелкие кудри, приплюснутый нос и черные глаза, замученные плантаторским рабством. Казалось, природа затевала африканца, но в последний момент передумала, выбелив кожу. Веня заведовал в «Мымре» отделом литературы, сочинял стихи и даже, по слухам, имел отношение к очень большой литературе: его первая жена ушла от него к Бродскому. Вторая жена, безуспешная актриса Лидка Бубенникова, происходила из кубанских казачек, была выше мужа на голову и вдвое шире в плечах — чем и пользовалась. Когда Веня приходил домой пьяным (а пьяным он приходил всегда), она встречала его на пороге и без единого укора била в челюсть. Он падал и засыпал. Впрочем, суровость Лидки объяснима: Веня, обычно сдержанный, даже стеснительный, выпив, превращался в сексуального шалопая и задиру. Мог подкатить к чуждой даме, отрекомендоваться помесью еврея с обезьяной и предложить ей краткий, но незабываемый интим в туалете. Иногда его били, чаще смеялись.
…Выпив, Веня светлел, загорался жизненным интересом, садился разбирать самотек и, обнаружив что-то интересное, шумно бегал по редакции, врывался в кабинеты и кричал:
— Вы только послушайте! Из Рыбинска, какой-то слесарь прислал. Гений: «Жизнь отныне стала краше, / И на лад идут дела. / Потому что моя Маша / Вся из отпуска пришла!» Нет, вы поняли? Вся пришла, вся! Я охреневаю, дорогая редакция! Просто самодельный гений! А дальше — слушайте, слушайте: «Десять дней я лез на стену / И теперь, как штык, стою. / Поверни ж ко мне систему / Ты капризную свою!»
Молодые дарования всей страны ехали к Вене за помощью и советом. Именно он, прочитав первые рассказы Довлатова, сказал ему: «Серега, даже не пытайся стать великим русским писателем. Ни Чехова, ни Бунина из тебя точно не выйдет. В крайнем случае — Аверченко, но Аверченко уже есть. Тебе удаются смешные истории про знакомых евреев. Это твой путь, мой мальчик!» Довлатов последовал совету мастера и прославился. Шаронов искал самородки в пустой породе редакционных завалов, перерывал мешки писем и, если находил, ликовал, носился, восторгаясь, по редакции, шел к Танкисту и говорил: «Надо печатать!»
(«Любовь в эпоху перемен»)…………………..
Александр Аронов, хотя и числился в полудиссидентах, работал в «Московском комсомольце», органе МГК ВЛКСМ, состоял даже в КПСС. Половина тогдашней поэтической молодежи ходила у него в учениках, но у самого мэтра книги не было, ситуация нередкая в те годы. Однако когда в разгар перестройки Аронов наконец выпустил свой первый сборник «Островок безопасности», Юрий Поляков, к тому времени уже нашумевший прозаик, оказался первым и, пожалуй, единственным из учеников, кто откликнулся на это событие рецензией в «Литературной России». Отметим здесь умение помнить добро и отдаривать — одно из качеств Юрия Полякова.
В июне 1974-го Юрий с однокурсниками проходил педагогическую практику в пионерском лагере неподалеку от города Ступино, на Оке. И тем же летом, в августе, Юрий отправился в свою первую загранпоездку — в Прагу, по студенческому обмену. Поездка произвела неизгладимое впечатление. Дело даже не только в прекрасной Праге и ее достопримечательностях. Студенты увидели совсем другую жизнь, хотя и называвшуюся социалистической, но организованную по иным правилам, сохранившую все приметы европейского быта. Их поражало все: свежее пиво на каждом углу, дефицитные колбасы в витринах, американские фильмы в кинотеатрах и с трудом скрываемая нелюбовь к СССР: в Чехословакии еще слишком свежа была память о событиях 1968 года. Юре даже показали денежную купюру, на которой якобы был изображен парень, совершивший самосожжение на Вацлавской площади в знак протеста против ввода в страну танков стран Варшавского договора. Задевало, что дорогу в случае чего приходилось спрашивать у прохожих по-немецки, по-русски никто как будто не понимал. Впрочем, в отличие от многих сверстников, обида чехов на советские танки в столице ЧССР не стала для Юрия поводом к самобичеванию. Сработало какое-то внутреннее чутье на несправедливость и фальшь. Десятилетия спустя, будучи известным публицистом, он напишет: «Нет, не чехам, склепавшим на своих заводах половину танков, которыми фашисты утюжили города и деревни СССР, корить нас нашими тридцатьчетверками на Вацлавской площади. Да, мы не хотели, чтобы их заводы снова работали на наших врагов — теперь НАТО. Кто посмеет упрекнуть нас в этом? Кто?»
Как ни удивительно, в поездке за ними никто из старших не присматривал, студенты были предоставлены сами себе. Ребята, в основном под руководством старшекурсника М. (того самого, из областного штаба ССО), запивали бехеровку пивом и расслаблялись, у девчонок была своя программа, а Юра целыми днями, один или с однокурсницей Светланой Бабакиной, с которой подружился еще в стройотряде, бродил по Праге и за короткий срок умудрился побывать во многих музеях, кинотеатрах, даже пару раз сходить в театр. В популярном театре «На перилах» давали «Ревизора», и все персонажи Гоголя, включая дам, по воле режиссера не выпускали из рук бутылки и были пьяны в стельку. Когда кто-то из группы, занимавшийся тем же самым, поинтересовался его театральными впечатлениями, Юра честно ответил: «Ничего особенного, вроде нашей «Таганки», но получше будет». Должно быть, его подчеркнутая обособленность группу раздражала, он того по молодости не заметил, а прямо ему никто ничего не говорил. Почти все ребята были старше Юры, хотя по их поведению это как раз не чувствовалось: например, когда ехали назад, они в поезде напились и устроили в вагоне драку. Дело чуть не дошло до милиции. Поляков с ними не пил и, естественно, в разбирательствах, которые потом начались, не участвовал.
В начале осени на факультете состоялось отчетно-перевыборное комсомольское собрание, на котором Полякова должны были избрать секретарем комитета комсомола факультета. Все его знали как кавээнщика и комсорга курса, студента-отличника, характеристики у него были самые положительные, так что обсуждение его кандидатуры, можно сказать, было делом формальным. Вдруг встал один из участников загранпоездки по фамилии Немцов и заявил: «Вот вы здесь все за Полякова, мол, хороший и замечательный. А я его знаю с другой стороны. Я с ним ездил в Чехословакию, и там он проявил себя как отъявленный антисоветчик!» Сказать, что все удивились, — ничего не сказать. Просто оторопели. Сам Юра и те, кто был вместе с ним в той поездке, буквально утратили дар речи. Пыталась что-то возразить Светлана Бабакина, но растерялась из-за глупой бессмысленности клеветы и даже расплакалась. После такого обвинения подозрительную кандидатуру на всякий случай с голосования сняли, секретарем факультета в тот день стал другой активист. Для Юры это было нравственным потрясением: он впервые в жизни столкнулся с огульной клеветой, к тому же достигшей цели.
Назавтра его вызвали к секретарю партбюро факультета Марии Федоровне Тузовой. Там уже сидел ставший знаменитым на весь институт Немцов. Юра с порога заявил, что после случившегося намерен забрать документы из института. К такому решению он пришел после бессонной ночи. Больше всего оскорбило даже не облыжное обвинение, а то, что никто из друзей толком за него не заступился. Но Тузова его остановила:
— Остынь. Давай разберемся, — и, обращаясь к Немцову, спросила: — Что ты имел в виду, когда говорил, что Поляков — антисоветчик?
— Ну как что? Он говорил, что ихний театр лучше нашей «Таганки»!
— А еще что?
— А больше ничего.
— Ты вообще нормальный?
Опытная Мария Федоровна стала разбираться дальше, всплыла история с пьяной дракой в поезде, и стало ясно: опасаясь, что Поляков на них «стукнет», драчуны сработали на опережение. Вспоминая этот случай, Поляков замечает, что этот прием не так уж редко использовался в нашей недавней истории: например, комиссия по реабилитации жертв репрессий 1930-х годов, вызывая на беседу авторов «сигналов», погубивших невинных людей, получала стандартное объяснение: донес, чтобы опередить донос. Как это ни удивительно, если в те времена доносчиков уличали в клевете, они получали серьезные сроки, становясь жертвами ГУЛАГа. И их тоже потом реабилитировали как невиновных.
Судя по некоторым совпадениям, за всей этой историей стоял все тот же М., столкнувшийся с Юрием во время стройотрядовского конфликта. Тузова срочно собрала партбюро, Немцова заслушали, отругали и велели, извинившись, оповестить комсомольцев института о своей неправоте.
«Картина была уморительная. Одна из комсомольских активисток, худенькая, как спица, Валя Паршина водила здоровенного Немцова по аудиториям, где он голосом вагонного инвалида, к тому же по обыкновению заикаясь (странное качество для будущего учителя), сообщал, мол, Поляков, которого я назвал антисоветчиком, на самом деле не антисоветчик, просто он мне не нравится как человек. Тем все и кончилось. Меня в качестве реабилитации избрали в руководство научного студенческого общества.
Немцов после окончания института стал почему-то не педагогом, а инспектором ОБХСС. Много лет спустя я встретил на радио М., работавшего там в одной из редакций. Стали вспоминать молодость и вышли на ту давнюю историю. Он хитро посмотрел на меня мутнокрасными глазами и сказал: «Пил бы в коллективе — ничего бы с тобой не случилось!» Как ни странно, пустяковое, по сути, происшествие оставило на моем сердце памятный рубец. Да и впоследствии болезненнее всего я переживал несправедливость…»
Не став факультетским секретарем, Юрий смог больше времени посвящать научному студенческому обществу: готовил доклады, участвовал в конференциях. И конечно, не оставлял своих занятий в поэтической студии — стихов у него все прибавлялось. Скандал в институте остался без последствий, и уже в 1975-м Юрий, вновь по студенческому обмену, съездил в Польшу. Более того, незадолго до окончания четвертого семестра его вызвал к себе декан и предложил поехать учиться по межвузовскому обмену в Венгрию или Румынию — на выбор. Такое предлагалось только отличникам и общественникам. Но, подумав несколько дней, Юрий от предложения отказался, хотя для большинства студентов учеба за границей была пределом мечтаний. Причины были две: поэзия, которая все больше захватывала его, и девушка по имени Наташа, отношения с которой вступили в серьезную предсвадебную фазу. Впрочем, Наташу правильнее поставить на первое место. Сегодня, когда многие книги Полякова переведены на венгерский язык, его пьесы идут на тамошней сцене, а сам он в течение нескольких лет возглавлял Российско-венгерское общество дружбы, невольно задумываешься о том, как важно сделать в молодости верный выбор, сосредоточиться на самом главном. Впрочем, кто знает, сложись иначе, и мы имели бы сегодня отличного переводчика с венгерского Юрия Полякова, заново открывшего русскому читателю Шандора Петефи и Аттилу Йожефа.
31 января 1975 года третьекурсник Юрий Поляков женился на Наталье Посталюк, родившейся в Борисполе под Киевом, но с детства жившей в Москве. Познакомились они, как мы уже знаем, в кинотеатре «Уран» в конце апреля 1973 года. Это была та самая подруга, «серьезная, даже в очках». Поначалу Юра обратил внимание на другую — эффектную девушку. Но довольно скоро понял, что Наташа намного интереснее и содержательнее — с ней ему было о чем говорить. Об остальном можно судить по стихам:
Такого можно не понять годами, Но вдруг коснуться в озаренье лба! Та женщина с упрямыми глазами, Как говорили встарь, — моя судьба! Ее улыбка — от печалей средство, Ее слова — они хмельней вина! Вот жизнь моя: сначала было детство, За детством — юность, А потом — она! Конечно, счастье — это тоже тяжесть, И потому чуть сгорбленный стою. Не умер бы я, с ней не повстречавшись, И жизнь бы прожил. Только не свою! («Женщина с упрямыми глазами»)Наташа была студенткой-вечерницей Экономико-статистического института, а работала в ЦСУ на улице Кирова, в знаменитом здании, спроектированном Ле Корбюзье, пионером архитектурного модернизма и функционализма. О чем и сообщил бывший член Клуба юных архитекторов своей новой знакомой. В ту пору эта информация не то что скрывалась — но и не была общеизвестной. Девушка посмотрела на веселого после пива студента с интересом, а когда он поведал про недавний вечер поэзии в Политехническом, ее интерес окреп. Наташа сама оказалась книгочеей и театралкой. После просмотра фильма «Мировой парень», который Юрий под шиканья соседей комментировал на ухо девушке со всем блеском молодого ехидства, подруги вернулись на работу. Но у него остался ее номер телефона. Первое свидание состоялось 1 Мая — в праздник весны. Позже он напишет:
На улице Сретенке В семьдесят третьем году С тобою нам встретиться Написано на роду. Со скошенным нимбом В поту, засучив рукава, Всеведущий выбил На небе все наши слова! А сделавши это, Подумал про взаимосвязь Конечности света Со счастьем, сошедшим на нас. (1977)За два года до знакомства, в 1971-м, у Наташи умер отец, летчик-испытатель, фронтовик, полковник Иван Макарович Посталюк. Наташа жила с мамой, сестрой и бабушкой недалеко от станции метро «Багратионовская» на улице Алябьева, упирающейся в Филевский парк, что вытянулся вдоль Москвы-реки. С мая 1973-го до января 1975-го маршрут Фили — Лосиноостровская, куда приходилось добираться на электричке, стал для Юры почти ежедневным. Недаром в тогдашнем шлягере пелось: «Опять от меня сбежала последняя электричка». Если такое случалось, ему оставался другой путь: «от выставки на выселки», как выразился поэт Игорь Селезнев, — от станции метро «ВДНХ» на трамвае.
Не верьте московским трамваям! Заняв поудобней места, Мы как-то совсем забываем, Что это не поезда. Трамвай, умудренный летами, Несется, гремя и стуча, И рельсы назад улетают, Как ленты из губ циркача. Иным повинуясь законам, За пыльным окошком отстав, Мелькнули полузнакомо Знакомые с детства места. Трамвай убегает за город, Понятное скрылось вдали. И хочется всякий пригорок Принять за округлость земли. Какие-то дивные веси. Все ново — деревья, трава… На Беринговом проезде Вдруг вспомнишь, что это — трамвай. («Трамвай». 1974)Юра стал частым гостем в гостеприимном доме Посталюков. Семья была с совсем другим укладом жизни: уровень достатка, еще не утраченный после смерти отца, и обильное украинское застолье. После свадьбы он ненадолго поселится в этой семье, став, как выражались на юге России, «приймаком». Не случайно он наделит потом подобным фактом биографии некоторых своих героев, тем самым обозначив их переход на иную социальную ступень, а также ту родственную несвободу, которую неизбежно испытывает мужчина, попав в чужую семью со сложившимся укладом. Правда, в художественном переосмыслении этого обстоятельства не обошлось без гротеска: семьи Поляковых и Посталюков стояли практически на той же самой ступеньке советского общества.
Впрочем, весьма вероятно, что таким образом писатель Поляков проходил вместе со своими героями путь, от которого отказался сам: Анна Александровна Журавлева пыталась внедрить своего питомца в семью известного горьковеда, у которого была дочка — Юрина ровесница. Отвозя на отзыв диссертации, он несколько раз побывал в их большой квартире в цековском доме в Сивцевом Вражке, попил чаю, пообщался, поспорил о современной литературе и, кажется, всем понравился. Поэтому, когда Юра после зимних каникул вернулся в институт с новеньким обручальным кольцом на пальце, Анна Александровна вздохнула: «Жаль, очень жаль! Теперь нам будет труднее…» Только тогда Юра догадался, что на Сивцев Вражек его посылали не для того, чтобы передать папки с дипломами. Научная руководительница таким путем надеялась решить вопрос об аспирантуре, кандидатской и будущем месте работы любимого студента. Как в ту пору шутили: «Может ли брак по расчету оказаться счастливым? — Может, если расчет был правильным!» Впоследствии герои романов Полякова подобной возможностью воспользовались — словно автор в своем воображении все еще прикидывал, как могла сложиться его собственная жизнь и какова плата за расчетливость.
Советское общество было далеко не однородным, оно делилось на гораздо более мелкие категории, чем это признавалось официально. В анкете обычно в графе «социальное происхождение» писали: из рабочих, из крестьян, из служащих либо военнослужащих. Однако на деле позднесоветский социум состоял из многих страт, и у каждой были свои права и возможности. В то же время переход из одной страты в другую не был ничем ограничен, все зависело исключительно от человека и его выбора, а также таланта и упорства. Невеста со связями была выходом для тех, кто в силу невысоких способностей не мог рассчитывать на жизненный успех. Впрочем, и тут не все было так просто. Поляков вспоминает, как его литературный сверстник поэт Петр Кошель, объявленный Вадимом Кожиновым продолжателем традиций Тютчева, женился на дочке члена политбюро Слюнькова — и вскоре исчез из большой литературы, зато стал ездить на охоту с генералами и лечиться в цековских санаториях: после перенесенной в детстве болезни у него была сухая нога. Причем то был брак не по расчету, а по взаимной любви. Так тоже случалось. Интересно, что в восточных обществах подобная дробность социума считалась тогда гарантией прочности всего социального здания — правда, там возможность перехода из одной страты в другую была почти исключена.
…………………..
Свадьбу справляли дома в нашей двухкомнатной квартире в Бабушкине. Ради простора сняли с петель дверь, разделявшую две комнаты, попросили у соседей взаймы еще один стол, стулья, тарелки, приборы. Салат оливье замесили в большом эмалированном тазу. Теща налепила несколько сотен украинских пельменей. Сразу возник конфликт семейных традиций: моя мать с заводской простотой предлагала позвать баяниста, чтобы между блюдами хором попеть, но теща, вдова полковника, с заоблачных высот гарнизонного бомонда холодно отвергла эту идею. Все было продумано и спланировано. Заранее, за три месяца мы записались в Грибоедовский загс, располагавшийся напротив ЦСУ, где служила Наташа. Регистрироваться в районных отделениях тогда почему-то считалось дурным тоном и уделом многоженцев. Поставив на очередь и назначив день — 31 января, — нам выдали специальный купон, по которому можно было приобретать вещи в магазинах-салонах для новобрачных — в основном речь шла о золотых кольцах, являвшихся дефицитом. Во всем другом эти салоны мало чем отличались по скудности от других торговых точек. За два дня до свадьбы мы с Натальей выстояли на Новом Арбате огромную очередь за мужскими ботинками, кажется, сирийского производства. Замерзли, так как ударили страшные холода. Рано утром 31 января я метнулся покупать цветы, с трудом, обшарив полгорода, нашел белые гвоздики, но, пока вез домой, они замерзли и стали как стеклянные.
Дома меня ждало разочарование. Моя учительница Ирина Анатольевна — я отвез ей в школу приглашение, умоляя прийти на свадьбу, — позвонила, поздравила и сообщила, что захворала, но по голосу я понял: причина не в этом. Конечно, я был виноват: учитывая нашу близость и ее роль в моей жизни, я обязан был представить ей Наташу заранее, получить одобрение моего выбора и лишь потом зазывать на пир. Но я боялся, помня ее пренебрежительный интерес к моим школьным увлечениям. А вдруг, познакомившись с Наташей и любезно с ней поговорив, она потом посмотрит на меня так, будто я в выпускном сочинении ляпнул ошибку на уровне пятого класса. Что тогда делать? И я решил схитрить — пригласить сразу на свадьбу. С этого началось наше отдаление. Мы почти уже не виделись, и меня даже не позвали на ее похороны.
Я стоял, огорченный отказом любимой учительницы, в руках жалобно пикала трубка… Отец понимающе обнял меня и сказал: «Не переживай, сынок! Если не хватит выпивки, у меня есть заначка — всем нальем!»
Мы прибыли в Грибоедовский дворец на двух «волгах» с ленточками на капотах (кукол на бамперах невеста гневно отвергла) и обнаружили длинную очередь брачующихся, в основном постарше нас с Наташей. Имелся даже бодрый пенсионер нежно державший за руку ражую молодуху-лимитчицу с красным от работы на свежем воздухе лицом. Но и мы, двадцатилетние, оказались не самыми юными. Запомнилась совсем еще девочка с большим выпиравшим животом. Рядом с ней переминался с ноги на ногу жених — ребенок мужского пола, едва обзаведшийся пушком на верхней губе. В глазах его мелькало недоумение. Очередь шла быстро, как на медосмотре в военкомате. Наконец мы вошли в лепной зал. Строго одетая дама с широкой лентой через плечо и высокой президиумной прической прочитала нам напутствие, больше похожее на нотацию, предложила расписаться, где следует, обменяться кольцами и поцеловаться в знак любви и верности. Мы это сделали. Оркестрик сыграл Мендельсона, мы выпили сладкого шампанского и пошли в семейную жизнь…
Народу в нашу маленькую квартиру набилось много — человек сорок. Церемония была продумана до мелочей. Сначала, как и положено в хороших домах, был аперитив — венгерский вермуте апельсиновым соком, которым я обносил прибывавших гостей, но никто почему-то не пил, отхлебывал и отставлял в сторону. Позже выяснилась причина: точно в такой же бутылке из-под вермута отец хранил спирт, настоянный на лимонных корках. Таким образом, я потчевал гостей убойным ректификатом, слегка закрашенным соком. Оценил напиток лишь Петька Коровяковский, приехавший на свадьбу прямо из аэропорта почему-то с двумя астрами в руках — будто на похороны. Он сразу с ходу хватил пару стаканов, удивился крепости напитка, а вскоре был вынесен на лестничную площадку и уложен на любезно предоставленной понимающими соседями раскладушке.
Застолье шло, как и положено, с тостами и напутствиями. Кроме родни, были Наташины сослуживцы и мои однокурсники — моя подруга Света Бабакина, томная Марина Анучкина и швыдкий Витя Фертман — они поженились накануне, 30-го и уже давали нам советы. Поэт Игорь Селезнев наблюдал за свадьбой с удивлением небожителя, по недоразумению завлеченного на пирушку смертных простецов. Впрочем, это не помешало ему сильно напиться. К его ужасу, моя мама, конечно, прочитала стихи Щипачева «Любовь не вздохи на скамейке», без чего не обходилась тогда ни одна приличная свадьба. Потом сдвинули мебель и танцевали под «АББУ». Дядя Юра Батурин бил в подушки как в импровизированные барабаны, а Мишка Петраков, только осваивавший премудрости ударного искусства, смотрел на него с восторгом неофита. Периодически они чокались и пили за великих музыкантов, начиная с Тевлина. Вскоре Мишку положили рядом с Петькой.
В полночь я с молодой женой, ее бабушкой и сестрой, а также с тещей Любовью Федоровной сел в такси, чтобы ехать в Фили. Первую брачную ночь мы должны были провести там… Соседки, которые ждали внизу, чтобы осыпать нас рисом, упрекнули: «Лидия Ильинична, от тебя же сына увозят, а ты молчишь!» — «А что же делать?» — растерялась мама. «Как что? Плачь!» И секретарь парткома Маргаринового завода заголосила да еще с какими-то фольклорными причитаниями, неожиданно всплывшими из глубин родовой рязанской памяти. Чета Фертманов иронически переглянулась. Дядя Юра Батурин провожал нас, выбивая барабанное соло на багажнике медленно отъезжавшего такси. Водитель обиделся, и они чуть не подрались. Игоря Селезнева вели под руки. Он бормотал стихи, а немолодая и одинокая Наташина сослуживица звала его в гости, чтобы продолжить поэтические чтения без помех.
Первая брачная ночь прошла в страстном шепоте: накрывшись одеялом, мы спорили, уснули в соседней комнате бабушка, теща и сестра Люда или нет, и можно ли, наконец, по возможности беззвучно, сделать то, ради чего сыграли свадьбу…
(Из неопубликованного. «Книга о советской юности»)…………………..
У тещи, Любови Федоровны, Юра с Наташей жили недолго. Молодым невероятно повезло: родители, совершив героические усилия, купили им двухкомнатную кооперативную квартиру. Юрина мама выхлопотала по партийной линии разрешение вступить в готовый кооператив (тогда это было непросто), а у тещи были средства: у себя на родине, в Борисполе, она как раз продала дом, который ее покойный муж строил много лет. Уже осенью 1975-го (так скоро получалось у очень немногих) молодожены въехали в собственную двушку в Шипиловском проезде. Метро в Орехово-Борисове не было, добираться туда было страшно неудобно, а к дому приходилось идти по досточкам, проложенным по непролазной грязи — прямо как на знаменитой пименовской картине «Новоселы». Зато у Юры теперь — впервые в жизни! — было место, где он мог работать в непривычной тишине и уединении.
…………………..
От станции метро «Каширская» (мы называли ее «Кошмарской»), где в час пик образовывалась настоящая «ходынка», надо было полчаса трястись на 148-м автобусе до Домодедовской улицы — мимо многоэтажек, Борисовских прудов и деревенек, затесавшихся меж новостроек, словно селянки, торгующие семечками, меж модной городской публики. В этом автобусе я провел за десять лет без малого три тысячи часов, многое передумал, сочинял стихи, выстраивал в голове свои первые повести. Помню, я долго не мог сообразить, чем закончить повесть «Сто дней до приказа», а когда понял, даже вскрикнул от радости. Пассажир, прижатый ко мне теснотой, вздрогнул и посмотрел с испугом. Об этом я потом написал иронические стихи:
Вот так он живет и прижизненной славы не просит, Но верит, конечно: в один из ближайших веков Прикрепят, возможно, к автобусу сто сорок восемь Табличку: ЗДЕСЬ ЖИЛ И РАБОТАЛ ПОЭТ ПОЛЯКОВ.День ото дня, глядя в окно автобуса, я отмечал, как избенок по пути становится все меньше. Потом они исчезли совсем. Долго не трогали большой, видимо, колхозный яблоневый сад, который по весне делался похож на толпу невест, выбежавших к шоссе, но и его потом вырубили. Квартира была замечательная, с двумя изолированными комнатами и просторной кухней. С балкона одиннадцатого этажа открывался вид на лес, простиравшийся до Бирюлева, и огромный глубокий овраг, который тянулся почти до Царицынского парка. Выйдя из подъезда, можно было сразу встать на лыжню. Однажды я решил спуститься по склону оврага на беговых лыжах и чуть не свернул себе шею.
Любовь Федоровна, оглядев квартиру, сразу показала на дальнюю комнату: «Здесь будет Юркин кабинет!» Она же подарила для большой кухни хрустальную люстру с висюльками, которую покойный тесть достал с большой переплатой, и ее хранили в гараже как приданое для дочери. Когда после многих лет ответственного хранения ее распаковали, теща всплеснула руками: «Ручная работа! Единственный экземпляр! Прямо хоть в Кремле вешай! Иван Макарович втрое переплатил». Она, кстати, очень серьезно относилась к моим научным занятиям и аспирантским планам. Любовь Федоровна служила рядовой машинисткой в Институте марксизма-ленинизма, обслуживая высоколобых специалистов по «единственно верному учению», вскоре, в перестройку хором превратившихся в отпетых «лениноедов». Моя будущая кандидатская диссертация была для нее вопросом чести и отчасти — отмщения.
Вскоре, записавшись в очередь и месяц походив на переклички к магазину, мы приобрели мебель, в том числе книжную стенку, куда я любовно поставил мои пока немногочисленные книги. Михаил Тимофеевич, приглашенный как специалист для усовершенствования электропроводки в новой квартире и повешенья «кремлевской» люстры, осмотрел наши хоромы и буркнул: «Буржуи!» Орехово-Борисовский период моей жизни очень важен по разным обстоятельствам. Но прежде всего — я нашел там главного друга моей жизни Гену Игнатова, который жил в соседнем подъезде…
(Из неопубликованного. «Книга о советской юности»)…………………..
Прежняя Юрина жизнь, связанная с общежитием, была аскетически проста, но, как это теперь ни удивительно, оглядываясь на недавнее прошлое, он вспоминал ее с благодарностью, уже тогда понимая, что вместе со скудным бытом навсегда ушло что-то важное, чего всем потом будет недоставать:
Как много случилось событий В последнее время. И вот Кончается век общежитий — Эпоха комфорта идет! Из многоячейных и склочных Своих коммунальных квартир Мы вырвались в мир крупноблочный, Отдельный, с удобствами мир! О, здесь не фанерные стены, Здесь нет посторонних ушей, И здесь не кипят после смены На кухне пятнадцать борщей… А раньше: и радость, и горе, И ссора в похмельном чаду — Все рядышком, все в коридоре — И зло, и добро на виду! Друзья, вы по чести скажите: Жилищные сбылись мечты — Теперь вам не жаль общежитий Семейственной той тесноты? Мне жаль… Хоть и дни протекают В комфорте… Когда раз в году Сосед на меня протекает — Я в гости к соседу иду… («Коммуналки»)В 1975-м Юрий получил свидетельство об успешном окончании Литературной студии при МГК ВЛКСМ и Московской писательской организации. «Дипломы, напоминавшие пригласительный билет на фуршет, вручал Евгений Сидоров, молодая надежда обветшалой партийной критики. От него крепко пахло вирджинским табаком и французским парфюмом, а когда он закидывал ногу на ногу, с тоской глядя на очередного отчитывающегося студийца, я поражался тому, какие длинные, оказывается, бывают носки… Потом он говорил нам напутственную речь, с едва уловимой иронией произнося неизбежное сочетание «социалистический реализм»…»
В этом и следующем году у Юрия случилась лавина публикаций: «Московский комсомолец»: «Мураново» (29 июня 1975 года), «Старая школа» (20 ноября 1975-го), «Давайте крепче помнить о вчера…» (6 мая 1976-го). А 22 мая 1976 года в «Комсомольской правде», выходившей тиражом 20 миллионов экземпляров, на знаменитой полосе «Алый парус» под рубрикой «Проба пера» напечатали четверостишие «Спустя 32 года», сделавшее его известным на всю страну, по крайней мере, среди тех, кто интересовался поэзией, а таких в ту пору было не счесть:
Сосед приемник за полночь включит, Сухая половица где-то скрипнет, И бабушка моя проснется, вскрикнет И успокоится: дед взял на фронт ключи…Вообще-то первоначально стихотворение выглядело так:
На фронте не убили никого! Война резка — в словах не нужно резкости: Все миллионы — все до одного — Пропали без вести. Дед летом сорок первого пропал. А может быть, ошибся писарь где-то, Ведь фронтовик безногий уверял: Мол, в сорок пятом в Праге видел деда! …Сосед приемник за полночь включит, Сухая половица в доме скрипнет — И бабушка моя проснется, вскрикнет И успокоится: дед взял на фронт ключи.Юрий Поляков вспоминает: «Строчка о том, что «на фронте не убили никого», показалась рискованной, редактор Жаворонков с потомственно-грустными глазами сказал мне: «Ты понимаешь, что начнется? Пойдут письма из советов ветеранов, мол, двадцатилетний сопляк нам будет рассказывать ерунду, а мы косточки боевых товарищей от Москвы до Берлина зарыли!» — «Но это же гипербола!» — «За гиперболы, Юра, даже Маяковскому влетало! Последней строфы вполне достаточно…» Он оказался прав. Потом, прилетая куда-нибудь, допустим, в Коми, и сталкиваясь с местным пиитом, я слышал: «Какой такой Юрий Поляков? Тот, у которого дед взял на фронт ключи? Ну, здравствуй, брат!».
Вершиной поэтического успеха стала для Полякова «Книга в газете», увидевшая свет в «Московском комсомольце» 25 июня 1976 года. Огромная подборка — десять стихотворений. Почти все они вошли потом в его первую книгу. «Московский комсомолец» очень много делал для тогдашней молодой литературы. «Книги в газете» в течение нескольких лет выпустили почти все заметные молодые авторы: Татьяна Бек, Андрей Чернов, Олег Хлебников, Михаил Ясное, Григорий Кружков, Евгений Блажеевский, Александр Щуплов, Николай Дмитриев, Владимир Шленский, Ольга Чугай, Лариса Тараканова, Олеся Николаева, Сергей Мнацаканян, Лидия Григорьева, Равиль Бухараев, Валентина Мальми, Диомид Костюрин, Геннадий Касмынин, Станислав Золотцев, Николай Зиновьев, Ольга Ермолаева, Николай Денисов, Татьяна Веселова, Владимир Ведякин, Галина Безрукова, Мария Аввакумова, Владимир Урусов…
Руководил газетой в ту пору Евгений Аверин, прогрессивный журналист, который позже стал помощником тогдашнего столичного партийного начальника Виктора Васильевича Гришина, а затем возглавлял еженедельник «Книжное обозрение», с его приходом превратившийся из захудалого издания в рупор перестройки. Его судьба характерна для многих «грандов гласности», как тогда выражались: из номенклатуры — в бой против КПСС.
Но литературную политику в столичной молодежке определял, конечно, Александр Аронов.
«Мою «книгу в газете», как сейчас модно выражаться, пролоббировал все тот же Александр Аронов. Сначала предисловие планировали взять у главного редактора «Нового мира» Сергея Наровчатова. Бездомный, как Вийон, Юрий Влодов, изгнанный очередной женой, жил тогда в редакции и взялся все устроить, ссылаясь на тесное знакомство с классиком. К выполнению обещания он приступил немедленно, сел за машинку и начал печатать: «На днях мне в руки попали стихи молодого талантливого москвича Юрия Полякова…» — «А разве так можно?» — робко спросил я. «Да, так нельзя… — согласился Влодов. — Наровчатов так не напишет. Он небожитель. Он напишет вот так: «Днями мне в руки попалась…» Вошел Аронов, узнал, что мы пишем предисловие Наровчатова, и сообщил, что тот попал после запоя в больницу. Тогда решили попросить предисловие у Владимира Соколова, лидера «тихой лирики». У меня в ту пору было два любимых современных поэта, Межи-ров и Соколов, одно из стихотворений которого я часто повторял про себя, словно мантру:
На влажные планки ограды, Упав, золотые шары Снопом намокают, не рады Началу осенней поры. — Ты любишь ли эту погоду, Когда моросит, моросит… И желтое око на воду Фонарь из-за веток косит? …Люблю. Что, как в юности, бредим, Что дождиком пахнет пальто. Люблю. Но уедем, уедем Туда, где не знает никто… И долго еще у забора, Где каплют секунды в ушат, Обрывки того разговора, Как листья, шуршат и шуршат… (1967)Набравшись наглости, я позвонил, попросил и он, к моему удивлению, согласился. Вскоре мы сидели в Пестром зале ЦДЛ и Соколов, поставив в угол толстую резную палку, читал мои стихи и шмыгал носом, сохраняя на лице обычное для него недовольство.
— А почему вы пишете о Пушкине: «…он весь разряжен был в мечту, стрелял удачливей Онегин». Почему он разряжен в мечту? Он что, вместо нового сюртука надел на себя мечту?
— Нет… Он как бы… разрядил свой пистолет в мечту…
— Ах, так? Тогда надо писать «разряжён». Но и «разрежен в мечту» мне тоже нравится. Вы думаете стихами. Это хорошо. Но еще лучше чувствовать стихами, как Блок. Вы считаете себя гением?
— Нет, конечно… — опешил я.
— Зря. Я в вашем возрасте считал себя гением.
Вскоре я примчался в редакцию, размахивая машинописной страничкой с предисловием мэтра:
«Стихи Юрия Полякова задерживают на себе внимание, и прежде всего потому, что это стихи размышляющего человека. Он еще почти не печатался, а я уже запомнил одно его напечатанное в «Московском комсомольце» стихотворение — «Зачем вы пишете стихи?»:
Ну кто от чтенья ваших виршей Стал добродетельней и выше? Ну хоть один…И автор отвечает:
Один? Конечно! Это — я…В этом маленьком ироническом фрагменте находит отражение мысль об очистительной, воспитующей силе искусства…
Авторская мысль не может мешать читательскому восприятию, если она растворена в природе самого стихотворения. И Поляков это понимает, чему свидетельствует его стихотворение «Мураново», где он «впервые Тютчева читал, / Сменив слова на запахи и звуки». Юрий Поляков разрабатывает поле своей будущей деятельности, ищет духовные истоки в родной истории и воспоминаниях старших о войне, в свежих впечатлениях детства и отрочества. Стихи о детстве на сегодняшний день удались ему больше, но это стихи, лишенные инфантильности, стихи взрослого и, повторяю, думающего человека.
За внешне спокойным стихом Юрия Полякова угадывается истинность переживания. Желаю доброго творческого пути этому одаренному поэту!»
Аронов пробежал текст и с интересом посмотрел на меня:
— Знаешь, в чем уникальность этого текста?
— В чем?
— Ты первый, кому он дал предисловие. Я к нему уже человек пять посылал… Марианна всех отшивала…»
Если после выхода повести «ЧП районного масштаба» в январе 1985 года Юрий Поляков проснулся всесоюзно знаменитым, то 25 июня 1976 года, когда десятки тысяч подписчиков получили «МК», он проснулся признанным молодым поэтом. По негласному тогдашнему обычаю, опубликовав «книгу в газете», начинающий стихотворец словно бы допускался в поэтическую общину, а точнее — касту. И кто-то из начальства поставил против его фамилии галочку: с этим парнем надо работать. С молодыми в самом деле работали: устраивали выступления, обсуждения, семинары. Но и присматривали, конечно, за ними. В поляковской «книге в газете» есть восьмистишие «Памяти Баратынского»:
Природа все запоминает. Все! Два леса, как сошедшиеся рати. Лесной ручей кровавый ток несет И пропадает в розовом закате. А зайчик солнечный, неистово кружа Посередине радостного лета, Тому вторит, как мучилась душа Большого, но забытого поэта…«…Прочитав в газете этот оглодок, я помчался к Аронову. Не хватало последнего четверостишия:
Природа помнит счастье, горе, страх, — Все то, о чем давно забыли люди. И солнце на закатных небесах, Как голова Крестителя на блюде.Да и название «Памяти Баратынского» было не мое. Я тогда увлекался талантливым Владимиром Бенедиктовым, ославленным потомками ничтожеством за то, что современники смели сравнивать его с Пушкиным. Выслушав мои рыдания по поводу выброшенной строфы, Аронов показал пальцем в потолок — этот жест означал тогда вышестоящее начальство. Если бы он ткнул пальцем в пол, значит, постаралась цензура.
— Но почему?
— Религиозная символика. Было совещание, где комсомолу намылили шею за хреновое атеистическое воспитание. Ты попал под горячую руку.
— Но ведь у Вознесенского есть и «плавки бога», и Христос через дырочку в ладони подглядывает, когда в прятки играет!
— Вот когда будешь Вознесенским, тогда и подглядывай за Христом.
— А Баратынский?
— Баратынского я в название засунул! — гордо объявил Аронов. — Правда, здорово?
— Правда, — кивнул я, понимая, что с благодетелем ссориться нельзя, и побежал в магазин: надо было обмыть публикацию…»
* * *
Учеба в институте подходила к концу, Юрий дописывал под руководством А. А. Журавлевой диплом «Брюсов и Октябрь. К истории советской поэзии». Работа была выдержана в лучших идеологических традициях, имела необходимые ссылки на Ленина, Крупскую, Луначарского, партийные постановления в области литературы и объявляла вступление видного символиста в ВКП(б) вершиной его идейно-творческой эволюции. Молодой исследователь основательно изучил литературно-журнальную жизнь того времени, обнаружил интересные параллели в текстах авторов и высказал любопытные наблюдения над стихами Брюсова, основное внимание уделив его просветительской деятельности: прежде всего участию в издательских проектах Горького, считавшего Валерия Яковлевича «самым образованным писателем России», составлению антологии «Поэзия Армении» и, конечно же, организации Высшего литературно-художественного института. Разумеется, в дипломе не было ни слова о том, что «Брюсова горька широко разбежавшаяся участь» (Б. Пастернак), о том, что художественный уровень послереволюционных его стихов резко снизился, о том, что поэт ради поддержания достойного уровня жизни шел с новой властью на компромиссы, служил ради пайка где мог — даже в ГУКОНе — Главном управлении коневодства и коннозаводства… Впрочем, это делали тогда почти все. Но компромисс состоял прежде всего в том, что свидетели эпохи «невиданных перемен» искренне считали революцию грандиозным, планетарным и, что особенно важно, неизбежным историческим событием, даже если потом отрицательно оценивали ее последствия.
Октябрь лег в жизни новой эрой, Властней века разгородил, Чем все эпохи, чем все меры, Чем Ренессанс и дни Аттил. Мир прежний сякнет, слаб и тленен, Мир новый — общий океан — Растет из бурь октябрьских: Ленин На рубеже, как великан… (Брюсов) Страшно, сладко, неизбежно, надо Мне — бросаться в многопенный вал, Вам — зеленоглазою наядой Петь, плескаться у ирландских скал. Высоко — над нами — над волнами, — Как заря над черными скалами — Веет знамя — Интернацьонал! (Блок) И ты, огневая стихия, Безумствуй, сжигая меня, Россия, Россия, Россия — Мессия грядущего дня! (Белый)Защитился Юрий блестяще, а поскольку экзамены на протяжении всей учебы в институте стабильно сдавал на четверки и пятерки, получил красный диплом. Как известно, обладателям красных дипломов прямая дорога в аспирантуру, и ученый совет дал ему рекомендацию. Это было очень престижно: отучиться в аспирантуре и защитить диссертацию, а потом преподавать в высшей школе и сочинять стихи. Кстати, именно так организована жизнь у большинства современных европейских поэтов, где стихотворчество — давно уже не способ заработать, а интеллектуальное хобби. Впрочем, за научную степень, независимо от занимаемой должности, полагалась приличная надбавка. Вроде бы все ясно: впереди светлый путь… И вдруг выясняется, что на кафедре советской литературы мест нет, точнее, есть, но оно обещано «позвоночнику». Это по секрету сообщила профессор Журавлева, добавив: в семье видного горьковеда тебя вспоминают по-доброму. И вздохнула. Юрий не привык сдаваться, он отправился на прием к проректору по науке профессору Павлу Александровичу Леканту, читавшему у них курс современного русского языка и хорошо знавшему своего студента. Павел Александрович подтвердил: сделать ничего нельзя, но по возвращении из рядов Советской армии он как проректор гарантирует ярко заявившему о себе выпускнику место в аспирантуре. С тем и расстались. Юрия распределили в школу рабочей молодежи № 27 недалеко от МОПИ — на Разгуляе. 1 сентября он вошел в класс и сказал: «Здравствуйте, я ваш новый учитель русского языка и литературы!»
«Я получил девятый класс, где после работы «догоняли» полное среднее образование люди разных возрастов и судеб. Были почти сорокалетние работяги, которым аттестат требовался, чтобы, скажем, получить должность мастера. Они относились к учению серьезно, слушали внимательно, занятия пропускали только по уважительной причине: перебрав в дни аванса и получки. Были юные шалопаи, их родители загнали в «вечерку», потому что в дневной школе они всех достали. Были и жертвы плана по повышению образовательного уровня рабочего класса, который спускали в предприятия из райкома. Эти прогуливали при каждом удобном случае, частенько приходили выпившими и дерзили. С ними я не связывался. Большинство мало что помнили из курса восьмилетки, мы занимались в основном повторением и ликбезом, поэтому к урокам я особенно не готовился. Главное — «борьба за контингент». В случае злостных прогулов я должен был звонить начальникам нерадивого ученика, а то и в профком или даже партком. Не помогает — шагать к месту жительства и взывать к совести. Каждый урок я начинал с допроса прогульщиков: почему пропустили уроки? Была у меня одна семейная пара лет тридцати.
— Иванов, — строго спрашиваю. — Где ваша супруга?
— Отсутствует.
— Вижу, что отсутствует. Не слепой. Почему?
— По уважительной причине. Можно, потом скажу?
— Нет уж… Говорите, чтобы все слышали!
— Аборт сделала…
Общий хохот, а я не знаю, куда глаза девать.
— Ну ладно… Бывает… А где Зелепукин? Где этот прогульщик? Сегодня же иду к нему на завод! Я ему покажу дорогу в страну знаний!
В общем, очень похоже на популярный в ту пору сериал «Большая перемена». С одной только разницей: ни в кого из учениц я, как герой ленты, тоже молодой педагог, не влюбился, хотя и видел, какой интерес питают к моей персоне молоденькие ткачихи и поварихи. Одна постоянно после уроков оставалась, чтобы задать мне вопросы по пройденному материалу, причем с каждым разом юбка становилась все короче, а вырез блузки — обширнее. Однажды утром, придя в учительскую, я услышал: сегодня ко мне на урок собирается директор школы Файнлейб, маленькая дама предпенсионного возраста — очень строгая. А у меня даже плана урока нет — собирался подбить какие-то хвосты. И вот я вхожу в класс, понимая, что впереди у меня серьезные неприятности. Класс притих, даже ученики, хватившие пивка перед уроком, стараются дышать куда-нибудь под парту. В заднем ряду сидит директриса, похожая на состарившуюся травести, всю жизнь игравшую строгих отличниц. Я беру мел и пишу на доске «На фронт ушедшие из школ…» и говорю:
— У нас сегодня свободный урок, а тема: «Подвиг советского народа в творчестве поэта-фронтовика Александра Межирова».
Класс облегченно вздыхает, я тоже — позориться перед начальством не придется. И тут же шпарю наизусть:
Повсеместно, где скрещены трассы свинца, Где труда благородного невпроворот, Навсегда, на века, навсегда, до конца: «Коммунисты, вперед, коммунисты вперед!»Мой урок был признан образцовым, и я стал любимцем строгой директрисы. Она даже порывалась выйти на военное начальство, чтобы мне дали доработать до лета, но я умолил этого не делать: Владимир Вишневский, ушедший весной в армию, написал мне, что витают слухи, будто с весны ребят с высшим образованием начнут призывать не на год, а на полтора. Полтора года мне, женатому и обуреваемому литературными мечтаниями, казались катастрофой.
Я проработал в школе совсем недолго. За день до ухода в армию я сидел в актовом зале на каком-то собрании и вдруг ощутил дежавю. Сначала не понял, в чем дело, но потом, сообразив, оторопел: на потолке тремя бесконечными рядами висели те самые «кремлевские» люстры, одну из которых мой покойный тесть достал, втрое переплатив…»
Вскоре Юрий под личную роспись получил повестку, в которой говорилось, что 25 октября 1976 года в 8.00 ему надлежит явиться на призывной пункт на стадион «Москворечье». А 23-го в Красной Пахре начинался семинар творческой молодежи, и Поляков был на него приглашен. Участие в семинаре было необыкновенной удачей. Помните про галочку, где-то поставленную начальством? Это была важная веха в жизни и творчестве автора, знаменующая переход в новую категорию — из начинающих в молодые поэты. Об участии в таких семинарах непременно упоминали в предисловиях к стихам, то был знак отличия, как у спортсменов — поездка на международные соревнования. Юрий, не пасовавший перед трудностями, стал хлопотать об отсрочке призыва, всего на несколько дней. Но в военкомате отмахнулись: закон для всех один, для поэтов тоже!
«Сонно-сердитый майор посмотрел на меня с недоумением:
— Какая еще Пахра? Лишь бы в армию не идти, защитнички… До тебя тут скрипач приходил. В Вену собрался, а мы его — в Вытегру!
Я побежал в Бауманский райком, где меня помнили по комсомольской работе, но там ответили:
— Старик, с армией не договоришься. Сами вы же про них сочинили: «Как надену портупею, так тупею и тупею!»
Спасла Анна Марковна. Я пришел в школу, чтобы помочь с концертом к ноябрьским праздникам, и она заметила мою кислую физиономию:
— В чем дело? Жена бросила?
— Хуже… — скуксился я и поведал о своем горе.
— Мне бы твои проблемы! — воскликнула Ноткина, у которой накануне залило школьный подвал. — Она сняла трубку: — Вася? Узнал? Как дети?.. Старший в школу пойдет?.. Летят годы! Ну приводи! Да, слушай, тут вот какое дело…
Через час тот же майор, но теперь оживленно-милый, исправил 25 октября на 4 ноября и вернул мне повестку.
— Теперь успеешь?
— Конечно!
— Что ж ты сразу не сказал, что от Анны Марковны…»
Семинар творческой молодежи в Пахре превзошел все ожидания.
«Это была неделя воодушевляющего общения со сверстниками, ставшими знаменитостями: Николаем Еременко, сыгравшим советского супермена в знаменитой ленте «Пираты XX века», Натальей Белохвостиковой, прославившейся еще девочкой в герасимовском фильме «У озера», композитором Владимиром Мигу-лей, чьи песни каждый день звучали по радио, балериной Надеждой Павловой, юной звездой Большого театра… Из литераторов там оказались Лидия Григорьева, Николай Дмитриев, Равиль Бухараев и поэт, прозаик, композитор, автор рок-оперы «Ассоль» Андрей Богословский — сын Никиты Богословского. Невероятно талантливый парень, он рано погиб от водки и наркотиков…
Году в 1995-м раздался звонок. Это был Андрей Богословский, с которым мы подружились в 1976-м на семинаре в Пахре, а потом почти одновременно дебютировали с прозой в «Юности». Он часто бывал у нас в Орехово-Борисове, обожал Натальины пельмени и обычно звонил, подражая голосу и дикции Брежнева, что получалось у него очень смешно. Творческая Москва не успевала следить за тем, как он менял жен и автомобили. На этот раз он говорил своим, но очень странным, словно механическим, голосом.
— Юра, я видел тебя по телевизору, из чего заключил, что ты человек состоятельный. Поэтому хочу попросить у тебя в долг крупную сумму… Надеюсь, ты не откажешь…
— Сколько?
— Тысячу рублей! — после паузы сказал он тоном человека, решившего прыгнуть с Останкинской башни.
Сумма была по тем временам немаленькая, что-то около двухсот долларов. А на сто долларов, если не шиковать, семья могла прожить месяц.
— Ладно, — согласился я, понимая, что такой баловень судьбы, как Андрюша Богословский, не обратился бы ко мне за помощью без серьезного повода. — Но в два приема. Пятьсот могу сразу, а вторую половину через месяц.
Условились назавтра встретиться в холле ЦДЛ. Я пришел, огляделся, но Андрея не обнаружил. Вестибюль был пуст, если не считать старичка-бомжа, которого почему-то пустили в наш клуб, и он дремал на банкетке возле гардероба, испуская тяжелый помоечный запах. Внезапно бомж пошевелился, открыл ярко-голубые глаза, тяжело встал и, шаркая, пошел мне навстречу, распахнув объятия… Это был мой ровесник и звезда моего поколения Андрей Богословский. Он дрожащими руками взял деньги и сказал, что, если сейчас не похмелится, — умрет. Мы выпили где-то пива, он после нескольких глотков ослаб и стал бормотать, что решил завязать с водкой, что уже отдал в починку пишущую машинку, разбитую в пьяной ссоре с женой, курьершей журнала «Юность», что теперь он будет много работать… «Но ты не забудь — через месяц еще пятьсот!» Через месяц я не стал с ним встречаться — оставил деньги у дежурного администратора ЦДЛ «на тумбочке». А вскоре Андрей умер — с перепоя…»
Вместе со своей женой-француженкой прибыл на семинар в Пахру и начинающий, но уже модный прозаик Сергей Юриньен. Потомок пламенного революционера, вскоре он останется на Западе, и его голос вольется в хор «вражьих голосов».
Советская власть по-своему заботилась о кругозоре творческой молодежи. На семинаре читали лекции о международном положении и о марксистско-ленинской эстетике лучшие специалисты. Например, в недавнем прошлом ответственный работник ЦК КПСС, а ныне профессор Г. И. Куницын. Он сообщил неслыханное: классовость, а значит, партийность — совсем не обязательное свойство искусства. Почему? Очень просто: искусство, судя по найденным артефактам, существует не менее 10–15 тысяч лет, а классовое общество — от силы 30 столетий. Марксистская философия старалась идти в ногу со временем. Баловали семинаристов и не-дублированными фильмами, которые в прокат пускать не собирались. Это называлось информационным просмотром. Там Полякову довелось посмотреть такие знаковые голливудские ленты, как «Таксист», «Заводной апельсин», «Открытие сезона», «Бал вампиров»… В рамках семинара прошли обсуждения, а по их итогам мэтры рекомендовали стихи участников, в том числе Юрины, к публикации в периодической печати.
Обноски отцовы, Затертый мешок вещевой. Последнее слово С улыбкой: «Останусь живой!» А все-таки горько — Стремительно, в шесть без пяти, Бог знает на сколько Из теплого дома уйти. Уйти спозаранку И знать, что иначе нельзя, Кусочек «гражданки» С собою в мешке унося. Мы ведаем с мала Про долг свой и Родину-мать. Мой долг для начала — С колонною в ногу шагать. («В армию». 1976)Накануне призыва устроили шумные проводы, сначала с родней, а потом и с друзьями.
…………………..
Дома родня еще догуливала на моих проводах, в который раз пропуская перед чаем «по последней». Бабушка и тетя Даша помогали маме на кухне мыть посуду, а дядя Петя, по своему обыкновению выломившийся из компании в самый разгар торжеств, лежал на диване и храпел, словно бенгальский тигр. На письменном столе возвышался набитый вещевой мешок, в духовке доходила дорожная курица. Одним словом, от готовности к труду до готовности к обороне оставался один шаг.
(«Сто дней до приказа»)…………………..
…………………..
В Орехово-Борисове собрались проводить меня в армию все тогдашние друзья-товарищи: Мишка Петраков, Петька Коровяковский, поэты Александр Аронов, Игорь Селезнев и Петр Кошель с женой Инессой Слюньковой — дочкой крупного партийного деятеля и будущим известным историком архитектуры. В среде творческой интеллигенции призыв в армию воспринимался тогда как общечеловеческая трагедия, и пили в основном за то, чтобы я не растерял свой талант в марш-бросках и не замотал в портянки. Мрачный по обыкновению Кошель дал совет: «Не лезь куда не надо и не делай то, чего не просят!» Потом Петя, щуплый, как канатоходец, приревновал жену к своему огромному тезке Коровяковскому, и мы долго их мирили.
— Прошу вывести негодяя вон! — кричал Кошель и указывал на дверь жестом римского полководца.
— Вот еще! — ухмылялся в усы второй Петя и наливал себе новую рюмку.
— Он большой поэт! — объяснял я другу детства.
— А я знаю китайский! — отвечал тот и снова выпивал.
Наконец мы остались с Натальей вдвоем. Нам предстояло на-любиться на целый год! Впрочем, не все было так трагично. Еще летом я встретил в коридоре «Московского комсомольца» Лешу Бархатова, одетого в подогнанную «парадку» с ефрейторскими погонами. Я его знал: до призыва он работал в «МК» корреспондентом. У меня к тому времени тоже, кстати, имелось удостоверение внештатного корреспондента этой газеты. Разговорились, и я скорбно сообщил: моя аспирантура накрылась медным тазом, и осенью мне идти в армию.
— Гениально! Ты-то мне и нужен!
Оказалось, он два года отслужил в части, расположенной в Москве и приданной столичному пожарному управлению. Леша выполнял функции, как сказали бы сегодня, пресс-секретаря, сочиняя статьи для разных изданий об опасности неосторожно брошенного окурка. Осенью заканчивался срок его службы, и руководство попросило подыскать среди журналистов-призывников замену.
— Да ведь ты же писал про пожарных! — воскликнул он. — Сегодня же доложу наверх!
— Еще бы! — солидно кивнул я.
Речь шла о фельетоне «Сигарета, сигарета…», опубликованном в «Московском комсомольце» под моей фамилией. Меня и в самом деле направляли в пожарную часть для сбора материала, но я по неопытности совершенно запутался в фактах безответственного обращения граждан с огнем, и текст мне за бутылку сочинил признанное сатирическое перо «МК» Володя Альбинин.
— Учись, пока я жив! — сказал он и за полчаса накатал «подвал».
Умер Альбинин от цирроза печени.
Бархатов перезвонил мне через несколько дней, я съездил куда надо и был представлен краснолицему майору, который в ходе беседы задавал наводящие вопросы, выясняя, не склонен ли я к спиртному, — проблема, видимо, болезненная для пожарных подразделений. Наконец майор сказал, что я им подхожу.
— Не волнуйся, наш офицер «купит» тебя на городском призывном пункте.
— Как это «купит»?
— Ну заберет, заберет. Пока карантин и «школа молодого бойца», придется посидеть в казарме, а потом на выходные будешь ездить к жене. Но если в воскресенье в 20.00 в часть не вернулся — дезертир! Понял?
— Так точно, товарищ майор! — расцвел я.
В тот миг у меня во всем свете было два любимых существа — жена Наталья и военизированная пожарная охрана! Однако закончилось все очень плохо. Тщетно я ждал на городском пункте обещанного офицера-покупателя. Он так и не пришел. Бродя в мучительном предчувствии, я вдруг столкнулся нос к носу с моим недавним учеником Зелепукиным. Остриженный наголо и одетый, как и я сам, в какие-то обноски, он сначала оторопел, а потом заржал: «Юрий Михайлович! А вас-то за что?!»
Уже вернувшись из армии, я узнал, что произошло. Такую же повестку, как и я, получил сотрудник «Комсомольской правды» Андрей Шумский, тоже, кстати, поэт. И пока я набирался ума на семинаре в Красной Пахре, он оперативно занял мое место при пожарном начальстве, которое, забыв про обещания, предпочло известного журналиста из всесоюзного издания какому-то внештатнику городской молодежки. Понять их можно. Шумский, очень талантливый парень и мажор вскоре после возвращения из армии погиб, разбившись на автомобиле.
(Из неопубликованного. «Книга о советской юности»)…………………..
…………………..
Двое суток мы сидели на городском пункте, где впервые ко мне пришло знакомое каждому солдату ощущение несвободы, когда твое внутреннее состояние, настроение не имеют никакого отношения к твоему поведению, подчиненному теперь приказам командиров и начальников. И хотя некоторые ребята, рисуясь, говорили, будто до принятия присяги можно выкинуть что угодно — хоть домой сбежать, — конечно, никто ничего не предпринимал.
Вскоре прошел слух: деньги в часть везти нельзя — не положено. И в течение двух дней мы не вылезали из буфета, обливаясь «Байкалом» и объедаясь эклерами, изображая из себя кавказских людей, для которых самая мелкая разменная монета — рубль. Особенно наша щедрость сказывалась на благосостоянии парикмахеров, двумя-тремя движениями жужжащей машинки расправлявшихся с самой роскошной шевелюрой. Клиенты все прибывали, а в углу парикмахерской росла метровая куча разномастных волос.
К концу второго дня появился капитан с длиннющим списком, где были и наши с Жориком фамилии. Мы снова набились в машины с брезентовым верхом и через полчаса оказались в части недалеко от Центра. В военном обиходе это называется «карантин». Из окон казармы была видна муравьиная жизнь города, казавшаяся воплощением головокружительной, ничем не ограниченной воли.
Армейский карантин, между прочим, ничего общего не имеет с карантином, запомнившимся по школе и пионерским лагерям. Хотя, впрочем, нас, зараженных штатской расхлябанностью, в самом деле нужно было подержать в изоляции, пока лошадиные дозы армейской дисциплины не убьют опасный для военного человека вирус «гражданки».
Еще помню, как поздно вечером нестройной колонной нас вели мыться в пустые районные бани, и по пути, умолив сержанта, я, задыхаясь, носился по переулкам в поисках работающего телефона. А потом, уже бросив монету и прижав к уху гудящую трубку, никак не мог вспомнить номер.
…Перед самой отправкой приехал фотограф, чтобы запечатлеть нас, так сказать, на первом этапе армейской жизни. Один добродушный «старик» любезно предлагал желающим щелкнуться в его дембельском кителе — два ряда значков, твердые с золотыми лычками погоны. Теперь, когда я смотрю на фотографию, мне смешно и грустно: очень уж странное сочетание — растерянный взгляд, испуганно заострившиеся черты и чудо-китель.
Дальше был длиннющий, с фантастическими сквозняками коридор аэропорта и странное обращение «воины». Стюард показал рукой на кресла и сказал: «Ну что, воины, рассаживайтесь!» Я сначала думал, он смеется, но оказалось, это традиционно принятая форма обращения к личному составу Советской армии. «Ну что, воин, поехали!» — сказал я себе, когда Ил-62, стремительно протрясясь по бетонной полосе, вдруг замер в полете.
(«Сто дней до приказа»)…………………..
…………………..
Самолет приземлился на военном аэродроме близ Франкфурта-на-Одере, где был главный приемно-распределительный пункт ГСВГ — Группы советских войск в Германии. То был целый полевой лагерь — огромное поле, покрытое сотнями палаток, каждая рассчитана на целый взвод. Здесь, глядя на зеленую траву и вспоминая уже заснеженную Москву, Юрий встретил свое 22-летие. Казалось бы, возраст незрелой юности. Но по сравнению со спавшими на соседних нарах ребятами он был солидным человеком: с высшим образованием да еще и женат. Из Франкфурта пополнение развозили в военные городки по всей ГДР.
Под крики «Сынков привезли!» мы въехали в ворота части, и сразу же нас отправили в баню. Пока мы смывали гражданские грехи, с нашими вещевыми мешками была проведена большая облегчительная работа. А потом, когда мы застилали койки, в казарму зашел полусонный, в накинутой поверх белья шинели младший сержант.
— Из Саратова есть кто-нибудь? — поинтересовался он. Никто не ответил.
— Жалко! В третьей партии ни одного земляка нет, — расстроился гость. — Ладно, спите пока. Завтра службу узнаете!
(«Сто дней до приказа»)…………………..
Служба в Группе советских войск в Германии была такой же, как и в СССР, за тем лишь исключением, что солдаты постоянно находились на двух-трех гектарах огороженной территории, не имея возможности ее покинуть. Эти два-три гектара и были той Германией, которую рядовой Поляков смог увидеть за год службы, если не считать экскурсии в Сан-Суси в качестве поощрения за успехи в боевой подготовке. Там и были сделаны известные фотографии, сопутствовавшие позднее публикациям его армейских стихов и прозы. Судьба забросила его в гвардейский 55-й Померанский артиллерийский полк, значившийся под секретным номером в/ч п/п 47573. Эти цифры столь прочно вошли в память, что много лет он потом использовал их в качестве шифра для кодовых замков. Померанский полк входил в 20-ю мотострелковую дивизию, чей штаб располагался неподалеку, в трех километрах — в знаменитой Олимпийской деревне, куда рядовому Полякову предстояло через полгода переехать, уже в новом качестве. Но об этом чуть позже.
У Юрия, а точнее, у его жены Натальи сохранились письма, которые он ей писал из армии и в которых задокументированы многие события той его солдатской жизни. Многие, но не все. То, о чем нельзя было писать в письмах — и тем более в стихах, — до времени оставалось невостребованным, чтобы потом вылиться в первую нашумевшую повесть. И все же о том, как проходили солдатские будни, в какой-то мере можно судить по письмам, часть из них Юрий Поляков позже подготовил для публикации. Но ее так и не случилось, и здесь впервые приводятся некоторые из них — с небольшими сокращениями.
«Наташа!
Я на карантине в части около метро «Беговая». За мной никто не пришел! Позвони Бархатову или в редакцию Ригину. Может, меня еще вытянут. Куда пошлют дальше, не знаю. На Беговой мы пробудем до 18 ноября. Все это гораздо хуже, чем я думал. О том, что впереди год, стараюсь не вспоминать. Целую, люблю, скучаю.
Юра. 5.11.76».
«Наташенька, здравствуй!
Пишу тебе второе письмо. Теперь буду их нумеровать, чтобы в случае чего все было понятно. Твое письмо мне ждать еще дней десять. Постепенно приживаюсь. Сегодня мой новый праздник. Сегодня —19 ноября[10]. Две недели, как мы приехали на стадион, и нас увезли в закрытой машине. Если в году 52 недели, то 26-ю часть срока я уже отбыл. Примерно об этом думаю все время. <…>
В конечном итоге, страшного во всем ничего нет. Если можно было бы с тобой видеться, все было бы гораздо лучше. Иногда берет такое зло, что не удалось остаться в Москве! Время тянется очень медленно, просто не представляю, что год может когда-нибудь кончиться. <…>
На случай, если первое письмо не дошло, повторяю некоторые просьбы: не забудь прислать мне фотокарточку (в очках). Ту, которую я взял с собой, кто-то позаимствовал…
Что ты без меня поделываешь? Куда ходишь? Не домогается ли кто-нибудь благосклонности моей солдатки? Я очень скучаю. Повторяю, если бы можно было изредка видеться, было б намного легче. На такой срок мы с тобой еще никогда не расставались и вряд ли еще когда-нибудь (тьфу х 3) расстанемся. Напиши, как скучаешь без меня. Пиши чаще! <…>
Я здорово простужен: сильно кашляю, а нос — не продохнешь. Но насколько я понял, это наиболее характерное состояние носоглотки для воина родной армии…
Ты, наверное, заметила, что письмо сумбурное, но я уже вышел из того возраста, когда пишут складные письма.
Наташа, я тебя очень люблю и, наверное, виноват в том, что на целый год оставил тебя одну. Но когда я вернусь, мы наверстаем этот год. Правда? Твое письмо, которое ты передала мне в Москве, очень славное. Раньше ты так не писала. Мне очень понравилось.
Целую. Жду письма.
Юра. 19.11.76».
«Наташенька, дорогая, здравствуй!
Скоро уже месяц, как я стал солдатом. Кажется, будто я всю жизнь носил гимнастерку и короткие волосы. Уже стал немного осваиваться. По утрам мы делаем зарядку и бегаем так, что в первый раз я чуть было не вступил в СУП — Союз усопших писателей. Теперь как-то пообвыкся. Вернусь домой очень сильным. Только когда это будет!
Дни уже примелькались. Тем более что меня теперь постоянно привлекают к «интеллигентной» работе. Ты никогда не догадаешься, что именно оказалось здесь полезным! Не стихи, не грамотность, не умение рисовать. Нет! Отвечаю: умение кое-как печатать на машинке. Всю прошедшую неделю я печатал по 10–12 часов в день, до ломоты в плечах. Не раз с уважением вспоминал твою маму.
Уже наладил некоторые отношения с офицерами, правда, незначительные. <…>
Помнишь, у нас собирались твои одноклассники, и после этого ты целый день была расстроена. Действительно, что-то в последнее время у меня все наперекосяк: с аспирантурой задержка, в Москве остаться не удалось… Все как-то не так. Вот и сейчас: начал письмо, числясь в одном подразделении, а заканчиваю в другом. Я как-то уже прижился, появились друзья, а в новом сразу же начались конфликты…
Очень по тебе скучаю. Стараюсь представить себе, что ты без меня делаешь, и не могу. Перебираю в памяти наши три с половиной года, и когда вспоминаю наши с тобой ссоры, мне становится очень стыдно и плохо. Но я думаю больше о хорошем. Просто не верится, что я смогу когда-нибудь прийти домой, обнять тебя и подергать за уши. Пиши почаще и побольше! <…>
Целую. Жду письма.
Твой муж, временно исполняющий обязанности рядового. 28.11.76».
«Наташенька, милая, здравствуй!
С сегодняшнего дня в армии начинается учебный год, и мне, имея на руках диплом, приходится сидеть на политзанятиях, записывать азбучные истины и зевать до боли в затылке. Не знаю, может, удача мне окончательно изменила, но результатом всех моих надежд явилась должность, которая сводится к подтаскиванию боеприпасов весом 50–60 килограммов каждый. К сожалению, в моем распоряжении нет пушки, бьющей на две тысячи километров, а то бы я удружил МОПИ, организовавшему мне эту миленькую последипломную практику. Офицеры, которые ко мне относятся неплохо, уверяют, дыша немецким пивом, что тот не мужчина, кто не служил в армии. Я гляжу на их погоны и говорю: «Так точно!»
Снега тут еще нет. Иной раз бывает чуть ли не плюсовая температура, а сегодня, например, сильнейший ветер с брызгами того, что в тихую погоду называлось бы дождем. Я уже настолько привык к неудачам, что не удивлюсь, если меня завтра приставят к нужникам. Очень обидно, когда вспоминаю, что ни Игорь, ни Юрка, ни Рульков — никто не служил и служить не будет…
А тут еще нет писем ни от тебя, ни от родителей. Я единственный в карантине, кому еще не пришло ни одного письма. Письма здесь вроде зарплаты, а письма от девушек и жен — премия. Сержанты, которым девушки пишут постоянно, добрые и снисходительные. Если кто-то вдруг становится раздражительным, значит, давно нет письма. А если ему написали, что видели его зазнобу с другим, — конец: загоняет. На меня уже даже стали иронически поглядывать: женатый, а писем нет!
Пиши чаще, не бойся перетрудиться! Пиши по 2–3 письма в неделю, тем более что часто письма, идущие сюда, теряются. Я, конечно, виноват, что оставил тебя на год, но и мне здесь очень неважно. Пиши! Я думаю, эта задержка с письмами — недоразумение. И по известному закону подлости, отправив это письмо, я тут же получу твое…
Я здесь стал до слез сентиментальным. Видимо, перемена обстановки и нагрузки подействовали на психику. Наташенька, в конце концов, год, нет, одиннадцать месяцев — это ерунда. У нас, как поется, «вся жизнь впереди».
Очень люблю и целую. Жду писем и фотографию.
Юра. 1.12.76».
«Наташенька, дорогая!
Только опустил в ящик письмо № 4 и решил зайти узнать про почту на старое место (меня перевели в другой дивизион — «3») — и мне отдали ребята письмо. Рад был до слез! Теперь по порядку описываю мое житье-бытье, ибо в прошлых письмах было, наверное, больше горечи и раздражения, чем информации.
Сообщаю, что из ребят, которых ты знаешь, я, видимо, попал неудачнее всех. Некоторые вещи нельзя писать прямо, но я думаю, ты догадаешься. От Жени я очень далеко. Нахожусь я аккурат там, где в 36-м году должны были проходить Олимпийские игры. Мой новый праздник, как я уже писал, был 19 ноября. Обязанность моя — таскать снаряды. По специальности меня не используют, брали несколько раз печатать на машинке в политотдел. Может быть, со временем это что-то даст, но пока только вредит, ибо берут меня в основном в личное время, когда все отдыхают.
Встаем мы в 6.00!Ложимся в 10. Между этими двумя точками шагаем по плацу, чистим автоматы, изучаем уставы. Сегодня начался новый учебный год, занятия, на которых помимо разной политической тягомотины будем изучать оружие. Все это настолько странно, что мне иногда кажется, будто кто-то меня разыгрывает. Кормят неплохо. В подразделении, где я был раньше, ел всласть, ибо были отличные отношения с сержантами и солдатами. Они меня все время просили что-нибудь рассказать, объяснить и очень жалели, что меня переводят в другую батарею. Ко мне также обращались, когда хотели послушать речь, свободную от мата. Я принципиально не ругаюсь. На новом месте я еще не прижился, но, кажется, здесь хуже.
Каждый день делаем зарядку, много бегаем. Сначала было очень тяжело, сейчас пообвык. Наверное, приду домой очень сильным. Часто бросают на разную работу: мытье полов, переборку моркови и т. д. На старом месте нас, ребят с высшим образованием, этого делать не заставляли. Как будет теперь — не знаю. Судя по всему, мне придется тянуть лямку без скидок на возраст и образование.
На территории части есть магазины, в которых продают чудесные вещи. В ларьке стоят никому не нужные «Декамерон», Фолкнер и т. д. Однако на 15 марок, которые мы будем получать, едва ли что-нибудь купишь. Тем более что они не всегда доходят до рук. Так говорят. <…>
Наташенька, я больше всего завидую офицерам, потому что они с женами. Если бы ты была со мной, все остальное было бы ерундой. Помнишь, в первый год знакомства мы с тобой много говорили о том, как друг друга любим, что не можем один без другого. Потом это как-то затушевалось бытом. А теперь, в разлуке, все это снова остро почувствовалось.
Пиши мне почаще, не дожидаясь моих писем. Как станет плохо, так и пиши! Очень тебя люблю, целую…
2.12.76. Юра
р. s. Неужели мы когда-нибудь снова будем вместе?! Ю. П.».
Юрий не мог написать, что служит в расчете самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» заряжающим с грунта. «Акация» — достаточно грозное оружие: эта 152-миллиметровая самоходная гаубица предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения. Так что роль заряжающего была вполне почетной, что бы он ни писал домой. Другое дело, что для такой работы не требовалось образования и даже особой выучки, а это было, видимо, обидно сознавать человеку, который так страстно постигал науки в школе и институте. Однако и офицеров можно понять: чтобы обучить таким военным специальностям, как механик-водитель, наводчик, дальномерщик и т. д., требовалось до полугода, а призывники с высшим образованием служили год, причем по сложившемуся обычаю последние месяцы боец дослуживал, собираясь домой.
Первые полгода Юра провел в городке Дальгов, близ Западного Берлина, на обочине транзитного Гамбургского шоссе. Военный городок был построен еще во времена Третьего рейха, и в нем была расквартирована печально знаменитая дивизия «Мертвая голова». Юрий своими глазами видел в строевой части, на шкафах, замазанные чернилами клейма с имперским орлом.
«Теперь это Берлин, — напишет позднее Юрий Поляков. — Узенькое Гамбургское шоссе, плотно обсаженное липами, стало ныне широкой автострадой. На месте военного городка вырос коттеджный поселок, а рядом — большая «скидочная» деревня, где торгуют фирменным барахлом. В 1976-м там были ангары с танками и стрелковый полигон. Если внимательно присмотреться к некоторым домам, можно различить в них черты былых казарм, облагороженных экономным немецким гением. В гарнизонном клубе, стилизованном под замок, где мы смотрели жизнерадостные советские фильмы, позднее открыли Музей оккупации, а теперь там Центр толерантности. Лишь кое-где сохранились ангары и многоэтажные заколоченные казармы — память о несметной советской силище, стоявшей здесь в течение полувека и ушедшей по своей воле».
Во время Юриной службы это было государство в государстве, со своими коровниками, свинофермами, теплицами, разделочными цехами, школой, почтой, магазинами и кафе, откуда сердитые жены, бранясь, уводили загулявших с получки мужей-офицеров, пускавших на ветер драгоценные марки, на которые можно было приобрести, к примеру, вожделенный сервиз «Мадонна» на двенадцать персон.
В городке жили около десяти тысяч человек, личный состав, офицеры и вольнонаемные вместе с семьями. И каждый второй получал ежедневно хотя бы одно письмо. Особенно много писали служившим в части узбекам, таджикам, чеченцам, дагестанцам, — которых, видимо, поддерживала таким образом вся многочисленная родня.
* * *
Кто служил, знает: солдатская жизнь пронизана ритуалами и суевериями. Есть, например, такое: если пришло подряд три письма от девушки — она может тебя бросить…
«Когда командиры подразделения беседовали с каждым солдатом — а это было рутинное правило, — они обычно спрашивали: «Фотография девушки есть?» У меня было фото моей жены Натальи, и у моего приятеля тоже была фотография. Я свою показал, командир говорит: «Нормально! Дождется!» А потом из кабинета выходит мой приятель, расстроенный: командир посмотрел на фотографию его зазнобы и сказал: «Ну, это ты зря!» И точно: через месяц она перестала ему писать…»
Юрий довольно скоро втянулся в армейскую жизнь. Вот что он писал жене 8 декабря:
«…Волосы потихоньку отрастают, физиономия у меня осунувшаяся, руки обветренные. Ем я по сравнению с 18-летними бычками очень немного. Они даже удивляются. Адаптировался я и психологически. К сожалению, ребята, с которыми я коротко сошелся, остались на старом месте; а Юра Смирнов (это москвич, мы познакомились на Беговой) в другом дивизионе. Поэтому я днями молчу. Потихоньку сочиняю, обдумываю кое-что… Стараюсь не обращать внимание на многое, ибо здесь приходится жить рука об руку с людьми, которых на гражданке я обходил за версту… Но, думаю, в конце концов многое пойдет на пользу…»
В этом письме отправлены были стихи, напечатанные потом в журналах и вошедшие в первую книгу: «Когда же снег подарят небеса?», «Красноармеец», «Найдешь позабытое фото…», «Милая, зачем тебе другой?».
Армия дает колоссальный опыт общения с людьми, который, живя в казарме, ты невольно приобретаешь. В Юриной 9-й самоходной батарее было порядка семидесяти бойцов пятнадцати национальностей, и это, конечно, создавало свои проблемы.
«В том, что народы и народности не спешат превращаться в новую историческую общность, я убедился, попав в 1976 году в армию, — напишет он много лет спустя в эссе «Лезгинка на Лобном месте». — Многие воины, особенно из Средней Азии, с Западной Украины, из Прибалтики, едва говорили по-русски, не понимая, чего от них хотят офицеры, которые, кстати, уже тогда с чеченцами и ингушами, образовавшими в полку свой «тейп», старались лишний раз не конфликтовать. Впрочем… к концу службы все без исключения бойцы овладевали «великим и могучим», предпочитая крупнокалиберные казарменные идиомы. Эти подробности, нашедшие позже отражение в моей повести «Сто дней до приказа», вызвали едва ли не самое лютое раздражение цензуры…»
Вот что Юрий писал две недели спустя:
«Дела мои потихоньку налаживаются, меня все больше и больше прибирает к рукам пропагандист полка капитан Марченков. Последние две недели я безвылазно сижу в клубе и печатаю на машинке разные-преразные бумаги. Лишь сегодня в первой половине дня мы ходили на полигон стрелять из автоматов. Идут разговоры о том, чтобы меня полностью переключить на эту работу, тем более что я участвую в самодеятельности и представляю собой военкоровский пост. Уже написал несколько заметок в газету группы войск «Советская армия»… Прочитал книжки А. Моруа «Жизнь Гюго» и В. Мерль «Под стеклом» (о событиях 1968 года во Франции). У нас в Союзе достать эти книги очень трудно. Вообще, в библиотеке есть очень хорошие книги. Недавно я получил первую получку. Кроме разных мелочей, я купил две книги, которые у нас не достанешь: Боккаччо «Малые произведения» и «Кюхлю» Тынянова (1-я часть трилогии, 3-я у нас есть — «Пушкин», осталось купить 2-ю — «Смерть Вазир-Мухтара»). Вообще, здесь бывают очень хорошие книжки, и я думаю каждую получку покупать 1–2 шт. В прошлое воскресенье у меня и у Ю. Смирнова был праздник… мы купили две бутылки лимонада и две пачки печенья… и за интеллигентными разговорами все съели и выпили. Впервые за последние полтора месяца во рту был нормальный вкус. Если я не паду в схватке с империалистическими акулами, то умру, вернувшись, дома, от чревоугодия… Все это постепенно становится естественным. Делаем зарядку, бегаем каждый день по 2–3 км. Физически я, наверное, здорово подтянусь. Отношения с солдатами сложились неплохие, но без конфликтов не обходится. Вчера меня разнимали с одним…»
«…У армейских политработников глаз был наметанный и сразу выцеливал безотказную жертву полковой самодеятельности среди новобранцев, — вспоминал он позднее. — Такой добровольной жертвой стал я. Днем перепечатывал материалы для полкового пропагандиста капитана Марченкова, а вечером поступал во владение начальника клуба капитана Гусева. Клуб был отличный, отстроенный еще при Гитлере, а может, и еще раньше».
«Перед Новым годом меня вызвал замполит майор Булгаков, — писал Юрий жене 2 января, — и сказал: «Боец, на Новый год будешь Дедом Морозом! И вот тебе список, кого из офицеров с чем поздравить!» Я и стал Дедом Морозом, правда, без бороды, которую Гусев никак не мог найти… Он бегал по клубу и причитал, что замполит его теперь расстреляет — Дед Мороз без бороды… Но обошлось. Каждому офицеру я написал поздравительное четверостишье, примерно такого содержания:
До начпотыла вдруг дошли, Минуя все препоны, И нежно на плечи легли Майорские погоны!»«Все были счастливы, мне даже потихоньку налили рюмку шнапса, и я вернулся в казарму с гостинцами, как военнопленный Бондарчук в фильме «Судьба человека», — вспоминал позднее Поляков. — А поскольку спать никто в новогоднюю ночь не хотел, я рассказывал однополчанам содержание фильма «Бал вампиров». Славяне от неожиданных поворотов сюжета охали, а мусульмане цокали языками. Домой я отправил снимок: сижу, устало опираясь на посох и выпростав из-под ватного тулупа большие солдатские сапоги. Жена вскоре ответила, что я больше похож на фотографии на Снегурочку. А вскоре случилось событие, поднявшее меня в глазах отцов-командиров на значительную высоту: в журналах «Молодая гвардия» и «Студенческий меридиан» вышли подборки моих стихотворений. Среди офицеров, да и вообще среди тогдашних людей, многие следили за периодикой. Возле чайной меня остановил комсорг полка, ходивший почему-то в шинели мышиного цвета, и спросил, вынув из-за пазухи первый номер «Молодой гвардии»:
— Это ты или однофамилец?
— Я…
Он посмотрел на меня так, словно я буквально на глазах у него вырос сантиметров на двадцать. А 23 февраля 1977 года в дивизионной газете «Слава» вышла моя подборка из пяти стихотворений. Эту многотиражку, которую солдаты между собой называли «Стой, кто идет!», приносили в каждый взвод, и моя известность распространилась на рядовой состав. Хотя, конечно, «стариков», желавших покуражиться над «поэтом», тоже прибавилось…»
«…Ты знаешь, в армии я как-то, имея досуг, который невозможно заполнить ничем иным, как ворочаньем мозгами, кажется, привел в относительный порядок свои знания, взгляды. Появилась какая-то обстоятельность во взглядах на вещи. Возможно, при отсутствии собеседников мне это показалось. Во всяком случае, моя «обстоятельность» резко отличается от, скажем, Игоревой (имеется в виду поэт Игорь Селезнев. — О. Я.). У него все держится на огульном отрицании или просто незнании того, что не вмещается в заданные им рамки…»
Все-таки недаром многие родители тогда считали, что в армии исправляются изъяны воспитания. Даже для тех, кто на гражданке не бил баклуши и много занимался общественной работой, это был серьезный повод что-то пересмотреть в своем поведении и даже взглядах. Мы видим, что такое происходило даже с без пяти минут аспирантом и семейным, вполне, казалось бы, сложившимся человеком.
На Родине другие небеса! Двадцатый век! Ты этому виною, Что можно за неполных три часа Перенестись туда, где все иное! И обменять российскую метель На мелкий дождь, что над землею виснет. Привычную одежду — на шинель, А женщину любимую — на письма. И как-то сразу подобреть душой. Душой понять однажды утром сизым, Что пишут слово «Родина» с большой Не по орфографическим капризам! («Из дневника рядового». 8 декабря 1976)И все же домой очень сильно, до слез, хотелось. И когда в мае прошел слух, что окончившие вуз будут служить не год, а полтора, Юра вместе с другими такими же, как он, на какое-то время поддался панике и даже, как он писал жене, «побежал к замполиту полка». И тот успокоил, что приказ обратной силы не имеет: увеличение срока службы должно было коснуться лишь тех, кто только еще готовился к призыву.
Переживания Юрия можно понять: полгода в этом возрасте — огромный срок. Тем более когда дома ждет жена. Важно отметить и другое: прослужив всего полгода, рядовой Поляков явно стал нерядовой фигурой в полковой жизни: не каждый на его месте мог запросто обращаться к замполиту части и выслушивать от него комментарии к приказу министра обороны. Поляков мог.
А вскоре он буквально стал яблоком раздора между политотделом дивизии и замполитом полка. Несколько раз ему приказывали собирать вещи для длительной командировки и несколько раз радостно давали отбой. Оно понятно: бойца, который и на машинке печатает, и со сцены выступает, и Деда Мороза изображает, а также вполне успешен в боевой и политической подготовке, начальству терять не хотелось. В конце концов, не в каждом полку есть солдат, печатающийся в «Комсомольской правде». Но дивизионной газете «Слава» не терпелось заполучить его в качестве военкора.
«Наконец, — вспоминает Юрий Поляков, — за мной приехали на «козлике» маленький вертлявый майор Царик, редактор «дивизионки», и рослый прапорщик Гринь — начальник типографии, имевший в своем распоряжении целых двух наборщиков. Меня посадили в газик — и через десять минут мы были в Олимпийской деревне, где жили спортсмены XI летних Олимпийских игр, проходивших в 1936 году в нацистской Германии. Некоторые страны тогда проигнорировали Олимпиаду, прежде всего Советский Союз. Зато команды будущих союзников по антигитлеровской коалиции заселили пол-олимпийской деревни, видимо, питая по отношению к Гитлеру те же иллюзии, что сегодня они же питают к украинским националистам, рассчитывая натравить их на Россию… Самой многочисленной была американская делегация. Им выделили целый микрорайон — дюжину двухэтажных домиков, обступивших небольшой плац. В одном из этих коттеджей и расположилась комендантская рота, куда меня прикомандировали, так как числиться я продолжал в артполку. Утром, после зарядки, поверки и завтрака, я отправлялся к новому месту службы — в редакцию дивизионной газеты «Слава». Я шел вдоль рычавшего за бетонным забором Гамбургского шоссе, мимо почты и пруда, и из листвы старинных ветел, склонившихся к воде, стонали, будто изголодавшиеся любовники, немецкие горлицы — каждая размером с хорошего бройлера. Справа у меня оставался олимпийский бассейн, где по ночам, если верить слухам, тренировались наши подводники-диверсанты. Вдалеке виднелось главное подковообразное здание Олимпийской деревни. Иногда я видел, как подъезжал на «Волге» командир дивизии, по благоговейной суете оказавшихся рядом офицеров это напоминало возвращение Юлия Цезаря с очередной победной войны. Много лет спустя автор «ЛГ» генерал Владимиров рассказал мне, как, будучи назначенным в конце 1980-х командиром нашей дивизии и представляясь по этому случаю командующему ГСВГ, он получил такое напутствие: «Хозяйство у вас сложное. Рядом Берлин. И, кстати, именно в 20-й служил этот самый писателишко. Ну, вы поняли, «Сто дней до приказа»… Поаккуратней!»
Редакция располагалась на первом этаже обширного клубного комплекса. Для своего времени дома под оранжевой черепицей были отстроены и оборудованы по последнему слову жилищно-бытовой мысли, но за сорок лет сильно обветшали. Большинство строений использовались как семейные и офицерские общежития. Отдельные квартиры имели только старшие офицеры. По городку бегали огромные, совсем не пугливые крысы, к ним относились почти как к кошкам, правда, желание погладить шерстку завершалось укусом и уколами от бешенства.
В редакции меня приняли хорошо, даже с некоторым пиететом, какой только возможен со стороны офицеров к солдату срочной службы, ведь никто из них в общесоюзных изданиях не печатался, а лишь в армейских. Малюсенькая заметка в «Красной звезде» была для них событием. К тому же редактор газеты майор Царик (родом, кажется, из Молдавии) был человек живой, творческий и совсем не военный. Каждый раз, вернувшись из политотдела, он жаловался: «Опять сделали замечание, что у меня короткие брюки. Разве?» Мы внимательно смотрели на него и хором уверяли, что брюки у него исключительно уставной длины, хотя на самом деле они сильно смахивали на куцые клоунские штаны, открывавшие взору невыразимые носки. К тому же Царик писал большой роман, семейно-любовную сагу, то, что мы теперь называем «мылом». Текст по мере сочинения перепечатывала редакционная машинистка, а мы — ответсекретарь газеты капитан Щепетков, корреспондент лейтенант Черномыс, прапорщик Гринь и я — читали и высказывали мнение, разумеется, бурно положительное. Однажды машинистка заплакала, а мы, узнав, в чем дело, возмутились: главную героиню, юную красавицу, едва окончившую школу, автор ни с того ни с сего лишил невинности с помощью траченного молью офицера-прохиндея, придумавшего «дыробой» — это такое приспособление, пробивавшее в мишени отверстия, даже если испытуемый боец мазал мимо. Таким образом, подразделение, которым командовал этот карьерист, занимало первые места, а он не успевал провертывать дырочки для звезд. На все наши просьбы вернуть девственность героине и покарать мошенника в погонах Валентин Иванович отвечал отказом и вздыхал, мол, в жизни чаще бывает именно так. Вероятно, за этим скрывался какой-то грустный личный опыт…
Конечно, мне, воспитанному на Солоухине, Катаеве, Трифонове, Распутине, Леонове, эта проза казалась всего лишь «имеющей право на существование» — так мой друг Игорь Селезнев именовал совсем уж слабые стихи. Однако я, лукавя, хвалил очередную главу — так же, как и остальные. Но вот теперь, листая сочинения иных лауреатов «Большой книги» или нынешних коммерческих авторов, чьи глупейшие романы расходятся благодаря рекламе большими тиражами, я вспоминаю майора Царика, его короткие брюки, его длинную эпопею, неизвестно куда канувшую, и думаю: вполне возможно, он просто опередил свое время…
Меня определили военкором, выдали мне удостоверение, с которым я ходил по всей дивизии и организовывал материалы о боевой и политической подготовке нашего мотострелкового соединения. Иногда, не поверив удостоверению, изготовленному прапорщиком Гринем, меня забирали в комендатуру, но вскоре прибывал майор Царик и вызволял «военкора». Пару раз я ездил с начальством на рыбалку: местность вокруг была изрезана каналами и серебрилась рукотворными озерами. Офицеры, восторженно крича, таскали лещей размером с саперную лопатку, хвалились, мерились хвостами, а потом отпускали добычу. Рыба была поголовно заражена солитером. Говорили, что сделали это по приказу Гитлера, когда Красная армия взяла в кольцо Берлин…»
Иногда Юрию доводилось навещать свой полк, и каждый раз он испытывал одновременно радость и досаду: теперь он понимал, как там ему было хорошо. Но об этом позже.
Недалеко от части поднимался холм, на который они взбирались вместе с другом Юрием Смирновым, окончившим искусствоведческое отделение истфака МГУ. С пригорка были видны телевизионная башня, небоскребы, высокие дома. Берлин…
«…Как человек, интересовавшийся литературой, я знал о творческих связях этого города с нашей культурой: о послереволюционном «русском Берлине», о газете «Накануне», с которой сотрудничали Алексей Толстой и Булгаков…»
Но тогда не пришла еще пора узнать о Берлине больше. Зато всего четыре года спустя Юрий приедет сюда в составе творческой группы молодых литераторов. У них будет множество интересных встреч и выступлений, а со сцены клуба своего артполка он, участник Всесоюзного совещания молодых писателей и лауреат премии имени Маяковского, будет читать свои стихи.
Светилось небо голубое, Летел над плацем птичий щелк. На пять минут веденья боя Предназначался наш артполк, Чтоб спохватились остальные, Крича команды на бегу, Чтоб развернулись основные И крепко вдарили врагу! Чтоб с гордостью рапортовали, Как, множа воинскую честь, Артиллеристы простояли Не пять минут, а целых шесть! И что противник откатился, Потери тяжкие неся, И самолично убедился: Нас провоцировать нельзя! Врагу ответа никакого Другого не было и нет У нас от копий Куликова — До баллистических ракет! …А мы служили, не печалясь, Мы знали, как нас дома ждут. И все-таки предназначались На пять минут. На пять минут… («Пять минут». Посвящается Юрию Смирнову)«Потом, конечно, отметили выступление в офицерской столовой, расчувствовались, стали прикидывать, кто из командного состава мог помнить меня еще солдатом срочной службы. Тогда ротация в заграничных группах войск работала как часы, и все давно или недавно «заменились», убыв к новым местам службы. Наконец, вспомнили прапорщика из ремонтного подразделения, послали за ним, он пришел, выпил, закусил, долго всматривался в меня и узнал наконец: «А-а… этот… Ну да… на машинке все время у пропагандиста клацал…».
«…В начале 1980-х я гулял по Берлину впервые. Стена, которая его разделяла, была не разрисованной граффити, как сейчас, а серо-белой, абсолютно чистой. Она протянулась через весь город, и вдоль нее можно было идти очень долго, часами. На меня как на советского молодого человека, фрондера, слушавшего по ночам «Голос Америки», слушавшего «Архипелаг ГУЛАГ» на радио «Свобода» в исполнении беглого актера Юлиана Панича, она произвела тяжкое впечатление: эта мертвая стена разделяла живой город!.. В то первое посещение на меня огромное впечатление произвел прежде всего сам город и его музеи, но, конечно, и магазины, хождение по которым было не менее увлекательно. После нашей советской скудости, даже московской, разнообразие, которое можно было увидеть в гэдээровских магазинах, вызывало зависть. Если бы в Советском Союзе был такой социализм, наше государство ни за что бы не рухнуло. Никому и в голову не пришло бы его разваливать… Тогда же я познакомился с немецким писателем Бастианом Хорстом и поделился с ним своими впечатлениями от разделенного по живому города. Я спросил, как относятся к этому немцы. И он ответил: «Это не является предметом постоянного напряжения, нет. Мы понимаем: такова расплата за проигранную войну. Но в душе с этим не согласен ни один немец». Я ехидно поинтересовался: «Что, и члены СЕПГ не согласны?» — «Конечно, и члены СЕПГ».
Много лет спустя, накануне своего шестидесятилетия, Юрий Поляков вновь побывал в местах, где проходила его служба: на этот раз он приехал туда со съемочной группой телеканала «Культура». Ступив на знакомую брусчатку, он был поражен: оказалось, он прекрасно помнит парадный строевой шаг, и ему захотелось пройтись по ней, высоко поднимая ногу, оттягивая мысок, вскидывая к груди кулак и отводя наотлет вторую руку…
..Взвод ногу пружинисто взводит — Удар глуховато-тяжел. И мысли внезапно приходят О совершенно чужом — Ведь каждый за собранным взглядом Безмерное что-то таит. И думы шагающих рядом Перекрывают твои! («На плацу». 1976)Из писем жене видно: Юрий не только не рвался в армию — он корил себя за то, что угодил туда, что занимается вещами, которые не имеют, как ему казалось, никакого отношения к его прошлой и будущей жизни. Однако все вышло с точностью до наоборот.
«…В армии, несмотря на все трудности, я неожиданно расписался. Давно ведь замечено, что несвобода окрыляет. Я привез домой около ста стихотворений. Их охотно печатали журналы, подозреваю, прежде всего потому, что в редакциях был острый дефицит стихов об армии, проходивших по статье «советский патриотизм»…
Я отлично помню, как посмеивались собратья-поэты над моими армейскими стихами, над их открытой патриотичностью. Кстати, я уходил в армию, страдая совершенно типичным для столичного образованца недугом — насмешливой неприязнью к своей стране. Это был непременный атрибут тогдашнего интеллектуала, вроде нынешней серьги в ухе гея. После института мне нужно было попасть в Германию, хлебнуть армейской жизни, чтобы «…как-то сразу подобреть душой…».
«…Удивительно, как все-таки поэтическая интуиция опережает логическое осмысление жизни! Лишь много лет спустя, почитав книги умных людей и поработав собственными мозгами, я задумался о нравственной и художественной губительности болезненной неприязни к Отечеству. Но поэтическая логика подсказала мне, тогда еще юному и неискушенному человеку, именно это верное словосочетание — «подобреть душой».
В армии, как и везде, Юрий не терял времени даром. Почти ежедневно он отправлял письма жене и друзьям, и в редком конверте не было стихов, сначала написанных от руки, а потом и отпечатанных на машинке. В полку и дивизии имелась прекрасно укомплектованная библиотека. Общий список прочитанных за время службы книг составил около ста названий. Юрий вел еще и переписку с журналами и газетами, посылал стихи, получал ответы и рецензии. К ратной службе в ту пору труженики печати относились с уважением, и теперь ему отвечали даже те издания, которые прежде от него отмахивались.
Помимо журналов «Молодая гвардия» и «Студенческий меридиан» его стихи вскоре появились в «Красной звезде», альманахе «Поэзия», были приняты к публикации в «Юности» и «Дне поэзии». Тем более охотно его печатали в дивизионной газете «Слава» и в газете Группы советских войск в Германии «Советская армия», где 19 июня 1977-го вышло его небольшое эссе о поэте-фронтовике Александре Межирове. Появились стихи и в «Алом парусе» «Комсомолки». Эта публикация вызвала вот такой опубликованный газетой читательский отклик:
«Привет, «Парус»!..
Когда на плечах погоны, к любому слову об армии относишься по-иному, не так, как, положим, еще полгода назад. Даже парад с Красной площади другими глазами смотришь. Сам свидетель того, как читали этот выпуск «АП» в нашей роте. С интересом. С любопытством. С одобрением. Стихи Юрия Полякова переписывали в блокнотики…»
Написал этот отклик гвардии рядовой Леонид Колпаков, в прошлом тульский друг «Алого паруса».
«Но что эта история добавляет к портрету героя?» — удивится читатель. Во-первых, не все публиковавшиеся стихи вызывали ответную реакцию. А во-вторых, с гвардии рядовым Колпаковым судьба сведет Полякова в начале 1990-х, и Колпаков станет его соратником, заместителем главного редактора «ЛГ». Но и это еще не всё: ответственный секретарь газеты «Слава» капитан Щепетков по замене будет направлен в Мукачево, где в местной «дивизионке» под его началом будет служить военкор Колпаков. Такие совпадения, как мы уже отмечали, нередки в жизни Юрия Полякова.
В первые месяцы службы Поляков пытался продолжить начатую на гражданке повесть о студенческой жизни «Телега». Так в ту пору называлось письмо, содержавшее компромат: например, сообщение из милиции на предприятие о задержании сотрудника и его антиобщественном поведении. Сюжет был такой: два студента, задержанные за драку, решают выкрасть письмо, за которое их могут отчислить из института. В основе его лежали реальные события: однажды Юрий и Миша Петраков угодили за драку в отделение, правда, все обошлось: не они были зачинщиками. Однако армейские впечатления вытеснили прежний сюжет, и у Юрия возник замысел новой повести, которая доставит ему множество хлопот и неприятностей — а спустя годы принесет ошеломительный успех.
«Я служил в мирной армии: полуостров Даманский уже забылся, а Афганистан еще не грянул, — напишет позднее Поляков в статье «Как я был колебателем основ». — Сейчас, прожив значительную часть жизни и побывав в различных ситуациях, я понимаю, что служил, в общем-то, в нормальных условиях, которые, скажем, срочнику, попавшему в Чечню, покажутся раем[11]. Но, рискуя повториться, напомню: советский юноша шел служить в идеальную армию, а попадал в реальную, где офицеры не были исключительно мудрыми наставниками из фильма «Весенний призыв», а были обычными людьми, изнуренными гарнизонной жизнью и семейными проблемами, хотя служба в Группе советских войск в Германии считалась престижной, и какой-нибудь лейтенант в Забайкалье мог только мечтать о зарплате в марках…
Я попал в обычный солдатский коллектив, где нормальная мужская дружба уживалась и даже как-то переплеталась с жестокостью так называемых неуставных отношений. Но все это было вполне переносимо — гораздо тяжелее лично для меня оказался конфликт между образом идеальной армии, вложенным в мое сознание, и армией реальной. Конечно, это недоумение испытывал каждый юноша, надевавший форму, но я-то был начинающим поэтом — то есть человеком с повышенной чувствительностью. Стоя во время разводов на брусчатке, еще помнившей гулкий шаг солдат эсэсовской дивизии «Мертвая голова», я думал о том, что, когда вернусь домой, обязательно напишу об этой, настоящей армии. Как всякий советский человек, я верил в целительную силу правды, особенно в ее литературном варианте».
В артполку, в 9-й батарее, где прошли первые полгода службы, неуставные отношения, конечно, имели место, но благодаря бдительным офицерам, справедливым и рассудительным сержантам, определявшим моральный климат в казарме, «дедовщина» существовала в терпимой, даже скорее в ритуальной форме. Кроме того, в полку была довольно большая группа бойцов с высшим образованием, которые поддерживали друг друга.
«До сих пор вспоминаю сержанта Ныркова, крепкого парня из Норильска, одним своим появлением наводившего порядок. Однажды он вошел в казарму, когда там шла драка между славянами и кавказцами. Через минуту было покончено и с теми, и с другими. Дрался он фантастически, не боялся даже чеченцев, с которыми старались не связываться и офицеры. Поговаривали, что один крутой «дед», внезапно исчезнувший весной и найденный осенью в лесу повешенным, — дело их рук. Но Нырков не уступал и им, стараясь, чтобы жизнь батареи не превращалась в гнет и насилие…»
Зато в комендантской роте, несмотря на близость к начальству, царили совсем иные порядки. Офицеры жизнью казармы после отбоя не интересовались, а сержанты получали удовольствие от издевательств над молодыми солдатами. Юрий попал в обстановку самой разнузданной «дедовщины». Поэтические заслуги, вызывавшие уважение у товарищей в полку, здесь порождали раздражение: «Он еще и стишки сочиняет!» Однажды утром Юрий пришел в редакцию с подбитым глазом. Импульсивный майор Царик помчался к ротному выяснять обстоятельства, а того возмутило «вмешательство прессы» во внутреннюю жизнь подразделения. Он стал втихую поощрять старослужащих, чтобы те проучили «любимчика политотдела». Была тут, наверное, вина и Юрия, несколько зазнавшегося от литературных успехов, не сумевшего найти общий язык с новыми товарищами и командирами. Но факт остается фактом: последние месяцы службы были для него омрачены побоями и издевательствами. Доходило до того, что военкор ел и ночевал в редакции, чтобы лишний раз не появляться в столовой и казарме.
…………………..
Помню, когда собирался в армию, больше всего боялся разных физических испытаний: думал, вот забуду открывать рот во время залпа и лишусь слуха или не выдержу того же марш-броска. Но бег с полной выкладкой меня не убил, рот открывать я не забывал. Самым тяжелым оказалось совсем другое…
Однажды ночью меня разбудил рядовой Мазаев и распорядился принести ему попить. Я сделал вид, что не понимаю, и перевернулся на другой бок, но он с сердитой настойчивостью растолкал меня снова и спросил: «Ты что, сынок, глухой?» И я, воспитанный родителями и советской школой в духе самоуважения и независимости, крался по ночному городку в накинутой прямо на серое солдатское белье шинели затем, чтобы принести двадцатилетнему «старику» компотика, который на кухне для него припасал повар-земляк. Попить я принес, но поклялся в душе: в следующий раз умру, но унижаться не буду!
«Следующий раз» случился наутро. Мазаев сидел на койке и, щелкая языком, рассматривал коричневый подворотничок. Потом он подозвал меня и, с отвращением оторвав измызганную тряпку, приказал: «Подошьешь». И так же, как Елин сегодня, я ответил: «Не буду». И так же, как Елин сегодня, подчинился, успокаивая свою гордость тем, что так положено, не я первый, не я последний, нужно узнать жизнь, придет и мой час, ну и так далее… А ночью с ужасом проснулся от мысли: если бы Лена увидела, как я унизился, она сразу же разлюбила бы меня…
<…> Главный ритуал «ста дней» в том-то и заключается, что сегодня все происходит наоборот: первыми еду берут самые молодые, а мы — под конец. Естественно, они смущаются и стремятся, косясь на ветеранов батареи, взять кусочки поплоше, но картина все равно впечатляет! Затем начинается кульминация: «старики» отдают молодым свое масло. Все это, по замыслу, должно символизировать преемственность армейских поколений. Но когда свою желтую шайбочку я положил на хлеб Елину, тот посмотрел на меня такими глазами, что весь ритуал, казавшийся мне очень остроумным, вдруг представился полным идиотизмом.
Я рубал солдатскую кашу «шрапнель» и думал о том странном влиянии, какое оказывает на меня нескладеха Елин. С ним я снова переживаю свои первые армейские месяцы, когда думаешь, будто шинель, китель, сапоги и т. д. — это уже навсегда, будто домой не вернешься ни за что; когда все вокруг пугающе незнакомо, когда находишься в страшном напряжении, словно зверь, попавший в чужой лес, когда можно закричать оттого, что из дому снова нет писем, когда от жестокой шутки немногословного «старика» душа уходит в пятки, когда понимаешь, что жить в солдатском обществе можно только по его законам и нельзя купить билет да уехать отсюда, как сделал бы на «гражданке», не сойдясь характером с тем же самым Зубом. Армия — это не военно-спортивный лагерь старшеклассников с итоговой раздачей грамот за меткую стрельбу из рогаток. Армия — это долг. У них — повинность, у нас — обязанность, но везде — долг! Значит, нужно смирить душу и вжиться. Сила характера не в том, чтобы ломать других, как считает Уваров, а в том, чтобы сломать себя!.. Стоп. А нужно ли ломать, нужно ли привыкать к тому, к чему приучил себя я? Может быть, прав смешно уплетающий «шрапнель» Елин: сначала мы сами придумываем свинство, а потом от него же мучаемся… Зачем все эти жестокие игры в «стариков» и «салаг»?! Армии они не нужны, даже вредны, если верить замполиту; я без своих дембельских привилегий обойдусь.
(«Сто дней до приказа»)…………………..
Впрочем, повесть осталась в литературе не этими вопросами, волновавшими тогдашнее советское общество, а достоверной картиной солдатской жизни, точным описанием внутреннего мира юноши в военной форме, острым словом, вобравшим в себя смеховую стихию казарменного быта. Несмотря на неприятности, не изменяло чувство юмора и Юрию. За неделю до дембеля он отправил в Москву по адресу: Шипиловский проезд, д. 61, корп. 2, кв. 148 открытку. В ней было написано:
«Дорогой Юра,
поздравляю тебя, абсолютно гражданского человека, с возвращением домой, желаю успехов в семейной жизни и творчестве. Не поминай лихом!
Гвардии рядовой Ю. Поляков».
И получил ее по указанному адресу через три дня после возвращения.
Значкам, погонам, лычкам Отныне вышел срок. И надо ж — по привычке Рука под козырек Взлетает… Я ж вернулся! Я в штатском. Что за вздор? — Бывает! — улыбнулся Молоденький майор. Пора тревог полночных — Армейская страда! И как-то жаль «так точно», Смененное на «да». («Возвращение». 1977)А это — из неопубликованного:
Сколько дней проползло, пролетело Вдалеке от любви и страны! Я вернулся — обнять неумело Незнакомое тело жены…Со временем, и довольно скоро, Юрий поймет, как много дала ему — мужчине, гражданину, писателю — армейская служба. Недаром дембельская фуражка автора «Ста дней…» до сих пор лежит на видном месте в его переделкинском кабинете.
Глава четвертая НА СОВЕТСКОМ ПАРНАСЕ (конец 1970-х — 1980-е)
Писательство — это призвание, от которого не уйти, и тот, у кого оно есть, должен писать, потому что только так он сможет одолеть головную боль и скверное пищеварение.
Габриель Гарсиа МаркесРадость возвращения домой вскоре сменилась новыми заботами и огорчениями. Пряча глаза, проректор по науке П. А. Лекант огорошил: об очной аспирантуре, обещанной перед уходом в армию, не может быть и речи. О заочной тоже. Единственное, что возможно: стать соискателем, прикрепиться к кафедре, сдать без отрыва от производства кандидатские экзамены и на свой страх и риск писать диссертацию. Позднее выяснилось: место, которое ему обещали, отдали отпрыску очередного начальника. Решением ученого совета Полякова прикрепили к кафедре советской литературы. Возникли проблемы и с темой. За четыре года, прошедшие со дня столетия Брюсова, о нем написали и защитили множество диссертаций. Посвященная в тайны научного закулисья А. А. Журавлева высказала опасение, что в ВАКе Юрину тему могут не утвердить. И он решил писать по фронтовой поэзии — теме, волновавшей его всегда. Его любимыми поэтами были Александр Межиров, Семен Гудзенко, Сергей Наровчатов, Александр Твардовский… Завкафедрой советской литературы Михаил Васильевич Минокин предложил ему заняться жизнью и творчеством сибиряка Георгия Суворова, погибшего в 1944-м при освобождении Эстонии. Стихи Суворова высоко ценили Николай Тихонов, Леонид Мартынов, Сергей Наровчатов, пророча молодому поэту блестящее будущее. Сам сибиряк, «чалдон», как любил он говаривать, Минокин справедливо заметил, что про москвичей-ифлийцев, павших на фронте, Павла Когана, Михаила Кульчицкого и других, написано много, а тем, кто дебютировал «далеко от Москвы», внимания почти не досталось. Юрий прочел опубликованные стихи Суворова, открыв для себя яркого, самобытного поэта. М. В. Минокин стал официальным научным руководителем молодого исследователя, хотя, по сути, вела его до самой защиты все та же А. А. Журавлева. Отныне тема диссертации звучала так: «Творческий путь Георгия Суворова. К истории фронтовой поэзии».
Но если с научной работой он более-менее определился, то просто с работой, которая должна была кормить семью, не задалось. В школе рабочей молодежи его должность была занята: учебный год начался, ставок свободных не оказалось. Директор предложила потерпеть до нового учебного года, а пока подменять болеющих учителей, числясь на полставки преподавателем-чертежником. Из школы он шел грустный, даже потерянный. И ему неожиданно повезло: на Разгуляе он нос к носу столкнулся с Галиной Никаноровой, третьим секретарем Бауманского РК ВЛКСМ. Комсомольские активисты составляли довольно узкий круг, хорошо друг друга знали по общественной работе и выездной учебе, где комсорги и секретари с пользой и весело проводили время, как это и должно быть у молодежи: слушали лекции о международном положении, обсуждали проблемы своих организаций, под гитару пели песни и танцевали ночи напролет. Это все были энергичные, способные организаторы, которым в дальнейшем очень пригодился их комсомольский опыт. И Юра входил в этот круг.
Встрече оба обрадовались. Выслушав горестную историю, Галина предложила Юре идти работать в райком, но «подснежником».
«Штат райкомов был ограничен и утверждался в вышестоящей организации, а всякая бюрократическая структура, как известно, стремится к саморасширению, — вспоминал Поляков. — И изобретательные «комсомолята» придумали выход: стали оформлять нужного работника в дружественной организации на свободную ставку, хотя трудился он в райкоме. Я числился младшим редактором журнала «Наша жизнь» Всероссийского общества слепых. Участком мне определили учительские комсомольские организации, и, таким образом, я занимался почти своим, учительским делом.
Впечатление от райкомовской жизни было странное. С одной стороны, деловой энтузиазм и множество хороших дел, не только для галочки, но и для души. <…> На другой же чаше весов были ежедневная изнуряющая аппаратная борьба, интриги, а главной ценностью считалось преодоление следующей ступени на карьерной лестнице. Но в газетах об этом не писали, да и литература такие сюжеты обходила стороной. Только Виль Липатов опубликовал экранизированную впоследствии повесть «И это все о нем» — романтическую сказку о современном комсомольском вожаке (его сыграл молодой И. Костолевский), пытающемся возродить былой бескорыстный энтузиазм. Кстати, герой Липатова погиб вовсе не случайно. Думаю, автор просто не знал, что с ним делать в предлагаемых временем обстоятельствах».
В райкоме Юрий проработал год: с декабря 1977-го по декабрь 1978-го. Его ценили за креативный, как сказали бы сегодня, подход к делу. Он организовал устный журнал для молодых педагогов, который назывался «Учить и учиться», выпуски журнала ежемесячно проводились в Доме учителя на Пушечной, где теперь Москонцерт. Юрий был горазд на организацию интересных, не для галочки мероприятий. Но вряд ли сослуживцы догадывались, что их исполнительный коллега уже смотрит на жизнь райкома с особым писательским прищуром.
За все 60 лет существования ВЛКСМ так, как он, о комсомоле еще не писали. И дело даже не в иронии, в конце 1920-х как будто навсегда ушедшей из советской литературы (иронии, не издевке, которой были исполнены публикуемые на Западе творения тех, кто не принимал советской власти). Дело в дотошно-реалистичном изображении бюрократического механизма власти.
Пока Юрий занимался в райкоме учительскими организациями, первый секретарь Бударин ушел на повышение и в райком пришел новый руководитель — Валерий Поспелов (ныне банкир и благотворитель), который предложил Юрию перейти в штат, окончательно связав свою судьбу с аппаратной работой. Но тот неожиданно сделал иной выбор.
Как ни странно, на комсомольском учете он состоял в Московской писательской организации. Средний возраст столичных писателей в ту пору составлял 67 лет, а комсомольцев (до 28 лет) в СП было меньше, чем тех, кому перевалило за сто. Помимо горстки молодых писателей в «первичку» входили сотрудники аппарата Московской писательской организации и Союза писателей СССР, литературные секретари и комсомольцы редакции журнала «Юность». Всего получалось человек сорок, а поскольку организация объединяла творческих людей, она была на особом счету. Традиционно эту общественную нагрузку — «комсорг Союза писателей» — нес какой-нибудь сравнительно молодой поэт, достойно представлявший организацию везде, где следовало. В свое время ее довольно долго возглавлял Евгений Евтушенко, после него тоже были поэты Инна Кашежева, Петр Вегин, Сергей Мнацаканян.
Когда Юрий вернулся из армии, ему следовало в течение месяца встать на комсомольский учет по месту работы. Работы, как мы помним, поначалу и не было. Выручил Сергей Мнацаканян, с которым Юра не раз выступал на различных вечерах. Учитывая газетные и журнальные публикации и участие Полякова в семинаре на Красной Пахре, Сергей принял активного литератора на учет, хотя это и было не совсем по уставу. Понять его можно: многие комсомольцы вверенной ему организации были из литературных семей, и их общественная активность, как говорится, стремилась к нулю. Но кто-то ведь должен был устраивать субботники в подшефном зоопарке, выступать в школах и ПТУ, да и Ленинский зачет и Трудовую вахту навстречу шестидесятилетию ВЛКСМ никто не отменял. В те времена в престижные, тем более творческие профессии из нижних социальных страт попадали только очень целеустремленные и цельные личности. Встав на учет в комсомольскую организацию Союза писателей, Юрий сделал первый шажок к своей цели. Вот что сам он говорит о советской системе социальных лифтов: «Ныне все, окрашенное в советские, партийные или комсомольские цвета, принято подавать как негатив, возможный только в «тоталитарном совке». Это, конечно, не так. Никого ведь не смущает, что многие западные знаменитости начинали свое восхождение к профессиональным высотам, например, с бойскаутского движения или с молодежных отделений крупных политических партий. На мой взгляд, различного рода объединения и институты советской эпохи давно пора рассматривать без идеологического предубеждения как историческую реальность. В противном случае как нам оценивать отдельные периоды биографии многих известных людей? Например, как объяснить увлечение общественной работой пламенной комсомолки 1950-х Натальи Дмитриевны Солженицыной?» Тем временем Сергею Мнацаканяну перевалило за тридцать, и партком Московской писательской организации озаботился сменой комсорга. Вполне закономерно выбор пал на Полякова: высшее гуманитарное образование, публикации в центральной прессе, служба в армии, опыт комсомольской работы и работы в райкоме. На это скромное, не обеспеченное зарплатой место рассматривались тогда еще две кандидатуры: поэт Владимир Топоров и драматург Александр Ремез. Первый незадолго до этого, находясь в творческой командировке, попал в пьяную драку, а второй, по слухам, собирался возвратиться на историческую родину. Оба они, очень талантливые люди, не реализовавшие отпущенный им дар, до срока ушли из жизни, как показывает практика, от интернационального, а не чисто русского, как принято считать, недуга.
«…Национальный состав Московской писательской организации был весьма своеобразен, — вспоминает Поляков. — Евреи (по паспорту или по самоощущению) составляли там едва ли не большинство. Так повелось с тех лет, когда значительная часть русской творческой интеллигенции, не принявшей революции, оказалась перебита в годы Гражданской войны, попала в «лишенцы» (и их детей не принимали в вузы) или отправилась в добровольную и принудительную эмиграцию — на том же «философском пароходе». Ленин, кстати, неоднократно подчеркивал, что именно поддержка образованных евреев помогла неокрепшей советской власти преодолеть саботаж старорежимного управленческого аппарата. Новая власть в долгу не осталась. Известен случай, когда на политбюро рассматривался вопрос о работе Наркомпроса под руководством Литвинова, и вдруг выяснилось, что там служит всего один русский — и тот работает швейцаром. Конечно, это анекдот, но дыма без огня не бывает. Я сам, работая с периодикой 20-х годов во время сбора материалов для диплома о Брюсове, поражался обилию в газетах и журналах нерусских фамилий, хотя уже многие в ту пору предусмотрительно взяли псевдонимы: Кольцов, Багрицкий, Кирсанов, Каверин… Впрочем, ничего удивительного тут не было, так как евреи после русских и украинцев были самым многочисленным в СССР народом — до шести миллионов. Потом было всякое: и зачистка национально мыслящих русских деятелей, обвиненных в черносотенстве или даже фашизме, и «ленинградское дело», и борьба с космополитами. Однако к обилию евреев в творческой среде привыкли, считали это естественным, а в стране тем временем целенаправленно формировалось интернациональное единство, при котором было неприлично выяснять, кто есть кто по паспорту. Был бы человек хороший и полезный работник, что, в сущности, Правильно-
Интернациональное руководство КПСС озаботилось этой проблемой, когда начался массовый исход евреев на историческую родину. Надо признать: это сильно поколебало монолит советского общества, оставив в нем роковую трещину. Я помню, каким шоком для меня, старшеклассника, было известие, что наша учительница химии милейшая Елизавета Давыдовна уезжает с семьей из страны. Когда ее совестили на партийном собрании, обвиняя в неблагодарном отношении к родине, она сказала, что ее родина совсем в другом месте. Я не подвергаю сомнению желание евреев жить на земле предков, страстное чувство, которое они передавали, как факел, от поколения к поколению, через века рассеянья. Кто знает, родись я сам евреем, вполне возможно, тоже рвался бы на историческую родину и, получив отказ, тоже жутко обижался бы на советскую власть, за которую, не жалея ни себя, ни других, комиссарил мой репрессированный дедушка. Но там, наверху, решили, что я на земле полезнее буду в качестве русского писателя. Я ничего не подвергаю сомнениям, а просто пытаюсь объяснить, как все это воспринималось со стороны традиционным русским сознанием, теми, у кого проблем с выбором родины не существовало. А воспринималось это неоднозначно. К тому же большинство советских писателей, подчинившихся зову крови и получивших после долгих унижений разрешение на выезд, чаще всего задерживались в Вене, месте первой остановки репатриантов, и вливались в шумные ряды профессиональных и сочувствующих антисоветчиков. После нескольких громких отъездов власть озаботилась национальным перекосом в писательских рядах, и Феликс Кузнецов, возглавивший Московскую писательскую организацию после внезапной кончины поэта-фронтовика Михаила Луконина, получил на самом верху такое напутствие:
— Феликс Феодосьевич, по нашим данным, до семидесяти процентов столичных литераторов в той или иной степени связаны с еврейской проблемой. Это плохо, тем более что многие из пожилых писателей, в том числе члены партии, увы, верны троцкистским увлечениям своей молодости. А это источник нестабильности. Ваша задача…
— Борьба с сионистами?
— Никогда не употребляйте этого слова, ни устно, ни письменно! Сионисты за рубежом. У нас многонациональный советский народ. Но соотношение между евреями и прочими надо довести в организации хотя бы до паритета… Вы нас поняли?
Забегая вперед скажу, что Феликс Кузнецов поставленную задачу выполнил и даже перевыполнил. Вот почему моя анкетная национальность имела в 1978 году такое значение для начальства. Впрочем, сам Кузнецов много лет спустя в откровенном разговоре признался мне, что был против моей кандидатуры, долгое время считая меня глубоко законспирировавшимся евреем. Во-первых, настораживала амбивалентная фамилия. Его вторая жена Людмила Павловна в первом браке была замужем за критиком и литературоведом Марком Поляковым, уехавшим потом в Америку. Меня, кстати, нередко, глянув на мои инициалы «Ю. М.», принимали за его сына.
— А ваш папа еще не вернулся с конференции в Гамбурге?
— Он туда даже не уезжал!
Действительно, Поляковых среди евреев, а точнее, евреев среди Поляковых немало. Тут все объясняется нашей этнической историей. Русские Поляковы кучно встречаются в тех губерниях, в Рязанской, к примеру, где щедро разбазаривали свой генофонд польские захватчики в Смуту XVII века и во время наполеоновского нашествия, когда чуть не 20 процентов великой армии составляли «кичливые ляхи». В общем, прогнали неприятеля, но осадок, как говорится, остался. Сидят бабки на завалинке, смотрят на играющих детишек.
— Это ж чей такой бедовый? — спрашивает одна.
— Этот? От поляков… — вздыхает вторая.
Кстати, когда я бывал потом в Польше, мне порой говорили, что внешность у меня очень польская, даже называли какое-то воеводство, где мой фенотип преобладает.
Но и происхождение еврейской фамилии «Поляков» тоже связано с Речью Посполитой. После третьего раздела помимо отторгнутых русских земель были включены в Российскую империю воеводства с множеством местечек. Продвигаясь вглубь страны, вопреки черте оседлости, вступая в контакты со своими новыми согражданами, евреи говорили, конечно, с ними не на идише, совершенно чуждом славянскому уху, а по-польски — этот язык 200 лет назад был еще вполне понятен. Для великорусских крестьян и мещан, не разбиравшихся в расовых вопросах, долгополые пришельцы с Запада были поначалу просто «поляками». Самуил Поляков, блестящий меценат Серебряного века, издатель «Аполлона» и «Золотого руна», происходил именно из таких Поляковых, перебравшихся потом, в революцию, в Англию и ставших там «сэрами». В начале 1990-х, когда слово «русский» снова, как в 1920-е, пытались сделать чуть ли не бранным, а меня после моих антиельцинских статей стали поддавливать, Лариса Васильева, всегда меня опекавшая, предложила:
— Слушай, ребенок, а давай всем говорить, что ты из английских Поляковых? Я с ними тридцать лет дружу, попрошу — они подтвердят!
— Нет.
— Почему?
— Успех не стоит обрезания.
— Правильно, мальчик!
Но вернемся к разговору с Феликсом Кузнецовым, открывавшим мне тайны большой национально-культурной политики середины 1970-х.
— Значит, во-первых, вы были против меня из-за фамилии. Это выяснили. А во-вторых?
— Во-вторых, Юра, ваши кудри!
— Кудри-то тут при чем, Феликс Феодосьевич?! Есенин тоже был кудрявым… Мы рязанские…
— Ну, простите, простите, старика, я слишком тогда всерьез воспринял задание начальства… Но и вы уж слишком были деловиты. Как-то не по-русски…
— А почему в итоге согласились?
— У вас, Юра, была идеальная анкета! Горком в нее просто влюбился. А с горкомом не поспоришь…»
Так осенью 1978-го в Московской писательской организации появился новый комсомольский секретарь, который оживил ее застойную тишину. Собрания, прежде носившие формальный характер, при нем превратились в творческие отчеты и дискуссии, на которых поэты-комсомольцы читали по кругу свои стихи. Например, Владимир Шленский:
Я вижу — тихо шевелятся ветки И листья прошлогодние дрожат… Напротив в доме Кенар в пыльной клетке Со всех сторон решетками зажат. Давно не помышляя о свободе, Но чувствуя за окнами весну, Такие трели сладкие выводит — Подумаешь и скажешь — «Ну и ну!..»Потом, конечно, шли обмывать обсуждение в Пестрый зал. Впрочем, эта традиция существовала и до Полякова, он просто ее бережно сохранил.
«В Пестром зале можно было послушать угрюмые колымские рассказы уже слегка тронувшегося умом Шаламова, он любил подсесть к компании молодежи. Запросто чокнуться с Григорием Поженяном или спросить совета у Межирова, который, с кием наперевес, спустился из бильярдной в бар — хлопнуть рюмку. Ме-жиров торопливо разрешал прочесть одно-два четверостишья, морщился и говорил:
— Никаких глагольных рифм, понял? — и убегал в бильярдную: играли там по-крупному.
Можно было издали полюбоваться на Евтушенко, одетого в парчовый пиджак, или поздороваться с оппозиционным Вознесенским, которого всюду конвоировала жена Зоя Богуславская — Оза, ответственный секретарь комитета по Ленинским премиям. Или нарваться на неприятности с буйным во хмелю поэтом Анатолием Передреевым, который однажды, со словами «Ненавижу иллюзии», ни за что ни про что сломал челюсть всемирно известному фокуснику Игорю Кио».
Зимой 1978 года произошло еще одно знаменательное событие: Феликсу Кузнецову ради сплочения писательских рядов удалось добиться возобновления многотиражки «Московский литератор», закрытой в конце 1950-х. Тогда от руководства Московской писательской организацией был отстранен благоволивший к либералам Степан Щипачев, в молодости послуживший в ОСВАГе[12]. Тогда же грянули скандалы с выпущенным Калужским книжным издательством альманахом «Тарусские страницы»[13]. Особенно возмутила начальство повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!», вызвавшая нарекания прозаиков-фронтовиков. Не понравился наверху и очерк Александра Яшина «Рычаги», напечатанный в «Новом мире». Насторожило восторженное обсуждение столичными коллегами романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», нашедшее отражение в писательской многотиражке. В итоге литераторы столицы остались без газеты.
И вот, почти через 20 лет, было решено возобновить издание. Спешно создаваемой редакции требовались журналисты. Юрий, имевший уже опыт работы в газете, оказался подходящей кандидатурой.
Когда он стал отпрашиваться у первого секретаря Бауманского райкома, тот предложил ему перейти в штат. Случись это годом раньше, он, не раздумывая, принял бы предложение, но теперь Юрий уже твердо решил, что аппаратной карьеры делать не будет. Аппаратная борьба азарта у него не вызывала, а без готовности вести ее в райкоме делать нечего. Юра уже мысленно связал свою жизнь с литературой, и публикации, которые шли теперь одна за одной, подтверждали: в выборе поприща он не ошибся. Тем более что он привез из армии более ста стихотворений, которые принимали во всех редакциях на ура.
В феврале 1978 года подборка армейских стихов Юрия Полякова вышла в суперпопулярном журнале «Юность». «Фактически как поэт я стал известен именно после этой публикации, — вспоминал он много лет спустя. — Мои стихи заметили потому, что в них был тот искренний, непосредственный патриотизм, который давно выветрился из так называемых «воениздатовских» произведений, и тем более из сочинений тех, кого не совсем справедливо звали «мандельштампами» и «пастернакипью». Одно из стихотворений подборки тут же перекочевало в миллионы дембельских альбомов:
Мне снится сон! Уже в который раз: Осенняя листва в морозной пыли, Приспело увольнение в запас, Друзья ушли, а про меня забыли! Наверно, писарь — батальонный бог — Меня не внес в какой-то главный список. А «дембель» близок, бесконечно близок, Как тот, из поговорки, локоток. Я вновь шагаю по скрипучим лужам На ужин строевым, плечо к плечу. Смеется старшина: «Еще послужим! А? Поляков?!» Киваю и молчу… («Солдатский сон». 1977).Вот как пишет о том времени сверстник Полякова, литературный критик и автор предисловия к его первому избранному Владимир Куницын, сын того самого мятежного марксиста Георгия Куницына:
«В 1978 году в гостиной Центрального дома литераторов происходило знакомство с творчеством трех молодых поэтов — Елены Матусовской, Лидии Григорьевой и Юрия Полякова. Помню экспрессивные, страстные, напористые строчки Григорьевой, мудро-печальные и тонко сплетенные стихи Лены Матусовской (к огромному сожалению, так рано ушедшей из жизни).
Было любопытно, что сможет в этом своеобразном поэтическом турнире только что вернувшийся из армии совсем еще молодой паренек. Глядя на его по-солдатски подтянутую фигуру, простую прическу и застенчивый вид, как-то мало верилось, что ему удастся противостоять уже искушенным поэтессам.
И что же? Поляков в самом деле прочитал очень простые, какие-то беспомощно-открытые стихи, но в них была неожиданность — они были отнюдь не банальны по мысли, и в них чувствовался не умозрительный, а реально освоенный духовный опыт.
Когда мы, несколько человек, собравшихся «на Елену Матусовскую», вышли на улицу и, заметив, что она притихла, стали несколько фальшиво уверять ее в победе, она остановилась и задумчиво сказала: «Нет, в этом мальчике есть что-то настоящее, и стихи его лучше…» А потом началось уверенное и все ускоряющееся восхождение Юрия Полякова на литературный Олимп. Казалось, что кто-то подсадил его на счастливый эскалатор…»
Осенью 1978 года Юрий стал участником 4-го Московского совещания молодых писателей в Софрине. После постановления ЦК КПСС «Об улучшении работы с творческой молодежью» (октябрь 1976-го) в этой сфере произошли серьезные перемены: молодежь стали охотнее принимать в творческие союзы, открылись молодежные театры, вернисажи, стало больше выходить книг начинающих авторов, толстые журналы посвящали целые номера литературной смене. В том же ряду стояли и совещания, призванные выявить новые таланты. Юрий попал в семинар, который вели поэт Вадим Кузнецов, заведовавший редакцией поэзии издательства «Молодая гвардия», и поэтесса Римма Казакова, ценимая большим партийным начальством и вскоре занявшая должность рабочего секретаря СП СССР. Кстати, в 1990-е она в одночасье превратилась в одну из пламенных антисоветчиц.
«Мудрые организаторы не случайно объединили этих двух руководителей в одном семинаре, — вспоминает Поляков. — Кузнецов представлял партию литературных «почвенников». Казакова же, напротив, была выдвиженкой тогдашних либералов, которых окормлял заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС Альберт Беляев. О том, что наши руководители представляют враждебные литературные станы, я и не подозревал, борьба шла где-то в горних высотах, шумела, как ветер, в вершинах и до нашего литературного подлеска не доходила, во всяком случае — до меня. Мне удалось понравиться обоим. Бородатый Вадим Кузнецов, похожий на враждебно настроенного к советской власти крестьянина-середняка, советовал мне больше думать о судьбах России. А Римма Казакова пожелала мне несчастной любви для большей лирической пронзительности. Когда я сдуру брякнул, что счастлив в браке, она глянула на меня с грустным недоумением. Осведомленный поэт Саша Щуплов после семинара обозвал меня идиотом, объяснив, что Римма, бросив мужа, совсем запуталась в своих странных отношениях с поэтессой Инной Кашежевой…»
По итогам совещания стихи Юрия публиковали «Студенческий меридиан», «Знамя», «День поэзии», «Литературная Россия»… Он стал постоянно выступать на самых престижных площадках — в Доме литераторов, в ЦДРИ… Прочитал стихи на радио в передаче «Рабочий полдень».
3 января 1979 года вышел в свет первый номер «Московского литератора». Вот как сам Поляков вспоминает об этом времени: «…Я стал работать корреспондентом в возрожденной газете «Московский литератор» под руководством одного из бывших «смогистов» Александра Юдахина, человека по-своему могучего, талантливого, но непредсказуемого и неуправляемого, как КамАЗ со сломанной рулевой тягой».
В первом номере две полосы из четырех были посвящены итогам софринского совещания. Из восьми опубликованных участников четверо: Евгений Юшин, Владимир Вишневский, Анатолий Пшеничный, Сергей Таек — стали профессиональными литераторами. Стихи Полякова в паре с Вадимом Рабиновичем, ныне жителем Германии, появились в шестом номере под рубрикой «Навстречу VII Всесоюзному совещанию молодых писателей».
«Помещения у редакции еще не было, и мы делали газету прямо в парткоме, на зеленом сукне стола заседаний. За дверью шумел переполненный писательский ресторан, доносились голоса, лязг сдвигаемых рюмок, просачивался запах жареной корейки. Ответственный секретарь Виктор Магидсон с железным строкомером колдовал над макетными полосами, что-то высчитывал и просил его в этот момент не отвлекать, даже если будет землетрясение. Потом я сокращал длинные «хвосты», неизвестно откуда взявшиеся. Иногда появлялся, дыша разнообразной закуской, Юдахин, спрашивал, как у нас дела, ругал за нерасторопность, потом, морща лоб, произносил таинственным голосом, точно мантру: «Запомните, ребята, мы с вами центристы!» И снова уходил в ресторан, налаживать связи с противоборствующими писательскими кланами».
Впрочем, нейтралитет на первой полосе шестого номера и закончился. На третьей начиналась знаменитая статья Феликса Кузнецова «Конфуз с «Метрополем»:
«Водевильная история эта с самого начала была замешена на лжи. Подходили к крупному или не очень крупному писателю и, отведя в сторону, спрашивали: «Нет ли у вас чего-нибудь такого, что когда-нибудь куда-нибудь не пошло?..» — «А зачем?» — «Да мы тут литературный сборник замышляем…»
Заботой о литературе объясняли эту затею ее организаторы (В. Аксенов, А. Битов, Ф. Искандер, В. Ерофеев, Е. Попов и др.) и секретариату Московской писательской организации, и всем остальным. «Основная задача нашей работы, — впоследствии объясняли они, — состоит в расширении творческих возможностей советской литературы, способствуя тем самым обогащению нашей культуры и укреплению ее авторитета как внутри страны, так и за рубежом». Ах, лукавцы!.. В действительности это сборник тенденциозно подобранных материалов и прежде всего предисловие к нему. Здесь нет и отзвука заботы о советской литературе, зато много неправды о ней… Особенности эти охарактеризованы так: «хроническая хвороба, которую можно определить как «боязнь литературы», «муторная инерция, которая вызывает состояние застойного, тихого перепуга» и как следствие — чуть ли не подпольное существование некоего «бездомного пласта литературы», «целого заповедного пласта отечественной словесности, обреченного на многолетние скитания и бездомность», который, как оказывается, и представляет этот альманах.
…Фактически перечеркивая всю современную советскую литературу, «Метрополь» заявляет, что вся советская литература находится в состоянии «тихого застойного перепуга». Но кто же из писателей находится в такого рода перепуге? Может быть, Айтматов, Симонов, Бондарев, Абрамов, Гранин, Распутин, Трифонов, Бакланов, Быков?.. И кто эти «бездомные скитальцы», казанские сироты советской литературы?.. Вполне преуспевающие наши писатели, включая Б. Ахмадулину и А. Вознесенского…»
Однако лукавцами, по мнению Полякова, были и те и другие.
«…В сейфе парткома хранилась огромная папка с ксерокопией «Метрополя». Ее разрешали читать лишь секретарям правления и партийному активу. Все читали и плевались, одни искренне, другие для вида. В основном тексты были по тем понятиям «непроходными». Например, дивная повесть Ф. Искандера «Маленький Наполеон большого секса» просто не вписывалась в тогдашние каноны изображения сталинской эпохи. Это как сегодня принести в журнал «Знамя» рассказ о постельных проблемах академика Сахарова и Елены Боннэр. Спустят с лестницы — и будут по-своему правы. Юз Алешковский, сочинявший, несмотря на солидный возраст, какую-то грязно-ребячливую чушь, уже уехал в Израиль, а значит, не мог быть опубликован по определению. Ахмадулина, по-моему, писала свою прозу про четырех собак в состоянии глубокого похмельного самонепонимания. «Молодые» Ерофеев и Попов в рассказах матерились с тем гордым азартом, какой бывает у шестиклассников, лишь недавно открывших для себя мир нецензурной брани. Я сам в ту пору уже набрасывал первые главы «Стадией до приказа» и вполне обходился без мата, хотя, согласитесь, при описании казарменной жизни это не так-то просто. Вполне укладывались в канон советской литературы стихи Вознесенского, но они к тому времени уже вошли в книжку, изданную «Советским писателем» и получившую Госпремию. Было ясно: ребята и не думают пробить в печать трудные тексты, а сознательно нарываются на скандал».
Это, кстати, отметил и бдительный Феликс Кузнецов, сам в недавнем прошлом «левый критик», своевременно мобилизованный и призванный партией в охранители. В той своей нашумевшей статье он писал:
«Помимо предисловия там еще и безоговорочный ультиматум возможным издателям: «Альманах «Метрополь» представляет всех авторов в равной степени. Все авторы представляют альманах в равной степени. Типографским способом издавать альманах в данном составе. Никаких добавлений и купюр не разрешается». Ничего себе условьице для успешного решения творческих возможностей советской литературы. <…> Не такая ли игра как раз и затеяна вокруг этого альманаха? Об этом говорит хотя бы тот факт, что составители принесли свой фолиант в писательскую организацию по просьбе секретариата уже тогда, когда текст альманаха, как выяснилось позже, вовсю готовился к набору в некоторых буржуазных издательствах за рубежом. Не успели составители дать клятвенное заверение в чистоте своих намерений, заверить своих товарищей по организации, что альманах не отправлен за рубеж, что буржуазные корреспонденты ничего не знают о нем, как буквально на следующий день на Западе началась пропагандистская шумиха вокруг «Метрополя»…»
«Сегодня, когда американцы гордо рассекретили материалы специальной операции, направленной на раскручивание скандала вокруг романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», смешно предполагать, что «Метрополь» появился сам собой, — рассуждает Поляков. — Вскоре вдохновитель альманаха В. Аксенов благополучно отбыл в Америку и стал одной из ключевых фигур тамошней антисоветской пропаганды. Обращает на себя внимание и формулировка «застойный испуг». Так ли уж случайно впоследствии слово «застой» распространилось на всю эту эпоху? Или «вербальные колья», которые предстояло вбить в «совок», затачивались уже в ту пору? Впрочем, известный русист Рене Герра свидетельствовал, что в русском зарубежье в ту пору «Метрополь» считали провокацией КГБ. В чем был смысл этой операции или контроперации советских спецслужб, видимо, еще предстоит разбираться специалистам. Но тот факт, что тогдашний начальник Пятого («антидис-сидентского») управления КГБ генерал Бобков оказался после 1991 года правой рукой банкира, медиамагната и лидера Всемирного еврейского конгресса Гусинского, наводит на грустные размышления».
В восьмом номере «Московского литератора» появились писательские отклики на «Метрополь» под шапкой «Порнография духа». Вот некоторые из них:
«Мы честно пытались разобраться с альманахом с точки зрения литературы. Это мусор, а не литература, что-то близкое к графомании» (Римма Казакова).
«Не могу представить себе американского читателя, который по доброй воле прочел бы весь этот альманах… Я уже не говорю о рассказах, например, Ерофеева, которые вообще не имеют никакого отношения к литературе» (Григорий Бакланов).
«Большая часть прозы альманаха вызывает ощущение стыда, раздражения, горькой неловкости за авторов, ибо отсутствует здесь чувство реальности и сообразности, чувство меры и умения распоряжаться словом» (Юрий Бондарев).
«Приступая к чтению альманаха, я и подумать не мог, что уровень представленных материалов столь невысок… Он заслуживает самого решительного морального, идейного осуждения…» (Евгений Сидоров).
«Утверждение авторов «Метрополя», что наша литература пребывает в состоянии некоего унылого «застоя», — бессовестная, беспардонная ложь» (Анатолий Алексин).
«В чем иллюзорность позиции авторов альманаха, вызвавшая наше глубое возмущение? В том, что они, по-видимому, не читают книг, не знают реальной нашей литературы, живут вымышленным миром, собственным величием, не знают, как далеко наша литература шагнула вперед, какие глубокие проблемы ею подняты. Побеждает в конечном счете гражданское начало, которое есть в прозе Распутина, Абрамова, Трифонова…» (Александр Борщаговский).
«Сборник, судя по стилю его редакционной передовой статьи, был адресован нашим идейным врагам за границей» (Борис Полевой).
Конечно, была своя правота и у участников альманаха, среди которых значатся выдающиеся личности — Владимир Высоцкий, Семен Липкин, Евгений Рейн, Виктор Тростников (ныне выдающийся православный просветитель), Фазиль Искандер, Инна Лиснянская, Андрей Битов. В их претензиях к состоянию современного литературного процесса было много справедливого. В самом деле, существовал целый ряд закрытых тем, сложности возникали и у писателей, искавших новые художественные формы, торить новые пути позволялось лишь немногим — в знак особого благоволения. Были свои претензии и у молодых авторов.
«Совершенно внезапно, — вспоминает Поляков, — я оказался в центре громкого литературного скандала, вышедшего за узкие рамки писательского сообщества. Звонили друзья, которых я не слышал годами, и спрашивали: «Ну, что там у вас с «Метрополем»? Не томи!» — «Ты-то откуда знаешь?» — «От верблюда! Все вражьи голоса только об этом и молотят!» Меня приглашали в интеллигентные дома на воскресный обед и подавали в качестве десерта как человека, своими глазами видевшего и даже читавшего запретный альманах. Объяснить им, что за исключением нескольких общеизвестных имен, там содержится литературный хлам, было невозможно: запретное по определению лучше доступного.
— А про что пьеса Аксенова?
— Я не понял.
— Да? Видимо, это что-то необыкновенное!
Внезапно выяснилось, что в откликах писателей допущена ошибка: в газете вместо «Григорий Бакланов» напечатано «Георгий». Из ресторана в партком влетел, бешено дыша, Юдахин. Под глазом у него багровел свежий синяк, по версии пострадавшего, он подвергся нападению адептов «Метрополя», как бывший самбист всех уложил, но один удар все-таки пропустил.
— Видели?! — закричал он, потрясая газетой.
— Угу, — сникли мы.
— Звоните Бакланову, надо опередить скандал…
Разумеется, звонить заставили самого молодого — меня. Я в витиевато-панических выражениях доложил о «досадной ошибке», но Григорий Яковлевич меня успокоил, теплым голосом рассказав, как, работая в газете, и сам иной раз сажал такие ляпы, что смешно вспоминать. «Кстати, а где, в каком материале вы меня перепутали? Я же ничего вам не давал…» — «В отчете об обсуждении «Метрополя», — с простодушием прощенного шалопая объяснил я. «В каком еще отчете?» — Голос Бакланова окостенел. — «Про «Метрополь». — «Но ведь мне сказали, что все останется для внутреннего пользования! Кто вам дал текст моего выступления?» — «Кузнецов…» — «Обманщик! Ему наплевать на чужую репутацию!..» О какой репутации говорил коммунист-фронтовик Григорий Бакланов, мне стало ясно гораздо позже: после 1991 года он стал президентом Российского отделения Фонда Сороса».
Работая в «Московском литераторе», Юрий все больше осваивался в сложносочиненном литературном мире, узнавал странные подробности о продвижении текста в печать. Неожиданно оказалось, что написать хорошие стихи — полдела. На пути к читателю и молодого и зрелого автора непременно подстерегают всевозможные совсем не творческие трудности. Вот как этот опыт отражен в эссе «Как я был поэтом»:
«По моим наблюдениям, встречаются два основных типа заведующих отделом поэзии — суровый и ласковый. Суровым был, например, заведующий отделом поэзии издательства «Молодая гвардия» Вадим Кузнецов. В ту пору шевелюристый, буйно-бородатый, он смотрел на входящего в кабинет робкого сочинителя, сурово надломив бровь. И твоя душа, жалобно позванивая невостребованными рифмами, уходила в пятки, где и пребывала во время знакомства, не сулившего ничего хорошего. Но, как ни странно, с суровым можно было в конце концов договориться. А вот если заведующий отделом поэзии источает ласку, медово улыбается и не дай бог называет вас «миленьким» или «лапочкой», как Натан Злотников из «Юности», — можно не сомневаться: ваши стихи он не напечатает никогда… Меня выручила тема: в ту пору стихов с искренней, но непрямолинейной симпатией к армии почти не сочиняли. На память приходит разве что Павел Калина:
Я пришел из армии сержантом, Как и полагается хохлу…В те годы существовала система, которую образно называли «взаимным опылением». Поэты, работавшие, скажем, в журнале, печатали поэтов, служащих в издательствах. И наоборот. Такая вот круговая взаимопомощь. Вступить в этот круг было непросто. Конечно, лучше всего — устроиться на хорошую литературно-издательскую работу. Но как? Нужно иметь связи, лучше — родственные. Правда, были возможны и другие способы проникновения в вожделенный круг. Один молодой поэт, например, завел подружку в меховом ателье и буквально закидывал влиятельных писателей прекрасными ондатровыми шапками. В долгу они не оставались: стихи этого шапкозакидателя регулярно появлялись в печати. Кстати, исчезновение в нашем отечестве дефицита меховых изделий он не пережил и исчез из литературы навсегда. Другой, бывший футболист, имел домик на крымском побережье, предоставлял его сильным поэтического мира и тоже возникал таким образом на страницах. Третий, начинающий драматург, для одного знаменитого театрального ленинописца организовывал у себя на квартире вечеринки с девушками. Тем и жил…
Тогда, конечно, казалось, что все это взаимное опыление, все эти мерзости окололитературного приспособленчества — органическое порождение «проклятого совка». Но сейчас, окидывая мысленным взглядом литературные просторы постсоветского отечества, я снова и снова убеждаюсь в том, что закон взаимного опыления не только не исчез, а окреп, разветвился и даже приобрел глумливую рыночную откровенность. И если в 70-е годы вхождение в литературу человеку без связей облегчала, как, скажем, мне, активная общественная работа, то с конца 80-х молодым поэтам помогало уже участие в андеграунде или даже диссидентство. В сущности, та же общественная работа, только с иным идеологическим знаком. <…>
О разных организационно-бытовых хитростях, позволяющих побыстрее вскарабкаться на Парнас, можно говорить бесконечно. Но никого еще ни услуги, оказанные власти, ни борьба с ней, ни женитьба на дочке классика, ни срочная сексуальная переориентация, ни что-либо иное не сделали поэтом. Человека, даже чрезвычайно удачливого и предприимчивого, поэтом, извините за трюизм, могут сделать только стихи…»
Весной 1979 года Юрий Поляков стал участником VII Всесоюзного совещания молодых писателей, оказавшись в семинаре у тех же мэтров — Риммы Казаковой и Вадима Кузнецова. Такие совещания проходили обычно в течение одной рабочей недели. Это были представительные творческие форумы, созывавшиеся под эгидой ЦК ВЛКСМ и Союза писателей СССР. На них съезжалась талантливая молодежь, представлявшая почти все народы и национальности огромной страны. Если прозаики или поэты писали только на родном языке, к совещанию готовились подстрочники, по которым и проходило обсуждение. Все участники разбивались на семинары по 10–15 человек, и эти семинары проводили маститые, известные всей стране писатели, поэты, критики, причем работали они подвое, иногда и по трое, — видимо, д ля большей объективности. На каждом семинаре в качестве так называемого литературного секретаря присутствовал представитель издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», как правило, молодой сотрудник, который тщательно протоколировал заседания и по рекомендации мэтров фиксировал, кто из молодых уже заслуживает отдельной книги, а кто — публикации в периодике. Юрия Полякова отметили именно в первой категории, и на закрытии совещания, проходившем в конференц-зале гостиницы «Юность», главный редактор издательства «Молодая гвардия» Николай Петрович Машовец вручил ему договор на поэтический сборник «Время прибытия» в серии «Молодые голоса». Книгу обещали выпустить молнией — в течение нескольких месяцев, что при размеренной неторопливости советских издательств было большой редкостью. Мгновенно выходили только материалы пленумов и съездов КПСС в Политиздате, ну и съездов ВЛКСМ — в «Молодой гвардии».
На том совещании впервые зримо оформилось поколение поэтов, рожденных в 1950-х. Из самых-самых следует назвать Николая Дмитриева, Александра Щуплова, Геннадия Красникова, Татьяну Бек, Галину Безрукову, Евгения Юшина, Анатолия Пшеничного, Юрия Кобанкова, Олега Хлебникова.
По итогам совещания стихи Полякова появились во многих центральных изданиях, прозвучали по радио, а знаменитая и очень влиятельная поэтесса Юлия Друнина написала о нем в «Литературной газете», особо отметив и процитировав стихотворение «Ответ фронтовику». «Пока критики спорят, имеют ли молодые право писать о войне, они пишут вот такие стихи, — отмечала Друнина. — Запомнила их сразу и навсегда».
«Римма Казакова, которая при советской власти прекрасно ко мне относилась, сказала после обсуждения моих стихов на Всесоюзном совещании: «Посмотрите на этого мальчика, это сидит наш будущий Георгий Мокеевич Марков», — вспоминает Поляков. — Если без шуток, я в перспективе для подобной руководящей должности подходил по всем статьям: из рабочей семьи, стихи идейно выдержанные, кандидат в члены КПСС. И реальные организаторские способности, что редкость для писателя. Мечта советской власти! Шел 1980 год. Мне было двадцать пять…»
Первая книга, «Время прибытия», вышла в начале 1980-го. Всего один печатный лист, 30 страничек, 42 стихотворения. Сегодня, перечитывая сборничек, отмечаешь, с какой тщательностью подобраны стихи, как до мелочей продумана композиция. Видна и редакторская работа: по сравнению с напечатанными в периодике вариантами убраны кое-какие неточности и шероховатости. Вот как об этом эпохальном событии вспоминает автор:
«Это сейчас наличие книжки ничего почти не значит, а тогда — в период жесткой регламентации печатной продукции — ты мгновенно превращался в совершенно особое существо. И даже если эта книжка была не толще двухкопеечной тетрадки, ты переходил в иной разряд человечества. Теперь ты был Поэт-С-Книгой. И если на первом свидании ты дарил девушке свою книжку с дарственной надписью, это производило на нее такое же впечатление, как если бы сегодня ты достал из барсетки толстенную пачку долларов и предложил ей тут же, не заезжая домой, лететь на Канары…
Тираж моей первой книжки, кстати, был не маленький — 30 тысяч, а распространение было налажено так, что, прибыв как-то на Сахалин и зайдя в сельпо, я обнаружил там свой сборничек среди круп, спичек и банок консервов. Да, стихи тогда еще читали, и я даже получил множество писем от поклонников. Начальство, самое высокое, тоже следило за поэтическим процессом. Помню один страшный скандал, потрясший без преувеличения всю отечественную словесность. «Московский литератор», выходивший мизерным по тем временам тиражом — две тысячи экземпляров, в 1979 году напечатал стихи Феликса Чуева, вроде бы совершенно невинные:
Синее небо средь желтых берез, Тонкий виток паутинки, Алая память негаснущих роз, Лето и стынь в поединке… И никогда я к тебе не вернусь, Не повторюсь, отгорю я В жизни твоей. Так зеленую грусть Солнце палит поцелуем. Если бы в детстве во мне не погас Редкостный дар непрощенья, Душу свою я б не мучил сейчас — Цель, недостойную мщенья. Если б тот редкостный дар не погас!..И вдруг Юдахина вызвали на Китайский проезд, в Главлит, к главному цензору страны! Вернулся он оттуда в ярости, переходящей в суицидальное отчаяние. Оказалось, невинная чуевская элегия на самом деле была дерзким политическим акростихом. Прочитайте первые буквы строчек сверху вниз. Получается «Сталин в сердце». Вопросы есть? Скандал замяли, но с тех пор, прежде чем подписать номер в печать, Юдахин сурово спрашивал:
— Акростихи есть?
— Нет! — твердо отвечали наученные горьким опытом сотрудники.
Уверен, то же самое вплоть до перестройки делали все главные редакторы на бескрайних просторах нашего отечества… А Чуев ходил героем и нисколько не пострадал. Да и в самом деле: как можно наказать человека за то, что у него Сталин в сердце?»
После Юдахина газету возглавил Сергей Мнацаканян, с которым Юре уже доводилось вместе работать, пусть и на общественном поприще. Вспоминая это время, Поляков отмечает, что Мнацаканян, поэт глубокой культуры, чрезвычайно помог ему в годы его литературного становления.
«Мне понравились многие черты моего молодого — для меня тоже еще совсем молодого — товарища и поэтического собрата, — рассказывает Сергей Мнацаканян. — Уже тогда проявились несколько его редких качеств: верность дружбе, хотя друзья подводили и предавали его в течение десятилетий, настойчивость и необыкновенная работоспособность».
Первой книге было предпослано предисловие все того же Владимира Соколова. Теперь он писал так: «Со стихами Юрия Полякова я познакомился недавно, четыре года назад… Тогда же я как старший собрат по перу порадовался, что у этого поэта все вовремя: и молодость мысли, и молодость формы, и молодость возраста… Мне нравится читать стихи Ю. Полякова и еще нескольких его ровесников, потому что они плотью и кровью своей восприняли и продолжают воспринимать лучшие достижения русской классической и советской поэзии, где нравственность с формой неразрывны: «…стать добродетельней и выше!»
Ю. Поляков, когда появилась его первая основательная публикация (в «Московском комсомольце». — О. Я.), окончил институт и уходил в ряды Советской армии. За это время обострилось чувство любви, природы, дружбы. Особенно глубоко осозналась, как это всегда бывает в первой молодости, единственность всего, что тебе дается в жизни:
Конечно, счастье — это тоже тяжесть. И потому чуть сгорбленный стою. Не умер бы я, с ней не повстречавшись, И жизнь бы прожил. Только не свою!Но ведь если поэт хочет «прожить только свою жизнь», он не только намерен, но и обязан быть самобытным… Размышляя о поэзии молодых, я думаю, сколько в ней свежести чувств, как они, хоть и не всегда, да умеют, как представляемый мной поэт, естественно сочетать живое движение природы и живое движение души: «Наши тела, порывы, помыслы и слова — все быть должно красиво, как дерева…»
Стихи Ю. Полякова отличаются остротой поэтической мысли, стремлением взглянуть на привычное по-новому, я думаю, что они вызовут интерес у широкого читателя».
Вот как, в обычной своей иронической манере, излагает историю этого предисловия сам Поляков:
«…Набравшись наглости, я позвонил, попросил у Владимира Николаевича еще одно, теперь второе предисловие, но он, к моему удивлению, согласился: «Приезжайте скорее!» Вскоре мы сидели на кухне его квартиры в Безбожном переулке, он диктовал, а я записывал. Чем-то я ему нравился. Но, собираясь к нему, я заробел и для храбрости захватил с собой двух друзей-медиков, а они — бутыль казенного спирта, настоянного на лимонных корках. К вечеру домой вернулась жена поэта Марианна, она отругала мужа и разогнала пьяные посиделки. Объяснить ей, что собрались мы с уважительной целью — сочинить предисловие молодому дарованию, никто не смог: спирта было слишком много. На следующий день я позвонил, чтобы извиниться.
— А, Юра! — обрадовался Соколов. — Славно мы вчера… — Но вдруг запнулся и продолжил грозным механическим голосом: — И больше мне никогда не звоните!
Я пришел в ужас, тосковал целый день, крепко выпил с горя, но вечером позвонил Соколов и торопливо разъяснил:
— Все нормально! Просто в комнату вошла Марианна…..Мы дружили до самой его смерти в 1997 году. Работая на «Семейном канале», я с режиссером Розой Мороз сделал фильм «Мастер и Марианна», где рассказал, кстати, и эту забавную историю.
Мне с товарищами выпало хоронить замечательного поэта, я до сих пор помню, как мелкий снег падал на его мраморное лицо и не таял… Незадолго до кончины Соколова я, как бы возвращая долг, издал со своим предисловием последнюю его прижизненную книжку «Стихи Марианне». Жизнь любит опоясывающие рифмы… В моем — ответном — предисловии, носящем название «Классик», есть и такие слова: «Классический поэт — всегда «ловец человеков», точнее, человека. И этот единственный человек — он сам. Для того мучительно и вяжется небесная сеть стихов, ибо она способна уловить мятущуюся, ускользающую, любящую душу, а вместе с ней и дух своего народа, и эпоху, в коей довелось жить поэту. Для классика традиция — не груда обломков, превращенная в пьедестал, но ступени, по которым происходит тяжкое восхождение к себе. Только тому, кто постигает себя, интересны другие, интересно то, что «за стихами». Родной язык для классика — не распятое лабораторное тельце, дергающееся под током натужного эксперимента, но теплая кровь, струящаяся в строчках живого стихотворения. Классик обречен на гармонию. Наверное, поэтому, стараясь понять Соколова, критика некогда относила его к «тихой поэзии», но если слово «тихий» и подходит к нему, то лишь в том смысле, в каком это слово подходит к названию океана…»
В статьях и выступлениях Поляков всегда тепло говорил о своем учителе, вместе с вдовой поэта, Марианной Соколовой-Роговской, председательствовал на юбилейных вечерах в Доме литераторов, где читал из Соколова любимое:
Упаси меня от серебра И золота свыше заслуги. Я не знал и не знаю добра Драгоценнее ливня и вьюги. Им не нужно, чтобы был другой, Чтоб иначе глядел год от года. Дай своей промерцать сединой Посреди золотого народа. Это страшно — всю жизнь ускользать, Убегать, уходить от ответа, Быть единственным, а написать Совершенно другого поэта.…………………..
<…> Последние лет двадцать Владимира Соколова звали за глаза «классиком» — все понимали, что он один из немногих поэтов, которые будут представлять российскую литературу XX века в третьем тысячелетии. Это понимали даже выстраиватели советских литературных иерархий: Соколов был лауреатом Государственной премии СССР. Вроде бы не оспаривали это и устроители поминок по советской литературе: Владимир Николаевич стал первым лауреатом возрожденной Пушкинской премии. Он никогда не занимался политикой — только поэзией, что в период торжества партийности литературы строго не приветствовалось. Но ему, Соколову, прощалось. За талант. Тяжко выговорить, но уйди он из жизни тогда, лет десять назад, государство на его могиле поставило бы достойный памятник, а на стене дома в Лаврушинском переулке уже давно висела бы мемориальная доска. Бог отпустил Соколову иной срок… Поэт со своими жизненными и творческими принципами почти десятилетие прожив в новой, постсоветской эпохе, не старался ухватиться за сучья противоборствующих ветвей власти, не участвовал в президентских кампаниях. Он просто служил великому русскому слову. С тем и ушел… И что же? О том, как трудно жил поэт в последние годы, как всем миром собирали деньги на похороны, — умолчу: слишком свежи воспоминания. Мемориальная доска? Доски на домах в Москве теперь вообще не в чести, хотя любая «цивилизованная» европейская столица отличается прежде всего обилием памятных знаков, связанных с деятельностью выдающихся людей. Памятник на могиле? Все попытки комиссии по литературному наследию добиться от государства средств на установку надгробия окончились безрезультатно. Памятниками нынче расторопно придавливаются криминальные авторитеты, павшие в разборках и перестрелках. Пламенному борцу с застоем, успевшему вовремя сжечь партбилет, казенный мрамор тоже обеспечен. Какому-нибудь «реформатору», попавшему под горячую руку голодным шахтерам, на памятник деньги нашли бы. Соколову не нашли…
(Из неопубликованного. «Книга о советской юности»)…………………..
Заметим, что наше время оказалось особенно жестоким именно к поэтам: в 1990-е поэзию почти не печатали, и только в 2000-е она стала пробиваться к читателю, растеряв по дороге многие значимые имена: лет через десять после этого некролога стихи Владимира Соколова появились в серии «Забытые поэты».
Как хорошо, что «нам не дано предугадать», как это гуманно на самом деле!
Зато Владимир Соколов не ошибся: первая книга Полякова была замечена, вызвала отклики в печати, доброжелательные, но сдержанные, в духе времени. Критик А. Хворощан отмечал: «Именно эта интимная психологическая сторона времени остро осознается автором и находит рельефное выражение в его стихах». В том же духе высказался известный и влиятельный в ту пору критик Ю. Болдырев: «…Он не сопереживает, он переживает прожитое им — только так мне видится то, что привело его к большой удаче…» Вскоре «за лучшую первую книгу молодого автора» Поляков был удостоен Государственной премии РСФСР им. М. Горького.
1980-й был для Юрия необычайно успешным: зимой подборка его стихов вышла в «Знамени» — одном из семи толстых журналов, которые во многом определяли литературную атмосферу в стране. У каждого из них, будь то «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов», «Юность», «Москва» или «Наш современник», была своя, и немалая, аудитория, свежие номера непременно были представлены в библиотеках страны, и на них там выстраивалась очередь: их выдавали по записи. Так что эта публикация была безусловно знаковым событием.
В том же 1980-м за цикл стихов о Великой Отечественной «Непережитое» Поляков получил на Всесоюзном фестивале молодых поэтов братских республик свою первую литературную премию — имени Маяковского, за которую ему в буквальном смысле пришлось подраться. Вот как сам он об этом вспоминал:
«Во-первых, жюри было искренне растрогано тем, что паренек, родившийся в 1954-м, пытается своим мирным разумом освоить горчайший духовный опыт «стихотворцев обоймы военной». А во-вторых, на фестивале поэзии, проходившем в Кутаиси, имел место невольный, как теперь сказали бы, пиар. Разгоряченные молодым вином два молодых поэта, я и Юрий Гречко из Краснодара, тоже сочинявший про армию, заспорили о художественном уровне какой-то строчки — то ли его, то ли моей. В результате образовалась шумная драка, унимать которую сбежалось все начальство. В общем, члены жюри были настолько очарованы нашей преданностью поэтическому призванию, доходящей до рукоприкладства, что дело кончилось не выговором по комсомольской линии, а премией. Во всяком случае, для меня».
Председателем жюри, кстати, был украинский поэт и публицист Виталий Коротич, поминавший через слово мудрую КПСС и буквально излучавший советский патриотизм вкупе с пролетарским интернационализмом…
Особенно членов жюри поразило стихотворение Полякова «Сон» с эпиграфом из Арсения Тарковского: «Как я хотел вернуться в «довойны» — / Предупредить, кого убить должны…», таким оно было неожиданным для представителя этого молодого поколения.
Что я могу перед такой бедою?! Могу — кричать, в парадные стучась. — Спешите, люди, запастись едою И завтрашнее сделайте сейчас! Наверно, можно многое исправить, Страну набатом загодя подняв! Кто не умеет, научитесь плавать — Ведь до Берлина столько переправ! Внезапности не будет. Это — много. Но завтра ваш отец, любимый, муж Уйдет в четырехлетнюю дорогу, Длиною в двадцать миллионов душ. И вот еще: враг мощен и неистов… — Но хмыкнет паренек лет двадцати: — Мы закидаем шапками фашистов, Не дав границу даже перейти!.. — А я про двадцать миллионов шапок, Про все, что завтра будет, промолчу. Я так скажу: — Фашист кичлив, но шаток — Одна потеха русскому плечу…«Помню, в Доме литераторов ко мне подошел один из лидеров нашего поэтического поколения Андрей Чернов, автор знаменитых строчек:
Не ходите по лужам, Ведь в них отражается небо! Так зачем же по небу, По чистому небу — в галошах?!Он только что открыл рифму в «Слове о полку Игореве» и держался от нас особняком, с особым достоинством, намекая на свое родство с декабристом Черновым. Подошел и сказал, посмотрев на меня с удивлением: «Знаешь, раньше ты был просто Юра Поляков, а теперь ты тот самый Поляков, который написал про двадцать миллионов шапок. Поздравляю!»
Вообще, в литературу я вошел очень легко… Я не испытывал сопротивление системы, наоборот: система, всеми существовавшими тогда структурами, мне помогала. <…> Меня как бы подхватила эта волна и внесла в литературу. Почему? Наверное, чувствовала во мне союзника. Я и в самом деле был искренне уверен, что наша тогдашняя жизнь нуждается в капитальном ремонте, но никак не в сносе…»
Осенью 1980-го свершилось еще одно знаменательное событие: 26 сентября Наташа родила дочку, которую назвали Алиной. Это были для Юрия новые, прежде незнакомые чувства и волнения, новая ответственность и новые радости. Конечно, теща, Любовь Федоровна, помогала как могла: с удовольствием нянчилась с малышкой, давая передохнуть молодым родителям. Они с внучкой испытывали друг к другу нежную привязанность, и спустя много лет Алина назвала ее именем свою дочку, в честь бабушки. Но и на молодого папу тоже легли новые заботы. «Некоторые свои стихи в ту пору я сочинил в очереди за молочком около пункта детского питания на Домодедовской улице. Или прогуливаясь с коляской…»
Сегодня у меня семейный вид! Иду— смотрю по сторонам с опаской: Я не один, я с детскою коляской, В которой, улыбаясь, дочка спит. И все тревоги моего пути Вам, папы, мамы, хорошо знакомы: Преодолеть колдобины, подъемы, Внимательно дорогу перейти… Усилие — подъем внезапно крут, Усилие — бригада яму рыла. Усилие… А может быть, та сила, Что движущей в истории зовут? («С коляской». 1981)В этом стихотворении заметна изменившаяся строфика стихов, здесь появилась «лесенка», ранее для Полякова нехарактерная. Видимо, отцовская ответственность налагает особый отпечаток на поэтов, тем более что в издательствах платили за каждую строчку, даже если это была «ступенька».
* * *
Для страны и мира годы вхождения в литературу поэта Полякова, как водится, тоже были бурными.
В 1970-е все мы дружно болели за хоккейную сборную СССР во время серии матчей с канадскими профессионалами; переживали гибель президента Альенде и жестокое убийство военной хунтой его сторонника, поэта и коммуниста Виктора Хары; смерть Василия Шукшина, отъезд из СССР Виктора Некрасова, Владимира Максимова, Мстислава Ростроповича, Галины Вишневской, высылку Александра Солженицына; страшные вести из Кампучии об итогах правления Пол Пота, который за четыре года истребил треть населения страны; взрывы в Москве и суд над «дашнаками»; зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде; перенос столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим; появление в Польше радикального профсоюза «Солидарность»; приход к власти в США «ястреба» — так называли его в советской прессе — Рональда Рейгана; смерть Владимира Высоцкого и убийство Джона Леннона, случившиеся в один и тот же год — 1980-й, год проведения Олимпиады в Москве.
Главным событием стал, конечно, ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979-го. Мировое сообщество дружно осудило Советский Союз, отношения СССР и США надолго испортились. В итоге Запад решил бойкотировать московскую Олимпиаду. Летом 1980-го на XXII летние Олимпийские игры в Москву принципиально не приехали команды из 65 стран. Правда, политика вторгалась в олимпийское движение и прежде, и потом: Олимпиаду в Монреале в 1976-м бойкотировали 29 стран Африки, в 1984-м Олимпийские игры в Лос-Анджелесе проигнорировали команды социалистических стран.
Готовясь к играм, в Москве реконструировали и построили 78 объектов, в том числе спортивный комплекс «Олимпийский»; крытый велотрек в Крылатском; кольцевую велотрассу на Крылатских Холмах; конноспортивный комплекс в Битцевском лесопарке; Дворец спорта «Динамо» на улице Лавочкина; терминал № 2 аэропорта «Шереметьево»; гостиницу «Космос»; гостиничный комплекс «Измайлово»; Олимпийскую деревню; новый корпус телецентра «Останкино»; Олимпийский пресс-центр на Зубовском бульваре (ныне — здание РИА «Новости») и т. д. Даже крупнейший сохранившийся памятник позднего барокко в Москве, одно из немногих сохранившихся творений архитектора XVIII века Дмитрия Ухтомского — храм Никиты Мученика на Старой Басманной, на куполе которого выросли деревья и в котором помещался в те годы склад, отреставрировали — правда, на скорую руку. Кстати, в соседнем доме с января 2016 года располагается редакция «Литературной газеты».
Для обеспечения безопасности въезд в столицу был ограничен, в том числе на личных автомобилях, отменены экскурсии, а шедшие через Москву поезда направлялись по объездным маршрутам. За 101-й километр из города выслали лиц с уголовным прошлым и хулиганов. Дружинники вместе с сотрудниками органов внутренних дел почти круглосуточно патрулировали непривычно пустые улицы.
Первое место в командном первенстве, в отсутствие спортсменов из США, Канады, Японии, ФРГ и Китая — традиционно самых сильных на Олимпиадах, — заняла советская сборная, второе — команда ГДР.
Талисманом игр стал олимпийский Мишка, которого придумал иллюстратор детских книг Виктор Чижиков. Всем запомнилось закрытие, когда у Мишки, составленного из цветных щитов сидевшими на трибунах участниками шоу, из глаза выкатилась слеза. Но особенно волнующим было мгновение, когда еще один Мишка, помахав на прощание лапой и держась за воздушные шары, поднялся в небо, под песню Пахмутовой и Добронравова «До свиданья, Москва».
Отголоски пережитого в те дни мы находим в прозе Полякова.
…………………..
Гена в предпоследний день Олимпиады отбывал в Красноярск на слет журналистов — его наградили за очерк о молодых гвардейцах пятилетки в «Московском комсомольце». Сибиряки, возвращавшиеся домой, горевали, что в оцепленную пятью кордонами Москву народ пускали только по паспортам с пропиской и специальным вкладышам, лишив счастья видеть олимпийский огонь. Счастливцы, видевшие атлетическое пламя, рассказывали об этом с эпической дрожью в голосе. Когда взлетели с Домодедовского аэродрома, Гена заметил в иллюминаторе полоскавшийся во тьме газовый факел Капотни, улыбнулся и крикнул:
— Олимпийский огонь!
— Где? — Лишенцы переметнулись на правый борт.
— Да вон же!
Самолет опасно накренился, стюардессы заметались по проходу, но сибиряки были счастливы:
— Он! Он! Горит! Теперь и умереть можно.
(«Любовь в эпоху перемен»)…………………..
Так случилось, что в дни Олимпиады умер Владимир Высоцкий, актер и автор-исполнитель песен под русскую семиструнную гитару, непризнанный поэт, песни которого слушали буквально в каждом доме. Высоцкий впервые запел в фильме своего друга Станислава Говорухина «Вертикаль» (1967), сразу снискав огромную популярность. В Театре на Таганке, где служил много лет, он сыграл десятки ролей, в том числе своего звездного Гамлета в нашумевшем спектакле. В кино самыми запомнившимися стали последние работы: Жеглов в сериале «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина и Дон Гуан в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера.
Сообщили о смерти Высоцкого только «Вечерняя Москва» и «Советская культура». Вся его беспокойная жизнь, с алкоголем, наркотиками, женщинами, Парижем, синим «мерседесом», фильмами, спектаклями и полулегальными концертами за большие деньги, показывала, насколько он был свободен при нашей зарегламентированности. И при этом он оставался советским человеком. Рассказ про бурную реакцию Высоцкого на ломящиеся полки немецких магазинов — это не история про одуревшего от колбасного изобилия «совка». Как вспоминала Марина Влади, для Высоцкого стало шоком не само изобилие, но тот факт, что побежденные живут настолько богаче и сытнее, чем их победители в Великой войне, и он переживал это как жесточайшую несправедливость.
Олимпийская столица была пуста, многие москвичи по случаю Олимпиады взяли отпуск и уехали с семьями отдыхать, приезжих без командировочного удостоверения в город вообще не пускали. Тем не менее у Театра на Таганке собралась огромная печальная толпа.
Не все происходившее затронуло Юрия одинаково: Афганистан стал для него, тогда критичного по отношению к руководству страны, новым подтверждением необходимости перемен:
Мы не раз вызволяли народы из тьмы, За полком посылая полк. Пол-Европы засеять своими костьми — Интернациональный долг!Олимпиада для него, мало интересовавшегося спортом, прошла почти незаметно: постоянно востребованный, он везде еле поспевал. Но все же потом сказал: «Именно в дни Олимпиады я понял, что бывают магазины без очереди, улицы без мусора, а милиционеры без хамства». Как тут не вспомнить тогдашний популярный анекдот: «В 1980-м, вместо обещанного Хрущевым коммунизма, провели Олимпиаду».
О Высоцком, вскоре после смерти барда, у него сложились стихи, которые автор не спешил публиковать.
Я был к нему не то что равнодушен, А мягко выражаясь, не влюблен. Вино, табак, товарищеский ужин… Высокий спор. В углу магнитофон. О Бродском, о Камю, об озаренье С пиитом дискутирует пиит, Не слыша, как в предвечном озверенье Похмельный гений песенки хрипит. («Высоцкий». 1984, 2014)Как многие профессиональные поэты, тот же Вознесенский или Евтушенко, Юрий Поляков относился к текстам Высоцкого как к некой особой «суб-поэзии», достигающей художественного эффекта лишь в сочетании с музыкой и неповторимой манерой исполнения. Отчасти это было справедливо, и лишь постепенно приходило понимание того, что феномен Высоцкого гораздо шире рамок «стихотворного цеха». Это общенациональное культурное явление. Позднее иронию сменили более объективные и приязненные чувства. Недаром один из героев «Гипсового трубача» — Вова из Коврова — ярый поклонник Высоцкого, описанный автором весьма сочувственно. Пронзительные страницы в романе посвящены сложной любви барда к Марине Влади, в девичестве, между прочим, Поляковой. Ну а в публицистике он обращался к фигуре Высоцкого неоднократно, например в статье 1997 года «Не возвращайтесь, Владимир Семенович!», напечатанной в «Собеседнике».
…………………..
В предъюбилейные недели часто приходилось слышать с экрана и читать в прессе единообразные сетования типа: «Эх, Высоцкого бы сейчас!» Даже юбилейный концерт прошел под эпиграфом «Я все-таки вернусь!». Лично мне трудно себе представить сегодняшнего Высоцкого. И не потому, что я не могу вообразить шестидесятилетнего Владимира Семеновича. Очень даже могу: такие люди в сути своей, в нравственной и социальной энергетике обычно не меняются до последнего часа, даже если уходят глубокими старцами.
Но именно поэтому-то я и не могу представить себе Высоцкого в нашей нынешней жизни. Кто-то способен, устав от тщательно просчитанного гитарного вольномыслия, заняться телевизионной стряпней. Кто-то, взгромоздясь на обломках страны, может как ни в чем не бывало дребезжать свои похожие на одну бесконечную макаронину постмодернистские тантры. Кто-то рад, истомившись в худосочном андеграунде, весело подхарчиться в рок-агитке «Голосуй или проиграешь!». Но Высоцкий? Неужели и он бы?.. Надрывная, испепеляющая искренность — вот что сделало его властителем душ целого поколения. Его сегодня пытаются изваять борцом с коммунистическим режимом. Ерунда! Просто у человека с обостренным чувством справедливости всегда, с любой властью будут особые счеты. Да, его, как и всех нас, бесила прокисшая идеология, облаченная в номенклатурное финское пальто и сусловский каракулевый пирожок. А вы думаете, он бы сегодня был в восторге от очередного пресс-секретаря, который, отводя рыскающие глаза от объектива, расхваливает несмышленому народу свежий политический ляпсус? Да, его возмущали танки в Праге. А вы полагаете, он обрадовался бы танкам у Белого дома? Да, его унижало положение советской культуры, бегающей на коротком поводке у соответствующего отдела ЦК. А вы уверены, что ему пришлась бы по душе постсоветская культура, роющаяся, как выгнанная из дому собака, по помойкам и фондам? Да, его, выросшего в послепобедной Москве в семье офицера-фронтовика, возмущала официальная полуправда о Великой войне. Но, уверен, он бы до зубовного скрежета ненавидел тех, кто рассуждает сегодня о коммуно-фашизме, по странной прихоти истории победившем национал-фашизм, презирал бы тех, кто с высот общечеловеческих ценностей плюет на распатроненную нашу нынешнюю армию. Да, он умел посмеяться над дикостями железного занавеса. Но едва ли ему понравилась бы нынешняя торговля страной на вынос и на выброс.
Высоцкий прекрасно сыграл презиравшего ворье сыщика Глеба Жеглова. И мне трудно вообразить Владимира Семеновича поющим перед разомлевшими кирпичами, фоксами и горбатыми (не путать с Горбачевым!), которые обзавелись теперь «мерсами» и «мобилами», расселись не по тюрьмам, а по банкам, министерским и парламентским креслам. Я не представляю себе Высоцкого нахваливающим на президентской кухне котлеты Наины Иосифовны. Я не представляю себе Высоцкого на обжорной презентации в то время, когда голодают учителя и шахтеры. Я не представляю себе Высоцкого в новогодней телетусовке где-то между оперенным Б. Моисеевым и смехотворным Г. Хазановым. Не представляю…
Или же просто боюсь себе представить Высоцкого в наше время, когда говорить, писать, петь, орать правду, может быть, и не так опасно, как прежде, зато совершенно бесполезно! Не возвращайтесь, Владимир Семенович! Не надо…
…………………..
* * *
Следующий, 1981 год оказался не менее насыщенным. Начался он с неприятностей. В издательстве «Современник» готовилась вторая книга стихов «Разговор с другом», из которой цензура в последний момент сняла стихотворение «Монолог расстрелянного»:
Я был расстрелян в сорок первом: Невыполнение приказа! Я был, я мог бы быть средь вас. Раздался залп, я умер сразу, Но был неправильный приказ. И тот комбат, его отдавший, В штрафбате воевал потом, Но выжил, выдержал и даже Потом командовал полком. Тут справедливости не требуй, Война — не время рассуждать. Не выполнить приказ нелепый Страшнее, чем его отдать. Но, стоя у стены сарая, Куда карать нас привели, Я твердо знал, что умираю, Как честный сын своей земли.«Стихотворение цензура сняла прямо из верстки, за потерю бдительности редактору Александру Волобуеву объявили выговор, и он от огорчения слег с сердечным приступом, а книга вышла гораздо меньшим тиражом, нежели планировалось: 10 тысяч вместо 30. Меня вызвали куда следует и пожурили. Но пожурили, как я заметил, с какой-то странной симпатией. Бодаться с советской идеологией становилось делом модным и перспективным…» — написал позднее Поляков в эссе «Как я был поэтом».
Надо сказать, что его не только пожурили, но, что называется, наказали рублем: тогда за тиражность автору платили дополнительно, и в данном случае сумма, которой он не получил, была очень весомой, тем более для молодой семьи, примерно полторы тысячи рублей. Между тем стихотворение было искренней и безыскусной попыткой говорить о тех правдах, из которых складывалась история страны и отдельного человека.
«Я высказался не так, как положено, и мне вдули, — вспоминает об этом эпизоде Поляков. — Но я отнесся к этому совершенно спокойно, не воспринимал случившееся как наезд системы на молодого поэта, и мне в голову не приходило представлять эту историю как мою борьбу с режимом. Это был несчастный случай! Позднее в редакционной работе у меня не раз такое бывало — случались материалы, за которые мне вдували. Или я вдувал. Между тем в моем поколении были ребята, которые за одно снятое стихотворение или сниженный тираж потом всю жизнь люто ненавидели советскую власть… Тот же Макаревич в каждом интервью вспоминает, как ему, молодому музыканту, отказали предоставить для концерта зал в центре Москвы, а только на окраине. Кошмар! Разве имеет такая власть право на существование?!»
Весной 1981-го закончился кандидатский срок, и Полякова приняли в партию. Рекомендацию ему дали два поэта-фронтовика, Виктор Федотов и Виктор Кочетков, секретарь парткома Московской писательской организации. Человек сложной судьбы, Кочетков побывал в плену, а потом и на поселении, но обиды не затаил и на вещи смотрел широко. К собратьям по перу относился сердечно, помогал, чем мог. Вот его стихотворение из книги «Материнское окно»:
…Танки ушли в переплавку, Пушки в музеи сданы. Жили мы бедно и славно, Витязи новой страны. Были и слово и дело, Вызнало тяжесть плечо. Время мое поседело. Не постарело еще. С нынешней смотрят страницы — Брови тугой тетивой — Косарев мой узколицый, Мой Недогонов живой.Когда Юрий выступал на партийном собрании с отчетом о проделанной за год работе (обязательное условие для перевода из кандидатов в полноправные члены), он рассказал и о только что законченной повести «Сто дней до приказа». Товарищи сочли поднятые проблемы «дедовщины» важными и единодушно проголосовали «за» публикацию, зафиксировав это в протоколе. Партбилет Юрий получил из рук первого секретаря Краснопресненского РК КПСС Козырева-Даля, впоследствии активного либерала. Позднее Поляков напишет: «Я из КПСС не выходил, просто партия самораспутилась, точнее, позволила себя распустить, что, в сущности, одно и то же. И никто не вышел на баррикады. Я, кстати, тоже…»
Как человек, хорошо изучивший законы советского социума, Юрий, конечно, понимал, что без связей и партбилета серьезно продвинуться в гуманитарной сфере много труднее. С другой стороны, с юношеской самонадеянностью (отнюдь не прагматической) он считал, что может повлиять на систему своей честной писательской позицией. А потому не случайно, получив партбилет, молодой коммунист Поляков вернулся к столу — заканчивать повесть «ЧП районного масштаба», которая вскоре всколыхнет весь многомиллионный партийно-комсомольский актив страны. Прагматичные карьеристы так не поступают.
«В нашем парткоме, — вспоминает Поляков, — куда меня приглашали на заседания как сотрудника газеты «Московский литератор», я, наблюдая, выделил среди писателей-коммунистов, избранных в этот высокий орган, два типа: ясноглазых ортодоксов и брюзжащих критиканов. Первые готовы были немедленно выполнить любое свежее постановление, а вторые во всем искали недостатки и ворчали об отставании партии от жизни народа. Каково же было мое удивление, когда 22 августа 1991 года ортодоксы всего за одну ночь превратились в либералов, а ворчуны так и остались ворчунами-коммунистами…»
Перспективного молодого коммуниста включили в группу молодежи, которая должна была приветствовать XXVII съезд КПСС. Тогда это было признаком стремительного повышения социального и профессионального статуса.
«Мы должны были несколькими колоннами выдвинуться по проходам меж кресел к сцене и в нужный момент, размахивая над головой зелеными веточками, крикнуть: «Ленин, партия, комсомол!» И так несколько раз, пока из президиума благосклонно не кивнут, мол, хватит, ребята, ступайте себе! — вспоминает Поляков. — Репетировали до одури. Стоявшая за мной актриса Наталья Белохвостикова всем своим тонким лицом выражала сдержанное негодование и брезгливость, как принцесса, подвергшаяся домогательствам простолюдинов. Шагавший впереди меня актер Николай Еременко иногда оборачивался и подмигивал, мол, вот попали-то!
Я в ответ мученически закатывал глаза. На трибуне тем временем теснились представители пяти основных категорий молодежи, взволнованно славя что положено, а белорусский поэт Володя Некляев читал свои специальные стихи:
Плыви, страна — эпохи ледокол, Греми в цехах, вставай в полях хлебами…Интересно, вспоминал ли он эти строки, когда, став лидером белорусской националистической оппозиции, в нулевые годы тягался с Лукашенко за пост президента, а потом отсиживался в Польше? «О, я без иронии, — как писала наша сверстница Татьяна Бек. — Я же четвертая с краю…» В пионерском приветствии съезду звучали и мои стихи, написанные по просьбе ЦК ВЛКСМ:
Реет над нами победное знамя, И словно клятва, доносится клич: «Мы счастливы жить в одно время с вами, Дорогой Леонид Ильич!»Принимая работу, заведующий отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ совершенно серьезно похвалил:
— Молодец, рифмы неплохие нашел! Не поленился. А то мы тут одному лауреату поручили, так он намастачил: «шагать — помогать», «зовет — вперед»! Как не стыдно!..
— Рад стараться! — по-военному ответил я.
Он поднял на меня глаза: в них была гремучая смесь тоски и тяжелой иронии.
— Думаю, генеральному понравится! — спохватился он и закончил аудиенцию.
Во время съезда я стоял близко к сцене и мог рассмотреть лица членов политбюро, изможденные, серые, обвислые. Это был какой-то ареопаг мумий. Брежнев с трудом читал текст, делая иногда смешные оговорки. В этот момент президиум и зал насупливались и суровели, видимо, давя в глубине рвущиеся на поверхность лица улыбки. Леонид Ильич явно своих ошибок стеснялся, кашлял, чмокал, поправлял очки, с укором оглядывался на соратников. Много позже я узнал, что как раз в это время он после инсульта просил об отставке, но сподвижники не отпустили…»
* * *
Успех на поэтическом и служебном поприще, новые семейные хлопоты — более чем уважительная причина, чтобы забросить диссертацию. Научная работа и без того многотрудное дело, а когда ее выполняешь в свободное от служебных обязанностей, семьи и творчества время, она превращается в необязательную и чрезмерную нагрузку. Но Юрий и не думал отступать. Время у него было расписано не то что по часам — по минутам. В домашнем архиве сохранились тогдашние еженедельники, куда он записывал дела, которые необходимо сделать в течение дня. Как правило, десять-двенадцать пунктов, которые он по мере выполнения вычеркивал. «Если по независящим от меня причинам какая-то «позиция» (аппаратное словечко, подхваченное в райкоме) не была выполнена, я испытывал сосущее недовольство собой. Но зато, если все задуманное на день осуществлялось и вычеркивалась последняя из намеченных «позиций», я блаженствовал так, словно хорошенькая незнакомка благосклонно дала мне свой телефон. Впрочем, о чем это я? Я же женат…»
Поляков сдал кандидатский минимум и подтянул немецкий. Проблем с необходимыми для защиты публикациями не возникло: Юрий уже широко печатался. Ему удалось собрать обширный материал во фронтовой и областной периодике, в архивах. Но главное — еще живы были люди, знавшие Суворова. С ними он встречался: ездил в Ленинград к Михаилу Дудину и Петру Ойфе, летал в Алма-Ату к сестре, жившей в старообрядческом селе. Ему удалось разыскать неизвестные, забытые и даже никогда прежде не публиковавшиеся стихи поэта. Работа его воодушевляла: он проникся благородной задачей вернуть имя прекрасного поэта в литературный оборот. Вот как начинается вышедший в 1983 году почти художественный рассказ о его научной работе:
…………………..
Когда я захотел поближе познакомиться с этим человеком, мы были ровесниками: ему 24, мне 24. Да и судьбы наши были схожи — педагогический институт, учительская работа, служба в армии, военная журналистика, стихи, уже сложившиеся в первую книжку… Его стихи мне нравились, многие помнил наизусть. Но это были строки, которые постигаешь по-настоящему глубоко лишь тогда, когда знаешь их автора, знаешь не только его слово, но и дело, его жизнь.
Я бы хотел просто подойти к этому высокому красивому сибиряку, протянуть руку и попросить почитать стихи, зная, что читает он с удовольствием. Трудно сказать, какое бы стихотворение он выбрал, может быть, вот это:
Туманов голубая робость Над грязью выбитых дорог. Устало ухает автобус Из лога в лог, из лога в лог. Ухабы — глубже. И пропала В ночи дорога. Нет и нет. Пробив густую темень, ало Взметнулись сполохи ракет…Он читал бы с особым сибирским выговором, будто грызя кедровые орешки, а в его чуть раскосых глазах в самом деле бы вспыхивали те самые ночные ракеты:
Так, отоспавшись за неделю И письма написав домой, С рассветом натянув шинели, Мы движемся к передовой. Чтобы в бою узнать героя, Узнать — как в душу заглянуть, — Какой высокою ценою Он свой оплачивает путь.Но наша встреча не могла состояться. Давно уже унеслись в вечность воды реки Нарвы, при форсировании которой гвардии лейтенант Георгий Суворов погиб в 1944 году, состарились его ровесники — молоденькие гвардейцы, начинающие поэты фронтовой поры, и я, еще, в сущности, совсем молодой человек, уже стал старше его. У него теперь другие ровесники. И так будет всегда, потому что время подобно медленному урагану, незаметно уносящему людей. Не многие способны выдержать напор этого ветра времени, Суворов выдержал, и именно поэтому я ощущаю его как живого человека, а его стихи, написанные сорок лет назад, читаю, словно боясь смазать еще не просохшие чернила.
О классиках мы знаем всё: что они делали или говорили в такой-то день их жизни, кто их натолкнул на тот или иной замысел. Порой даже знаем о них то, чего и они сами не знали. Другое дело, когда путь молодого писателя оборвался в самом начале и все оставшееся от него — тоненькая книжка прекрасных стихов, несколько строк в истории отечественной литературы и горькие слова более счастливых его ровесников о том, что он стал бы замечательным художником, если бы…
Но это «если бы» произошло. И человеческая судьба, которая минуту назад, подобно быстрой реке, летела вперед, подпрыгивая на камешках мелких невзгод и закручиваясь в водовороте народных бед, вдруг словно рассыпалась на тысячи мельчайших осколков: старые фотографии, письма, кем-то запомненные обрывки разговоров, воспоминания… У поэта — стихи, конечно. Из этих осколков, увы, человека уже не сложишь, но его образ сложить можно. Обычно не задумываются, какой смысл заключен в ставших как бы клятвой словах «Никто не забыт, и ничто не забыто». Разве я знаю о каждом из многих миллионов погибших на войне, разве я знаю о каждом подвиге? Есть несколько сотен имен, которые мы помним, и в их лице, если так можно выразиться, отдаем дань памяти всем павшим за Родину. Мы же знаем, что многие солдаты повторили подвиг Александра Матросова. А почему «повторили»? Ведь и до него солдаты Великой Отечественной падали грудью на амбразуры. Многих мы не знаем поименно и называем, склоняя головы перед их бесстрашием, одно имя — Матросов. Но мы можем знать обо всех. И в этом «можем» заключен второй смысл формулы «Никто не забыт, и ничто не забыто».
С каждым годом о павших на фронте знать становится все труднее и труднее: уходят их ровесники, соратники. Но спустимся с общенародного уровня на литературный. Немало «стихотворцев обоймы военной» не вернулось с фронта. У некоторых перед войной вышли первые книги, другие начали печататься в периодике, а третьи при жизни не напечатали ни одного стихотворения. С горькой точностью написал об этом Давид Самойлов:
Они шумели буйным лесом, В них были вера и доверье. А их повыбило железом, И леса нет — одни деревья.Но если сравнивать поэтов с деревьями, то нужно добавить, что у них как бы общая корневая система, и, для того чтобы в этой корневой системе разобраться, мы должны знать как можно больше о каждом. Знать не по кратенькой биографической справке и нескольким стихотворениям в сотнеименной антологии, а по-настоящему…
Та «с рассветом вставшая тишина», о которой мечтал и за которую погиб поэт, простирается над нашей Отчизной почти сорок лет. Мы-то помним, какой ценой оплачена тишина, и готовы бороться за нее. Готовы… Готовы ли мы, молодые 1980-х, если понадобится, отдать за тишину, как юноши 1941 года, ту единственную жизнь, которая дается, как известно, только один раз? Сможем ли? Повременим с дежурным «да!» и вглядимся в черты поколения, вынесшего войну с фашизмом, сверим свои души с душами героев, вчитаемся в строки поэтов-фронтовиков, отразившие не только их личные судьбы, но и судьбу народа, может быть единственного в мире, для которого слово «победа» и радостное и горькое одновременно…
(«Между двумя морями: Повесть о поэте-фронтовике Георгии Суворове»)…………………..
А так, с характерным поляковским юмором, описал он в повести свои поиски и неожиданные открытия:
…………………..
— Вот они! — Константин Владимирович Кононов с трудом снимает с антресолей несколько пыльных подшивок. — Ну, в 41-м Суворова у нас еще не было, а вот это для вас: 42-й, 43-й, 44-й…
Передо мной на стареньком круглом столе, застеленном кружевной скатертью, лежит то, что я так долго и безуспешно разыскивал, — полная фронтовая подшивка дивизионной газеты «За Родину», в которой работал поэт. Я бегло листаю желтые страницы, и результат превосходит все мои ожидания — суворовские стихи (много стихов!), прозаические очерки, заметки. Совершенно неизвестная сторона его творчества!
Но расскажу все по порядку. 0 том, что произведения поэта должны были печататься в «низовой» фронтовой периодике, а именно в газете «За Родину», догадаться было несложно. Раз служил в газете, значит, печатался. Но вот найти фронтовые подшивки оказалось делом почти безнадежным. В самой дивизии были разрозненные экземпляры, неудача постигла меня и в хранилищах газетной периодики. Военные журналисты, к которым я обращался за консультацией, разводили руками: «Вообще-то должны эти подшивки где-то храниться. Положено. Но, с другой стороны, сами понимаете — война…»
Покручинившись, я продолжил составление полной библиографии произведений Суворова и материалов о нем. И вот в ленинградском «Дне поэзии» 1974 года наткнулся на стихотворение Суворова, посвященное лейтенанту Островскому, повторившему подвиг А. Матросова. Подтекстом указывалось, что это публикация гвардии подполковника в отставке К. В. Кононова. А во врезке сообщалось, что стихи перепечатываются из дивизионной газеты «За Родину», где поэт опубликовал немало очерков и стихотворений, посвященных лучшим людям дивизии. Звоню в Ленинград. Оказывается, среди участников войны имя К. В. Кононова хорошо известно: он председатель Совета ветеранов 45-й гвардейской дивизии, в которой служил автор «Слова солдата». Выясняю адрес и пишу письмо. Вскоре приходит ответ, где есть и такие слова: «К счастью, мне удалось сохранить подшивку газеты «За Родину» 1940–1945 годов. В ней и опубликованы его стихи и очерки».
Таким образом я оказался в доме Константина Владимировича в селе Рыбацком, являющемся, несмотря на свое название, теперь районом Ленинграда. Но по сути Рыбацкое и вправду скорее походит на большое село: вдоль трамвайной линии неровными рядами, как новобранцы, выстроились деревенские домики, между которыми иногда попадаются сооружения, воздвигнутые в стиле «дачного терема».
У К. В. Кононова я провел несколько дней: снимал копии, слушал рассказы о Суворове, о войне. Константин Владимирович знал поэта лично; и до сих пор, когда речь заходит о той несправедливости, голос его начинает дрожать. По моей просьбе свои воспоминания о Суворове он облек в письменную форму и дал мемуарам очень характерный заголовок — «Гвардии Суворов». Воспоминания К. В. Кононова широко использованы в этой книге.
Уже собираясь и благодаря хозяина за помощь и гостеприимство, я все-таки решился спросить: «Константин Владимирович, а как же получилось, что единственная известная подшивка оказалась только у вас?»
Он на минуту замялся: «Ладно, дело прошлое… Когда сообщили о капитуляции Германии, мы на радостях начали палить в воздух — из автоматов, пистолетов, из ракетниц. Одна ракета возьми да и попади в редакционный автобус…»
«В тот самый, про который писал Суворов?!»
«В тот самый. А там и были все подшивки, кроме одной, которую я вел для себя и хранил на квартире. Вот так вот…»
Рукописи не горят… Эти слова из «Мастера и Маргариты» я еще раз вспоминал, разыскивая все, что связано с Суворовым. Вспоминал то с благодарностью, находя безвозвратно, казалось бы, утерянное, то с иронией, выяснив, что та или иная рукопись или письмо утрачены навсегда. И все-таки рукописи не горят! С этого убеждения начинается литературоведческий поиск, в этом и его конечный смысл, потому что рукопись, опубликованная и ставшая достоянием тысяч, уже в самом деле не боится огня!
(«Между двумя морями: Повесть о поэте-фронтовике Георгии Суворове»)…………………..
Юрию посчастливилось обнаружить в Нарвском архиве и ввести в научный оборот полный, не подвергшийся вмешательствам редактора вариант знаменитого стихотворения Георгия Суворова, без которого не обходится ни одна антология русской советской поэзии. Юрий восстановил историю написания и адресатов — поэта-фронтовика Михаила Дудина и его жену Ирину. Вот классическая версия этих стихов:
Еще утрами черный дым клубится Над развороченным твоим жильем. И падает обугленная птица, Настигнутая бешеным огнем. Еще ночами белыми нам снятся, Как вестники потерянной любви, Живые горы голубых акаций И в них восторженные соловьи. Еще война. Но мы упрямо верим, Что будет день — мы выпьем боль до дна. Широкий мир нам вновь раскроет двери, С рассветом новым встанет тишина. Последний враг. Последний меткий выстрел. И первый проблеск утра как стекло, Мой милый друг, а все-таки как быстро, Как быстро наше время протекло. В воспоминаньях мы тужить не будем. Зачем туманить грустью ясность дней. Свой добрый век мы прожили как люди И для людей.Последние строчки выбиты на плите, которая установлена на могиле поэта в городе Сланцы. Там же, в Сланцах, Юрию рассказали, что каждый год туда приезжала женщина, вроде бы фронтовая жена Суворова.
Оказалось, что это была Нина Емельянова, которой Георгий Суворов посвятил лирический цикл «Во имя любви». Юрий написал Нине Александровне письмо, и она ему ответила искренним признанием в том, что для ее жизни значила та давняя и недолгая встреча.
«Прошло время, и в один прекрасный день я написал стихи. Мне с самого начала было ясно, что рано или поздно я напишу о Георгии Суворове стихи, ибо какая-то грань его личности, судьбы не укладывалась в рамки обычных статей, оставалось чувство недосказанности, не исчезнувшее, впрочем, и после появления этих стихов…
Говорят, что она каждый год приезжает сюда, На могилу солдатскую в городе этом неблизком. И положит цветы, и стоит, вспоминая года, Что лежат непробудно, как мертвые под обелиском. Говорят, что покоится тут молодой лейтенант — Фронтовая любовь, ослепившая сердце когда-то. Он был весел и смел, он имел неуемный талант И к стихам, и к войне — той, что не пощадила солдата… Летней ночью в округе победно поют соловьи, Зимней ночью метель дышит с болью, как наша эпоха, Говорят, ничего нет на свете дороже любви, А они ее отдали всю — до последнего вздоха! («Каждый год». 1980)».В начале 1981-го диссертация была готова. Вместе с еще одним соискателем, который писал работу по Андрею Платонову, они должны были защититься до летних отпусков, на последнем заседании ученого совета. Оппонентом пригласили крупнейшего специалиста, автора самой солидной монографии о поэзии Великой Отечественной войны доктора наук Анатолия Михайловича Абрамова.
«Когда я защищал диссертацию, случилась история, мистическая, между прочим. Единственный случай в моей жизни, когда я повернул вспять время, — вспоминает Поляков. — Больше мне такое никогда не удавалось и, наверное, не удастся. Вот как это произошло. Диссертация была закончена, апробирована, публикации имелись, и вдруг говорят: последнее заседание ученого совета в июне, потом совет ликвидируется. Из-за укрупнения. Шел 1981 год. Защит не будет долго, а там неизвестно еще, что может случиться, например, темы могут пересмотреть… Мои научные руководители А. А. Журавлева и М. В. Минокин в один голос кричали: «Юра, надо успеть!» А как успеешь? Ведь надо отпечатать и разослать автореферат. Это сейчас просто сделать, а тогда, в Советском Союзе, предстояло решить много проблем: найти типографию, договориться о сроках, залитовать рукопись. Я нашел типографию, получил разрешение и договорился, что брошюрку отпечатают срочно, так как реферат должен быть разослан в надлежащие адреса не менее чем за 30 дней до заседания совета, иначе не допустят к защите. Срок отсчитывали от даты на почтовом штампе. На день опоздаешь — конец, выходи на новый круг. У меня все было рассчитано, даже оставался один запасной день. И что вы думаете? Прихожу в урочный день забирать тираж, а мне говорят: «Послезавтра. Тут горком срочный заказ прислал. Не успеваем…» Все. Катастрофа. Возвращаюсь грустный на работу в Московскую писательскую организацию, — сижу печально-задумчивый. В молодости подобные неприятности переживаются очень остро. Это уже с возрастом понимаешь: пустяки, годом раньше станешь кандидатом, годом позже, а можно и вообще прожить без степени. Но рядом случилась в тот день одна сотрудница по имени Лана. В те годы в крупных организациях, где был большой почтовый оборот, имелась специальная машинка для прокатывания конвертов, которые на почту отвозили уже проштемпелеванными, там их лишь сортировали и отправляли адресатам. Вот Лана меня и спрашивает: «Ты чего грустный?» Я: «Да ну, жизнь не удалась. Сегодня надо разослать реферат, а он будет готов только послезавтра. А послезавтра уже нельзя. Отменят защиту!» — «Подумаешь, проблема, я тебе сегодняшним числом конверты послезавтра проштампую. Дату в машине переставлю и прокатаю. С тебя коньяк и торт…» И я через месяц защитился — в июне 1981-го. Вот так однажды, за бутылку коньяка и торт, мне удалось повернуть время вспять…
После защиты, на которую были приглашены, кроме жены и тещи, некоторые друзья, мы вышли из старинного здания МОПИ на улицу Радио, поймали микроавтобус и поехали в Дом литераторов — праздновать. Любовь Федоровна, служившая машинисткой в Институте марксизма-ленинизма и страдавшая от высокомерия «остепененных» сотрудников, словно взяла асимметричный реванш: ее зять — кандидат наук! Когда основательно выпили, один из моих друзей, врач, занимавшийся генетикой, сокрушенно вздохнул: «И за такую чепуху у вас дают кандидатскую степень!»
ВАК утвердил решение ученого совета на редкость быстро».
* * *
В Союз писателей СССР Юрия приняли 5 июля 1981 года.
«Тогда существовало негласное правило: для вступления в СП надо выпустить две книги, — вспоминает Поляков. — В порядке исключения могли принять и по одной. Именно так произошло с Н. Дмитриевым, О. Хлебниковым, Т. Бек, С. Мнацаканяном, Р. Бухараевым. Могли — очень редко — принять и по публикациям или рукописи. Как правило, такое исключение делали для авторов, имевших репутацию гонимых. Без книг получили членские билеты Б. Ахмадулина и О. Чухонцев. Ведь и одну книгу выпустить было непросто. Известен баснословный случай, когда поэт-экспериментатор Константин К. представил в комиссию три экземпляра своей книги, выпущенной в региональном издательстве. Он уже благополучно миновал половину инстанций, когда сборник увидел, случайно зайдя в приемную комиссию, литератор, приехавший из этой области и служивший в том самом издательстве. «Но мы такую книгу никогда не выпускали!» — воскликнул он. Стали разбираться и выяснили, что сборник в количестве десяти экземпляров набрали, отпечатали и переплели друзья К. из какой-то ведомственной типографии, а в выходных данных обозначили самую отдаленную область, чтобы, так сказать, без неожиданностей. Был скандал. К. объявили мошенником (внешность у него и в самом деле была жуликоватая) и приняли в СП только в конце перестройки, как жертву советского режима».
Вообще-то Поляков собирался подать заявление уже после выхода первой книги «Время прибытия». Его хорошо знали, у него было много публикаций в периодике. Но его вызвал Виктор Иванович Кочетков и сказал:
— Юра, тебя, конечно, примут и с одной книгой, но все скажут: это из-за того, что ты наш комсорг. Так что потерпи, пусть будет как у всех.
Сначала Юрий взял рекомендации у трех членов СП СССР — Владимира Соколова, Константина Ваншенки-на и Виктора Федотова. Затем ему следовало пройти бюро поэтов, которое в ту пору возглавлял Владимир Цыбин. На бюро, по свидетельству Полякова, постоянно сталкивались интересы двух основных конкурировавших группировок. «Каждая старалась усилить свои ряды новым членом и ослабить противника, забаллотировав ставленника противников. «А как же талант?» — спросите вы. «А когда талант противника был аргументом в литературной борьбе?» — отвечу я вопросом же. Впрочем, некий «гамбургский счет» все-таки существовал, и на явно одаренных неофитах силами мерились редко. О сегодняшней ситуации, когда литературное сообщество разделилось на два изолированных «гетто», старающихся друг друга не замечать, тогда и помыслить не могли».
Надо признать, что, прося рекомендации, Юрий учел это противостояние и заручился поддержкой обоих литературных лагерей. Впрочем, хватило бы и рекомендации Владимира Соколова — его авторитет был непререкаем для всех, ведь не случайно он написал когда-то:
Нет школ никаких. Только совесть Да кем-то завещанный дар…Через три десятка лет бывший ректор Литературного института Сергей Есин будет вспоминать изумление, с которым «литературная общественность» встретила в те годы внезапное и победное появление Юрия в писательских рядах: «…Выскочил и вдруг принялся играть первые роли. Да и кто мог этого ожидать, когда по Дому литераторов бесцельно бродили юноши из интеллигентных семей — а тут счастливый выскочка с рабочей окраины!»
«Юрий Поляков — интеллигент в первом поколении, хотя, зная его сегодняшнего, в это трудно поверить. Кажется, этот человек стремительно сделал сам себя, не в первый раз подтверждая ту истину, что талантливый русский, если он не лежит на печке, а имеет вкус к работе, способен на огромные рывки в своем развитии», — со знанием дела напишет позднее Владимир Куницын. Полякова даже прозвали тогда «мальчиком с вертикальным взлетом» — по аналогии с реактивным самолетом с вертикальным взлетом и посадкой, состоявшим в те годы на вооружении Советской армии. Никому было невдомек, что способность к вертикальному взлету была заложена в нем, как говорится, от рождения и что в школьные и институтские годы он только сознательно ее в себе развил.
«Мне позвонила Антонина, секретарша первого секретаря СП СССР Маркова, и спросила:
— Заяц, а чего ты свой писательский билет не забираешь? Все давно свои забрали.
— Где?
— У меня.
Через полчаса я с тортом влетел в обширную приемную и получил краснокожее удостоверение.
— А почему подписал Верченко, а не Марков? — огорчился я.
— Георгий Мокеевич в отпуске, роман пишет…
— А-а-а…
— Слушай, заяц, тут из Главпура звонили, на тебя жаловались. Ты чего натворил?
— Повесть написал.
— Ну это еще ладно… Вон поэт, Вовка Топоров-то, поехал в Таманскую дивизию выступать и так напился, что с танка упал… Поаккуратнее!
Так лет на пять я стал одним из самых молодых бойцов десятитысячного отряда, точнее, дивизии, советских писателей…»
По некоторым данным, отряд был пятнадцатитысячным, но это частности.
Законченная в ноябре 1980-го повесть «Сто дней до приказа» уже начала движение по кругам согласования, ведь это был не просто рассказ о «дедовщине», но и о трагедиях, к которым она приводит. То, что довелось увидеть самому Юрию, было уже общим местом. А слухи о «дедовщине», приводившей к небоевым потерям, ходили по стране. Тех, кто, как рядовой Елин, решался свести счеты с жизнью, было немного, но каждая такая загубленная жизнь была трагедией — и позором для армии.
«Надо ли говорить, что повесть абсолютно не укладывалась в тогдашний канон «воениздатовской» прозы, — напишет автор позднее в эссе «Как я был колебателем основ». — Возможно, вырасти я среди московской научно-чиновной интеллигенции с ее маниакальным западничеством и диссидентскими симпатиями, я передал бы эту явно «диссидентскую» вещь на Запад — и моя жизнь сложилась бы совсем по-другому. Но я, повторюсь, был настоящим советским человеком, верящим в конечную справедливость системы, а потому простодушно принялся носить повесть по журналам — «Юность», «Знамя», «Дружба народов», «Новый мир», «Наш современник»… Сотрудники этих изданий, люди чрезвычайно инакомыслящие, смотрели на меня как на придурка, нарушившего всеобщее благочиние неприличной выходкой. То, о чем они шептались на кухнях, я не только написал, но еще и (вместо того чтобы ограничиться тихими самиздатовскими радостями) притащил в советский журнал. Ну не идиот ли!»
Надо сказать, что самые серьезные идеологические претензии к начинающему прозаику предъявляли в редакциях люди, которые потом, при крушении советской власти возглавили стан ее противников. И это сказалось на всем его дальнейшем творчестве: в произведениях Полякова появилась тема идейных перевертышей, к ним он отныне постоянно возвращался, доведя ее до абсолютного гротеска в «Гипсовом трубаче».
«Помню, как заведующая отделом журнала «Знамя» Наталья Иванова (ныне она критик истошно либерального тренда) затащила меня в редакционный закоулок и негодовала свистящим шепотом, что, принеся эту провокационную антисоветчину, я хотел бросить тень на главного редактора Героя Социалистического Труда Вадима Кожевникова, автора бессмертного романа «Щит и меч». В другом издании заведующая прозой, дама с кинжальным маникюром и декольте, едва приоткрывавшим венерин бугорок, говорила, что прекрасно знает жизнь современной армии, никакой дедовщины там нет и в помине.
Понятно, рукопись довольно быстро была переправлена куда следует, и оттуда сразу наябедничали в Союз писателей, членом которого я уже стал, выпустив две книги стихов. Позвонили они секретарю по прозе Ивану Фотиевичу Стаднюку, автору знаменитого «Максима Перепелицы».
— Иван Фотиевич, — спросили оттуда, — что это у тебя там за диссидент такой завелся, армию очерняет?
— Какой еще диссидент?
— Поляков…
— Ну какой он диссидент? — засмеялся Фотиевич. — Он секретарь нашей комсомольской организации. Хороший парень. О фронтовой поэзии пишет…
<…> В отличие от иных моих коллег по литературному цеху, я совершенно не стыжусь того, что писал при советской власти. Фронтовую поэзию я горячо любил и писал о ней от всего сердца. Полагаю, многие советские литераторы, спешно перепрофилировавшиеся в антисоветских, не любят те времена прежде всего за свою былую неискренность.
Вскоре меня начали приглашать в инстанции. На беседы. В ГлавПУР, ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС. Со мной общались неглупые люди, разбиравшиеся в проблемах тогдашней армии гораздо лучше, чем я. Никто, представьте, на меня не кричал, не угрожал, не выпытывал, на кого я работаю и сколько сребреников получил за предательство. Мне спокойно объясняли, что публикация повести в таком виде может принести отечеству вред, и рекомендовали, используя отпущенные мне природой способности, написать об армии иначе, что будет, конечно, отмечено и благотворно отразится на моей литературной карьере. Кстати, многие из моих чиновных собеседников, вздыхая, говорили: будь их воля, они напечатали бы повесть, но военная цензура не пропустит. <…>
Был и такой забавный случай. Один главпуровский генерал сказал мне, что не все Поляковы так безответственно относятся к армии. Есть еще один Юрий Поляков, написавший очень добрую и романтичную книгу о Георгии Суворове.
— Вам бы с ним познакомиться и поучиться у него! — посоветовал генерал.
Узнав, что с тем, «хорошим», Поляковым я знаком, можно сказать, с рождения, он был поражен, хотя удивляться тут было нечему. Сочетание критичности с искренним романтизмом и доверчивостью было типичной особенностью человека, вскормленного советской цивилизацией. Именно эта особенность воспитания и определила потом удивительное обстоятельство: миллионы умных, образованных людей безоглядно поверили опереточному Горбачеву и стенобитному Ельцину. Так было. Однако надо знать позднюю советскую систему, ныне окарикатуренную не без моего участия. Сурова, даже беспощадна она была к тем, кто, отвергнув правила игры и отеческую заботу, боролся с ней, вливаясь в ряды диссидентов, немногочисленных, как кружок любителей эсперанто. С заблуждавшимися искренне (а к таковым причислили и меня) она работала, убеждала, заинтересовывала. Тем более что проблема неуставных отношений волновала начальство, ей, болезной, посвящались секретные совещания и закрытые приказы министра обороны, с ней боролись. Понимавшие иносказательный язык тогдашней прессы легко могли найти отзвуки этой борьбы с дедовщиной в военной печати. Она неутомимо и тщетно призывала армейский комсомол «активнее участвовать в процессе воспитания в воинах чувства товарищеского локтя, советской морали и ответственности за порученное дело».
Повесть обсудили в Союзе писателей, ЦК ВЛКСМ обратился в ГлавПУР с просьбой рассмотреть возможность ее публикации. В писательской многотиражке «Московский литератор», где я в ту пору работал редактором, под заголовком «Призыв» был опубликован фрагмент. Мне, конечно, всыпали, но скорее для порядка. Посовещавшись, высокое начальство решилось напечатать «Сто дней…» в журнале «Советский воин», который был в ту пору одним из заметных литературно-художественных изданий. Такие мэтры, как Бондарев, Стаднюк, Алексеев, Бакланов, Исаев, Дудин, и многие другие охотно печатались на его страницах. Потом планировалось под руководством политработников обсудить мое сочинение в каждой воинской части, хорошенько наподдать автору за сгущение красок и неуместную иронию над ратными буднями, однако с поставленной проблемой согласиться и отмобилизовать личный состав на борьбу с неуставными отношениями… Решение было уже почти принято, но тут категорически выступил против один из заместителей начальника ГлавПУРа. Он заявил на коллегии, что публикация повести нанесет урон боевой мощи СССР и что он немедленно обратится с особым мнением в военный отдел ЦК КПСС. В те годы при принятии ответственных решений ценилось единодушие, ибо в случае ошибки наказать всех ответственных сразу довольно трудно. Нет ничего удивительного в том, что кто-то выступил против публикации. Удивительно другое — кто выступил! Это был генерал Д. А. Волкогонов, который через несколько лет обернулся пламенным демократом, обличителем советской эпохи и сокрушителем идейного наследия коммунистической эры. Поговаривали, он мстил за раскулаченного отца. Деталь, согласитесь, знаменательная и заставляющая задуматься о «человеческом факторе», который сыграл не последнюю роль в том, что вместо трансформации и планового демонтажа устаревшей общественно-политической структуры мы получили мстительный разгром, переходящий в торжествующий хаос…» Нельзя сказать, что молодой писатель, сочинивший острую вещь, остался один на один с государственной машиной. Ему помогали, его поддерживали. Первый секретарь СП РСФСР С. В. Михалков писал письма военному начальству. Обсуждая повесть на заседании Комиссии по военно-художественной литературе МО СП РСФСР, старшие товарищи его единодушно поддержали. Передо мной пожелтевшие странички протокола этого заседания от 21 ноября 1983 года:
«Я. Мустафин, старший редактор издательства «Советский писатель». Явления неуставных отношений, так называемой годковщины, к сожалению еще распространены у нас в армии. И очень хорошо, что Поляков написал об этом страстно, по-партийному остро.
Н. Черкашин, лауреат премии Ленинского комсомола. Повесть чрезвычайно актуальна, а ее острота как раз той направленности, к которой нас призывает сегодня партия. Ее необходимо напечатать, потому что она поможет в работе офицерам, заставит о многом задуматься тех, кто носит или готовится надеть военную форму.
В. Мирнев, заведующий отделом прозы журнала «Москва». Здесь больше говорили о социальной значимости повести Ю. Полякова, я же хочу подчеркнуть ее хороший художественный уровень, она интересно выстроена, ярко прорисованы образы, автор умело работает со словом. Короче говоря, это — проза!
Ю. Поляков. Армейская тема, кто читал мои вещи — знает, всегда волновала меня. И я убежден, что здоровые силы в солдатском коллективе всегда сильнее, не надо только замалчивать, уходить от реальности. Современный молодой читатель не Станиславский, он не будет кричать «не верю!», — а просто отложит неправдивую книгу в сторону. Я сознательно повел рассказ от имени старослужащего, чтобы показать: борьба с «годковщиной» идет не только извне, со стороны командиров и политработников, но и изнутри, в самом солдатском коллективе. Но я старался показать этот процесс во всей его диалектичности, а значит — и во всей его неоднозначности. И если моя повесть хоть немного поможет искоренению неуставных отношений, я буду считать свою задачу писателя и коммуниста выполненной».
(Стоит отметить, что ссылки на партию — общепринятая тогдашняя риторика, не мешавшая людям обсуждать реальные проблемы; совершенно так же в наше время принято ссылаться на «демократию» и «общечеловеческие ценности».)
Ниже приводятся еще любопытные документы:
«В Главное Политическое управление
Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Комиссия по военно-художественной литературе Московской писательской организации СП РСФСР обсудила повесть члена СП СССР, лауреата премии Московского комсомола Ю. М. Полякова «Сто дней до приказа», посвященную жизни современной армии. В ходе обсуждения были высказаны мнения о своевременности этого произведения и целесообразности его публикации. Выступившие отмечали, что повесть сыграет положительную роль в деле дальнейшего совершенствования военно-воспитательной работы.
Протокол прилагаем.
Секретарь правления, Председатель Комиссии
Семен Борзунов».
«В Главное Политическое управление
Советской Армии и Военно-Морского Флота
Тов. Соловьеву А. Б.
Уважаемый Артем Борисович!
Просим Вас дать отзыв на новый, переработанный после замечаний ГЛАВПУРА, редакции газеты «Московский комсомолец» и Комиссии по военно-художественной литературе МО СП РСФСР вариант повести Ю. Полякова «Сто дней до приказа», посвященной современной армии.
Редакция планирует опубликовать главы этой повести.
С уважением,
Редактор газеты «Московский комсомолец»
П. Гусев».
«…Я действительно после первых замечаний ГЛАВПУРа поработал над текстом: обнаружил наличие в полку комсорга, смягчил «швейковскую» иронию в отношении офицеров, вместо «крупнокалиберного мата» прапорщика Восовеня появилась «крупнокалиберная ругань» и т. д. Но моя повесть в принципе не была «чернухой», я иначе смотрел на мир. Помню, как-то в Доме литераторов столкнулся с поэтом Алексеем Дидуровым. Он тоже написал повесть, вернувшись из армии. Называлась она, кажется, «Автобат». Мы обменялись текстами. Вещь Дидурова была мрачна, как ночной кошмар пессимиста. Там даже имелось общеказарменное злоупотребление школьницей. Возвращая ему повесть, я отделался общими словами. У меня уже тогда сложился принцип, которому я следую до сих пор: никогда не говорить товарищу по перу, что он написал дурной текст. Если он достаточно умен, сам сообразит. А если не сообразит, то и говорить не стоит: только зря обидится. А вот Дидуров объявил, что я в «Ста днях» упустил гениальный шанс. Повесть надо бы начать с того, как Купряшина перевели из «стариков» в «салаги», и потом показать тот ад, в котором он очутился. «Перепиши и станешь Достоевским!» — закончил Дидуров, в постсоветские годы организовавший модный кафешантан. Но я не хотел писать про ад! Я не переписал повесть — и не стал Достоевским…»
В результате повесть отдали на отзыв генералу армии Н. Г. Лященко, не чуждому изящной словесности и мемуаристике. В прошлом он командовал армиями и округами, а к тому времени перешел в «райскую группу» — так называли советников министра обороны. Генерал вынес повести резко отрицательную оценку, сравнил с «писаниями Даниэля и Щаранского» и предложил хорошенько ударить по «поляковщине» и очернительству. Но Юрий уже умел держать удар.
«Я чувствовал сопротивление, но воспринимал его как нормальное явление. На необходимости преодолеть сопротивление поднялись практически все наши современные писатели: и Солоухин, и Трифонов, и Распутин, и Белов. Это потом, согласно диссидентской мифологии, такие вещи стали восприниматься как противостояние некоей темной силе. Я уверен, если бы Довлатов остался в СССР, и он бы печатался. Если бы остался Солженицын, в конце концов вышли бы и его вещи. (Вот уж не уверена: ведь Солженицын боролся не с начальством, а с советской властью. И уехать Солженицыну пришлось потому, что в противном случае ему светил очередной срок, — по слухам, именно такой выбор у него как раз и был. — О. Я.) В инстанциях никто меня не запугивал, мне просто объясняли, чего боится власть в случае публикации этих вещей. И многие опасения, которые высказывали мне в КГБ и ЦК, стопроцентно подтвердились, когда началась антиармейская истерия 1988—1990-х годов. По части понимания социальных последствий подобных высказываний эти люди оказались более прозорливы, чем я, потому что я видел только свою узкую писательскую задачу: я сказал правду, и моя задача донести ее до читателя. Меня в инстанциях спрашивали, что будет дальше, когда я эту правду донесу. Я отвечал: это ваши проблемы. А оказалось, что это наши проблемы. И мои в том числе…»
Настоящее сопротивление, с замалчиванием, вымарыванием, маргинализацией, началось, когда произошел разлом между писателями государственного, патриотического направления и либералами-западниками.
Но об этом — в следующей главе.
* * *
В августе 1981-го молодого коммуниста, члена СП СССР, кандидата филологических наук Юрия Полякова назначили редактором газеты «Московский литератор». Он сменил Сергея Мнацаканяна, ушедшего учиться на Высшие литературные курсы. Когда обсуждали кандидатуру на секретариате, кто-то из ветеранов проворчал:
— Двадцать шесть лет. Не рановато ли?
— Гайдар в шестнадцать полком командовал! — возразили ему.
В ту пору с подобными аргументами не спорили.
Работа оказалась хлопотной. Самым сложным было лавировать между писательскими группами, учитывая при этом точку зрения горкома, Союза писателей и — отдельно — его Московского отделения. Случались казусы. Долго обсуждался случай, когда к подборке стихов Вадима Рабиновича по ошибке прилепили фотографию поэта Ивана Слепнева в тельняшке. Иван был надеждой «русской партии», но он эти ожидания не оправдал, спился. «А когда в газете по ошибке напечатали некролог здравствующего писателя Николая Кладо, я впервые узнал вкус валидола».
Перенапряжение последних лет сказалось на здоровье.
Летом 1981-го, во время подводной охоты на Черном море, в Кабардинке, Юрий внезапно почувствовал себя плохо и чуть не утонул. Вот как он описал это состояние в своей повести:
…………………..
…Выскочив из воды по пояс, человек выплюнул загубник и несколько раз глубоко, до боли в легких, вздохнул. Перед глазами, застилая жаркое синее небо, плыли фиолетовые пятна, а к вискам приливала пугающая слабость. Постепенно взгляд прояснился, неуверенность исчезла, но дыхания все же не хватало, а сердце колотилось неестественно быстро и гулко. <…>
Чтобы успокоиться, человек осмотрелся: метрах в двухстах от него виднелся пустынный каменистый берег, три парня волокли выброшенную морем корягу, а далеко справа горбилась гора Ежик, из зеленых колючек которого поднималась белая башня пансионата. У подножия Ежика, между волнорезами, был большой пляж.
<…> И еще человек почувствовал, что больше не умеет плавать. <…> На далеком берегу еле слышно кричали маленькие люди, но еще страшней, чем недостижимость берега, была четырехметровая толща воды — теплая, светлая у поверхности и холодная, мрачная в глубине. А тем временем ум никак не мог объяснить плоти, что нужно делать. Тяжелое фиолетовое небо словно хотело вдавить человека в воду, и он, закричав, рванулся, отшвырнул все, что было в руках, и опрокинулся на спину. Сердце уже не билось, а сотрясало тело, и точно так же сотрясали сознание слова: «Нет-нет-нет-нет нет…»
Еле шевеля ластами, человек на спине поплыл к берегу…
(«ЧП районного масштаба»)…………………..
Видимо, на почве испуга развился невроз. Приступы беспричинного страха, вызывавшие бешеное сердцебиение, стали вновь и вновь настигать его в самых неожиданных местах. Второй приступ произошел в тот день, когда его должны были представлять коллективу газеты в качестве нового руководителя. «Скорая помощь» забрала Юрия прямо с автобусной остановки. Врачи поставили диагноз: фобический невроз — и посоветовали заняться своим здоровьем. В 1983-м он лег в «Соловьев-ку», так называют старейшую московскую клиническую больницу № 8 имени 3. П. Соловьева, расположенную на Донской улице возле станции метро «Шаболовская» и специализирующуюся на лечении неврозов, которое было новым направлением в советской медицине. Там он прошел полный полуторамесячный курс, укрепил расшатанную нервную систему и научился бороться с приступами паники.
«От мнительных приступов: мол, вот сейчас я и умру — вылечили оригинальным способом. На шестой день лечебного голодания, когда в желудке сосущий вакуум, в глазах темно, а ноги подгибаются, меня вызвал лечащий врач.
— Сегодня у нас пятница. На выходные отпускаю вас домой. Отправляйтесь!
— Как?!
— А как вы обычно домой ездите?
— На метро и на автобусе.
— Ну вот и поезжайте на метро и автобусе. И не забудьте, вам еще четыре дня голодать! Теплая кипяченая вода и очистительные клизмы. В остальном живите как обычно!
Когда я в понедельник прибыл назад в «Соловьевку», врач спросил участливо:
— Ну как вы?
— Плохо, доктор…
— А чем занимались?
— Гулял с дочкой, разбирал от мусора балкон, мебель с женой двигал…
— А как транспорт перенесли?
— Ужасно, доктор! Давка, дышать нечем…
— Сознание не теряли?
— Нет, как ни странно…
— Запомните, молодой человек, если вы, отголодав неделю, спокойно перенесли все эти нагрузки, с вами ничего плохого быть не может. Вы здоровы. И сознание можете потерять только от хорошего удара в челюсть. Ясно?
— Ясно…
С тех пор, едва на меня накатывал дурманящий страх исчезновения из этого прекрасного мира, я вспоминал слова доктора про удар в челюсть, и мне сразу становилось легче. Но дальние заплывы и подводную охоту пришлось все-таки оставить. Возможно, просто недолечился. Надо было в голодном состоянии переплыть Можайское водохранилище…»
Между тем жизнь шла своим чередом. Положение Юрия в литературном мире упрочивалось. В конце декабря 1982 года в «Литературной газете» появилась большая статья «Это временем зовется…» о двух его первых книгах, «Время прибытия» и «Разговор с другом». Автор — известная поэтесса Екатерина Шевелева — писала: «…Идут годы и эпохи. Библейская туманная угроза уничтожения всего человечества приобрела вполне реальные очертания. И талант настоящего поэта — в данном случае Юрия Полякова из поколения молодежи 70-х — стремится совершать новые превращения, высвобождая великую трагическую жизнь из видимых или невидимых пут. Например, из детской безмятежности:
Мальчик видит, как заходит солнце, Сверстники растут, седеет мать, Знает: это временем зовется. Все так просто! Что здесь понимать? Позже он поймет, он убедится: В мире нет энергии сильней Той, что в ходе времени таится… И душа работает на ней».«Екатерина Шевелева, ныне почти забытая, была в советские годы очень влиятельной литературной дамой, — вспоминает Поляков. — Она могла войти в кабинет Маркова, где стояла самая главная «вертушка», и сказать:
— Жора, мне надо позвонить Юре!
Жора, как вы понимаете, — это первый секретарь СП СССР, член ЦК КПСС, а Юра — Юрий Владимирович Андропов. И действительно звонила:
— Юр-Юр, привет, это Катя Шевелева…
Когда-то она работала в комсомоле и знала почти всех отцов державы еще по годам тревожной и чувствительной молодости. А с Андроповым они посещали одно литобъединение, ведь шеф КГБ тоже писал стихи. Из всей молодежи она почему-то выделила именно меня и, если звонила, обращалась так же:
— Юр-Юр, это Катя Шевелева. Слушай, зверь, надо поговорить!
У нее был беглый советский английский, и однажды она сопровождала Хрущева в поездке по Индии, где тоже говорили на своей версии языка Шекспира. Никита Сергеевич нежно звал Шевелеву «Горчицей». В самом деле, она была резкая, едкая, с обостренным чувством справедливости. При этом охотно пользовалась всеми номенклатурными благами и часто, к зависти коллег, бывала за границей, откуда привозила стихи, исполненные презрения к капитализму и ностальгии по Стране Советов. Это на нее ехидный Александр Иванов написал пародию, где были и такие строчки:
Боже мой, куда бы обратиться, Чтоб не ездить больше за границу!Поэтический дар у нее был скромный, к тому же растраченный в основном на общественную работу и борьбу за мир, но несколько хороших стихотворений в ее сборниках найти можно. Именно Екатерина Шевелева и стала главным прототипом «бабушки русской поэзии» Ольги Эммануэлевны Кипятковой в моем романе «Козленок в молоке». Хотя обостренный интерес к молодым темпераментным поэтам я позаимствовал у другой литературной львицы того времени…»
В июне 1983-го у Юрия вышла полоса в «Огоньке», самом популярном и тиражном журнале в СССР. Среди поэтов его поколения такого отличия еще никто не удостаивался. Подборка была замечена и обсуждалась, ведь в ней имелись и такие, далеко не типичные «советские» стихи:
Молоденький учитель, Я у доски страдал, А ученик-мучитель Вопросы задавал. Откинет крышку парты, Наставит гневный взгляд: — А вот Некрасов в карты Горазд был, говорят? Добро и разум сеял, А сам… Да как он мог? А что Сергей Есенин И Александр Блок Творили в жизни личной! Скажите, почему? …Я непедагогично Молчал в ответ ему. Не знал я, как об этом Сказать ученикам: Нет, нелегко поэтам Жить по своим стихам.«…Редактировал тогда «Огонек» Анатолий Софронов, еще сохранивший остатки былого могущества: в 1940—1950-е он входил во всесильный триумвират Фадеев — Симонов — Софронов, который заправлял всеми делами в писательском мире, в том числе и «делом космополитов», которое началось с жалобы в ЦК театрального критика А. Борщаговского, указавшего начальству на угрозу великодержавного шовинизма. Стали разбираться — и пришли к выводам совершенно противоположным. Так что не буди лихо… Но если Фадееву и Симонову борьбу с безродными космополитами со временем простили, то Софронову — нет, и в устах тогдашних поборников общечеловеческих ценностей его имя было сродни бранному слову. Однако стихи ему несли все, даже враги, — и он печатал. К тому же в качестве приложения к «Огоньку» выпускались книжечки стихов, прозы, очерков, причем огромным тиражом — до 100 тысяч экземпляров. Поэтому стоило Софронову появиться где-нибудь среди писателей, как вокруг него начиналось подобострастное «броуновское движение». Польстить, подлизаться, напомнить о себе торопились не только молодые таланты, но и ветераны Гражданской войны, помнившие ледяные воды Сиваша. И вдруг Софронова сняли. Неожиданно. По-моему, летом 1986-го. А у нас как раз в те дни проходил выездной секретариат Союза писателей в Ленинграде. Утром две сотни писателей, измученных ночными разговорами под рюмочку, высыпали на платформу и устремились к автобусам, которые должны были отвезти их в гостиницу к целительному завтраку. Я, сильно злоупотребивший вечор с поэтом из Челябинска Константином Скворцовым, вышел из вагона последним и обнаружил на опустевшей платформе растерянного Софронова и его молодую жену. Они стояли возле двух огромных, явно заокеанского производства чемоданов и растерянно озирались. За полвека пребывания во власти Анатолий Владимирович, видно, забыл о том, что багаж сам по себе не перемещается в пространстве: его чемоданы всегда подхватывали наперегонки услужливые руки жаждущих печататься литераторов и несли куда надо. А тут такое… И ни одного носильщика поблизости. Я поздоровался, поднял оба чемодана и быстро понес к выходу, торопясь к воображаемой кружке утреннего пива. Больной Софронов, еле поспевая за мной, захотел в благодарность сказать мне что-то приятное, и борясь с одышкой, прошептал:
— Вы… хо… ро… ший поэт…
Мне стало за него обидно. Довольно скоро он умер. А меня нынче мои театральные недоброжелатели иногда называют «современным Софроновым», хотя эстетика у нас совершенно разная. Правда, есть и кое-что общее: оба мы русские…»
Тогда же, в 1983-м, Юрий Поляков стал лауреатом премии Московского комсомола, и ему довелось впервые столкнуться с премиальными страстями: главный редактор «Московского комсомольца» Лев Гущин (именно его по иронии судьбы в 2001-м Юрий сменит на посту руководителя «Литературной газеты») намеревался выступить против Полякова на бюро горкома, если той же премией не удостоят прозаика Андрея Яхонтова, за которого он особенно ратовал. Однако Яхонтова считал выдвиженцем «безродных либералов» первый секретарь Московской писательской организации Феликс Кузнецов. В результате переговоров в верхах было принято компромиссное решение: премию претенденты получили одну на двоих, по 250 рублей. Торжественное вручение состоялось в легендарной большой аудитории Политехнического музея. Сергей Михалков, протягивая Юрию алый диплом, произнес, заикаясь:
— Т-только не з-заз-знавайся!
В том же году в библиотечке журнала «Молодая гвардия» вышло историко-публицистическое исследование «Между двумя морями. Повесть о поэте».
«…Когда я только задумывал книгу о Георгии Суворове, то набросал схему будущих поисков: что нужно прочесть, где побывать, с кем встретиться. Открывался тот план двумя пунктами:
1. Съездить в село, где поэт родился, — Краснотуранское.
2. Съездить на место его гибели…
Мне казалось, что, побывав в этих местах, я смогу как бы охватить судьбу Георгия Суворова в целом, найти некий ключ к его судьбе. Это ощущение трудно выразить словами, но без него невозможно написать ничего путного о человеке.
…Но два первых пункта моего первоначального плана так и остались невыполненными, потому что выполнить их невозможно. Красноярское море разлилось теперь там, где было село Краснотуранское — родина поэта. Нет, на карте такое название осталось, но это совсем другое, новое село.
А на том месте, где Георгий Суворов погиб и был похоронен, теперь Нарвское море. Два моря скрыли места гибели и рождения поэта, словно убеждая нас: этими двумя датами не ограничены ни жизнь Суворова, ни его творчество!»
Не случайно в повести «Работа над ошибками», увидевшей свет тремя годами позже, школьники вместе с учителем будут разыскивать рукопись романа, автор которого погиб на фронте. И этот поиск, этот урок человечности, даст им импульс в попытке научиться понимать друг друга.
Вскоре Юрий начал выступать в периодике как литературный публицист. 29 октября 1982 года в еженедельнике «Литературная Россия» вышла его программная статья «Право на боль». «Есть боль участника, — писал Поляков, — но есть боль и соотечественника. Человеку, чье Отечество перенесло то, что выпало на долю нашей страны, нет нужды заимствовать чужую боль, потому что она принадлежит всем и передается от поколения к поколению, равно как и гордость за одержанную Победу. Более того, не пропустив через собственную душу, не осознав высокий и трагический опыт, вынесенный нашим народом из войны, нельзя быть по-настоящему современным человеком…»
К этой теме он возвратился в статье «Проникнись моментом!» в «Литературной газете» от 9 мая 1984 года: «Заметьте, военная тема вошла в творчество всех молодых поэтов, независимо от стилистической направленности, литературных ориентаций и темпераментов. И это понятно: ведь «проникнуться моментом» в данном случае одновременно означает и проникнуть в глубины главного, несиюминутного, потому что антивоенная тема из публицистической превратилась в философскую, «вечную», ибо речь идет о жизни и смерти человечества… Отсюда некий как бы «эсхатологический» оттенок таких стихов у молодых поэтов, сориентированных в своих поисках на литературные ассоциации и историко-мифологическую символику. Но разве от этого менее значительны такие строки Юрия Ласского:
И если все ж бессилен будет разум, как часто сны пророчат и грозят, то воды черные накроют землю разом, но лика ничьего не отразят.С какой горькой иронией и неуступчивостью переосмысливает поэт тютчевское четверостишье «Последний катаклизм».
«С Юрой Ласским, — вспоминает Поляков, — знойным, мускулистым и очень талантливым евреем из Ташкента мы дружили. Он был застенчив, раним и лишь, прицеливаясь к очередной жертве своего любвеобилия, становился похож на хищника, правда, нежного. Из Литературного института его выгнал ректор Пименов, который внезапно, войдя в кабинет, обнаружил Юру и свою молодую секретаршу, как говорится, во взаимном расположении на кожаном диване, помнившем еще ягодицы Горького. Мы помогали изгнаннику, чем могли. От отца, большого ташкентского начальника, по-моему, в строительном деле, он свое исключение скрывал. Я напечатал сначала в «Московском литераторе» несколько его стихотворений, а потом процитировал в статье в «Литературной газете» его четверостишье. Заметили! Надо было показать, какого таланта лишился Литературный институт по молодому недоразумению. Пименов вскоре ушел на пенсию, а сменивший его Евгений Сидоров немедленно восстановил Ласского в вузе. Однако жизнь у Юры не задалась. Женился, как и хотел, на балерине, но ребенок родился инвалидом. В Ташкенте его зажимали, силы уходили в основном на халтуру, порой безымянную. Намекал, что пишет для литературных аксакалов, якобы переводы несуществующих стихов. Он стал пить и, кажется, покуривать дурь. В 1990-е перебрался в Москву, и я пытался устроить его на радио: у Ласского был очень красивый, бархатный тембр голоса, убивавший в женщине всякое благоразумие. Но Юра пришел на пробный эфир пьяным в хлам. Кончилось тем, что его зарезали в пьяной ссоре. А весь его клан перебрался, кажется, в Израиль».
Наиболее полно отразились размышления о военно-патриотической теме в большой статье «Наследники», напечатанной в 1984 году в пятом номере журнала «Литературное обозрение». И в первых абзацах уже можно уловить стиль будущей, постсоветской публицистики Юрия Полякова: «Мирные поколения должны знать о войне все, кроме самой войны. Откройте сборник любого поэта, рожденного, как принято говорить, «под чистым небом», и вы непременно найдете стихи о войне… Откуда же она, эта «фронтовая» лирика 70—80-х годов, написанная людьми, не знающими, что такое передовая (линия, а не статья), не ходившими в атаку (разве только учебную)?.. Дело, видимо, в том, что исторический и нравственный опыт Великой войны вошел в генетическую память народа, стал свойством, чуть ли не передающимся по наследству в числе других родовых черт…»
Читатель может возразить, что в то время шла война в Афганистане, где погибли тысячи призывников и офицеров, где люди ходили не в учебную, а в настоящую атаку. Это так, Юрий, конечно, помнил об этой «горячей точке». Вот его стихи на гибель Александра Стовбы, боевого офицера и начинающего поэта:
Материнский охрипший, беззвучный вой. Залп прощальный. И красный шелк. Этот мальчик погиб, выполняя свой Интернациональный долг. Что он думал, в атаку ту поднявшись, Перед тем, как упал и умолк? Тьме отдать непочатую, в общем-то, жизнь — Интернациональный долг. Мы не раз вызволяли народы из тьмы, За полком посылая полк. Пол-Европы засеять своими костьми — Интернациональный долг! Вновь не минула чаша. А сколько чаш Мы испили? Мы в этом толк Понимаем. Наверное, это — наш Интернациональный долг! («Долг». Памяти поэта-офицера Александра Стовбы, погибшего при выполнении интернационального долга)Мы не случайно подробно остановились на ранней публицистике. Если для кого-то «советский патриотизм» и забота «о памяти павших» диктовались тогда конъюнктурой, у Юрия это была принципиальная, глубоко личная позиция. Дальнейшее развитие событий это подтвердило: и после 1991-го он не отрекся от гражданственности и патриотизма, словно предчувствуя назревающую атаку на ценности русской цивилизации. В опросе, проведенном «Литературной газетой» к юбилею Некрасова, едва перешагнувший порог тридцатилетия (а дело было в 1985-м) Поляков заявил:
«Конечно, современное прочтение классического текста — дело тонкое, но все-таки универсальность давних поэтических формул, их, я бы сказал, «обратимость» во времени, разве это не один из тех элементов, что слагают саму литературную традицию? Сатира Некрасова особого рода: она созидательна, она служит утверждению общественного и художественного идеала. Не случайно Александр Блок в статье «Ирония» предпослал эпиграф из Некрасова:
Я не люблю иронии твоей. Оставь ее отжившим и нежившим, А нам с тобой, так горячо любившим, Еще остаток чувства сохранившим, — Нам рано предаваться ей.…Если снова проводить параллели с современностью, некрасовская сатирическая традиция ничего не имеет с той туманной «зааллегоренной» иронией, когда уже и не понятно, что, собственно, хочет сказать сочинитель, когда это уже какой-то иронический «символизм», более того — чисто символическая ирония…»
Пройдет всего шесть лет, тотальный и в то же время амбивалентный иронизм постмодерна пронижет не только поэзию, но и все культурное пространство. А отличительной чертой публициста Юрия Полякова станет способность прогнозировать события в духовной, социальной и даже политической жизни страны.
27 мая 1984 года произошло еще одно знаковое событие: три его стихотворения были опубликованы в «Правде». Одно называлось «Моей однокласснице»:
Листья в желтое красятся, Не заметив тепла… У моей одноклассницы Дочка в школу пошла. Сноп гвоздик полыхающий И портфель на спине. О ты, время, пока еще Зла не делало мне. И пока только силою Наполняли года. Одноклассница, милая, Как же ты молода!…………………..
Редактор отдела литературы «Правды», мягкий толстяк по фамилии Кошечкин, выслушав мои слова благодарности за публикацию, сказал, хитро улыбаясь: «Ну вот, Юра, вы теперь самый молодой советский классик!» — публикация в главной партийной газете, по тогдашним понятиям, считалась своего рода канонизацией. Мы ни словом с ним не обмолвились о том, что без моего ведома строчки: «О ты, время, пока еще зла не делало мне» — переделали так: «Как все это пока еще ясно помнится мне!» В самом деле, о каком «зле времени» можно говорить, если общество под руководством партии движется куда положено? Советские писатели были понятливы. Впрочем, это еще цветочки! В «ЛГ», так же без моего ведома, пошли куда дальше. В стихотворении «В карауле» у меня были строчки, которыми мне хотелось передать, как жутко мерзнет солдат на посту: «И греет руки стылый автомат». «Стылый» — «постылый» — задумался бдительный редактор и переиначил: «К груди прижав любимый автомат». Так и напечатали. Я, прочитав, заплакал, а потом долго не показывался на людях. Казалось, кто-нибудь обязательно подойдет и спросит: «Ну и где, чудила, твой любимый автомат?» Нет, никто не подошел…
А через год меня как «самого молодого классика» включили — единственного из моего поколения — в список выступавших на вечере поэзии в Лужниках в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Я оказался на Малой арене вместе с Егором Исаевым, Риммой Казаковой, Игорем Шкляревским, Сильвой Капутикян, Андреем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной, Ларисой Васильевой, Олжасом Сулейменовым, Андреем Дементьевым, Бобом Диланом, Евгением Евтушенко, приведшим за руку несчастную Нику Турбину — маленькую девочку со взрослым макияжем и ужимками светской львицы.
О, телефонные звонки, Вы с Богом наперегонки! —прочитала с салонной томностью юная поэтесса — новая игрушка Евгения Александровича. И двадцать тысяч любителей поэзии, заполнивших трибуны, одобрительно заревели. Я сидел, дожидался своего часа и думал о том, что прославиться на весь мир совсем не трудно, достаточно выйти к микрофону и прямо перед камерами, под софитами, хлопнуться в обморок. Мой придавленный, но не побежденный до конца фобический невроз сладко леденил сердце этой милой перспективой. Дело в том, что в пионерском возрасте я завалился без чувств на сцене Дома пионеров, выронив из рук знамя, и прогремел на весь район. А тут я к тому же накануне пережил довольно сильный стресс: за день до вечера в Лужниках ко мне в ресторане ЦДЛ подошел Евтушенко, с которым я знаком прежде не был, и спросил:
— Вы Поляков?
— Я.
— Когда-нибудь вы будете этого стыдиться!
— Чего?
— Того, что согласились выступать в Лужниках!
— ?
— Вы понимаете, что вы далеко не самый талантливый поэт в поколении!
— Не самый… — кивнул я.
— Почему согласились?
— Меня назначили… — пролепетал я.
— Знаю, почему вас назначили! — сардонически усмехнулся лидер громкой поэзии, намекая на то, что я комсорг писательской организации.
— Не я первый, не я последний, — ответил я, намекая на то, что лет пятнадцать назад Евтушенко и сам возглавлял ту же самую организацию.
— Вы не имеете права опозорить поколение! — рассердился он.
— Я постараюсь.
— У вас есть с собой книга?
— Есть. — Я достал из кармана только что вышедший в «Современнике» сборничек «История любви».
— Дайте! — Он сел за столик, заказал кофе и стал брезгливо листать страницы с такой скоростью, точно владел искусством скорочтенья.
Я сидел, как вспотевшая мышь, разглядывал золотой перстень с печаткой на его длинном пальце и вспоминал межиров-ские строки, посвященные, как утверждали злые языки, Евгению Александровичу:
На одной руке уже имея Два разэкзотических кольца, Ты уже идешь, уже наглея, Но пока еще не до конца…Наконец лицо Евтушенко вздрогнуло, посветлело, и он поглядел на меня с тем прощающим удивлением, какое бывает у людей, если они узнают, что откровенно не понравившийся им неприятный субъект, оказывается, спас из полыньи ребенка.
— Вот это читайте! — Он ткнул пальцем в стихотворение, которое я написал еще в армии и даже сначала не хотел включать в сборник.
Называлось оно «Детское впечатление».
Христос ходил по водам, как по суше, Хоть обладал такой же парой ног. Мне десять лет — и я Христа не хуже, Но по воде бы так пройти не смог. Так значит, я — совсем не всемогущий? И для меня есть слово «никогда»?! Не может быть, Наверное, погуще Была вода в библейские года…— А мне сказали, вы вообще писать не умеете… Умеете… Странно… — прощаясь, сказал мэтр.
И вот я сидел в центре Малой арены Лужников и ждал своего часа. Отчитала голосом проснувшейся весталки Ахмадулина, отыграл «Казнь Стеньки Разина» сам Евтушенко, одетый в яркий гипюровый пиджак. Пришла и моя очередь. Я встал, плюнул в лицо своему неврозу, подошел к микрофону, посмотрел на футбольное обилие слушателей и прочитал «Ответ фронтовику» (то самое, которое так полюбилось Юлии Друниной. — О. Я.):
Не обожженные сороковыми, Сердцами вросшие в тишину, Конечно, мы смотрим глазами другими На вашу большую войну. Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам О горьком победном пути, Поэтому должен хотя бы наш разум Дорогой страданья пройти. И мы разобраться обязаны сами В той боли, что мир перенес… Конечно, мы смотрим другими глазами, Такими же, полными слез.В конце на моих глазах засветились самые настоящие слезы. Мне долго хлопали. Но я знал: второго стихотворения читать нельзя — не по чину и не по возрасту. Я вернулся на место и поймал на себе запоминающий взгляд Евтушенко. Чести поколения я не посрамил.
(Из неопубликованного. «Книга о советской юности»)…………………..
Тут впору поговорить о поэтическом поколении, к которому принадлежит Поляков. Да, он не был самым ярким его выразителем, но и не терялся в нем. Критик Владимир Куницын так отзывался о его стихах: «Стихи его… очень простые по форме, безыскусны, напоминают рифмованное изложение впечатлений, бытовых зарисовок, какой-то дорогой автору мысли. Это развернутые в поэтической форме вехи «личного опыта», как точно назвал сам поэт свой последний сборник. Но при всем том эти стихи настолько открыты по лирическому чувству, так обезоруживающе искренни, что поднимаются до поэтического факта. В конце концов у нас так много поднаторевших в эстетических хитростях поэтов, но зачастую пробиться к душе и сердцу этих поэтов, к их истинным, человеческим ощущениям, замаскированным сложными метафорами и ритмами, столь бывает трудно, что такая распахнутая, как у Полякова, душа лирического героя иной раз кажется просто благодатью».
«Читая именно любовную лирику Полякова, — напишет коллега по литературному цеху Надежда Кондакова в посвященной ему статье с говорящим названием «Поэт Бронзового века», — я из нынешнего своего далека явственно вижу, как менялась не столько лексика и музыка, сколько энергетика его стихотворений. Для меня совершенно ясно, что он сам первый ощутил это состояние — «охлаждение возраста», убывание поэтического восторга перед жизнью, невозможность возврата в прошлое. Поэзия Юрия Полякова никогда не была «глуповатой» (по Пушкину), но непосредственной (а именно это, я думаю, имел в виду классик) — была. И даже малая толика утраченного должна была насторожить поэта. И, видимо, настораживала».
Далее она отмечает, что стихи, которыми завершается последний сборник поэта, насквозь пронизаны иронией, возобладавшей в общем литературном пространстве поколения — и, добавим, ставшей неизменной составляющей стиля Полякова-прозаика.
«Примерно в том же временном отрезке я тоже пережила своеобразную «ломку» и очень хорошо помню то свое душевное состояние. Боязнь самоповтора, с одной стороны, с другой — ощущение, что рифмовать можешь «легко и километрами», а с третьей — предположение, что все на свете «уже сказано». До тебя».
«Третьей стороны» у Юрия Полякова точно не было — тем более что третью сторону трудно себе представить в любой оппозиции. Ну или, возможно, говоря о третьей, стоит поискать и четвертую сторону — для смыслового равновесия. Четвертой, видимо, в нашем случае стало обилие накопленных впечатлений, называемых жизненным опытом, которое невозможно вместить в стихотворную форму. Юрий Поляков вступал в пору литературной и гражданской зрелости — и это состояние само диктовало ему знаменательный поворот к иному способу самовыражения.
Говоря о слышной уже в те годы «грозной поступи постмодернизма», Надежда Кондакова замечает:
«…В подземных кладовых русского андеграунда созрела и готова была занять свои места на сцене другая часть того же самого поколения, к которому принадлежал Ю. Поляков…
В совокупности это поколение ничуть не уступает знаменитым «шестидесятникам», — утверждает Кондакова, — а может быть, даже коллективно превосходит их по глубине и метафизичности постижения истории, по трагедийности взгляда на жизнь и личностной цельности, по широте русской географии, представившей эти таланты. Это нам выпало присутствовать при крушении советской цивилизации: одним — оплакать ее, другим — порадоваться этому, третьим — замолчать на долгое время, четвертым — спиться и погибнуть. Но литературную бронзу заслужили все поэты Бронзового века. <…> Расставшийся с поэтической музой Юрий Поляков — один из этого советского «бронзового» поколения. Без него — оно неполное».
Поляков и сам чувствовал в себе и констатировал эти перемены, которых ничто не предвещало. «…Все у меня шло хорошо и даже прекрасно, — рассказывал он в эссе «Как я был поэтом». — Выходили одна за другой поэтические книжки — всего четыре. Я широко печатался в периодике, выступал на радио и даже на телевидении. На литературных вечерах срывал аплодисменты. Получил за свои книги несколько литературных премий, в том числе премию Московского комсомола, что было по тем временам очень серьезно. Я был несомненным баловнем успеха. <…>
…Стихи меня кормили. Я получал гонорары за публикации, но что еще серьезнее — подружился с Всесоюзным бюро пропаганды художественной литературы. Великая была организация! Могла тебя откомандировать для творческих встреч с трудящимися в любой уголок Отечества — хоть на Алтай, хоть на Сахалин, хоть в ныне суверенную до неузнаваемости Эстонию… Выступив перед читателями, ты должен был отметить в месткоме особую путевку. За выступление полагалось 15 рублей. Деньги предприятия и организации охотно перечисляли из так называемых фондов соцкультбыта. Понятное дело, в дальние края меня отправляли не с одной путевкой. Прибыв на место, я обычно шел к партийному начальству, которое, сделав несколько строгих директивных звонков, направляло меня в массы».
Отнюдь не все председатели колхозов радовались при виде столичного гостя: в страду у колхозников не было свободной минуты. Но все-таки в обеденный перерыв люди, слушая его стихи, искренне аплодировали. Так когда-то артисты выступали перед готовыми к атаке бойцами, воодушевляя их на ратный подвиг. Поэт понимал, что просто обязан зарядить людей поэтической энергией, которая поможет им в тяжелом труде. Обычно особые эмоции вызывали у слушателей лирические строчки, которые порой исполнялись на бис:
И если мы любовь уже не ценим За красоту, как небо и цветы, Попробуем беречь хотя бы в целях Охраны окружающей среды…«Никогда не было и не будет, наверное, более благодарных слушателей стихов, чем женщины из российской глубинки. Они, несмотря на свою трудную и довольно однообразную жизнь (а может быть, именно благодаря этому), обладают чрезвычайно высокой душевной культурой и особой чуткостью к слову. Поэт просто обязан постоянно проверять себя чтением стихов, скажем, в районной библиотеке. Если люди, собравшиеся там, не воспринимают твои стихи, не сопереживают им, значит, делаешь что-то не то. <…> Стихи, оставляющие эмоционально-равнодушной «нефилологическую» публику, — не поэзия. Возможно, это какой-то другой, весьма уважаемый и перспективный вид интеллектуальной игры, в которой тоже используются размер, рифмы, тропы… Но поэзия — это то, от чего загораются глаза и холодеет под ложечкой у грустной бухгалтерши, пришедшей вместо обеда послушать залетного стихотворца. Советская поэзия дала не только несколько поколений прекрасных поэтов, она воспитала несколько поколений замечательных читателей и слушателей поэзии».
Конечно, бывало и такое, что руководитель колхоза или предприятия не был готов развивать и просвещать своих работников вместо того, чтобы гнать с ними план. Случалось даже, что столичному гостю засчитывалось больше встреч с читателями, чем было на деле. Юрию и совестно было принимать в таких случаях подписанную и скрепленную печатью путевку, но директор колхоза обычно искренне радовался, что ловко решил возникшую проблему, и совесть успокаивалась. Да, деньги на соцкультбыт руководители производств порой зажимали, но тратить их на что-либо еще, даже при острой необходимости, не могли.
В начале 1980-х Юрия Полякова знали все начинающие поэты СССР от Бреста до Курил: несколько лет он вел на Всесоюзном радио в рамках передачи «Ровесники» поэтический клуб «Березка»: разбирал присланные в редакцию стихи и давал советы вступившим на тернистую тропу стихотворчества. Писем приходили — без преувеличения — мешки.
В те же годы он руководил еще и литературным объединением в молодежном центре «Авангард» на Каширском шоссе, недалеко от своего дома. На бурные обсуждения стихов и дискуссии собирались порой до ста человек; кстати, некоторые семинаристы стали потом профессиональными литераторами. Однажды руководителя объединения срочно вызвали к первому секретарю Красногвардейского РК ВЛКСМ Вячеславу Всеволодовичу Копьеву.
«Я вошел в кабинет. Навстречу поднялся мой ровесник — рослый (выше меня), спортивный, черноволосый. Он улыбнулся с той ничего не значащей аппаратной приветливостью, после которой мог последовать жесточайший нагоняй. Я в ту пору напечатал свои первые визитные карточки, извещавшие, что вы имеете дело не только с членом Союза писателей СССР, но и кандидатом филологических наук. Он прочитал, посмотрел на меня с уважением и тоже протянул визитку: кандидат физико-математических наук. Теперь и я посмотрел на него с уважением.
— Ну, как там у вас дела в «Авангарде»? — спросил Копьев.
— Ищем таланты. Обсуждаем. Спорим.
— О чем?
— О литературе.
— И об антисоветской? — В его глазах блеснул огонек дознавателя.
— Почему вы так думаете?
— Сигнал был.
— Это неправда! — твердо полусоврал я.
— А как же Ходасевич?
— Его стихи недавно опубликовали в «Сельской молодежи»!
— Да вы что? Как же я пропустил… — Ему явно полегчало. — Так это же меняет дело! Ну, тогда успехов вам в поиске талантов. Но поаккуратнее. Люди-то вокруг разные.
Я подарил ему свою книжку стихов «История любви», и мы расстались довольные друг другом…»
(Вячеслав Копьев — запомним это имя. Он сыграет в судьбе Юрия очень важную роль.)
И вот посреди этой налаженной, обещавшей новые радости жизни Юрий Поляков вдруг ощутил, что «перестал быть поэтом»:
«Это похоже на угасание любви. Очевидно, за поэзию и любовь отвечают в нас какие-то очень схожие пептиды. Сегодня вдруг ты заметил, что у твоей единственной женщины широковаты щиколотки. Конечно, ничего страшного, а все-таки… Через несколько дней ты вдруг обращаешь внимание на то, что она слишком громко смеется. Нет, не вульгарно, просто громко. Но все же… Еще через неделю, когда неожиданно сорвалось ваше свидание, ты чувствуешь, конечно, досаду, но впервые с легким привкусом облегчения. Едва заметным, а тем не менее… Наконец, во время плотского слияния, которое еще недавно было для тебя пьянящим смыслом и назначением всей жизни, ты неожиданно видишь ваши объятия как бы со стороны, ощущая себя участником странных состязаний по межполовой классической борьбе…
Примерно то же самое происходит, когда из души уходит поэзия. В один прекрасный день ты понимаешь, что можешь жить и без стихов. Вчера не мог, а сегодня можешь. Нет, ты, конечно, еще способен их сочинять, и в немалом количестве, благо рука набита — можешь зарифмовать телефонный справочник. Но теперешние, вымученные строчки от прежних, настоящих, отличаются так же, как искусно выполненный восковой муляж от подлинной ароматной антоновки, тронутой крапчатой осенней желтизной. И главное: если прежде стихи были отрадой для души и мукой для разума, то теперь как раз наоборот — они стали мукой для души и отрадой для разума, изощренного в рифмах и тропах».
Уходя из поэзии (как ему казалось — навсегда), Юрий сохранил, конечно, связь со своим поэтическим поколением, в котором выделял и выше всех ценил своего ровесника Николая Дмитриева. В трудные годы, когда поэтов, особенно традиционного направления, почти не печатали, возглавив «Литературную газету», Поляков «пробил» большой сборник Дмитриева «Ночные соловьи» в престижной молодогвардейской серии «Золотой жираф», постоянно вытаскивал нелюдимого ровесника на телевидение.
* * *
Сергей Мнацаканян потом напишет: «Из своих ровесников Юра в 70-е годы (да и потом) особо отличал Колю Дмитриева — поэта из Подмосковья. Коля тогда стал самым молодым членом Союза писателей, ему помогал поэт-фронтовик Николай Старшинов. Дмитриев много лет работал школьным учителем, как некоторое время и Юрий Поляков. Когда к молодому поэту из Балашихи (куда он переехал из другого подмосковного местечка) пришла начальная известность, появились и первые деньги. Коля не выдержал этого испытания — и время от времени запивал. Как итог три инфаркта и относительно ранний уход из жизни — в 53 года. Конечно, смерть Дмитриева пробила очередную брешь в его поколении. Юрий Поляков, который дружил с Николаем, остро пережил уход товарища и не остался безучастным к его посмертной судьбе. Он просил о переименовании одной из балашихинских улиц, чтобы увековечить имя поэта в родном Подмосковье, помогал с открытием музея, а главное — нашел возможность издать прекрасный том ушедшего поэта — практически полное собрание сочинений — и написал к этому тому предисловие под названием «Зимний Никола». В этих отношениях не было прагматизма, только душевная приязнь, как и в отношениях со многими близкими людьми — коллегами и друзьями по жизни».
Если говорить о судьбе Николая Дмитриева, то в человеческом, а не поэтическом плане она была воистину горькой. Отвоевавший отец рано ушел из жизни, а когда Николая призвали в армию, умерла и мать. Вернулся он не просто в опустевший — но в разграбленный родительский дом, из которого было вынесено все ценное, вплоть до отцовских фронтовых наград. Нехитрым родительским добром поживились, кажется, и соседи. Ему было за что пенять на судьбу, но он этого не делал, только пил горькую. Зато у Николая был прекрасный крепкий тыл: преданная и понимающая жена Алина, чудесные дети, с которыми он вечерами разглядывал звезды в купленную по случаю подзорную трубу… Он жил стихами, а потому порой предавался житейским стихиям, но это не умаляло его таланта и человеческих качеств.
Вот что Поляков писал в предисловии к сборнику «Ночные соловьи»:
«Николай Дмитриев был и остается самым значительным открытием моего поэтического поколения. Его первая книжка «Я — от мира сего» вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1975 году, когда автору, только-только окончившему Орехово-Зуевский педагогический институт и работавшему сельским учителем, исполнилось всего 22 года. При тогдашней неторопливо-плановой системе выпуска сборников современной поэзии это был не просто ранний, а сверхранний дебют, ибо, как правило, в ту пору первую книгу поэтам удавалось «пробить» после тридцати, а то и после сорока. Иным эти трудности старта испортили литературную биографию и характер. Но очень многих уберегли от профессии, на которую у них попросту недоставало таланта.
Я хорошо помню эту тоненькую, в один авторский лист, брошюрку на тетрадных скрепочках из серии «Молодые голоса», потому что все мы, юные и не очень юные «бескнижные» поэты внимательно ее читали и бурно обсуждали между собой. Общеизвестно, творческая ревность — один из важных движителей литературного процесса, и всякий поэт склонен объяснять успех собрата по перу любыми, самыми фантастическими обстоятельствами, но только не талантом. Однако в случае с Николаем Дмитриевым все было как раз наоборот: его дар оказался настолько очевидным, органичным и столь рано стилистически оформился, что оставалось только недоумевать, гадая, как, каким образом наш ровесник в то время, когда мы еще только учимся вгонять смысловую внятность в рифмованный размер, пишет стихи, словно взятые из какой-то будущей хрестоматии:
За окном проселок хмурый Да кротами взрытый луг. Я — полпред литературы На пятнадцать верст вокруг. Много теми, много лесу, Все трудней проходят дни, А в дипломе — что там весу! Только корочки одни. И девчонка (вы учтите), Лишь под вечер свет включу, «Выходи, — кричит, — учитель, Целоваться научу!»Прошло без малого тридцать лет, а во мне до сих пор живет светлая, почти счастливая оторопь от первого прочтения стихов Николая Дмитриева. Я вдруг понял, что столкнулся с одним из тех редких случаев (известных мне в основном по классике), когда слова не сбиваются в стихи усилием филологической воли, а таинственным образом превращаются в поэзию, как вода — в вино. Возникало даже странное, брезжащее откуда-то из потемок родовой памяти ощущение, будто когда-то очень давно люди вообще свободно разговаривали и мыслили стихами, потом этот дар был утрачен и совершенно неожиданно вновь обрелся у этого молодого учителя словесности из подмосковного города Руза.
Но не только «органикой поэтического языка», как сказал бы специалист, Николай Дмитриев привлек к себе в середине 70-х внимание читателей, ровесников-стихотворцев и таких знаменитых поэтов, как Николай Старшинов, а позднее — и Юрий Кузнецов. Напомню, это были последние годы торжества могучей советской цивилизации, казавшейся в ту пору еще незыблемой. Так вот, «советизм» — совершенно искренний, талантливый у одних и бездарный, подхалимский у других — пронизывал весь тогдашний поэтический мейнстрим, если выражаться нынешним языком. Огромным художественным и нравственным авторитетом пользовались «стихотворцы обоймы военной», не выдвинувшие, по точному замечанию Сергея Наровчатова, поэта, равного Пушкину, но все вместе, в совокупности, ставшие таким вот Пушкиным XX века. Еще вполне искренне пели «Гренаду» и читали со сцены по праздникам «Стихи о советском паспорте». Сейчас это кажется невероятным, но советская версия русского патриотизма обладала тогда огромной пассионарной мощью и вдохновляла таких разных поэтов, как Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Межиров, Ф. Чуев, Л. Васильева, В. Соколов.
Впрочем, уже набирала силу и поэзия, строившаяся на уклонении от «совка», молчаливом неприятии советских мифологем, а то и на зашифрованном, убранном в подтекст их осмеянии. Из этого направления потом вырос, вырвавшись из-под цензуры, литературный соц-арт, именуемый почему-то «концептуализмом». Противостояние двух мироощущений очень забавно отражалось в поэтической тематике и атрибутике, наполняя стихи одних бамовскими спецовками и комиссарскими кожанками, а строчки других — фонарщиками и крысоловами с дудочками. Впрочем, были и такие, которые вполне непринужденно писали и о крысоловах, и о пыльных комиссарских шлемах.
Так вот, стихи Николая Дмитриева каким-то непостижимым образом выпадали из этого противостояния, предлагая некий третий путь, иную форму мировосприятия.
«Пиши о главном», — говорят. Пишу о главном. Пишу который год подряд О снеге плавном. О желтых окнах наших сел, О следе санном, Считая так, что это все — О самом, самом. Пишу о близких, дорогих Вечерней темью, Не почитая судьбы их За мелкотемье…Собственно, только одно слово в этом стихотворении — «мелкотемье» — возвращает нас к литературной борьбе, которая разворачивалась тогда. И надо сказать: слово это у Николая Дмитриева означает совсем не то, что означало оно в сердитых критических статьях, распекавших тогдашних поэтов за уход от проблем советского варианта глобализации в «бытовую лирику». Это вовсе не свидетельствует о том, что поэта не волновали те проблемы, которые тревожили его сверстников. Например, у тогдашних молодых поэтов было немало стихов, посвященных Великой Отечественной войне. Кто-то, мысливший себя вне героики русской истории, считал это «ковырянием в чужих ранах». Большинство полагали здоровым литературным патриотизмом. Но мало кто догадывался, что на самом деле это — приобщение к духовному опыту выстоявшего поколения победителей накануне сокрушительных испытаний, которые вскоре вновь обрушатся на Россию. Именно знаменитое, вошедшее во все антологии стихотворение Николая Дмитриева «В пятидесятых рождены…» стало символом этого приобщения — приобщения не ритуально-идеологического, а глубинного, если хотите, на нравственно-генетическом уровне.
В пятидесятых рождены, Войны не знали мы, и все же Я понимаю: все мы тоже Вернувшиеся с той войны. Летела пуля, знала дело, Летела тридцать лет назад Вот в этот день, вот в это тело, Вот в это солнце, в этот сад. С отцом я вместе выполз, выжил, А то в каких бы жил мирах, Когда бы снайпер папу выждал В чехословацких клеверах?..<…> И снова, как в начале творческого пути, поэт обращается за поддержкой к своему главному нравственному судье — фронтовику-отцу, уже ушедшему из жизни и являющемуся своего рода потусторонним протагонистом героического поколения, сохранившего, отвоевавшего Отечество. О чем же диалог отца и сына, говорящего от имени поколения, не сохранившего свою страну?
И спросит он не без усилья Вслед за поэтом, боль тая: — Так где теперь она, Россия, И по какой рубеж твоя? Нет у меня совсем ответа. Я сам ищу его во мгле, И темное безвестье это Удерживает на земле.<…> В его стихах есть то щемящее совершенство, та влекущая сердечность, та словесная тайна — в общем, все то, что заставляет вновь и вновь возвращаться к его строчкам, которые постепенно, неуловимо и навсегда становятся частью души читателя, облагораживая и возвышая ее. А ведь, по сути, для этого и существует Поэзия».
В статье о Николае Дмитриеве автор высказал оригинальное суждение о природе поэтического творчества, проявив профессионализм литературоведа и продемонстрировав особый вербальный слух, умение уловить семантические и смысловые оттенки, которое так ярко проявилось в его прозе.
Вдова Николая Дмитриева вспоминала: «Когда пришли сигнальные экземпляры «Ночных соловьев» (а такой толстой и красиво оформленной книги у него никогда не было), Коля долго разглядывал, даже гладил обложку, а потом вдруг спросил меня:
— Как ты думаешь, почему Юра мне помогает?
— Наверное, потому, что любит тебя как поэта.
— Да? А разве за это помогают? — удивился он».
* * *
В 1987-м в «Советском писателе» вышла четвертая книга Полякова «Личный опыт». Там, кстати, впервые появились верлибры. В тематическом плане «Молодой гвардии» на тот же год значился новый сборник в серии «Второе дыхание». Но автор пришел к заведующему редакцией поэзии — сменившему Вадима Кузнецова Георгию Зайцеву и сказал, что у него нет новых стихов и он отказывается от издания. Наверное, этот день и можно считать Рубиконом, перейдя который Юрий окончательно связал свою литературную судьбу с прозой. Зайцев был поражен: такого в его практике еще не было — отказаться от книги! В стране были проблемы с бумагой, и даже лауреаты вылетали из тематических планов, а иные за позицию в плане бились буквально насмерть. Ради новой книги поэты опустошали свои архивы, перелицовывали старые стихи или давали им новые названия, разбивали классические катрены на «лесенки» — лишь бы выпустить еще одну книгу. А тут…
— К-как отказываешься?
— Да, отказываюсь, но при условии, что бумагу отдадут молодым поэтам.
Так вместо новой книги Полякова вышел в свет коллективный сборник трех молодых поэтов. К тому времени Поляков стал секретарем правления СП РСФСР по работе с молодыми писателями и старался продвигать свое поколение. Он убедил издательство «Современник», благоволившее более к почвенникам, выпустить сборник Владимира Вишневского и вместе с другими добился того, что в союз сразу приняли большую группу молодых авторов — и среди них того же Андрея Чернова.
В самом конце своего четвертого поэтического сборника Поляков поместил «Футурологические стихи», которыми с обычной для него иронией словно бы попрощался с читателями:
Все бесследно уходит, и все возвращается снова. И промчатся года или даже столетья, но вот Отзовется в потомке мое осторожное слово И влюбленный студент в Историчке мой сборник возьмет. Полистает небрежно, вчитается и удивится: «Надо ж, все понимали, как мы, про любовь и про снег…» Но потом, скорочтеньем скользнув остальные страницы, «Нечитабельно, — скажет. — Двадцатый — что сделаешь — век!..»* * *
Судьба Полякова-прозаика в начале 1980-х разительно отличалась от судьбы Полякова-поэта. Так бывало в ту пору. Мало кто знал, что у классика юношеского детектива, автора «Кортика» Анатолия Рыбакова есть «непроходной» роман «Дети Арбата». Да и автор романов о рабочем классе Анатолий Приставкин уже сочинял свою «Тучку». Участь поляковских «Ста дней…» была туманна. Судя по тому, какой жесткий отпор она встречала в контролирующих органах, ей предстояло пролежать в столе не один год. Обивая пороги, чтобы добиться публикации повести, Юрий уже понимал, что правда, которую он стремился донести до читателей в прозе, режет глаз слишком многим начальникам. Рассчитывать на то, что та же волна, которая подхватила его в начале литературного пути, легко понесет и дальше, не приходилось. Надо было, как тогда выражались, «пробивать» свою вещь в печать. И он занимался этим упорно и даже с выдумкой.
Главным было «легализовать» практически запрещенную повесть. И вот 2 декабря 1983 года в «Литературной России» на десятой полосе появилась развернутая информация, с вынесенным в заголовок названием «Сто дней до приказа». «Так называется рукопись повести лауреата премии Московского комсомола Юрия Полякова, обсуждение которой провела комиссия по военно-художественной литературе МО СП РСФСР…» — сообщалось в газете. Сейчас это может показаться пустяком, но тогда, при строгой регламентации советской прессы, позитивное упоминание словно свидетельствовало: речь идет о произведении с трудной, но небезнадежной судьбой. А 27 января 1984-го в «Московском литераторе», в подписанном новым редактором Владимиром Фомичевым номере, целую полосу занял фрагмент опального сочинения под названием «Призыв». К тому времени Поляков уже оставил пост главного редактора, и его сменил Владимир Фомичев, а затем — Владимир Шленский. Юрий перешел в журнал «Смена» ЦК ВЛКСМ, куда его пригласил главный редактор Альберт Лиханов. Но там Поляков не задержался: не сошелся характером с деспотичным главредом. Дело дошло до словесной перепалки, в ходе которой Поляков не сдержался. Лиханов настрочил жалобу в ЦК ВЛКСМ и принялся ходить по высоким партийным кабинетам, желая «перекрыть Полякову кислород».
«Выручило то, что рукопись «ЧП…» как раз лежала на столе у первого секретаря ЦК ВЛКСМ Виктора Мишина, — вспоминает «колебатель основ», — и тот мудро рассудил, что выговор молодому коммунисту Полякову расценят как месть за острую повесть, а это в планы комсомольского руководства не входило. К тому же все знали крутой нрав и ревнивость писателя Лиханова к коллегам по перу. Многие, надо заметить, с облегчением вздохнули, когда «певец трудного детства», получив от политбюро добро и средства на создание Детского фонда имени В. И. Ленина, навсегда покинул руководящие ряды молодежной печати. Поговаривали, что идея такого фонда принадлежала Сергею Михалкову, он о ней часто рассказывал сподвижникам, но замотался по загранкомандировкам и вовремя не оформил авторство письмом в инстанции».
Так что Юрий благополучно, то есть без партийного выговора, ушел на вольные хлеба — которые ничего ему не гарантировали, кроме творческой свободы. Но скоро случилось несчастье: с похмелья от острой сердечной недостаточности умер Владимир Шленский, и Юрий на год с небольшим (1986–1987) снова возглавил «Московский литератор».
«Мы стояли в Малом зале ЦДЛ у гроба Шленского, деятельного, текучего, как ртуть, а он был впервые неподвижен и отрешен. Только что по стране прогремели его песни о послевоенном танго и последнем шансе. Он, наконец, получил то, к чему с напористостью краснопресненского хулигана шел все свои сорок лет: деньги и славу. И умер в чистом поле, на Днях литературы в Ульяновской области. Там слишком хорошо угощали. Мы переглядывались: Володя был второй страшной потерей наших смежных поколений. За несколько лет до этого упал с платформы, и тоже по пьяни, талантливый поэт Саша Тихомиров.
— А я думал, ему сносу не будет, — шепнул мне Андрей Богословский…»
* * *
И вот наконец в 1988 году издательство «Молодая гвардия» тиражом 100 тысяч экземпляров выпустило книгу «Сто дней до приказа», со всеми тремя нашумевшими повестями. В ту пору в борьбе с книжным дефицитом, а заодно и с черным рынком, была придумана система книгообмена. В магазинах оборудовали витрины, где любой библиофил мог выставить для обмена свою книгу. Издания разделили на несколько категорий в соответствии с востребованностью. «Сто дней до приказа» стояли на самой высокой полке: на них можно было выменять любую редкую книгу.
Анализируя свою упорную борьбу за публикацию первых повестей, Поляков позднее писал: «Литература имеет множество функций и мотиваций; одна из них, кстати, немаловажная, — заранее оповещать общество о неблагополучии, еще не ставшем бедствием. Это — ее долг. Долг власти — улавливать эти сигналы и менять что-то в политике, экономике, социальной мифологии и т. д. Власть, реагирующая на любую критику как на клевету, обречена: значит, она утратила энергию внутреннего развития и скоро рухнет, но не от колебания основ, а от своей исчерпанности».
Можем лишь добавить: позднее стало очевидно, что среди ретроградных начальников были даже не «колебатели», но разрушители основ. Так же как были и те, кто остро ощущал слабость власти, удерживаемой дряхлым политбюро. Эти люди предчувствовали, что смена поколений у кормила власти станет не благотворной, но во всех смыслах сокрушительной — для страны и советского народа.
* * *
Так в 1989-м Поляков был по факту признан «самым молодым классиком советской литературы»: его имя появилось в новых перестроечных изданиях «Большого энциклопедического словаря», а повести «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба» и «Работа над ошибками» вошли в школьную программу, фигурировали в экзаменационных билетах и темах сочинений. Но после «Апофегея» начал формироваться миф о Полякове-конъюнктурщике, который, успешно имитируя критику, на самом деле фактически служит власти и прикормлен ею. В 1990 году на экраны вышел кинофильм «Ай лав ю, Петрович!» о судьбе талантливого человека, не нашедшего себе места в «совке» и ставшего бомжом. Эту роль исполнил благополучный, но печальный от природы актер Игорь Ясулович, а в качестве антипода честному Петровичу был выведен в эпизоде успешный молодой писатель, прославившийся критикой армии и комсомола. Одетый в дорогую дубленку и обнимая сразу двух девиц, он хвастал перед ними своими победами. Внешне актер, исполнивший эту маленькую роль, был удивительно похож на автора «ЧП…» и «Стадией…». Но демонстративная неприязнь создателей фильма никак не повлияла на отношение к его произведениям читателей, оно не зависело от того, как воспринимали Полякова в продвинутых литературных кругах — и от того, что писала о нем критика.
Глава пятая ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ (1992–1999)
Гласность — это либеральный террор.
М. Салтыков-ЩедринВ конце 1991-го, когда под свист и улюлюканье охваченной демократическим ражем толпы рушилась страна, Полякова, после шести лет либеральных похвал, окатила ледяная волна либеральной же неприязни, с которой была встречена повесть «Парижская любовь Кости Гуманкова». Впрочем, после «Апофегея» это было ожидаемо.
На одного из самых известных писателей в стране как из рога изобилия посыпались обвинения в «конъюнктурности». «Его повести были (обратим внимание на прошедшее время! — О. Я.) явлением не столько литературы, сколько литературно-общественной жизни», — утверждала в «Литературном обозрении» Елена Иваницкая в статье «К вопросу о…». А Борис Кузьминский в статье «Прокрустов престол» в «ЛГ» определил Полякова в обойму «уважаемых не за качество текста, а за прежние заслуги». Новым словом в отечественной словесности считались тогда сочинения В. Пьецуха, В. Нарбиковой, А. Кабакова, С. Соколова, Е. Попова, А. Приставкина, А. Рыбакова, Т. Толстой, С. Каледина, М. Веллера, А. Слаповского…
Кумиром либеральной критики отныне несложно было стать, разоблачая проклятое советское прошлое. Правда, имена многих разоблачителей лет через десять, как правило, уже не вспоминали. Что ж, это были их «пятнадцать минут» славы.
Но и критика патриотического толка с большим подозрением относилась к Полякову и его творчеству, которое нельзя было подогнать под мерки близкого ее сердцу соцреализма, который, правда, не был ему совершенно чужд. Первые повести Полякова не удостоились рецензий на страницах почвеннических газет и журналов, которые так и не включили его в обойму авторов нового литературного поколения, куда вошли А. Буйлов, Т. Набатникова, А. Курносенко, В. Хайрюзов, С. Алексеев, П. Паламарчук, А. Сегень, М. Попов.
Однажды в Доме творчества «Переделкино» Валентин Распутин, прочитавший подаренный накануне «Демгородок», грустно спросил: «Юра, почему вы все время иронизируете? Россию не любите?» — «Гоголь тоже иронизировал», — ответствовал Поляков, не считавший свою иронию чем-то зловредным для страны. «Но вы ведь не Гоголь…» — упрекнул его Распутин, творчеству которого ирония категорически чужда. Разговор оставил неприятный осадок: Юрий и раньше видел, что в кругу писателей патриотического направления его дар сатирика вызывает недоумение и даже раздражение, и слова Распутина это еще раз подтвердили. В свое время «Сто дней до приказа» из «Нашего современника», возглавляемого поэтом-фронтовиком Сергеем Викуловым, ему вернули со словами: «Плакать хочется, а он смеется!»
Однако что же делать человеку, если его творческая манера не нравится тем, в ком он видит своих единомышленников? Стараться всем понравиться приличном общении? Изменить свой взгляд на вещи? Оставаться собой? Это был еще один камень у развилки дорог, но тут долго колебаться не пришлось: Поляков выбрал особый путь, который не сделал его своим ни в одном из идейных лагерей, но зато позволил вполне проявиться его таланту, столь полюбившемуся читателям.
Вот как сам он художественно трактовал тогдашнее отношение либералов и патриотов к своему творчеству: «…Мы, понимаешь, готовимся тут к последнему и решительному бою с Красным Египтом, а этот гад Поляков затомился вдруг по проклятому совку. Да и вообще, повестушка вышла какая-то дрянная, вялая, никудышная. Где задор разоблачения, где азарт ниспровержения? Видимо, автор исписался. Почвенническая критика и вовсе не заметила «Парижскую любовь». Какие там охи-вздохи, какие заграничные каникулы любви, если инородцы жмут по всем фронтам, а настоящая фамилия Ельцина — Элькин! С тех пор я так и обитаю на простреливаемой полосе отчуждения между либералами и патриотами. Впрочем, я там такой не один…»
На этой полосе Поляков оказался не вдруг и не от недомыслия, а совершенно сознательно. На ней он и остался.
Владимир Бондаренко так писал о творческом одиночестве Полякова: «Он одинок не только среди правых и левых. Он одинок среди эстетствующих авангардистов и народничающих традиционалистов. Он соединил увлекательность, занимательность и легкость восприятия массовой культуры и классическую литературную традицию, следование собственному стилю, трагичность, глубинный психологизм серьезной литературы. В результате Поляков не стал своим среди беллетристов и высокомерно отстраняем интеллектуалами… К сожалению, и в поколении своем он тоже не нашел близких по духу, по задачам, по мировосприятию товарищей. Он был один с самого начала. <…> Каждый из молодых в те годы выбирался в одиночку. Каждый из них не попадал, да и не стремился попасть в литературные стаи. Да и куда, в какую стаю было попадать тому же Юрию Полякову?»
Не случайно одна из статей Полякова называлась «Право на одиночество». Она была написана для «пилотного» номера газеты «День», которая стала выходить весной 1990 года и которую возглавил Александр Проханов — общепризнанный лидер так называемой «третьей силы» в литературном процессе. Вышла она под редакционным названием «Из клетки в клетку», но смысл от этого не меняется: «…Почему сегодня выпущенные из огромной общей соцреалистической клетки писатели стремительно разбегаются по клеткам маленьким?.. Если еще недавно писатель имярек издавал свои никем не читаемые книги благодаря активной работе в руководящем органе писательского союза, то теперь он издается благодаря своей активной работе в руководящем органе какого-нибудь новейшего движения. С политической точки зрения разница огромная. С эстетической — никакой. Если в застойный период критика, наиболее изгибчивый жанр изящной словесности, в основном занималась обслуживанием амбиций литчиновников и алхимическими поисками соцреалистического камня, то нынче мы имеем почти ту же самую критику (и критиков), на тех же самых принципах обслуживающую амбиции тех или иных литературных команд… Не зависеть от происходящего в стране невозможно, но независимо оценивать происходящее можно и должно…» Эта независимость и стоила Полякову благосклонности обоих непримиримых станов.
В 1992 году ситуацию в стране Поляков оценивал вполне однозначно. Вот что он говорил в интервью «Литературной газете»: «Меня пугает та нетерпеливая поспешность, с которой нас гонят теперь уже из социализма в капитализм, но все той же железной метлой. «500 дней» и «пятилетка в четыре года» — это, увы, очень похоже. Я вообще считаю, что большевизм — никакое не политическое течение. Это политический метод, суть которого в пренебрежении нравственностью и человеческими судьбами ради победы, успеха, торжества идеи — не важно какой. Большевиком может быть и коммунист, и демократ, и монархист… Я с ужасом вижу, как иные нынешние деятели «большевеют» на глазах».
За годы, что прошли с прихода к власти Горбачева, страна привыкла смотреть о себе только чернушные фильмы и читать только сенсационные разоблачения о зловредной для страны, а в конце и прогнившей советской власти. В каких-то своих высказываниях Поляков невольно шел в этом потоке, однако недолго и отнюдь не во всем следуя разоблачительной логике.
В самом деле, ничего уже не оставалось в СССР такого, что бы не поносилось его критиками. Советский Союз из великой державы внезапно превратился в глазах собственных граждан в «Верхнюю Вольту с ядерным оружием», «страну нищебродов», «страну проживания» и «эту страну», о которой только и можно говорить, что скривив лицо в саркастической усмешке.
Получалось, что хуже Советского Союза не было в истории буквально ничего, а потому он закономерно должен был погибнуть, утонуть в собственных миазмах, которыми отравил уже пол мира. Именно тогда и начали уверенно ставить на одну доску Сталина и Гитлера, утверждая, будто эти два режима во всем тождественны. А предатель и перебежчик, скрывшийся под псевдонимом Суворов, поведал миру, будто войну собирался начать именно СССР, а Германия вынуждена была выступить первой в превентивных целях. Так было положено начало оголтелому вранью, призванному исказить представления о Великой Отечественной войне и умалить значение победы, одержанной в ней советским народом.
В 1992 году инфляция составила 2600 процентов. Деньги обесценились столь стремительно, что вдруг стала актуальной песенка начальных лет советской власти, которую даже процитировали на страницах «Золотого теленка» Ильф и Петров: «Залетаю я в буфет, / Ни копейки денег нет. / Разменяйте десять миллионов…» В стране появились десятки, сотни тысяч бомжей и беспризорников, а разом обнищавшие, брошенные страной старики принялись рыться по помойкам и просить подаяния. Они бродили по улицам в поисках пустых бутылок, которые можно было сдать, чтобы купить хлеба, как это делал и одиннадцатилетний Женя Плющенко, будущая звезда фигурного катания, бедствовавший вместе с мамой в Петербурге, постоянно недоедавший, но каждый день выходивший на лед тренироваться. Тогда очень многие жили впроголодь, как наш гениальный соотечественник Георгий Васильевич Свиридов. Некоторые, не имея средств к существованию, стояли на улице, предлагая купить у них что-либо ценное из их прошлой жизни. Девяностолетняя старушка стояла у станции метро «Молодежная» то с «Доктором Живаго» Пастернака, то с «Воспоминаниями» Анастасии Цветаевой 1974 года издания — книгами, которых в свое время было не достать. Так она убеждала себя, что не побирается, но распродает библиотеку.
Вечером, при закрытых магазинах, старушки, что побойчее, продавали у выходов из метро хлеб и сигареты. Иные просто стояли с протянутой рукой и наспех начертанными на картонке словами: «Хочу есть». Одна высокая старуха ежевечерне требовала: «На хлеб бабушке! На хлеб!» — стоя у яркой витрины дорогого магазина на Новом Арбате. Появились дельцы, собиравшие с нищих дань и отовсюду, в том числе из бывших союзных республик, поставлявшие в Москву больных и увечных, прочесывавших поезда в метро, стоявших и сидевших с иконкой в подземных переходах, дежуривших у церковной ограды. А осчастливленные в собесах бесплатными путевками в санаторий старики недоедали там вместе с персоналом.
Практически все семьи внезапно оказались неполными: взрослым приходилось вкалывать за мизерную зарплату на двух-трех работах, они почти не бывали дома, и им некогда было заниматься детьми, предоставленными самим себе — и улице, где процветали все мыслимые пороки. Неприкаянные мальчишки нюхали клей «Момент», травились доступным им отныне алкоголем — часто «паленым», — а те, у кого водились деньги, вовсю «торчали», подсев на наркотики. Перспектив у молодежи, независимо от образования, не было, а если и были, то в основном через криминал. Именно тогда появились бригады «спортсменов» в адидасовских костюмах, крышевавшие уличных торговцев. Тогда же появились «челноки» с неподъемными клетчатыми сумками, торговавшие бог знает чем в убогих палатках. Одежда и обувь у них были в разы дешевле, да и магазинов толком не наблюдалось. Люди привыкли раздеваться на морозе за пластиковой занавеской для ванн, примеряя китайский ширпотреб. Общество стремительно распадалось даже не на отдельные семьи, а на отдельных индивидуумов. Каждый был отныне сам за себя.
Еще в августе 1990 года Ельцин провозгласил: «Берите суверенитета, сколько сможете проглотить», — и регионы, входившие в состав Российской Федерации, резко принялись дрейфовать от Центра: Чечня, Якутия, Татарстан… В Татарстане даже перешли на латиницу — видимо, в расчете на европейские, но отнюдь не российские перспективы.
СМИ, оказавшиеся в частных руках, насаждали индивидуалистическое отношение к жизни, декларируя права и свободы личности, которые никоим образом не были обеспечены. По улицам страшно было ходить, и не только из-за разгула преступности: московские улицы при мэре-демократе Попове зимой были буквально непроходимы, их некому и нечем было расчищать от снега.
Зарплату многие не получали, по пенсиям была задержка в несколько месяцев. Допущенные Ельциным к власти младореформаторы во главе с Гайдаром, Чубайсом и Кохом через колено ломали страну, раздавая ее богатства своим друзьям, родне и близко стоявшим к власти дельцам. В ответ они снискали в народе сильнейшее, неистребимое чувство, недаром многие рыжие дворняги в те годы носили кличку Чубайс, а фамилия госсекретаря — Бурбулис — стала ругательством.
Некогда рентабельные предприятия, крупные и небольшие, благодаря афере с ваучерами, фактически «за так» оказывались в чьих-то нерадивых, но жадных руках. Недвижимость по всей стране стремительно обрела хозяев. Одни заводы, едва перейдя из государственных рук в частные, оказывались разоренными, на других — в прежних цехах размещались склады всякого барахла вплоть до секонд-хенда, «паленого» алкоголя или химической еды, которые наводнили страну. Жизнь на заводах, что еще работали, еле теплилась.
Ходил анекдот: «Новый хозяин предприятия жалуется Чубайсу: «Ничего не могу поделать с этими работничками, не знаю, как разогнать. Полгода зарплату не плачу, а они все ходят на работу». — «Вот как? А брать за вход плату не пробовали?».
В полный упадок пришла наука. В зданиях НИИ открывались какие-то липовые фирмы, в фойе одних появились барахолки, в фойе других — как и в фойе кинотеатров, где никто уже не показывал кино, — гордо въехали готовые к продаже, сверкающие иноземным блеском автомобили.
В страну погнали голландский спирт «Ройял», который моментально раскупали, поскольку он был очень дешев, а градусов в нем было аж 96. Люди им травились, некоторые до смерти: на самом деле спирт предназначался не для питья, а для технических целей, к тому же его еще и подделывали. Именно тогда появилось слово «паленка», которым обозначали поддельный алкоголь.
Сказать что-то доброе о советском прошлом было сродни роковой политической ошибке. Если по телевизору показывали митинг коммунистов, то камера непременно выхватывала из толпы неприбранных беззубых бабушек, истово размахивавших красным флагом. Пресса была уже сплошь приватизирована и дружно придерживалась одной-единственной линии, представляя либералов, оказавшихся у власти, спасителями Отечества, а их реформы — необходимыми шагами к свободе и процветанию.
Надо было иметь большую смелость вслух декларировать свое несогласие с общепринятой точкой зрения, доказательно спорить с новой властью и разубеждать сомневающихся. Справедливости ради заметим, что некоторые внезапно прозревшие в те годы либералы из узкого круга посвященных, оказавшись среди несогласных и заявив об этом вслух, рисковали здоровьем и даже жизнью. Тем же, кто в ближний круг не входил, в этом смысле повезло: с ними обходились тоже жестко, но иначе. Полякову с его полосы отчуждения многое было видно, а о том, чего не видел и знать не мог, он догадывался: хватало творческого воображения и жизненного опыта, подкрепленного обширным кругом знакомств.
Вот как писал о 1990-х критик, публицист и переводчик Виктор Топоров: «Девяностые — как, может быть, никакое другое мирное десятилетие, — походили на войну. Не на послевоенные годы с неизбежной разрухой, что было бы как раз объяснимо, а именно на войну — вялотекущую на фронтах, «окопную», но бушующую в тылу — со стремительными социальными лифтами (и бездонными шахтами) для одних, с элементарным выживанием для других и, конечно же, с пиром во время чумы для третьих. Потоки беженцев, мигрантов и «челноков»; массовый захват чужого жилья и «ничьих» предприятий (а потом и месторождений); телевизионные сводки из коридоров власти, как с поля боя; борьба организованной преступности с беспредельной; малиновые пиджаки как мундиры и золотые цепи как ордена; вразнос торгующая водкой, табаком и всепрощением Церковь и толпы целителей, знахарей, проповедников Белой Девы и конца света. Принцип «Умри ты сегодня, а я завтра!»; сугубо риторический выбор между ворами и кровопийцами; жизнь во мгле; и, естественно, чуть теплящаяся надежда на то, что любая война когда-нибудь да кончается. Собственно говоря, этим и взяли те, кто в конце десятилетия мастерски разыграл карту «Путин», — имя Ельцина означало продолжение самоубийственной для страны кампании на всех фронтах сразу, — и любой, кто пришел бы ему на смену, любой анти-Ельцин сулил мир. Похабный (по ленинскому слову), но мир. И того, что анти-Ельцина вытащили из ельцинского рукава, просвещенная публика предпочла не заметить. А непросвещенная — тем более.
Когда говорят пушки, музы молчат, — и в странную войну девяностых музы мычали.
<…> В растерянности пребывали все, кроме телевидения. Девяностые стали его Аустерлицем — и только к концу десятилетия обозначилось Ватерлоо. НТВ победило Зюганова и проиграло войну в Чечне, ОРТ уничтожило Примакова, РТР породило Швыдкого. Но дело даже не в этом: виртуальное (сказочное, сновидческое) пришло на смену реальному; телесон стал ярче жизни, а потом стал жизнью, — если тебя нет в ящике, значит, тебя не существует в природе, — Леня Голиков в обнимку с Клавой Шиффер, и Собчак с Пугачевой, и наполеонистый Киселев, и нахрапистый Невзоров, и бессмысленно проблеявший целое десятилетие Явлинский, «Пирамиду» перенесли на голубой экран — и обрушили на наши головы прямо с него».
(Заметим в скобках, что все эти приметы времени нашли свое отражение в вышедшей в 1999 году семейной саге «Замыслил я побег…». А в это во всех смыслах опасное время Поляков испытывал настоятельную потребность обращаться к согражданам напрямую, через публицистику. Прежний газетный опыт в счет не шел: до этого он лишь изредка высказывался открыто о политике и не пытался влиять на политический климат в стране, а не став депутатом Верховного Совета, даже испытал облегчение. Одно дело — художественное высказывание, которое являет собой опосредованную реакцию на происходящее, и совсем другое — прямое обращение к читателю, когда писатель дает волю эмоциям, считая себя не вправе засушить их, как гербарий, до художественной надобности.)
Однако общественный темперамент плохо совмещается с политикой, требующей определенной ловкости и искушенности, а то и беспринципности. Поляков это прекрасно понимал. Вот как сам он объяснял свою позицию: «Затворяться в замке из слоновой кости в ту самую пору, когда какие-то негодяи затевают извести твою родину, это подло и недостойно. Но есть и другая сторона медали: писателя обычно захватывает эмоционально-нравственная стихия борьбы, и ему совершенно неведомы те тайные союзы, сговоры, комплоты, компромиссы, которые в конечном счете и определяют исход схватки. Писатель — это трепещущий флаг на башне, а какие тем временем идут переговоры в этой самой башне — за обильным столом — ему, бедному, бьющемуся на историческом ветру, неведомо. Потом, спустя годы, многое становится яснее, понятнее…»
Развал страны, вместе с миллионами сограждан, Поляков пережил как личную трагедию, потрясенный тем, как легко вместе с отсоединившимися от Союза республиками Россия отпустила исконные земли, обильно политые кровью предков и прирезанные большевиками национальным республикам по самым разным соображениям, иногда чисто социальным: чтобы и у них был свой пролетариат.
«В Конституции СССР остался реликт нашего интернационализма, сохранившийся с того времени, когда страна готовилась к мировой революции, — писал позднее Поляков. — В ней было записано, что каждая республика имеет право на выход, но не на роспуск СССР! Кстати, североамериканские штаты тоже по Конституции якобы имели право на выход, однако им вряд ли доведется этим правом воспользоваться: в 1869 году Верховный суд США в деле «Техас против Уайта» создал прецедент, согласно которому штат не может выйти из федерации в одностороннем порядке. Этим решением Верховный суд намертво приколотил вольные звездочки к полосатому флагу.
У нас же процедура выхода прописана не была. Все было бы иначе, если бы имелся пункт, по которому республика, выходящая из Союза, возвращалась в границы того года, когда она в него влилась. А принадлежность территорий, присоединенных в период пребывания в составе СССР, решалась бы путем плебисцита. Уверяю: из 15 республик большинство бы осталось — на такие территориальные утраты не решились бы даже самые разнационалистические элиты. Ну куда пойдет Литва без Вильнюса, Украина без Донбасса, а Казахстан без Целинограда? Кому нужен такой суверенитет? А народы в основном и не желали развода. Я, конечно, упрощаю… Но с другой стороны, разве Беловежский сговор отличался особой сложностью? Главная сложность заключалась в том, чтобы Ельцин не упал лицом в салат, пока не подпишет на ходу сляпанную бумажку. Почему не прописали порядок выхода из СССР? Почему Горбачев не арестовал людей, не имевших по Конституции страны права распускать Союз? Я думаю, это не только политическое преступление тогдашнего руководства, но и сложнейшая мировая закулисная интрига, растянувшаяся на весь XX век!»
Однако когда Советского Союза не стало, все эти разумные и внятные доводы решительно никакого значения уже не имели. Происшедшее надо было осмыслить и пережить. Причем — в гордом одиночестве. Либералов, как уже говорилось, коробили его насмешки над «гарантом», они ставили Полякову в вину пробивавшуюся сквозь гротеск ностальгию по СССР и нелепую, на их взгляд, заботу о разделенном русском народе. Патриоты же не могли забыть его первых разоблачительных вещей, их как раз коробили его сотрудничество с либеральной «Юностью» и членство в российском ПЕН-клубе.
Впрочем, и у самого Полякова были идейные расхождения с обоими лагерями.
«Я патриотизм воспринимаю как состояние души, — писал он позднее. — А есть люди, которые его воспринимают как повод для создания литературной ватаги, командного объединения. Причем за играми под названием «патриотизм» зачастую стоят какие-то меркантильные интересы. А я в литературные ватаги никогда не входил».
До декабря 1990-го, то есть до VII съезда Союза писателей РСФСР, Юрий был секретарем правления. На съезде снял с себя полномочия председателя Сергей Михалков, вместо него был избран Юрий Бондарев. Общая тональность съезда, что нисколько не удивительно, была остро критической по отношению к происходившему в стране. Бывший член Президентского совета Валентин Распутин констатировал, что «к руководству Россией пришли люди, которые даже не считают нужным скрывать к нам свою неприязнь». Драматически сложились отношения с коллегами по цеху у Виктора Астафьева, который резко разошелся с ними в оценках перестройки и ее последствий и больше уже никогда не участвовал в деятельности писательского союза. По некоторым сведениям, именно в это время Астафьев удостоился благосклонного внимания неких членов Нобелевского комитета, суливших живому классику золотые горы в обмен на политическую лояльность к ельцинскому режиму — а именно саму премию.
В новое правление СП РСФСР Поляков не вошел. Так оформились внутренние политические разногласия писателей патриотического направления. При этом в опубликованном тогда интервью, которое взял у него Павел Гусев, Поляков подчеркивал, что относит себя к так называемым русофилам: «Живя в России, говоря по-русски, воспитываясь на русской культуре, не быть русофилом так же странно, как живя, скажем, на Мальвинских островах, быть им. Хотя, конечно, случается всякое. Но я твердо убежден в одном: нельзя из своего русофильства (как и любого другого «фильства») делать профессию. Человек, извлекающий выгоду из любви к своему племени, мне так же несимпатичен, как человек, сдающий сперму за деньги. И будучи «филом» в отношении к своему народу, совершенно необязательно быть «фобом» в отношении к другим». В этих словах мы снова слышим отзвуки не выплеснувшегося наружу конфликта в писательском союзе.
В том интервью Поляков сказал: «Каждый сам выбирает судьбу: желание жить на родине или «охота к перемене мест» — это не есть достоинство или недостаток, это просто особенность того или иного человека. Слава богу, что уезжающих теперь перестали считать предателями, дело за малым — перестать считать дураками остающихся…» Удивительно актуальное высказывание для ближайших двадцати с лишним лет. И еще о главном: «Если бы у нас был социализм, например, в шведском варианте, я бы выбрал социализм, но поскольку у нас его нет, а ученые никак не договорятся, какое общество у нас все-таки построено, я бы предпочел просто разумный выбор — то есть такое жизнеустройство, при котором будут соблюдены интересы максимального количества людей и по возможности всех социальных слоев…»
Отношения с писателями либерального направления испортились у Полякова не в один день. Внутренне он всегда чувствовал, что это чуждая ему среда, но размежевание происходило постепенно — по мере разъяснения позиций.
Печатаясь в «Юности», Юрий вначале воспринял как само собой разумеющееся тот факт, что близкие к редакции писатели ставят превыше всего демократические свободы, но в последние месяцы советской власти он сделал для себя неприятное открытие: борцы за эти свободы были равнодушны к судьбе России и русского народа.
«…Я помню, мы сидели в «Юности», обсуждая письмо по поводу событий в Вильнюсе. Вел заседание Евтушенко. Были Вознесенский, тогдашние прорабы перестройки из числа писателей (те же Юрий Черниченко, Юрий Карякин)… Они предлагают формулировку: мы против вмешательства, мы настаиваем на том, чтобы литовский народ сам определял свою судьбу. И я говорю: надо бы сказать и о русских, живущих в Литве, — они должны получить гарантии…»
Реакция была неожиданной: все замолчали и посмотрели на него так, будто он сморозил глупость. И кто-то в сердцах сказал: «А при чем здесь русские? Это не имеет сейчас никакого значения!»
Письмо Юрий подписал, но осадок, как говорится, остался.
Следующим был такой эпизод: году в 1992-м Поляков участвовал в очередном заседании ПЕН-клуба, членом которого стал в 1990-м. Заседание привычно проходило за обеденным столом. Председательствовал Анатолий Рыбаков, а чествовали писатели впервые после отъезда прилетевшего в Россию Василия Аксенова. На этом празднике жизни по-родственному близких людей Поляков почувствовал себя совсем чужим: «Все наперебой говорили об общих знакомых и рассеявшихся по миру родственниках: женах, детях, внуках… Мигрень тети Сони на Брайтон-бич или подагра дедушки Бори в Мюнхене тревожила пен-сообщество гораздо больше, чем тот кошмар, который творился в отечестве. Судьба сельской пенсионерки бабушки Маши или оставшегося без работы слесаря дяди Вани здесь никого не волновала». На миг ему показалось, что он присутствует на обеде огромного семейного клана, где оказался по чистому недоразумению.
Вскоре Поляков вышел из состава ПЕН-клуба, оставив в прошлом мечты о международном признании своего творчества. Этого признания он в конце концов добился и без клубных посиделок.
Между тем в журнале «Юность» произошел давно назревавший раскол. Первая попытка сместить главного редактора Андрея Дементьева случилась еще в 1990-м. Ее предпринял при поддержке некоторых сотрудников заведующий отделом Александр Ткаченко, бывший футболист, поэт, протеже Андрея Вознесенского и Зои Богуславской. Но тогда усилиями редколлегии, в том числе Полякова, смуту удалось утихомирить. Вторая попытка, случившаяся в 1992-м, увенчалась успехом. Дементьев, знаменитый поэт, бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ, чьи умеренные взгляды не устраивали радикальный коллектив, подал в отставку. Он поставил условие, что журнал возглавит Поляков, самый известный прозаик своего поколения, дебютировавший в «Юности», молодой, энергичный, участвовавший в жизни редакции более десяти лет, начиная с поэтической публикации в 1978-м, к тому же обладавший опытом работы. Что еще нужно? Но на другую чашу весов лег один, слишком весомый контраргумент: нелиберальные взгляды.
В итоге коллектив выбрал главным Виктора Липатова. Тот тоже был выдвиженцем комсомола, номенклатурой, но вовремя взгляды поменял. Как мы помним, Липатов был противником публикации в журнале «Апофегея» и «Парижской любви…», автором разгромной статьи «Человек со стороны» — о повести «ЧП районного масштаба». Первое, что сделал новый главный, — видимо, в лучших традициях либерализма — снял из январского номера статью Дементьева, в которой тот попрощался с читателями. С такой «Юностью» Полякова уже ничто не связывало, и его отношения с журналом прекратились. Он вышел из редколлегии, а также из круга авторов «Юности», и следующая его публикация в журнале случится только через 22 года.
Писательский цех, безусловно, много потерял, разделившись по политическим пристрастиям на непримиримые группы. Когда нынешние идейные противники были в едином союзе, политические разногласия не приводили к скандалам, разве что к интеллектуальным, как в знаменитой дискуссии «Классика и современность». В советские времена в Доме литераторов скандалили исключительно на бытовой почве, о чем Поляков с юмором напишет в романе-эпиграмме «Козленок в молоке». Писатели разных убеждений не считали зазорным на совместных заседаниях пожимать друг другу руки. Да многие и просто дружили, как, например, будущие непримиримые враги Бондарев и Бакланов. Кстати, именно они послужили прототипами Медноструева и Ирискина в упомянутом романе. Зато творчески все эти разные и по-разному талантливые люди несомненно взаимно обогащались. Важно отметить, что вхождение в советскую литературу потребовало от некоторых будущих либералов серьезных конъюнктурных усилий, о чем в постсоветское время они искренне позабыли. Книги, которые писал тот же Приставкин в советский период своего творчества, ни на йоту не отступают от принципа партийности литературы и от канонов проклинаемого ныне соцреализма. О творчестве Белова, Астафьева, Распутина этого, кстати, не скажешь, не говоря уже о мере таланта. Зато писатели, в любые времена остававшиеся искренними, не стесняются своего литературного прошлого (взять, к примеру, Проханова или того же Полякова). А в наши дни у них появилась возможность, не подгоняя свое творчество под возобладавший в либеральной среде антисоветский шаблон, сказать о советской жизни что-то такое, что раньше они себе позволить не могли.
В конце 1991-го в интервью газете «Московская правда», вышедшем под заголовком «Апофегей союзного масштаба», говоря о разделении писателей на два враждующих лагеря, Поляков одним из первых отметил, как такое разделение влияет на критику, делая ее все более ангажированной и необъективной. «Хорош писатель или плох, критике, как правило, все равно, ее гораздо больше интересует, свой он или чужой. Если свой, любая абракадабра тут же квалифицируется как новое слово в отечественной словесности, если чужой, то никакая художественность и читательская любовь не спасет автора от презрительно оттопыренной литературно-критической губы. И левые и правые в этом смысле одинаковы».
В те годы издание книг приносило огромные барыши, но не всяких книг и не всем издателям. Бывшие советские граждане читали детективы, в основном зарубежные, которые и издавались огромными тиражами; хорошо шли фантастика и фэнтези. С прозой же была беда. Тиражи упали до двух-трех тысяч, гонорары издатели предпочитали не платить, выдавать экземплярами книг или начислять воистину смехотворные роялти, тем более что общих правил в этом смысле для них отныне не существовало. Тем, кто жил только писательским трудом, приходилось в буквальном смысле выживать. Так было и у Полякова. Гонорары за статьи, которые он писал, были более чем скромными. После того как большими тиражами в издательстве Литфонда в 1991-м вышли три его книги, а точнее — брошюры «Апофегей», «Сто дней до приказа» и «Парижская любовь Кости Гуманкова», наступил мучительный перерыв. Ни прежних писательских благ, ни благополучия, к которому так быстро привыкаешь. На телевидение наперебой уже не звали, телефон молчал неделями.
Но у Полякова оставались письменный стол и готовность работать — всегда, даже в минуты растерянности, тем более что жизнь подсказывала ему самые фантасмагорические сюжеты, и один из них уже всецело его занимал.
Семья Поляковых до самой осени жила на даче в поселке Зеленоградском, недалеко от Софрина, по Ярославскому шоссе. Участок был по светским меркам приличный: 12 соток, и на этих сотках росла не трава-мурава, а все самое необходимое для дачной жизни — еще и на засолку хватало.
«Мои знакомые писатели, едва заработав, начинали собирать антиквариат или авангард, оправлять жен или любовниц в «меха и бархат», но у нас с женой была мечта — купить дачу с участком. У меня это желание шло откуда-то изнутри, видимо, из глубины моей родовой рязанской памяти. У меня после выхода трех книг и запуска двух сценариев набралась солидная кубышка, а недостающую сумму добавила теща Любовь Федоровна. Однако купить дачу оказалось не так-то просто. Сначала присмотрели отличную генеральскую дачу в поселке Катуар по Дмитровскому шоссе, договорились весной оформить сделку. Владельцы звонили нам регулярно и предлагали еще раз съездить посмотреть будущую покупку. Мы ехали. Я случайно разговорился со знакомым, который тоже искал себе дачу, и он пожаловался на генеральскую пару, морочащую ему голову второй год. «Не в Катуаре ли?» — с нехорошей догадливостью уточнил я. «А ты откуда знаешь?» Выяснилось, что таким образом хитроумные дачевладельцы использовали покупателей, чтобы зимой навещать свое загородное хозяйство. Состоялось объяснение, и генеральша, считавшая себя польской графиней, объявила, что только дураки сейчас продают недвижимость! Да, набирала обороты пока еще скрытая инфляция, собственность придерживали или заламывали несусветные цены. Наконец мы нашли то, что хотели, и, расплатившись, стали дачниками. Продавший нам угодья крепкий спортивный семидесятилетний дед, собиравшийся жить еще как минимум четверть века, дрожащими руками пересчитывая гору купюр, твердил, что теперь будет по два раза в год ездить в Кисловодск, а бестолковому внуку наймет репетиторов по всем предметам. На дворе стоял солнечный март 1988 года. До развала советской финансовой системы оставалось совсем немного…»
Вот там-то, на даче, остро переживая происходящее и не обольщаясь в отношении идейных вдохновителей реформ и самих реформаторов, Юрий поймал себя на том, что разрабатывает сюжет новой повести, фантазируя, чем все могло бы кончиться, если бы демократов у власти сменила другая сила, которую он тоже, кажется, не особенно жаловал. «Мне пришла в голову мысль: если произойдет переворот, хорошо бы всех этих уродов посадить в «демгородок». Так я начал писать…» Добавим, что на сюжет его, возможно, натолкнул октябрьский номер журнала «Столица», где вышла статья «И сова кричала, и самовар гудел…», на обложке которого был изображен улыбающийся Горбачев в арестантской робе с номером на груди «0000000001». А рядом с материалом самого Полякова стоял фрагмент романа «Завтра в России» популярного в ту пору писателя-эмигранта Эдуарда Тополя. Там рассказывалось о том, как Горбачева и его жену после путча засадили в строго охраняемую лесную дачу под Иркутском: «Она, Раиса Горбачева, хозяйка Кремля и теневого «кухонного» правительства, обречена теперь сгнить в этом лесу. Даже местонахождение этой дачи невозможно выпытать у безмолвных солдат охраны…»
Поляков не симпатизировал поверженному президенту-генсеку, но и он вдруг тоже начал ощущать себя в изоляции. За весь 1992-й у него вышло всего несколько статей и интервью, в том числе эссе в «Комсомолке» «От империи лжи к республике вранья». И хотя там еще мелькали характерные для того времени антисоветские мантры, уже прослеживалась тенденция, которая не могла не насторожить ревнителей демократии: автор призывал «отказаться от восторженного придыхания, навязанного нам сначала авторами серии «Пламенные революционеры», а потом серии «Пламенные диссиденты», предоставив делать выводы и переименовывать улицы нашим детям». Так рассуждать тогда было не принято в приличном обществе, где слово «диссидент» значило не меньше, чем теперь звание «Герой России». (Кстати, в статье Поляков отметил актуальную и ныне моду бездумно изводить связанные с советским прошлым названия московских улиц: «…Поспешность приводит обычно к тому, что, например, в Москве исчезла улица Чкалова, но зато осталась станция метро «Войковская», названная так в честь одного из организаторов убийства царской семьи». А ведь ее так и не переименовали, даже спустя 20 лет!)
«…Мы были империей лжи, но заметьте: это была ложь во спасение… — утверждал автор. — Во спасение сомнительного эксперимента, предпринятого прадедушками многих нынешних демократов и бизнесменов, во спасение «всесильной Марксовой теории», оказавшейся неспособной накормить народ, во спасение той коммунальной времянки, которую наскоро сколотили на развалинах исторической России». (Он и сам не подозревал, как изменится его взгляд на «времянку» по мере продолжения следующего «сомнительного эксперимента».) Поляков напоминал читателям самое очевидное из советского прошлого: «пафос трибун и хохот курилок», поразительное «несовпадение слова, мысли и дела» — он еще не был готов смотреть на это прошлое беспристрастно и оценивать его не только через собственные разочарования, но и через достижения и победы. Поляков утверждал, что «не горюет о рухнувшей империи лжи», — однако уже тогда констатировал, что «на ее развалинах возникло не царство правды, а обыкновенная республика вранья… <…> люди решительно прекратили лгать ради «государственных устоев», взапуски начав врать в корыстных интересах, ради преуспевания клана, команды, политической партии, родного этноса… Собственно, ложь стала первой и пока единственной по-настоящему успешно приватизированной государственной собственностью…».
Так говорить с высокой трибуны самой тиражной газеты никто, кроме него, не отваживался. Кстати, годы спустя он напишет о том, что приватизация добралась и до отечественной истории — с вполне предсказуемыми последствиями.
«Комсомолка» «Комсомолкой», но его высказывания появлялись редко: в редакциях осторожно относились к человеку, который в памятной статье «И сова кричала, и самовар гудел…», как сказали бы французы, назвал кошку кошкой: «путч» — пуфом — меж тем любимым занятием демократической печати было в то время разоблачение путчистов.
Самая пора была в ответ обидеться на всех и засесть за работу. Простая жизнь на свежем воздухе очень тому способствовала. Тем более что и действие новой повести происходило примерно в такой же дачной местности, только жили там политические заключенные, демократы, деятельность которых при военном перевороте была признана злонамеренной, а сами они названы злодеятелями, врагоугодниками и отчизнопродавцами — такой уж сюжет сложился у него в голове.
«Демгородок» писался легко: это было страстное послание к соотечественникам, призыв посмотреть на происходящее широко раскрытыми глазами, оценить по достоинству каждую политическую фигуру и то, к чему ведет страну нынешний курс.
«Я сидел на даче, смотрел в окно на осенний, налившийся кровью сад, пил стаканами домашнее вино из черноплодной рябины и думал о том, что стало со страной. Происходящее казалось мне какой-то смесью Босха с Кукрыниксами. Этой смехотворной химере нашел тогда адекватное графическое отображение художник Геннадий Животов, постоянный автор газеты духовной оппозиции «День». Иногда я включал телевизор: там рокотал, как БМП, победно ухмыляющийся Ельцин или несла русофобский бред неопрятная старуха Боннэр. Какие-то странные персонажи с рожами местечковых шулеров объясняли мне, что люди, не вписавшиеся в рынок, не заслуживают права на жизнь, а Россия все равно слишком велика для счастья и обильной жизни. Визгливая Хакамада советовала шахтерам, оставшимся без работы, собирать грибы и ягоды, а похожий на свинью Гайдар чмокал какую-то ересь. Любимец московской интеллигенции Григорий Явлинский, зануда с длинными сальными волосами, признавался в любви к своей еврейской маме и талдычил о том, как нам за 500 дней обустроить Россию. Завсегдатай кремлевских партийных концертов Хазанов мстительно глумился над всем советским. Даже меня, человека, воспитанного в духе непререкаемого интернационализма и заподозренного патриотами в юдофильстве, изумляло количество евреев на один квадратный сантиметр экрана. Причем, начав говорить о чем угодно, они обязательно с придыханием сворачивали на родную тематику, вызывая раздражение у всех остальных, кому не повезло с «пятым» пунктом. Критик Михаил Синельников, с которым я дружил, возмущался, сам будучи евреем: «Такое впечатление, что им дали задание разбудить в стране антисемитизм!» Я в сердцах выключал телевизор, ночью мне снились кошмары, а утром я вставал, садился к пишущей машинке и мстил, мстил, мстил…»
Понимая, что будущая вещь, как когда-то «Сто дней…» и «ЧП…», вызовет неприятие теперь уже не коммунистической, а антикоммунистической власти, Поляков принялся заранее «легализовывать» «Демгородок», еще выстраиваемый на бумаге. 29 апреля 1993 года в «Московском комсомольце» появляется фрагмент «Демгородок. Полуфантастическая повесть». В предисловии говорится: «…Это, по сути, наша сегодняшняя абсурдная жизнь, это моя попытка предостеречь тех, кто не понимает: недоделанная демократия — самый короткий путь назад, в тоталитаризм… Полностью повесть будет опубликована, как всегда, в «Юности».
Говоря о «Демгородке», Владимир Бондаренко позднее писал: «…Юра почему-то умудрился в августе 1993 года в журнале «Смена», в самые напряженно-кровавые дни, в повести «Демгородок»… выдуманным переворотом смести с власти легко угадываемого Ельцина и всех его сатрапов — более того, по велению своего ума и сердца он упрятал их в строго охраняемую зону. Все свое ехидство развернул в сторону столпов демократии. <…> Читатель оказался умнее демократических ниспровергателей. На их глазах писатель заматерел, стал намного богаче его изобретательный язык, с сюжетом вообще Юрий Поляков делал все, что хотел, и все получалось. Хотите детектив — найдете у него такой, что злодея не разгадает до конца никакой знаток Шерлока Холмса. Хотите постмодернизм — вот вам каскад приемов, весь сюжет переворачивается вокруг самого себя, все становится игрой, весь мир разыгрывается, словно колода карт. Но сквозь литературную игру читатель доискивается до трагедии, в шуточках прячется драматизм сегодняшнего человека.
Любовная драма, сентиментальный роман, социальная сатира, антиутопия — все помещается на пространстве небольшой повести… В самое нечитаемое время, когда люди были готовы к гражданской войне, когда противостояние президента и парламента, а по сути — двух половин народа, достигло опасного предела, все жадно накинулись на августовский номер «Смены». Повесть «Демгородок» ксерокопировали, передавали друзьям, зачитывали до дыр, боясь скорого запрета…
Каково было действующим государственным чиновникам, каково было обслуживающей их придворной культурной элите читать про себя талантливо написанные «гадости» и разоблачения в канун октябрьских событий? А ведь все персонажи легко угадывались, это еще более подчеркивает тогдашнее бесстрашие автора».
Повесть «Демгородок» в итоге вышла с подзаголовком «Выдуманная история». Как видим, автор продолжал играть с читателем, как будто, не будь подзаголовка, тот мог решить, что все так и было — или будет? — на самом деле.
…………………..
Демгородок очень похож на обычный садово-огородный поселок, но с одной особинкой: по периметру он окружен высоким бетонным забором, колючей проволокой и контрольно-следовой полосой, а по углам установлены сторожевые вышки, стилизованные под дачные теремки. На каждых шести сотках стоит типовое строение с верандочкой. Все домики выкрашены в веселенький желтый цвет и отличаются друг от друга лишь крупно намалеванными черными номерами.
Через весь Демгородок проходит довольно широкая асфальтированная дорога, которую сами изолянты с ностальгическим юмором именуют Бродвеем. Она упирается в длинное блочное здание, украшенное большим транспарантом «Земля и не таких… исправляла! Адмирал Рык». В правом крыле расположен почти всегда закрытый зубоврачебный кабинет, в левом — валютный магазинчик, а посредине — кинозал с хорошей клубной сценой.
Достопримечательность Демгородка — искусственный пруд с пляжиком, присыпанным песком. За прудом — кладбище, пока еще небольшое, могил в тридцать, а за кладбищем обширное общественное картофельное поле, упирающееся, разумеется, в забор. От широкого Бродвея ответвляются дорожки поуже, но не асфальтированные, а просто посыпанные щебенкой. По ним можно подъехать к любому из 984 домиков — хотя бы для того, чтобы вычистить выгребные ямы…
Мишка сердито посигналил — жердеобразный изолянт, понуро тащившийся по Бродвею, испуганно встрепенулся и сошел на обочину. Это был поселенец № 236, знаменитый эстрадник, угодивший сюда за чудовищную эпиграмму на Избавителя Отечества:
Какой-то пьяный адмирал Подол Россиюшке задрал…Кстати, поначалу никаких «удобств», а значит, и выгребных ям в Демгородке не было; просто-напросто слева от каждого домика торчала банальная дощатая будка. Веселый ветролетчик сказал даже, что сверху поселок похож на парад дам с собачками. Но после того как один за другим сразу шесть изолянтов (два из команды ЭКС-президента, три из команды экс-ПРЕЗИДЕНТА и один нераскаявшийся народный депутат) повесились почему-то именно в этих непотребных скворечниках, из Москвы пришло распоряжение: в домиках устроить сортиры, а будки переоборудовать под летние душевые. Вскоре появилась и ассенизационная машина.
Поначалу Демгородок был задуман как своего рода заповедник, где государственные преступники, изолированные от возмущенного народа, должны были один на один остаться с невозмутимой природой. Но в первую же зиму несколько человек померзло, а прочие истощились до неузнаваемости. Хотя всем и каждому весной были выданы семена, а осенью — дрова! Узнав об этом, адмирал Рык раздраженно поиграл своей знаменитой подзорной трубочкой и произнес: «Еще страной хотели руководить, косорукие! Обиходить!..» С тех пор в Демгородке появились центральная котельная, медпункт, продовольственный склад, а позже и валютный магазинчик «Осинка».
Сверившись с путевкой-нарядом, Мишка свернул к домику № 186. На крылечке сидел пожилой изолянт и с государственной сосредоточенностью чистил морковь. Его глянцевая лысина состояла в каком-то странном, диалектическом противоречии со щеками, покрытыми недельной щетиной. Как и все обитатели Демгородка, одет он был в джинсовую форму, пошитую специально для первых российских Олимпийских игр. Но адмирал Рык забраковал эту форму, сказал, что такие «балдахоны» можно сшить только врагам. Его поняли буквально и всю неудавшуюся спортивную одежонку распихали по демгородкам, предварительно споров олимпийские эмблемы — гербового орла, держащего в когтях пять колец. От прежнего, устаревшего, новый орел отличался тем, что головы его смотрели не в разные стороны, а друг на друга и с явной симпатией.
(«Демгородок»)…………………..
Ниже приводится фрагмент о творчестве современного художника — вот уж точно: все как в жизни. Сатирический взгляд на мир, лишь оформлявшийся в «Апофегее» и «Парижской любви…», здесь очевиден. Очевидны и ориентиры писателя: Гоголь, Салтыков-Щедрин, Булгаков… Именно после «Демгородка» манеру Полякова назовут «гротескным реализмом».
…………………..
…Дело в том, что на общем собрании обитателей Демгородка изолянт № 85 был почти единогласно избран главным редактором стенной газеты «Голос свободы», которая после мягкого нажима генерала Калманова стала называться просто «Голос». Делалась газета с размахом — 1,5 × 3,5 м. А оформлял ее, между прочим, один из самых высокооплачиваемых в мире художников, придумавший в свое время нашумевший стиль «посткоммунистический идологизм». Суть этого стиля, даже, точнее, метода, сводилась к тому, что художник привозил из подмосковного пионерлагеря, скажем, гипсового пионера, вставлял ему в руки, скажем, переходящее знамя областного совета профсоюзов и называл все это, например «Идологема 124/6Х-9», а потом продавал за сумасшедшие деньги на аукционе Сотбис. Так, его панно «Мир как представление» было продано в два раза дороже, чем знаменитая «Испуганная наяда» Буше. А представляло собой панно большую стационарную Доску почета завода «Красный шинник», но только вместо фотокарточек ударников производства на ней размещались портреты иного достоинства — Джона Кеннеди, Иосифа Сталина, Роберта Фишера, Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри, Льва Троцкого, Григория Распутина, Исаака Бабеля и так далее…
Заработав кучу денег, знаменитый художник, конечно, уехал за океан и там очень успешно заполнял своими идологемами и панно Североамериканский континент, но тут черт его дернул отправиться в Москву: или по ностальгическим обстоятельствам, или просто похвастать золотой кредитной карточкой перед дружками своей нищей творческой молодости. Переворот застал его в пятизвездном московском отеле, и он, разумеется, мог спокойно уехать на свою новую родину, чтобы в достатке жить, украшая Соединенные Штаты. Но ему в голову забрела совершенно чудовищная идея. Взяли художника в тот самый момент, когда он в тайно нанятой мастерской — владелец сразу сообщил куда следует — заканчивал свою новую работу, призванную отразить его, абсолютно неверное, понимание происшедших в России перемен. Это была бронзовая статуя адмирала Нахимова, выкрашенная в красно-коричневый цвет и испещренная бесчисленными строчками, повторявшими на двадцати четырех языках одну-единственную фразу: «Над всей Испанией безоблачное небо». Кстати, саму статую он задешево купил на Украине, где к тому времени уже заканчивалась замена москальского пантеона на свой, кровноприсущий. Но справедливости ради нужно сказать, не всегда вражьи статуи валили с пьедесталов и ставили свои, иногда ограничивались переименованием: так, известный памятник гетману Хмельницкому в Киеве был в целях экономии объявлен памятником гетману Мазепе…
Когда адмиралу Рыку сообщили о творческом проступке знаменитого художника, он посмеялся, поиграл своей серебряной подзоркой и молвил: пусть, стало быть, у нас поживет, пока по-правдашнему рисовать не выучится, а то ведь чужое пакостить — дело нехитрое.
(«Демгородок»)…………………..
Вот что еще писал о повести Владимир Бондаренко: «В моей любимой повести «Демгородок» после всех споров о дерьмокрадах и бунтовщиках, после погружения в социальную антиутопию, после едкой сатиры веселых анекдотов остается для верных читателей еще грустная лирическая линия. Он и она, русский офицер и богатая студентка из Кембриджа. А после литературного переодевания — ассенизатор, вывозящий дерьмо из домов дерьмокрадов, и бедная поселенка под номером 55-Б, не имеющая никаких шансов когда-нибудь выехать из строго охраняемого Демгородка. Еще после переодевания: жених, готовящий побег, и беременная невеста, согласная на побег с любимым. Еще постмодернистский виток: это уже агент спецслужбы адмирала Рыка и интриганка, скрывающая тайну счета, где хранятся неисчислимые деньги. И наконец, в финале повести: гибнущая на руках Михаила его любимая Лена. После всех неимоверных приключений и разоблачений Мишка стоит пригорюнившись в своей деревне неподалеку от разрастающегося демгородковского кладбища, затем пробирается к небольшому серому камню с надписью: № 55-Б. «Стоит, сколько можно, потом сломя голову бежит…» И весь остаток жизни проводит у этого камня. Как в старину: любовь до гроба. Сюжет русской сказки».
Тот же Бондаренко отмечал у Полякова «интуитивное предвидение будущих событий», назвав его «литературным Нострадамусом»: «Юрий Поляков как бы видит свое время и даже трогает его на ощупь. А потом проверяет на перспективу».
Перспективу Поляков угадал совершенно верно, хотя кое в чем все же ошибся. Но к этому мы еще вернемся.
Вот что он говорил в интервью «Неделе»: «…Судя по событиям августа 1991 года, классик прав: сначала трагедия, потом фарс. Именно так мне и увиделся грядущий военный переворот, который обязательно произойдет, если политики будут продолжать относиться к людям как к дрозофилам. И я убежден, что в военном перевороте всегда прежде виноваты те, кто довел страну до военного переворота, а лишь потом — сами переворотчики. Причем я сознательно отказался от сценария «Альенде становится Пиночетом»: он наиболее вероятен и потому для литературы менее интересен. А вот второй сценарий — суровый офицер мозолистой рукой удушает демократию — мне показался более привлекательным. Во-первых, это маловероятно: армия у нас всегда считала пломбы во рту политики. Во-вторых, именно из этого варианта наши средства массовой информации заранее раскрутили впечатляющий миф ужасов. А разрушение мифов — важнейшая задача литературы».
Летом и осенью фрагменты вышли в «Совершенно секретно», в основанной молодым бизнесменом В. Белоусовым газете «Гражданин России», в прохановском «Дне», «Новой газете»… Неудивительно ли, что в этом списке рядом оказались несовместимые по своей идейной направленности издания? Пожалуй, нет, неудивительно: сатира получилась отменно злой, сюжет — динамичным, с перевертышами, как это любит Поляков и как это диктовало ему время. (К тому же не стоит забывать о поступи постмодернизма, которая в прозе была не менее твердой, чем в поэзии.) В литературном отношении это, как всегда у Полякова, талантливо написанная вещь, которую одни восприняли как предостережение, а другие — как предупреждение, и такое двоякое истолкование, видимо, и послужило причиной появления фрагментов и в «Дне», и в «Новой газете».
Автор по доброй традиции предложил новую повесть «Юности», но Липатов с порога ее отверг. Отношения с журналом были порваны. К тому времени и тираж его начал резко падать. В 1991-м, еще при Дементьеве, он составлял уже не три, а один миллион экземпляров, а в 1994-м опустился до чуть более тридцати тысяч, а потом рухнул до тысячи.
Поляков отнес новую повесть в «Смену», где недолго работал когда-то и которая в конце 1980-х была столь же популярна, как и «Юность». Пост главного редактора с 1988 года там занял писатель Михаил Кизилов, хорошо знакомый Полякову еще по комсомольской работе. Кизилов был заведующим сектором в ЦК ВЛКСМ и очень много сделал для продвижения и сплочения поколения литераторов, дебютировавших в 1970-е годы. В августовском номере «Смены», в канун разразившегося вскоре острейшего политического кризиса, повесть «Демгородок», с небольшими сокращениями, вышла в свет.
Рецензент газеты «Рабочая трибуна» Тимофей Кузнецов отметил очевидный читательский успех повести: «Читает ли сегодня толстые журналы досточтимая публика, занятая или физическим выживанием, или предвыборной борьбой? Трудно сказать. А вот что точно известно: ходит по рукам августовский номер журнала «Смена», где напечатана повесть-памфлет Юрия Полякова «Демгородок». И народ то ли плачет, то ли гомерически хохочет…»
Отступление пятое.
Расстрел Белого дома
как апофегей победы демократии
Как все мы помним, противостояние двух ветвей власти, законодательной и исполнительной, началось сразу после всенародного избрания Ельцина президентом, поскольку, получив от съезда народных депутатов чрезвычайные полномочия и совместив посты президента и главы правительства, он назначил своим первым заместителем Егора Гайдара, дав ему карт-бланш на так называемые «рыночные реформы», очень скоро доведшие народ до нищеты. Справедливости ради следует сказать, что процесс обнищания народа начался еще при Горбачеве и павловских реформах. Но такого безоглядного разорения страны не было ни при какой прежней власти.
Уже в январе 1992-го правительство отпустило цены и либерализовало внешнюю торговлю, тем самым обрекая многие отечественные предприятия на банкротство. Тогда же предприятиям и гражданам разрешили торговать без дополнительных согласований и в любых удобных для этого местах: на площадях, бульварах, у остановок транспорта, у выхода из метро, в подземных переходах. Лоточники появились в холлах учреждений, больниц и вузов, под свою торговлю они арендовали полуподвалы и дворцы спорта, павильоны и ларьки.
Валюту разрешили продавать частным лицам, и всюду появились обменные пункты. Курс рубля по отношению к доллару был плавающим, в июне доллар стоил 119 рублей, в декабре — 418. Государственные внешние долги росли, к тому же Россия объявила себя единственным правопреемником долга СССР, поскольку остальные бывшие советские республики, также переживавшие не лучшие времена, были не в состоянии обслуживать даже малую часть этого долга.
На очередном съезде народных депутатов Ельцин столкнулся с резким неприятием его политики, и к середине 1992 года в стране оформились два центра власти: президент и его правительство, с одной стороны, и Верховный Совет — с другой. Осенью кризис усилился с началом активных действий Фронта национального спасения, в конце 1980-х объединившего разнородные партии и движения под эгидой спасения русской государственности. Ельцин издал указ о его роспуске как экстремистской организации, однако Конституционный суд президента не поддержал.
Все свои решения не имевший поддержки в парламенте Ельцин проводил в жизнь указами. Одним из указов он ввел в действие так называемую «систему приватизационных чеков», которую возглавил Чубайс. Каждый совершеннолетний гражданин получал на руки безымянный приватизационный чек, или ваучер, номиналом десять тысяч рублей, дававший право на участие в приватизации государственных предприятий. По экспертным оценкам, в 1992 году ваучер стоил около 17 долларов США, между тем как Чубайс утверждал, что в ближайшем будущем граждане смогут приобрести на него автомобиль «Волга» — советский символ безбедной жизни. Люди не представляли себе, как действует механизм приватизации и что можно сделать с этими цветными бумажками. Подавляющее большинство отнесли ваучеры во внезапно возникшие и так же внезапно исчезнувшие ваучерные фонды, сулившие златые горы, но не давшие в итоге ни гроша. Кое-кто продал ваучер за наличные. Но если осенью 1992-го на вырученные деньги можно было купить себе кое-что из одежды, то весной 1993-го рыночная цена ваучера была эквивалентна цене трех бутылок водки. Зато те немногие, кто хоть что-то понимал, скупали ваучеры за бесценок — или какое-то время платили по ним некий процент — а потом, с мешками ваучеров, успешно участвовали в приватизации предприятий и недвижимости, тем самым заложив прочную основу личного безбедного существования. Акции продавались без ограничений, и контрольные пакеты очень скоро оказались в руках людей, которые прежде не имели возможности воспользоваться нелегально нажитыми средствами.
В ноябре 1992-го Конституционный суд, рассмотрев указ Ельцина о запрете КПСС, признал законными роспуск руководящих структур партии и конфискацию госимущества, которым она пользовалась, но при этом разрешил компартию восстановить. Так образовалась КПРФ, которую возглавил бессменный Г. А. Зюганов.
На декабрьском 1992 года съезде народных депутатов (по той, еще советской Конституции, съезды созывались дважды в год) ельцинские рыночные реформы, либерализация цен, приватизация и жесткая бюджетная политика подверглись резкой критике. Депутаты возложили на президента вину за спад производства и обнищание народа. Они приняли поправки в Конституцию, по которым правительство обязано было подчиняться прежде парламенту, а затем уже президенту. Ельцин выступил против этих решений, предложив провести референдум, чтобы определить, кому народ доверяет, президенту или съезду. Референдум назначили на апрель следующего года, подписав соглашение о конституционной стабилизации, по которому Гайдар, бывший тогда уже и. о. премьера, отказывался от премьерства в обмен на согласие депутатов принять новую Конституцию. Президент и Верховный Совет обязались выработать совместный вариант Конституции либо два самостоятельных варианта и вынести их на референдум. Но уже в марте следующий съезд поправками в Конституцию ограничил полномочия президента и принял решение о нецелесообразности проведения референдума. Тогда Ельцин подписал указ об особом порядке управления, согласно которому любые решения органов или должностных лиц, направленные на отмену указов президента и постановлений правительства, лишались законной силы. В телеобращении к народу он заявил, что кризис власти зашел слишком далеко и сотрудничать с Верховным Советом не намерен. Однако Конституционный суд вновь признал указ не соответствующим Конституции. И все это происходило на глазах у обреченного на выживание народа, который убывал со скоростью один миллион человек в год. При этом президент время от времени принимался «работать с документами» и по нескольку дней не показывался своим избирателям на глаза.
Верховный Совет созвал внеочередной съезд, на котором говорилось об узурпации Ельциным власти, о его неадекватности и приверженности к спиртному, однако когда на голосование поставили вопрос об отстранении Ельцина от власти и начале процедуры импичмента, собрать необходимые две трети голосов инициаторы не смогли. (Так же позднее произошло и в Думе. Не хватило у депутатов духу окончательно рассориться с «гарантом». Впрочем, просто так демократы власть ни за что бы не отдали, дело могло дойти до следующей гражданской войны.) Кстати, Ельцин готовился к тому, что решение об импичменте будет принято: на этот случай в его распоряжении были части специального назначения. Тогда Верховный Совет согласился на референдум, назначенный на 25 апреля. Как известно, в нем не приняли участие 38 миллионов обладавших правом голоса граждан, а потому оппозиция его результаты не признала.
Результаты же были таковы: 58,7 процента проголосовавших выразили доверие президенту, 53,0 процента одобрили его социально-экономическую политику. При этом большинство высказалось против досрочных выборов и президента (68,3 процента), и депутатов Верховного Совета (56,9 процента). Это означало, что усилия ельцинской команды навязать народу решение, которое ее более всего устраивало — «да» — «да» — «нет» — «да», — провалились, вопреки тому, что административный ресурс был задействован на полную катушку. Ходил даже анекдот: «Когда кошка окатилась четырьмя котятами, хозяин решил назвать их Да, Да, Нет, Да».
Вот что говорил об этом Поляков летом 1993-го в интервью газете «Правда»: «Я вообще политикой не занимаюсь. Я просто стараюсь (и порой это удается) говорить о происходящем согласно той внутренней свободе, на которой и основывается, если пользоваться пушкинским выражением, «самостоянье человека». А власть — это всегда насилие, и, значит, писателю, понимающему свою миссию несколько шире, чем «плетение словес», всегда будет кого защищать от властей предержащих. Но глубина и ярость этой оппозиции зависят от того, насколько власть осторожна, нравственна, прагматична в этом своем неизбежном насилии над людьми. И прежняя власть, и нынешняя друг друга стоят — обожают железную метлу, только те гнали нас ею в социализм, а эти — в капитализм, людей, конечно, об их желании не спросив. Референдум 25 апреля в расчет не принимаю, потому что это был не референдум, а общенациональный тест на усваивание политических клише, вдалбливаемых средствами массовой информации. Ну, в самом деле, если власть действительно хочет узнать, что думает о ней и ее курсе народ, зачем же в течение месяца колотить этот самый народ по голове: ДА-ДА-НЕТ-ДА…»
В интервью «Московской правде» Поляков настаивал: «…Посудите сами, если бы власть в действительности хотела узнать, что о ней и ее курсе думает народ, разве она бы стала превращать телевизор — во время подготовки к референдуму в особенности — в пресс для штамповки единомыслящих мозгов? Еще три года назад я писал о том, что начавшиеся процессы с подлинной демократией ничего общего не имеют, что это всего-навсего «комедия политических масок», за которыми скрывается все то же большевистское презрение к человеку».
Ситуация оставалась напряженной и взрывоопасной. 1 мая Фронт национального спасения организовал антипрезидентскую демонстрацию в Москве, на которую вышли сотни тысяч москвичей (и Поляков, кстати, тоже). Демонстранты получили разрешение пройти от Октябрьской площади до Крымского моста, немногим более 500 метров, а там их поджидали грузовики с ОМОНом, овчарками, бронемашинами и конной милицией. Это распоряжение властей было воспринято всеми как издевка. Решено было с песнями и плясками двинуться по свободному от машин Ленинскому проспекту до Воробьевых гор. Колонна, возглавляемая Геннадием Зюгановым, Виктором Анпиловым, Сергеем Бабуриным и Анатолием Лукьяновым, начала движение от Калужской площади. Но у площади Гагарина демонстранты уперлись в грузовики, которые срочно подогнали им наперерез по улице Вавилова. Перед грузовиками выстроились цепи ОМОНа. Толпа сзади напирала, первые ряды уперлись в бойцов ОМОНа с резиновыми дубинками наизготовку. Кое-кто из манифестантов попытался пробить брешь в заграждении, используя в качестве тарана грузовики: в машинах почему-то не оказалось водителей, хотя в замке зажигания торчал ключ. В результате погиб 25-летний омоновец, зажатый между двумя ЗИЛами и скончавшийся в больнице от полученных травм. Милиция пустила в ход «демократизаторы» и водометы. Митингующие — а это в массе своей были пожилые люди — отбивались флагштоками советских и трехцветных имперских флагов. А над дерущимися полоскался на ветру растянутый поперек проспекта плакат: «С праздником, дорогие россияне!» Впоследствии именно эту демонстрацию Поляков изобразит в романе «Замыслил я побег…», описывая гибель одного из своих героев — советского патриота генерал-майора Лабензона.
…………………..
Поначалу митинговать собирались на площади Гагарина, но потом толпа двинулась по привычке на Манежную — там прокричать: «Банду Ельцина под суд!» — чтобы этот беспалый белобилетник слышал и трепетал в своем кремлевском логове. Борис Исаакович был, как всегда, в генеральском мундире, при наградах и, как всегда, шел в первых рядах с красным флагом на свинчивающемся древке. Рядом шагал верный Джедай с гитарой. Толпа дошла до омоновцев, перегородивших Ленинский проспект, и остановилась. Точнее, остановились первые шеренги, а задние все подходили и подходили от площади Гагарина, туже и туже сжимая народную пружину. Башмаков запомнил это выражение — «народная пружина», брошенное на поминках говорливым есаулом Гречко.
«Я даже вначале не понял, — вспоминал есаул после второй. — Стоим. Впереди эти, в касках, со щитами, как псы-рыцари… Стоим. Спиной прямо чувствую, как сзади, понимаешь, народная пружина сжимается… И вдруг слышу звон. Сначала думал — в ушах. У меня так от давления бывает. Прислушался — нет, не в ушах! Огляделся и понял: медали звенят! Фронтовиков-то тысяч десять было, не меньше. Сзади напирают, толкаются — и медали звенят… Звенят! Прямо-таки набат мести! Никогда не забуду!..» Борис Исаакович подошел к омоновцам и строгим голосом спросил:
— Почему не пускаете?
— А куда надо? — спросил омоновец.
— К Кремлю!
— Не положено, отец!
— В 45-м было положено, а теперь не положено…
— Отец, ты сам человек военный. Должен понимать: приказ есть приказ.
— А если вам прикажут по фронтовикам стрелять? Тогда что?
— Да что ты с ним пустоболишь? — крикнул, подбегая, другой омоновец, явно офицер. — Он же провокатор!
— Эй, ты, охломоновец, — вмешался Джедай, — соображай, с кем разговариваешь!
— А с кем я разговариваю?
— У тебя теперь каска вместо башки? В погонах не разбираешься?
— Ага… А чего так слабо? Мог бы на Арбате и маршальские купить!
— Не сметь! — возвысил голос Борис Исаакович. — Я генерал Советской армии!
«Ты понимаешь, — удивлялся на поминках после четвертой есаул Гречко, — Исакыч-то обычно не картавил. Только когда запсиховывал, из него тогда это еврейское «р» и перло… Он как закричит: «Я генер-рал Советский ар-р-рмии!» Ты уж меня, Трудыч, прости, но у него на самом деле как-то не по-русски получилось…»
— Ах ты, жидяра, китель чужой напялил, — крикнул офицер — и еще выстёбывается!
— Что? Что ты сказал, сопляк? — Борис Исаакович двинулся на него.
— А вот что я тебе, тварь пархатая, сказал! — И омоновец с размаху ударил генерала резиновой палкой по голове.
Джедай хотел броситься наперерез, но не успел.
Генеральская фуражка слетела и откатилась. Удар был довольно сильный, но, конечно, не смертельный. Смертельной оказалась обида. Борис Исаакович схватился за грудь, захрипел и стал заваливаться.
Каракозин и Гречко еле успели его подхватить.
— Врача! — закричал Джедай.
— Вот тебе врача!
Офицер хотел ударить и Джедая, но есаул успел схватиться за дубинку и вытащить омоновца из цепи. С этого, собственно, и началось то печально знаменитое побоище ветеранов, много раз потом описанное газетами и показанное по телевизору…
Каракозин, прикрывая собой хрипящего генерала, стал вытаскивать его из толпы. Но по рядам уже побежало: омоновцы генерала забили!
— Какого генерала?
— Исакыча!
— Су-у-уки!
Генералов среди митинговавших было немного. Но главное — Борис Исаакович с Джедаем не пропускали ни одной демонстрации — «Исакыча» и «Андрюху с гитарой» знали многие. Народ озверел — начали отрывать от плакатов и знамен древки и, как острогами, бить ими омоновцев. Появились и предусмотрительно заточенные арматурины. Булыжники и кирпичи, невесть откуда взявшиеся посреди асфальтового Ленинского проспекта, забухали о щиты…
(«Замыслил я побег…»)…………………..
Это столкновение стало зловещим прологом к событиям октября 1993 года, оно показало, что ни одна из сторон не готова к компромиссу. Официально было объявлено о нескольких сотнях раненых с обеих сторон. Но на самом деле жертвы были не только среди демонстрантов и правоохранителей. Среди них — Игорь Иванович Кар-пец, выдающийся ученый-юрист и криминолог, некогда возглавлявший Главное управление уголовного розыска МВД СССР. В те дни он находился в больнице после инфаркта. Он уже шел на поправку, и ему разрешалось смотреть телевизор. Когда Игорь Иванович увидел репортаж о событиях на площади Гагарина, с ним случился еще один инфаркт, от которого он уже не оправился.
В том же мае было созвано Конституционное совещание для выработки окончательного варианта новой Конституции, однако оппозиция отказалась признать его легитимность. В это время рубль перестал быть единой валютой в пятнадцати бывших советских республиках, а летом была проведена денежная реформа, вызвавшая еще большую панику, чем при обмене пятидесяти- и сторублевых купюр в 1991-м. Глава Центробанка выделил на обмен 30 дней и ограничил сумму 35 тысячами рублей (что соответствовало 35 долларам США). Затем сумму увеличили до 100 тысяч, а срок — до конца года, но было поздно: народ в отчаянии штурмовал сберкассы, а цены выросли на 30 процентов.
Как ни удивительно, автор этих строк ничего не помнит про тот обмен. Скорее всего потому, что денег в моей семье не было совсем и менять было просто нечего. А может, еще и потому, что народ, который уже привычно называли населением, свои гроши тогда по-скорому обменял на доллары, чтобы потом получить их обратно уже в новых купюрах — по мере надобности.
В интервью «Неделе», вышедшем летом 1993-го, Поляков так характеризовал ситуацию в стране: «То, что происходит сейчас в России, можно определить есенинской строчкой: «Еще закон не отвердел». Отсюда все наши беды. Но парадокс заключается в том, что закон и не может отвердеть, потому что тогда по нему придется отвечать. Кому-то — за непродуманные экономические акции, приведшие к пауперизации и даже «папуасизации» большей части населения. Кому-то — за поспешные политические решения, обернувшиеся удручающими территориальными потерями. А кому-то — за то, что даже не перепутали государственный карман с собственным, как говаривали при социализме, а попросту приватизировали этот самый карман…» На вопрос, как он относится к нынешней политической борьбе и методам, которыми она ведется, он ответил: «Она напоминает мне дуэль на автогенах в пороховом погребе». Это были пророческие слова.
И вот наступил сентябрь. В обстановке строжайшей секретности был подготовлен указ № 1400, который Ельцин озвучил в телеобращении к народу. Утвердив поправки к Конституции (что по той же Конституции он сделать никак не мог), президент изменил конфигурацию власти. Согласно его указу, и съезд народных депутатов, и Верховный Совет утрачивали свою легитимность. В Белом доме, у Верховного Совета, тут же отключили электричество, связь и водоснабжение, а здание было оцеплено внутренними войсками. В ответ Верховный Совет назвал действия президента конституционным переворотом, а X чрезвычайный Съезд народных депутатов принял решение о прекращении полномочий президента Ельцина и передаче власти вице-президенту Руцкому. Представительные органы по стране поддержали Верховный Совет, главы регионов — Ельцина. В Белом доме начали собираться сторонники Верховного Совета, а сам Белый дом вновь оказался опоясан баррикадами. Патриарх Алексий II попытался побудить стороны прийти к компромиссу, но переговоры результата не дали.
В ожидании штурма защитники Верховного Совета прорвали кольцо оцепления, захватив мэрию на Новом Арбате, гостиницу «Мир», здания ИТАР-ТАСС и Краснопресненского УВД, блокировав Министерство обороны и попытавшись взять «Останкино». С обеих сторон были раненые и погибшие. В ночь с 3 на 4 ноября, по призыву Гайдара, у здания мэрии на Тверской собралась огромная безоружная толпа сторонников Ельцина, которых Гайдар в своей эмоциональной речи призвал защитить власть от «фашистов». В пять утра в столицу были введены тульские десантные части, и шесть танков в прямом эфире, на глазах у всего мира, расстреляли кумулятивными снарядами Белый дом и его защитников. Си-эн-эн вела прямую трансляцию с места событий, а на набережной, не опасаясь случайной пули, стояли сотни зевак, среди которых был и Поляков. Впрочем, неправильно писателя, старающегося быть в гуще событий, именовать «зевакой»: он был очевидцем катастрофы, а полученные впечатления передал в своем романе.
…………………..
В ближайший выходной Башмаков снова хотел проведать Джедая, но «Белый дом» к тому времени окружили бронетехникой и обвили американской колючей проволокой — не прошмыгнуть. Кроме того, по слухам, все подступы к мятежному парламенту простреливались засевшими на крышах снайперами.
А 4-го Верховный Совет раскурочили из танковых пушек. Народ собрался как на салют и орал «ура!», когда снаряд цокал о стену и звенели разлетающиеся осколки. Анатолич затащил Башмакова под пандус, ведший к площадке перед СЭВом. Под пандусом какой-то иностранный журналист, захлебываясь, наговаривал в диктофон радостный комментарий, а когда раздавался очередной залп, выставлял диктофон наружу, чтобы отчетливее записать грохот и крики. Потом появились мальчишки и стали шумно делить стреляные гильзы. «Белый дом» дымился, подобно вулкану. Верхние этажи закоптились. И где-то там, в жерле вулкана, остался Джедай. Сколько человек погибло, никто не знал. Анатолич потом говорил, что трупы тайком ночью сплавляли на баржах по Москве-реке и жгли в крематориях. Но Башмаков не верил в смерть Джедая, он даже на всякий случай предупредил тещу, что на даче у них некоторое время поживет один знакомый. Катя тоже не верила:
— Ничего с ним не случилось. Вон ведь ни одного депутата не застрелили. Только избили.
Неделю они ждали звонка. Но Каракозин не объявился…
(«Замыслил я побег…»)…………………..
После обстрела из танков спецподразделение «Альфа» взяло здание штурмом, сопротивление засевших в нем людей было сломлено, и из Белого дома с поднятыми руками и серыми лицами вышли Руцкой, Хасбулатов, Макашов и другие. Генпрокуратура насчитала потом 141 погибшего, специальная парламентская комиссия — 160, но проверить, насколько достоверны эти цифры, уже не представляется возможным. Подверглись арестам члены левых организаций, были распущены политические партии (Фронт национального спасения, движение «Трудовая Россия», Русское национальное единство, Объединенный фронт трудящихся и др.), закрыты их печатные органы, на многих активистов заведены уголовные дела.
На следующий день после расстрела парламента, когда страна еще приходила в себя, газета «Известия» опубликовала материал, озаглавленный «Писатели требуют от правительства решительных действий», который вошел в историю под названием «Письмо сорока двух» и в котором несогласные с политикой Ельцина вновь названы фашистами:
«Нет ни желания, ни необходимости подробно комментировать то, что случилось в Москве 3 октября. Произошло то, что не могло не произойти из-за наших с вами беспечности и глупости, — фашисты взялись за оружие, пытаясь захватить власть. Слава Богу, армия и правоохранительные органы оказались с народом, не раскололись, не позволили перерасти кровавой авантюре в гибельную гражданскую войну, ну а если бы вдруг?.. Нам некого было бы винить, кроме самих себя. Мы «жалостливо» умоляли после августовского путча не «мстить», не «наказывать», не «запрещать», не «закрывать», не «заниматься поисками ведьм». Нам очень хотелось быть добрыми, великодушными, терпимыми. Добрыми… К кому? К убийцам? Терпимыми… К чему? К фашизму?
И «ведьмы», а вернее — красно-коричневые оборотни, наглея от безнаказанности, оклеивали на глазах милиции стены своими ядовитыми листками, грязно оскорбляя народ, государство, его законных руководителей, сладострастно объясняя, как именно они будут всех нас вешать… Что тут говорить? Хватит говорить… Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли ее продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?
Мы не призываем ни к мести, ни к жестокости, хотя скорбь о новых невинных жертвах и гнев к хладнокровным их палачам переполняет наши (как, наверное, и ваши) сердца. Но… хватит! Мы не можем позволить, чтобы судьба народа, судьба демократии и дальше зависела от воли кучки идеологических пройдох и политических авантюристов.
Мы должны на этот раз жестко потребовать от правительства и президента то, что они должны были (вместе с нами) сделать давно, но не сделали:
1. Все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений должны быть распущены и запрещены указом президента.
2. Все незаконные военизированные, а тем более вооруженные объединения и группы должны быть выявлены и разогнаны (с привлечением к уголовной ответственности, когда к этому обязывает закон).
3. Законодательство, предусматривающее жесткие санкции за пропаганду фашизма, шовинизма, расовой ненависти, за призывы к насилию и жестокости, должно наконец заработать. Прокуроры, следователи и судьи, покровительствующие такого рода общественно опасным преступлениям, должны незамедлительно отстраняться от работы.
4. Органы печати, изо дня в день возбуждавшие ненависть, призывавшие к насилию и являющиеся, на наш взгляд, одними из главных организаторов и виновников происшедшей трагедии (и потенциальными виновниками множества будущих), такие, как «День», «Правда», «Советская Россия», «Литературная Россия» (а также телепрограмма «600 секунд»), и ряд других должны быть впредь до судебного разбирательства закрыты.
5. Деятельность органов советской власти, отказавшихся подчиняться законной власти России, должна быть приостановлена.
6. Мы все сообща должны не допустить, чтобы суд над организаторами и участниками кровавой драмы в Москве не стал похожим на тот позорный фарс, который именуют «судом над ГКЧП».
7. Признать нелегитимными не только съезд народных депутатов, Верховный Совет, но и все образованные ими органы (в том числе и Конституционный суд).
История еще раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс еще раз, как это было уже не однажды!»
Письмо подписали Алесь Адамович, Анатолий Ананьев, Артем Афиногенов, Белла Ахмадулина, Григорий Бакланов, Зорий Балаян, Татьяна Бек, Александр Борщаговский, Василь Быков, Борис Васильев, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Давыдов, Даниил Данин, Андрей Дементьев, Михаил Дудин, Александр Иванов, Эдмунд Иодковский, Римма Казакова, Сергей Каледин, Юрий Карякин, Яков Костюковский, Татьяна Кузовлева, Александр Кушнер, Юрий Левитанский, академик Дмитрий Лихачев, Юрий Нагибин, Андрей Нуйкин, Булат Окуджава, Валентин Оскоцкий, Григорий Поженян, Анатолий Приставкин, Лев Разгон, Александр Рекемчук, Роберт Рождественский, Владимир Савельев, Василий Селюнин, Юрий Черниченко, Андрей Чернов, Мариэтта Чудакова, Михаил Чулаки, Виктор Астафьев.
Поляков вспоминает, что «либеральная пресса радовалась, радовались журналисты и политики, которые теперь бубнят и взвизгивают, что мы живем в полицейском государстве… Именно те, кто призывал «раздавить гадину», сегодня утверждают, что у нас мало демократии. А из-за кого ее мало? Ведь в 1993-м это была точка бифуркации, развилка…».
В те же дни вышли и статьи Полякова. Он был фактически единственным, кто после прозвучавших пушечных залпов публично заявил о своем несогласии с произошедшим. Вот что он писал в статье «Смена всех», вышедшей в газете «Век» 1 октября, за два дня до роковых событий:
«Стыдно. Пожалуй, именно это слово наиболее полно передает то состояние, в котором ныне пребывает любой здравомыслящий человек, если он воспринимает Россию как Отечество, как свой дом, а не дешевую ме-блирашку, откуда можно в любой момент съехать, прихватив с собой казенный табурет с жестяной биркой на боку.
…Мне стыдно, что президент устал. Во всех смыслах. Достаточно, даже не обладая специальными знаниями, взглянуть в его лицо, появляющееся на телеэкране.
…Мне стыдно за наш разогнанный парламент. <…> В их кобуре, которую они так значительно оглаживали, пикируясь со своими исполнительными противниками, оказался огурец. А ведь это фактически те самые люди, что в 91-м активно участвовали в августовских игрищах. Они же отлично знают, как это делается. Они же знают, что подвыпившую массовку можно объявить героическими защитниками, а можно — обнаглевшей чернью и люмпенами. Все зависит от того, кто обладает «Останкино». Да, большую часть парламента нужно было давно выгнать из политики за профнепригодность без выходного пособия! Но разгонять парламент — это совсем другое…
Мне стыдно за нашу отечественную интеллигенцию — она так и осталась советской в самом неизъяснимом и неисчерпаемом смысле этого слова. <…> Ее задача — помочь правильно установить парусную систему государственного корабля, а не дуть в паруса, лиловея от натуги и стараясь, чтобы их усердие заметил если не капитан, то хотя бы старпом…»
Вот как автор вспоминает сегодня о том времени:
«…Поздно вечером, почти ночью 2 октября мы возвращались с дачи в Москву. Всюду стояли омоновцы и бронетехника. Из автомобильного приемника демократы визжали о коричневой угрозе и необходимости раздавить гадину. На Беговой у самого поворота на Хорошев-ку меня остановили ребята в касках и бронежилетах, не то калмыки, не то башкиры. В Москву нарочно стянули части из регионов, где плохо понимали, что происходит в столице. Они потребовали выключить мотор и предъявить паспорт. Я ответил, что у меня сдох аккумулятор и снова я ни за что не заведусь. Они наставили на меня автоматы и повторили требование. Алина, ей было тогда тринадцать лет, испугалась. Наталья пыталась крикливо вмешаться, но я успокоил и заглушил машину. Проверив и убедившись, что я, в отличие от них, прописан в Москве, они отпустили нас, даже любезно оттолкали не заведшуюся машину к бензоколонке, где мы ее оставили и пошли домой пешком.
Прошляпив переворот 1991-го в Коктебеле, я не мог не увидеть своими глазами то, что происходило на Краснопресненской набережной, и весь следующий день провел у Белого дома. Танки, приседая, лупили по Верховному Совету. Народ улюлюкал. Периодически на крышах соседних домов мелькали черные фигурки. Все показывали пальцами и кричали с недоверием: «Снайперы!» А потом кого-то — ротозея или спецназовца, с простреленной головой — спешно уносили к «скорой помощи».
На следующий день я пошел на Цветной бульвар в редакцию газеты «День», чтобы взять номер с моим фрагментом «Демгородка». Но редакция была уже разгромлена. Вход охраняли несколько интеллигентного вида молодых людей, одетых в новенький импортный камуфляж.
— Вы куда, гражданин? — спросил, картавя, старший, кучерявый толстячок.
— В газету.
— В какую?
— «День»…
— А вы, собственно, кто? — Они начали окружать меня.
— Хотел дать объявление…
— A-а… Уходите и запомните: газеты «День» больше нет и никогда не будет. Проханов скрылся, но мы его поймаем.
Я понял, что мне сейчас в лучшем случае просто накостыляют, и ушел. Под впечатлением от увиденного я одним духом написал статью «Оппозиция умерла» и отнес в «Комсомолку», которой тогда руководил понимавший меня Валерий Симонов, к сожалению, вынужденный вскоре отдать газету Владиславу Фронину. А потом мы снова уехали на Зеленоградскую, и у нас там жил несколько дней, скрываясь, чудом вырвавшийся из Белого дома Сергей Бабурин, с которым я познакомился в редакции «Правды» или «Гражданина России», не помню. Мы соблюдали, конечно, конспирацию, но бурно выпивали, спорили, горячились, и он, раздевшись и светясь своим дородным белым телом, шел остудиться к речке. Соседи, прибегая ко мне, спрашивали свистящим шепотом: «Это Бабурин или нам показалось?» — «Показалось». — «Ясно!» — с пониманием кивали они. Никто, кстати, не донес…»
Статья «Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция!» появилась в «Комсомолке» 7 октября.
…………………..
…Под выстрелами толпа любопытствующих дружно приседала. Потом кто-то начинал показывать пальцем на бликующий в опаленном окне снайперский прицел. Били пушки — словно кто-то вколачивал огромные гвозди в Белый дом, напоминавший подгоревший бабушкин комод. А около моста, абсолютно никому не нужный в эти часы, работал в своем автоматическом режиме светофор: зеленый, желтый, красный…
Вечером торжествующая теледикторша рассказывала мне об этом событии с такой священной радостью, точно взяли рейхстаг. Что это было на самом деле — взятие или поджог рейхстага, — покажет будущее. Однако кровавая политическая разборка произошла. В отличие от разборок мафиозных, в нее оказались втянуты простые люди, по сути, не имевшие к этому никакого отношения. Я не политик, я — литератор и обыватель. Мне по-христиански жаль всех погибших. Нынешним деятелям СМИ и тому, что осталось от нашей культуры, когда-нибудь будет стыдно за свои слова о «нелюдях, которых нужно уничтожать». А если им никогда не будет стыдно, то и говорить про них не стоит. <…> Я слушал и участвовал в разговорах людей, толпившихся у Белого дома, на Смоленке, у Моссовета. Правда, в последнем месте спорящих часто отвлекала от разговоров обильная гуманитарная помощь, раздававшаяся прямо с грузовиков. Так вот: того единодушия, которым отличаются комментаторы ТВ, там не было. Большинство склонялось к тому, что виноваты и те и другие.
Противостояния президента и парламента, двоевластия больше нет, но то неоднозначное отношение к происходящему в стране, которое это противостояние символизировало, осталось. <…> Поляризация в обществе осталась. Поэтому сейчас нужна не сильная рука, а мудрая голова!
Как справедливо заметил Сен-Жон Перс, плохому президенту всегда парламент мешает. <…> Итак, оппозиция, пошедшая в штыковую контратаку, уничтожена. Закрыты оппозиционные газеты, передачи, возможно, будут «закрывать» неудобно мыслящих политиков и деятелей культуры… Создатели политических мифов не любят оттенков: у врага в жилах должна течь не кровь, а серная кислота — желательно поконцентрированнее. <…> Я хочу воспользоваться неподходящим случаем и сказать о том, что я — в оппозиции к тому, что сейчас происходит в нашей стране.
…………………..
Отметим не только бесстрашие автора, но и первое появление в его текстах имени Сен-Жон Перса, который через 15 лет станет одним из главных, хотя и заочных, героев иронической эпопеи «Гипсовый трубач».
Статья вызвала бурю эмоций, по рукам ходили ксерокопии, о ней говорили, в том числе во власти, и можно лишь догадываться, как ее там оценивали. Через два десятка лет, в предисловии к книге избранной публицистики «Лезгинка на Лобном месте», Поляков так описал коллизии того времени:
«Все антиельцинские издания были к тому времени запрещены, и моя статья оказалась единственным в открытой прессе протестом против утверждения демократии с помощью танковой пальбы по парламенту. Между прочим, стократ проклятые за жестокость большевики Учредительное собрание всего-навсего распустили. Почувствуйте разницу!
В итоге «Комсомольскую правду» тоже закрыли. Правда, на один день. Потом одумались и открыли. А меня занесли в какой-то черный список, из которого вычеркнули только при Путине. Не могу сказать, что это сильно омрачило мне жизнь, хотя, скажем, из школьной программы разом вылетели мои повести, из энциклопедий исчезла всякая информация обо мне».
Писать ему, надо отдать должное, не запрещали. И всегда находились печатные издания, готовые опубликовать очередную статью.
Поляков, конечно, на этом не остановился: уже в декабре 1993-го в той же «Комсомолке» вышла статья «Россия накануне патриотического бума», в которой он, словно с Луны свалившись, утверждал, что «укрепившейся новой власти теперь до зарезу понадобится возрождение патриотического чувства, которое, собственно, и делает население народом и заставляет людей терпеть то, чего без любви никто терпеть не станет». Когда статья вышла, друзья и недруги не сговариваясь решили, что он повредился в уме. «В самом деле, в то время слово «патриот» стало почти бранным, а теледикторы если и произносили его, то с непременной брезгливой судорогой на лице. Не знаю, откуда взялась уверенность, что строить новую Россию нужно на фундаменте стойкой неприязни к Отечеству, но могу предположить: идея исходила от тех политических персонажей, которые видели в «новой России» лишь факторию для снабжения цивилизованного Запада дешевым туземным сырьем. С патриотизмом боролись так же истово и затейливо, как прежние воинствующие безбожники с религией. И так же безуспешно. Мой прогноз оказался верен: сегодня патриотизм опять в чести, государство финансирует дорогостоящие программы по воспитанию отчизнолюбия, на автомобилях развеваются георгиевские ленточки, кудрявые эстрадные попрыгунчики снова запели о русском раздолье, а те же самые теледикторы артикулируют трудное слово «патриотизм» с тяжким благоговением. Но почему, почему же у меня никак не исчезнет ощущение, что живу я все-таки в фактории, занимающей одну седьмую часть суши?»
Народ отреагировал на «победу демократии» очень своеобразно, во всяком случае, власть такого поворота явно не ожидала. На выборах в Госдуму наибольшее число голосов (23 процента) набрала ЛДПР во главе с Жириновским. Это было чисто протестное голосование. Либералы, собравшиеся широко, в прямом эфире отпраздновать свою победу, были ошеломлены, когда в режиме онлайн стали поступать цифры о раскладе голосов по регионам. Очевидцам запомнились растерянное лицо Олега Табакова и слова нетрезвого Юрия Карякина, который, не сдержав эмоций, воскликнул: «Россия, одумайся, ты одурела!»
На втором месте (15,5 процента голосов) оказалась партия Гайдара «Выбор России». Правда, благодаря успеху в одномандатных округах она сравнялась с ЛДПР по числу мандатов (64). Третье место (12,4 процента) заняла КПРФ. Далее шли «Женщины России» — 8,1 процента, Аграрная партия — 8,0, «Яблоко» — 7,9, ПРЕС — 6,7, Демократическая партия России — 5,5 процента. Самый многочисленный блок образовали левые, коммунисты и аграрии — 99 голосов, у ЛДПР и «Выбора России» — по 64. Газеты писали про «красный реванш». Это было ужасно: уничтоженная советская власть вновь будет заседать в парламенте! Такой состав Думы затруднил президенту и правительству дальнейшие рыночные реформы и породил новые конфликты. Мало того, «красная» Дума проголосовала за амнистию гэкачепистам и участникам октябрьских событий 1993 года.
* * *
Не сразу критика откликнулась на появление «Демго-родка» — и это вполне понятно, учитывая то, какие события сотрясали страну. Зато вскоре после «победы демократии» в прессе появились отзывы, авторы которых резко разошлись в оценках. Так, Л. Фомина в «Московской правде» писала: «Демгородок» при прочтении вызывает разные ощущения, и не надо быть ясновидящим, чтобы понять, что он вызовет бурную реакцию критиков всех «лагерей», поскольку картина, нарисованная автором, выполнена в ярких тонах, а персонажи и их поступки до боли узнаваемы. Предвижу многочисленные нападки со стороны «господарищей»[14], которые, заглянув в книгу, увидят там себя…»
Сергей Владимирович Михалков поставил повесть в один ряд с лучшими произведениями отечественных писателей, вспомнив в этой связи сатиру Булгакова.
Трудно сказать, что более способствовало размежеванию Полякова с либеральным лагерем: публицистика, хлесткая и обличительная по отношению к новой власти и ее порядкам, или «Демгородок», где он с этой властью окончательно разобрался, предал суду и даже определил меру наказания. Сказать, что Поляков разозлил повестью либеральных коллег-оппонентов — значит ничего не сказать. «Демгородок» вызвал у них активное отторжение.
Вот что писал Роман Арбитман в статье «Лукавая антиутопия. Юрий Поляков в поисках утраченного апофе-гея»: «…Итак, поражение ненавистной «дерьмократии» на Руси, которое так долго обещали народу большевики, состоялось. Пусть на бумаге, но состоялось… Юрий Поляков на бумаге отыгрался за все обиды, общественные и личные. За развал Союза и рост цен. За демократию, при которой редакция журнала «Юность» избрала не его, Полякова, своим новым главным редактором. За то, что по финансовым причинам закрылись два фильма по его, Полякова, сценариям и по непонятным причинам «тормознули» постановки его пьес в академических театрах. За то, что лживые телевизионщики не приглашают больше в «Пресс-клуб» (не по той ли причине возник в повести злорадный рассказ, как прихлопнули враля-телекомментатора?). За то, что былые «апофегеи» стали анахронизмом. Вероятно, именно эти и другие жизненные обстоятельства… и побудили писателя ударить по «демокрадам»…» Это была не просто рецензия, это было плохо скрываемое желание вычеркнуть Полякова из литературного процесса — за политические взгляды, которых он придерживался: «…Как выяснилось, писателю благоприятствовала атмосфера полуправды, в которой можно было показать себя на правах «разрешенного» обличителя… Пока существовали «белые пятна» и закрытые области, легко и приятно было делать полшага вперед и открывать Америку. Когда игра в догонялки кончилась и читателя требовалось привлекать чем-то иным, кроме оперативности «отклика», Юрий Поляков был бессилен… Оказался без работы…»
Статья Арбитмана стала своего рода приговором писателю со стороны либеральной общественности, после нее имя Полякова на страницах «Литературной газеты» уже не появлялось — почти до самого его прихода туда в 2001 году главным редактором. И это, конечно, не случайно. Правда, одну его статью (про закрытие телеканала «Российские университеты», тут интересы сошлись) газета в конце 1990-х по просьбе влиятельного Олега Попцова опубликовала, в качестве исключения из действовавшего в отношении Полякова правила. С тех пор прошло более двадцати лет, но правило это, кажется, так и не отменили.
Настоящим ударом для Полякова стала рецензия Александра Аронова в одном из декабрьских номеров «Московского комсомольца». «Поляков не желает воспринимать людей во всей их сложности и перепутанности, а упрощает… Признаюсь, трудно было дочитать недлинный текст до последней странички. Но если зажать ноздри, а позднее принюхаться — все-таки можно», — писал бывший приятель, озаглавивший свою рецензию весьма определенно: «Замок из дерьма». Это был тот самый Аронов, который лоббировал публикации начинающего поэта в «МК» и даже посвятил его стихотворению «Сон. 21 июня 1941 года» восторженную статью в «Вечерке». Юрий перепечатывал на машинке и составлял первый сборник Аронова «Островок безопасности» и был единственным, кто написал о нем сочувственную рецензию в «Литературной России». И вот теперь политика развела по разные стороны баррикад некогда близких людей.
«Помню, я столкнулся где-то с Ароновым примерно через полгода после выхода его брезгливой рецензии. Он был пьян и буквально набросился на меня:
— Юра, что с тобой? Ты что теперь — красно-коричневый?
— А вы?
— Мы всё сделали правильно!
— И Белый дом расстреляли правильно?
— Правильно!
— Почему?
— Потому что они бы нас повесили!
— Кто? Я бы вас, что ли, вешал?
— Нашлись бы…
Больше мы не общались. Вскоре Аронова настиг инсульт, и остаток жизни он провел в полусумерках, а когда наступали просветы, пытался писать, но получался странный наивный лепет, вызывавший оторопь у тех, кто знал его в расцвете парадоксального ума, насыщенного самыми разносторонними знаниями — в застолье, скажем, он мог прочитать целую лекцию о Кьеркегоре. Чтобы имя Аронова не уходило со страниц газеты, сотрудники кроили из его прежних статей новые колонки…»
Став главным редактором «Литературной газеты», Поляков неоднократно печатал на ее страницах стихи и материалы о жизни Александра Аронова. В отличие от своих оппонентов, разойдясь в политических взглядах, он не имел обычая вычеркивать товарища по перу из литературы.
Разразившись этими хлесткими рецензиями, либеральная критика сомкнула уста и никогда уже на протяжении почти четверти века не упоминала его имени ни в каком контексте — оно стало для нее непроизносимым. Если учесть, что в литературно-критическом цехе либеральные взгляды решительно превалируют над консервативными — в том числе и над доводами рассудка, — для Полякова это означало, что критика оставила его один на один с читателем, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во что это вылилось на самом деле?
«Осознав, что литературная группа, контролировавшая 90 процентов всего поля отечественной словесности, объявила мне бойкот, я понял: для меня единственный выход — художественность. Надо быть интересным читателю, вопреки молчанию и хуле критике. Надо, чтобы человек, даже случайно взявший в руки мою вещь, не мог оторваться, а потом говорил друзьям: «Это необходимо прочесть!» Пассажирский самолет прочнее боевой машины в десять раз, ибо он переносит по воздуху сотни людей, а не пару военных пилотов. Как «ястребок» разлетается вдребезги от меткого попадания ракеты, так и дурной роман аннигилируется от честной оценки объективного критика. Примерно такую же «суперпрочность» я по мере сил старался заложить в свои тексты. Это спасло меня от звездной расслабухи, она непременно поражает молодых авторов после первого шумного признания или упавшего им на голову «Букера». Возомнив себя мастерами, каждая запятая которых на вес золота, они начинают писать даже не левой ногой, а боюсь сказать — чем. Это заболевание я подавил в себе на корню, так грипп проходит, если нырнуть в прорубь. И мои постсоветские книги по тиражам сопоставимы с тогдашними лидерами: Пелевиным, Сорокиным, Улицкой, Аксеновым, — хотя в их раскрутку вкладывались гигантские средства. Впрочем, справедливости ради надо заметить: я стартовал не из низины, к 1991 году у меня, благодаря советским публикациям, уже имелся многочисленный и верный читатель. Так что замолчать меня не вышло, а ведь как хотелось!»
Огромное число соотечественников отныне искали и ждали новинок от Полякова, не особенно задумываясь о его художественном методе и средствах. Его по-прежнему читали запоем, и в этом смысле Полякову повезло: в том числе и благодаря замалчивавшей его творчество либеральной критике он стал воистину народным писателем. Но это также означало, что множество любителей книги из числа гуманитариев, привычно ориентирующихся на мнение критики, особенно в наше время, когда книжный рынок наводнен новинками, не открыли для себя этого яркого неординарного писателя, не смогли оценить его искрометный юмор и афористичное письмо, не узнали себя в его героях — и не разделили с ним заботу о судьбе страны.
И все же Поляков вышел из этой истории победителем, оставшись самим собой: неудобным, въедливым, ехидным человеком, упорно называвшим вещи своими именами и естественно пережившим все стадии надежд и разочарований не только в новом курсе страны, но также и в своем писательском ремесле. Жизненный путь успешного писателя-сатирика выстлан проклятиями его болезненно самолюбивых современников. Чем бы ни грозило ему пристальное вглядывание в окружающих, он не может не написать о том, что разглядел. Но кому хочется обнаружить себя на страницах произведения в неприглядном или смехотворном виде? (Помните у Булгакова: «Брюки те же самые, втянутая в плечи голова и волчьи глаза… Ну, я, одним словом! Но, клянусь всем, что было у меня дорогого в жизни, я описан несправедливо. Я вовсе не хитрый, нежадный, нелукавый, не лживый, не карьерист…»? А каким неприглядным вышел в «Театральном романе» «красный граф»! Что уж говорить о Станиславском и Немировиче-Данченко…) Короче, неприятие Полякова со стороны коллег по цеху имело под собой еще и глубоко личные причины. Но вместо того чтобы не усугублять наметившийся конфликт, Поляков вдруг разразился новым романом, посвященным нравам столь хорошо ему знакомой литературной среды, которая вызывала у него ничуть не меньше сарказма, чем политическая тусовка.
Вот что позднее писал о творчестве Полякова Николай Николаевич Скатов:
«Юрий Поляков однажды, говоря об иронии, написал совсем не о нелюбви к иронии, тем более не об ужасе перед нею, а о… спасительной иронии. И он оказался прав. Может быть, только иронический смех и спасал нас в свое время от возможности окоченеть и окостенеть во все более окоченевшем и окостеневшем обществе.
И только способность ни перед чем не останавливаться могла останавливать все захватывающее омертвение. Юрий Поляков, к моей большой радости, не остановился.
Ни перед чем.
Ни перед, казалось бы, столпами: Армия, Школа, «Аппарат»… А потом стеганул и совсем уже священных коров: «совесть нации» — творческую интеллигенцию и Демократию.
Поэтому произведения Юрия Полякова не пользуются успехом у представителей либеральной интеллигенции. Либералы во власти не любят его за излишне злую, по их глубокому убеждению, критику властей предержащих. Не облеченные властью либералы не любят его за сотрудничество с властью. И те и другие терпеть не могут Юрия Полякова за его едкий смех и откровенное издевательство над их «священным правом» презирать власть и одновременно сытно есть из ее кормушки. Они на всех литературных перекрестках трубят о том, что Юрий Поляков преступил все «грани приличия», принятые в «приличном», «рукопожатном» обществе.
«Не верьте никому из нас, — попросил, нажимая изо всех сил, курсивом, Блок, — верьте тому, что за нами». У Юрия Полякова есть это «за нами». Оно не воплощено и даже не декларировано, не явлено и даже не заявлено. Но оно есть.
Когда-то Юрий Поляков сам сказал о своей писательской особенности — работать до упора — не меньше, но и не больше.
И речь явно не об умении подыскать уместное слово, подобрать ожидаемый читателем образ — вещи для любого стоящего писателя сами собой разумеющиеся.
Уверен, все дело в том, что один старый критик еще в позапрошлом веке назвал «чистотой нравственного чувства».
Это неспособность (в иронии!) впасть в ерничество, пусть даже талантливо исполненное.
Это невозможность отдаться пошлости, пусть даже умеренной и аккуратной.
Это неумение поддаться провокаторству, пусть даже искусно замаскированному и изощренному.
Именно все это и обеспечивало и обеспечивает наличие одной группы крови у писателя Юрия Полякова и его многочисленных читателей.
Его книги читает и перечитывает народ. И если есть сейчас народный российский писатель, так это Юрий Поляков.
Если бы меня спросили, произведения Александра Солженицына или Юрия Полякова нужно изучать в нашей российской Школе, я бы, не задумываясь, отдал пальму первенства Юрию Полякову».
* * *
В конце 1980-х Поляков полагал, что писатель напрямую влияет на настроения в обществе, и видел в том свою задачу. Впрочем, все так и было. Здесь уже говорилось, что писателей в советское время воспринимали как пророков, они были для многих нравственным ориентиром, а потому их авторитет был чрезвычайно и порой незаслуженно высок. В постсоветском обществе все обернулось иначе. Начать с того, что до середины и даже конца 1990-х писатели буквально прозябали, лишившись прежних социальных гарантий и получая мизерные гонорары, на которые невозможно было прожить. Исключение составляли те немногие, чьи заслуги перед демократией обеспечили им соросовские гранты и стипендии, в несколько раз превышавшие среднюю зарплату по стране, а также чтение лекций в западных университетах и даже перевод их произведений за границей небольшими, но хорошо оплачиваемыми тиражами. В журнале «Знамя», который возглавлял в ту пору президент российского отделения Фонда Сороса Григорий Бакланов, средняя зарплата сотрудников составляла не менее тысячи долларов при прожиточном месячном минимуме для целой семьи в 50 долларов. Понятно, почему сегодня с такой ностальгией некоторые вздыхают о лихих 1990-х.
Поляков вспоминает, что в то время брался за любую работу, а жена Наталья с сестрой, подобно многим, даже начала «челночить». Сначала они возили в Варшаву пластмассовые цветы, которые в новой России, получившей в наследство от СССР мощный нефтехимический комплекс, стоили дешево, да и спросом особенным не пользовались. Зато в Польше их можно было продать гораздо дороже, так как экономные шляхтичи предпочитали искусственные цветы живым, быстро увядающим. Потом, заработав валюту, они стали летать в Корею за перчатками, шарфами и беретами из «ангорки», которые продавали на Большой арене «Лужников», превращенной в огромный рынок. Юрий помогал жене — ездил на своем «москвиче» на таможенный склад за посылками «карго», отвозил и встречал у торжища. Про челночные поездки в Польшу мы прочтем потом в романе «Замыслил я побег…», торговые «Лужники» возникнут в «Гипсовом трубаче», а про перчатки из «ангорки» услышим в пьесе «Женщины без границ». Впрочем, развернуть бизнес и создать свое дело у Натальи и ее сестры не получилось, основную часть денег они, несмотря на предостережения одаренного интуицией Юрия, вложили в «мавродики». И как большинство доверчивых россиян, почти всё потеряли. Вот почему глава, посвященная афере с «чемадуриками», написана в «Гипсовом трубаче» с таким выстраданным сарказмом. Впрочем, писательские дела Полякова к тому времени начали налаживаться и относительное благополучие семьи вскоре восстановилось.
Со второй половины 1990-х начался литературный бум: издательства получили освобождение от налога на добавленную стоимость, граждане постепенно привыкли жить в состоянии шока и потянулись к настоящей литературе, и не столько в поисках ответа на вечные вопросы (они уже поняли, что этих ответов надо искать где-то еще), сколько в поисках забвения от насущных проблем. Писатели в глазах общества стали уже не пророками, но создателями миров, в которых можно было хоть на время потеряться. И тут чем затейливее у писателя фантазия, тем востребованнее оказывались его книги и тем большим был тираж. Недаром так расцвел в те годы жанр ненаучной фантастики, которую мы именуем ныне фэнтези. Ну а женская проза — в таком изобилии — появилась скорее от того, что читательская аудитория, впрочем, не без помощи телевидения, обратившегося к сериалам, стремительно утрачивала вкус к хорошей литературе. В 1990-е, когда мужчины в подавляющем большинстве растерялись и потерялись (как прекрасно показал это в своих романах Поляков), женщины вдруг проявили недюжинную волю и энергию, готовность не только выживать, но и творить. Недаром в одной из первых пьес Полякова героиня, жена отставленного академика-оборонщика, будучи теперь уже невостребованным филологом, на спор пишет имеющий большой коммерческий успех детектив «Контрольный выстрел» — обеспечивая тем самым благополучную жизнь своей семье.
Такой комплекс полноценности, даже крутость постсоветских женщин можно было бы, видимо, приветствовать, если бы он, увы, не стал производным от неполноценности мужской. Женщина, как в прежние лихие годы, взяла на себя слишком много, в то время как муж ее не сражался на фронте и не вкалывал на гигантских стройках: он лежал на диване и читал детектив — или женскую прозу, про романтическую любовь. Или фэнтези. Такого «диваноборца», в прошлом уникального инженера-ракетчика, Поляков позже выведет в комедии «Женщины без границ». Его герой даже обосновывает свое упорное лежание на диване.
…………………..
Ирина Федоровна. Эх, зять — ни положить, ни взять. Когда я дочку за него отдавала, он нормальным был. Как все.
Виталик. Как все я никогда не был. Но тещу не любил, как все.
Она. Виталик был инженером. Самонаводящиеся ракеты конструировал.
Виталик. Ведущим инженером.
Она. Да — ведущим. На заводе дневал и ночевал. Ему даже орден дали.
Виталик. Медаль «За трудовую доблесть».
Она. А потом объявили, что ракеты больше не нужны и воевать нам не с кем, потому что Америка — самая миролюбивая страна в мире. Она ведь уже один раз сбросила атомные бомбы на Японию и больше ничего такого, конечно, делать не станет.
Валентин Борисович. Конечно, нет! Интеллигентное государство.
Она. А мы вот, неинтеллигентные, еще ни разу атомную бомбу ни в кого не кинули, потому весь мир переживает, что можем попробовать. Из чистого интереса…
Виталик. …И чтобы успокоить мировое сообщество, нам надо срочно разоружиться. Завод закрыли, а нас всех уволили.
Она. Раньше он возвращался с работы, ужинал и тут же садился за чертежи. А в тот день Виталик пришел, поел и лег на диван. Я обрадовалась: пусть отдохнет, успокоится. Но он лежал день, неделю, месяц…
Ирина Федоровна. Вместо того чтобы работу искать! Лодырь!
Виталик. Я не лодырь. Я так решил! Когда началось, я понял: бороться с этим можно только одним способом.
Он. Каким?
Виталик. Если все здравые люди лягут на диваны и затихнут, этот маразм скоро самоликвидируется. Под лежачего История не течет.
Он. Почему же маразм не самоликвидировался?
Виталик. Из-за штрейкбрехеров, вроде тебя! Зачем ты снимался в рекламе? Зачем? Лежал бы, как я.
Он. Деньги были нужны. А если, допустим, все люди в знак протеста не лягут, а запьют?
Виталик. Интересная мысль! Вера, ты нашла себе неглупого парня.
Валентин Борисович. Ерунда! История всех вас обтечет и двинется вперед.
Виталик. А вы уверены, что впереди лучше, чем сзади?
Он. Вер у тебя умный муж! Такой начитанный.
Ирина Федоровна. Угу, начитанный. Чем больше мужик прочитал книжек, тем меньше у него на сберкнижке денег.
Она. Да, жить стало не на что, и я пошла челночить. Мы с одноклассницей возили в баулах ангорку из Кореи. А мне нельзя было таскать тяжести. Я ждала ребенка…
Ирина Федоровна. Я зятя стыдила: Верка надрывается, а он раскинулся без пользы. Не мужик, а пролежень!
Она. В общем, ребенка у меня не получилось. Наверное, подняла слишком тяжелый баул. На «скорой» увезли…
Маша. А где вы ангоркой торговали?
Она. На стадионе имени Ленина. В Лужниках. Там был огромный рынок: (дурным голосом) «А вот ангора прямо из Кореи по цене производителя!»
Ирина Федоровна. Я дочке говорила: не корми Витальку — сразу вскочит и работать побежит.
Виталик. Мне было, конечно, стыдно перед Веркой. Но встать значило признать свое поражение, признать, что весь этот капиталистический маразм — неизбежное зло.
Валентин Борисович. А где вы видели неизбежное добро? Зло — вот горючее прогресса. Вы читали «Кошмар злого добра»?
Виталик. Бердяева? Еще бы! Зло победить нельзя. Его можно только перележать.
Она. Ну и что, ты перележал?
Виталик. Как что? Гайдара перележал. Мавроди перележал. Ельцина перележал. Березовского перележал. Сейчас вот Чубайса долеживаю…
…………………..
И хотя этот «новый матриархат» продолжался всего несколько лет, женщины успели проявить себя не только в профессиях, требующих физической силы и выносливости, они пошли в бизнес — и освоили ремесло беллетристов. Не всегда то, что получалось, имело отношение к литературе, зато оказалось востребованным все той же женской аудиторией, подсевшей на сериалы. Вокруг рушилась страна, останавливались заводы, зарастали чертополохом дававшие прежде обильную жатву поля, а сограждане не отрываясь смотрели «Рабыню Изауру», «Богатые тоже плачут» и «Санта-Барбару», а конфликты между мужем, желающим смотреть футбол, и женой, поглощенной сериальными страстями, приводили к страстям реальным, вплоть до развода (тогда еще, как мы помним, не было в квартире несколько телевизоров, хотя к этому все шло). Когда стало понятно, насколько востребовано народом сериальное мыло, сметливые бизнесмены оперативно организовали поток псевдолитературы про «дочерей бедных бездетных родителей» и «сыновей подкидыша», за гроши нанимая пишущую братию и заставляя ее брать себе загадочно-звучные иностранные псевдонимы.
Поляков вдоволь над этим повеселится в эпопее «Гипсовый трубач», наделив героя профессией борзописца (или, по-поляковски, писодея), сочиняющего якобы переводные романы про роковые страсти, вроде «Алисы в Заоргазмье», и скрывшегося под псевдонимом Аннабель Ли. За этим тоже стоит реальный жизненный опыт: как уже говорилось, Юрий брался за любую работу, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Вот рассказ об одном из эпизодов той борьбы за жизнь:
«Звонит режиссер Тигран Кеосаян и говорит, что запустился с сериалом «Настоящие мужчины» — о буднях спецслужб. Как обычно, пробежал глазами синопсис, вроде ничего. А когда стал внимательно читать сценарий, пришел в ужас: характеров нет, диалоги тупые, словом, агитка, какую в прежние времена не то что на съемочную площадку, в портфель студии не пустили бы.
— Я тебя прошу: поработай сценарным доктором!
— Сколько серий?
— Восемь.
— Денег стоит.
— Мы готовы.
— Срок?
— Вчера.
Если «вчера», значит, недели две у меня есть. Кастинг, реквизит, натура… Я вспоминаю разговор с женой. Холодильник бьет током, при этом не морозит, а почему-то разогревает продукты. Крыша на даче течет, ее надо срочно менять: брус пошел плесенью. Дочери нужно платье к выпускному вечеру. На море не были пять лет. Ну о том, что супруге нечего надеть, и говорить нечего, это, так сказать, «хроника» брака. Суммирую и говорю, сколько хочу за эту работу. Кеосаян легко соглашается, и я понимаю, что продешевил, как обычно. Через два часа он присылает сценарий с авансом. Жена расцветает, словно кремлевская сирень. Читаю. М-да-а, совсем плохо: боевые герои изъясняются фразами «так точно» и «разрешите выполнять». Их террористические супостаты знают только «салям ал ей кум» и «Аллах ак-бар!». Но нет вершин, которые не брали бы коммунисты. Прошу вынести из дома весь алкоголь, отменяю все встречи, отключаю телефон и две недели не поднимаю головы. В срок отправляю сценарий Кеосаяну. На следующий день он звонит, благодарит:
— Тебя в титры включать?
— А разве за подпольный аборт фотографию врача вешают на Доску почета?
Он смеется и прощается. Через час присылает основную часть гонорара. Жена и дочь цветут, как сухумский дендрарий. Месяц потом болею — писать не могу, думать тоже, могу смотреть только про Индиану Джонса. От перенапряжения и от того, что пропустил сквозь себя всю эту галиматью. Общее отравление творческого организма. Но потом как-то прихожу в себя. А через год Тигран снова звонит, хохочет:
— Слушай, та же проблема. Сериал собрал чумовые рейтинги. Силовики счастливы. Дали денег на «Настоящих мужчин-2». Ребята, ты их знаешь, сразу накатали продолжение. Дебилизм на марше. Снимать нельзя. Поработай опять сценарным доктором! Условия те же.
— Нет.
— Набросим.
— Нет.
— Почему? Хорошие деньги.
— Я за деньги такой хренью не занимаюсь.
— А в прошлый раз?
— В прошлый раз у меня крыша текла и дочь школу заканчивала…
Про то, что жене нечего было надеть, я говорить не стал. Не аргумент…»
Психологически непростой переход от положения почти властителя умов до положения простого рассказчика, а то и массовика-затейника Поляков тоже переживал в гордом одиночестве. В июле 1993-го в интервью «Московской правде» он признавался: «Два года я не писал, поскольку литературный труд казался мне ерундой по сравнению с катаклизмами, которые трясут страну, по сравнению с всеобщим распадом. Но потом понял, что все это когда-нибудь кончится (во что трансформируется, вопрос другой) и нужно зафиксировать, сберечь настоящий момент — не «дословно», хронологически, как в газетных публикациях, а в художественной форме». То есть он говорил о том, что почувствовал себя хроникером, фиксирующим современные ему события, летописцем, которому долг велит тщательно записывать всё, что видит и слышит (роман-эпопею «Замыслил я побег…» критики неспроста назвали «энциклопедией русской жизни нашего смутного времени»).
Так он говорил, наблюдая процессы, происходившие в литературе на фоне снятия всех и всяческих табу. Страстно желая понравиться, чем только не привлекала она читателей! Постсоветская литература решительно отринула идеалы советской, всю эту «в высь весь вас звала», сосредоточившись на мистике, эротике и чернухе. Нет таких видов грязи и мерзости, о которых бы она не говорила. Если не верите, откройте хотя бы «Самовар» Михаила Веллера в том месте, где автор во всех подробностях описывает от имени безруко-безногого, но сексуально озабоченного инвалида-самовара воображаемые гениталии популярной в ту пору телеведущей Светланы Сорокиной. Можно было подумать, что со снятием цензуры отменили и мораль, и эстетические принципы искусства, и художественный вкус. Возможно, для читателя такое чтиво тоже было отдушиной: начитавшись, он мог иначе ощущать себя в реальной жизни, которая виделась уже не такой беспросветной. Этот принцип: хуже есть куда — и в самом деле действует безотказно, да и не нами он придуман.
Мысленно обращаясь к советскому прошлому, Поляков отчетливо видел теперь много такого, что казалось прежде естественным и непреложным. В статье «Почему я вдруг затосковал по советской литературе» он писал: «…Советская литература, волей-неволей восприняв художественную и нравственную традицию отечественной классики, смогла противостоять той «варваризации» общества, которая неизбежна в результате любой революции. <…> Сегодня в литературе, как мне приходилось уже писать, «кафейный период» — был такой в Гражданскую войну, когда все остановилось, и чтобы обнародовать свое новое творение, писатель заходил в литературное кафе, заказывал на последние морковный кофе и ждал кого-нибудь в слушатели. На заваленных всем чем угодно — от Сведенборга до «Счастливой проститутки» — книжных прилавках современных российских писателей вы почти не найдете. Их издавать невыгодно — и поэтому у них «кафейный период». Заметьте, я говорю не об идейно выдержанных бездарях, они-то как раз устроились и рьяно обслуживают теперь каждый свою крайность. Я говорю о талантливых писателях, которых читали, обсуждали, покупали… Они стали хуже писать? Нет, просто люди стали хуже читать. Привычка к серьезному чтению — такое же достояние нации, как высокая рождаемость или низкое число разводов.
Добиться трудно — а утратить очень легко. Ведь добро должно быть не с кулаками, а с присосками, чтобы не соскользнуть по ледяному зеркалу зла в преисподнюю. Восстановление поголовья серьезной читательской публики — общенациональная задача на ближайшие десятилетия. (Заметьте, это написано в середине 1990-х, и только в 2015-м, в Год литературы, власть назвала проблему снижения интереса к книге, чтению, особенно у молодежи, вопросом государственной важности. — О. Я.)
…Но как же случилось, что отечественная литература оказалась в брошенках именно тогда, когда она, к счастью, духовно обеспечила победу демократии и, к несчастью, победу демократов?! Ну подумайте сами: на площади людей выводило истошное чувство социальной справедливости, воспитанное, между прочим, этой самой советской литературой. <…> Одни писатели (в количестве, даже не снившемся застою) работают, чтобы прокормиться, сторожами, грузчиками, лифтерами — но западные журналисты не заезжают к ним, чтобы узнать, как идет работа над романом-бомбой. Другие ушли в политику — но там, сами понимаете, вовремя разбитые очки важнее вовремя написанной поэмы. Третьи стали международными коммивояжерами и мотаются по миру, чтобы с помощью родни и друзей пристроить свой лет двадцать назад написанный роман, про который и в России-то никто слыхом не слыхивал. Четвертые ушли в глухую оппозицию, пишут в стол, но ящик стола уже не напоминает ящик Пандоры, а скорее свинцовый могильник, да и за несуетную оппозицию теперь не дают госдач в Переделкине, как прежде. Пятые… На похоронах пятого, моего ровесника, я был недавно.
А когда я думаю о советской литературе, у меня на глаза наворачиваются ностальгические слезы, как если б я зашел в мою родную школу».
Отступление шестое.
Что такое российская литература?
Про советскую литературу все вроде бы понятно: у нее были эстетические идеалы и воспитательные задачи, она была многонациональной и проч. Но что собой представляла литература в новой стране, отринувшей идеологию и даже конституционно закрепившей принципиальное ее отсутствие?
Когда отступила идеология, на ее место пришла физиология — и читатель погрузился в пучины пищеварительных и иных процессов современных литературных выдвиженцев, талантливых и не очень.
Как дикторы на телевидении перестали справляться с числительными и ударением, так и СМИ перестали справляться с русским языком: более бедного по словарю периода в истории русской журналистики, похоже, не было. После революции процветал новояз, после развала Советского Союза — блатная феня и англицизмы. Удивительное сочетание! Но что должно твориться в сознании мыслящего на русском человека, когда прежде каждое слово, знакомое уже на генном уровне, отзывалось смыслом, а тут, сколько в себе ни ищи, созвучных смыслов не найдешь. Слова, передающие способность человека к сопереживанию, просто исчезли из обихода: со-весть, со-чувствие, со-страдание. Как и не было.
Что же происходило в 1990-е с российской литературой?
В самом начале 1990-х писатели внезапно лишились всего, чем обладали в СССР: предоставляемых членам союза дач, домов творчества, щедро оплачиваемых бюллетеней и спецочередей за всем на свете. Развал страны привел и к самороспуску Союза писателей СССР. В возникшем хаосе писатели попытались воссоздать благоприятную для творчества среду, образовав на руинах старого новые творческие союзы: Союз писателей России, Российский союз писателей (на основе объединения, «Апрель» в пику СП России, поддержавшему ГКЧП), Союз писателей Москвы и Союз писателей Санкт-Петербурга (после скандалов в Российском союзе писателей), Международное сообщество писательских союзов, также сотрясаемое скандалами, самый постыдный из которых — конфликт между двумя патриархами отечественной словесности, Сергеем Михалковым и Юрием Бондаревым. Новые союзы оказались слишком политизированы и не могли объединить в своих рамках всех, а тем более гарантировать благополучное существование в изменившихся условиях. Между тем распавшийся Союз писателей СССР обладал огромными материальными ценностями — а это значит, что новым творческим союзам было что делить. Но дело, конечно, не только в материальных ценностях. Когда распался прежний СП, многие, если не сказать большинство, пережили это как личную драму: товарищеские отношения связывали там не только друзей, но и идейных противников, вечных антагонистов. Это была чувствительная потеря — ругаясь и споря глаза в глаза, они в большинстве своем оставались человечески близкими, взаимно терпимыми людьми.
Виктор Ерофеев, известный уже на Западе и не особенно — в России, в последние годы СССР справил по советской литературе поминки, назвав ее «остывающим трупом» и «крупноголовым идеологическим покойником», «фикцией, которая обеспечивалась… всем запасом государственности». Его статья, так и названная: «Поминки по советской литературе», вызвала громкий скандал. Досталось абсолютно всем, независимо от обозначенных Ерофеевым направлений: официального, деревенского и либерального, которое в 1990-х оказалось наиболее массовым, и не только по идейным соображениям, но и в силу того, что критерии художественности и мастерства были там пересмотрены так же радикально, как отношение к традиционным ценностям (впрочем, были и материальные причины, которых мы здесь не станем касаться). Это направление собрало всех, кто не вписывался в советский официоз (или вовремя «выписался» из него). Воспользовавшись своей массовостью, литераторы-либералы возвели в догму свои эстетические принципы — «лайт», настаивая на их универсальности.
В 1990-х были живы самые читаемые из деревенщиков — Виктор Астафьев, Василий Белов и Валентин Распутин, но двое из них почти ничего не писали, и только Астафьев издал свой последний, давно задуманный и вызвавший много споров роман о войне «Прокляты и убиты», где окончательно разделался с военачальниками, настаивая на абсолютной истинности своей окопной правды, похоже, сильно деформированной возрастом и болезнями последних лет. Тиражи деревенщиков в 1990-х были невелики — читатели неожиданно быстро и массово привыкли к разоблачениям, чернухе, детективам, развлекаловке, — а деревенщики говорили не об индивидуальных переживаниях, а об общей беде: о национальной боли и утратах, о гибели деревни, о моральном состоянии народа. Потом оказалось, что произведения, повествующие о боли — но исключительно своей, связанной с «неправильным» бытом и окружением, как раз востребованы, ибо одно дело — боль за народ и совсем другое — несчастье жить в «этой стране», с неудавшимся народонаселением.
Либеральная критика, которой уже не приходилось ни на кого оглядываться, легко забыла о существовании писателей-деревенщиков (сделав исключение для Астафьева, но не по литературным причинам, а по политическим) и занялась исключительно «своими». «Своих» издавали «свои», «свои» же о «своих» писали. Премии тоже распределялись между «своими», что вполне логично. Литературных премий как раз появилось много: «Русский Букер» (1991), учрежденная «Букер пиэлси и Тетра пак Интернэшнл СА» и Британским советом в России по аналогии с британским «Букером» и предназначавшаяся для лучшего романа на русском языке; Госпремия (1992); Пушкинская премия за поэзию (1994); Правительства Москвы (1992); «Триумф» (1992), учрежденная Российским независимым фондом поощрения высших достижений литературы и искусства при АО «Лого-ВАЗ», то есть Борисом Березовским; Александра Солженицына (1997); и в конце 1990-х — «Национальный бестселлер» (2000), учрежденная одноименным фондом, образованным физическими лицами при глобальной поддержке банка «Еврофинанс» и Объединенной финансовой группы. На средства Березовского, владевшего тогда «Независимой газетой», была учреждена при «НГ» премия «Антибукер» (1995–2001), один из последних лауреатов которой, Александр Иванченко (1999), всю сумму премии перевел на счета госпиталей для раненных на чеченской войне, не желая брать себе деньги «ограбившего всю Россию жулика».
Менее известных литературных премий возникло буквально несколько десятков: именных, тематических, региональных и международных. В России и за рубежом российских писателей массово принимали в академики, почетные академики и членкоры, награждали орденами и медалями, в том числе престижнейшим французским орденом Почетного легиона. Все награды писатели принимали как должное, и только двое отказались — причем от государственных: Евгений Евтушенко — от ордена Дружбы народов (1993) в знак протеста против войны в Чечне, и Юрий Бондарев — от того же ордена (1994), телеграфировав Ельцину: «Сегодня это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».
Следует отметить, что за редкими исключениями все эти премии и награды выпали на долю либерального крыла отечественной словесности — но они и должны были поощрять именно тех, кто следовал курсом либеральной власти и не отклонялся от ее генеральной линии.
Литература в России разделилась в самой себе и, можно сказать, действительно «опустела» — измельчала, утратила прежние позиции в обществе, а два отдельных ее крыла, либеральное и патриотическое, каждое из которых обслуживала «своя» критика, словно забыли о существовании друг друга. Главным критерием для оценки произведений писателей обоих станов стал принцип «свой — чужой», на основе которого работает технический комплекс, позволяющий отличать свои войска от войск противника. Живя в параллельных мирах, эти литературы нигде не пересекались, ни на чаепитиях в писательском клубе, ни на вручении премий.
Литературная провинция и национальные литературы народов России надолго ушли в тень, издатели, а вслед за ними и читатели забыли о них на десятилетия: регионы были ограничены в средствах, и книжная жизнь сосредоточилась исключительно в столице. Даже спустя десятилетия в 2015-м — в Год литературы — о наших национальных литературах, по странному столичному верхоглядству, по-прежнему не вспомнили. И только «Литературная газета» обратилась к памятным для всех именам: Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Давид Кугультинов, Чингиз Айтматов, Олжас Сулейменов, Юрий Рытхэу…
Что до представителей официоза, таких как Юрий Бондарев, то их издательская судьба в России 1990-х также была незавидной. Зато в мире были страны, где она оказалась более чем востребована. Например, в Китае, озабоченном воспитательной функцией литературы, много издавали книг с советской героикой; чуть ли не самой известной там переводной книгой в те годы была «Как закалялась сталь» Николая Островского, а одним из самых читаемых иностранных писателей — Юрий Бондарев с его романами о войне. Кстати, гонораров тогда, кажется, почти не платили — во всяком случае, авторское право соблюдалось не везде и не всегда.
В 1990-е решения оргкомитетов отечественных премий были, пожалуй, так же мало основаны на художественных достоинствах оцениваемых ими произведений, как и гуманитарные решения Нобелевского комитета.
В 1992-м, в первом шорт-листе премии «Русский букер», среди шести финалистов были рукопись романа «Сердца четырех» Владимира Сорокина, вслед за Виктором Ерофеевым предусмотрительно начавшего свой победный марш в отечественную литературу из предсказуемой заграницы и известного в основном именно там (в Германии он даже чуть позже был более популярен, чем в России), и «Время ночь» Людмилы Петрушевской, во времена перестройки прославившейся благодаря своим пьесам с жестоко нагнетаемыми бытовыми ужасами. Пьесы эти много ставили в конце советской власти, когда люди жили еще внешне вполне благополучно и могли себе позволить такой эксперимент, как театр, вызывающий не благородные чувства, но гадливость и отвращение. В 1990-е, когда в отбросы общества попали в одночасье миллионы, эти пьесы ставить почти перестали. У Горького на дне обитали люди, произносившие пафосные речи о том, что такое человек, и утверждавшие, что человек — это звучит гордо. Дно, по Петрушевской, — это человекообразные, у которых мораль и чувства просто атрофированы. Есть мнение, что общество, которое платит деньги за то, чтобы посмотреть на показанных с театральных подмостков моральных уродов, нездорово. Другое дело — развлечение толпы на базарной площади, но там зрелище бородатой женщины и не призвано ничего пробуждать, кроме примитивного любопытства. Для образованных советских людей, воспитанных на классике, такое развитие театра было каким-то псев-дореволюционным «вывертом», потому что Беккет и Ионеско, которыми они тогда тоже интересовались, говорили все-таки о вечном, просто другими словами. Российский театр надолго опустился до площадных зрелищ — и площадной лексики. Ситуация эта растянулась на годы и только к концу 1990-х стали появляться пьесы и спектакли либо моноспектакли, свидетельствовавшие о том, что пик болезни, к счастью, прошел. Недаром в конце 1990-х так восторженно был встречен — и отмечен премиями — авторский моноспектакль Евгения Гришковца «Как я съел собаку», возродивший лучшие отечественные традиции. О драматургии же Юрия Полякова, которая в те годы начала победный марш по стране, мы поговорим отдельно.
В начале 1990-х «шоковая проза» Петрушевской с ее надрывом, страхом смерти и сумасшествия, с ее бытовыми ужасами была на пике популярности.
В 1992-м «Русского букера» получил не будущий законодатель литературной постмодернистской моды Сорокин и не широко разрекламированная Петрушевская, а почти никому не известный Марк Харитонов с романом «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича», книгой, в которой, как утверждается в аннотации, автор попытался показать историю России в XX веке. Судя по смутным отзывам в Интернете, а также по тому, что о романе, как и об авторе, очень скоро позабыли, премию присудили именно за благие намерения, которыми, как известно, вымощена не самая заманчивая из дорог.
Сорокинский роман «Сердца четырех» (вышедший на русском только в 1994-м) именуют «экспериментаторским» не только потому, что он сложно составлен, но и потому, что не каждый человек этически и эстетически в состоянии читать подобные тексты — тоже удивительное достижение 1990-х. Как обычно у Сорокина, у персонажей этого романа есть некая цель, достижение которой автор доводит до абсурда. Грязь и мерзости, которыми писатель, совсем как пелевинские герои из рассказа «Синий фонарь», пугает себя и читателей, отвращают от его книг многих — впрочем, многих и притягивают. При этом в каждом романе Сорокина под узнаваемыми псевдонимами выведены реальные люди — распространенный прием для литературы 1990-х.
Сорокин — человек несомненно одаренный и чрезвычайно рассудочный — использует нездоровый интерес цивилизованного человека к уродству, жестокости, извращениям и физиологическим отправлениям, что роднит его с творчеством Виктора Ерофеева, а игра с чужими текстами — с творчеством Бориса Акунина, успешного «расчленителя» русской классической литературы XIX века. Но если согласиться с Сорокиным и Акуниным в том, что литература — всего лишь интеллектуальная игра, мы приравняем русскую классическую литературу к пародиям на нее, тем самым отказавшись от мессианской роли литературы и от национального культурного кода.
Кстати, именно в 1990-е в литературе появилось много талантливых филологов, не обладающих необходимыми для писателя способностью создать собственный мир — проще спародировать чужие — и способностью к сопереживанию и искренности — гораздо сподручнее переживания имитировать, причем не свои, но чьи-то. В одной из статей Юрий Поляков как-то заметил, что призыв филологов в литературу оказался для отечественной словесности менее успешным, чем призыв ударников в литературу в 1920-е: те хотя бы знали жизнь…
В 1993-м российские писатели невольно оказались втянуты в кровавые октябрьские события: правда, мало кто из них, как Проханов, оказался в те дни на улицах, на одной из баррикад. В основном они писали коллективные письма. Одни поддерживали расстрел Белого дома и призывали «раздавить гадину», другие протестовали против неконституционных действий президента и участия армии в споре двух ветвей власти. Эти события оказали огромное влияние на литературу, но еще большее — на общество, которое после саморазоблачительных «коллективок» окончательно перестало видеть в писателях совесть нации и ожидать от них наставляющего слова и жеста.
Показательно, что Солженицын, который имел в то время все основания претендовать на роль такого духовного поводыря, относительно событий октября 1993-го, кажется, просто отмолчался, а его возвращение на родину в 1994-м ничего не изменило. Еще в 1993-м в повести «Демгородок» Поляков провидчески описал долгожданное возвращение вермонтского отшельника, выведенного под именем Тимофея Собольчанинова, «который в юности на Воробьевых горах дал торжественную клятву писать не менее десяти страниц в день, и если ему, допустим, приходилось отрываться от стола, например, для получения Гонкуровской премии, то, воротясь, он увеличивал суточную норму и наверстывал упущенное. Переезд в Россию из изгнания по его прикидкам грозил невосполнимыми и ненастижимыми перерывами в работе. Но даже не это было главной причиной промедления: в глубине души он страшился, что, едва лишь его нога ступит на родную землю, ему настойчиво предложат сделаться чем-то вроде президента или регента, а это в ближайшие творческие планы не входило. Остается добавить, что, придя к власти, адмирал Рык убедительно попросил великого изгнанника вернуться на Родину и поселил его в Горках Собольчаниновских. Но и это произошло позже, а тогда, ощущая сыновний долг перед изнывающей страной, мыслитель вместо себя прислал в Россию книжку под названием «Что же нам все-таки надо бы сделать?». Ее-то и дал почитать своему другу и командиру заместитель по работе с личным составом Петр Петрович Чуланов, который нынче, как все знают, является первым заместителем Избавителя Отечества по работе с народонаселением. Содержание этой книжки, изучаемой ныне в школе, тоже общеизвестно, поэтому напомню лишь моменты, имеющие касательство к нашему повествованию. Тимофей Собольчанинов писал о том, что в России к тому времени имелись все предпосылки для возрождения и «вся искнутованная и оплетенная держава с занозливой болью в сердце ждала своего избавителя». А последняя глава так и называлась: «Мининым и Пожарским может стать каждый!». Особенно, как позже выяснилось, в душу командира субмарины «Золотая рыбка» запали такие слова прозорливца: «Россию недруги объярлычили «империей зла». Оставим эту лжу на совести вековых ее недобролюбцев. Но пробовал ли кто-нибудь постичь внутридушевно иное словосочленение Империя Добра?!».
Высадившись во Владивостоке, Солженицын не торопясь проехал на поезде через страну, принимая как должное многолюдные торжественные встречи с цветами и хлебом-солью. Заехал Солженицын и к Астафьеву в Овсянку, и вся страна чуть ли не в прямом эфире наблюдала встречу живых классиков. Но никакого нового — или даже просто прочувствованного — слова ни один из них народу так и не сказал. Впрочем, были в этом народе и такие, кто воспринимал репортажи о триумфальном возвращении Солженицына с легким недоумением. Наконец доехав до Москвы, Солженицын поначалу легко вписался в новую политическую систему: с триумфом выступил в Государственной думе, начал вести на телевидении еженедельную программу. Но длилось это недолго. Оказалось, что автор знаменитой статьи «Как нам обустроить Россию» (1990) хорошо представлял себе, как это сделать, когда был отделен от страны океаном. Взгляды писателя на текущие события, его увлечение идеями существовавшей когда-то в России партии конституционных демократов, или кадетов, исторически ответственной за падение империи, не были приняты народом, который скоро перестал интересоваться его пророчествами. Появилась даже острота: «Ждали пророка, а приехал домуправ». Влияния на общество деятельность возвратившегося Солженицына не оказала. Правда, сильное впечатление произвел его отказ от ордена Святого апостола Андрея Первозванного, которым писателя наградил президент Ельцин в 1998 году. Мотивируя свое решение, Солженицын тогда сказал, что не может принять награду «от верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния». Мы не можем не оценить этот жест. Как, впрочем, не можем игнорировать всю историю взаимоотношений писателя с государством, во многом предсказанную Поляковым. К этой теме мы еще вернемся в связи с бурной полемикой, возникшей между ним и «солженицынским кругом» в 2014 году.
В начале 1990-х страна зачитывалась детективами, в основном зарубежными, но вскоре появились и свои: бойкие авторы принялись описывать совершенно новых персонажей, населявших отныне российскую повседневную жизнь, — бизнесменов, бандитов и проституток. Правда, скоро тема «разборок», «стрелок» и бандитских «наездов» перешла в кинематограф, и тиражи книжных новинок стали лишь довеском к поставленным на поток отечественным сериалам. Пользовались огромной популярностью триллеры, главным образом Стивен Кинг и его клоны, а также по-новому названный, но давно известный в русской литературе жанр фэнтези, интерес к которому сильно подогрела сага о Гарри Поттере. Впрочем, отечественный ответ Джоан Роулинг — приключения Тани Троттер, придуманные Дмитрием Емцом, пользовался соизмеримым успехом. Правда, это было уже в 2000-е.
На конец 1990-х пришелся пик популярности «бытописателя пограничной зоны» Виктора Пелевина, которого как постмодерниста особенно привлекали самые живучие советские мифы. В эти годы вышли его культовые романы «Омон Ра» (1992), «Жизнь насекомых» (1993), «Чапаев и Пустота» (1996) и «Generation Р» (1999) с тиражом более 3,5 миллиона экземпляров по всему миру. Вместе с героями, употребляющими наркотики, Пелевин взаимодействует с различными пространственными мирами (что, наряду с выраженной антибуржуазностью, особенно привлекает к его творчеству молодежь), оставаясь при этом ироничным сторонним наблюдателем, интеллектуалом, не вписанным ни в одну из существующих систем. Интересно, что Пеле-вин был редактором трехтомника Карлоса Кастанеды, благодаря выходу которого советские читатели впервые познакомились с учением индейца-мага дона Хуана и его системой, включающей постоянную изменчивость сознания и расширение восприятия, в том числе за счет употребления галюциногенных средств. Кастанеда, как ученик дона Хуана, «следовал Путем воина» и занимался «стиранием личной истории». Работа над книгами Кастанеды, как и их содержание, явно соотносилась с внутренними установками самого Пелевина, редко дающего интервью и не показывающегося на публичных мероприятиях, даже в ожидании присуждения литературных премий.
«Виктора Пелевина мне выпало видеть единожды в жизни, в начале нулевых, — вспоминает Юрий Поляков. — Один из продвинутых питерских ректоров Запесоцкий проводил в своем вузе встречи с интересными людьми, которые записывались на камеры и потом многократно транслировались. Как-то раз он пригласил и меня, причем в тот день, после небольшого перерыва, следом за мной должен был выступить Пелевин: его подрядилась доставить из Германии почему-то «Российская газета». В зале собралось более пятисот человек — студентов, аспирантов, преподавателей. Вел встречу вполне профессионально, а местами блестяще сам Запесоцкий. Я тоже в тот день оказался в ударе, и аудитория разражалась то смехом, то аплодисментами. Чему-чему, а умению «держать зал» нас, последнее поколение советских писателей, старшие товарищи, «в гроб сходя», научили. Несколько раз во время встречи к ректору подкрадывался помощник, что-то шептал на ухо, и по лицу ведущего пробегала тень. Пелевин запаздывал, а ведь главным блюдом дня считался именно он, я был, как говорится, на разогреве. Наконец помощник сообщил радостную весть, и Запесоцкий расцвел. Окончили мы встречу на таком подъеме, что зал долго не успокаивался… Когда с охапкой цветов я шел в гостевую, где был накрыт стол с напитками, то успел на ходу заметить в открытую дверь странную сцену. В кресле сидел коротко стриженный человек в темных очках и черном свитере. Его серое нездоровое лицо было неподвижно. А вокруг метались растерянные люди в дорогих костюмах. Я узнал директора издательского дома Горбенко. Он чуть не плакал: «Виктор, так нельзя! Там полный зал. Они пришли на вас. Мы обещали!» — «Нет!» — отвечал Пелевин, едва приоткрыв губную щель. «Вас неправильно поймут!» — «Нет!» Кто-то, обнаружив, что за ними наблюдают, со злостью закрыл ногой дверь. Я в одиночестве выпил пару «расслабительных» рюмок, когда появился вдрызг расстроенный Запесоцкий: «Отказался, сукин сын!» — «От чего отказался?» — «Выступать». — «Почему?» — «Он слышал по трансляции конец вашей встречи и теперь говорит, мы специально сначала пустили вас, чтобы его подставить… Мол, он писатель, а не шоумен… Я чуть не в ногах валялся. Люди из других городов приехали. Нет! Одно слово: пустота!» К отчаянию организаторов, зал долго ждал, что залетная знаменитость все же передумает, потом люди стали неохотно расходиться.
Первые вещи, насколько мне известно, Пелевин напечатал под своей настоящей фамилией Нечайка. Но в тот день он был, скорее, «не орел»…»
Еще одним ярким открытием 1990-х стал, конечно, Владимир Сорокин. В России вышли следующие его романы: «Очередь» (1992), «Норма», «Роман», «Сердца четырех» (1994), «Тридцатая любовь Марины» (1995), «Голубое сало» (1999). Об особенностях его творческого метода здесь уже говорилось. Остается только добавить, что акции «Идущих вместе», обменивавших книги Сорокина на «хорошую литературу», даже сжигавших их — и подавших на автора в суд с требованием признать его романы порнографическими, чрезвычайно способствовали повышению интереса к его творчеству и росту тиражей его романов.
В 1990-е вышло несколько самых успешных романов Александра Проханова, среди которых воодушевленный идеями технократической цивилизации и русской государственности «Последний солдат империи» (1993). Другие его романы — «Ангел пролетел» (1994), «Дворец» (1995), «Чеченский блюз» (1998), «Красно-коричневый» (1999) пользовались неизменным успехом у публики, ориентированной на патриотизм и традиционные ценности. Кстати, на роман «Красно-коричневый» Юрий Поляков откликнулся сочувственной и глубокой рецензией, опубликованной в еженедельнике «День литературы». А термин «красно-коричневые» надолго вошел в политический лексикон либералов, именовавших так людей, близких Проханову по взглядам. Самый нашумевший, антипутинский роман Проханова «Господин гексоген», вошедший (именно поэтому) в шорт-лист премии «Национальный бестселлер», появился уже в нулевые — в 2002 году. Особенность его творчества заключается еще и в необычной биографии — биографии человека, побывавшего практически во всех горячих точках эпохи и отобразившего в своих книгах этот уникальный опыт.
В 1990-е годы российские читатели открыли для себя еще одного пассионарного человека и писателя — Эдуарда Лимонова, который исполнил завет Серебряного века, сделав свою жизнь литературой, недаром некоторые считают его самого литературным персонажем. Лимонов уехал из СССР в 1970-е и вернулся на родину в 1991-м, восстановив советское гражданство. Вернувшись, он основал Национал-большевистскую партию, основное ядро которой составляла никому тогда не нужная и предоставленная самой себе молодежь, а чуть позднее начал выпускать газету «Лимонка», но и партия, и газета вскоре были признаны экстремистскими и запрещены. При этом акции лимоновцев сводились к мирным протестам против политики либеральных властей, которые расправлялись с протестующей молодежью отнюдь не либерально. В октябре 1993-го Лимонов вместе со своими нацболами участвовал в защите Белого дома. В качестве участника боевых действий он побывал в Югославии, Приднестровье и Абхазии. А в начале нулевых, по обвинению в незаконном хранении оружия, был приговорен к четырем годам лишения свободы и через два года условно-досрочно освобожден.
Возвращение его на родину началось публикацией в 1990 году нашумевшего романа «Это я — Эдичка», который впервые вышел в Нью-Йорке еще в 1970-е. Затем появились, тоже впервые опубликованные за рубежом, другие его книги: «Дневник неудачника» (1991), «Подросток Савенко», «Молодой негодяй», «У нас была великая эпоха» (1992), «Палач», «История его слуги» (1993), «Укрощение тигра в Париже» (1994), «Чужой в незнакомом городе» (1995). Некоторые критики утверждают, что книги Лимонова оказали ощутимое влияние на молодую литературу нулевых.
Любопытно, что именно Юрий Поляков, отправившись в Париж на презентацию повести «Парижская любовь Кости Гуманкова», передал Лимонову по просьбе издателя сигнал «Эдички», впервые изданного в СССР. Эта встреча также была отображена писателем.
…………………..
Саша Калязин попросил связаться в Париже с Лимоновым и передать ему коллективный сборник «Непроходняк», где напечатали несколько стихотворений изгнанника. За контакты с эмигрантами к тому времени уже не карали, даже не грозили пальчиком. Жизнь менялась стремительно. Но, вручая книжку для передачи беглому писателю, старый товарищ честно предупредил:
— Эдик тебя, конечно, поведет в кабак, станет разговоры разговаривать. Будь поаккуратнее!
— В каком смысле?
— Не откровенничай, а то выведет тебя в новом романе полным дебилом.
— А если я глупого ничего не скажу?
— Все равно выведет. Творческий метод у него такой.
Лимонов с радостью откликнулся на звонок и через час был в холле отеля. Мускулистый, в тенниске и облегающих брюках, он смахивал на атлета, готовящегося подойти к «коню» и завертеться, ловко перехватывая отполированные ручки снаряда. Взяв книжку, Лимонов нежно погладил ее как долгожданного ребенка, полюбовался обложкой, полистал, а потом пригласил доброго вестника в ближний кабачок. Выпили много, Скорятин без устали вещал о невероятных переменах в СССР, а Эдик, осушая очередной бокал совиньона, шумно восхищался, какого умного собеседника послала ему судьба, и повторял:
— Надо возвращаться. Пора! Пора!
…Через год легкопёрый Лимонов издал очередной роман. Там имелся эпизодический персонаж — убогий советский журналист по фамилии Курятин, удивительная свинья и редкий дурак, норовивший напиться за чужой счет и городивший такую запредельную чушь, что совестно было читать…
(«Любовь в эпоху перемен»)…………………..
В 1990-е началась глобальная ревизия отечественной истории, в том числе и через художественную литературу. История стала предметом яростных споров, а пока стороны спорили, Сорос благополучно издавал для российских школ учебники, где эти споры были разрешены, причем не в пользу тех, кто призывал свою историю по крайней мере уважать — и уж во всяком случае изучать не с помощью чьих-то идеологически заданных измышлений, а с учетом великих и героических свершений народа. Тогда камертоном стало огульное отрицание каких бы то ни было достижений советского периода, утверждение, что Сталин был параноиком, что у них с Гитлером практически нет отличий и т. д. Людей настойчиво переориентировали и дезориентировали, и в этом глобальном потоке лжи участвовали не только СМИ, но и литература.
В 1994-м, когда началась война в Чечне, общим местом стал пересмотр отношения общества к армии, которой прежде принято было гордиться, особенно после победы в Великой Отечественной. Стали пересматриваться и оценки отдельных личностей, таких как генерал Власов, заслуженно повешенный в 1946-м во дворе Бутырской тюрьмы.
О том, что война — это не только героизм, но и жестокость, часто неоправданная, о так называемой окопной правде уже давно поведали миру советские писатели: упоминавшийся здесь Юрий Бондарев, лауреат Сталинской премии Виктор Некрасов, нобелевский лауреат Михаил Шолохов, Герой Соптруда Даниил Гранин, не говоря уже о Василе Быкове, Владимире Богомолове, Борисе Васильеве и многих других. Но в 1990-е стало модно смотреть на войну словно бы из немецкого окопа. На русский стали переводиться тексты, написанные выжившими власовцами, книжный рынок наводнили книги немецких авторов о Второй мировой войне и о немецкой военной технике, в то время как мемуары советских воинов, маршалов, генералов и солдат надолго остались невостребованными.
Тогда же вышла книга, успех которой можно объяснить лишь неким коллективным безумием, охватившим общество: «Ледокол» бывшего советского разведчика, перебежчика и предателя Владимира Резуна, взявшего себе псевдоним Виктор Суворов. Там утверждается, будто Сталин активно готовился напасть на Германию и Гитлер его просто опередил. Книга претендует на откровение, раскрытие долго скрывавшейся исторической истины, между тем это чистейшей воды выдумка, не имеющая никакого отношения к реальной истории. И тем не менее множество людей публикация книги буквально сбила с толку, а ее тиражи конкурировали тогда с тиражами бестселлеров. Этому способствовала широчайшая и агрессивная реклама в СМИ, в том числе государственных, на что не раз обращал внимание Поляков. Все последующие опусы Резуна, заслуги которого тянут на пожизненное, беспрепятственно публиковались в России, несмотря на то что они делались все более беспомощными.
История с «Ледоколом» породила в книгоиздательском деле целое направление: стало ясно, что любой бред на тему войны можно выпускать массовыми тиражами и неплохо на этом зарабатывать. Как говорится, шлюзы открылись — со всеми вытекающими последствиями.
К концу 1990-х книжный рынок вполне сформировался. В мужском сегменте преобладали боевики. Виктор Доценко с «Бешеным», Александр Бушков с «Пираньей» и огромное число не слишком талантливых авторов, разрабатывавших военную тему. Расцвел и женский детективный роман, родоначальником которого считается Иоанна Хмелевская, хотя истинным родоначальником жанра следует признать, конечно, Агату Кристи. Особенно успешной стала Александра Маринина, в том числе благодаря опыту, полученному на службе в правоохранительной системе. В середине 1990-х успешно дебютировала со своими триллерами Полина Дашкова; в конце 1990-х — автор детективов Татьяна Устинова, начавшая писательскую карьеру после сокращения штатов в администрации президента. В ответ на запрос о гендерном взгляде на историю, в полном соответствии с конъюнктурой появилась и литература: еще в годы перестройки книгой «У войны не женское лицо» (1985) дебютировала журналистка Светлана Алексиевич, в 1990-е — Людмила Улицкая (повесть «Сонечка», (1992), лучшая переводная книга во Франции; во Франции же вышла первая книга Улицкой «Бедные родственники» на французском языке).
Рынок очень быстро взял свое: книги стали таким же товаром, как чипсы или памперсы, а в жанре женского детектива тогда впервые были замечены «литературные негры». Это вообще характерное для 1990-х явление: автор придумывал сюжет, который расписывали уже безымянные и бесправные участники проекта. Случалось также, что ожидаемый текст отличался такой беспомощностью автора, что за него книгу переписывал литературный редактор. Правда, уже в 2000-е годы эта профессия стала реликтовой, как, впрочем, и профессиональный корректор. Бывали также случаи, и достаточно массовые, когда известный человек принимал предложение издателя написать книгу, не имея на это ни времени, ни навыков литературного труда. В исключительно редких случаях, как, например, с первой книгой Ирины Хакамады, на обложке ставились две фамилии, то есть написавший книгу объявлялся соавтором и получал те же преференции, что и известное лицо. Но как правило, признавалось авторство только того, чья фамилия стала гарантией читательского интереса.
Появились также издательские проекты, где в серийных обложках выпускали книги разных авторов, объединенных определенным типом литературы и даже общим героем: покупатель ожидал от этого товара определенной тематики и определенного качества, не желая заморачиваться перед полками с тысячами наименований.
К концу 1990-х рынок массовой литературы был необычайно широк. Отчасти благодаря тому, что множество людей еще ездили на работу и с работы в общественном транспорте. Появились охранные структуры, а охранникам на монотонной работе нужно было развлечение, не требовавшее ни больших усилий, ни лишних трат. Интернет в России был тогда в зачаточной стадии, а мобильные телефоны и другие гаджеты — слишком дорогим удовольствием. Дешевые книги в мягкой обложке выполняли важную социальную функцию, чаще всего не имея никакого отношения собственно к литературе. Вот почему так благодарно откликался массовый читатель на появление новых книг Юрия Полякова, который вместо невнятной жвачки предлагал ему всегда непредсказуемый сюжет с непременной любовной интригой, обаятельных героев, отточенный стиль, отмеченный блеском остроумия, — в сочетании с отсутствием чернухи и надрыва это было тогда, как говорится, тем, что доктор прописал.
По поводу настойчивого стремления объявить властителями дум авторов, едва освоивших азы литературного ремесла и занятых изготовлением книжной продукции, а не созданием произведений, Поляков выступил в 2005 году в «ЛГ» со статьей «Писатели и ПИПы», болезненно воспринятой как издателями, так и многими авторами коммерческих бестселлеров.
…………………..
…Власть за столетия выработала два способа взаимодействия с сей чересчур влиятельной особой — русской литературой. Верхи ее или просто душили, или душили в объятиях, но всегда при этом внимательно прислушивались к мнению отечественной словесности. Вдруг в начале 90-х возник третий способ: традиционное место писателей, властителей дум, заняли ПИПы — персонифицированные издательские проекты. Именно они населили телеэкран, их саженные портреты появились в витринах магазинов, они начали произносить спичи на общенациональных торжествах, балагурить насчет реформ и выборов, им стали посвящать подножные звезды на тротуарах. <…>
Писателя с читателем связывает своего рода идейно-нравственный завет: я буду всерьез, по-взрослому, разбираться в жизни, но вы будете относиться к моим книгам и словам не как к словесности, а как к социально-нравственному пророчеству. Выполняя этот завет, писатель часто идет на конфликт со своим временем, властью, зато к его мнению, его оценкам и прогнозам общество прислушивается с доверчивым трепетом, не прощая при этом лукавства и заискивания перед сильными мира сего… На мой взгляд писатели пали жертвой своей традиционной для отечественной литературы (не важно, почвеннической или либеральной) привычки делиться с обществом тревогами и прогнозами, а также обидами за Державу. Вот верхушка и решила: «Да ну их, этих непредсказуемых властителей дум! Пусть пипл хавает ПИПов!» Ведь они абсолютно безвредны с политической точки зрения и даже полезны. <…>
Вообще ПИПы напоминают мне специально выведенную породу абсолютно домашних кошек, у которых пушистость и мурлыкость доведены до идеала, но при этом полностью атрофированы когти и зубы.
…………………..
* * *
В начале 1994 года полная версия «Демгородка» вышла отдельной книжкой в издательстве «Инженер»: Вячеслав Копьев, на момент развала СССР второй секретарь ЦК ВЛКСМ, в те годы стал одним из руководителей Всероссийского инженерного общества и на свой страх и риск профинансировал выпуск крамольного романа. Впрочем, власть отреагировала оперативно: в книготорговую сеть поступило указание не принимать издание к распространению. Но контролировать выполнение всех своих указаний демократическая власть еще не умела. А в конце 1994-го, под тем же названием, в издательстве «Республика», бывшем Политиздате, вышел том избранного. В него вошли и самые хлесткие публицистические статьи. Тираж был по тому времени огромным — 20 тысяч. Не все магазины брали новинку, несмотря на огромную популярность автора, тем не менее и она скоро разошлась. С тех пор «Демгородок» много раз переиздавался, а в начале нулевых режиссер Александр Горбань поставил одноименный спектакль в Театре им. Рубена Симонова, где на аншлагах шел «Козленок в молоке». Правда, режиссер решил передать сатирический пафос произведения через буффонаду и фарс, максимально сократив насыщенный политической сатирой текст; постановка шумного успеха не имела, хотя и продержалась в репертуаре несколько лет. Зрителя больше интересовало острое поляковское слово, нежели извивающаяся на сцене гофрированная кишка ассенизаторской бочки.
Ну а летом 1994-го Поляков сел за новую большую работу, выполняя заказ издательства «Ашет», которому пообещал, что «в романе будет и политика, и любовь, и сатира, и мистика…». Инициатором нового заказа стала переводчица с французского и консультант издательства Алла Шевелкина, которая выступала бескорыстным агентом Полякова еще в связи с повестью «Парижская любовь…». Под чернильницу автор получил приличный аванс: шесть тысяч франков, что составляло примерно 1200 долларов, а в те годы на 100 долларов семья могла жить неделю.
При этом он продолжал писать публицистику, мысленно возвращаясь к недавним событиям. В «Комсомольской правде» вышла исполненная горькой иронии статья «Зрелище», в которой писатель подвел неутешительный итог:
«То, что реформы не вышли, а если и вышли, то только боком, сейчас признано всеми, включая и тех, кто эти реформы затевал. Вы слышали хоть одно слово извинения, хоть лепет раскаяния: «Мол, простите, люди русские и нерусские, бес попутал!»? Лично я не слышал. Наоборот, те самые парни, что учудили нынешний развал и оскудение, не вылезая из телевизора, учат нас, как жить, говоря сегодня обратное тому, что провозглашали еще недавно. Считается, все сказанное не исчезает, но витает где-то в околоземном пространстве. Представьте, каково словам Собчака-91 встретиться там со словами Собчака-94?
<…> Как холостой выстрел «Авроры» вверг страну в Гражданскую войну, так нехолостые залпы на Краснопресненской набережной ввергли, а точнее, вернули нас в ту страшную эпоху, когда господствовал принцип, сформулированный писателем-гуманистом: «Если враг не сдается, его уничтожают». Любопытно, что среди тех, кто подталкивал исполнительную власть к крутым мерам, было немало писателей, считавших, а может быть, и продолжающих считать себя гуманистами». И далее: «Я уже неоднократно писал о том, что не приемлю необольшевистских методов реформирования страны. Другое дело, я не согласен с экстремистскими призывами и прорывами, потому что в конце концов одна часть страны превратится в Белый дом, а другая — в пушку… Выиграет от этого кто угодно, только не Россия».
В этом и была проблема: да, Поляков выступал против ельцинских реформ и его политики, но он не примыкал к непримиримой оппозиции, не видел у нее способности удержать государство от распада, а потому те в писательском стане, кто горячо ее поддерживал, не желали видеть в нем единомышленника.
Выступая на форуме творческой интеллигенции, проходившем в Большом театре в декабре 1995 года, где были собраны, чтобы объединиться вокруг власти, многие известные деятели культуры, Поляков развязал полемику с основным докладчиком, президентом международной ассоциации «Мир культуры» Фазилем Искандером, рассуждавшим об общечеловеческих ценностях в русской литературе. Вспомнив о письме творческой интеллигенции к власти в 1993 году с призывом «добить гадину» (очевидно противоречащим означенным ценностям), а также что в числе подписантов был и Искандер, Юрий Поляков отметил: «Это стремление вновь стать «скандирующей группой», вместо того чтобы быть интеллектуальным и нравственным ориентиром власти, просто поразительно, особенно у тех, кто себя под Сахаровым чистит, чтобы плыть к общечеловеческим ценностям дальше…»
В президиуме ему внимали Дмитрий Лихачев, Владимир Этуш, Николай Петров, Людмила Зыкина, Владимир Васильев, Олег Табаков и др. Поляков говорил также о том, что государство обязано озаботиться судьбами деятелей культуры и поддержать их. «Искусство на самоокупаемости — это такой же нонсенс, как картошка на самоокучиваемости…» — сказал он. Зал взорвался аплодисментами, но начальство его выступление не одобрило. Говорят, Черномырдин, подменивший на форуме заработавшегося с документами Ельцина, был недоволен и даже спросил помощников: «А этого-то м… зачем выпустили?»
Поляков активно сотрудничал с газетой «Правда». В статье «Паруса несвободы», посвященной взаимоотношениям Художника и Власти (недаром он вновь и вновь возвращался к этой теме), писатель, в частности, замечал:
«Чтобы понять свое прошлое, нужно прежде всего усвоить: историческая публицистика, а тем паче историческая наука — это не конкурс на самый меткий плевок! А застой, давайте сознаемся хоть сегодня, был не только результатом одряхления системы, он был и результатом вполне понятного стремления избежать «великих потрясений», каковых в текущем веке на Россию навалилось сверх всякой меры. <…>
Зачем нынешнему режиму честно, а значит, оппозиционно мыслящие писатели? Ему хватает оппозиции в лице сидящих без зарплаты работяг да акционеров разных АО, рухнувших потому, что правительство очень хочет, как я подозреваю, регулировать рынок с помощью большевистской «вертушки». Находят, правда, деньги на тех, кто по первой команде сверху готов по примеру великого пролетарского писателя кричать: «Если враг не сдается, его уничтожают!» Так было в дни «черного октября». А потом по команде они же принялись кричать о гражданском согласии, очень напоминающем перерыв между раундами, когда тренеры объясняют вымотанным боксерам, как лучше нокаутировать противника. И в этой новой политической ситуации не воплотившийся принцип буревестника революции заменен другим: «Если враг не сдается, его унижают». Собственно, это и есть краеугольный камень нынешней информационной политики. Заметьте, официальные и официозные СМИ не полемизируют с противниками курса, они над ними иронизируют. Глумятся, короче говоря…»
В том же 1994-м Юрий включился в работу только что созданного клуба «Реалисты», который возглавил Юрий Владимирович Петров, при Ельцине — второй секретарь Свердловского обкома КПСС, а затем глава его администрации. Петров получил приглашение от Ельцина занять эту высокую должность уже в августе 1991-го, но пробыл на ней недолго, в знак протеста покинув пост после кровавого разрешения конфликта в октябре 1993-го.
Клуб «Реалисты» был основан на социал-демократических идеях, чрезвычайно популярных среди обобранных масс, и создавался как противовес вновь набиравшей влияние КПРФ. «Реалисты» вводили в политическую жизнь несогласных с курсом Ельцина, не готовых сотрудничать с коммунистами. Предваряя первый номер альманаха «Реалист», вышедший в конце 1995-го, главный редактор Юрий Поляков обратился к широкому кругу интеллигенции с призывом консолидировать здоровые силы общества.
«Мы живем в пору, когда на смену разрушенной (не без помощи отечественной литературы) советской мифологии спешно конструируется новая мифологизированная идеология, призванная закрепить в общественном сознании те геополитические и социальные перемены, что произошли за последние годы, — писал он. — Растаскивание единой страны, обнищание основной части населения, упадок культуры — все это подается как естественный и даже необходимый для переходного периода процесс, а не результат — бездарности, близорукости и безответственности политиков, готовых ради власти пожертвовать будущим отечества. Новая социальная мифология культивирует в людях комплекс исторической неполноценности, а нынешний развал трактует как возмездие за «первородный грех» социализма. При этом умело умалчивают, что экспериментаторская модель социализма была навязана в свое время России примерно теми же методами и тем же типом политиков-гостомыслов, которые «отменили» в стране социализм как раз в тот момент, когда произошло, по формуле Н. Бердяева, «преодоление большевизма». <…> Страна снова пошла по пути великих потрясений, которые ведут только к крови, несправедливости и краху государственности. <…> Мы живем в пору мощнейшего, гунноподобного натиска западной массовой культуры, являющегося составной частью общей политико-экономической экспансии против России. Мыльная пена, хлещущая с телевизионных экранов, миллионные издания бездарного западного чтива, пошлая клоунада, выдаваемая за смелое творчество, сочетаются с очевидной поддержкой направлений искусства, которые никогда не были ведущими в отечественной культуре. Антисоциальность, равнодушие к судьбе страны, к ее национальным ценностям, вымученный модернизм — навязываются ныне как признаки хорошего тона и включенности в систему общечеловеческих ценностей. Все это старательно поддерживается различными премиальными фондами, сознательно дезориентирующими творческую молодежь, и не только молодежь. Вместе с идеологической заданностью социалистического реализма за борт выбросили и сам реализм как творческий метод. Реализм в искусстве, глубоко анализирующий духовное и материальное состояние общества, никогда не поощрялся сторонниками силового социального эксперимента. Так было сразу после Октября. Так происходит и сегодня. Реалистическая литература, продолжающая традиции «золотого» девятнадцатого века и развивающая лучшие достижения «железного» двадцатого века, с трудом прокладывает себе дорогу на страницы периодических изданий.
<…> В эпоху высоких информационных технологий не нужно устранять оппонента — достаточно отключить микрофон. Восстановить в общественном сознании реальную расстановку сил в литературном процессе, показать, кто есть кто на самом деле, помочь смолкшим писателям вновь обрести голос — задача нашего альманаха».
Альманах выходил трижды — в 1995, 1996 и 1997 годах. Его выход отмечали СМИ, в том числе «Российская газета», руководимая в ту пору Валерием Симоновым и резко отличавшаяся от нынешнего официоза — при Симонове она была вполне объективной и даже смелой. Именно продумывая и составляя выпуски альманаха, Поляков выработал принципы, по которым через шесть лет реформировал квазилиберальную «Литературку». Напомним, что в 1992–1994 годах Поляков вместе с известными журналистами Сергеем Кредовым и Николаем Кривомазовым участвовал в создании оппозиционной газеты «Гражданин России», которую задумал и финансировал молодой предприниматель нефтяник Валерий Белоусов. Опыт этого издания был учтен при разработке концепции и формировании круга авторов нового альманаха.
В «Реалисте» увидели свет новые произведения советских классиков Владимира Соколова, Михаила Алексеева, Юрия Бондарева, Константина Ваншенкина, Егора Исаева, Виктора Розова, Бориса Можаева, Александра Кузнецова, Ивана Стаднюка, Николая Старшинова, Андрея Дементьева. Были там представлены и «сорокалетние», если пользоваться термином Владимира Бондаренко: Борис Примеров, Руслан Киреев, Сергей Есин, Татьяна Набатникова, Владимир Крупин, Владимир Курносенко, Виктор Потанин, Станислав Золотцев, Михаил Варфоломеев, Анатолий Афанасьев. Печатались в нем и сверстники Полякова: Николай Дмитриев, Михаил Попов, Николай Шипилов, Александр Сегень, Вячеслав Дегтев, Виктор Посошков, Петр Паламарчук, Александр Белай. И более молодые: Марина Кретова, Елена Исаева, Сергей Магомет, Сергей Бацалев — очень талантливый писатель, погибший в конце 1990-х, отравившись поддельной водкой. Получили трибуну критики, оставшиеся верными традиции и вытесненные из либеральных изданий: Инна Ростовцева, Всеволод Сахаров, Вадим Дементьев, Иван Панкеев, Анатолий Ланщиков, Владимир Гусев, Александр Михайлов, Владимир Славецкий, вскоре умерший в вагоне метро от сердечного приступа. При этом редактор альманаха явно пытался восстановить диалог разных ветвей отечественной словесности. В «Реалисте» публиковались умеренные либералы: Юрий Кублановский, Андрей Турков, Юрий Разумовский, Лев Аннинский, Александр Мулярчик, Леонид Губанов, Юрий Мамлеев… Для писательского сообщества это было важное событие, во многом предопределившее консолидацию традиционалистов, произошедшую через десять лет. Поляков отмечает, что сегодняшние лидеры «нового реализма», охотно печатавшиеся в альманахе за приличный гонорар, забывают упомянуть об этом поляковском проекте, когда заходит речь о возрождении реалистических традиций в отечественной литературе.
Клуб «Реалисты» впоследствии трансформировался в движение «За новый социализм», от которого Поляков дважды попытается включиться в большую политику.
«Во главе «Реалистов» стоял Юрий Владимирович Петров — в самом хорошем смысле крупный советский руководитель, которого историческое провидение свело с Ельциным в Свердловском обкоме и сделало потом одним из тех, кто демонтировал советский строй. Было видно, что эта роль давалась ему нелегко и свою вину он чувствовал. Потому-то, когда ему, добровольно ушедшему с поста руководителя администрации президента, поручили вместе с государственной корпорацией создать блок умеренной оппозиции, имевший целью ослабить коммунистов и набравшего силу Жириновского, он отнесся к этому совершенно искренне, ибо, по-моему, внутренне не одобрял дикую капитализацию страны по Чубайсу и Гайдару. Ему были близки идеи «нового социализма». Правой рукой Петрова стала бывший заместитель министра культуры Нина Борисовна Жукова — удивительная женщина, которая не только остановила бы на скаку коня, но могла бы командовать армиями. Именно ей обязан своим существованием альманах… Ей очень понравилась моя идея объединить вокруг клуба «Реалистов» деятелей культуры, настроенных патриотично. Петров поддержал и дал деньги — немалые. Герой Социалистического Труда Михаил Алексеев, некогда один из самых состоятельных советских писателей, получив гонорар за свой фрагмент в первом номере «Реалиста» и осознав размеры суммы, от неожиданности даже всплакнул.
На заседании клуба я познакомился с Владимиром Меньшовым, приняв его сначала за Станислава Говорухина. К счастью, я догадался о своей оплошности еще до того, как стал признаваться в любви к фильму «Место встречи изменить нельзя», поэтому создатель «Любви и голубей» благосклонно принял от меня экземпляр «Демгородка». Вскоре он позвонил, и мы отправились в Дом ветеранов кино писать сценарий, который назывался «Зависть богов», но в основном мы выпивали и спорили о будущем России. Делились личным опытом. В конце концов Вере Алентовой и моей жене это надоело, они как-то одновременно приехали на Нежинскую улицу и разобрали нас по домам. Меньшов впоследствии назвал «Завистью богов» фильм, который снял по сценарию Мареевой «Последнее танго в Москве», а я использовал некоторые темы не написанного нами текста в пьесе «Как боги». Кроме того, наши бесконечные споры пригодились мне, когда я изображал будни Жарынина и Кокотова в доме ветеранов «Ипокренино».
«Дачное сидение» закончилось в том же 1994-м, когда Поляков неожиданно был приглашен ведущим на «Семейный канал», воскресную версию учебного канала «Российские университеты». Канал входил в холдинг ВГТРК, возглавляемый писателем Олегом Максимовичем Попцовым, который активно участвовал в продвижении Ельцина на вершину власти, о чем впоследствии рассказал в книге «Хроники времен царя Бориса». Канал «Россия», созданный Попцовым с нуля, вещал со второй кнопки, а четвертую в то время делили НТВ и «Российские университеты», становившиеся в выходные дни «Семейным каналом». На роль ведущего предложила Полякова режиссер Роза Мороз, которая хорошо его помнила по участию в популярных передачах, во «Взгляде» например. «Вероятно, к тому времени к руководителям информационного пространства пришло понимание, что в стране, где 80 процентов населения составляют русские, и на телеэкране должны хотя бы изредка возникать типичные представители титульной нации, — полагает Поляков. — Возможно, на эту простую мысль их навела ошеломительная победа на выборах в думу Жириновского, разыгрывавшего как раз «русскую карту». Была и еще одна причина: в те годы передачи в основном шли не в записи, как теперь, а в прямом эфире, а людей, свободно чувствовавших себя перед «живой» камерой, были единицы».
Тут мы сталкиваемся с фактами, заставляющими по-новому взглянуть на своеобразие той эпохи. На «Семейном канале» существовала рубрика «Звездная пара», куда приглашались известные семьи. И Поляков вдруг позвал к себе на программу одного за другим «изгоев» и «пугал» тогдашнего телевидения: председателя КПРФ Зюганова, лидера антиельцинского сопротивления Бабурина, главного редактора газеты «Завтра» Проханова, председателя Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина, которые если и появлялись на экране, то в старательно окарикатуренном виде. Позвал не одних, а с женами и детьми.
«На ТВ в ту пору царили странные обычаи. Либеральный угол зрения был не государственной установкой, а как бы личным выбором автора программы, ведущего или редактора. Тотальным же этот взгляд на мир становился из-за того, что людей с другими принципами на работу в эфир просто не брали. Гусинский на НТВ даже ввел анкету, где соискатель должен был указать не только родителей, но дедушек-бабушек по всем линиям. «Пятый пункт» интересовал телемагната не меньше, чем бдительных советских кадровиков, но только в совсем обратном смысле. Когда я позвал Проханова, начальство напряглось, но возражать не стало: свобода слова, понимаешь ли. Видимо, полагали, что я поступлю так, как тогда было принято: зазвать оппозиционера в эфир и выставить дураком. Однако я сразу задал дружелюбный, уважительный тон, и семья Проханова очаровала не только зрителей, но и съемочную группу, которая после окончания эфира долго не хотела их отпускать. Нечто подобное произошло потом, когда я пригласил Зюганова, Рогозина, Бабурина… Кстати, так было и через шесть лет, когда меня позвали вести передачу «Дата» на ТВЦ. На первом же эфире я обнаружил, что мы пиарим исключительно события, лиц зарубежной истории и культуры. Сделал замечание редактору — юной дурочке, подцепившей клиническое западничество на журфаке МГУ у Ясена Засурского. Без толку. Она посмотрела на меня глазами цвета «камю» и независимо улыбнулась. Тогда в прямом эфире, когда речь зашла о дне рождения, кажется, Мэри Пикфорд, я вдруг спросил у соведущей Кати Герасичевой:
— А что у нас с днем рождения Нонны Мордюковой?
— А разве сегодня? — испугалась она.
— Не знаю. Вам не кажется странным, Катя: когда день рождения Пикфорд, мы знаем, а когда Мордюковой — нет?
Случился скандал, как я и запланировал, ведь Мордюкова была любимицей допивавшего свой президентский срок Ельцина. Попцов, возглавлявший тогда ТВЦ, швырялся мебелью и бегал по потолку. С тех пор никаких проблем с отечественными датами в передаче не было… о
Поляков придумал для «Семейного» свою передачу — «Стихоборье», желая вернуть современной поэзии утраченную не по ее вине аудиторию. Это был уникальный проект, состоявший из турнира поэтов, литературной викторины и серьезного разговора о смысле и назначении поэзии, ведь жюри в студии возглавляли такие мастера, как Владимир Соколов, Константин Ваншен-кин, Лариса Васильева, Юрий Кублановский… Передача, длившаяся около сорока минут, шла в прямом эфире, включая подведение итогов и выборы победителя при участии зрителей, звонивших в студию. Кто хотя бы приблизительно знает студийную механику, поймет, что провести вживую такую передачу, уложившись в формат, очень трудно. Но Поляков справился. А в мае, когда отмечали пятидесятилетие Победы, он решил собрать в студии всех оставшихся в живых поэтов-фронтовиков. Ему возразили: «Куда нам столько стариков?!» Такая позиция в принципе соответствовала кремлевской, ведь именно тогда, единственный раз, войска и военная техника прошли не по Красной площади, а у Поклонной горы. Тогда горько шутили: «Наполеон не дождался там ключей от Москвы, а Клинтон дождался…» Поляков возмутился, пошел на самый верх, к Попцову, и добился своего. В результате в студии читали стихи и вспоминали о войне Юрий Левитанский, Виктор Кочетков, Юрий Разумовский, Сергей Викулов, Николай Старшинов, Николай Панченко, Нина Бялосинская, Евгений Винокуров, Михаил Дудин, Егор Исаев. Многие из них вскоре ушли из жизни, и это было их последнее появление в эфире.
Помимо прочего, участие в этих проектах обеспечило семью и дало возможность без суеты и спешки завершить работу над новым романом.
К сорокалетию Полякова подоспел двухтомник, который выпустило издательство «Художественная литература». Тираж по тем временам был очень приличным, тем более для собрания сочинений: 25 тысяч экземпляров. Профинансировал издание В. Долгов, который еще в 1990-м, будучи директором Литфонда РСФСР, тиражом полмиллиона выпустил моментально разошедшийся «Апофегей».
В предисловии, подводя некоторые творческие итоги, Поляков подчеркивал, что «больше всего не хотел спрямлять свой путь, подгоняя его под складывающийся ныне довольно забавный стереотип борца с былым режимом. Непонятно только, на чем он держался, коль все были борцами. <…> Более того, совершенно сознательно я поместил под общей обложкой вещи, на первый взгляд взаимоисключающие: рядом с повестью «Сто дней до приказа», очень в свое время обидевшей известную часть армии, читатель найдет работу «Между двумя морями», посвященную героической странице отечественной словесности — фронтовой поэзии. А повесть «ЧП районного масштаба», воспринятую некогда как «антикомсомольский манифест», он сможет сравнить со стихами, где те же подробности юности осмысливаются в ином свете. Никакого внутреннего противоречия тут нет, а есть всего лишь стремление на самом элементарном уровне приблизиться к неоднозначности жизни. Литераторы, специализирующиеся исключительно на воспевании или исключительно на сокрушении, всегда напоминали мне незабвенного Тома Кенти (герой романа Марка Твена «Принц и нищий». — О. Я.), коловшего большой королевской печатью орехи.
Мне очень хочется, чтобы читатель, открывший этот двухтомник, отрешился от скандальной атмосферы, в какой появлялись в печати иные мои повести, и увидел в них то, чем они являются на самом деле, — попытку разобраться в судьбе моего поколения, пришедшего в сей мир в пятидесятые годы, проведшего детство и юность под тяжкими сводами довольно странного государственного сооружения, а зрелость свою встретившего на развалинах…».
Как видим, и в сорок лет критический взгляд на советскую эпоху разочарованного идеалиста еще преобладал над взглядом умудренного жизнью мужа, внимание которого прежде всего привлекают достоинства, а не недостатки. Но это, несомненно, объясняется свойствами характера. Впрочем, предисловие написано в 1992-м, когда по первоначальным планам и должен был выйти двухтомник.
В послесловии к нему Владимир Куницын отмечал: «Читатель признал Юрия Полякова. Признал и, кажется, полюбил. Но не тут-то было с профессионалами, а особенно с профессиональной, маститой, престижной критикой. Она молчала, и более того, молчала с какой-то полупренебрежительной улыбкой. Даже и не разбираясь в предмете, она скептически не доверяла всеобщему успеху поляковских повестей, подозревая в самой очевидности этого успеха некий каверзный подвох со стороны удачливого автора. <…> Эта некая чванливость нашей литературной элиты, думается, проистекает из недоверия к эстетическим вкусам широкого читателя, почти кастовой привычки узурпировать право окончательной оценки, и если эта оценка расходится с мнением читателей, то, как бы много их ни было, по мнению касты, тем хуже для самого читателя».
Впрочем, его слова вполне можно отнести и к более позднему времени. С тех пор ничего не изменилось: автор, который пишет так, что его произведение может прочесть любой уважающий книгу человек, по-прежнему неинтересен чванливой критике, готовой раздавать высокие оценки и премии только тем, кого она принимает в свою тусовку. А тогда, в сугубо политизированные 1990-е, даже владельцы книжных магазинов позволяли себе роскошь брать на продажу книги, ориентируясь не на литературные достоинства и даже популярность писателя, но на его политические убеждения.
Куницын подметил черту, которая всегда отличала Полякова-писателя: «Мне импонирует то, что Ю. Поляков пошел для писателя самым трудным путем — он прежде всего сосредоточился на слове, языке, лексике своих произведений, начал искать свой стиль, свою манеру изложения, доверившись органике таланта. И этот расчет оказался верен. Могут устареть драматические коллизии, потерять социальную остроту некогда горячие конфликты, может уйти с политической сцены даже сам предмет разговора, как это случилось недавно с комсомолом, но — остается слово, оно живет уже как самоценный организм, храня в себе лексическую генетику явлений, становясь, помимо художественного, фактом общественной жизни».
Впрочем, «горячие конфликты», описанные в новом поляковском романе «Козленок в молоке», своей социальной остроты не утратили и в наше время.
Отступление седьмое.
«Лихие девяностые»
1990-е недаром получили это прозвище — «лихие». Это было время, когда большинству граждан приходилось лихо, — и время лихих людей, оказавшихся всесильными благодаря деньгам, доставшимся им неправедным путем. С 1990 по 1995 год по фальшивым авизо были получены триллионы рублей, которые, как в черную дыру, ушли в Чечню. Проходили они через банк «Столичный» Александра Смоленского, одного из олигархов-банкиров, прочно закрепившихся у власти. В это время «процвел» Ходорковский, который, кстати, пришел работать в Бауманский райком ВЛКСМ вскоре после того, как оттуда ушел Поляков. Банк «Менатеп» поднялся на «комсомольских» деньгах. А потом Ходорковский вовремя оказался в нужном месте и получил через залоговые аукционы несметные богатства, какие честно заработать невозможно. Неспроста в 1998-м, в день рождения Ходорковского, был убит мэр Нефтеюганска Владимир Петухов, мешавший его компании требованиями выплаты в местный бюджет предусмотренных законом налогов.
Тогда вообще много стреляли, прямо на улицах, так что граждане привыкли слушать сообщения об очередном происшествии с «контрольным выстрелом в голову». В 1993-м Россия вышла на второе место в мире после США по числу покушений на финансистов. В стране убивали банкиров, заводчиков, рестораторов, продюсеров, нефтяников, торговцев. И писателей. Так погиб друг Высоцкого сценарист и прозаик Артур Макаров, ставший посредником при перепродаже криминального золота. На полном ходу был выброшен из поезда хороший знакомый Полякова поэт Юрий Дудин, уроженец Грозного, который завел общий бизнес с чеченцами. Странной смертью умер другой знакомец — журналист и депутат Юрий Щекочихин.
Банкиры обратились с открытым письмом к президенту и силовикам, взывая о помощи. В убийствах в основном подозревали конкурентов и деловых партнеров. Толкали на преступления жадность, стремление все сосредоточить в одних руках, нежелание делиться и уступать. Убийца-исполнитель не имел ничего личного против жертвы, убивать было его собственным бизнесом. При каждом очередном преступлении непременно объявлялось, что «в городе объявлен план-перехват, но задержать убийц по горячим следам не удалось». Еще хуже было с поисками заказчика. Год от года способы расправы становились изощреннее, в ход, помимо обычного оружия, пошли снайперские винтовки, взрывчатка и даже яд… Так, токсичным веществом, заложенным в телефонную трубку, был отравлен Иван Кив ил ид и, издатель газеты «Век», где Поляков опубликовал несколько своих материалов.
«Мы с Геной Игнатовым тогда повадились ходить в Краснопресненские бани, располагавшиеся неподалеку от моего дома на Хорошевке, — вспоминает о том времени Поляков. — Однажды с веничками под мышкой мы направлялись к месту помывки и увидели толпу крепких нерусских парней, одетых в спортивные костюмы. Крича и плача, они плотно окружили что-то лежащее на земле. Мы поднялись на ступени и спросили у банщика, спокойно курившего на крыльце:
— Что случилось?
— А кто ж знает, может, шайку не поделили, может, бизнес…
Вечером из новостей я узнал, что на выходе из Краснопресненских бань был убит, несмотря на многочисленную охрану, знаменитый Отари Квантришвили, авторитет и спортивный меценат. Стреляли из оптической винтовки с чердака дома напротив. Через много лет выяснилось, что заказ выполнил не менее знаменитый Солоник, в свою очередь убитый потом в Греции вместе с юной любовницей — мисс красоты…»
В 1994-м ареной кровавых разборок со смертельным исходом стала сверхдоходная нефтяная отрасль. При дележке сфер влияния были застрелены президент «Коминтернефти», директор «Нефтебура», президент «Мегионнефтегаза», генеральный и коммерческий директора фирмы «Нефть Самары». И большинство убийств в «нефтянке» так и не было раскрыто. В 1995-м мартиролог расширился за счет генерального директора компании «Белойл», занимавшейся поставкой и реализацией нефти и газа; президента и вице-президента банка «Югорский»; гендиректора «Нефтехимика»; финансового директора компании «Вале», занимавшейся торговлей нефтью и нефтепродуктами; директора «АЗС-Сервис», владевшего автозаправками; президента «Стинолнефтегаза»; гендиректора крупнейшего в Карелии нефтеторгового предприятия «Росика»; директора Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и др. Убивали и в издательском бизнесе: так, были убиты первый заместитель гендиректора, а также коммерческий директор издательского дома «Дрофа» — частного издательства, выпускавшего учебники по госзаказу и гарантированно получавшего огромные деньги от Минпросвещения. Убивали и политиков: в 1998-м были убиты Галина Старовойтова и Лев Рохлин, которого Поляков знал.
«В Думе, на посиделках, устроенных Говорухиным, я оказался рядом с генералом Рохлиным. Обычно невозмутимый, он был оживлен и говорил, что Ельцину осталось сидеть в Кремле несколько дней, уже подготовлены и вооружены группы офицеров, которые скоро прекратят это безобразие. Всем прихвостням, ворам и предателям придется ответить за государственную измену. Когда через несколько дней по телевизору сообщили, что спящего генерала после семейной ссоры застрелила жена, мне все стало ясно… Разве можно о военном заговоре рассказывать за рюмкой, когда даже у маринованных огурцов есть уши, а у фаршированных оливок — глаза!»
«Семибанкирщина» — так называли тогда ту эпоху. Власть напрямую зависела от бизнеса, а бизнес не проявлял ни малейшей заинтересованности в благополучии и процветании страны. Баснословное богатство, незнаемо какими путями оказавшееся в руках лихих людей, было еще в новинку. В восторге от собственной удачи, они наперегонки соревновались, кто круче, и порой рассекали по Москве на угнанных тачках, правда, сами о том не ведая. Они похвалялись друг перед другом машинами, секретаршами, влиянием на президента и его окружение и прикормленными депутатами. Чуть позже увлеклись собиранием живописи и возведением дворцов — ну и покупкой старинных замков на Лазурном Берегу. Зимой они отдыхали уже только в Швейцарских Альпах, их дети поступали учиться в английские школы, а затем и в самые престижные вузы — Оксфорд, Кембридж, Сорбонна, Принстон… А жены и любовницы скучали в заграничных дворцах. На мировых аукционах, на которых предлагались предметы роскоши, 80 процентов участников были русскими.
В России, озаботившись тем, чтобы не выпустить из рук так легко отдавшуюся им власть, они стали оптом и в розницу скупать СМИ: газеты, журналы, телеканалы. Не успели все протереть глаза, как в руках Березовского оказались ОРТ, «Коммерсантъ», «Независимая газета».
Обычно они ненавидели друг друга (как Борис Березовский и Владимир Гусинский), но большим их врагом был криминал, который до времени считал, что сможет контролировать их деятельность и использовать их влияние на власть в своих интересах. Тем не менее при любой возможности они с удовольствием топили своих: один из них, Владимир Виноградов, владелец крупнейшего «Инкомбанка», рвался участвовать в залоговых аукционах, на которых власть за бесценок отдавала в алчные руки недра страны, чем сильно разозлил «коллег», — и они сделали всё, чтобы его уничтожить. В 1996-м они развязали в принадлежавших им СМИ информационную войну против Виноградова, утверждая, что в «Инкомбанке» дела совсем плохи. Виноградов в Кремль не лез, ни с кем из олигархов особенно не ссорился, но и не дружил. Он, кстати, представлял национальное меньшинство среди банкиров — русских. Когда его взяли в оборот, долго сопротивляться он не смог, и в 1998-м банк лопнул, а сам Виноградов, пережив несколько инсультов, оказался с семьей в съемной двушке, где и дожил свой недолгий век.
В 1995-м залоговые аукционы были жизненно необходимы власти для выплаты зарплат бюджетникам, задолженность которым составляла от двух до шести месяцев. При этом суммы кредитов были существенно ниже среднерыночной стоимости заложенных активов наиболее привлекательных и успешных предприятий. При этом было заранее понятно, что деньги в срок государство не вернет и они гарантированно перейдут в частную собственность. Первый залоговый аукцион проводился по «Сургутнефтегазу», «Норильскому никелю», Северо-Западному пароходству, «Сибнефти», ЮКОСу и Западно-Сибирскому металлургическому комбинату. Все знали, что аукционы проводились для своих, конкуренции и даже равенства между участниками не было.
Поскольку деньги дались лихим людям легко, они быстро научились их тратить, но не умели зарабатывать. К тому же в какой-то момент принялись играть с государственными казначейскими обязательствами — ГКО, и так заигрались, что в августе 1998 года в стране случился дефолт. Смоленский оказался не готов к дефолту, и как ни поддерживало его государство, закачивая все новые миллиарды в его банк, банк рухнул и Смоленский в одночасье утратил свои позиции. Самым благополучным в этом смысле был Борис Абрамович Березовский: в 1996-м он получил пост заместителя секретаря Совета безопасности (несмотря на второе израильское гражданство) и успешно проворачивал дела, связанные с выкупом у чеченских боевиков заложников.
Когда Ельцин сказал свое знаменитое: «Я ухожу» — и передал власть премьер-министру Путину, это не послужило сигналом для олигархов оставить свои прежние притязания. По собственному признанию Путина, к нему тогда пришли и сказали: «Ты сиди, а мы будем рулить». Но уже в марте 2000 года, сразу после избрания и вступления в должность, новый президент заявил о равноудаленности бизнеса от власти, потребовав убрать руки от политики и не выводить средства за рубеж. В 2000-м сел в Бутырку Гусинский, которого Поляков помнил еще молодым режиссером — постановщиком массовых молодежных мероприятий вроде «Кто там шагает правой?!», которые организовывал горком комсомола. Когда медиамагната отпустили под залог, он бежал за границу. Уголовное дело было возбуждено и против Березовского, и в 2001-м он оказался в Англии, где уже давно жила его семья. В октябре 2003-го за неуплату налогов и другие преступления был арестован Ходорковский, единственный из олигархов отсидевший в колонии значительную часть срока и помилованный Путиным в 2013 году.
А ведь была еще финансовая пирамида «МММ», построенная ловким дельцом, где число вкладчиков достигало 15 миллионов человек и где деньги считали на сантиметры и даже на комнаты. Ее основателя задержали не за мошенничество, а за неуплату налогов, и толпы лишившихся средств вкладчиков требовали его немедленно освободить, даже содействовали тому, чтобы Мавроди зарегистрировался в качестве депутата и был избран в Госдуму. Деньги он, конечно, не вернул и спустя какое-то время взялся за старое — но уже не с таким успехом.
Была еще и война в Чечне, которую начала федеральная власть, рассмотревшая наконец нарушения Конституции в том, сколько суверенитета смогла «проглотить» местная власть и сколь беззаконно она это делала. Для «обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности» в декабре 1994-го туда ввели войска после неудачных переговоров с Дудаевым. При попытке штурмом взять Грозный погибли несколько десятков военнослужащих, более ста человек попали в плен, а город был превращен в руины. Война приняла затяжной и кровопролитный характер, и стране довелось пережить множество терактов невиданной жестокости.
В июне 1995-го группа террористов во главе с Басаевым захватила в заложники полторы тысячи жителей Буденновска, которых согнали в местную больницу. Тех, кто отказывался идти, убивали на месте, как и милиционеров, попытавшихся остановить террористов, которые потребовали прекратить разоружение своих банд и вывести федеральные войска из Чечни. Министр обороны Грачев настоял на штурме. Попытка оказалась неудачной, освободить удалось всего шестьдесят одного человека, а в результате четырехчасового боя было убито несколько десятков военнослужащих и заложников, поскольку террористы использовали женщин, детей и стариков в качестве «живого щита». Премьер-министр Виктор Черномырдин на глазах у изумленной страны вступил в переговоры с бандитом Басаевым, согласившись прекратить боевые действия и предоставить террористам автобусы, на которых они благополучно вернулись в Чечню.
В 1996-м отряд Радуева захватил больницу в дагестанском селе Кизляр, но там в результате переговоров боевики отказались от своих требований, отпустили заложников и тоже беспрепятственно покинули республику, так как Черномырдин дал им гарантии безопасности. По дороге колонна была обстреляна с вертолетов, тогда бандиты повернули назад и остановились в селе Первомайское, захватив в заложники 37 новосибирских милиционеров. Мощный артиллерийский и ракетный огонь велся трое суток, тем не менее боевики вырвались из окружения и увели с собой заложников. По своей бездарности операция вполне сравнима со штурмом Грозного и больницы в Буденновске. Всеми ими руководил Павел Грачев, или, как его называли СМИ, подозревая в махинациях с армейским имуществом, «Паша-мерседес». Впрочем, вскоре он был отправлен в отставку.
Весной 1996 года выстрелом самонаводящейся ракеты был убит генерал Дудаев, после чего федеральный центр попытался договориться с заменившим его Масхадовым о выводе войск, разоружении боевиков и проведении в Чечне свободных выборов. Тем временем в Московском метро, а также в двух троллейбусах и у станции метро «Алексеевская» произошли теракты, а в августе 1996-го отряды Масхадова атаковали Грозный и заняли его. Попытки выбить их из города принесли многочисленные жертвы, однако в военных действиях наконец наметился перелом в пользу федералов. И именно тогда никем не уполномоченный на это генерал Александр Лебедь, пошедший на сделку с Ельциным и обменявший голоса своих избирателей на президентских выборах на должность секретаря Совета безопасности, заключил с Масхадовым Хасавюртовские соглашения, в соответствии с которыми федеральные войска должны были выйти из Чечни, а республике — оказана финансовая помощь в восстановлении хозяйства. После были новые переговоры, требования астрономических сумм со стороны Масхадова, страшные теракты в Москве, когда на воздух взлетели жилые дома со спящими в них мирными жителями, — и вторая чеченская, начавшаяся в августе 1999-го с похода Масхадова и Басаева на Дагестан.
«Однажды на заседании президентского совета по правам человека, куда я некоторое время входил, возникла истерическая ситуация, — вспоминает Поляков. — Правозащитники возмущенно поведали Путину про какого-то прапорщика, привлеченного за изнасилование горной селянки, но признанного судом присяжных невиновным.
— Это безобразие! — как на привозе кричали они. — Этого нельзя допустить!
— Минуточку, — возразил президент. — Но ведь именно вы добивались введения суда присяжных. Добились. И что теперь?
— Это не тот случай! Вы должны вмешаться и что-то сделать!
— Что? Изнасиловать этого прапорщика?
Повисла пауза. Правозащитники смутились, стали с надеждой смотреть на Познера, но он тоже растерялся и молчал. И вдруг Путин, обычно мягкий при общении с гормональными либералами, заговорил железным голосом:
— Хочу вам напомнить, что когда там все началось, в Чечне трудно было найти неизнасилованную русскую женщину. Трупы валялись по обочинам дорог. Их даже не убирали. Вы это помните? Нет? А мы помним. Да, мы лишний раз не напоминаем об этом чеченцам. Нам нужны там покой и примирение. Но мы не забыли и не забудем! — Правозащитники взирали на гаранта Конституции с ужасом в глазах. Вдруг он улыбнулся и сказал почти ласково:
— Ладно, разберемся с вашим прапорщиком. Но по закону…»
Еще мы пережили «черный вторник» 1994-го с обвалом рубля, деноминацию и дефолт 1998-го, из которого харизматичный и мудрый премьер-министр Примаков, за два года до этого сменивший в МИДе Козырева, мистера «Да», вывел страну в плюс — и тут же был отправлен ревнивым Ельциным в отставку.
В те годы Россия подписала Союзный договор с Белоруссией, так и не получивший своего развития, и теперь власти все реже вспоминают о том, что Россия и Белоруссия — единое союзное государство.
Ну а апофеозом цинизма были президентские выборы 1996-го, когда Ельцин, сыгравший в хитрую игру с Лебедем, стремительно вылетевшим из Кремля в направлении Красноярска, по мнению многих, договорился с Зюгановым, и тот во втором туре ему якобы проиграл.
«В 1996 году я решил, что спасением для страны может стать возвращение к власти коммунистов, сделавших выводы из «перестройки», отказавшихся от моноидеологии и признающих необходимость многоукладной экономики при государственном контроле. Кстати, через это прошли почти все страны социалистического лагеря. Владимир Меньшов делал в рамках избирательной кампании фильм о Зюганове и пригласил меня в качестве ведущего. Вопрос о гонораре не стоял. Работали за идею. И рисковали, наверное. Снимали в квартире главного коммуниста на Лесной улице, где до своего президентства жил и кандидат в члены политбюро Ельцин. Фильм вышел отличный, душевный, так «папу Зю» — в кругу любящей и дружной семьи, с женой, взрослыми детьми — еще никогда не показывали. В эфир наша работа должна была пойти в последний день агитации на Первом канале. Однако Эрнст в последний момент снял ленту из сетки вещания. Мне позвонил взбешенный Меньшов.
— Вы представляете, Юра, — кричал он, — я ему говорю: Геннадий Андреевич, созывайте пресс-конференцию, поднимайте народ, покажите, что вас зажимают! Люди поддержат…
— А он?
— Он говорит, что я многого не понимаю, а он не может рисковать партией. Власть все равно не отдадут, а кровь прольется… Понимаете? Они не хотят рисковать. А кто же берет власть без риска?..
Тогда Зюганов якобы проиграл с небольшим отрывом, а через пятнадцать лет сквозь зубы было признано, что выиграли коммунисты, но голоса подсчитали как было приказано… В те дни я вспоминал БМП из моего «Апофегея» и удивлялся, насколько точно проинтуичил характер этого человека. Тогда же мне удалось в эфире бросить фразу, которую потом часто повторяли: «Если Господь хочет наказать народ, он заставляет его выбирать между Горбачевым и Ельциным».
Едва президента выбрали на второй срок, как практически сразу выяснилось, что он тяжко болен, ему срочно необходима операция аортокоронарного шунтирования и он даже расстался с ядерным чемоданчиком — впрочем, всего на сутки. Президент выглядел все хуже, иногда появлялся в эфире в таком состоянии, что шутить, как когда-то в адрес Брежнева, никому уже в голову не приходило. Зато, как тренер — игроков на поле, с завидным упорством менял премьер-министров.
* * *
Обо всем этом Поляков и писал в статьях, яростно отстаивая свое право говорить власти правду, которую она никогда не хотела слышать.
В марте 1995-го, в преддверии пятидесятилетия Великой Победы, в «Труде» вышла статья Полякова «Грешно плевать в Чудское озеро»:
«Можно ли уважать государство, которое, решив выводить свой народ из застоя, ввело его в прострацию? Государство, которое дернуло со своих геополитических рубежей чуть не нагишом, как застуканный суровым супругом любовник? Хоть бы вещички собрали. А ведь в ту же Европу мы пришли буквально по костям миллионов собственных сограждан, что бы там сегодня ни говорили. Да, конечно, Сталин не Черчилль. Но ведь и Черчилль не Джавахарлал Неру! А можно ли уважать государство, которое собственную армию довело до такого состояния, что солдаты и офицеры боятся журналистов больше, чем вооруженного противника?
Можно нас уважать, если мы ядерное оружие, как при Левше, скоро начнем кирпичом чистить? Могут американцы, поднимающие международный хай, когда их соотечественнику наступят на ногу в панамском трамвае, уважать Россию, которая с какой-то дебильной фригидностью наблюдает, как подвергаются утеснениям и унижениям 25 миллионов русских, оказавшихся вдруг за границами, прозрачными, точно старческая катаракта? А как насчет уважения к политикам, если они, чуть что у них не ладится, бегут жаловаться на оппозицию к зарубежным коллегам, как раньше бегали жаловаться в партком на неверного супруга? <…> Народ, не уважающий собственных прошлых побед, обречен на будущие поражения.
<…> Святой Александр Невский разбил немцев и шведов вообще будучи под оккупацией Золотой Орды и пользуясь ее золотым ярлыком, как аусвайсом… что ж теперь из-за этого всенародно плевать в Чудское озеро? А ведь плевали! Чего стоила одно время поселившаяся в средствах массовой информации, особенно на ТВ, извиняющаяся интонация по поводу нашей Победы в Великой Отечественной войне… Мол, нет, чтобы ширпотребом прилавки заваливать да сельское хозяйство поднимать, — развоевались, аж до Берлина доперли! Да еще пол-Европы ядовитыми клыками социализма, как вампиры, перекусали! Совершенно забывая при этом напомнить, что тогда, перед войной, не пол-Европы, а вся Европа социализмом прихварывала и ради сталинского антифашизма закрывала просвещенные очи на его тоталитарные художества. Перечитайте Фейхтвангера… Вы никогда не задумывались, почему вождь своим опальным соратникам неизменно связь то с Германией, то с Японией присобачивал с тем же упорством, с каким сегодня любую оппозицию стараются в красно-коричневые записать?.. Ну конечно, чтобы просвещенную Европу порадовать!
Результаты неуважаемости ждать себя не заставили: нас вдруг продинамили с торжествами по поводу открытия второго фронта. А некоторое время спустя случайно подзабыли, кто из союзников освобождал чудовищный Освенцим: вроде как его совместными усилиями Польши, Америки, Германии и Израиля освободили… А тут еще одна любопытная вещь выяснилась: немцы, получается, перед всеми народами за свой фашизм виноваты, но только не перед нами: оказывается, мы, по мнению Суворова-Резуна, первыми напасть хотели: танки на шинном ходу для езды по европейским автострадам перед войной строили. <…>
Кстати сказать, многоуважаемых г-д Клинтона и Коля на Красную площадь 9 Мая мы приглашаем не бюсту «вождя народов» кланяться, а склонить головы перед памятью этих несчитанных миллионов. Вот ведь в чем дело. Но эти господа затрудняются даже пообещать, что приедут на наш главный праздник: не уважают! Одного война в Чечне смущает. Не буря, понимаете ли, это в пустыне! Другому в качестве командировочных подавай художественные ценности, вывезенные из размолоченной Германии в качестве компенсации за неисчислимые культурные утраты, понесенные нашей страной в годы войны! Реституцией это, извините за выражение, называется. <…>
А слово «уважать» подходит к взаимоотношениям между людьми, между народом и государством, между государствами, но только не между человеком и его Родиной. Родину, простите за подзабытую банальность, можно только любить. По-всякому — с нежностью, с восхищением, с уважением, с горечью, с досадой, — но только любить… Поэтому нас-то на праздник Победы звать не надо. Мы придем — со слезами на глазах, как поется в песне. Будем праздновать эту святую дату с уважением к прошлому Отечества и с надеждой, что уж следующий юбилей Победы отметим с уважением к настоящему Державы. А это, поверьте, немало для нашего неуважительного времени…»
Как и предчувствовал Поляков, празднование пятидесятилетия Великой Победы было более чем странным, даже парад прошел не на Красной площади, а на Кутузовском проспекте у Поклонной горы.
В августе 1995-го в «Труде» вышла большая статья «Наши гостомыслы»:
«…Великий Лев Гумилев считал, что слово «гостомысл» только со временем превратилось в имя собственное, обозначив полумифического старейшину Гостомысла, призвавшего Рюрика владеть нами, беспорядочными. А первоначально «гостомыслами» на Руси называли тех, кто благоволил иноземцам — «мыслил гостям». Люди, определяющие сегодня судьбу страны, не только зачастую «мыслят гостям», но и мыслят как гости. <…>
К власти должны прийти патриоты — не те люди с ущербно-озлобленными лицами и бредовыми лозунгами, не те недотыкомки, которых старательные операторы выискивают на каждом оппозиционном митинге и которых, по теории вероятности, можно обнаружить при любом большом скоплении людей, даже на встречах либерально настроенной интеллигенции с президентом. К власти, разумеется, в результате выборов должны прийти патриоты в первоначальном смысле этого слова, не замутненном лукавыми толкованиями, люди, готовые на жертвы, лишения, даже унижения, — чтобы вытащить страну из грязи и вернуть основной части населения для начала хотя бы тот уровень жизни и безопасности, с какого стартанули пресловутые реформы. И прежде всего нужно прямо сказать: да, у России, как у любой другой страны, — свой собственный путь. Возможно, все семьи счастливы одинаково, а несчастны по-разному, но с народами дело обстоит как раз наоборот: все народы несчастны одинаково, а счастливы по-разному».
Осенью «Российская газета» отметила столетие Сергея Есенина статьей Полякова «Прозрений дивный свет», в которой автор уже окончательно определился со своей позицией:
«…Любили приводить признания поэта о том, что он «остался в прошлом одной ногою…». И только теперь, пережив это страшное состояние, когда не понимаешь, «куда несет нас рок событий», и только теперь, увидев страну, «вздыбленную на пики звездные», гораздо глубже сознаешь смысл исторической тоски автора «Анны Снегиной». Консерватизм — всегда от глубины. Радикализм — всегда от поверхности. И нет на свете ничего страшней людей, стоящих в будущем обеими ногами!»
В октябре, в канун выборов в Государственную думу, «Труд» опубликовал статью Полякова «Человек перед урной. Двадцать один совет другу-избирателю», в которой он от души посмеялся над тогдашним политическим паноптикумом.
Довольно точно его настроения отражает и опубликованное в еженедельнике «Вечерний клуб» интервью Виктору Галантеру, представителю либеральной тусовки, с которой полемизировал Поляков. Доверительный, даже панибратский тон беседы — не имитация. Выпускник Литературного института, прозаик Виктор Галантер когда-то сотрудничал с газетой «Московский литератор» и давно был знаком с Поляковым.
«Ю. П. Между прочим, необольшевиками нынешнюю власть назвал именно я. Вспомни мою статью «Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция!», из-за которой в октябре 93-го чуть не закрыли «Комсомолку».
В. Г. Улавливаю здесь подернутую плесенью народническую дребедень о писателе как трибуне, чья священная миссия — «предостерегать» и направлять на путь истинный. Или это издержки педагогического образования?
Ю. П. Все эти разговоры об аполитичности писателя — бредни социальных импотентов: мол, меня не интересуют женщины, ну и что? Я так решил. Что в этом дурного?
В. Г. Ты не находишь, что «социальная проблематика» — все же удел газеты, а не художественной прозы?
Ю. П. В момент написания вещи социальный момент, естественно, доминирует. Можно назвать его конъюнктурным, как угодно. Я написал в 1980 году «Сто дней до приказа», в 1987-м напечатал: меня обозвали конъюнктурщиком. Ничего себе конъюнктура — семь лет в столе пролежала! <…>
В. Г. В какой степени твои тиражи соотносятся с твоими пробивными способностями?
Ю. П. Издатели сами на меня выходят. И не ошибаются. Ты давно заходил в книжный магазин? Увидишь там при всем моем добром отношении к ним и Пьецуха, и Веллера, и Виктора Ерофеева. Меня в продаже нет, хотя книг за последний год у меня вышло больше, чем у них.
В. Г. Что до апатии критики: может быть, здесь дело и в том, что ты как бы на отшибе магистральных литературных «направлений»?
Ю. П. Совершенно верно. С самого начала я принципиально был, что называется, одиноким волком. <…>
В. Г. Но есть группы, которые тебе созвучны?
Ю. П. Есть писатели, которые мне симпатичны. Но не бригады. Может, потому, что я рано стал профессионалом: в двадцать пять лет — первая книжка, в двадцать шесть меня приняли в Союз писателей. Мне не нужно было пробиваться в стае.
В. Г. Насколько я помню, ты был самым молодым членом СП в СССР…
Ю. П. Один из трех «самых».
В. Г.…И будто бы попал в Союз писателей по разнарядке ЦК ВЛКСМ?
Ю. П. Легкое мифологическое передергивание. По «разнарядке» комсомола у меня вышла первая книжка стихов. Не только у меня, но и у других авторов, отмеченных на совещании молодых писателей. То, что комсомол помог мне издать первую книжку, это факт. <…>
В. Г. Тебя эта комсомольская фигня действительно трогала или это чисто карьерные дела?
Ю. П. Я по натуре человек общественный. Был и остался. Это у нас семейное. Разумеется, мой общественный задор мог бы найти выход, к примеру, в диссидентстве. Но антигосударственность диссидентства, его подрывной характер под видом правдоискательства были мне чужды всегда. Когда мне активно предлагали напечатать за границей «Сто дней…», я сказал: только здесь.
В. Г. Из государственных соображений?
Ю. П. Не буду кривить душой, считал так: если существует определенный порядок вещей, если по законам государства, где я живу, этого делать нельзя, значит, нельзя.
В. Г. Я комсомоле надо было блефовать. Наивным тебя не назовешь. Значит, оставалось только врать сознательно?
Ю. П. Были определенные правила игры. Нельзя было подняться на собрании и сказать: Брежнев еле волочит ноги и т. д. Но, извини меня, если ты сегодня на собрании лояльных президенту сил скажешь сам понимаешь что, то вылетишь из этих структур с тем же треском. <…>
В. Г. Тебя комсомол лелеял, а ты ему плюнул в морду. Имею в виду, конечно, повесть и фильм «ЧП районного масштаба». Прилично ли это?
Ю. П. Почему «плюнул»? Это были нормальные неглупые люди, которые прочитать о реальном комсомоле хотели не меньше, нежели беспартийные. Ведь читали же партийцы под одеялом «Архипелаг ГУЛАГ». Наша сегодняшняя драма не в том, что многие партократы стали демократами. А в том, что худшие партократы — демократы».
* * *
1995-й стал годом «Козленка…». Фрагменты романа осенью напечатали «Труд», «Завтра», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец» и другие, а сам роман, с небольшими сокращениями, вышел в двух номерах журнала «Смена» у Кизилова и затем в частном издательстве Александра Гурвича «Ковчег». Прочитав рукопись, тот сказал, что хохотал всю ночь, мешая спать жене, и очень жалеет, что эта уморительная вещь не дойдет до широкого читателя, так как повествует об узком и мало кому интересном писательском мирке. Издатель ошибся: на сегодняшний день общий тираж «Козленка…» приблизился к миллиону, его постоянно переиздают и допечатывают, роман экранизирован, неоднократно инсценирован и переведен на другие языки.
Вот как излагает историю написания своего знаменитого романа автор:
«Честно говоря, каждый писатель чем-то похож на огуречную лиану, покрытую множеством цветков, большинство из которых никогда не будут оплодотворены пчелиным трудолюбием литератора и не вырастут до размеров полноценного художественного зеленца. Возможно, именно такая участь ждала и сюжет про мастера лирической концовки, который у меня возник еще в середине 80-х. В основе реальный случай. Обычно после коллективных вечеров поэзии в Доме литераторов молодые таланты и поклонники спускались в «пестрый» зал, сдвигали столы, покупали в складчину выпивку с закуской, читали друг другу то, что не могли озвучить со сцены, спорили, ссорились, мирились. Из раза в раз с нами за столом оказывался лысый молодой человек с внимательными глазами. Звали его Владислав. Сначала решили: стукач. Вроде не похож… Потом предположили: халявщик. Но Владислав безропотно скидывался на выпивку, причем вносил в общак больше, чем другие. Наконец кто-то вспомнил, что в первый раз его привела Римма Казакова — страстная покровительница молодых поэтов. Она даже вроде бы сказала, что ему особенно удаются концовки. Мы его так и прозвали: мастер лирической концовки. Несколько раз мы просили Владика почитать свои стихи, но он отнекивался. «Стесняется!» — решили все. Прошел год или два, и мы привыкли к скромному молчаливому поэту. Потом разнеслась весть, что срочно нужно сдать стихи в коллективный сборник, который готовится в «Молодой гвардии». Владик и тут отказался. Невероятно! Поэт не может отказаться от публикации, как мужчина — от поцелуя любимой. Тут что-то не так. Мы устроили допрос с пристрастием и выяснили: Владик — зубной врач, однажды поставивший пломбу Казаковой. Стихов он никогда не писал, но ему нравится отдыхать от своей бормашины в компании веселых литераторов. Такая вот история.
Много лет назад во время вечерних прогулок вдоль знаменитого Орехово-Борисовского оврага я рассказал этот сюжет другу и соседу Геннадию Игнатову. Ему история понравилась, и всякий раз после этого, когда я начинал томиться в рассуждении, чего бы такого написать, он мне с пневматическим упорством указывал на этот полузабытый сюжет «про мастера лирической концовки», хотя мне он казался мелковатым. Душа примеривалась к «Братьям Карамазовым». Но всякий небезнадежный писатель однажды догадывается, что он не Достоевский. «А что?!» — вдруг подумал я, и через полтора года сюжет для небольшого рассказа превратился в роман-эпиграмму, по нашим ленивым временам тоже довольно большую.
Впрочем, все не так-то просто. «Козленок» был первой вещью, которую я писал на компьютере, а не на машинке. Синий экран моего 386-го агрегата, купленный в магазине с литературным названием «Фермоза», вызывал у меня мистический трепет, я осваивал программу «редактор», как молодой сапер свою опасную профессию. Нажимая непривычную комбинацию клавиш, я вжимал голову в плечи, ожидая подвоха. И дождался. Роман был на три четверти написан, когда я перешел с компьютером «на ты» и поплатился. Неловкий удар по клавиатуре — и роман канул в электронную бездну, а на синем экране выступила какая-то марсианская тарабарщина. Я срочно вызвал из соседнего подъезда Гену Игнатова — опытного программиста. Он забрал технику домой, бился неделю и развел руками: кажется, я начисто стер весь роман. И тут я испытал облегчение. Текст утратился как раз в тот момент, когда я устал от замысла, разочаровался в сделанном и уже жалел, что стал писать «Козленка». Настроение, знакомое каждому, кто пытался сочинять. Но Гене сюжет страшно нравился, и он отвез моей компьютер какому-то уникальному специалисту, тот бился месяц и вытащил текст из какой-то слепой виртуальной кишки, взяв за это бутылку виски…»
Читателям сразу полюбился веселый роман, в котором герой за несколько месяцев на спор делает из полуграмотного чальщика Витька талантливого писателя, удостоенного престижной Бейкеровской премии. Тем более что эта история безобидного шалопайства словно с помощью увеличительного стекла дает возможность увидеть нравы писательской тусовки и окололитературной среды, которые со сменой эпох совершенно не изменились. Роман пошел в народ. Одна преподавательница обратила внимание, что студенты в группе разговаривают на каком-то странном сленге, повторяя в разных комбинациях дюжину фраз:
«1. Вестимо. 2. Обоюдно. 3. Ментально. 4. Амбивалентно. 5. Трансцендентально. 6. Говно. 7. Скорее да, чем нет. 8. Скорее нет, чем да. 9. Вы меня об этом спрашиваете? 10. Отнюдь. 11. Гении — волы. 12. Не варите козленка в молоке матери его!»
— Что это такое? — спросила она.
— Золотой минимум начинающего гения! — ответили студенты.
— Какого еще гения?
— Вы не читали «Козленка в молоке»?
Преподавательница, следившая за новинками по «Новому миру», ничего о книге не слышала, а когда прочла, стала ее горячей поклонницей и пропагандисткой. И прежде всего ее покорил оригинальный, ни на кого не похожий стиль автора, насыщенный иронией и точной образностью.
…………………..
С трудом поднявшись, я побрел в ванную и долго стоял перед зеркалом, вглядываясь в свое бледное лицо и красные, воспаленные глаза. Вот влип! С таким же успехом я мог пообещать превратить Витька в генсека. Прав классик: нельзя мешать напитки… Больше всего в этот момент я был похож на лежавший тут же в мыльнице выдавленный тюбик пасты.
Первым делом надо было срочно реанимироваться…
В Доме литераторов, куда я доковылял через час, уже вовсю гудела благообразная дневная ресторанная жизнь: на спасительный огонек стягивались злоупотребившие вечор труженики пера. 0, я знаю по себе: пробуждение их было ужасно! Помимо неизбежной головной боли, тошноты, диабетической сухости во рту, их терзало чувство похмельной безысходности и вдобавок чисто профессиональный ужас собственной бездарности и бесплодности. С самого утра они мучительно осознавали, что жизнь так и пройдет всуе, в злоупотреблениях, без больших художественных открытий, а потом тяжко влачились в ЦДЛ, по пути ошарашивая транспортную общественность тяжким духом вчерашнего удовольствия. Но уже после нескольких рюмок водки, закушенных рыбной солянкой, где в золотисто-оранжевой лимфе плавает желтый полумесяц лимонной дольки и с самого дна таращатся иссиня-черные маслины, жизнь постепенно начала наполняться смыслом, думы обретать внятность, а литературные образы тесниться в голове, как гости в лифте. И вот человек, который всего полчаса назад просто не хотел жить, уверенно сидит за столиком, и на лице его играет мудрая улыбка тихого победителя жизни.
(«Козленок в молоке»)…………………..
Хотя «Козленок…» выдержан в традициях остросюжетного плутовского романа, он насыщен политической сатирой и подробно воспроизводит то, что волновало в те годы задумывавшихся над жизнью соотечественников. В этом четко видна ориентация автора на традиции знаменитой дилогии «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Ильфа и Петрова Поляков считает своими учителями, несмотря на то что в патриотических кругах принято упрекать этих сатириков в русофобии и неуважении к отечеству. Возможно, тут есть доля правды, но в умении высмеять нелепости окружающей жизни двум выдающимся соавторам не было равных. Особенно заметна связь произведений, разделенных семью десятками лет, во второй части «Козленка…», когда не названный по имени главный герой и повествователь (безымянный главный герой — редкий и очень трудный литературный прием) возвращается после нескольких лет скитаний на родину и обнаруживает, как разительно изменилась, точнее, перевернулась после 1991 года действительность.
…………………..
В горынинском кабинете за знаменитым столом-«саркофагом» сидел обходчик Гера, одетый в умопомрачительно дорогой костюм. На столе висела большая фотография: на башне танка стоит президент Ельцин, а чуть ниже, преданно поддерживая его за ноги, — сам Гера и партийный идеолог Журавленко.
— Что вам угодно? — спросил он, глядя мне в лоб.
Я представился, что не возымело никакого действия, и вкратце обрисовал свою безрадостную финансовую ситуацию, тонко намекая на его собственный жизненный опыт, позволяющий понять, как глубоко страдает человек в минуты абсолютного безденежья. Гера посмотрел на меня с недоумением энтомолога, поймавшего восьминогого таракана. Потом молча достал из стола какие-то бумаги и стал неторопливо листать.
— В списках споспешествовавших одолению тоталитаризма на баррикадах Белого дома не значитесь! — наконец молвил он. — Вспомоществования оказать не можем.
— Кто же не споспешествовал! — взмолился я. — А скандал в прямом эфире?
— Какой скандал?
— Ну как же? С него же все и началось! Вспомните: Виктор Акашин. Роман «В чашу».
— Действительно, что-то такое было… — кивнул он. — Но ежели, милостивый государь, мы станем мирволить каждому, кто скандалил в прямом эфире, нам на два дня денег не хватит! Ничем не могу помочь, — сказав это, он икнул, дотянулся до холодильника и достал покрытую инеем банку пива «Туборг».
— А где Маяковский? — растерянно спросил я.
— Какой такой Маяковский?
— Там, в холодильнике, раньше голова была… ледяная…
— Да, наличествовала… Теперь нет. На коктейли пустили…
В это время зазвонила «вертушка», у которой теперь на диске был не серпасто-снопастый герб, а двуглавый орел.
— Внимаю! — сказал Гера, сняв трубку. — Покорнейше благодарю… Сочувствую… Лучше из пушек… Конечно, поддержим! Всенепременно! Нет, треволнения те же: шляется разная бездарь — христарадничает…
Я выскочил из кабинета как ошпаренный и столкнулся с большой делегацией писателей во главе с Перелыгиным, державшим в руках страницу машинописного текста, как я потом понял, это было знаменитое письмо «Раздавить гадину!», в котором литераторы, ссылаясь на вековые гуманистические традиции российской словесности, требовали от президента во имя укрепления демократии разбомбить к чертовой матери парламент, а самых строптивых парламентариев развешать на фонарях вдоль Москвы-реки.
(«Козленок в молоке»)…………………..
Поляков назвал публикацию романа «Козленок в молоке» своим «возвращением в литературу». Что он имел в виду? То, что от первых повестей его, нынешнего, отделяла целая эпоха и он не мог и не хотел жить прошлыми заслугами. «Демгородок» и «Козленок…» — это были качественно и мировоззренчески иные вещи. С прежним творчеством их роднили все та же публицистическая страстность и органичное сочетание правды и вымысла, но это был уже другой писатель, с более обширным инструментарием, ни на кого не оглядывающийся и не испытывающий ученических комплексов. Поляков выступил как настоящий лидер гротескного реализма, им же по существу и укорененного в российской литературе того времени.
Неудивительно, что роман имел феноменальный читательский успех, несмотря на то что лишь единицы — главным образом принадлежавшие к писательскому иеху — узнали в его персонажах совершенно конкретных людей и вполне конкретные идеи и обстоятельства, которые так гротескно и убедительно изложил в романе автор. Прежде всего публика оценила сатиру на мнимые ценности, насаждавшиеся в обществе, на мнимых «гениев», разваливавших все, за что они брались. С другой стороны, автор учел интерес читателей к угадыванию и расшифровке реальных людей — писателей, скрытых за вымышленными именами. Громкий успех мемуарно-криптографического романа Катаева «Алмазный мой венец» был еще памятен Полякову, который хорошо знал и учитывал, создавая свои произведения, творчество предшественников.
В июле 1996-го газета «Мир новостей» писала: «На презентации «Козленка…», состоявшейся в Писательском клубе, где, кстати, разворачиваются события романа, товарищи по перу дали высокую оценку новому произведению, были даже лестные параллели с М. Булгаковым. Это в высшей степени удивительно, ибо роман — ехидная сатира на литературный мир и его обитателей…»
Литературовед и переводчик Юрий Архипов утверждал, что «Козленок в молоке» «не только выдерживает сравнение с «Театральным романом» Булгакова, но и явно затмевает его накатом остроумнейшего бурлеска».
«…Это событие, — писала о презентации романа «Правда», — привлекло, казалось бы, непримиримых антагонистов… Что это — способность быть приятным и нашим и вашим? Или же подлинный талант, который нельзя не признать? На презентации автор горестно заметил, что как сатирик он, видимо, обречен быть в оппозиции любому правящему режиму».
Вот как освещал это же событие «Московский комсомолец»: «…Роман вызвал широкий отклик в литературном мире. По свидетельству Юрия Полякова, никто не хотел узнавать себя в персонажах романа, но все охотно узнавали других, жали автору руку и хвалили за попадание в яблочко». Критик Александр Неверов в «Труде» писал, что автор одним из первых затронул технологию создания мифа как приметы нашего времени, когда имидж важнее сути, а впечатление окружающих — главная забота пиар-технологий в области искусства. Борис Соколов в «Новом книжном обозрении» назвал роман лучшим пока произведением писателя и высказал предположение, что «Козленок…» вполне может быть выдвинут на Букеровскую премию, первое присуждение которой Марку Харитонову писатель, в числе прочего, и пародирует. Забегая вперед скажем, что издательство «Ковчег» выдвинуло «Козленка…» и он попал даже в длинный список, но до короткого недотянул. Кто же оказался в шорт-листе в тот год, когда председателем жюри была Ирина Прохорова, покровительница авангарда и сестра олигарха? Вот этот перечень: Андрей Сергеев «Альбом для марок»; Петр Алешковский «Владимир Чигринцев»; Виктор Астафьев «Так хочется жить»; Андрей Дмитриев «Поворот реки»; Дмитрий Добродеев «Возвращение в Союз»; Нина Горланова и Вячеслав Букур «Роман воспитания».
Эти имена и сочинения мало что говорят современному читателю, в том числе и имя лауреата, Андрея Сергеева. Исключение, конечно, составляет Виктор Астафьев, которого обошли и «Букером», не говоря уже о Нобелевке.
«Нам открывается иной Поляков, с живым умом, мягким стилем изложения и острым отточенным слогом. С ходу видно, что работа над техникой письма стоит у него отнюдь не на последнем месте, — писал в «Московском вестнике» критик Илья Харламов. — Результат этого очевиден… В своем творении автор комбинирует лучшие стороны булгаковской традиции «Театрального романа» с сегодняшними реалиями постсоветской жизни… Ю. Поляков строит свой роман на гиперболе, но она не надрывна, не перетянута. Гипербола Полякова «не зашкаливает». Она лишь заостряет внимание. И еще книга наполнена юмором. Настоящим, тонким, не натужным. Книгу эту интересно читать…»
Александр Люсый в журнале «Литературная учеба» обращал внимание на эстетическую полемику в романе с постмодернизмом, удивляясь, почему до Полякова никто (видимо, кроме Булгакова) не написал о литературном мире, бытовавшем в формально неделимом Союзе писателей СССР.
Тот же Борис Соколов в большой статье, опубликованной в журнале «Дружба народов», отмечал: «Роман-эпиграмма… пародирует не только литературные нравы советского и постсоветского периода, но и новейшие литературные течения, включая постмодернистов и Сорокина. В данном случае высмеивается не только процесс создания литературных репутаций, но и эстетика постмодернизма — в поляковском ее понимании: для постмодернистов важен не текст, а контекст, восприятие и интерпретация текста».
В. Широков в «Независимой газете» назвал роман «энциклопедией литературного небытия», указывая тем самым на окончательный перестроечный развал в литературном мире.
Если составить краткий список произведений, опубликованных в 1994–1997 годах в литературном законодателе мод журнале «Новый мир», название псевдоромана «В чашу» (составившего интригу «Козленка в молоке») окажется достойным этого списка: «Введение в Авалианины камни», «Сквозь разломы оконченной жизни», «Я надуваю пузырь тишины и уклада», «Не узнавая языка», «Чудится, светит, мерцает», «Онлирия», «Аллилуйя», «Ив две и в четыре стопы», «Чаши маленьким богам», «В час разомкнутых объятий», «Мятные пряники времени в розовом клюве», «Осязание», «Из пламени рука», «Стоит, белеясь, Ветилуя…», «Воздушными глазами», «Колокола и облака», «Духи и буквы», «Музыка ребер», «Пробоина в воздухе», «Изморозь, оторопь…», «Окладбиществление», «Лизиум теней»…
Готовя переиздание, автор напишет эссе-предисловие (что стало позднее его фирменным стилем) «Как я варил «Козленка в молоке»:
«…Когда моя книга «Козленок в молоке» увидела свет, я получил множество писем, в которых было немало разных вопросов. Но, по сути, всех читателей интересовало примерно одно и то же. А именно:
Как я решился сочинить «литературный роман»?
Что я имел в виду, давая роману такое странное название — «Козленок в молоке»?
Каких реальных литераторов я «спрятал» под фамилиями персонажей романа?
И правда ли, что я был избит в Доме литераторов группой взбешенных персонажей романа?
Поскольку на письма всех читателей я, к сожалению, ответить не в состоянии, мне и пришла в голову идея написать это предисловие к очередному переизданию романа, который, к моему немалому удивлению, стал бестселлером, хотя в нем никого не убивают, а эротические сцены хоть и имеются, но всего-навсего в количестве, необходимом для раскрытия внутреннего мира героев…
Нет, никакому насилию со стороны прототипов я не подвергался ни в стенах писательского клуба, ни в каком-либо ином месте. В противном случае, дорогие читатели, вы бы не держали сейчас перед собой это предисловие. И объясняется это отнюдь не смягчением литературных нравов (они жестоки как никогда), а тем, что в творчестве я исповедую принцип «придуманной правды». Все мои герои вполне могли существовать, они даже порой напоминают существующих деятелей отечественной словесности, более того, история, с ними приключившаяся, вполне могла произойти, но на самом деле таких людей никогда не было и подобные события никогда не имели места…
Всеми силами я старался удержать будущих читателей романа от ложных идентификаций. Например, менестрель-шестидесятник Перелыгин, исполняющий свои стихи под виолончель, в первоначальном варианте носил фамилию Пыльношлемов, но поскольку это сразу ассоциировалось у вдумчивого читателя со знаменитыми строчками Б. Окуджавы про «комиссаров в пыльных шлемах», я избежал недоразумения, отдав эту фамилию эпизодическому персонажу. И проблема ошибочного узнавания была исчерпана, ведь каждый знает, что сам Окуджава исполнял свои стихи под гитару, а не под виолончель, каковая хоть и стала мощным орудием демократии, но в руках совершенно иного мастера культуры.
Попадается в письмах и такой вопрос: имеют ли встречающиеся на страницах романа поэты-контекстуалисты отношение к реальным поэтам-концептуалистам? Но ведь достаточно сравнить приведенные мной в тексте образчики контекстуальной поэзии с образцами широко публикуемой ныне концептуальной поэзии, чтобы самим без труда на этот вопрос и ответить. <…>
Но, по большому счету, писатель — всего лишь карандаш, которым эпоха выводит необходимые ей слова. Ты можешь ощущать себя охренительным демиургом, замыкаться в замок из слоновой и даже мамонтовой кости, но именно эпоха «затачивает» тебя, условно говоря, с красного или синего конца и, помусолив, утыкает в чистый лист бумаги. Твоя задача — не сломаться под ее нажимом…
Существует два основополагающих принципа взаимоотношений между… автором и читателем. Первый принцип: «Читатель всегда прав». Доведенный до крайности, он оборачивается так называемым бульварным чтивом: «Тихо застонав, она ослабла в его крепких загорелых руках и через мгновение почувствовала внутри себя что-то большое и твердое…» Второй принцип: «Писатель всегда прав». Доведенный до крайности, он оборачивается этой самой папкой с чистой бумагой. Ибо писатель, которого невозможно прочесть, в сущности, мало чем отличается от писателя, которого нельзя прочесть вследствие «ненаписанности» текста. Мы живем в эпоху литературных репутаций, нахально пытающихся заместить собой собственно литературу.
Впрочем, эта постмодернистская реальность легко распространяется и на другие сферы нашей жизни. Мы слушаем певцов, лишенных голоса и даже слуха. Нашу жизнь определяют политики, за всю свою деятельность не принявшие ни одного верного решения. А консультируют их ученые, не замеченные ни в одном сколько-нибудь серьезном исследовании. Мы с вами страдаем от реформ, даже не понимая, в чем они заключаются, а не понимаем мы этого в основном благодаря подробным телевизионным политкомментариям. Современное телевидение, как справедливо сказано, — это изобретение, позволяющее заходить к нам в спальню тем людям, которых мы не пустили б даже на порог своего дома. А как вам нравятся «властители дум», утонченная творческая интеллигенция, старательно выполняющая функции козла-провокатора, ведущего покорное стадо на заклание?..
Мы переступили в нашей жизни какую-то крайне опасную границу. Собственно, отсюда и название романа. Запрещение варить козленка в молоке матери его — табу из древнего Моисеева кодекса. Существует множество исторических и этнографических объяснений этой заповеди, но всякая старая мудрость имеет особенность трактоваться расширительно. А что, разве, вступив в борьбу с природой, мы не варим козленка в молоке матери его? А что, разве швырнуть русский народ сначала в палочный социализм, а потом, когда он смягчил и приспособил этот уклад под себя, погнать его той же палкой в дикий капитализм, — не значит сварить козленка в молоке матери его? А деятель культуры, который, вместо того чтобы «милость к падшим призывать», призывает «раздавить гадину», имея в виду обездоленную «реформами» часть населения, — разве он не варит козленка в молоке матери его?
Многие авторы писем замечают, что читать роман очень весело, но по окончании чтения становится очень грустно. Увы, это стойкая традиция российской сатиры, восходящая скорее не к «пародийному модусу повествования», а к невеселой отечественной реальности, в чем все мы каждый по-своему виноваты. Потому-то я и не стал совсем уж скрываться за столь модной сейчас «авторской маской», а вывел самого себя на страницах романа в качестве эпизодического лица и без особого, как вы заметите, снисхождения. Что же касается главного организатора всей этой литературной аферы, от имени которого и ведется повествование, то мало-мальски внимательный читатель увидит, что нигде на всем пространстве романа он ни разу не назван ни по имени, ни по фамилии, полностью отсутствуют и описания его внешности. Полагаю, смысл этого незамысловатого авторского ухищрения понятен. Мы живем в эпоху, когда антигероем может стать каждый».
В 1996 году «Козленка…» перепечатала «Роман-газета», возглавляемая Валерием Ганичевым, и роман разошелся по всем библиотекам страны.
В 2001 году состоялся первый перевод «Козленка…» — на сербский язык, выполненный Радмилой Мечанин для издательства «Цептер». Презентация состоялась в Белграде, где еще были свежи и чуть ли не дымились развалины, оставленные американскими бомбардировками. На презентации выступали видные сербские писатели и высказывали удивление, мол, насколько точно русский автор передал ситуацию, царившую в сербской литературе последних двух десятилетий. Любопытно, что схожие оценки давались и на последующих презентациях перевода романа — в Будапеште, Братиславе, Шанхае, Баку…
С «Козленком…» была связана странная история, которая не хуже, чем сам роман, характеризует нравы эпохи. В начале нулевых продюсер Кирилл Мозгалевский приобрел у Юрия Полякова авторские права и пригласил на картину режиссера Валерия Харченко, который взял на главную роль Анатолия Лобоцкого, прославившегося ролью француза-журналиста в ленте Меньшова «Зависть богов». Начались съемки. Но вскоре у продюсера и постановщика возник конфликт из-за перерасхода денег съемочной группой, и Мозгалевский от услуг Харченко отказался, тот обратился в суд, предъявив ксерокопию договора, по которому Поляков якобы передал ему все права на экранизацию «Козленка…». Оригинал контракта будто бы был похищен при ограблении автомобиля, что подтверждалось милицейским протоколом. А по копии провести экспертизу подписи — невозможно. Начались судебные заседания.
«Это все напоминало плохую комедию. Я убеждал судью, смотревшую на меня с пытливой неприязнью, что никакого контракта никогда не подписывал да еще на двадцать лет. Никаких денег тоже от истца не получал. Тогда вскакивал Харченко и рыдающим голосом кричал: «Юрий Михайлович, побойтесь Бога! В аду гореть будете!» Даже секретарь суда, блеклая, как пещерное растение, девушка взирала на меня с ужасом. Приведенная нашим супостатом массовка по команде начинала укоризненный вой и обличительный плач. Судья требовала от нас доказательных документов, а нашему оппоненту во всем верила на слово. Дело шло к катастрофе… И тут выяснилось, что истцу каким-то дивным образом удалось заручиться поддержкой очень влиятельного депутата, в прошлом правой руки Ельцина, и тот надавил на суд. Я уже был главным редактором «ЛГ» и смог добиться встречи. Когда я рассказал ему, что на самом деле стоит за всей этой историей, он аж поперхнулся (мы пили чай с сушками):
— Мне, конечно, постоянно привирают. Но вот так, вчистую, еще никто не дурил!
Оказалось, Харченко убедил этого влиятельного человека, будто я присвоил себе написанный им роман.
Депутат снял трубку спецсвязи и сказал:
— Это я, Паша… Узнал? Тут вот какое дело…
На следующем заседании судья смотрела на меня с таким лучезарным восторгом, словно именно со мной пережила свое самое яркое и многократное женское счастье. В течение десяти минут все было закончено — и авторские права на мой роман признали за мной…»
А Кирилл Мозгалевский и Владимир Нахабцев сняли восьмисерийный фильм «Козленок в молоке», где заняты замечательные актеры — Спартак Мишулин, Алена Яковлева, Юрий Васильев, Александр Семчев и многие другие.
* * *
После успеха «Козленка…» Поляков, придя в себя после пережитого неверного онкологического диагноза (о чем будет рассказано, когда пойдет речь о романе «Гипсовый трубач», главному герою которого Кокотову Поляков «подарил» этот эпизод своей биографии), задумывает новый большой роман. В интервью газете «Щит и меч» в июле 1998 года он поделился творческими планами с писателем-фронтовиком, в недавнем прошлом главным редактором «Литературной России», где Юрий печатал стихи и статьи, Юрием Тарасовичем Грибовым. В ответ на вопрос Грибова, каковы его творческие планы, Поляков ответил: «Пишу роман. Это большая вещь о моем поколении, события охватывают почти тридцатилетний период. Хочу разобраться в том, что случилось со страной и с нами самими. Предвижу, что роман многих разозлит, ибо либеральную версию последнего десятилетия нашей истории я не приемлю. Либеральные новомученики, вроде оскандалившегося Собчака, мне смешны. Это скорее опереточные персонажи — поэтому, наверное, в романе столько сатирических страниц. Но и чисто «почвеннический» взгляд на случившееся меня полностью не устраивает. Истина, как всегда, где-то посредине. И открывают эту истину с помощью творческого чутья, как правило, художники. Потом ученые, поразмыслив и повозражав, подтверждают их правоту. И наконец, репортеры приписывают честь этого открытия себе…»
В 1996-м газета «Труд», где на протяжении нескольких лет публиковался Поляков, отказалась взять его статью «Словоблуждание», объяснив свой отказ тем, что в ней он «порочит журналистское сообщество». «Эта статья может появиться только в газете «Завтра»!» — твердо заявил ему главный редактор Александр Потапов. Поляков поспорил, что опубликует свой текст в официозной «Российской газете», и выиграл пари: статья, посвященная негативной роли «четвертой власти» в формировании общественного сознания, вышла в «РГ» в начале февраля политически насыщенного в преддверии президентских выборов года.
«…Помните знаменитые утренние очереди к газетным киоскам во второй половине восьмидесятых? Да, журналисты стали властителями дум, но не потому, что умели думать и понимать происходящее лучше остальных, а потому, что наступила эпоха легализации кухонных споров. А «письменные» люди как раз и оказались обладателями средств, необходимых для этой самой легализации, — газетными полосами и микрофонами. Свою приватизацию они начали еще тогда, когда Чубайс только торговал цветами в Ленинграде. <…>
Вы никогда не задумывались, почему первыми звездами перестроечной прессы стали в основном журналисты-международники? Конечно, они знали многие приемы западных СМИ, непривычные и заманчивые для неискушенного советского потребителя информации. Но есть и другая причина: они в силу своей специальной идеологической подготовки лучше других владели черно-белым методом подачи материала, незаменимым в любой политической борьбе. Только объектом этого метода стала теперь не западная «империя зла», а собственная страна, для которой даже не потрудились придумать какие-то новые определения, механически перенеся на нее все «прибамбасы» советской международной журналистики. Характерно, что, отбомбившись по собственной стране, ставшей вдруг «империей зла», отстрелявшись по обитавшим в ней «совкам», многие из буревестников «нового мышления» мирно отлетели с родного пепелища собкорами в более благополучные страны. Оно понятно: копаться в соблазнительно-грязном белье принцессы Ди куда приятнее, чем копошиться на обломках державы, разваленной не без твоей помощи. <…>
Но, может быть, я злостно преувеличиваю роль журналистов в разгроме страны? Сходите в библиотеку и полистайте газеты за декабрь 91-го, когда бабахнуло Беловежское соглашение: восторг, переходящий в исступление. Почти никто из газетных аналитиков не заметил, что Россия в одночасье лишилась своих исконных территорий, а русские превратились в разделенную нацию. Зато «письменный» люд очень забавлялся тем фактом, что столицей СНГ стал Минск, а не Москва. <…>
Именно либеральные журналисты начали… <…> выбраковку тех, кто за реформами старался видеть и людей. <…> Делалось это так. Один, не совладавший с собой на трибуне, тут же превращался в «плачущего большевика». Второй, заикнувшийся, что Крым хоть и далеко, но нашенский, сразу становился «ястребом». А третий, имеющий мозги и внешность ярмарочного попугая, не совладавший ни с одним из порученных дел и собиравшийся подарить Курилы японцам, как пасхальное яйцо, был и остается ну просто светом в телевизионном окошке. Такого не то что снять с должности — отругать-то по-настоящему нельзя: пресса сразу же заревет, как ребенок, у коего отбирают любимую игрушку! <…>
Прессу же бить нельзя — она как бы ребенок, у которого помимо любимых игрушек есть еще рогатка, — и дитятко, осерчав, может запросто вышибить глаз любому взрослому политику. А еще может наябедничать строгим заокеанским дядькам про нарушение в России прав обычно какого-нибудь конкретного и — желательно — со здоровым диссидентским прошлым человека, ибо нарушение прав большого количества людей, даже всего народа, на языке политических лидеров называется не иначе как революционным реформированием общества. <…>
Общественное сознание стало жертвой если не словоблудия, то по крайней мере словоблуждания СМИ, а за ними следом по кривым постсоветским дорожкам побрел и наш газетопослушный соотечественник. Чтобы не тратить время на многочисленные примеры, я вновь отсылаю вас к газетным подшивкам. Прочитайте подряд статьи какого-нибудь вашего журнально-эфирного любимца, написанные в течение буквально одного года, и вы убедитесь: его взгляды и оценки недолговечнее дешевых женских колготок. Неизменны лишь визгливо-самоуверенный тон и нетерпимость к думающим иначе. <…>
Неужели так трудно понять, что проголосовавшие за коммунистов совсем не хотят вернуться в унизительное прошлое? Они просто-напросто не желают жить в омерзительном настоящем! И если популярный ведущий дебильной телеигры при социализме ездил на трамвае, а теперь пересел в джип и построил себе виллу, это совсем не означает, будто реформы в России удались. Даже в блокадном Ленинграде были люди, евшие на завтрак черную икру. <…>
Наша пресса оказалась не подготовленной к роли политической силы, а уж тем более — «четвертой власти». Возьмите хотя бы ее постыдно-науськивающую роль в сентябре — октябре 93-го, причем независимо от того, чью сторону она принимала. <…>
Честно говоря, когда все начиналось, я по наивности думал, что пресса станет по отношению к руководству страны своего рода «свежей головой», замечающей ошибки и подсказывающей более верные решения. Но пресса решила сама пойти во власть, а во власти как во власти: первая может не только второй, но и четвертой так по сопатке дать, что только «шапки» с газетных полос посыпятся! Никакие заокеанские дядьки тогда не помогут. <…>
От иных именующих себя «демократическими» или «патриотическими» изданий просто разит агитпропом. Кстати, не сомневаюсь: если завтра мы по прихоти Истории или по причине профнепригодности наших реформаторов снова проснемся при тоталитарном режиме, то на телеэкранах увидим все тех же людей, подводящих итоги или комментирующих подробности. Если профессия человека — полуправда, то ему, в сущности, не важно, какую половину утаивать, хотя, конечно, предпочтительнее ту, что подороже…»
И теперь, через 20 лет, статья звучит весьма актуально, а некоторые оценки и характеристики буквально совпадают с тем, что происходит в информационном пространстве России. Неудивительно, что после появления статьи и ее бурного обсуждения в руководстве Союза журналистов умножилось число недоброжелателей Полякова среди «прогрессивных» журналистов, чтивших его за первые разоблачительные повести.
Тем временем тема тлетворного влияния СМИ на общество становится для Полякова одной из ведущих. В мае в статье «Зачем человеку одна голова, а орлу две?», опубликованной в газете «Мир новостей», Поляков, в частности, писал:
«Первая мысль, которая приходит в голову, когда смотришь сегодня телевизор или читаешь большинство газет, такова: меня считают за полного идиота, страдающего к тому же и склерозом. С раннего утра до глубокой ночи меня с чисто агитпроповской навязчивостью пугают возвратом коммунистов, а следовательно, и всего социалистического кошмара. Пугают, а мне не страшно. Я, как и большинство нынешних россиян, жил при социализме и, хотя не достиг в ту пору таких высот, как, скажем, нынешний наш президент и его ближайшие сподвижники, сохранил от той эпохи не самые худшие воспоминания. Нет, я прекрасно ориентируюсь во всех пороках того строя. <…> Но я не понимаю, зачем же человека, пожившего в бедноватой, с достаточно строгим режимом профсоюзной здравнице, убеждать, будто он был в Бухенвальде? Кто-нибудь, отдыхающий ныне во Флориде, гневно возразит против слова «здравница». Я его понимаю, но худо-бедно в те времена население страны увеличивалось, а теперь стремительно уменьшается, число же самоубийц в СНГ в 5 (пять!) раз превосходит общемировую норму, если слово «норма» вообще применимо к трагедии человека, лишающего себя жизни. Так что все-таки плохонькая, но здравница. <…> О любом народе надо судить по его вершинам, а не провалам, в противном случае вся мировая история и все народы без исключения будут напоминать заспиртованных монстров из Кунсткамеры. А из темных вод своей истории нужно черпать не ненависть, а этническую мудрость — и делать практические выводы. <…> По числу беспризорных и неграмотных подростков мы скоро выйдем на показатели периода Гражданской войны. Сифилис лютует, как в Средние века. Что же касается свободы слова, главного, так сказать, завоевания, то ее, конечно, больше, чем при Брежневе, а тем более при Сталине. Но даже такая весталка демократии, как Белла Куркова, вынуждена была сознаться: в конце 80-х свободы слова на ТВ было больше. А в конце 80-х (сообщаю исключительно для тех, кто появился на свет в начале 90-х) у власти была КПСС, еще окончательно не разделившаяся на партократов и демократов. Ну в самом деле, чем предвыборные встречи Б. Ельцина, показываемые по телевизору, отличаются от читательских конференций по бессмертной книге Л. Брежнева «Малая Земля»? Одним: на встречах с нынешним президентом охраны больше. А чем телевизионные разоблачения козней оппозиции сегодня отличаются от разоблачений козней мирового империализма в застойные годы? Одним: в передачах того же Н. Сванидзе ненависти к внутреннему супостату, к «красно-коричневым» (попросту говоря, голодным), гораздо больше, чем у достопамятного В. Зорина к врагу внешнему… И вообще нынешняя предвыборная кампания напоминает групповое идеологическое изнасилование народа! <…> Я, конечно, в экономике дилетант, но меня давно волнует один вопрос. Вот был СССР, который расходовал огромные средства на Варшавский договор, на СЭВ, на поддержку дружественных режимов по всему миру, на содержание гигантских армий и ВПК, немало денег уходило и на пропаганду тогдашней идеологии, но худо-бедно оставалось на культуру, науку, здравоохранение, образование, библиотеки, пионерские лагеря… Теперь этих расходов нет, более того, Россия стала гораздо меньше давать осуверенившимся республикам, а газа и нефти добывает даже больше, чем прежде… А денег нет не только на перечисленные выше «гуманитарные» нужды, но даже на армию, на зарплаты. Куда же все делось? Мне, непрофессионалу, представляется, что эти немыслимые средства пошли на очень дорогостоящее дело — срочное создание класса собственников. Кстати, примеры таких авральных созиданий у нас в отечестве имеются: строительство Северной столицы Петром Великим, сталинская индустриализация и т. д. Тогда народ тоже заставляли затягивать пояс, а то и петлю на его шее затягивали. Но Петербург-Ленинград — вот он! Заводы-гиганты спасли нас во время Великой Отечественной… А что мы имеем от класса, созданного ценой общенациональных лишений и страшных территориальных утрат? Имеем горы западного, не очень качественного ширпотреба и еды, ввезенных в страну при умирающих собственной промышленности и сельском хозяйстве, а еще имеем 400 миллиардов долларов, вывезенных из страны. Имеем 25 миллионов русских, проживающих зачастую на исконных российских землях, но оказавшихся при этом за границей. Имеем дикую, обнаглевшую преступность. Имеем запредельную коррупцию среди чиновничества, включая самый высший эшелон. Имеем островки сверхбогатых и океан бедствующих. Поэтому социализмом сегодня можно напугать только тех, кому телевизор заменяет или желудок, или голову. Но если первые встречаются крайне редко, то вторых, увы, немало! На них, собственно, и рассчитана предвыборная кампания нынешнего президента».
А после прошедших президентских выборов — и операции по аортокоронарному шунтированию, которую сделали Ельцину, — в статье «Десовестизация», опубликованной в газете «Труд», Поляков писал:
«Приснопамятный процесс десоветизации в нашем Отечестве проходил громко — под рев тысячеглоточных митингов, требовавших больше социализма, под залпы показательных парламентских стрельб, под плач беженцев, потерявших кров в кровавой суматохе суверенитетов, под обиженный клекот слетавшихся в страну диссидентов. Зарубежная общественность наблюдала за происходящим в России с чисто спортивным интересом, делала ставки и выигрывала. Оно и понятно — десоветизация на первый взгляд шла успешно: вместо серпа с молотом — двуглавый имперский орел, вместо советской империи — геополитический оглодок с гордым именем Свободная Россия, вместо мелких расхитителей социалистической собственности — крупные банкиры и предприниматели, вместо советов народных депутатов — мэрии и префектуры. <…> Я недавно перелистал прессу первых лет перестройки. Так и есть: среди самых употребимых слов — «совесть» и «справедливость». А потом сравнил с текущей периодикой: эти два слова в ней почти не встречаются, а если и попадаются, то исключительно в каком-то постмодернистско-ироническом смысле. Эта заурядная лексическая подробность на самом деле — свидетельство огромных и страшных по своим последствиям сдвигов в общественном сознании. Вспомните, как нетерпимы мы были к любым проявлениям несправедливости! В багажнике у партийного босса обнаружили связку копченой колбасы… Позор! У маршала Ахромеева на даче два холодильника… Срам! Опять полуговорящего Брежнева на трибуну вынесли… Они что там, наверху, нас за идиотов считают? <…>
Помнится, в школе нас заставляли наизусть учить признаки гипотетической революционной ситуации. Но судьба удружила наблюдать революционную ситуацию воочию. И теперь, на основании личных впечатлений, я хотел бы добавить еще один пункт к хрестоматийным признакам. А именно: резкое обострение у граждан чувства социальной справедливости в формах, неадекватных конкретной политико-экономической ситуации. Грубо говоря, это такая общественная ситуация, когда слезинка ребенка может непоправимо переполнить чашу народного терпения. И пусть потом историки выясняют, что это, оказывается, были слезы радости по поводу покупки внепланового мороженого.
Шучу? Только наполовину. Вспомните сарказмы и анекдоты в связи с жилищной программой, обещавшей каждой семье отдельную квартиру до 2000 года. Только идиоту было неясно, что полностью ее выполнить невозможно. Но, с другой стороны, только идиот мог не заметить, что в ходе попытки выполнить эту неосуществимую программу миллионы семей улучшили свои жилищные условия. Не заметили… Вспомните взвинтивший общество страшный рассказ академика Сахарова о том, как наши солдаты в Афганистане расстреляли своих раненых товарищей, чтобы те не попали в плен к душманам! И не важно, что вся эта история впоследствии оказалась вымыслом. Любой ценой народная совесть должна быть воспалена — иначе серьезные социальные взрывы невозможны… Хотели разбудить совесть. А разбудили лихо! Теперь власть и на самом деле попросту бросила своих солдат сначала в огне, а потом в чеченском плену. Кого это волнует, кроме обезумевших от горя матерей? <…>
…Десовестизация… приняла размах государственной программы. Осуществлялась она разными путями. Например, почти исчезла из средств массовой информации нравственная оценка представителей нарождающегося класса и способов их обогащения. Рыцари пера и микрофона сделали все возможное и невозможное, чтобы убедить общество, будто одновременный рост числа богатых и нищих — два абсолютно не зависящих друг от друга процесса. На мой взгляд, журналистика стала повивальной бабкой ублюдочного российского капитализма.
Хороший пример бессовестности подали и политики. Они меняли свои убеждения с такой же частотой, с какой топ-модели меняют на подиуме наряды. Они никогда не сознавались в совершенных ошибках, даже в тех случаях, когда в результате этих ошибок приходилось заново перерисовывать политическую карту мира, и явно не в пользу России. <…>
Посильный вклад в десовестизацию общества внесла и интеллигенция, особенно ее гуманитарный подвид. Оговорюсь сразу, я имею в виду ту часть интеллигенции, которая в эти годы вела себя не как национальная элита, радетельница Отечества, а как особое сословие, даже каста, озабоченная исключительно своими узкими корпоративными интересами. И тут гораздо уместнее слово «интеллигентство» — по аналогии с мещанством или купечеством. Трагикомизм ситуации заключается еще и в том, что именно представителей интеллигентства время от времени объявляют «совестью народа», о чем извещают этот самый народ через средства массовой информации.
Именно интеллигентство прилепило к пострадавшей, основной части общества ярлык «красно-коричневые» и старательно при всяком удобном случае натравливало власть на народ. А ведь помимо чисто политического маневра тут крылся глубокий нравственный, точнее — безнравственный смысл: если это действительно отребье (или ублюдки, как любил выражаться бывший министр иностранных дел интеллигентнейший Андрей Козырев), то и нечего мучиться совестью по поводу их обнищания и вымирания. <…>
Между прочим, причины разгула преступности скрыты не только в экономике, но и в той деформации общественного сознания, которое я называю десовестизацией. Ну на самом деле, в чем сегодня смысл предпринимательства? За большие деньги купить деньги очень большие, то есть дать взятку чиновнику и получить доступ к госбюджету. В чем сегодня смысл политики? Опустить соседнюю ветвь власти как можно ниже, а если не получается, выстрелить первым, лучше всего из танковых орудий. Скажите, может уголовный авторитет в такой обстановке чувствовать хоть какой-то нравственный дискомфорт? Может в нем, как писал Некрасов, «совесть Господь пробудить»? Нет, он чувствует себя полноправным членом такого общества. Вспомните, какими частыми гостями телеэфира стали уголовные авторитеты в начале 90-х! О сращении криминалитета, чиновничества и политиков сегодня говорят так, словно речь идет о нормальном социальном партнерстве, о чем-то наподобие нерушимого союза рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. А это уже пропасть. <…>
А пока народ безмолвствует и усмехается, глядя в телевизор. Смех, конечно, дело хорошее… Хотя смеясь можно расстаться не только с прошлым, но и с будущим!»
Единомышленники вооружались поляковскими остротами, а фраза, переиначенная из Гоголя: «Академик Сахаров был, конечно, великим ядерщиком и гуманистом, но зачем же державу ломать?» — однажды даже прозвучала с высокой трибуны из уст известного всей стране политика.
В статье «Гомо постсоветикус — человек недоумевающий» Поляков писал:
«Нынче много рассуждают об отсутствии политической воли, деликатно намекая на нездоровье президента. Но дело совсем не в этом: умирающий Александр Третий вел державу до последнего вздоха. Дело в полной утрате властью нравственного авторитета. Даже если бы Борис Николаевич крестился двухпудовиком и работал с документами двадцать четыре часа в сутки — ничего бы не изменилось. Возможно, даже наоборот: цветущий начальник нравственно-истлевшей власти раздражал бы людей гораздо больше! <…> Человек недоумевающий — замечательный материал для социально-нравственной инженерии. Его легко можно убедить в том, что проституция — отличный приработок для бедствующей учительницы, а киллерство не самое плохое занятие для доброго молодца. Ему можно доказать как дважды два, что двойное гражданство совершенно не мешает занимать ответственный государственный пост и что свои богатства политики обретают исключительно благодаря чтению лекций за рубежом. Его можно заболтать, и он поверит, будто выплата пенсий за счет очередного западного кредита — это вершина государственной мудрости, а пересаживание чиновников с иномарок на «спецволги» — это борьба со злоупотреблениями. Наконец, он уже искренне уверовал в то, что НАТО — это просто команда веселых бойскаутов, задумавших совершить невинный турпоход по территориям, еще недавно входившим в СССР». И не поверишь, что эти строчки написаны в середине 1990-х, когда атлантический блок только планировал натиск на границы России.
Осенью 1997-го Поляков по предложению главного редактора еженедельника «Собеседник» Юрия Пилипенко начал вести еженедельную колонку «Наблюдатель». С Пилипенко, комсомольским выдвиженцем с Западной Украины, они познакомились в 1984-м, когда тот еще был работником отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ: ему поручили провести беседу с писателем по поводу повести «Сто дней до приказа».
«Я вошел в кабинет, где меня принял высокий красивый кучерявый хохол в обязательном сером аппаратном костюме. Общаясь, он был вял до невозмутимости. Казалось, человек угасает прямо на глазах. Повесть ему явно понравилась, и он дал мне понять: будь его воля — напечатал бы сразу, но воля не его. Сделавшись главным редактором и оставшись невозмутимым, он вел довольно смелую политику, стараясь дать слово разным направлениям. В самом деле, появление моей патриотической колонки на страницах либерального издания многих озадачило. Особенно возмущался тогдашний сотрудник «Собеседника», будущий прозаик и «гражданин поэт» Дмитрий Быков. Он кричал на планерках:
— Доколе мы будем печатать эту черносотенную хрень?
— Дима, — тихим голосом человека, начинающего день с горсти феназепама, отвечал Юрий Владимирович, — вот когда рейтинг твоих колонок будет девять и десять, как у Полякова, а не пять и шесть, как сейчас у тебя, мы рассмотрим это предложение…
Однажды на редакционном застолье я оказался рядом с Быковым и, выпив, молвил:
— Дмитрий, вполне возможно, ваши колонки лучше моих, но мой рейтинг будет всегда выше вашего.
— Почему?
— Потому что в России людей, которые думают и чувствуют, как я, намного больше тех, что думают и чувствуют, как вы…»
Быков (по отцу Зильбертруд) почему-то решил, что, говоря о большинстве, Поляков имел в виду титульную нацию, заподозрил его в великодержавном шовинизме и, конечно, очень разозлился. Между тем Поляков имел в виду именно то, что сказал: соотечественников, которые думают, как он, в стране на порядок, а может, и на несколько порядков больше, чем тех, кто поддерживает воззрения либеральной интеллигенции.
«Писатель в газете — явление традиционное для русской литературы. Вспомним Достоевского, Меньшикова, Булгакова… Эта работа учит главному — соединять сиюминутную отзывчивость с верностью себе, своим духовным принципам. А это непросто… Многие нынешние литераторы выступают в периодике со статьями, но почти никто не решается спустя некоторое время собрать эти статьи в книгу. Увы, в наше время пером или компьютерным курсором зачастую движет не жажда истины и справедливости, как завещали классики, а желание заработать или высказать корыстную преданность тенденции… Мне скрывать нечего, я всегда писал то, что думал и чувствовал. Если я ошибался в своих оценках и прогнозах — то совершенно искренне. А искренность в наше подловатое время писатель может позволить себе только за свой счет…»
Вот отрывки из некоторых поляковских колонок, написанных в середине или конце 1990-х, в эпоху тотального преобладания в СМИ либерального взгляда на жизнь страны и политические процессы (впрочем, преобладание, как все мы знаем, никуда не делось, только, возможно, стало чуть менее тотальным).
…………………..
Писарчуки
Население России убывает со скоростью миллион человек в год. Производство упало почти как в ноябре 41-го, когда немец стоял у Москвы. В некоторых регионах до четверти детей школьного возраста не умеют читать. В стране разгул инфекционных и особенно венерических заболеваний, будто в годы Гражданской войны. Улицы городов напоминают тиры, только вместо жестяных зайцев — банкиры и предприниматели, иногда, правда, по ошибке могут замочить и прохожего слесаря. Зарплата стала чем-то вроде выигрыша в новогоднюю лотерею. Число самоубийцу нас в пять раз выше, чем в Европе. До трети призывников имеют дефицит веса — и чтобы они не падали под выкладкой, их для начала просто откармливают. Что это? Если не национальная катастрофа, то в таком случае последний день Помпеи — всего лишь пикник с шумовыми эффектами. <…>
Что же делают крупнейшие правительственные чиновники? Сочиняют книги. Представьте себе наркома, который приезжает на развалины Сталинградского тракторного завода с заданием его восстановить, оглядывает дымящиеся груды, выбирает местечко поудобнее, садится, кладет на колени планшет, слюнявит карандашик и начинает писать книгу. Бред? Бред… Но на самом деле ситуация еще бредовее. Ведь Чубайс и его соавторы писали свою книгу о приватизации на развалинах, ими же и нагроможденных. Или слово «ваучер» не вошло полноправным членом в дружную семью русской ненормативной лексики? Или не наши соавторы и примкнувший к ним немец Кох явили миру уникальную форму приватизации государственных предприятий за казенные же деньги?! Или не они на смену номенклатурному чиновнику привели номенклатурного миллиардера, назначаемого по тем же дружеским, семейным или клановым соображениям?! Вы хоть что-нибудь понимаете?
Собчачизация
На этого человека с лицом дипломированного сутяжника я обратил внимание еще в первые, медовые месяцы отечественной демократии. По любому поводу он рвался к микрофону и по любому вопросу имел собственное, вполне правдоподобное мнение. Есть миф, что его «хождение во власть» началось с кухонного спора на бутылку коньяка. Едва ли! Исторические катаклизмы без людей типа Собчака так же невозможны, как Вальпургиева ночь без летучих мышей. Собчак пришел в политику, опираясь на ненависть народа к неуклюже скрываемым привилегиям: к домам из бежевого кирпича, где общая площадь в два раза больше жилой, к черным «Волгам» с занавесочками, к закрытым распределителям сырокопченой колбасы… Именно Собчак стал теоретиком и практиком нового подхода к старой проблеме: если народ не любит скрытых привилегий, значит, человек, облеченный властью, должен быть открыто богат и благоустроен, причем независимо от результатов его руководящей деятельности и даже вопреки им. И началась собчачизация власти… Кто приезжал в собчаковский Питера видел, как ветшает Северная столица, как нищают люди, как эрмитажные атланты не валятся на головы экскурсантам только благодаря многовековой выдержке. Новый же мэр мгновенно из тощего микрофонного правдоискателя преобразился в дородного поедателя устриц, перебрался в квартиру рядом с Зимним дворцом и стал массовиком-затейником международного уровня. Но самое главное: он стал одним из создателей нового стиля взаимоотношений власти и народа. Этот стиль принципиально отличался от линии КПСС, навязывавшей подданным свою убогую, упрощенно-марксистскую, но все-таки логику. Новый принцип гласил: у этого быдла вообще нет никакого логического мышления, поэтому можно лепить любой вздор — пипл схавает… Кстати, приватизация — всего лишь частный случай собчачизации российской экономики и политики.
Стул президента
Президент перенес грипп без осложнений, обследовался в кардиологическом центре и с отлично функционирующими шунтами вернулся на работу в Кремль, чтобы в начале января отправиться в очередной отпуск. Эта информация облетела все СМИ, как раньше облетала весть о запуске нового советского космического корабля. <…>
Я тут как-то на досуге вдруг осознал: моя жизнь с конца восьмидесятых прошла под знаком состояния здоровья Б. Н. Ельцина. То вся Москва шепталась о странной речи, произнесенной им под влиянием неведомых снадобий с трибуны партийного пленума. То вся страна радовалась его благополучному падению с элитного моста где-то в районе правительственных дач. То вышедшая на простор площадей кухонная интеллигенция до хрипоты обсуждала «эффект Буратино», обрушившийся на борца против привилегий во время пребывания в Америке. То докучливый Верховный Совет требовал экспертизы состояния Ельцина, который поднялся на трибуну перед депутатами, предварительно разгорячась в теннисном матче с верным Бурбулисом…
Репетицию немецкого оркестра, беспробудный шеннонский сон, сорок тысяч курьеров-снайперов, финскую войну в шведских снегах и многое другое я опускаю, так как все это уже вошло в сокровищницу общенациональных курьезов. Напомню лишь президентские выборы, когда народ, затаив дыхание, гадал: кто же победит — Зюганов или недуг? Победил Ельцин — и Зюганова, и недуг.
…………………..
Очевидна писательская природа поляковских газетных колонок: продуманная композиция, острый публицистический посыл, выраженный, как правило, афористично, а то и с помощью авторских неологизмов. Как мы уже заметили, публицистика Полякова насыщена вербальной игрой. Читатель видит это уже из заголовков: «Кремлевские попрошайки», «Нью-застой», «Евро-факовцы», «Геополитическое похмелье», «Лениноеды», «Порнократия», «Короля играют СМИ», «АнтиСМИтизм», «Дети «Артека», «Виртуальная кровь», «Импичмент, который всегда со мной», «Поминки по Победе», «Страшная тайна Ельцинора», «Битва за безнаказанность», «Холуин — праздник творческой интеллигенции», «Предвыборный грязепад», «Соросята», «Плюс электоратофикация всей страны», «Хаосмейкеры», «Бездержавье»…
Рядом с неологизмом «холуин» мы видим аллюзию на популярный в те годы роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». За пародированием стоит точное наблюдение: большинство младореформаторов были выходцами из советских номенклатурных семей, как Гайдар, Авен или Козырев, которые в детстве отдыхали в привилегированном крымском «Артеке», куда Поляков попасть и не мечтал. Но именно они сокрушили социализм с его пусть и не всегда успешным стремлением к социальной справедливости. А рядом с забавным неологизмом «соросята» мы видим мрачный заголовок «Страшная тайна Ельцинора», отсылающий читателей к гамлетовскому Эльсинору. Современники отлично понимали колумниста и ценили его остроумие, ведь нравы правящей в то время «Семьи» мало чем отличались от кровавых интриг двора короля Клавдия. После публикации «Соросят» автору позвонили из Фонда Сороса, покрывавшего тогда паутиной своих отделений всю страну, и предложили сделку: Поляков больше не пишет про «соросят», а фонд организует ему месячное лекционное турне по США с заоблачным гонораром. Надо ли объяснять, почему он отказался?
И еще одно наблюдение: многие мысли, выводы, вербальные формулы, высказанные Поляковым в 1990-е, выглядели тогда как откровение и часто встречались настороженным молчанием. Сегодня, под одобрительные аплодисменты, они вернулись к читателям в телеречах и публицистике писателей нового поколения, но уже без ссылки на первоисточник.
«…Писать колонки почти каждую неделю, — вспоминал Поляков, — тяжкий труд. Нет, поначалу кажется, что тебя буквально распирает от возмущающих разум идей и наблюдений, и хочется сказать так много, что оговоренные три с четвертью машинописные странички буквально лопаются от напора мыслей. Но проходит несколько недель — и голова пустеет, точно приемная отставного министра. И вот ты уже гоняешься за незаезженной темой, как Жак Паганель за редкой бабочкой. К тому же нельзя расслабляться и туманить мозг алкоголем, ибо в понедельник вечером — хоть умри — текст должен лежать на столе редактора. Когда я готовил мои колонки для сборника, я обратил внимание на четыре текста, которые по мыслям были моими, а вот написаны словно другим человеком. Я взглянул на числа и обнаружил, что они подозрительно близки к красным датам календаря. Увы, таков результат похмельного творчества. Я их не стал включать в книгу, а надо бы вставить, хоть один текст — в назидание молодым писателям!»
Поляков вел колонки также в газетах «Труд» и «Московский комсомолец». Позднее он соберет их в книге «Порнократия» под общим названием «Невольный дневник» — что вполне соответствовало реальной ситуации. В качестве колумниста он выступал почти до 2000-х, когда, возглавив «Литературную газету», направил весь свой публицистический темперамент на ее возрождение.
В 1997 году Юрий Поляков, известный писатель и публицист, по призыву клуба «Реалисты» принял участие в выборах в Московскую городскую думу.
«В качестве кандидата Поляков провел порядка ста встреч с избирателями и явно лидировал; следом за ним по рейтингу шла «яблочница» X., которая до этого была «гайдаровкой», а лет через семь стала «мироновкой». Третье место было у коммуниста, первого секретаря Московского горкома КПРФ. Тем не менее выборы Поляков проиграл, набрав около 20 процентов голосов. Проигрывать всегда досадно, а тем более когда ты уже уверен в победе. И все же в конечном итоге он об этом не пожалел: если бы победил, времени на творчество у него бы почти не осталось.
«Предвыборный марафон точнее было бы назвать бегом в мешках по бездорожью на приз, заранее отданный другому… Началось с того, что «Реалисты» издали первую мою книжку публицистики «От империи лжи к республике вранья». Она-то и стала моей агитационной брошюрой и разлетелась как горячие пирожки. Потом организовали мой избирательный штаб, стоивший больших денег. Он состоял из политтехнологов — странной немосковской дамы, говорившей не «бюллетени», а «беллютни», а также вертлявого парня, все время куда-то убегавшего, вероятно, нюхнуть чего-то для бодрости. Был и водитель. Политтехнологи тут же вызвали из Америки специалиста по предвыборным программам — недоучившегося ростовчанина Фиму, который объявил, что в центре моей программы должна быть логистика, но что это такое — объяснить не сумел. Я отправил его назад в Америку через Ростов. Зато штаб выпустил мою агитационную газету, разнести ее по всем квартирам округа тоже стоило больших средств. Я переживал — дошли ли мои воззвания до людей, и меня специально повели в соседний дом. Там из каждого почтового ящика торчала моя «агитка», где имелся даже мой снимок в обнимку с Михаилом Евдокимовым, которому поход во власть, в отличие от меня, стоил жизни. Потом выяснилось: это был единственный дом, охваченный штабом, а весь стотысячный тираж они спрятали в каком-то подвале, где он и пролежал до конца выборов. Ничего личного, только бизнес: доставка от двери к двери составляла половину бюджета. Председатель тогдашней городской думы В. Платонов, узнав, что я баллотируюсь, обрадовался: «Отлично! Поработаем! Кто у вас там еще?» — «X.» — ответил я. «X.? — затуманился он. — М-да… А как бы мы хорошо поработали…» — «А в чем дело-то?» — озадачился я. В ответ он сделал такое движение, будто надвигает на лоб козырек кепки, которые так любил носить тогдашний мэр Ю. Лужков.
О том, что выборы — это что-то вроде потасовки марионеток, а нитки дергают совсем в другом месте, я сообразил довольно скоро и решил пойти на политический сговор. Зная лично Зюганова, даже с известным риском для себя участвуя в его президентской кампании, я с ним встретился и объяснил: кандидат от КПРФ идет третьим, и шансов у него нет. Но если он снимет свою кандидатуру в мою пользу, нашей общей сопернице не поможет даже вброс «беллютней» и в городской думе все-таки будет человек с государственно-патриотическими взглядами (то есть я), а не гормональная либералка X. Поэтому коммунистам логичнее поддержать меня. Зюганов вздохнул и ответил примерно следующее: в жизни одна логика, а в партии другая… Несмотря на то что опрос на выходе показал, что у нас с «яблочницей» примерно одинаковые шансы, она выиграла с десятипроцентным отрывом. В ту пору у кремлевских политтехнологов была, видимо, мысль приспособить либералов к государственной работе. Кремлевские мечтатели… В результате в Московской думе оказались странные персонажи вроде Алевтины Никитиной, которая сразу после выборов вместе с мужем, депутатом Госдумы Ильей Заславским, попавшимся на махинациях с городской землей, улетела к детям в Америку, ни разу не побывав ни на одном заседании второго созыва.
На следующий день после голосования мой штаб бесследно исчез, не заплатив ни копейки водителю. Рассчитываться пришлось мне самому из семейного бюджета, и благодарный шофер, устроившийся потом экспедитором на кондитерскую фабрику, завозил нам иногда домой свежие тортики…»
Года через три после выборов, в Доме книги на Новом Арбате, когда завершилась встреча Полякова с читателями, к нему подошла взволнованная интеллигентная женщина и сказала: «Юрий Михайлович! Вы мой любимый писатель, и я хочу, чтобы вы знали. Я была тогда в избирательной комиссии 196-го округа. Победили — вы.
Но нас заставили вбросить бюллетени за X. Дали денег, и я не могла устоять, да и отказываться было очень опасно. Простите. И знайте, что победили вы!» Поляков «отпустил ей грех»: поблагодарил за то, что все случилось как случилось.
Позднее в своей прозе он всегда обращался к теме выборов в сатирическом ключе:
…………………..
Юкин решил вернуться в политику, а заодно и в Россию. Исидор придумал отличную легенду: оказывается, Дема напомнил царю Борису его обещание лечь на рельсы, если реформы не заладятся, а всенародно избранный самодур услыхав такую дерзость, пришел в ярость и отправил правдолюба в изгнание. Теперь же обличитель вернулся в Отечество со словами: «На рельсы лягу я!» Демин выход из стеклянных дверей «Шереметьева-2» показали все каналы. Вот он стоит на ступеньках и жадно втягивает воздух родины: в глазах трехкаратные ностальгические слезы, а в руке саквояжик, как у доктора Айболита, прилетевшего подлечить тяжко заболевших африканских зверят. Четыре контейнера с барахлом прибыли позже через Клайпеду. Исидор не только с помощью своих людей на ТВ прославил возвращение Юкина, но и добился, чтобы тот попал на групповой снимок с Лужковым в газете «Центр-плюс». Была такая предвыборная фишка: мэр всех времен от широты души фотографировался с кандидатами, баллотирующимися по Москве, но не со всеми, а с избранными. Получался негласный «Список Лужкова», тайный сигнал местным начальникам помогать именно этим хлопцам, а главное — не мешать лишними поборами.
Но и Злотников не дремал. Его штаб оклеил пол-Москвы листовками: Сема в оранжевом пластмассовом шлеме толкает по специальному пандусу нового дома коляску с инвалидом и говорит: «Сильным — дорогу, слабым — подмогу!» Кроме того, по всем каналам крутили его предвыборный ролик, надо признать, лихой. Это тебе не Налимов по грудь во ржи. На обочине стоят два пенсионера и робко голосуют. Мимо, не останавливаясь, летят дорогие иномарки. Таксисты притормаживают, но, увидав жалкую мелочь в морщинистой руке, с обидным смехом уезжают. Какие-то скинхеды в размалеванном свастикой джипе с гоготом отбирают у бедняг последние деньги. Плакать хочется! И вдруг на могучей русской тройке, гремящей бубенцами, выезжает Злотников, подхватывает стариков и мчит в светлую даль, где горит солнечный титр: «Будущее есть у всех!»
В общем, оба кандидата шли грудь в грудь. Сначала чуть-чуть опережал Сема, но Дема, спев в «Добром утре» дуэтом со знаменитым тенором Колбасковым, вырвался вперед. Зато Злотников спонсировал хирургическое расчленение сиамских близнецов Виты и Риты, вся страна смотрела, как человеческие половинки, обретшие независимость, плакали счастливыми слезами на груди кандидата и призывали голосовать только за него! Соперники сравнялись. Тогда-то в «Общественной газете» и вышел убийственный фельетон «Плутовская миля». Ксерокопии скандальной статьи тем же вечером оказались в почтовых ящиках избирателей. Это был крах. Семы не стало, но и он перед своей электоральной гибелью успел нагадить Деме. Предвыборные листовки Юкина, бесследно исчезнув вместе с грузовичком накануне, вдруг в «день тишины» заполонили район. Они висели на столбах, заборах, стенах, остановках, помойках, даже на дверях избиркома. Дему сняли с пробега за чудовищное нарушение закона о выборах. В результате гонку возглавил кандидат от КПРФ, уверенно лидировавший до последнего момента: явка по городу низкая, а коммунисты — народ активный и дисциплинированный. Однако за час до закрытия пунктов гражданская совесть москвичей под влиянием внезапного солнечного протуберанца очнулась: толпы избирателей, которых никто не видел, примчались к урнам, чтобы проголосовать за кандидата от «Яблока» Хованюка — никому не ведомого хмыря с обещающей улыбкой.
Разгневанный Дема проклял немытую Россию и убыл в Лондон — читать курс лекций «Рабская матрица России в свете общечеловеческих ценностей». А вот Сема пострадал по полной: на него завели уголовное дело и наконец-то спросили, куда он дел средства пайщиков. Ведь вся «Платиновая миля», на которую ухлопан без малого «ярд», являла собой строительный вагончик, рулон утеплителя и шесть вбитых свай. Когда Злотников ехал на допрос, чтобы заключить сделку со следствием и сдать сообщников, его нагнал на светофоре мотоциклист в черном непроглядном шлеме и прилепил к крыше бронированного «мерседеса» магнитную мину, достаточную для потопления линкора. Говорят, от бизнесмена остались только дымящиеся штиблеты из крокодиловой кожи. Любил бедняга хорошую обувь…
(«Любовь в эпоху перемен»)…………………..
Так судьба уберегла Полякова от тупикового пути на очередной развилке. Благодаря ей самое плодотворное писательское время жизни ему не пришлось тратить на политические дрязги. За ним оставались слово публициста, которое слышала и воспринимала самая широкая аудитория, и свобода творчества во всех смыслах этого слова. В издательстве «Олма-пресс», куда Поляков перешел со всеми своими книгами — это был его первый и не последний такой опыт, — как раз вышел трехтомник «Избранного». Времена изменились: книги современных авторов шли теперь нарасхват, заметно подросли тиражи и гонорары. То, что серьезная литература стала пользоваться спросом, подтверждает и оформление его трехтомника — агрессивно-красочное.
* * *
Как это обычно бывает у писателя, едва «отболев» одной вещью и выпустив ее в свет, Поляков засел за воплощение нового замысла. «Козленок…» шел на ура, его едва успевали допечатывать, а автор писал уже новую повесть, на этот раз из жизни «новых русских».
«Конечно, после провала на выборах некоторое время я снимал стресс старым русским способом, но недолго. На столе у меня уже был набросок новой повести, которую я начал как раз перед тем, как закружился в избирательной центрифуге. Но едва поправившись, я сел за письменный стол у окна с видом на не застроенное тогда еще Ходынское поле, заварил крепкого чая и включил синий экран моего 386-го компьютера, жужжавшего, как промышленный вентилятор. Наученный горьким опытом, через каждый час я сохранял написанное на диске…»
В основу новой книги, которую он назвал «Небо падших», легли материалы, которыми снабдил писателя хозяин фирмы «Авиатика» Игорь Пьянков, ему, типичному представителю поколения, которое Поляков окрестил «гаврошами русского капитализма», в ту пору было немного за тридцать. В комментариях к пятитомнику, вышедшему в издательстве «Росмэн», говорится, что многие идейные мотивы и конфликты будущей повести уже намечены в состоявшемся между ними диалоге «Долго ли будем делиться на своих и врагов?», опубликованном летом 1996 года газетой «Труд».
«И. П. Предпринимательская прослойка есть в любой стране. И она не столь уж широка. Да, это богатые люди. Но эти люди — локомотив экономики… Зюганов же отрицает особую роль предпринимательства… как в свое время Сталин, предполагает, что роль локомотива экономики выполнит государственная бюрократия. Тот еще локомотив! В степени уважения к личной свободе человека заключается главная разница между реформами Зюганова и Ельцина… И коммунисты-гаранты нам совершенно не нужны…
Ю. П. Не знаю, стала бы бюрократия локомотивом в случае победы Зюганова, но сегодня бюрократия — просто взяткосборочный комбайн. И давай оставим красно-белое мышление тем, кто за это получает деньги: бойцам предвыборных команд. Никто никого не зовет в прошлое. Речь идет о разных путях в будущее. В начале века все «цивилизованное человечество» верило в социализм, и большевики хотели его построить любой ценой. Сегодня все «цивилизованное человечество» верит в капитализм. И необольшевики строят его в России, не щадя ни стара, ни млада…»
«С Игорем Пьянковым познакомил меня бывший директор Литфонда России Валерий Долгов, который был инициатором издания моих книг. В прежние годы он работал снабженцем на ВАЗе. У них с Игорем тогда был общий бизнес, закончившийся ссорой и серьезным конфликтом. Едва не стрельбой… Кто виноват, не мне судить, но друг друга они стоили. В 1990-м Валерий предложил мне совместно учредить издательство, чтобы выпускать мои и другие книги. Я согласился и даже придумал, точнее, позаимствовал у предшественников название — «Библиотека для чтения». Но для начала, чтобы выпускать книги, надо было заработать стартовый капитал. Даже-даже! И Долгов предложил взять кредит: я был тогда, в начале 90-х, широко известен, деньги «под меня» давали. И я, наивный советский чукча, подписал какое-то письмо в банк — и средства сразу перечислили. Но Долгов объяснил: сумму можно удесятерить, потом быстро, не платя процентов, вернуть кредит и тогда уж спокойно отдаться книгоиздательству. Даже-даже! Как? Очень просто: купить валюту, на нее приобрести в Корее дешевый ширпотреб и здесь, в разутом и раздетом Отечестве нашем, пустить его в розницу через дружественную торговую сеть. Даже-даже! Я, глупый советский чукча, подписал еще какую-то бумагу и стал ждать богатства. Вскоре мне позвонил Валерий и мертвым голосом сообщил, что баржа, перевозившая и наш товар, попав в Японском море в шторм, тонет. Теперь, чтобы расплатиться по кредиту, надо продавать квартиры и дачи. Даже-даже! Я, безмозглый советский чукча, поверил и несколько ночей бессонно бродил по квартире, прощаясь с родными стенами. Но вот снова вышел на связь Долгов и посвежевшим голосом объявил, что баржа уцелела, но часть товара испорчена морской водой, так что мы едва вышли в ноль. Даже-даже! «И квартиру продавать не надо?!» — с надеждой спросил я. — «Нет!» — «Боже, какой восторг!» От счастья я не находил себе места, несколько дней до изнеможения праздновал такое удачное завершение нашей негоции. Но в тот день я навсегда зарекся влезать в какой-либо бизнес, даже если посулят златые горы. И только спустя несколько лет я вдруг подумал, что и про шторм, и про баржу, и про все остальное мне было известно только со слов моего компаньона… Даже-даже. Это любимое присловье Долгова — «даже-даже» — я потом отдал тороватому Кошелькову, персонажу моей комедии «Хомо эректус» (а также Веселкину в «Грибном царе». — О. Я.). Увы, капитализм решительно разделил всех советских людей на плотоядных и жвачных. Я оказался из жвачных…
Игорь Пьянков, одаренный от природы острым умом и бешеной энергией, тоже был из плотоядных. Его фирма «Авиатика», припав к столичному бюджету, жила от транша до транша. Игорь вышел из семьи уральских инженеров-оборонщиков, он был начитан, пассионарен и строг, даже суров с людьми, чего никак не скажешь, глядя на него: Игорь напоминал златокудрого розовощекого ангелочка в круглых близоруких очках. И только жесткая редкозубая улыбка иногда выдавала его настоящий характер. Утомившись от разборок, он порой приезжал ко мне в Переделкино — выпить и поговорить. Жизнь у него была бурная, кое-что из его рассказов потом вошло в повесть».
…………………..
Три человека вошли в мой кабинет без всякого предупреждения, отшвырнув секретаршу. Двое — в строгих, немного старомодных костюмах — напоминали бухгалтеров. Третий, чеченистого вида, был одет в черную кожаную куртку. Через открытую дверь я увидел, как еще два таких же кавказских чернокурточника приставили стволы к животу беспомощно набычившегося Толика. Дверь закрылась.
— Здравствуйте, — вежливо заговорил один из бухгалтеров. — Извините за вторжение, но некоторые обстоятельства вынудили прибегнуть к действиям, для нас совершенно нехарактерным…
— Какие такие обстоятельства? — поинтересовался я, стараясь не показывать испуга.
— Вы очень подвели наших друзей. Понимаете, кредиты берут для того, чтобы их возвращать. Вы согласны?
— Согласен.
— Вот наши друзья и попросили с вами поговорить. По-товарищески. Вы поступаете очень нехорошо, ведь эти деньги из Сбербанка, а вы, я надеюсь, знаете, кто держит деньги в Сбербанке? Пенсионеры, ветераны войны… Беззащитные старики. У вас живы родители?
— Живы.
— Вот видите! Даже странно, что с человеком, занимающимся авиацией, бизнесом высокоинтеллектуальным, нам приходится вести такие… странные разговоры!
Второй бухгалтер сидел молча, тонко улыбался и неотрывно смотрел мне в глава. Чеченистый с удивлением разглядывал полки, набитые книгами, и модели самолетов.
— Ты чей? — вдруг спросил он.
— В каком смысле?
— Крыша у тебя есть?
— Крыша есть у любого нормального человека… И если она едет, ничего хорошего из этого не получается.
— Что? Ты умный? Книжки читаешь? Сейчас будешь свои мозги с книжек собирать! — Он сунул руку под куртку. — Тебя перепаснули, ты понял?
— Погоди, — поморщился разговорчивый бухгалтер переглянувшись с молчаливым. — Я бы вам очень советовал, Павел Николаевич, поскорее вернуть долг нашим друзьям. Они устали ждать. Если хотите, мы поможем, но тогда вам придется в дальнейшем согласиться на наше участие в вашем бизнесе. Самолетами мы давно интересуемся…
— Спасибо, но я в помощи не нуждаюсь.
— Не торопитесь. Подумайте, посоветуйтесь… Позвоните своим друзьям.
— Я в помощи не нуждаюсь! — как можно тверже повторил я.
— Смелый, да? Ты что, под ментами ходишь? — снова встрял чеченистый.
— Погоди! — снова оборвал его разговорчивый бухгалтер и повернулся ко мне. — Коллега немного разгорячился, но смешного в том, что мы говорим, ничего нет…
— Я вовсе не смеюсь. Я просто подумал, если записать наш разговор на пленку, то получится детективный спектакль…
— К сожалению, в эфире сейчас столько детективов, что взыскательный радиослушатель наш спектакль просто не заметит!
— Как знать…
— Как знать, как не знать! — заорал чеченистый. — Мы знаем, где ты живешь, и семью твою всю знаем!
— Разговор закончен, — твердо сказал я. — И дальше вы будете беседовать с моей крышей. До свидания!
— У тебя нет больше крыши, — вдруг заговорил молчаливый бухгалтер. — Тебя сдали. Счетчик включен. Деньги через неделю в это же время.
И они вышли из кабинета. Я сделал всего один звонок и выяснил, что меня действительно сдали… Чтобы развязать себе руки, жену с Ксюхой я в тот же день отправил на Майорку. Но очень скоро понял, что сопротивляться бессмысленно: спасти меня могли только деньги, а их-то как раз и не было…
(«Небо падших»)…………………..
«Однажды Игорь показал мне то, что во времена моей литературной молодости называлось «пробой пера» — рассказ-воспоминание «Стерва» о своем бурном романе с роковой секретаршей, — и спросил мое мнение. Я прочитал и ответил, что, конечно, это еще не проза, но в тексте есть удивительно точные приметы, типажи и детали эпохи дикого капитализма. Кроме того, я даже позавидовал, мол, если бы обладал таким знанием механизмов первичного накопления, то обязательно засел бы за новую вещь, вроде горьковского «Фомы Гордеева». «Забирай! — махнул рукой Пьянков. — Я все равно ничего не напишу, а тебе пригодится!» — «Может, в соавторстве?» — засомневался я. «Какое на х… соавторство? Меня в любое время могут отстрелить…»
Забегая вперед скажу, что Пьянкова не отстрелили, хотя и пытались, но бизнес он потерял, отчасти из-за опалы Лужкова, отчасти из-за пагубы, печально соответствующей его фамилии. Кое-что из наброска я оставил в неприкосновенности: имя главной героини, авиационную тематику и «терки с бандюками». Остальное — плод моего творческого сопения. Долго я искал фамилию для главного героя и остановился на Шарманове — так звали моего сверстника, жившего в ста метрах от нашего маргаринового общежития. Повесть имела успех. С тех пор любители современной прозы изумляются, откуда я так хорошо знаю малую авиацию. Кроме того, я давно привык к тому, что после, скажем, автограф-сессии один из читателей задерживается, просит поговорить с ним без свидетелей и, пытливо вглядываясь в мои глаза, спрашивает, откуда мне так подробно известна история его шалопутной секретарши. Среди тех, кто спрашивал, был, между прочим, даже вице-премьер».
…………………..
— Нет, сладенький, сегодня я хочу побыть одна! — могла ответить Катерина и улыбнуться так, что становилось до отчаяния понятно: она принадлежит мне не более, чем весенний сквозняк в комнате. Зная все Катькино тело на ощупь, на запах, на вкус, я мог только догадываться о том, что же на самом деле происходит в ее душе, и поэтому особенно дотошно расспрашивал о том, как она жила до меня, какие у нее были мужики и что она чувствовала с ними.
— Зачем тебе это?
— Я хочу знать о тебе все!
— Все? Ну и забавный же ты, Зайчуган! Когда я читаю Библию, меня всегда смешит слово «познал». «И вошел он к ней, и познал он ее…» Ничего нельзя познать, познавая женщину. Запомни — ничего!
Поначалу мне удалось выведать у нее совсем немного… С отцом у нее были сложные отношения. Тот в свое время настоял, чтобы дочь в девятнадцать лет вышла замуж за сыночка одного мидовского крупняка. Парня ждала блестящая карьера полудипломата-полушпиона. Вместо этого он стал конченым наркоманом — таскает на толкучку остатки барахла, накопленного родителями, покупает дозу и улетает…
— Он тебя любил? — допытывался я.
— Он считал меня своей вещью. А я не могу принадлежать одному мужчине. Мне скучно…
— Это как раз нормально. Я тоже не могу принадлежать одной женщине. Семья — всего лишь боевая единица для успешной борьбы с жизнью. Люди вообще не могут принадлежать друг другу. Моя жена спит с охранником. Ну и что? Это же не повод, чтобы все сломать. Все-таки дети…
— Детей у нас не было. Я не хотела.
— Почему?
— Ребенок делает женщину беззащитной… Послушай, а если я изменю тебе с Толиком, ты меня выгонишь?
— Выгоню.
— Вот и муж меня выгнал. Понимаешь, мне, как назло, нравились не вообще другие мужики, а конкретно его друзья…
— А вот это свинство! — возмутился я.
— Интересно! Переспать с полузнакомым членовредителем можно, а с другом дома, родным почти человеком, нельзя. Я не понимаю… Но если ты против, Зайчуган, я буду изменять тебе только с незнакомыми мужчинами!
— А вообще не изменять ты не можешь?
— Не пробовала…
— Ну ты и стерва!
— Да, я стерва. И со мной надо быть поосторожнее! — предупредила она. — Я очень опасна…
— Чем же?
— Например тем, что ты однажды захочешь на мне жениться…
— А ты этого хочешь?
— Нет, конечно, ведь жена получает от тебя гораздо меньше, чем я. Правда, Зайчуган? — И она с каким-то естественно-научным любопытством заглянула мне в глаза…
(«Небо падших»)…………………..
Летом 1998-го в «Московском комсомольце», «Труде», «Правде» и «Мире новостей» вышли фрагменты «Неба падших»: автор уже привычно проводил в жизнь тактику «легализации» новой вещи через прессу. Впрочем, издания охотно брали фрагменты: так живо, ярко, а главное — актуально в ту пору мало кто писал. Имел место и небывалый для тогдашней прозы прецедент: еженедельник «Собеседник» напечатал повесть в десяти номерах с продолжением. Примерно в это же время «Небо падших» вышло в июльском номере журнала «Смена» у Михаила Кизилова, чуть позднее — в издательстве «Олма-пресс», а потом и в «Роман-газете».
Повесть «Небо падших» одной из первых обозначила в нашей литературе период первоначального накопления капитала, за которым с трепетом наблюдала страна. За одно десятилетие «новые русские» из быковатых дельцов, одетых в малиновые пиджаки, занятых в основном тупым рэкетом, превратились (кто не сложил голову) в брендово упакованных бизнесменов, знающих, куда и сколько «заносить». Поляков посвятит этому феномену не одну вещь и окончательно поставит на теме точку в нулевые, «Грибным царем». Все это время его будет волновать и тема продажной, точнее — «рыночной», любви, но не уличного извода, а любви супружеской, купленной за деньги (рассказ «Красный телефон» и более поздняя повесть «Подземный художник» как раз об этом). В «Небе падших» любовь свела двух равных по своему моральному облику людей, при этом образ героини повести Катерины навевает ощущение дежавю: можно сказать, что Анка-переметчица из «Козленка…» — родная сестра Катерины из «Неба падших»: такая же бесстыжая и жаждущая всех удовольствий мира, только не столь циничная и кровожадная. Впрочем, массовые отстрелы бизнесменов по всей России ее цинизм вполне объясняют.
Давая картину «второго пришествия» капитализма в Россию, показывая характеры этого безумного обогащения, автор погружает читателя и в новую вербальную реальность, воссоздавая новый язык, которым заговорила стремительно капитализирующаяся и криминализирующаяся страна. В этом смысле задачи, вставшие перед писателем, были сродни тем, что решали в свое время Пильняк, Платонов, Бабель, Булгаков, Катаев… Сложность заключалась не в том, чтобы включать в текст живую тогдашнюю речь, а в том, чтобы увязать ее с устоявшимися нормами, закрепленными отечественной словесностью в единое художественное целое. Попытки написать о новой жизни, новых социально-нравственных явлениях, оставаясь в прежней языковой реальности, привели к художественным неудачам, несмотря на актуальный замысел многих авторов-лауреатов. Достаточно вспомнить «Миледи Ротман» Владимира Личутина, «Журавли и карлики» Леонида Юзефовича, «Все поправимо: Хроники частной жизни» Александра Кабакова, «Андеграунд, или Герой нашего времени» Владимира Маканина, «Недвижимость» Андрея Волоса, «День денег» Алексея Слаповского. Гротескный реалист Поляков явно «переиграл» своих коллег по литературному цеху: ни один из названных романов, выпущенных примерно в то же самое время, не экранизирован, не инсценирован, не расходился такими тиражами, как «Небо падших».
…………………..
Собственно, с этого большого грузового вертолета, оборудованного под шалаш любви, и начался мой бизнес. А поскольку большинство отечественных самцов, как и первые лимузины, могут работать только на спирте, мы с напарником стали запасаться водкой и продавать ее посетителям с ночной надбавкой… Начальник музея, отставной авиационный руководитель, брал с нас натуральный налог девочками и помалкивал… Замечательное, романтическое время, когда разбогатеть можно было так же неожиданно и легко, как подцепить триппер. Это, кстати, с начальником музея вскоре и произошло. Нет, он не разбогател. Разбогател я! Не улыбайтесь! Я знал людей, которые становились миллионерами за несколько месяцев, а в конце года уже беседовали о вечности с могильными червями. Главное — уметь урвать свою сосиску у рассеянного и вечно пьяного дяди Вани… Если Америка — это дядюшка Сэм, то Россия — дядя Ваня… Но украсть — только начало, надо еще уметь делиться. Так делиться, чтобы самый большой кусок сосиски доставался все-таки тебе! Мой напарник делиться не умел — и его давно уже нет в живых.
— Заказали?
— Боже мой, ну почему приличным людям так нравится бо-тать по фене? Заказали, пришили, забили стрелку… Прямо какая-то эпидемия!.. Не знаю… Может, и заказали. Ушел из дому и не вернулся. Нет, я тут ни при чем… Я вообще против насилия! Не верите? В общем-то правильно делаете… Бизнес — производство грязное и вредное. Но не все так просто. Когда это началось, урвали прежде всего крутые и матерые… И мы, совсем еще зеленые… Люди вроде вас, господин писатель, привыкли просчитывать каждый свой шаг и чих — поэтому они опоздали. Представьте себе большой склад, набитый добром, — в него заложена бомба. Первыми, еще до взрыва, приезжают на склад и хапают те, кто эту бомбу заложил. Потом хре-е-енак — и добро валяется под ногами. Вы будете ходить вокруг да около, будете бояться милиции, КГБ, общественного мнения, суда истории и так далее. А пацаны примчатся на скейтбордах и все расхватают… Ну что вы так смотрите на меня? Вам ведь не социализм жалко, вы просто злитесь, что именно вам ничего не досталось. Но это История так распорядилась, а злиться на Историю лучше всего в психушке под наблюдением врачей…
— Это, значит, История вынудила вас устроить в вертолете бордель? — полюбопытствовал я, глядя в глаза Павлу Николаевичу.
— Она, она, собака… При социализме на общегосударственном уровне ставился эксперимент по одомашниванию секса, а он, гад, все равно в лес глядел. На этом я и срубил свои первые бабки. Но бордельный бизнес меня никогда не привлекал… Бизнес, как и настоящая любовь, захватывает целиком. Я ушел из авиационно-технологического института с четвертого курса. Особенно радовался этому преподаватель кафедры научного коммунизма Плешанов, с которым я всегда спорил на лекциях, а однажды даже сказал, что марксизм — это попытка осмыслить жизнь не с помощью мозговых извилин, а с помощью прямой кишки! Меня чуть не исключили из комсомола. Великая была организация! Поскреби нынешнего российского миллиардера — найдешь или комсомольского функционера, или активиста. Моя парашютная вышка была филиалом спортивно-массового отдела райкома комсомола, а первым чиновником, получившим от меня взятку в конвертике, был секретарь райкома Серега Таратута. Вторую взятку, но уже не в конверте, а в кейсе, я дал его папаше — начальнику управления гражданской авиации. Так появился «Аэрофонд».
(«Небо падших»)…………………..
Поляков точно уловил проявившийся в те годы новый «тренд» во взаимоотношениях полов: любовь вдруг стала подчиняться законам рынка. Вот что писал об этом феномене Андрей Рудалев: «У современной женщины много личин, и все они коварны и ведут к трагедии. Они, как слои косметики, прикрывают реальность и к тому же ядовиты. Женщины вьют веревки и пьют соки из мужчин, а потом выбрасывают опустошенными, уничтоженными, растоптанными. Современные Евы в переизбытке поставляют к столу новоиспеченного Адама яблочные плоды всевозможных сортов. Искушают. Причем даже не по злому умыслу, а исходя из особенностей собственной природы, по-другому они попросту не могут. Сидит внутри червь, «ледник», и он руководит всеми поступками. Три «Плотские повести»: «Подземный художник», «Возвращение блудного мужа» и «Небо падших» Юрия Полякова — примерно об этом. Взаимоотношение полов, плотская любовь, ее странности, движение и даже скорее скатывание человека к яме плотоядной страсти — это та тема, на которую автор серьезно подсел». И далее он выходит на тему, которая отчасти определила проблематику уже перечисленных и последующих произведений, на антитезу тихого семейного счастья и буйства плоти: «Женщины «Плотских повестей»: Лида — Инга — Катерина. Все они гордые, статные, неприступные — роскошные любовницы, в которых бушует огонь страсти, иногда сдерживаемый, но чаще отпускаемый на волю судьбы. Герои Полякова раздваиваются между обычной тихой семейной жизнью, которая ведет к медленному затуханию, притуплению сил, где всевластвует привычка, и наркотическим дурманом разврата, пробуждающим к новой сладостно иллюзорной жизни, к буйству страстей. И пусть этот дурман гибелен, но притягателен, восхитителен и заманчив».
В «Дне литературы» о том же сказал Николай Перепелов: «Будучи потрясающе наблюдательным писателем и зная жизнь как бесконечное множество переплетающихся между собой нюансов, Юрий Поляков почти всегда пишет только о том, что практически мгновенно узнается читателем как его собственный, индивидуально неповторимый человеческий опыт, а потому и принимается им как безоговорочно абсолютная жизненная правда. Если же что-то в произведении Полякова откровенно «выпирает наружу» и представляется неестественно раздутым, значит, это сделано автором специально для того, чтобы читатель обратил на это внимание и задумался над его сутью. Именно такова, на мой взгляд, гипертрофированная и почти исключительно плотская (если не сказать: скотская) сексуальность многих его персонажей, встречающихся нам в таких вещах, как «Небо падших», «Подземный художник», трилогии «Замыслил я побег…», «Возвращение блудного мужа» и «Грибной царь», отчасти в «Козленке в молоке», а также во многих его пьесах. Вышедшая на первое место маниакально преувеличенная сексуальная озабоченность, являющаяся явно ненормальной для обычных людей, призвана сигнализировать нам о том, что это — по сути, единственное, что еще оживляет собой жизнь человека, отрешившегося (или же отрешенного) от Системы и создаваемых ею проблем. Не случайно у нас постоянно звучала раньше фраза о том, что нельзя жить в обществе и быть от него свободным, — это действительно так, и, освобождаясь от общества и порождаемых им проблем, человек как бы оказывается на необитаемом острове, где его не волнуют никакие другие вопросы, кроме диктуемых собственной плотью».
Отклики на повесть были самые разные. Павел Басинский поместил ее в «золотую пятерку» лучших Поляковских вещей, наряду с «Козленком…», «Демгородком», «Парижской любовью…» и следующей вещью «Замыслил я побег…». Басинский писал: «Небо падших» — маленькая, концентрированная сага о новейшем русском капитализме и о том сложном человеческом типе, который сложился в эту эпоху и который сегодня определяет жизнь нашей страны, желаем мы этого или нет. На мой взгляд, повестью «Небо падших» Поляков объединил сразу две читательские аудитории. Эту вещь должен с интересом прочитать как «новый русский», так и тот, кто в силу возраста, обстоятельств и просто душевных качеств оказался на обочине жизни. В процессе чтения эти две аудитории имеют редкую возможность без презрения и раздражения посмотреть друг другу в лицо, как это делают случайно встретившиеся в купе поезда преуспевающий коммерсант и неудачливый прозаик». И далее: «Между «ЧП районного масштаба» и последней повестью «Небо падших» громадная дистанция. Если в первой повести писатель «колебал основы», то в последней мучительно ищет их. <…> В повести «Небо падших» «декаданс», вырождение и, наконец, смерть настигают главного героя в расцвете сил. Роковая и поистине декадентская любовь, с которой он не может (да и не хочет) справиться, крушит все его планы, и заманчивое небо оказывается дном жизни.
В нашей литературе нет вещи с более точным и страшным диагнозом новорожденному капитализму. Не второе и не третье поколение, а самое первое и на самой вершине взлета! И все потому, что нельзя обмануть жизнь. Нельзя добиться благополучия, обворовывая и разрушая свою страну, как нельзя стать большим писателем ценой предательства своей духовной родины, какой бы нелепой и нищенской перед лицом цивилизованного мира она ни представлялась.
В «Небе падших» Юрий Поляков закольцевал две темы и две линии. Тему личной судьбы, личной творческой биографии и тему «новых русских» без анекдотической примеси, взятой в самом точном смысле этого слова».
Тем временем Владимир Березин в «Независимой газете» настаивал на том, что Поляков якобы грубо исказил правду образа: «На самом деле это сказание о новых русских. Но не о настоящих новых русских, а о тех, которых придумало массовое сознание, которых создал обыватель, подглядывая за ними в дырочку. Обыватель создал их по своему образу и подобию — только еще хуже… Надо сказать, что Поляков всегда был популярен через общественный интерес к теме. Актуальность стирки чужих портянок, актуальность свального греха в комсомольской сауне…»
«Независимая газета» принадлежала в то время Березовскому, и опубликованный в ней отзыв вряд ли мог быть другим. Зная, как часто и по каким мелочам Борис Абрамович вмешивался в редакционную политику Виталия Третьякова, можно не удивляться, если вдруг окажется, что рецензию инициировал хозяин, внимательно следивший за современным искусством. Тем более что по своему психотипу и некоторым эпизодам биографии поляковский Шарманов, пожалуй, напоминает Березовского. Да и конец обоих одинаков — смерть от руки киллера. Кстати, почти в то же время Березовский заказал режиссеру Павлу Лунгину и щедро профинансировал фильм «Олигарх», призванный показать, что лидеры большого бизнеса, а точнее собирательный лидер — Платон Маковский (Владимир Машков) — талантлив, энергичен, по-своему справедлив и к тому же страдает от чужого вероломства. Фильм, сработанный по законам коммерческого кино, в прокате успешен не был: зрители не поверили ни режиссеру, ни его героям…
Автору «НГ» Березину возразил в журнале «Проза» Николай Переяслов: «Как бы ни возвеличивал «новых русских» В. Березин, а повесть Ю. Полякова — это такой же обличительный документ нынешнему режиму, как, скажем, «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына — социализму. Но если созданное Солженицыным полотно обвиняет власть России в уничтожении своих, хотя и гипотетических, противников, то повесть Полякова показывает, как эта власть угробливает уже собственных апологетов… Даже если бы автор не показал его физической смерти, мы все равно были бы вправе говорить об обличительности Полякове кой повести, так как отнять у человека смысл жизни практически равнозначно тому, что отнять у него и саму жизнь. А сужение мира «новых русских» до размеров вагины как раз и свидетельствует о том, что в этой жизни их уже ничего не интересует».
В. Широков в «Книжном обозрении» отмечал: «Юрий Поляков так устроен как писатель, что с сейсмографической точностью и чуткостью откликается на реальные сотрясения своей страны, своей почвы, своих современников, улавливая мельчайшие психологические колебания в нравственно-социальной атмосфере…»
В одном из интервью сам Поляков так объяснил свой замысел: «Моя повесть о любви. Странной, трагической. Изломанной… Понимаете, судьбы так называемых новых русских отданы сейчас на откуп детективам и другим развлекательно-чернушным жанрам, которые по своей природе стоят гораздо ближе к кроссвордам, помогающим убить время в электричке, нежели к литературе. А на самом деле «русские мальчики эпохи первичного накопления» еще ждут своего Достоевского. Есть, конечно, травоядные, питающиеся долларовой зеленью. Их задача — набить поскорее брюхо и отползти из «этой страны». Но мне как литератору они не интересны… Но есть и другой тип нового русского. Эти люди замысливали свою жизнь иначе — хотели быть учеными, военными, изобретателями, художниками. Радикальные реформы направили их пассионарную энергию по другому руслу. Им сказали: «Обогащайтесь!» — и они обогатились. Но у многих в душе остались боль и горечь оттого, что в сегодняшней России предприимчивый человек может добиться благополучия, лишь обворовывая своих соотечественников и разрушая собственную страну… В этих людях при всем внешнем блеске что-то непоправимо сломалось. И даже великий дар любви оборачивается для них пыткой. Такая любовь не рождает жизнь, а отнимает жизнь… Впрочем, тема возмездия — одна из ведущих в русской литературе…»
Как и все предыдущие сочинения, «Небо падших» стало лонгселлером и постоянно переиздается и допечатывается. Ее перевели на польский, китайский, венгерский, сербский, румынский, немецкий.
В Театре на Васильевском острове в Петербурге с успехом идет одноименная инсценировка. Когда спектакль после десятилетней жизни на сцене сняли — ради обновления репертуара, зрители настойчиво потребовали его вернуть, и он был восстановлен. «Небо падших» — пока единственное произведение современного российского автора, экранизированное дважды. Первая киноверсия повести под названием «Игра на вылет» была снята в 2000 году режиссером и актером Константином Одеговым. В роли Катерины там снялась ученица Баталова молодая актриса Юлия Рытикова. Премьера второй киноверсии состоялась в 2013 году. Профинансировал этот проект московский предприниматель Артем Щеголев, решивший экранизировать любимую книгу к двадцатилетию своей фирмы. Поставил картину режиссер Валентин Донсков, в главных ролях снялись Екатерина Вилкова и Кирилл Плетнев. Фильм имел хорошую прессу, был отмечен на фестивалях, время от времени его показывают на ТВ.
* * *
«Не помню, где и когда мы познакомились с Говорухиным, но в 1998 году он позвонил и неожиданно пригласил меня принять участие в написании сценария. Объяснил: ему понравились диалоги в «Небе падших». Фильм он решил снять по мотивам повести Виктора Пронина «Женщина по средам», основанной на судебном очерке о реальном происшествии, когда старик-фронтовик в обиде пострелял молодых местных бандитов. Повесть предстояло «расписать», чтобы актерам было что играть. Говорухин пригласил сценариста Александра Бородянского, который выстраивал материал поэпизодно, а мне доверили прописать диалоги. В повести их оказалось слишком мало. Когда фильм, снятый в Калуге за месяц, уже монтировался, надо было определяться с названием. Имелись варианты: «Сицилианская защита», «Месть по-русски», «Ворошиловский стрелок». Говорухин, страстный любитель шахмат, склонялся к «Сицилианской защите». Помню, как мы сидели с ним в кафе «Мосфильма» и я убеждал: если возьмем «Защиту», все решат, что это про шахматы, а название «Месть по-русски» прямо отсылает к только что вышедшей картине Евгения Матвеева «Любить по-русски». «Что ты предлагаешь?» — хмуро спросил Говорухин. Я ответил: «Ворошиловский стрелок!» В ленте есть эпизод, когда герой Ульянова, в прошлом фронтовой снайпер, покупает оптическую винтовку, пробует ее, стреляя в цель, и восхищенные бандиты восклицают: «Ну ты, дед, прямо ворошиловский стрелок!» Эти слова в сценарий я вставил, памятуя о значке, который когда-то выпросил у соседа по маргариновому общежитию и отнес в школьный музей. Говорухин только махнул рукой: «Какой еще «Ворошиловский стрелок»? Все давно забыли, что это такое!» — «Ну и что! Актуализация артефакта», — возразил я. «Как ты сказал?» — встрепенулся мастер. Ему нравились наукообразные обороты, зацепившиеся у меня в сознании со времен написания диссертации, которыми я пользовался полувсерьез. Я твердо повторил: «Это будет актуализация артефакта». — «Хорошо. Давай спросим вон того пацана, который грязную посуду собирает, и если он знает, что такое ворошиловский стрелок, так и назовем!» Он подзывает пацана: «Сынок, а скажи-ка ты мне, кто такой ворошиловский стрелок?» Парень отвечает: «Ну как? Это тот, кто метко стреляет! У моего дедушки такой значок есть…» Говорухин на меня посмотрел (он меня почему-то с самого начала называл с ударением на «я» — Поляков): «Как ты, Поляков, твою мать, сказал?» — «Актуализация артефакта!» — «Вот так и назовем!» Но это — начало истории, было еще окончание. Прошло много лет. Мы сидели в Кремле на вручении президентских наград, и Говорухин спросил: «Ну, поэт, как дела?» Да ничего, говорю, пьесу вот закончил. «Как называется?» Я ответил: «Как боги». Мастер поморщился: «Хреновое название! Учись у меня. Я как назову — сразу в народ идет! «Так жить нельзя!» или «Ворошиловский стрелок»…»
Лента стала однозначным приговором морали и образу жизни 1990-х, когда любой из нас оказывался беззащитным перед вседозволенностью денег и власти, когда простому человеку было не достучаться со своей бедой до тех, кто обязан был охранять закон и порядок. Фильм вышел в прокат весной 1999-го и стал народным во всех смыслах этого слова. Кинотеатров тогда почти не было, в кинозалах продавали тряпье, мебель и даже автомобили, люди в кино почти не ходили, но эту ленту посмотрели буквально все. И хотя режиссер использовал достаточно распространенный в западном кино сюжет, когда герой в одиночку борется со злом и собственными силами наводит порядок, не ожидая этого от коррумпированной власти, либеральная критика встретила фильм в штыки. Те же критики, что восхищались американскими героями, не ждущими милости от государства, а добивающимися справедливости при помощи кольта с полуметровым стволом, завопили, что это безобразие, что Говорухин якобы «зовет Русь к топору». А ведь режиссер, собственно, еще раз хотел сказать всем, что так жить нельзя. Впрочем, прошло время, и теперь «Ворошиловского стрелка» показывают в цикле «Легенды нашего кино».
Но тогда, в конце 1990-х, те, кто захватил власть и финансы, страшно боялись реакции народа и везде трубили о попытках реставрации коммунизма. Попросту лгали. Коммунизм к тому времени был уже невозможен — государственная собственность разрушена, распродана за бесценок, сформированы крупные олигархические капиталы из уведенной государственной собственности, громилась армия, сдавались наши геополитические интересы, к нам запускался американский капитал, советники американских спецслужб тут попросту жили и получали оклады… Недаром Путин как-то сказал: «Мыто помним, что советниками у него (Чубайса. — О. Я.) были одни цэрэушники».
* * *
1999-й был годом, до предела насыщенным политической борьбой. Движение «За новый социализм!» вошло в блок генерала Андрея Николаева и академика Святослава Федорова. Напомним, что Николаев возглавлял погранвойска и был уволен Ельциным за то, что слишком настойчиво обращал внимание власти на незащищенность наших тогдашних границ. Академик Федоров, знаменитый офтальмолог, вскоре после выборов погиб при весьма странном крушении своего вертолета над Москвой.
«Я уже отлично знал, что все пойдет как в известном анекдоте, — рассказывает Поляков. — Понимал, что все мандаты уже проданы, и относился к этому спокойно — скорее как к сбору материала, тем более что по иронии судьбы штаб-квартиру нам выделили в офисном помещении при цехе рыбного копчения. С тех пор запах большой политики ассоциируется у меня с тяжелым духом рыбной коптильни».
К избирательной кампании Поляков выпустил новый сборник публицистики, который назвал «Порнократия» — и это было еще не самое обидное прозвище из тех, какие он давал тогдашней власти. Зная механизмы избирательной системы и предопределенность результата, он отнесся к выборному марафону как к широкой возможности распространения своих идей и взглядов на современную Россию и роль культуры в обществе. Севастополь (точнее, Черноморский флот) также входил в его избирательный округ. Вот что писала в декабре 1999 года газета «Черноморец» в материале «К нам едет Юрий Поляков»: «…Он везет с собой в Севастополь новый фильм Гражданина, режиссера и политика Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». Юрий Михайлович, являющийся соавтором сценария этой кинокартины, проведет в нашем городе творческие встречи со зрителями и читателями своих книг…»
«Яуфы с пленкой наши таможенники в аэропорту не хотели пропускать: ведь Крым — это заграница. Начальник моего штаба Алексей Анисимов, бывший офицер, долго бегал по разным кабинетам и все-таки получил разрешение. Севастополь произвел странное впечатление: сильно обветшал за те десять лет, что я в нем не был. Кроме того, возникало ощущение какой-то внутренней осады: киевские власти по мелочам давили и метили город русской боевой славы потеками своей сомнительной государственности. По иронии судьбы среди моих конкурентов снова оказалась яблочница X. Не досидев срока в Гордуме, она решила перескочить выше — в Госдуму. Меня и Анисимова пригласил на ужин заместитель командующего Черноморским флотом. Ужинали в удивительной бане, примыкавшей к береговому гроту: из парной можно было прыгнуть прямо в ледяное море. После не первой рюмки адмирал вздохнул и сказал: «Жаль, что вы не станете нашим депутатом…» — «Почему?! — возмутился Анисимов, преодолевая ступор субординации. — У нас отличный рейтинг…» Заместитель командующего грустно посмотрел на нас и сделал такое движение, словно надвигает на лоб кепку. Однако флотоводец ошибся. В последний момент у «Яблока» напряглись отношения с Кремлем, и депутатом от нашего округа стал Владимир Лысенко, похожий на мелкого банковского клерка… А вот фильм, показанный в Доме офицеров, не имел того успеха, на который мы рассчитывали. Зрителям было неприятно видеть, какие безобразия творятся на горячо любимой родине. К тому же жителей Севастополя проблемы социальной справедливости волновали меньше, чем та геополитическая подлость, в результате которой Крым оказался на Украине. Однако все были уверены, что это не навсегда…»
Говорухин после премьеры своего нашумевшего фильма включился в президентскую гонку: кажется, по совету Лужкова выдвинул свою кандидатуру на пост президента России и предложил Полякову стать его доверенным лицом. Тот согласился, несмотря на то что основным соперником у него был премьер-министр Владимир Путин. Правда, в самом начале гонки с кандидатом случилась неприятность: он неудачно упал, сломал несколько ребер и угодил в больницу, откуда и наблюдал, как первые недели телевизионные дебаты вел за него Поляков. Вот как вспоминает об этом Поляков: «Среди моих оппонентов был персонаж с бородкой, Александр Севастьянов, который одно время являлся демократическим руководителем КГБ в Москве. Хорошая для кухонного либерала карьера: из диссидентствующих младших научных сотрудников в шефы спецслужб! И вот мы с ним в прямом эфире. Он объявляет: «Я считаю, что совершил поступок, который вошел в историю России. Я лично повесил замок и опечатал двери ЦК партии, из дома на Старой площади мы выгнали всю эту аппаратную и номенклатурную сволочь. Это мой вклад в освобождение России, и с этим я иду в президенты!» Я киваю: «Восхищен вашим поступком! Что там было раньше? Какой-то ЦК КПСС! А что сейчас в этом помещении? Детская музыкальная школа, балетные классы, кружки хорового пения, студия изобразительного искусства… Спасибо вам!» Он смотрит на меня как на ненормального, а я продолжаю: «Кружки макраме, кройки и шитья, школа молодой матери…» Он недоумевает: «Вы что говорите?! Там ничего такого нет!» — «А что же там теперь, на Старой площади?» — «Ну как это что? Там администрация президента!» — «Ну и за каким хреном вы закрывали и опечатывали, что там изменилось?! Если ваша администрация и отличается от ЦК КПСС, то лишь в худшую сторону!» Он настолько обалдел, что лишился дара речи. Дебаты я выиграл вчистую. А вечером позвонил Говорухин и сказал, что я совершенно распоясался, несу вздор и он, недолечившись, покидает Центральную клиническую больницу. В чем-то он был прав: я и в самом деле начал временами чувствовать себя «пастырем народов». В итоге Говорухин набрал чуть меньше процента. В марте 2016 года в банкетном зале ГУМа Владимир Путин, поднимая тост в честь восьмидесятилетия юбиляра, сказал, что если бы тогда, весной 2000 года, на выборах, он проиграл Станиславу Сергеевичу, то был бы все равно спокоен за будущее России. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки».
* * *
Семейная жизнь четы Поляковых шла своим чередом. Дочь Алина в 1997-м окончила школу и поступила на филологический факультет МГУ, романо-германское отделение, но потом взяла академический отпуск и перевелась в РГГУ. В 1998-м умер после инсульта, пролежав без движения два года, Михаил Тимофеевич.
В том же году Поляковы начали строить дом в поселке Переделкино, на улице Довженко, напротив Музея Булата Окуджавы. Строились на пепелище: там прежде была казенная дача, где когда-то жил поэт-фронтовик Михаил Луконин, а потом — литературовед Виталий Озеров и его жена Мэри Лазаревна, принимавшая как редактор участие в публикации первых повестей Полякова в «Юности».
Однажды на вопрос ехидного «булатомана», почему его дача намного больше литфондовского домика Окуджавы, Поляков ответил так:
— Если бы я был женат несколько раз и жил преимущественно в Париже, как певец виноградной косточки, то вряд ли потянул бы большой дом… Но я не разбрасываюсь ни женами, ни Отечеством.
Впрочем, он подарил музею барда стройматериал, из которого сделаны скамьи для зрителей, приходящих «к Булату» на концерты под открытым небом.
Семья переехала в новый дом с Хорошевского шоссе летом 2001 года, с тех пор там и живет. Окна кабинета теперь выходят не на Ходынское поле, а на высокие переделкинские сосны и березы. А ночью небо освещает красное зарево недальнего Внуковского аэропорта. Зимой Юрий Михайлович встает на лыжи прямо за калиткой, а летом и осенью они с Натальей ходят по грибы.
* * *
В августе 1998-го либеральная «Литературка» (главным редактором был тогда Аркадий Удальцов) неожиданно для Полякова согласилась опубликовать его статью «Фабрика гроз», впервые за семь или восемь лет. Тема, которую затронул автор статьи, брала за живое: телевидение как отражение состояния общества и общественных отношений. Впрочем, сказалось и то, что на должности заместителей главного редактора в «ЛГ» тогда пришли Игорь Серков (с ним Поляков работал в журнале «Смена») и Леонид Колпаков, с которым Юрий плотно общался, сотрудничая с газетой «Век». Они, видимо, и убедили Удальцова, вышедшего из комсомольской печати, но молниеносно переориентировавшегося в 1991-м, печатать сенсационную статью. Поляков, похоже, был первым, кто дал аргументированный анализ антигосударственной работе российского ТВ:
«Эмоциональное и информационное насилие над нами осуществляется разными способами. Но из всех способов важнейшим является ирония. Тотальная ирония. <…> Ведь нынешнему телерепортеру ирония, как правило, заменяет то, что во времена застойного ТВ называлось «личным отношением», а иногда заменяет и просто знание предмета повествования. Ирония исчезает лишь в том случае, когда информация касается самих тележурналистов, шире — деятельности СМИ или нескольких священных коров и быков, которым позволено больше, чем Юпитеру. Зато уж деятельность оппозиции для нашего ТВ совсем не предмет отражения, а объект пародирования. Достигается это самыми разнообразными способами. На снижение работает все — дебильный ракурс, неудачная оговорка, позевывание в заседании… Про такие элементарные вещи, как глумливый монтаж и пренебрежительный закадровый комментарий, даже не говорю. Если бы Чубайса хотя бы несколько раз показали с той саркастической нелюбовью, с которой показывают, скажем, Зюганова, рыжеволосого «общенационального аллергена» давно бы уже в политике не было. Понятно, что угодное власти мероприятие снимается оператором сверху, если много народу, и снизу, если мало. И наоборот, неугодное мероприятие снимается снизу, если много народу, и сверху, если мало. Но это уже даже бабушки на завалинках знают…
Да простят меня члены самопровозглашенной телевизионной академии, но наше телевидение порой напоминает мне «классный подряд». Была, точнее, грезилась когда-то такая комсомольская инициатива: выпускной класс ехал в колхоз и брал под свою ответственность, скажем, свиноферму. Так вот, когда я переключаю программы, у меня иногда складывается впечатление, что выпускной класс московской английской спецшколы взял в подряд отечественное телевидение. Дело нашлось всем — и действительно способным, и тем, что с «фефектами фикции», и даже второгодникам… Что из этого вышло — перед глазами у каждого из нас, причем каждый божий день. А если говорить всерьез, произошла чудовищная деинтеллектуализация ТВ. Писателя на экране заменил скетчист, историка — журналист, кое-что почитавший по истории, ученого — полуневежественный популяризатор. Остались, конечно, еще реликты профессионализма, но я говорю о тенденции. <…>
В качестве интересных гостей все чаще приглашаются в студию тележурналисты, шоумены, дикторы… Это как если б таксисты, вместо того чтобы возить пассажиров, начали бы катать друг друга! <…>
Телевизионщики любят показывать, как кто-нибудь закрывает растопыренными пальцами объектив камеры. Да, кто-то закрывает, потому что боится правды… Но очень многие закрывают, потому что боятся неправды. Покажут то, чего не было, да еще обсмеют мимоходом… Нет, нам не нужно ТВ упертых политинформаторов, но и телевидение бездумного хохмачества, взирающее на трагедию страны с позиций несуществующего эфирного класса, тоже не нужно… ТВ — одна из важнейших опор государства, а не агрегат по выкорчевке оных…»
Статья широко обсуждалась: телезрителями — с сочувствием, телевизионщиками — с возмущением. Тем не менее Олег Попцов, возглавивший тогда московский канал ТВЦ, вскоре пригласил Полякова вести новую передачу «Дата».
Тогда же произошел конфликт, из-за которого Поляков вышел из Союза писателей России. Дело было так. «Литературная Россия» навстречу очередному съезду писателей провела опрос среди литераторов: кого они хотели бы видеть во главе союза вместо Валерия Ганичева? Большинство ответили: Полякова. Много сделавший для укрепления «русского направления», бывший глава «Комсомольской правды» и «Роман-газеты», возглавив писательскую организацию, руководил ею так, как это было принято в прежние времена. При СССР власть относилась к проблемам литературного цеха с повышенным вниманием: достаточно было грамотно изложить просьбу — и тут же следовала помощь. Но в 1990-е они столкнулись с тем, что Поляков назвал «отделением литературы от государства». Власть, дав писателям «вольную», сняла с себя и всякую заботу о них, а поддержку оказывала исключительно авторам либерального направления. Основы такой политики заложил тогдашний глава администрации президента Сергей Филатов, сам по семейной традиции не чуждый изящной словесности. Поляков понимал противоестественность сложившейся ситуации и весной 1999 года выступил в газете «Московский литератор» с программным интервью «Необходимо восстановить союз русской литературы с российской государственностью». С подобными идеями он выступал и в центральных изданиях. Не случайно опрос «Литературной России» показал: писатели видят в Полякове лидера и ожидают, что он выведет их из положения аутсайдеров. Вот как рассказывает об этом он сам:
«Вдруг позвонил Ганичев, пригласил на встречу и попросил стать на скором съезде его первым заместителем. Мол, мне уже пора на покой, я в новых условиях не справляюсь, помоги! Я удивился и обещал подумать. В ту пору я дружил с прозаиками-сверстниками Михаилов Поповым и Александром Сегенем. С ними я поделился за дружеской бутылкой предложением Ганичева стать его первым заместителем и взять на себя налаживание отношений патриотического СП России с властью. Они удивились, что я еще колеблюсь, и в один голос стали уверять: это уникальный шанс для поколения «сорокалетних» взять на себя ответственность за судьбу Союза писателей. И я согласился, хотя никаких карьерных и материальных соображений у меня не было. Я как раз завершал работу над романом «Замыслил я побег…» да еще за хорошие деньги руководил сценарной группой… Более того, едва мы ударили с Ганичевым по рукам, я из моего избирательного фонда (как раз началась кампания по выборам в Госдуму) выделил немало средств, чтобы оплатить проживание в Москве иногородних делегатов съезда СП России. Но это позволило мне оговорить некоторые условия: я настоял, чтобы рабочим секретарем был выбран Саша Сегень, а когда уже во время работы съезда выяснилось, что в правление не попадает Миша Попов, председатель секции прозы Московской писательской организации, я жарко выступил, и ошибку тут же исправили. Каково же было мое изумление, когда я услышал, как Ганичев с трибуны говорит обо мне примерно следующее: Поляков-де — человек с мутной гражданской позицией, но он достал нам денег, у него есть связи в верхах, поэтому мы вынуждены удовлетворить его страстное желание стать секретарем правления. И тут началась обструкция, которой умело управляла критик Лариса Баранова-Гонченко. Увы, к этому разносу имел отношение друг моей литературной молодости Сергей Лыкошин — один из замов Ганичева. Особенно всех возмущало, что я веду колонку в «еврейском» «Московском сексомсольце», что состоял какое-то время в еврейском же ПЕН-клубе, что в моей прозе много эротики — и это тоже ставит под сомнение мое православие и генетическую чистоту, ибо болезненный эротизм — признак сами понимаете чего. Смотри выше… По рядам шептались, что то ли я сам еврей, то ли женат на еврейке. Увы, среди патриотов встречаются и антисемиты, как среди евреев попадаются русофобы. «Погодите, — пытался объяснить я. — Важно не то, где человек печатается, а что он пишет!» Но никто уже никого не слушал. Если не считать двух-трех попыток выступить в мою поддержку, меня единодушно прокатили. Напрасно я высматривал в зале Сегеня, уже выбранного секретарем, — он исчез, а Попов неподвижно сидел, уставившись в пол. В сердцах я высказал все, что думаю о патриотических собратьях, и вылетел из зала… В коридоре меня поджидал с антистрессовой рюмкой Юрий Л опусов, многолетний работник СП России, с которым я дружил, можно сказать, с юности.
— Юра, надо уметь проигрывать! — грустно молвил он, и я понял, что Лопусов все знал заранее и, конечно, опрокинул поднесенную рюмку.
Я приехал домой, рухнул в постель, но не мог заснуть, вспоминая почему-то давнюю историю, когда в институте меня объявили чуть ли не врагом советской власти. И тоже ведь никто, даже друзья, не заступился, кто-то не сумел, а кто-то не захотел: «Вдруг и в самом деле враг — просто мы не знаем».
Наутро позвонил Попов:
— С предателем разговаривать будешь?
— Разговаривать буду, а дружить — нет».
Вот как об этом рассказывал по горячим следам Поляков в интервью «Аппаратные игры в особняке на Комсомольском», опубликованном в «Литературной России» 26 ноября 1999 года:
«…Стоят за этим, как всегда, борьба за власть и теплые кресла. Многие писатели в предвыборных анкетах высказали пожелание, чтобы Союз писателей России возглавил я, что, честно говоря, в мои планы не входило. Мне хватает лидерства за письменным столом. Правда, месяца за два до съезда Валерий Ганичев обратился ко мне с просьбой войти в новый состав рабочего секретариата. Мотивация была такая: вас знают, читают, вы нам поможете установить диалог с властью и решить некоторые «зависшие» писательские проблемы… После колебаний я согласился. Выступая на съезде, я говорил о том, что можно находиться в оппозиции к режиму, но находиться в оппозиции к государству Российскому нельзя, ибо потери в этом случае несут прежде всего писатели. У литературных же чиновников все хорошо — они болтаются по заграницам, произносят тосты на фуршетах, распределяют между собой премии и стипендии, плетут окололитературные интриги… Наш Союз сегодня, увы, напоминает хорошо сохранившиеся руины… У меня, честно говоря, возникает подозрение, что эти люди не заинтересованы в том, чтобы он зажил полноценной общественно-литературной жизнью.
Ведь тогда их несостоятельность будет всем очевидна. Грустно. Особенно жаль писателей — стариков и литературную молодежь.
Корр. И что вы собираетесь предпринять в данной ситуации?
Ю. П. Уже предпринял: снова сел за роман «Гипсовый трубач», который отложил, чтобы, так сказать, поработать на общее писательское дело. Играть в аппаратные игры в особняке на Комсомольском проспекте у меня нет ни времени, ни желания».
Через несколько дней Поляков вышел из Союза писателей России. С тех пор он уже не обольщался надеждой найти среди писателей единомышленников, с которыми мог бы позволить себе дружеское общение. Все они с его приходом в «ЛГ» печатались на ее полосах, но цену этой дружбе он больше проверять не захотел. Видимо, тогда и родился афоризм: «Предательство обладает такой разрушительной силой, по сравнению с которой атомная бомба покажется китайской петардой»…
* * *
1999 год принес не только обиды, но и большую победу: был закончен и опубликован роман «Замыслил я побег…», над которым писатель работал несколько лет. Эта вещь, менее гротесковая и более приближенная к реальной жизни, требовала каких-то иных писательских усилий и иной концентрации внимания, чем три предыдущие. Вот что он говорил о своей работе в «Книжном обозрении» 19 июля 1999 года:
«— …Мой новый роман «Замыслил я побег…» написан в той же манере «гротескного реализма». В нем тоже работает принцип «преувеличения недолжного», в нем тоже комическое и трагическое завязаны в один прихотливый узел. Но это — семейный роман, если хотите — сага.
— Как правило, серьезный «семейный роман» — это страницы истории не только семьи, но и страны, в которой эта семья живет. Когда читаешь «Сагу о Форсайтах», понимаешь, почему рухнула Британская империя…
— Именно! Понять, почему рухнула Российская империя, можно, читая «Тихий Дон». И понять по-настоящему, почему рухнула советская империя, можно тоже только с помощью литературы.
— И в своем романе вы замахнулись объяснить…
— Да, я попытался написать такую книгу. Я подхватываю своих героев в середине 70-х и провожу их сквозь все неудобья времени, сквозь застой, перестройку, ельцинизм… Я писал этот роман три года. Кто-то улыбнется над моим замахом, но ведь писатель и должен ставить перед собой сверхзадачи. Даже если в процессе работы «сверх» отпадет, все равно его отблеск останется в тексте. А это уже немало! Судьба писателя, не ставящего перед собой сверхзадачи, жалка. Его удел — изнывать от самоповторений, заглядывать в глаза критикам, молить издателей об авансе и завязывать шнурки на ботинках заезжих грантодателей…
— А как, на ваш взгляд, обстоит дело со сверхзадачами у других писателей в нашей текущей литературе?
— Они появляются. На мой взгляд, отечественная литература возвращается на круги своя. Сегодня уже мало тщательно описывать фекальную сторону бытия или рифмованно издеваться над Павликом Морозовым, чтобы считаться соответственно прозаиком или поэтом. Приводы в милицию и прочие нелады с советскими законами тоже уже не гарантируют почетное место на российском Парнасе. Словесный эксперимент, оторванный от серьезной художественно-мировоззренческой цели, интересен ныне разве какому-нибудь провинциальному русисту из медвежьего зарубежного угла. И то в основном лишь потому, что он, русист, увлекался подобными словесными экспериментами, переходя с третьей ступени изучения русского языка на четвертую. Честно говоря, мне жаль этих людей, забежавших в великую русскую литературу с дохлыми крысами на веревочках. Они растеряны, они нервничают, объясняют критикам и читателям, какие у них замечательные крысы. Но критики уже хотят новых поводов для демонстрации своего университетского образования. А читатели хотят литературы.
И они ее получают. Да, одни суетились вокруг странных букеров-антибукеров и не менее странных пушкинских премий немецкого происхождения, а другие бегали, показывая всем щеку, потрепанную Бродским, или вихор, поглаженный Солженицыным. Но третьи тем временем сидели и писали, пытаясь понять наше безумное время. Именно их книги оказались сегодня востребованы. Они издаются — и они читаются.
— Помнится, вы когда-то назвали постмодернизм укропчиком, которым посыпано мясо. «А мясо — это реализм, — сказали вы, — и есть надо мясо, а не укропчик».
— Верно. Постмодернизм бывает разный. Я сам сейчас работаю над постмодернистской вещью — «Гипсовый трубач». Я давно хотел написать постмодернистский роман, но такой, чтобы читатель не засыпал на второй странице, чтобы он чувствовал себя Читателем, а не подопытным кроликом, и не тонул в интертексте, как в выгребной дачной яме…
— Вы много пишете — заточились, наверное, «в обители трудов и чистых нег»…
— Да нет, кроме творчества — работы очень много. Я как консультант принимал участие в разработке серии современной прозы «Имена» в «Олма-пресс», вот буду редактировать толстый альманах «Новая русская словесность», который планирует выпускать это же издательство. В нем сможет печататься литературная молодежь, лишенная, к сожалению, того внимания, порой строгого, которым было окружено мое литературное поколение, — журнал «Юность», например, уничтожен группой энергичных пенсионеров.
Недавно состоялось значительное событие литературной жизни — «Олма-пресс» выпустило огромный том «Русская поэзия XX века». Это почти тысяча страниц, около 750 имен. И мне приятно сообщить, что с проектом этой антологии почти три года назад в издательство пришел именно я. Я очень рад, что этот мой проект осуществился в год Пушкина, которому мы и посвятили антологию…
— Конец века — время антологий, вон сколько их выходит. Чем же отличается ваша?
— По этой книге, надеюсь, будут судить о русской поэзии всего века, как мы судим о поэзии первой четверти XX столетия по знаменитой антологии Ежова и Шамурина.
— Да чем же она хороша? По какому принципу составляли — количественному или качественному?
— Любой поэт любого направления, заявивший о себе в отечественной поэзии, нашел в антологии свое место. Труд был тяжелый, и, вполне возможно, кто-то достойный пропущен. Сейчас мы как раз собираем замечания и рекомендации, и в переиздании все эти досадные промахи будут учтены.
— Мне почему-то кажется, что когда антологий много, они в литературном процессе подобны затонувшим кораблям: все знают, что есть у нас что-то значительное — «Титаник», антология, — а никто не пользуется, и лежит все это на дне.
— Глубоко заблуждаетесь. Когда в эпоху исторических сломов литературный процесс теснее, чем обычно, переплетается с политическим процессом, наступает период вопиющей эстетической несправедливости. Вспомните, как Есенина бесил Демьян Бедный. Когда крупнейший русский поэт XX века Владимир Соколов умирает в полузабвении, а полубездарный стихотворец, вовремя сменивший коммунистическую риторику на антикоммунистическую, не вылезает из телевизора — это ненормально. В эпоху ревущих информационных сквозняков задуть свечу подлинной поэзии не так уж и сложно. И наоборот, можно до яркого, якобы поэтического пламени раздуть шашлычные угли. Этим занимается, в частности, телевидение. Вот тут-то и выручает честно, объективно, научно составленная антология…»
Заметим, что эта действительно уникальная антология русской поэзии XX века по недоразумению приписывается Владимиру Кострову и Геннадию Красникову, в то время как они, а также Александр Михайлов, Валентина Мальми, Сергей Мнацаканян и другие составители были приглашены в проект Поляковым, которому принадлежала не только идея, но и разработка концепции сборника. Профинансировал издание главный редактор и совладелец издательства «Олма-пресс» Олег Ткач, ныне сопредседатель Российского книжного союза.
Что касается романа «Замыслил я побег…», Поляков потом не раз будет сравнивать его с «Тихим Доном», но не из-за мании величия или недооценки шолоховской эпопеи, а потому, что оба произведения охватывают несколько десятилетий революционной эпохи начала и конца XX века. В центре внимания Шолохова судьба мятущегося русского пассионария Мелехова, а Поляков исследует жизнь колеблющегося русского субпассионария (эскейпера) Башмакова. Можно со скептицизмом отнестись к этому сравнению, но нельзя не признать, что в новейшей отечественной литературе пока еще нет романа, сопоставимого с «Побегом» по широте охвата явлений, обилию психологических и социальных типов эпохи.
В своей публицистике Поляков неизменно отстаивал Шолохова как великого русского писателя от наветов относительно авторства «Тихого Дона», вспыхнувших с новой силой в перестройку и, конечно, после развала СССР. В 2005 году, к столетию классика, Поляков выступил в «ЛГ» со статьей «Шолохов и шелуховеды. Опыт юбилейной апологетики».
…………………..
Год шолоховского столетия месяц в месяц совпал с шестидесятилетием Великой Победы. И конечно, к этим датам готовились не только ревнители, но и хулители. Иной раз на полосах газет соседствовали публикации, где, с одной стороны, доказывалась художественная слабость «Судьбы человека», а с другой — утверждалась стратегическая бездарность Прохоровского сражения. В сетке государственного телевещания порой рядком стояли передачи про то, кто же на самом деле написал «Тихий Дон», и про то, кто же все-таки выиграл войну — мы или союзники… Нет, это не совпадение, а закономерность, ибо Шолохов как художественное явление — ярчайшая победа русской словесности в мировой литературе XX столетия. Утратить Шолохова означает для нас в известном смысле примерно то же самое, что потерять Победу во Второй мировой войне, а ведь последнее частично уже произошло… Свержение таких знаковых фигура как автор «Тихого Дона», неизбежно приведет к утрате духовного авторитета нашей страны в общечеловеческой цивилизации. А духовный авторитет — тоже сдерживающий фактора как мощная армия и атомное оружие.
Вокруг многих писателей при жизни и после смерти велись споры: Веселый, Замятин, Пильняк, Булгаков, Пастернак, Леонов, Астафьев… Но таких долгих и жестоких разборок, как вокруг имени Шолохова и его наследия, еще не было… Он неизменно выходил за рамки навязываемых политических схем. Но выходил, запечатлевая великую обновляющую катастрофу не идеологически, как большинство его литературных современников, а художественно, и не просто художественно, а обезоруживающе художественно! Какой же агитпроп потерпит такое самостоянье?! Думается, если бы не интерес Сталина к литературе, интерес специфический, но глубокий, великий писатель не пережил бы жестокой политической усобицы 30-х, клубок которой только сегодня начинают распутывать.
Объявилась перестройка, красный миф о российской истории XX века был брезгливо отброшен. Но вот незадача: Шолохов с его укорененностью в революционной эпохе опять не вписался в новый идеологический «дискурс», который в буквальном смысле «гулагизировал» всю советскую цивилизацию. Громадный жизненный материал, «скатанный» в его книгах, не позволял совершить вроде бы простенькую (сточки зрения манипуляции общественным сознанием) операцию — переименовать «черное» в «белое» и наоборот. Какой же политтехнолог такую неманипулируемость простит?! <…>
В свое время иному литератору-марксисту с дореволюционным стажем, прочитавшему почти всего Троцкого и Ленина, было непонятно и классово подозрительно явление чуда «Тихого Дона», написанного молодым станичником, хлебнувшим полной грудью братоубийственного лиха. И сегодня сочинитель, вполне усвоивший Дерриду и Фуко, смотрит на писателя, шагнувшего в великую литературу без посвящения в филологическую талмудистику, с откровенным раздражением, ибо феномен Шолохова вновь и вновь заставляет задуматься о том, что гений гораздо чаще зарождается в чистой степи, нежели в университетской реторте.
Ныне в искусстве царствует принцип обедняющей новизны. Общеизвестный, даже банальный прием, по-школярски гипертрофированный, объявляется художественным открытием. Слово «талант» стало почти неприличным, и чтобы критика заметила писателя, он должен быть таким, как все. Понятно, что в этих «предлагаемых обстоятельствах» многосложный, многоуровневый, ассоциативно бескрайний, не поддающийся клонированию Шолохов просто бесит всех, кому важно не ядро художественного откровения, а перформансная шелуха вокруг него. Вот почему сегодня «шелуховедов» едва ли не больше, чем шолоховедов.
Кстати, у маниакальных поисков «подлинного» автора великого романа есть вполне простое объяснение: таким образом, по известным психоаналитическим законам вытесняется подспудный трепет перед грандиозностью центральной русской эпопеи XX века, вызывающей у литератора-прагматика, не верующего в таинство дара, чувство глубокой собственной неполноценности. А какой же сочинитель такое унижение простит!
Сам не заметил, как юбилейный панегирик перетек в юбилейную апологетику. И это тоже нормально! К святыням национальной культуры, к «отеческим гробам» следует относиться с предвзятой любовью. Только так, по крайней мере, в это смутное, не наше время можно противостоять предвзятой нелюбви.
…………………..
Мы намеренно подробно процитировали статью, так как в ней, говоря о своем великом предшественнике, Поляков сжато формулирует собственные взгляды на суть литературного творчества, на взаимоотношение художника к политическим векторам эпохи, на соотношение традиций и новаторства, на природу романной формы.
Поляков был в ту пору единственным прозаиком, чьи произведения печатались из номера в номер в общефедеральных газетах. Первая часть романа «Замыслил я побег…» с октября по декабрь 1998-го публиковалась в газете «Труд», где автор еще и вел колонку «Сто строк от Юрия Полякова». В 1999-м фрагменты романа появились в «Гудке», «Учительской газете», журнале «Воин России» и других изданиях. В том же году с небольшими сокращениями роман был опубликован в четырех номерах журнала «Москва». Примерно тогда же повесть «Небо падших» и роман «Замыслил я побег…» полностью, из номера в номер, напечатала и крупнейшая русскоязычная газета США «Реклама». Даже коммерческие издания брались печатать его тексты, уверенные в успехе: Полякову удавалось увлечь читателя, сымитировав, причем весьма искусно, развлекательное чтение (к этому приему он будет прибегать и в пьесах). Вот как начинается роман:
…………………..
— О чем ты все время думаешь?
— Я?
— Ты!
— Аты о чем?
— Я — о тебе!
— И я — о тебе… — Башмаков, по сложившемуся обычаю, поцеловал коричневый, похожий на изюмину, девичий сосок и вздохнул про себя: «Бедный ребенок, она еще верит в то, что лежащие в одной постели мужчина и женщина могут объяснить друг другу, о чем они на самом деле думают!»
— А почему ты вздыхаешь? — спросила Вета, согласно тому же обычаю, подставляя ему для поцелуя вторую изюмину.
— Поживешь с мое…
— Я обиделась! — сообщила она, специально нахмурив темные, почти сросшиеся на переносице брови.
— Из-за чего? — превозмогая равнодушие, огорчился он.
— Из-за того! До меня ты не жил… Не жил! Ты готовился к встрече со мной. Понимаешь? Ты должен это понимать!
Свою правоту она тут же начала страстно доказывать, а он терпеливо отвечал на ее старательную пылкость, чувствуя себя при этом опрокинутым на спину поседелым сфинксом, на котором буйно торжествует ненасытная юность.
— Да, да… Сейчас… Сейчас! — болезненно зажмурившись, в беспамятстве шептала Вета и безошибочным движением смуглой руки поправляла длинные спутанные волосы.
Эта безошибочность во время буйного любовного обморока Башмакова немного раздражала, но зато ему нравилось, когда Вета внезапно распахивала антрацитовые глаза — и слепой взгляд ее устремлялся в пустоту, туда, откуда вот-вот должна была ударить молния моментального счастья…
Девушка открыла глаза. Но совсем не так, как ему нравилось: взгляд был испуган и растерян. Горячее, трепещущее, уже готовое принять в себя молнию тело вдруг сжалось и остыло. Мгновенно. Башмаков даже почувствовал внезапный холод, сокровенно перетекающий в его тело, будто в сообщающийся сосуд.
«Наверное, так же чувствуют себя сиамские близнецы, когда ссорятся, — предположил он. — Сейчас спросит про Катю…»
Вета склонилась над ним и прижалась горячим влажным лбом к его лбу. Ее глаза слились в одно черное, искрящееся око:
— А ты не обманываешь?
— Ты мне не веришь?!
— Тебе верю, но есть еще и она.
— Ты же знаешь, мы спим в разных комнатах.
— Правда?
— Врать не обучены! — оскорбился он, думая о том, как все-таки юная наивность украшает мир.
— Но ведь она…
— Катю это давно не волнует.
— Ее! — Вета обиженно выпрямилась.
— Ладно, ее это давно уже не волнует, — согласился Башмаков, морщась от боли.
— Наверное, лет через двадцать меня это тоже волновать не будет. А ты станешь стареньким, седеньким, с палочкой… Я тебе буду давать разные лекарства.
— Знаешь, какие старички бывают? О-го-го!
— Тогда и меня это тоже будет волновать. Я тебя замучу, и ты умрешь в постели!
— Люди обычно и умирают в постели.
— Нет, люди умирают в кровати, а ты умрешь в постели. Со мной!
— Возможно, — кивнул Башмаков и заложил руки за голову.
— Тебе со мной хорошо? — Она снова склонилась над ним, касаясь сосками его волосатого тела.
Грудь у нее была большая, еще не утомленная жизнью, и напоминала половинки лимона. А это, если верить одной затейливой методе определения женского характера, означало «романтическую сексуальность, доверчивость, преданность и безоглядную веру в будущее».
— Мне очень хорошо.
— Очень или очень-очень?
Башмаков подумал о том, что достаточно увидеть мужчину и женщину наедине, чтобы понять, кто из двоих любит сильнее или кто из двоих вообще любит. Тот, кто любит, всегда участливо склоняется над тем, кто лежит, заложив руки за голову.
— Очень или очень-очень? — повторила Вета свой вопрос.
— Очень-очень…
(«Замыслил я побег…»)…………………..
Полный вариант романа вышел уже в издательстве «Молодая гвардия», куда перешел Поляков и где вскоре началась работа по подготовке к изданию его четырехтомника. Сорокатысячный тираж романа разошелся за пару недель, магазины засыпали издательство заказами, о новом произведении суперпопулярного автора много писали и говорили.
Поляков дал множество интервью, в которых приоткрыл некоторые творческие секреты и высказал отношение к своим героям: «Для людей, подобных моему герою, я придумал термин «эскейпер». Это такой человек, который никогда ничего не может решить — ни в социальном плане, ни в личном. Такие люди есть в любой стране, но когда процентное соотношение таких людей превышает допустимые нормы, обществу грозит неминуемая гибель. Поэтому и фамилия главного героя перекликается со знаменитым гоголевским героем. У Гоголя — Башмачкин, у меня — Башмаков».
Ниже приводится фрагмент беседы с критиком Владимиром Бондаренко, опубликованной в 2000 году в «Дне литературы»:
«В. Б. Итак, Юра, замыслил ты свой побег в литературу. Считаешь его удачным? Что-то серьезное удалось сделать, по своим собственным наблюдениям?
Ю. П. Прошел год после публикации романа «Замыслил я побег…». Сейчас вышло третье издание книги. Может быть, и детективы так часто не переиздаются. Был недавно у меня любопытный случай. Я зашел в сберкассу перевести деньги, кассирши меня узнали, вызвали заведующую, и она мне сказала, что, мол, прочитали все сотрудницы ваш роман и даже один раз остались после работы и устроили этакое обсуждение, то, что в советское время называлось читательской конференцией. У всех были разные точки зрения на героя, на героиню, и чуть ли не до глубокой ночи они спорили о романе. Мне, конечно, как автору было очень приятно, но самое важное — я увидел, что читатель возвращается в хорошем смысле слова к прежнему советскому восприятию книги. Как части собственной жизни. Как повода для серьезных размышлений о жизни, о стране. И я рад, что одним из индикаторов читательского внимания стал роман «Замыслил я побег…».
В. Б. Я прочитал его как завершение судеб амбивалентных героев Маканина, Киреева, Афанасьева, Кима, которые со всеми своими личностными амбициями не выдержали накала перестройки и легко дали себя растоптать ельцинскому режиму и нагловатым новым русским. Ты поставил свою точку в судьбе этого поколения невостребованных маргиналов. Они, эти «гамлеты без шпаги», не выдержали первого же тяжелого удара. И ты уже от имени другого, более молодого поколения предъявляешь им счет как промотавшимся отцам. Была у тебя какая-то перекличка с героями прозы «сорокалетних» или это лично мое восприятие?
Ю. П. Естественно, какая-то связь была в силу простой преемственности литературной традиции. Мы исследовали одно и то же: последнее советское поколение, но на разных фазах его развития. В чем мое столкновение с былыми «сорокалетними»? Поколение Маканина, Кима, Курчаткина — они все забыли об одной вещи, о которой сегодня помнит из них только Анатолий Афанасьев. Это похоже на анекдот о чукче, который учится у ударника Ивана, как валить лес. Он смотрит, как тот одевается, что ест на завтрак, как держит пилу и так далее. Различие одно: Иван включает бензопилу «Дружба», а чукча нет. Поэтому ничего не получается. Вот и наши маститые «сорокалетние» забыли о том, что их книги должны быть интересны читателю, что книги должны читать. Они ушли сейчас в профессиональное самоудовлетворение, поддерживаемое иными лукавыми критиками и западными спонсорами. Книга не должна отпускать, пока не закрыл последнюю страницу. Иначе незачем писать. Маканинскую, равно как и битовскую прозу в последнее время читать просто невозможно. Это то, что говорил Лев Толстой о позднем Сенкевиче. Как жила, которая в мясе попалась, — пожуешь, пожуешь и выплюнешь так, чтобы никто не видел. А что касается пессимизма моих героев, то я прочел неожиданную для меня рецензию на роман «Замыслил я побег…» Юрия Козлова, писателя, которого я очень ценю. Он явно незаслуженно замалчиваем сегодня. Так вот, Козлов увидел в романе колоссальную способность нашего народа выживать при любых обстоятельствах. И я как бы вновь посмотрел на своего героя. Да, на таких не удержится мощь супергосударства, но, с другой стороны, они умудряются выжить при любых обстоятельствах и, по большому счету, не поступаясь совестью. Оставим семейные неурядицы Башмакова за скобками. Этот тип восходит к Обломову и другим классическим русским героям. Наш национальный характер. <…> «Побег» — сага, история одной семьи на протяжении почти сорока лет. Другое дело, что эта сага написана с учетом современных законов литературы, современного городского языка. Использована клиповая система построения. Но по сути своей — все равно семейная сага.
В. Б. Ты сказал, что твои читательницы в Сбербанке тебе доказали, что возвращается интерес к литературе. Но, может быть, все проще. Это интерес именно к твоей прозе. Ты всегда был читаемым писателем. Начиная с «ЧП районного масштаба» и «Ста дней до приказа», заканчивая «Демгородком» и «Козленком в молоке». Ты — сюжетный писатель. Ты не просто поднимаешь важную проблему в романе, но и заинтриговываешь читателя с первых страниц. Помнишь, когда-то в 20-е годы «Серапионовы братья» призывали к сюжетности в литературе, к завлекательности прозы. Вот и ты нынче — новый серапионов брат. Сегодня интерес к литературе возрождается благодаря таким писателям, как ты, Слава Дегтев, Юрий Козлов, Анатолий Афанасьев, Павел Крусанов. Но сколько таких, как вы? Многие говорят, что налицо кризис литературы. Так ли это? Несомненен кризис общества, кризис государства, нет общей национальной идеи, и писатели разбрелись по углам, уйдя с четко обозначенной арены единого литературного процесса. Но сами-то они пишут и даже понемногу издаются. Как ты смотришь на современную литературу? Быть ли писателю пророком, духовидцем, нравственным учителем, наставником, публицистом или слово будет загнано в уголок для развлечений и отдохновений?
Ю. П. Думаю, роль духовного арбитра в обществе за русским писателем всегда останется. Мне кажется, она даже будет возрастать. Это связано с тем, что вся информационная сфера все еще занята разрушительными силами. Не случайно же по телевидению без конца показывают американские фильмы с изображением русских солдат, русских спортсменов, русских разведчиков как полных дебилов. Кто отбирает такие фильмы? Есть же и другие американские фильмы, зачем показывать откровенную антирусскую «клюкву» периода холодной войны? Все это делается сознательно, для стирания нашего менталитета, для изменения национального характера. Как противовес стал возрастать голод по писательскому слову. Писатель, будь он либеральный, будь он патриотический, если он талантлив, неизбежно будет противостоять оболваниванию человека…»
«Вероятно, кто-то помнит бурные критические дискуссии 70—80-х по поводу вдруг объявившегося в советском искусстве «амбивалентного» героя, — писал о романе «Замыслил я побег…» Владимир Куницын. — Заявленный еще Вампиловым в «Утиной охоте», этот персонаж вбежал в кинематограф («Осенний марафон», «Полеты во сне и наяву»), бурно расплодился в прозе тогдашних сорокалетних, от Р. Киреева, В. Маканина, А. Афанасьева до А. Кима и В. Гусева, ярко обозначая — теперь это особенно ясно — народившийся тип интеллигентного обывателя, впавшего в вялую, как похмельный сон, оппозицию не только к засмердевшей государственности, не только к лицемерно провозглашаемым нравственным постулатам (нигилистическое раскачивание грани между добром и злом — это скорее в пику двуличности общественной морали), но в оппозицию и к самому себе. Амбивалентный герой 70—80-х констатировал драму государственного самоедства, окончательный крах социальных иллюзий и неизбежность близкой общенациональной трагедии.
Новый роман Ю. Полякова «Замыслил я побег…» ставит жирную точку в судьбе амбивалентного героя последних десятилетий. Впервые в новейшей литературе он показывает, как амбивалентный человек, в поляковской терминологии — «эскейпер», становится, в свою очередь, причиной гибели целого строя, эпохи, причиной краха некогда великой державы. Главный герой романа не более чем обыкновенный обыватель, даже порой симпатичный и милый человек, из тех, что и составляют большинство. И слабости его так понятны: ну не может человек ни жену ради любовницы бросить, ни наоборот, тихо живет с обеими, эдакий Штирлиц постельного фронта. И на баррикады он не поспешит, хотя и друга своего с баррикад уводить не станет. Он, ворчливо уступая течению, будет плыть по нему, не сильно-то задумываясь, куда его несет, не помогая и не сопротивляясь потоку. Но он и есть та болотная кочка, та амбивалентная трясина, на которую падающая государственность опрометчиво пытается опереться. Некогда оппозиционный амбивалентный персонаж в романе Ю. Полякова вдруг предстает довольно зловещей фигурой. Эдакой трухлявой дырой от гражданского общества, залогом любого, даже самого кровавого и гнусного развития судьбы отечества.
Вот вам и простенькое бытовое безволие, а также отсутствие элементарного мужества! В кризисные эпохи такая мелочь может стоить державе всего. Впрочем, Башмакову в романе противостоит Рыцарь Джедай, который, искренне желая творить добро, активно изменять жизнь к лучшему, все время совершает нечто обратное задуманному, нанося вред и себе и близким людям. Тип вообще достаточно новый в нашей литературе. И он тоже своего рода «эскейпер». Но если Башмаков все время уходит от вызова времени, то Джедай решительно отвечает на каждый вызов, не зная по-настоящему ответа. И это тоже разрушительно. Саморазрушительно. Рыцарь, пройдя сквозь очарование либеральной идеей, гибнет в сожженном Белом доме. А с Башмаковым читатель прощается в тот момент, когда тот в буквальном смысле повисает между небом и землей, как бы трагически реализовав метафору всей своей жизни.
Вообще «Замыслил я побег…» — своего рода ироническая сага, в которой перед нами проходят десятки ярко выписанных характеров, судеб, вращающихся вокруг семьи Башмаковых. Почти за каждым характером — социально-нравственное явление. К явным удачам автора я бы отнес и Катю Башмакову, и Борьку Слабинзона, и его деда-генерала Бориса Исааковича, и настоящего полковника Анатолича, и такого узнаваемого Нашумевшего Поэта, и парторга — дворянина Волобуева-Герке, и революционера-инвалида Верстаковича, и жесткого «нагибателя» эпохи Аварцева, и еще многих других героев поляковской саги… А безногий фронтовик Витенька, чью тележку разломал в детстве Башмаков, Витенька, в конце романа вырастающий в буквальном смысле до раблезианских размеров и протягивающий огромную ладонь, чтобы спасти погибающего «эскейпера», — чем это не символ эпохи победителей, подло поверженной, но все же великодушной к слабым, неверным наследникам?
Так зададимся все-таки вопросом: открыть и вживую показать нового социального героя — это для писателя много или мало? И стоит на это обращать внимание критике или же умолчать и этот очевидный факт? Я в общем-то догадываюсь, почему критики не любят Ю. Полякова. Нелегко понять, как ему удается совмещать в одном повествовании сразу несколько эстетических, событийных, жанровых, идейных слоев. Его книги легко и весело прочитываются на профаническом уровне, но они же могут быть прочитаны в довольно сложном философско-знаковом аспекте. Вот и в этом романе — на фоне заурядной семейной драмы развернута целая энциклопедия русской жизни последних десятилетий: от Брежнева до Ельцина, от застоя — до разгрома. Развернута в едином, живом, оформленном блестящим языком потоке. О языке поляковской прозы нужно вообще писать отдельно, ведь его тексты уже давно разносят на цитаты, а его неологизмы входят в общенациональный язык. И еще очень важно: в его прозе нет партийного надрыва, а есть неизменно глубокий, ироничный и очень здравый смысл. Вот отчего я считаю роман Ю. Полякова «Замыслил я побег…» явлением в современной русской прозе».
«В последнее время часто говорили, что литература наша не реагирует адекватно на современную действительность, — писал в «Литературной России» Юрий Рябинин. — Потому что действительность эта настолько непостижима и абсурдна, что даже литература растерялась. Многие писатели замолчали. Кто-то укрылся в разных отвлеченных жанрах — в лучшем случае в исторической прозе, а то и вовсе во всяких «крими-фэнтези». Еще хуже, когда иной автор замахивается на роль рупора эпохи, а выходят у него частушки или анекдоты, раздутые до размеров романа, этакие сочинения на злобу дня, столь же ценные, как дилетантские поздравления в стихах ко дню рождения.
Но, похоже, период растерянности литературы отступает. Потому что уже иногда появляются произведения, в которых нынешнее безвременье не только изображается отчетливо и без прикрас, но и по-настоящему глубоко анализируется, объясняется: а почему же это происходит с нами и с нашей страной? где выход? в чем разгадка?
Роман Юрия Полякова «Замыслил я побег…» — одно из таких произведений.
Для того чтобы изобразить жизнь всего нашего общества на протяжении последних десятилетий, автор строит свое повествование как рассказ об одной семье. Причем жизнь главного героя — Олега Трудовича Башмакова — прослеживается с самого его детства. Этот Олег Трудович поистине был рожден для счастья. Сыну вполне бесперспективных, незначительных во всех отношениях родителей, ему выпадает почему-то удача за удачей. Он заканчивает престижный институт, он необыкновенно счастливо и выгодно женится: жена состоит из одних достоинств, а тесть вдобавок еще «сидит на дефиците», как раньше говорили; он с помощью тестя занимает вначале одну синекуру, затем другую. Это не говоря уже о всяком сопутствующем материальном тлене, без которого был немыслим престиж по-советски: дом — полная чаша, загранпоездки, дежурные возлюбленные, выгодные связи и т. д. и т. п. Одним словом, жизнь его устраивается с точки зрения советского обывателя сверхидеально.
Но приходят другие времена. И очень многие, кто прежде чувствовал себя вполне комфортно, не вписываются в новые правила жизни. Но здесь Юрий Поляков делает замечательное наблюдение: перемена общественно-политического устройства нашего государства и даже переоценка в некоторых случаях моральных ценностей вовсе не обязательно сопровождаются сменой тех представителей истеблишмента, кто исповедовал старые моральные ценности и кто стоял на страже прежнего нашего общественно-политического устройства. У Полякова в романе проходят несколько персонажей, которые были в обойме «до», но и которые остаются на плаву «после». Особенно в этом ряду выделяется фигура парторга НПО «Старт» Волобуева, который в 60-е по заданию райкома ходил по Москве с ножницами и стриг патлы стилягам, в брежневскую эпоху стоял на страже чистоты партийных рядов от неблагонадежных, с его точки зрения, лиц, для чего проверял, а не импортный ли лейбл на пиджаке у кандидата, но вдруг в конце 80-х вспомнил, что по материнской линии он восходит к старинному дворянскому роду фон Герке, и пожелал отныне именоваться Волобуевым-Герке, а после закрытия за ненадобностью НПО уже просто — фон Герке, «естественно, монархист», сделался заместителем директора департамента кадров в коммерческом банке.
С другой стороны, в новое время удивительным образом не вписываются те, кто не имел никаких перспектив и при старых порядках. И здесь Полякову удается изобразить самый, пожалуй, колоритный образ — инженера Каракозина. Это тот самый советский джинсовый интеллигент, кухонный вольнодумец, любитель походов и бардовской песни, которому по плечу решительно все — от обивки дверей до завоевания сердец недоступных, своевольных красавиц, но который не может только заставить себя делать вид, будто он не замечает, что король голый. И когда начинаются перемены, он принимает в них активнейшее участие. Он находится на острие событий. Казалось бы, вот оно, его время, наступило. Если раньше человек такого типа жил по-настоящему, дышал полной грудью лишь вне государственного присмотра — где-то, скажем, в лесу у костра или на той же кухне, то теперь он может открыто, во весь накал реализовать себя. Теперь он наконец может быть социально значимым. Не тут-то было. Едва подернулась тиной демократическая мешанина, снова революционеры Каракозины оказались на своих кухнях, а хозяевами жизни стали Волобуевы-Герке, Верстаковичи, Докукины, Юнаковы, Аварцевы — целая череда образов, срисованных Поляковым с натуры».
Александр Неверов в газете «Труд» писал: «Замыслил я побег…» — своего рода краткая энциклопедия нашей жизни двух последних десятилетий. <…> Здесь Поляков в полной мере проявляет себя «гротескным реалистом» — так он сам и критики определяют этот творческий метод. Гротеска, абсурда и вправду хватает в нынешней повседневности, так что порой автору и выдумывать особенно не надо — достаточно художественно воспроизвести ту или иную жизненную ситуацию».
Однако А. Зверева в «Книжном обозрении» оценила роман как явную художественную неудачу: «Скучны и предсказуемы, как американский секс, и романы Юрия Полякова. Романы районного масштаба». Правда, в том же номере газеты опубликована и другая оценка: «…И все же Поляков попытался, и успешно, на мой взгляд, осуществить замысел многих стремящихся к беллетристическим лаврам — создать бестселлер, где и мысль философская и житейская, где чувства духовные и плотские в едином неразрывном целом, — писал Юрий Никонычев. — Я думаю, за ним потянутся новые писатели, которые уже напрочь избавятся от андеграундских нечистот и начнут писать оверграунды, то есть о том, что наверху, что перед глазами, а не в клоаке сизых кишок».
Доктор филологических наук, профессор Александр Флоря исследовал тему отцовства в романе «Замыслил я побег…» и пришел к следующим выводам:
«Я не знаю, корректно ли называть персонажей Ю. Полякова «лишними людьми», но к типичному поляковскому протагонисту могут быть отнесены слова из фильма Ю. Егорова «Простая история» — «хороший мужик, но не орел». Эти «мужики» даже не всегда хорошие, скорее — не плохие, а чаще всего — посредственные, но не орлы — уж точно, за единичными исключениями.
У Н. Г. Чернышевского «лишний человек» нашей литературы именуется «русский человек на rendez-vous». Поляковские персонажи проявляют себя не столько на rendez-vous, сколько dans la vie de famille, в семье.
Квинтэссенцией общественного кризиса является кризис мужского начала. Главные герои романов Ю. Полякова — герои номинальные, язык не поворачивается назвать этим словом Чистякова, Гуманкова, Башмакова, Свирельникова, Кокотова. Верность женам и любимым женщинам не входит в число их добродетелей (некоторым исключением выгладит лирический герой «Козленка в молоке», но он — человек бессемейный). Они чрезвычайно озабочены постоянным желанием удостовериться в своей гендерной идентичности, которая у них имеет почти единственный оттенок — сексуальный. Это связано с невозможностью по-настоящему реализоваться в других областях. <…>
Достойно внимания, что Ю. Поляков в своих романах воспроизводит вполне фрейдистскую модель: его мужчины не испытывают особой привязанности к отцам (разве что Свирельников), зато для них очень важны образы матерей (особенно это видно в «Гипсовом трубаче»), в свою очередь отцы более значимы (в тех случаях, когда они значимы вообще) для дочерей. В «Побеге» таковыми являются отцы двух главных женщин в жизни Башмакова — Кати (Петр Никифорович) и Веты (Аварцев). Следует сказать, что эти женщины — волевые, умные, смелые — намного превосходят своего рыхлого возлюбленного.
Главные отцы в романе «Замыслил я побег…» — очень разные люди, но все они в конечном счете в том или ином смысле терпят поражение — семейное или социальное.
Каракозин (и отчасти Петр Никифорович) не стыкуется с действительностью, потому что она — «застойная» или/и постсоветская, а другие — потому что она — действительность. Перефразируя Н. Михалкова, можно сказать, что отец и сын Башмаковы плыли бы по течению при любых режимах, просто при советском плыть было легче — по крайней мере, Олегу Трудовичу. Джедай, напротив, хотя обладает волей, все умеет, отлично ладит с людьми, то есть мог бы в любой реальности чувствовать себя наилучшим образом, всегда движется поперек. Наконец, Петр Никифорович занимает промежуточное положение между этими полюсами. Он — обыватель и конформист, но не пассивный, а деятельный, отлично освоившийся в советской реальности, но оказавшийся слишком советским — слишком наивным и порядочным — для реальности антисоветской.
В галерее этих отцов именно Петр Никифорович по-настоящему соответствует данной роли — настолько, что де-факто он «усыновляет» и Башмакова, отношения которого с собственным отцом не отличаются теплотой и душевностью». И далее: «Петр Никифорович способен вести с зятем довольно теплые задушевные разговоры. И, напротив, с родным отцом таковых не наблюдается. В тех немногочисленных приведенных в романе беседах, которые Башмаков-старший ведет с сыном, запечатлены вульгарность, грубость, мещанское самодовольство и весьма низменные чувства. <…> Труд Валентинович и Петр Никифорович образуют пару антиподов: родной отец как чужой и неродной в качестве родного. Труд Валентинович профессионально связан с литературой, печатным словом, но сам вызывающе антикультурен, в книги не заглядывает, а его любимое словечко — из сферы техники. Петр Никифорович по профессии связан с сантехникой, но, напротив, тянется к культуре, много читает и по любому поводу выдает цитаты.
Есть и другие различия. Что сделал для сына Труд Валентинович — об этом автор умалчивает, зато постоянно упоминает благодеяния Петра Никифоровича, который то и дело выручает непутевого зятя из неприятностей, устраивает на работу, дарит кооператив (как выясняется, Труд Валентинович не заработал даже квартиру, которую дали его жене), снабжает дефицитами, вводит в круг бомонда. Отцу, маниакально погруженному в мир футбола, похоже, не до него и вообще ни до кого: он всех отфутболивает. <…>
Таким образом, по крайней мере в этом романе, за редкими исключениями, изображены не очень достойные отцы — и это частное, наиболее сильное, яркое проявление их общей человеческой несостоятельности. Вопрос, который возникает в связи с этим, понятен: что такие люди — аморфные, беспринципные обыватели, сосредоточенные на частной жизни, но в ней неверные, ненадежные, безвольные — могут передать будущим поколениям? Но это вопрос, конечно, не к автору книги, а к нам самим».
Вот что писал о своем романе сам автор:
«…В середине 90-х, после «Демгородка», я решил реализовать сюжет, который болтался в моей пассивной литературной памяти чуть ли не с начала 80-х. История такова: мужик, задумавший сбежать от жены к любовнице, собирает вещички и невольно вспоминает прожитое — хорошее и плохое. Обычное дело, ведь вещи — это запечатленная жизнь. Недаром их еще называют «пожитками». По первоначальному замыслу, воспоминания в конце концов так растрогали беглеца, что он решил остаться в семье, более того — отправился на кухню, чтобы к возвращению супруги с работы приготовить романтический ужин. Вот такая незамысловатая история. Но первичный сюжет отличается от окончательного произведения примерно так же, как яйцеклетка от взрослой дочери, одетой в свадебное платье.
Постепенно рассказ преобразовался в повесть, а та стремительно распространилась в роман, даже в семейную сагу, вобравшую в себя, кроме конкретной адюльтерной ситуации, историю нескольких поколений семьи Башмаковых да еще и судьбу страны за последние тридцать лет. К концу работы я вдруг понял, что пишу, простите за некорректность сравнения, свой «Тихий Дон». Только между двумя женщинами мечется не пассионарный Григорий Мелехов, а слабовольный Тапочкин. И герои подхвачены не кровавыми вихрями русской революции начала века, а мусорными ветрами буржуазной реставрации конца XX столетия. Кстати, такая глобализация замысла закономерна: чтобы понять, почему к середине 90-х, в разгар безбашенного российского капитализма мой герой превратился в «эскейпера», надо знать, как он жил в системе советских ценностей, с кем дружил, к чему стремился… А «эскейпер», как читатель уже понял, есть человек, избегающий принятия любых ответственных решений и движущийся по жизни, как бумажный кораблик в ручье. Но почему, спросите вы, автора так заинтересовал именно этот человеческий тип — «эскейпер»? Не современный, скажем, Павка Корчагин — отважный Рыцарь Джедай, оставшийся всего лишь персонажем второго плана. А потому что не Джедай, а Тапочкины определили участь нашего Отечества в конце XX века. Люди, не способные принимать решения, есть всегда, но если их количество в социуме переходит некую опасную черту, общество становится безвольным и бессильным перед теми вызовами, которые ему бросает время. Не случайно, конечно, и на вершину политической власти вынесло тогда эскейпера и геополитического клоуна Горбачева, который, в отличие от моего Башмакова, оказался вдобавок глуп и непорядочен. Еще неслучайнее другое: вокруг не нашлось никого, даже среди военных, кто попросту свернул бы ему шею, хотя большинство отлично понимало, куда он тащит страну… Единственный, кто смог вышибить Горби из политики, — Ельцин, умевший брать на себя ответственность и принимать решения. Но это была ответственность и решительность пьяного мясника с колхозного рынка. Остальное общеизвестно…
Читателю, наверное, интересно узнать, что я довольно долго мучился с концовкой романа. Их было несколько. И я склонялся к довольно необычной развязке: Тапочкин, не способный выбрать между женой и любовницей, от безысходности превращался… в калихтового сомика, который, собственно, ради этого и появился в романе. А Вета и Катя, войдя в опустевшую квартиру, обнаруживают аквариум с грустноглазой рыбкой и никак не могут понять, куда же девался их горячо любимый муж-любовник… Однако, все обдумав, я решил, что такая развязка больше подходит писателю-мистику, а мне, реалисту, хоть и гротескному, не подобает выпутывать героя из сложнейшей жизненной коллизии подобным сверхъестественным способом. Потому-то я и оставил Тапочкина, сорвавшегося с балкона, буквально висеть между небом и землей. Ведь этим, собственно, он и занимался, только в переносном смысле, всю жизнь.
В результате редкая моя встреча с читателями обходится теперь без вопросов: а не сорвется ли Башмаков вниз, сумеют ли соединенными усилиями жена и любовница спасти этого милого никудышника? С одной стороны, такие вопросы меня раздражают, ибо, подвесив героя, я, как мне думалось, переосмыслил и развил гоголевского Подколесина, выпрыгнувшего от предсвадебных душевных сомнений в окно. Однако такое участие читателей в судьбе Тапочкина косвенно подтверждает то обстоятельство, что мне удалось написать чрезвычайно живой, волнующий образ. А это очень важно для сочинителя! Ведь новое слово в литературе — это прежде всего новый, живой герой. Те, кто полагает, будто новаторство заключается в том, чтобы писать тексты без точек и запятых, — или глупы, или неграмотны, или и то и другое вместе.
В общем, идя навстречу озабоченным читателям, я решил в романе «Грибной царь» дорассказать, чем же закончилось висение моего «эскейпера» на балконе…»
Здесь стоит упомянуть, что автор постоянно прибегает к приему, когда история героя «дорассказывается» в следующем романе или повести. Так, о судьбе героя «ЧП районного масштаба» Шумилина мы узнаем в повести «Апофегей». Но снова дадим слово автору:
«…Еще меня часто спрашивают о том, как я отношусь к восьмисерийному телевизионному фильму, снятому по роману «Замыслил я побег…» режиссером Мурадом Ибрагимбековым. Вообще-то, поначалу велись переговоры о том, чтобы сериал поставил Сергей Урсуляк. Жаль, что не сложилось. По-моему, Урсуляк как никто умеет переводить литературу в киноформат. Однако по неизвестным мне причинам постановщиком стал Мурад Ибрагимбеков. Фильм вышел неплохой, хотя, по-моему, тот диалог стилей, который возможен в литературном произведении, будучи перенесен в кино, обернулся безжанровостью и сбивает с толку зрителей. <…> Мурад Ибрагимбеков, воссоздавая доперестроечное время, руководствовался не столько моим романом, сколько теми идеологическими штампами и предубеждениями, которые успели сформироваться в постсоветский период. Сам он жизнь в СССР знал неглубоко и, видимо, в пределах узкого слоя азербайджанской творческой интеллигенции. Когда я его спросил: «А почему у тебя в райкоме комсомола висит портрет Маркса?» — он удивился: «А разве не висел?» — «Нет, конечно. Ну если только в первые десятилетия советской власти…» — «Что ты говоришь?!» Выяснилось: Мурад никогда не бывал в райкомах. Не было необходимости.
Когда фильм показали на Первом канале, я на собственном опыте убедился в том, что цензура благополучно пережила крушение «коммунистической деспотии». Были вырезаны достаточно невинные эротические сцены, что, впрочем, объясняется начавшейся борьбой за общественную нравственность, основательно расшатанную тем же телевидением, которое на протяжении десятилетия любило порассуждать в утренних воскресных передачах о странностях однополой любви. Но из фильма были выброшены еще и все сцены, посвященные странностям «путча» 1991 года и антиконституционного ельцинского переворота 1993-го. Вот такое демократическое кино…»
Остается лишь добавить, что роман «Замыслил я побег…», как и другие произведения Полякова, постоянно переиздается и допечатывается, издан он и в ряде зарубежных стран, а в Китае был удостоен премии как лучший переводной роман года. ЦК КПК закупил у китайского издательства «Народная литература» тысячу экземпляров «Побега» для ответственных партийцев, связанных в своей деятельности с Россией. Китайские коммунисты справедливо рассудили: художественное произведение дает более полное представление о том, что произошло в нашей стране за последние четверть века, нежели самые подробные политологические исследования.
Глава шестая ГОРЬКИЙ, ДЕЛЬВИГ И ДРУГИЕ
Окно в мир можно закрыть газетой.
Станислав Ежи ЛецВ 2000 году Поляков — вполне состоявшийся писатель, по-настоящему успешный и при этом не включенный в либеральный пул, окормляемый администрацией президента, Фондом Сороса, «Роспечатью» и премиальными структурами. У него только что вышел роман «Замыслил я побег…», а восьмисерийный фильм, снятый по этой семейной саге, с известными актерами Виктором Проскуриным, Екатериной Редниковой, Мариной Голуб и другими, показали на Первом канале; по мотивам пьесы «Халам-бунду, или Заложники любви» режиссер Леонид Эйдлин снял восьмисерийный «Поцелуй на морозе», показанный по РТР в январские праздники 2001 года; на фестивале «Литература и кино» в Гатчине фильм Константина Одегова «Игра на вылет» («Небо падших») получил приз зрительских симпатий; в Театре им. Рубена Симонова с невероятным успехом третий сезон играли спектакль «Козленок в молоке», поставленный Эдуардом Ливневым; Станислав Говорухин репетировал во МХАТе им. М. Горького пьесу «Смотрины» («Контрольный выстрел»); сам Поляков вел на канале ТВЦ передачу «Дата» и руководил сценарной группой первого российского мегасериала «Салон красоты»; его интервью, статьи, колонки регулярно появлялись в центральной печати; «Олма-пресс» выпустило трехтомник, а издательство «Молодая гвардия» уже готовило четырехтомник, который увидел свет в 2001-м; он снова много ездил по стране и за рубеж, где после долгого перерыва начали выходить переводы его повестей и романов; наконец, семья Поляковых обосновалась в новом переделкинском доме. Ну что еще нужно писателю и человеку? Так что предложение возглавить «Литературную газету» застало его врасплох, и поначалу он отнесся к этой перспективе, по собственным словам, как к «осложнению в жизни» — тем более что отношения с «Литературкой» у него в ту пору были не самые теплые.
Вот как вспоминает об этом уже известный нам Леонид Колпаков:
«В конце 1997-го неожиданно — с подачи давнего коллеги и товарища Игоря Серкова меня позвали на работу в «Литгазету». Когда освоил свой огромный кабинет ответсекретаря, тщательно полистал подшивки, я обнаружил: писателя Полякова не существует. У него, конечно, выходили новые книги, остальные переиздавались, он вел программу на ТВ — а «Литгазета» годами о нем даже не вспоминала… Но тут подоспел первый трехтомник писателя — пришлось обратить внимание высоколобого отдела литературы на этот факт. Крошечную рецензию напечатали. А в последнем номере «ЛГ», подписанном Аркадием Удальцовым, который работал еще заместителем легендарного Александра Маковского, мы опубликовали поляковскую статью «Фабрика гроз». Кажется, это была первая публикация после долгого перерыва, когда «Литгазета», забыв, что удостоила Полякова премией за лучшее эссе года, перестала его печатать.
Размышления об «Останкино» и нравах обитателей телецентра напечатали, причем впервые на страницах либеральной прессы (в 1998-м «ЛГ» к ней, естественно, относилась). Резонанс был — не все поняли и приняли такую точку зрения. Потом три года «ЛГ» опять Полякова не печатала. Помню, выпросил у него главу из романа «Замыслил я побег…» и отдал тогдашнему главному — Гущину. Он поморщился. Теперь не могу вспомнить, что мы тогда вместо этого отрывка и поставили…»
Отсюда становится понятным, насколько предложение возглавить «ЛГ» было, мягко говоря, неожиданным. И в то же время его многое связывало с газетой. Начал Поляков печататься в ней, когда редакция еще располагалась в одноименном издательском комплексе, выстроенном в 1930-е годы на Цветном бульваре напротив цирка. В 1962-м газету возглавил писатель Александр Чаковский — так было принято: газету долгие годы возглавляли писатели, известные и не очень: Александр Фадеев, Владимир Кирпотин, Евгений Петров, Константин Симонов, Всеволод Кочетов, Сергей Смирнов… В конце концов, ее и основали Пушкин с Дельвигом, заложив тем самым традицию, которую, видимо, и не стоит нарушать.
С приходом Чаковского «ЛГ» превратилась в самый популярный у советской интеллигенции еженедельник — она и была первым советским иллюстрированным еженедельником. Формально газета числилась органом СП СССР, и ей (в соответствии с закрытым решением политбюро) позволялось высказываться острее, нежели другим изданиям, что во многом обусловило интерес к газете, тираж которой в конце 1980-х представлял огромную для культурологического издания цифру — шесть миллионов. Член ЦК КПСС и депутат Верховного Совета СССР Александр Борисович Чаковский пользовался огромным влиянием и сумел заполучить для редакции в начале 1980-х шестиэтажное здание — в прошлом фешенебельный дом свиданий, построенный в злачном районе «Грачевка» в конце XIX века. В середине 1970-х там расположился Оргкомитет Олимпиады-80, а после окончания игр дом отдали «Литературке». Это был пик могущества «великого Чака», как его звали сотрудники. Будучи по убеждениям либералом-государственником, он внимательно следил за тем, чтобы на страницах «ЛГ» были представлены разные направления отечественной словесности, в том числе и почвенное, большое значение придавая национальным литературам. Правда, многие начинали читать газету с шестнадцатой полосы, где публиковались материалы «Клуба 12 стульев», созданного Александром Веселовским и его командой талантливых юмористов. Затем прочитывались очерки и статьи второй тетрадки, посвященные острым социальным вопросам. Особой популярностью пользовались журналистские расследования и судебные очерки Евгения Богата, Аркадия Сахнина, Ольги Чайковской, Олега Мороза, Игоря Гамаюнова, Аркадия Ваксберга, Юрия Щекочихина и др. В первую же тетрадку заглядывали в основном те, кто интересовался писательской жизнью и новинками литературы. Впрочем, и таких в ту пору было немало. Ну и, конечно, «ЯГ» была настольной газетой учителей литературы, истории, филологов и преподавателей высшей школы.
Под руководством Чаковского «Литературка» «перестроилась» одной из первых. Чтобы получить представление об идейно-эстетической направленности газеты в последние годы руководства «Чака», приведем фрагмент материала Сергея Казначеева из уникальной книги «Три века «ЛГ», выпущенной к 175-летию газеты.
«…Перед «Литературной газетой» стоял четко обозначенный ориентир — давать максимально точную и правдивую картину жизни в стране и в мире. Но как добиться этой правдивости? Во-первых, в стране существовал партийный контроль над журналистикой. Во-вторых, «ЛГ» являлась официальным органом Правления Союза писателей СССР и была обязана печатать материалы писательских съездов и пленумов, часто довольно скучные, но порой головокружительно захватывающие, впрочем, об этом несколько позже. В-третьих, никто не отменял существования государственных, военных и прочих тайн, негласных запретов: социальных, моральных, религиозных, национальных, гендерных… Прекрасно осознавая всю сложность и непредсказуемость текущего момента, редакция стремилась лавировать между необходимостью учитывать рамки дозволенного и желанием быть честными по отношению к читателям».
В первом номере за 1987 год в виде новогодней елочки газета поместила данные, показывающие динамику роста тиража за последние 20 лет: «1967 — 383 т.; 1972–1428 т.; 1977–2300 т.; 1982–2658 т.; 1987–2827 т.» — из которой следует, что «ЛГ» резко набрала читателей уже к началу перестройки, ну а в самом конце 1980-х тираж удвоился в русле общего всплеска интереса к периодическим изданиям, который, как отмечал Казначеев, «доводил до миллионных высот даже довольно скромные газеты и журналы».
Газета живо откликалась, конечно, на политические события, на то, как проходила перестройка, и уже в 1988 году опубликовала горькие размышления Е. Носова о ходе реформ, которые были озаглавлены «Что мы перестраиваем?». Чуть ранее «ЛГ» провела обширную дискуссию критиков, в которой особенно резко прозвучали мнения М. Лобанова и Е. Сидорова, выводившие ее из сферы литературы на широкий круг идеологических проблем. А материалы пленума Правления Союза писателей СССР 1987 года наглядно продемонстрировали кардинальное расхождение во взглядах в писательском сообществе, что, конечно, не могло оставить равнодушной читательскую аудиторию. «Выходя на трибуну, наши лучшие (или влиятельные) писатели демонстрировали такой широкий спектр суждений, такой публицистический темперамент и непримиримость во взглядах, что становилось ясно: прежнего единства писательских рядов нет и в обозримом будущем не предвидится», — пишет Казначеев. И далее отмечает, что «в стратегии «ЛГ» появилась необходимость учитывать интересы обеих спорящих сторон. Соблюдать абсолютное равенство было невозможно: симпатии большинства сотрудников «ЛГ» были на стороне либерально настроенных писателей. Но до 1991 года все же удавалось поддерживать хотя бы видимость одинакового отношения к разным группам». Напомним, что Поляков получил премию «Литературной газеты» (кнопочный польский телефон) за эссе «Томление духа», опубликованное в ней в октябре 1988 года.
…………………..
«Я вырастал в глухое время…» — это сказано обо мне и моем поколении. Мне — тридцать три. Разберем, как говорят аппаратчики, по позициям. Десяток лет спишем на период розовощекой детской невинности. Три года совпали с перестройкой. Двадцать точнехонько укладываются в эпоху застоя. К ним, этим двум десятилетиям, очень подходит строчка из Писания «Суета и томление духа». Томление духа. Было оно, было томление духа. Была бы одна только суета — и говорить что-либо нынче посовестился бы!
Очевидно, нельзя зачеркивать целые поколения только лишь потому, что жили они в кровавые, несправедливые или выморочные годы. Человека можно обречь на бессмысленную суету, но заставить считать свою единственную, неповторимую жизнь бессмысленной, к счастью, невозможно. Увы, именно на эту особенность людских душ всегда рассчитывают разного рода пакостники, выдающие себя за творцов истории: мол, будут людишки свои прожитые годы оправдывать и нас заодно оправдают…
Смертная чаша сталинского террора миновала мое поколение. Мы не видели физического уничтожения инакомыслящих, но мы видели другое. Вот могучий столоначальник взглянул на своего ершистого молодого подчиненного и, покачав головой, промолвил: «Товарищ не понимает…» Но это еще полбеды, хотя и ее иным хватало на всю оставшуюся жизнь. А вот если о твоих мыслях и разговорах сказано: «С душком!» — это уже настоящая беда. О эти деятели с чуткими политическими носами! Скольким моим ровесникам они сломали хребты!
Это в моем поколении появились бичи с высшим философским образованием и со своим собственным, никому не нужным взглядом на мироздание. Это в моем поколении появились воины-интернационалисты, которые сегодня вынуждены оправдываться, что недаром проливали кровь на чужой земле, хотя оправдываться должны не они, а те, кто их посылал. Это в моем поколении появились рабочие парни, проникающиеся чувством пролетарской солидарности только в очередях за водкой. Это в моем поколении начался исход творческой молодежи в дворники и сторожа. Это в моем поколении явились миру инженеры-шабашники, которые, перекуривая на кирпичах возле недостроенной фермы, спорили о вполне реалистических, но совершенно нереальных тогда планах перестройки экономики. Это в моем поколении завелись преуспевающие функционеры, те, что, отдремав в очередном президиуме и воротившись домой, любили перед сном перечитать избранные места из ксерокопированного Оруэлла, приговаривая: «Во дает, вражина! Один к одному…»
Тем временем социализм становился все более развитым, а единственный привилегированный класс — дети — все более заторможенным. Все эти годы бессмысленно расходовались не только природные богатства страны, но и духовные ресурсы нации. Хочется верить, что второе, в отличие от первого, восстановимо.
А. Блок писал некогда о «тайной свободе». Применительно к моему поколению я бы говорил о «кухонной свободе». Ведь сознаемся: многое из того, о чем пишут сегодня газеты и журналы, было нам известно и служило издавна предметом горячих кухонных споров. Генералиссимус никогда не был для нас великим стратегом, Раскольников и Чаянов никогда не были преступниками, Жданов никогда не был выдающимся «организатором культурной жизни страны», коллективизация никогда не была «героической страницей истории социалистического строительства». Если б мы ничего этого не ведали, то у нас сейчас была бы не Гласность, а, например Осведомленность.
Некоторые товарищи опасаются, что «чрезмерная» гласность приведет молодежь к непочтительности и даже нигилизму. Не волнуйтесь, дорогие товарищи! Гласность воспитывает именно уважение к устоям, а непочтительность происходит от той закамуфлированной под передовую идеологию белиберды, которой с лихвой хлебнуло мое поколение. Поэтому, наверное, отличительная черта моего ровесника — ирония. А что вы хотите, если любой доклад тогдашнего пятизвездочного лидера по содержанию и исполнению был смешнее всякого Жванецкого?!..
…………………..
Ну чем не классика перестроечной публицистики? Совершенно понятно, почему в основном либеральная, как сообщает Казначеев, «ЛГ» удостоила статью премией. Впрочем, вскоре автор навсегда откажется от либеральной риторики, а некоторые признаки такого поворота заметны уже и в этом тексте.
Чаковского, несмотря на все его заслуги перед властью, постигла участь всех главных редакторов того времени. Считается, что его изгнал из газеты вернувшийся из канадской ссылки Александр Николаевич Яковлев. В 1988-м, без предупреждения, в «ЛГ» приехал тогдашний член политбюро Вадим Андреевич Медведев и представил коллективу нового главного: Юрия Петровича Воронова, журналиста, партийного работника и поэта-блокадника. Очевидцы утверждают, что Чаковский, узнав о своей отставке явочным порядком, заплакал на глазах у всех, в битком набитом конференц-зале. Прожил он после этого еще шесть лет, но совершенно выпал из общественной и литературной жизни. Справедливость по отношению к выдающемуся организатору газетно-журнального дела в СССР была восстановлена в 2012 году, когда по инициативе Полякова на стене дома на Тверской, где жил и умер писатель, была открыта мемориальная доска.
Юрий Воронов — человек мягкий, но принципиальный, будучи в 1960-е главным редактором «Комсомольской правды», угодил в ссылку за то, что опубликовал острый очерк Аркадия Сахнина о китобоях — и стал заведовать корпунктом в Западном Берлине. В страну его вернули только после смерти «серого кардинала» Михаила Андреевича Суслова, и он возглавил журнал «Знамя». Поэтом он был негромким, но искренним. Особой популярностью пользовалось его стихотворение «Ленинградские деревья».
Они зимой, Чтоб как-нибудь согреться — Хоть на мгновенье, Книги, письма жгли. Но нет Садов и парков по соседству, Которые б они не сберегли. ….. Им над Невой Шуметь и красоваться, Шагая к людям будущих годов. Деревья! Поклонитесь ленинградцам, Закопанным В гробах и без гробов.Вот как пишет о «вороновском периоде» в истории «ЛГ» Казначеев: «Практически в каждом номере публикуются своеобразные дуэли, оружие в которых скрещивают наиболее активные полемисты. Чтобы схватка не казалась скоропалительной и участники разговора могли полно выразить свое мнение, диспуты продолжаются в течение целого месяца. Под рубрикой «Диалог недели» и на других площадках в острых дискуссиях сходятся Игорь Золотусский и Анатолий Ланщиков, Николай Анастасьев и Юрий Давыдов, Вадим Кожинов и Борис Сарнов, Алла Латынина и Сергей Чупринин, Владимир Гусев и Андрей Турков, Авнер Зись и Александр Гангнус, Станислав Рассадин и Дмитрий Урнов, Юрий Архипов и Дмитрий Затонский, Александр Лаврин и Петр Пала-марчук, А. Бочаров и Михаил Лобанов, Лев Аннинский и Олег Михайлов, Владимир Бондаренко и Владимир Новиков… Накал страстей в этих диалогах порой выходил за привычные рамки, что и привлекало внимание читателей. Главное — диалог продолжался, и спорщики слышали друг друга». Юрий Поляков в июле 1989 года скрестил шпагу с Николаем Шмелевым, модным экономистом и прозаиком, в прошлом — зятем Хрущева:
«Ю. П. Демократизация, не подкрепленная позитивными сдвигами в экономике, — это очень коварная тактика. Известная: противопоставляя хлеб насущный хлебу духовному, лишали народ и того, и другого. Мол, конечно, при Брежневе академик Сахаров был в ссылке, но зато талонов на сахар не было. Так что вы, ребята, сами смекайте, что лучше…
Н. Ш. Значит, вы поддерживаете мою мысль, что главный лекарь сейчас, на данном этапе, и нравственности, и общественного состояния — это полные прилавки?
Ю. П. Конечно, я могу присвоить этой мысли ваше имя, но, поверьте, об этом думает любой нормальный человек, а вы просто саккумулировали эти настроения. Но меня, честно говоря, беспокоит отстраненное отношение наших сегодняшних лидеров к предлагаемым проектам оздоровления общества…»
В начале 1989 года прошел пленум Правления Союза писателей, который злые языки окрестили «съездом мелиораторов»: в центре писательского внимания оказались острейшие вопросы землепользования и поворот северных рек, который готовило Министерство водного хозяйства. И роль писателей — в частности Сергея Залыгина — в том, что от вредоносного проекта в конце концов отказались, невозможно переоценить. «Пожалуй, это был один из самых наглядных примеров влияния писательского пера на положение дел в Стране», — замечает Казначеев.
Когда в середине 1989 года проходил Съезд народных депутатов СССР, на страницах «ЛГ» вначале публиковались только выступления делегатов-писателей, но затем редакция расширила круг публикуемых материалов. В газете появились рубрики «Политическая трибуна», «Трибуна депутата», «Пульс», «Пунктир», «Я не согласен!», «Кто мы? Куда мы идем?», а в рубрике «Если бы министром был я» все чаще затрагивались не бытовые практические вопросы, но вопросы политики и идеологии.
Многим запомнились острый диалог Евгения Примакова и Андрея Сахарова, не сошедшихся во взглядах на реформы, и дискуссия Георгия Смирнова и Олега Мороза на тему «Устарел ли марксизм?» — немыслимая еще буквально год назад.
В марте 1990-го Воронова, возглавившего к тому времени отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС (это называется «купить последний билет на «Титаник», шутит Поляков), сменил на посту главреда «ЛГ» правдист Федор Бурлацкий. Он тоже пострадал в начале 1970-х, когда поддержал бывшего главного редактора «Молодого коммуниста» и будущего главного редактора «Московских новостей», а в тот момент члена редколлегии «Правды» Лена Карпинского, написавшего статью «Путь к премьере» (о театральной цензуре). Впрочем, опала была своеобразная: с 1971-го по 1989-й Бурлацкий заведовал кафедрой марксизма-ленинизма в Институте общественных наук при ЦК КПСС, то есть в Высшей партшколе. При этом в 1988-м он стал еще и приглашенным профессором Колумбийского университета. А на момент назначения был уже многолетним политическим обозревателем «ЛГ».
«При Ф. Бурлацком «ЛГ» начала меняться, причем не в лучшую сторону, — отмечает Казначеев. — Освещая всякого рода центробежные тенденции, где бы они ни возникали — в Прибалтике, в Грузии, в Карабахе, в Приднестровье, — газета откликалась на них и даже, как говорится, в меру сил подливала масла в огонь. Сегодня констатировать это грустно, но истина дороже…
В плане литературной политики на страницах «ЛГ» продолжает активно пиариться «Апрель». Другие писательские структуры пребывают в тени. Публикуется письмо писателей либеральных взглядов в секретариат Московской писательской организации, которые требуют «структурных перемен». Впрочем, перемены происходили независимо от желания литературного начальства. Сначала от СП отпочковывается «Апрель». Потом возникают Союз писателей Москвы и Союз российских писателей, происходят изменения в Союзе писателей России. Литфонд сохраняет единство, но надолго ли? Его затрясет несколько позже. Некоторые авторы, желая остаться в стороне от политических распрей, объявляют себя «независимыми», «неприсоединившимися»… Во всей атмосфере государства разливается тревожное предчувствие надвигающейся катастрофы…
Меняются местами две тетрадки газеты. Если раньше первая была посвящена проблемам литературы и искусства, а вторая — политическим, социальным и экономическим темам, то теперь сделана рокировка. Вдумчивому читателю этот шаг, конечно, был понятен: словесность, культура теперь отодвигаются на второй план, главное — идеология. С тем, что газета, носящая название «Литературной», обязана в центре своего внимания держать именно литературные вопросы, иначе она теряет самоидентификацию, новое руководство не считается. Проблемы литературы становились второстепенными… Повсюду происходила переоценка ценностей: главными действующими лицами становились телевизионщики, шоумены, компьютерщики, специалисты по рекламе и пиару.
Начиная с № 18 1990 года с логотипа газеты исчезает профиль М. Горького. Это было символом отказа от советского исторического и культурного наследия…
Из списка членов редколлегии исчезает имя умеренной почвенницы С. Селивановой, но на страницах газеты изредка еще появляется В. Кожинов».
Из органа Союза писателей газета постепенно превратилась в «Свободную трибуну писателей», ее учредителем стал трудовой коллектив, который высказывал намерение свою прибыль (очень немалую!) направить на поддержку малоимущих писателей, на новые издания, премии, стипендии, командировки, финансирование домов творчества и поликлиник. И, конечно, обещания эти останутся только на бумаге — совсем в духе времени.
Во главе «ЛГ» Бурлацкий пробыл недолго и лишился поста в 1991-м: «путч» застал его, как и Полякова, в Крыму. Сотрудники редакции, наблюдая в окно танк, который, по давней интеллигентской традиции, представлялся им реальной угрозой их жизни, ждали срочного возвращения главного редактора, но тот почему-то медлил. В присутствии членов редколлегии первый заместитель Юрий Поройков позвонил шефу в спецсанаторий «Ореанда», включив громкую связь, и все услышали беззаботный ответ жены Бурлацкого: «Федор Михайлович не может взять трубку. Он на пляже». Похоже, тот был в курсе многоходовой провокации, затеянной президентом СССР, и собирался вернуться вместе с ним — победителем. Возмущенный коллектив сверг злостного отпускника и избрал на этот пост его зама Аркадия Удальцова: согласно новому уставу — и революционным временам — руководителей в ту пору принято было выбирать.
Следующими шагами стали отделение от Союза писателей СССР, размежевание с издательским комплексом «Литературная газета», акционирование и приватизация верхушкой редакции казенных дач в Переделкине и Шереметьеве. Аркадий Удальцов, выходец из номенклатуры ВЛКСМ, в 1968–1974 годах возглавлял «Московский комсомолец», и именно при нем «Литературная газета» уверенно взяла тот курс, который через десять лет предстояло изменить Юрию Полякову.
Тем временем на рынке уже появились десятки конкурирующих новых изданий, а дефицит бумаги сменился взлетом цен на полиграфические услуги, и у процветавшей прежде газеты начались финансовые трудности. Выход видели в том, чтобы выгодно продать легендарный бренд. Вначале переговоры велись с банковской группой Гусинского «Мост», потом акции приобрел «Менатеп» Ходорковского, который вскоре значительно уменьшил материальную базу издания, владевшего прежде разного рода подсобным хозяйством. Возможно, олигарх купил газету про запас, в преддверии президентских выборов 1996 года. Когда во втором туре удалось протолкнуть на президентство больного, перенесшего инсульты и инфаркты Ельцина, необходимость обладания газетой, некогда авторитетной в кругах интеллигенции, отпала. Патриотические и левые силы проиграли в нечестной борьбе за власть, и стало понятно, что можно и дальше решать свои дела, ни на кого не оглядываясь. «Менатеп», естественно, вкладываться в «ЛГ» не стал, а вскоре продал ее АФК «Система». Но финансистов, похоже, больше интересовала не газета, а ее здание в центре столицы.
О направлении «ЛГ», обозначившемся в этот период, Казначеев пишет так:
«Состояние газеты было двойственное. С одной стороны, присутствовало желание быть в русле движения демократических реформ, с другой — стремление оставаться искренней и честной по отношению к своим читателям и подписчикам. Хотя соблюсти этот баланс толерантности и правдивости было в самом деле крайне тяжело. А читатель остро и болезненно реагировал на эту тактику лавирования. И вот в 1993 году тираж газеты составляет уже всего 210 тысяч экземпляров. Затем и эта цифра окажется недосягаемой…
Во многих материалах «ЛГ» проводится своего рода ревизия сложившихся представлений о политике и истории. В № 43 (1994) можно было ознакомиться с пространным диалогом В. Астафьева и В. Кондратьева, где пересматриваются подходы по отношению к Великой Отечественной войне и другим историческим событиям.
Трагические военные события в Чечне, отношение к которым в обществе было неоднозначным, фактически освещаются и оцениваются редакцией не… с позиций сохранения целостности государства, а с точки зрения так называемых общечеловеческих ценностей, когда интересы большой страны, по сути дела, отвергаются…
С другой стороны, на страницах «ЛГ» начинают мелькать рекламные материалы — не крупных корпораций и финансовых групп, что можно было бы оправдать и объяснить их высоким статусом, а сообщения о предоставлении частных услуг, например, предложения туристических фирм о поездках на отдых в Турцию или Египет…
Иногда — приходится это с горечью констатировать — в те годы на страницах «Литературки» попадались высказывания, граничащие с нарушениями элементарного нравственного чувства. В предновогоднем номере была помещена статья члена редколлегии Ю. Соломонова под характерным названием «Фигня-2». Во врезе здесь как бы между прочим сообщалось: «Так в центре стольного града на месте большого открытого бассейна стали рыть яму под основание консенсуса…» (№ 52, 1994). Благое дело возрождения национальной религиозной и духовной святыни, храма Христа Спасителя, варварски разрушенного, интерпретировалось как жест какой-то банальной показухи. Понятно, что и при строительстве, и в восстановлении этого памятника было много неясного. Но в отношении журналиста к судьбе взорванной святыни проявился тот же самый атеистический большевизм, который осуществил когда-то преступный замысел. Нет сомнений, что православно и патриотически настроенные читатели восприняли такие слова как оскорбление…»
С 1999 года «Литературную газету» возглавил Лев Гущин, идейный оппонент Полякова еще со времен «Московского комсомольца». Как ни странно, его, представителя последнего поколения советского чиновничества, в Полякове больше всего раздражали открытая государственная позиция и приверженность русской теме. Новый главред, по образованию экономист, на своем посту чем только не увлекался, а вот до «Литературки» руки у него едва доходили. Когда-то и он работал в райкоме — в Кунцевском. Собственно, именно из таких аппаратчиков, уверенно перешедших на сторону победившей демократии, и состояло окружение Ельцина. При советской власти Гущин успел поруководить «Московским комсомольцем» (1977–1983), был заместителем главного редактора органа ЦК КПСС «Советской России», затем возглавил «Огонек» и в довершение — «Литературку». Одно время редакторские обязанности с ним делил выходец с Западной Украины Николай Боднарук.
При Гущине газета дошла до крайнего состояния: ее реальный тираж приблизился к десяти тысячам экземпляров, а возврат из торговой сети доходил до 70 процентов. Можно сказать, что выписывали и покупали тогда «ЛГ» только самые стойкие почитатели. Правда, газета и до его редакторства была переориентирована на узкий круг окололитературной публики и представляла собой некую экспериментальную площадку, где чаще всего обсуждались заумные идеи либерального мейнстрима, да еще и с использованием ненормативной лексики. В редакции уже в упор не замечали наличие в стране литературы консервативно-патриотического направления, востребованной как раз широким кругом читателей. Одно то, что, среди прочих, имена Распутина и Белова не упоминались на ее страницах целых десять лет, о многом говорит.
«К рубежу тысячелетий, к миллениуму, как тогда выражались, «Литературная газета» подходила не в самом лучшем состоянии. Читательское доверие все более таяло, — свидетельствует о том периоде Казначеев. — Некоторые достойнейшие имена современных писателей десятилетиями не упоминались в газете. Многие талантливые авторы либо дистанцировались от «ЛГ», либо были отлучены от сотрудничества с нею.
Изменения были неизбежны. И новогодний «подарок» — отречение от власти Б. Ельцина — стал залогом того, что существенные перемены обязательно произойдут».
Между тем пригласил Полякова возглавить газету не кто иной, как Вячеслав Кольев, руководивший тогда медиахолдингом АФК «Система». Пока велись переговоры и Поляков колебался, информация о них просочилась в редакцию. Вот как вспоминает об этом Колпаков: «Гущин, думаю, знал, как активно мы уговаривали Юрия Михайловича прийти в «ЛГ». Идея витала в воздухе — «Литгазете» необходимы были перемены и новый главный — писатель с убеждениями, принципами, со своей точкой зрения. Поляков подходил идеально: он в свое время редактировал «Московский литератор», издавал альманах «Реалист», к сожалению, недооцененный, поляковские колонки в «Собеседнике», «Труде» и «МК» читали и обсуждали все. Честно говоря, я другого такого публициста в России не знаю… И мы продолжали Полякова уговаривать. При встречах, по телефону. Однажды наш разговор длился более полутора часов, и только настойчивость моей жены, которой надо было срочно позвонить, его прервала…»
Ситуация в стране менялась: к власти пришел Путин, курс постепенно разворачивался к традиционным ценностям, недалеко было то время, когда патриотизм перестал быть ругательным словом, а советская эпоха — сплошным кошмаром, которым пугают молодежь. Надо со всей определенностью сказать: если бы не изменение курса, предпринятое новым президентом, едва ли Полякову довелось бы возглавить «Литературку», ведь подобные назначения в сфере массовой информации непременно согласовывались с президентской администрацией. Рассказывают, что бывший глава администрации президента, узнав об этом решении, воскликнул: «Это серьезная политическая ошибка!»
Копьев тем временем прилагал немалые усилия, убеждая некоторых чиновников администрации президента и совет директоров АФК «Система», что «Литературной газете» нужен именно такой редактор. Многих смущали резкие публицистические выступления Полякова в прессе и на ТВ, да и «Демгородок», злую сатиру на ельцинскую эпоху, ему, конечно, не забыли. Возможно, тогда же решался вопрос, на каких условиях покинет пост Гущин.
В одной из своих статей Поляков писал: «О эти золотые парашюты — удивительное изобретение нашего времени! Чем хуже менеджер, тем горячее желание акционеров от него избавиться и тем роскошнее золотой парашют. Представьте, чтобы при советской власти человека, развалившего производство, вызвали на бюро райкома и сказали: «Иван Иванович, мы тебя умоляем, уйди, ты же работать не умеешь! У тебя станки сломаны, рабочие спились, продукции нет… Что ты за это хочешь? Десятерную зарплату? Мало? Давай мы тебе еще дачу отпишем, хорошую пенсию жене оформим…» Но это же нонсенс! Да, нонсенс, но в наше время именно так зачастую и происходит. И не только в частных компаниях, таких как «Литературная газета», но и, увы, на государственной службе…»
Пока шли переговоры, будущий главный редактор сформулировал основные направления возрождения газеты, хотя и не был вполне уверен, что возрождать «ЛГ» будет именно он. Вот эти пять пунктов, чудом сохранившиеся в архиве АФК «Система» и любезно предоставленные Леонидом Колпаковым:
«1. Надо, чтобы «ЛГ» перестала быть заповедником «непуганых либералов», но стала газетой всей думающей и читающей российской интеллигенции, как это было во времена Симонова и Чаковского. Конечно, мы не можем вернуть советские времена с их книжно-газетным дефицитом, но мы можем вернуть на страницы «ЛГ» писателей, деятелей культуры, ученых, мыслителей, политиков, пользующихся авторитетом в достаточно широких кругах и принципиально игнорируемых «ЛГ» по идеологическим соображениям. «ЛГ» должна стать честным зеркалом, отражающим все (за исключением неприличных крайностей) мнения, взгляды, тенденции, бытующие в современном российском обществе. Полемика на страницах «ЛГ» должна заключаться не в том, чтобы умный демократ возражал глуповатому либералу, а в том, чтобы столкнуть действительно противоположные мнения. И такое столкновение должно быть в каждом номере. Расширение круга авторов — это расширение круга читателей.
2. Газета должна стать патриотичной в американском смысле этого слова. Дерутся все-таки с помощью кулаков, а не с помощью фиги, тем более в кармане. Сегодня подбор материалов в «ЛГ» таков, будто предназначен эмигрантам, будто публикации призваны служить совокупным подтверждением того, что уехав из «этой страны», они сделали правильный вывод. Будущая «ЛГ» — это издание для тех, кто остался и остался сознательно. Это совсем не значит, что газета должна отказаться от своей иронической критичности, стиль которой вырабатывался десятилетиями. Но следует различать ироничность и глумливость. От агрессивной глумливости читатель устал давно и надолго.
3. «ЛГ» должна сделаться надежным и объективным путеводителем читателей по современному литературному и культурному процессу. Только в этом случае она снова станет необходимой учителю-словеснику, студенту и преподавателю гуманитарного вуза, библиотекарю, продвинутому лицеисту и т. д. Сегодня, простите за резкость, «ЛГ» может поведать читателю только о литературно-дружеских связях тех или иных сотрудников газеты.
4. «ЛГ» может и должна стать лоцманом в бурном потоке книжного бизнеса. Это место фактически вакантно. Как справедливо отмечено во многих служебных записках, газета обязана оперативно реагировать на книжные новинки, на взаимовыгодной основе освещать деятельность издательских групп, возможно, размещать на своих страницах каталоги для продажи книг по почте. Такая форма некогда хорошо зарекомендовала себя в ряде периодических изданий, например, в «толстушке» «Труда».
5. Серьезных изменений потребуют оформление газеты, верстка, формат и стиль подачи материалов и т. д. Но в этом деле существуют колоссальные наработки и печатную машину Гуттенберга, надеюсь, открывать не придется».
Но наконец Поляков все-таки дал свое согласие — а те, от кого это зависело, решились его кандидатуру утвердить. Ждать было нельзя: состояние, до которого была доведена «Литературка», иначе как катастрофическим не назовешь. Когда в нее пришел тридцать третий главред, сотрудникам год не платили зарплату, а авторам два года — гонорар…
В номере 17–18 за 2000 год, в конце апреля, на первой полосе, в рубрике «Событие», «ЛГ» сообщила, что у нее новый главный редактор. А уже 12 мая вышел первый подписанный Юрием Поляковым номер с его программной статьей «Слово — не птеродактиль»:
«То, что слово не воробей, общеизвестно и даже записано в словаре Даля. То, что слово не голубь с оливковой веточкой в клюве, для нас, обитателей современной России, увы, очевидно. А вот в том, что слово не птеродактиль, несущий в двухметровой пасти связку розог для общественной порки, сегодня читателей надо долго убеждать. Давайте сознаемся: мы живем в эпоху нарастающего антиСМИтизма (не путать с антисемитизмом — явлением непростительным!). И этот антиСМИтизм объясним. Во-первых, «четвертая власть» долгое время была, извините за выражение, информационным спонсором многих ошибок и даже преступлений минувшего десятилетия. <…>
Во-вторых, «четвертая власть», как это ни печально, подобно КПСС, очень уж жаждала быть «руководящей и направляющей силой общества», при этом перекладывая всю ответственность за неудачи на остальные ветви власти и неуспешный народ. Белые одежды медиакратов посреди всероссийской антисанитарии выглядели вызывающе, как реклама «мерседеса» в вымирающем шахтерском поселке. Политзанятия того же Евгения Киселева, который еженедельно поучал подданных телезрителей с неторопливостью полупарализованного Брежнева, в конце концов утомили. Кстати, упомянутый мной антиСМИтизм связан еще и с тем, что многие труженики информационного поля, ведя неустанную битву за политический урожай, упорно, иной раз даже вопреки внутренним убеждениям, навязывали соотечественникам идеологию так называемого среднего класса. Но вот беда: идеологию создали, а класса нет — не возник по ряду обстоятельств. Вот и получалось: у одних щи пустые, а у других общечеловеческие ценности мелковаты. <…>
В-третьих, произошла одна крайне неприятная вещь. Рядовым налогоплательщикам, иногда в просторечье именуемым народом и озабоченным поисками хлеба насущного в условиях рыночного изобилия, осточертело наблюдать бесконечный залоговый аукцион, на котором состоятельные господа борются за право приватизировать свободу слова в нашем Отечестве. Тем более что свобода слова в том смысле, как она понималась в минувшее десятилетие, имеет к свободе такое же отношение, как свободная любовь к любви. Под свободой слова подразумевалось неоспариваемое право навязывать обществу свою точку зрения, при этом старательно оберегая эфир и газетные полосы от иных взглядов, идей, концепций.
Помнится, в пору, когда шумно обсуждался закон о наблюдательных советах на ТВ, меня пригласили поучаствовать в судебном телешоу. Я был за наблюдательные советы. Мне вообще непонятно, как можно протестовать против контроля общества над СМИ, ведь в эпоху высоких информационных технологий возможны фантастические манипуляции общественным сознанием. Скоро марионетки будут в своих поступках свободнее нас с вами! Кроме того, наблюдательный совет, состоящий из авторитетных профессионалов, способен не только указать на недобросовестность коллеги, но и поддержать журналиста, скажем, в его конфликте с властью или, допустим, с работодателями, имеющими, как мы знаем, иной раз весьма специфический, производственно-прикладной взгляд на свободу слова. Теперь, в новых политических условиях, многие об этом призадумались, а тогда в пылу дискуссий, чтобы окончательно убедить российскую общественность в том, что на образцовом Западе нет и не может быть никаких наблюдательных советов, на запись передачи пригласили руководителя русской службы влиятельной зарубежной радиостанции. И дали, как говорится, маху: честный англосакс встал и спел хвалебную оду наблюдательным советам, чрезвычайно влиятельным на его островной родине. Надо ли объяснять, что в эфир передача вышла без этой оды. Кстати, главного редактора популярной газеты, председательствовавшего на том телепроцессе, я потом неоднократно встречал в эфире в качестве неутомимого борца за свободу слова. Я понимаю, что выскажу сейчас мысль, которая у многих вызовет негодование, но я скажу и даже сознательно ее обострю: никто, на мой взгляд, за минувшее десятилетие не нанес такого ущерба идее свободы слова в России, как сами журналисты. Готов выслушать возражения и предоставить страницы «ЛГ» для серьезной дискуссии на эту тему…
Есть и еще одна важнейшая проблема. Ренан говорил: скопище людей нацией делают две вещи — общее великое прошлое и общие великие планы на будущее. Мы пережили эпоху чудовищного общегосударственного кризиса, страшного идейно-нравственного раскола, стремительного и зачастую вызывающе несправедливого имущественного расслоения. Лет через пятьдесят, наверное, уже можно будет рассказывать красивые легенды о начитанном джинсовом мальчике, удачно перепродавшем свой первый блок «Мальборо» и ставшем в этой связи миллионщиком. Но мы-то с вами видели воочию, как формирование нынешней элиты шло по незабвенному чичиковскому принципу: «Зацепил, поволок, сорвалось — не спрашивай…» И все-таки… Историческая судьба страны, как поняли это наши соотечественники в 20-30-е годы минувшего века и как осознают многие сегодня, — значительно шире классовых перипетий и экономических пертурбаций. Даже коммунисты нынче, заметьте, больше говорят об утраченном величии Державы, нежели о провороненной социальной справедливости. Можно сколько угодно иронизировать по поводу долгожданной общенациональной идеи и снова уносить «зажженные светы» на интеллектуальные московские кухни, но не лучше ли сообща, забыв взаимные обиды, принять участие в формировании и формулировании наших общих великих планов на будущее? Ведь в противном случае жить нам придется по чужим формулам. Это как гимн: нравится — не нравится, а изволь встать и снять головной убор. Не хочешь? Сиди дома.
Сейчас много разговоров о взаимоотношениях российской интеллигенции и российской власти. По моему глубокому убеждению, человек думающий, а тем более пишущий вынужден, как правило, быть в оппозиции к власти — силе надчеловеческой. В споре несчастного Евгения с Медным всадником лично я сочувствую Евгению. Русская литература всегда старалась быть на стороне слабого и противостояла рвущимся, как пел Окуджава, «навластвоваться всласть». Впрочем, тут все дело в степени этого противостояния: у разумной власти — разумная оппозиция, и наоборот. Но вот к чему, по-моему, нельзя быть в оппозиции никогда и ни при каких условиях — так это к российской государственности. К сожалению, декларирующие свою оппозицию к власти на самом деле иной раз пребывают в оппозиции именно к российской государственности. <…>
Речь, конечно, не о введении нового единомыслия в России. Речь о том, что хватит, пожалуй, груды умственного мусора, наваленного за перестроечные и постперестроечные годы, всерьез выдавать за баррикаду, навеки разделившую российское общество, и в особенности нашу интеллигенцию. У самого отвязного либерала и самого укорененного почвенника при всех непримиримых различиях есть хотя бы одно общее. Но какое! Это общее — Россия, страна великих слов и великих дел. И если это общее не станет поводом к долгожданному диалогу, компромиссу, сотрудничеству и сотворчеству, то спилберговский «Парк Юрского периода» с его динозаврами и птеродактилями покажется нам вскоре райскими кущами».
К чести автора — и к нашей печали — все сказанное в статье и сейчас, спустя 15 лет, остается актуальным.
Отложив в сторону начатые роман, пьесу и сценарий, Поляков взялся за дело с присущей ему энергией. Леонид Колпаков, работавший тогда ответственным секретарем, вспоминает:
«Приученные к «расслабухе» предшественников, некоторые наши сотрудники поначалу недооценили нового главного. Но вот он вызвал меня и спросил:
— А где гвоздики?
— Какие гвоздики?
— Раньше у Чаковского в стене были гвоздики, на которые вешали готовые полосы.
— А ты будешь читать полосы?
— Конечно! А разве Гущин не читал?
— Не-ет…
— И читать буду, и править… И вот еще: надо повесить на стене портреты всех главных редакторов, начиная с Дельвига… Петрова, Симонова, Смирнова, Чаковского… Пусть сотрудники смотрят и понимают, чьи традиции мы продолжаем.
— А Всеволода Кочетова тоже повесить?
— Конечно. Чем он хуже Смирнова?
— А Бурлацкого, Удальцова, Гущина?
— С ними пусть решает тот, кто меня сменит, тридцать четвертый редактор. У меня на них резко субъективный взгляд…
После многолетнего перерыва Поляков стал проводить планерки. Мы однажды начали без него, ровно в назначенный час, и формально приступили к обсуждению плана будущего номера, как приехал главный, задержавшись у акционеров в АФК, и сказал с упреком: «Могли бы и подождать!» А его предшественники только рады были, когда мы заседали без них и все раскладывали по полочкам. Всем стало ясно: Поляков — это всерьез… От расхлябанности он отучал тоже по-своему. Например, давая задание сотруднику, позвонить, скажем, какому-то писателю и договориться об интервью, он некоторое время терпеливо ждал, приветливо спрашивая на планерках, как дела. Сотрудник по привычке объяснял, мол, звонил несколько раз на дню, но безрезультатно. За границей, наверное. Тогда Поляков доставал мобильник и набирал номер неуловимого литератора. Ко всеобщему изумлению, он тотчас отзывался. Главный включал громкую связь: «Евгений Александрович, что-то наш сотрудник дозвониться не может.
Наверное, отъезжали? Что вы говорите? Сломали ногу и месяц у телефона лежите… Ай-ай-ай… Полежите у телефона еще пять минут, вам позвонят…» После этого он долгим ироническим взором посмотрел на обмишурившегося, и тот, надо сказать, с тех пор мгновенно стал дозваниваться до всех авторов. Однажды Поляков на бегу, торопясь на совещание, встретил в коридоре сотрудника отдела литературы Александра Яковлева и поручил ему отрецензировать вышедшую книжку одного писателя. Через месяц, так же на бегу, он поинтересовался: «Сдал рецензию?» Яковлев, еще не знавший о памятливости нового главного, от неожиданности брякнул: «Я думал… ты забыл…» — «Саша, — возразил Поляков, — когда я три года пишу роман в тридцать авторских листов, я помню о сотне персонажей: сколько кому лет, кто как выглядит, кто с кем пьет, кому жена изменяет, а кто — жене… Неужели ты думаешь, что я забуду, как месяц назад попросил тебя написать рецензию?!» Кстати, общаясь с сотрудниками, Поляков всегда был весьма демократичен. Павел Басинский однажды с похмелья даже прослезился: «Это первый главный редактор, с которым я на «ты»…
Новый главный начал вникать во все. С первой полосы сразу исчезли рисунки Златковского — он любил из номера в номер изображать представителей титульной нации в шапке-ушанке, небритыми и беззубыми да еще с початой бутылкой в кармане. Такое впечатление, что Златковский, кстати, гордившийся баронским достоинством, присвоенным еще при царе за коммерческие заслуги его предку, сводил с русским народом какие-то личные счеты. «Шапки» с тех пор остались только в виде главного заголовка номера…»
Сам Поляков рассказывал, что, когда в первый свой рабочий день появился в здании редакции в Костянском переулке, его неожиданно остановила внизу бабушка-вахтерша:
— А это вы новый редактор?
— Да, я.
— Можно вас на минуточку?
Он подошел и увидел у нее на столе свежую «Литературку». На первой полосе красовалась большая карикатура: пьяный, обделавшийся мужик в треухе, валяется под забором, а из кармана у него торчит бутылка. И какая-то гадостная подпись.
Вахтерша посмотрела на него грустными глазами и попросила:
— Пообещайте, что при вас такого не будет!
И он обещал. Начиная свою первую редколлегию, главный показал сотрудникам газету с карикатурой:
— Вот такого у нас больше не будет никогда.
Но это было не всё, что тогда от него услышали. Сказал он еще примерно следующее:
— Коллектив «Литературной газеты» был активным борцом с социализмом и теперь, можно сказать, добился своего. Лично я был за реформированный социализм, но я проиграл. Вы победили! Но если вы думали, что при капитализме каждому из вас удастся сохранить по кусочку социализма для личного пользования, то жестоко ошиблись. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Нам всем придется учиться жить и работать в новых условиях, и легкой жизни ни у кого не будет. Капитализм так капитализм!
Одним из первых приказов по газете он запретил на полосах нецензурную лексику, даже если она, по мнению автора, выполняет художественные функции.
— А если это строчки гениального поэта?! — в запальчивости воскликнула заведующая отделом литературы критик Алла Латынина.
— У гениального поэта наверняка есть строчки и без мата. Вот их мы и напечатаем. А то, что с матом, пусть несет в «Новый мир» к Василевскому.
Сотрудникам также не рекомендовалось употреблять навязываемую через российское же телевидение конструкцию «в Украине».
— Мы издаем газету на русском языке, а не на суржике! — жестко ответил главред недовольному сотруднику украинского посольства, позвонившему в «ЛГ».
Вскоре после прихода Полякова в «Литературке» появилось интервью с Валентином Распутиным, и либералы тут же попытались приклеить Полякову ярлык «черносотенца». «Ну какие же Распутин, Белов и Кожинов черносотенцы?! Они просто русские!» — недоумевал он, хотя, конечно, понимал, что открытая приверженность писателя к русской проблематике в глазах либерала — атавизм, о котором не принято говорить в приличном обществе.
«Когда в 2001 году я пришел в «Литгазету», это был заповедник непуганых либералов, которые не желали понять значение того, что произошло в 1991 году, — вспоминает Поляков. — Мне было известно, что в сфере культуры, журналистики высказывать свои патриотические взгляды, озабоченность интересами своей страны — дело опасное. Если ты позиционируешь себя таким образом, то очень быстро понимаешь, что гранты — не для тебя, поездки на фестивали — не для тебя, престижные ярмарки, премии — не для тебя. Если современный деятель культуры рискнет объявить себя патриотом, он обречен на то, что его быстро отовсюду вытеснят… Правда, со мной это сложно сделать. Как писатель я получил признание еще при советской власти, у меня есть свой читатель, во мне заинтересован издатель, и живу я не с грантов и премий, а от издания книг, постановки пьес. Я человек независимый, хотя некоторое давление все равно ощущаю».
Едва в «ЛГ» появились писатели «нелиберального пула» — пошли жалобы. На имя хозяина АФК «Система» Владимира Евтушенкова пришло письмо от Риммы Казаковой: мол, Поляков ведет ксенофобскую политику, печатает только квасных патриотов.
«…Меня вызвал Сам: «Вот, такой сигнал поступил. Ну, как же, Юрий Михайлович, так нельзя, мы же рассчитывали, что вы — человек объективный». Я отвечаю: «Так я и есть объективный. А то, что в письме, — вранье!» — «Так уж и вранье! Римма Казакова — председатель Союза писателей Москвы, уважаемый человек…» Я попросил подшивку газеты и наглядно продемонстрировал: на полосах представлены все точки зрения и подбор авторов широкий. Я был воспитан советской властью, мне с детства «вбили», что нужно быть «широким», у меня и в мыслях не было кого-то гнобить. И если кто-то сам отказался от сотрудничества с нами, это его личное дело. С газетных полос я никого из авторов не изгонял, просто возвращал «забытые» и добавлял новые имена, чтобы газета соответствовала реальному литературному процессу. Я сам от этой необъективности натерпелся и видел, как страдают другие хорошие писатели. «Вы говорите, Владимир Петрович, у нас нет либералов? Вот, пожалуйста. У нас нет евреев? Вот, пожалуйста. Да, у нас есть Распутин. А вы разве против Распутина?» — «Я не против Распутина», — замахал руками Сам. «А его имя десять лет не упоминалось на страницах «Литературки»! Ни одной строки!» — «Не может быть!» — «Вы мне не верите?» — «Верю, верю. Подождите, так что же получается, Казакова мне наврала?» — «Вот именно!» — «Ну, это она напрасно! — Сам вызвал секретаря: — Если будет звонить некая Казакова, больше меня с ней не соединять. Никогда!»
На одной из первых редколлегий газеты я сказал: «Друзья, поймите, «Литературная газета» была всегда общенародной, общеинтеллигентской, и то, что ее сделали рупором узкого круга столичных либералов и одного экспериментального направления в литературе — постмодернизма, это неправильно. Чтобы нам вернуться к учителям, в школьные библиотеки, в институтские библиотеки, мы должны проявить широту». И дальше вся наша работа была направлена на достижение этой широты. Я стал подтягивать серьезных консервативных мыслителей — Панарина, Зиновьева… Кожинов, увы, умер к тому времени, и мы печатали материалы из его наследия. Постепенно люди, которые не справлялись, не соответствовали уровню газеты, уходили. Был и такой случай: я отправил одного молодого сотрудника брать интервью у выдающегося православного философа и геополитика Александра Панарина… Сотрудник приносит готовый текст — читаю: «Я не знаю, что такое геополитика, но я не люблю людей, которые шмыгают носом. А геополитик Панарин все время шмыгает носом». Я сказал: «Дорогой товарищ, вы получили уникальную возможность пообщаться с одним из самых глубоких современных интеллектуалов, но заметили только то, что он шмыгает носом. Наверное, вам лучше поработать в каком-нибудь таблоиде. В «Литературной газете» вам делать нечего».
Так постепенно формировался редакционный коллектив… При этом в газете остались и либералы, из тех, кто понимал, что либеральное направление — важное, но оно не должно навязываться, тем более в ущерб другим. Например, остался и много лет возглавлял отдел социальных проблем Игорь Гамаюнов. Аркадий Ваксберг представлял «ЛГ» во Франции и постоянно печатал в ней свои материалы».
Годы работы в «Московском литераторе», сотрудничество с «Московским комсомольцем» очень Полякову пригодились. Журналистский опыт для главреда любой газеты важен, ведь необходимо организовать процесс, выстроить работу с авторами и сотрудниками, оперативно реагировать на текущие события. Главный редактор может и должен высказывать вслух свои убеждения, но не имеет права навязывать их сотрудникам и авторам материалов. Проявляя плюрализм, он должен сдерживать эмоции и оставлять в стороне желание сводить счеты со своими оппонентами, тем более если газета дает оценку творчеству других писателей, которые не придерживаются заявленного ею курса на «либеральный консерватизм». И еще одно: общественная позиция самого главреда никоим образом не должна зависеть от «кремлевских сквозняков». Читатель такое улавливает сразу и охладевает к изданию.
Поляков был убежден, что сотрудники редакции должны ориентироваться на общенациональные культурные задачи, понимать ценность каждой творческой личности, независимо от ее политических предпочтений. Однако, конечно, не все в газете думали так, как он.
«…Мне позвонил один исследователь: «Я раскопал уникальный материал по истории написания «Тихого Дона», отдал вашему сотруднику, но он сказал, что вы печатать не будете». А у Шолохова как раз был какой-то промежуточный юбилей. Вызываю этого сотрудника, интересуюсь: «Что там у нас с материалом о Шолохове?» Он говорит: «Пока я работаю в этой газете, ни одного материала про этого графомана и сталинского подголоска напечатано не будет». Я говорю: «Во-первых, Шолохов — не графоман, а великий писатель, а сталинские подголоски — это совсем другие писатели, Осип Брик, к примеру. Материал о Шолохове мы непременно напечатаем, а вы уже не работаете в «ЛГ».
Или была такая ситуация: один хороший, грамотный сотрудник по фамилии Радзишевский вел библиографическое обозрение. Я стал мягко намекать ему: мол, книги издают ведь не только либералы, есть и другие писатели, например, почвенники. И из пяти книг, которые он заявляет в номер, хотя бы одну позицию можно посвятить, например, Дмитрию Балашову. Но он упорно писал рецензии только на книги либералов, причем некоторые из них к тому времени давно уже стали гражданами США, Германии или своей исторической родины. Наконец я взорвался: «Неужели вы не понимаете, что газета должна объективно отражать литературный процесс, а не то, что интересно лично вам?! В следующий номер закажите рецензию на новый роман Проханова!» Такого плюрализма он не выдержал и уволился.
Схожая история вышла с критиком Аллой Латыниной, заведующей литературным отделом. Я ее приглашаю в кабинет и говорю: «Алла Николаевна, приближается семидесятилетие Николая Николаевича Скатова. Надо его поздравить, дать материал о нем или сделать с ним интервью». Вдруг она отвечает: «Я не планирую поздравлять Скатова». — «А в чем же дело?» — «Скатов — чиновник, он не литературовед». Я ей говорю: «Даже если бы он был полотером, которого назначили директором Пушкинского Дома, мы все равно должны его поздравить — у нас не так много пушкинских домов. Но он как раз не полотер, а замечательный литературовед. Вы читали его книги — о Кольцове, о Некрасове? Нет? Странно… А о Пушкине?» Она говорит: «Нет, не читала». — «Как же вы можете утверждать, что он плохой литературовед? Вы что, в отделе живете по принципу: «Скатова не читала, поэтому не люблю»? Так не пойдет. Готовьте в номер материал о нем! На полосу!» На следующий день после нашего разговора Латынина тоже подала заявление об уходе. Своим сотрудникам, которые ее увещевали: «Тебя же не выгоняют! Трудно тебе, что ли, поздравь ты Скатова!» — она объяснила: «Вы не понимаете: если я дам материал к его юбилею, наши меня не простят». И предпочла уйти, потому что не хотела огорчать своих. Что говорить! Нравами либеральной жандармерии возмущался еще Салтыков-Щедрин».
Через год после назначения Поляков дал интервью корреспонденту газеты «Гудок» Игорю Логвинову:
«<…> И. Л. Вы пришли в газету чуть больше года назад. Как вы сами оцениваете те перемены, которые произошли в «Литературке» за этот период? Что уже сделано, что еще предстоит сделать?
Ю. П. <…> Сейчас мы представляем весь спектр духовной жизни страны, начиная от консервативно-социалистической ориентации (если брать политическую составляющую литературы, потому что есть еще и эстетическая) и заканчивая крайне либеральной. И консервативное творчество, и авангард — это все у нас присутствует, но именно в тех пропорциях, в которых это есть в жизни. Мы отказались от элитарной ориентированности на московскую тусовку. То же самое и в отношении стиля. Первое, что я сказал, когда пришел: в «Литературной газете» этого птичьего постмодернистского языка, который непонятен даже самим его приверженцам, не будет. Мы так и сделали, и надо сказать, что реакция последовала мгновенно. За короткое время в несколько раз сократился возврат газеты из киосков, без всяких дополнительных вложений тираж вырос на десять тысяч. Только за счет изменения отношения к читателю. Пошла почта, напоминающая во многом почту старой «Литературной газеты». Люди опять начали делиться своими надеждами, делать интересные предложения, высказывать сокровенные мысли. <…>
…Мы стараемся восстановить историческую справедливость, потому что я глубоко убежден в том, что общество, которое у нас сложится в ближайшее десятилетие, будет представлять собой очень своеобразный симбиоз советской и постсоветской цивилизаций. А стремление полностью вычеркнуть советский опыт так же губительно, как попытка после революции полностью зачеркнуть опыт дореволюционной России. Поэтому одна из основных задач, которые я ставлю и перед собой, и перед коллективом, — быть объективными в освещении нашего недавнего прошлого и пореформенных лет. Мы провели очень интересную, имевшую большой общественный резонанс дискуссию, которая называлась «Десять лет, которые потрясли…». Это был крупнейший цикл полемических статей, где впервые за десять лет на одной площадке сошлись публицисты, писатели, политики всех направлений. Раньше было так: в «Известиях» спорят об одних нюансах, в «Завтра» — о других. Но в споре о нюансах не рождается истина, понять, что же с нами произошло, можно, только столкнув самые полярные мнения, причем столкнув их в дискуссии, а не во взаимном оплевывании и отрицании».
Сам Поляков назвал дискуссию «Десять лет, которые потрясли…» «попыткой вернуть отечественную интеллигенцию в режим диалога». Попытка оказалась во многом успешной: в дискуссии приняли участие известные авторы, полтора десятилетия не спорившие друг с другом вообще, считая любую полемику с оппонентом бессмысленной.
Вот список авторов и названий опубликованных в ходе дискуссии статей: Юрий Поляков «Ослепление и наказание»; Александр Ципко «Я сыт по горло коммунистическим «гуманизмом»; Виталий Гинзбург «Каждому свое»; Владимир Крючков «Мы сейчас на очень опасном вираже истории»; Борис Стругацкий «Время — критерий истины»; Валерий Хайрюзов «В России произошла нормальная революция»; Владимир Мау «Что с нами сделали за десять лет»; Сергей Кара-Мурза «Камо грядеши, г-н Ципко?»; Владимир Ступишин «Революция» и наказание»; Анатолий Афанасьев «Мы пошли бы другим путем»; Валентин Павлов «Даже слепые про-зреют…»; Геннадий Лисичкин «Рго и Contra»; Алексей Варламов «В России совершена революция»; Сергей Филатов «Я стоял неподалеку от того танка…»; Юрий Головин «Убьют? Или не заметят?»; Виталий Коротич «Четвертого не дано»; Леонид Жуховицкий «Ортодокс поневоле»; Анатолий Макаров «Мы должны винить сами себя»; Жорес Алферов «У нас был фашизм почище гитлеровского»; Александр Яковлев «Россия к диалогу не готова».
Материалы дискуссии были изданы отдельной книгой и повлияли на формирование новых подходов к новейшей отечественной истории. Подавляющее большинство читателей очень высоко оценили собранный под одной обложкой спектр мнений. А вот «архитектор» перестройки академик Яковлев оказался не готов к диалогу с подавляющей частью народа, не согласившейся с его методами реформирования страны.
Да и Горбачев, выступая после прошедшей дискуссии на «Эхе Москвы», заявил, что «ЛГ» стала черносотенной. Бывший президент, во многом виновный в крушении СССР, бросил такое обвинение газете, видимо, потому, что большинство авторов дискуссии жестко критиковали его политику. «Отец гласности» так и не привык к нелицеприятным оценкам своей деятельности.
«Однажды на юбилейном вечере Андрея Дементьева я оказался в сложном положении. Дело было в огромном концертном зале «Зарядье», который уступами спускался к Москве-реке от белого каре гостиницы «Россия», неизвестно зачем построенной здесь полвека назад на месте исторического квартала. И совсем уж неясно, для чего отель снесли сорок лет спустя, когда он сам стал памятником мягкого советского конструктивизма 60-х. Теперь там пустырь и раскопки. По сценарию на сцену приглашались сразу несколько друзей юбиляра для теплых поздравлений. Вот, наконец, ведущий вызвал Павла Гусева, Олега Попцова и меня. Неся на плече, как новогоднюю елку, букет, я поднялся на сцену, произнес вслед за коллегами приветствие, поблагодарил Дементьева за редакторскую отвагу 1980-х, вручил пенал с «Паркером» — таких у меня со времен собственного пятидесятилетия осталось с дюжину, и собирался уже спуститься со сцены… Но тут случился сбой: видимо, ведущий за кулисами начал праздничный банкет раньше, чем следует. Не поблагодарив нас и не предложив вернуться на свои места, как полагалось по сценарию, он возвестил: «А сейчас на сцену приглашается первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев!» В проходе появился одутловатый старичок в хорошем костюме. В нем трудно было узнать Горби, если бы не затейливое кисельное пятно на лысине. Вскарабкавшись и обнаружив на сцене трех граждан, переминающихся с ноги на ногу, он принялся по партийной привычке на глазах трехтысячного зала здороваться с каждым за руку. Мне не оставалось ничего другого, как убрать руки за спину. Рукопожатие политика, которого я презираю, в мои планы как-то не входило. Зал утробно ахнул. Дементьев покачал головой, осуждая мою прямоту. Горбачев растерянно посмотрел на меня и, отпрянув, стал говорить поздравительную речь, как всегда, путаную и в конечном счете посвященную не юбиляру, а себе любимому. Мы тихонько под президентские переливы сошли со сцены. Когда я сел на место, сразу несколько тяжелых ладоней благодарно опустилось мне на плечи, и сразу несколько человек горячо прошептали: «Молодец, Юра!» На банкете я не успевал поднести к устам рюмку, так как обе руки мне то и дело пожимали гости, полностью одобрявшие мой демарш: «Так ему, трепачу меченому!» И только народный художник Н. обозвал меня слабаком. «Эх ты! Я бы на твоем месте в морду ему дал! На глазах у всех!» В перестройку он написал несколько портретов Горбачева — поясных и в рост, в одиночку и вдвоем с Раисой Максимовной, но обещанного звания Героя Социалистического Труда так и не получил…»
Возрождение газеты шло постепенно и неуклонно.
«…Мы постарались вернуть интерес к газете в регионах, утраченный за эти годы. Ну какой интерес школьному учителю в Рязани или врачу в Омске читать про тусовку поэтов-маньеристов в московском кафе или про то, как некий поэт умеет кричать совой, а другой художественно портить воздух? А читатель ждал, например, реальной оценки преступного правления Ельцина, реальной оценки литературной ситуации в стране. У нас образовался пул интеллектуалов-государственников, постоянно выступавших в газете. Мы первыми начали печатать материалы под рубрикой «Русский вопрос», и кое-кому это решительно не понравилось.
Именно на страницах «ЛГ» впервые заговорили о необходимости консолидированного взгляда на отечественную историю, особенно если это касается школьной программы. Недопустима ситуация, когда в одном учебнике ключевым сражением Второй мировой войны признается Сталинградская битва, в другом — африканская экспедиция союзников, а в третьем — восстание в Варшавском гетто. Нельзя историческое сознание молодежи превращать в полигон, где испытывают ядовитые газы. Спустя пять — семь лет идея дошла и до государственных мужей, и они озаботились проблемой единого учебника истории. Именно «ЛГ» первой заговорила о необходимости возвращения школьного сочинения и бесперспективности тест-экзамена (ЕГЭ) по предметам гуманитарного и мировоззренческого цикла… После одного материала, напечатанного в газете, была полностью изменена система присуждения государственных премий. А ведь на первый взгляд главный редактор просто поставил в номер два списка: перечень тех, кто входит в комиссию по премиям в области литературы, и перечень тех, кто получил эти премии за десять лет. Списки совпали, причем почти зеркально! Именно «ЛГ» обратила внимание власти на отсутствие специальных государственных премий за произведения, созданные для подрастающего поколения. Указ президента вскоре исправил этот пробел». А после весьма резкой статьи о том, что в послании президента ни разу не встречается слово «культура», это слово в последующих посланиях появилось, хотя этих упоминаний, по мнению людей, которые пекутся о духовном развитии общества, явно недостаточно.
Конечно, газета — дело коллективное, и без поддержки талантливой и работящей команды никакие идеи главного реактора в жизнь не воплотить. Тут самое время назвать тех, с кем Поляков реформировал «Литературку», стремясь вернуть ей былую читательскую любовь. Это его заместители Игорь Серков и Леонид Колпаков, работавшие с ним с самого начала, это несколько позже пришедший в редакцию Максим Замшев, это заведующие отделом литературы Павел Басинский и Сергей Мнацаканян, заведующие отделом социальных проблем Игорь Гамаюнов и Людмила Мазурова, это старожил редакции Владимир Бонч-Бруевич, дежурный администратор «Клуба 12 стульев» Евгений Обухов, легендарный фоторепортер Александр Карзанов, заведующий отделом искусства Александр Вислов и др.
Пожалуй, самым громким новшеством Полякова стало возвращение профиля Горького на логотип газеты.
«В начале 90-х годов прошлого века профиль Алексея Максимовича, благодаря которому «Литгазета» снова стала выходить в 1929-м, бесследно, без объяснения причин исчез, — вспоминает Леонид Колпаков. — Пушкин остался, а Горький перестал украшать первую полосу. Поляков не смирился с исторической несправедливостью и в 2004 году публично, при стечении журналистов других изданий, под объективами телекамер, вернул профиль на законное место. Он обращался к акционерам с этой идеей и раньше, а в ответ слышал: мысль хорошая, но повременим… И вот наступил 2004 год, когда Полякову стукнул полтинник. «Что тебе подарить на юбилей?» — спросил старший акционер у главного редактора. «Профиль Горького!» — был ответ. Отказать юбиляру не смогли…»
А вот как писал об этом сам Поляков:
«Думаю, выход 22 апреля 1929 года первого номера возобновленной «Литературной газеты» был воспринят видавшей всякие виды советской общественностью примерно так же, как если бы мы с вами, включив сегодня второй, государственный, телеканал, обнаружили там в качестве ведущего политобозревателя не законсервированного либерала Николая Сванидзе, а, например, консервативного революционера Александра Дугина. Или кого-то другого, воспринимающего многонациональную Россию не как историческое недоразумение, а как самостоятельную и уникальную цивилизацию. «Ага! — сказали бы мы с вами. — Что-то произошло!»
Вот и 75 лет назад «что-то» произошло. Для начала напомню, что научный отдел Наркомпроса РСФСР в 1919 году высказался о «желательности введения латинского шрифта для всех народностей, населяющих территорию Республики». Сторонников Мировой Революции (так называлась тогдашняя модель глобализации) можно понять: если дело идет к Всемирной республике, то чего уж там! Отказ же от кириллицы поможет российским пролетариям теснее сплотиться с рабочим классом Германии, Америки, Франции и так далее, а заодно скорее позабыть постыдное имперское прошлое. Конечно, к концу 20-х несбыточность многих перманентных устремлений стала очевидна, но историческая инерция велика: о царской России еще долго продолжали говорить как об омерзительно отсталой, а о пролетариате как о восхитительно передовом.
Чтобы понять атмосферу тогдашней литературной жизни, достаточно вспомнить названия некоторых периодических изданий той эпохи: «Красный дьявол», «Гильотина», «Пролетарская культура», «Зарево заводов», «Искусство коммуны», «Октябрь», «Печать и революция», «Красная новь», «Новый мир», «Литература и марксизм», «Молодая гвардия»… Кроме того, творческие споры между писателями, разбившимися на многочисленные враждовавшие между собой группы, в те годы носили очень специфический характер: мастера художественного слова как к высшему эстетическому арбитру постоянно апеллировали к ГПУ. Не случайно ехидный Булгаков, который на собственном опыте многократно испытал доносную принципиальность товарищей по ремеслу, иные свои фельетоны подписывал псевдонимом «Г. П. Ухов».
Вот на этом р-революционном фоне (и, заметьте, в день рождения Ленина) в свет выходит новое издание с простеньким названием «Литературная газета». Даже рабкор, месяц назад призванный в литературу, догадывался, на что намекали и за что агитировали инициаторы нового «коллективного агитатора, пропагандиста и организатора», ведь первая «Литературная газета» вышла в 1830 году по инициативе Пушкина, которого еще недавно хотели сбросить с парохода современности вместе со всей тысячелетней православной историей и культурой России. Было ясно: эпоха интернациональных мечтаний, дорого стоивших стране, заканчивается, начинается самовосстановление державы с опорой на свои ресурсы, на свой народ, на свою историю. Вместо жестокого разрушения началось жестокое созидание, проклинаемое кое-кем и поныне. И очень редко кто-нибудь сознается в том, что ужасы реставрации — это всего лишь неизбежное и логическое завершение ужасов революции. Вот и сегодня передовая эфирная интеллигенция пугает полицейским государством народ, десятилетие проживший и выживший при государстве бандитском. Ну не смешно ли! А то далекое, тяжкое, кровавое, героическое время не нуждается в нашем оправдании, его оправдала победа в страшной войне. В оправдании нуждаемся мы, прожившие, проболтавшие и прохихикавшие плоды этой победы, оплаченной миллионами жизней. <…>
В 1990 году, получив очередной номер «Литературки», читатель не обнаружил на логотипе профиль Горького. Жест, что и говорить, символический, ведь именно Алексей Максимович своими книгами, своей жизнью, ошибками и озарениями как бы связывал воедино две эпохи — дореволюционную и послереволюционную. Пришло время сбрасывать с парохода современности Горького. Примерно тогда же исчезла улица Горького и станция метро «Горьковская». А вот станция «Войковская», названная в честь цареубийцы, осталась. Странная забывчивость, которая вдумчивому человеку многое говорит о тайных пружинах русской истории XX века.
Полным ходом шло массовое, санкционированное сверху отряхивание с ног праха советского прошлого. Но ведь, согласитесь, смотреть на весь советский период только сквозь призму «Архипелага ГУЛАГ» — примерно то же самое, что оценивать американскую историю исключительно на основании «Хижины дяди Тома».
Сегодня, кажется, стало ясно даже наверху: превратить Россию в Запад с помощью самооплевывания, а тем более саморазрушения невозможно. <…> Конечно, мы еще не созидаем, но, кажется, уже сосредотачиваемся. И в этом смысле возвращение профиля Горького на наш логотип, конечно же, акт символический, восстанавливающий связь времен, ибо царство, разделившееся во времени, неизбежно распадется и в пространстве…».
* * *
С приходом Полякова «Литературная газета» стала публиковать рейтинговые списки современных русских прозаиков, фиксирующие продажи их книг в тридцати восьми сетевых магазинах Московского дома книги. Интересно напомнить, как раскупались в те годы некоммерческие издания и какие имена составляли первую десятку. К сожалению, позже публикация рейтингов прекратилась, так как шумный скандал учинили литераторы, не вошедшие в десятку да еще и обнаружившие, в каких мизерных цифрах выражается любовь читателей к их творчеству. Книгопродавцы из осторожности перестали делиться информацией с газетой.
В 2003 году первые десять рейтинговых позиций заняли Людмила Улицкая (7942 экз.), Виктор Пелевин (7130 экз.), Александр Солженицын (5762 экз.), Михаил Веллер (3548 экз.), Татьяна Толстая (3467 экз.), Виктория Токарева (3222 экз.), Эдуард Лимонов (3088 экз.), Василий Аксенов (1949 экз.), Юрий Поляков (1747 экз.), Владимир Сорокин (1561 экз.).
В 2004-м — Людмила Улицкая (10 115 экз.), Виктор Пелевин (6089 экз.), Василий Аксенов (4803 экз.), Юрий Поляков (3976 экз.), Михаил Веллер (3605 экз.), Александр Солженицын (2720 экз.), Виктория Токарева (2604 экз.), Татьяна Толстая (2330 экз.), Виктор Ерофеев (2184 экз.), Эдуард Лимонов (1630 экз.).
В 2005-м — Людмила Улицкая (16 767 экз.), Виктор Пелевин (13 929 экз.), Юрий Поляков (9979 экз.), Василий Аксенов (6557 экз.), Михаил Веллер (6482 экз.), Виктория Токарева (4761 экз.), Борис Васильев (3498 экз.), Александр Солженицын (3443 экз.), Эдуард Лимонов (3144 экз.), Виктор Ерофеев (2992 экз.).
Заметим: это был период, когда Юрий Поляков все творческие силы сосредоточил на «Литературной газете»…
* * *
То, что газету возглавил не просто писатель, а еще и известный публицист, острые статьи которого не раз становились предметом обсуждений, в том числе в коридорах власти, сыграло огромную роль в росте ее популярности. С этого времени — с 2001 года — статьи Полякова выходят практически только в «ЛГ». И почти каждая становится событием, как правило, открывая или переакцентируя целую тему в отечественной публицистике. Вообще у публицистики Полякова есть очевидная особенность, в целом свойственная его творчеству: он поднимает проблемы существенно раньше, чем они становятся горячей темой, привлекая внимание журналистов и быстро реагирующих литераторов. При этом сам Поляков развивал идеи таких мыслителей, как Кожинов, Панарин, Кара-Мурза. Перечитывая его публицистику сегодня, убеждаешься, что она актуальна и поныне. Приведем фрагменты некоторых статей.
…………………..
«Заметки несогласного» (2002):
«В России воцарилось тотальное неуважение к собственной стране. И тон задают, как ни странно, «новые русские». Лезущие в глаза телевизионные технологи комплекса национальной неполноценности — всего лишь следствие. Но почему же они, наши постсоветские буржуины, получившие то, о чем и не мечтал незабвенный Корейко, так относятся к Державе? Да потому что Держава со всеми своими заводами, газетами и пароходами отдалась им в начале девяностых, как напившаяся недотрога на корпоративной вечеринке — без ухаживаний, клятв и обязательств. Просто так. И дело не только в том, что перераспределение общественной собственности произошло далеко не по принципу «каждому по способностям» — тут уж ничего не поделаешь. В конце концов, родоначальники иных знатных российских фамилий тоже не были постниками и праведниками. «Птенцы гнезда Петрова» Меншиков или Шафиров воровали так, что Европа только крякала от изумления. Однако, наделяя в стародавние годы дворян вольностями, землями и холопами, государство требовало от них суровых служилых повинностей. И пока эти повинности выполнялись, страна росла и усиливалась. Как только остались одни вольности — рухнула. Примерно то же самое (но в более сжатые сроки) произошло с советской номенклатурой, а соответственно и с СССР.
На чем, вспомните, поднялась новая политическая элита? Правильно: на развале веками складывавшегося на евразийском пространстве многонационального государства. Вы думаете, это когда-нибудь забудется? Никогда. Вы думаете, почему наши либералы так против смертной казни борются? Из-за трогательной заботы о серийных убийцах? Нет, просто они хорошо помнят, что именно высшей мерой в прежние годы каралась государственная измена. Вероятно, поэтому шпионаж в нынешней судебной практике приравнивается к сквернословию в общественном месте. Чем политическая элита может искупить свою вину перед Державой? Тем же, чем искупили большевики: восстановлением разрушенного и возвращением утраченного. Реально это сегодня? Нет, нереально. После показательного, на весь мир, харакири, совершенного во имя укрепления взаимного доверия между Востоком и Западом, странно жаловаться на плохую работу кишечника. Восстановление, конечно, произойдет, но будет стоить огромных трудов. Полагаю, библейская печаль в глазах нашего президента происходит во многом от понимания того, какие мощные силы не заинтересованы в подъеме России…»
«Россия в откате» (2003):
«Не знаю, как вы, дорогие читатели, но за последние пятнадцать лет в обращениях власти к народу я ни разу не слышал ничего, ни слова о бескорыстии и самопожертвовании во имя будущего Державы. Обращения правительства к народу напоминают скорее отчеты правления не очень успешного акционерного общества перед чересчур покладистыми держателями акций: надо потерпеть еще годок, в следующий избирательный срок, возможно, пойдут дивиденды. Но ведь это лукавство! Мы с вами не акционеры, а граждане — мы не можем продать свои акции и послать все к черту, вложив деньги в более доходное предприятие, например, в американское кролиководство. Разве можно продать Великую Русскую равнину и Байкал? Впрочем, в XIX веке, в пору реформ Александра Освободителя, Волгу со всеми портами и пристанями чуть не продали в личную собственность оборотистому винокуру. Имеется такой задокументированный исторический факт. Но вовремя спохватились…
Призывов же к самопожертвованию нет по вполне понятной причине: в ответ народ потребует самопожертвования и бескорыстия от властей предержащих. А ведь это уже совсем другой разговор! Вы думаете, сталинская гвардия во френчах ходила и демонстрировала всяческий ригоризм по глупости? Э, нет, они соблюдали (часто только внешне) взаимный договор с обществом о самоотверженности и бескорыстии во имя исполнения великой задачи — «вытащить республику из грязи». Вытащили, потом снова втащили, потом опять вытащили… Но это отдельный разговор.
Позднесоветская верхушка была уже дамой комфортной, но старалась скрыть свои номенклатурные радости за заборами спецсанаториев и дверями распределителей. Подловато, конечно, зато умно, ведь по радио пели: «Прежде думай о Родине, а потом о себе». Кстати, мой опыт общения с руководителями советской эпохи свидетельствует о том, что таких людей, которые думали сначала об общем деле, а потом о своих частных делах, было не так уж и мало. Косилка горбачевской, а потом и ельцинской кадровой политики проехалась прежде всего по ним. Полагаю, проехалась целенаправленно: наступало время, которое внезапно прозревший ныне публицист Черниченко очень точно назвал эпохой «Большого хапка», когда даже относительно бескорыстный государственник смешон и неудобен. Помните, как потешались наши смешливые журналисты над «плачущим большевиком» Рыжковым? Как улюлюкали над Бондаревым, сравнившим «перестройку» с самолетом, который взлетел, не зная, куда сядет? А ведь они дело говорили. Извинился перед ними хоть кто-нибудь из прежних зубоскалов? Нет, конечно. У нас извиняются только за имперское прошлое…»
«Государственная недостаточность» (2004):
«…После бесланской катастрофы, я бы даже сказал, после «бесланкоста», в эфирных и газетных спорах было много сказано о том, кто виноват, что нам теперь делать, и даже про то, что делать с теми, кто виноват. В основном упрекали власть в слабости… Хотя, впрочем, все упрекавшие отлично сознавали: еще несколько лет назад наше государство вообще пребывало в состоянии комы, а некоторые из упрекавших в свое время даже хорошо потрудились, чтобы вогнать державу в эту самую кому. Однако, рассуждая о послебесланском устройстве России, речь вели больше о практических вопросах: усилить, уговорить, ужесточить, уплатить, уничтожить. Если же речь заходила о духовном аспекте, то почти все говорили одно и то же: народ должен сплотиться перед угрозой терроризма. Но о том, как сплотиться, и главное — вокруг чего, почти все умалчивали. И не случайно, ибо «государственная недостаточность», которой вдруг все озаботились, заключена в первую очередь в наших головах и только во вторую очередь в структурах власти.
Но откуда она в наших головах взялась и почему так надолго в них задержалась? В самом деле, со времени разрушения Советского государства со всеми его достоинствами и пороками прошло уже тринадцать лет. Для сравнения: через десять лет после братоубийственной, разрушительной революции в нашей стране началась индустриализация, через двенадцать лет после окончания страшной Великой Отечественной войны, еще не наевшись вдоволь, мы первыми в истории человечества вышли в космос. Думаю, теперь уже никто, по крайней мере среди читателей «ЛГ», не считает, что, приводя эти аргументы, я впадаю в дешевую «совковую» пропаганду. Возможен иной упрек: я забываю о цене упомянутых побед. Нет, не забываю, она была чудовищна. Но при этом я хорошо помню, что мы с вами, дорогие современники, за наше минувшее беспобедное тринадцатилетие заплатили по крайней мере сопоставимую цену. Просто она еще по-настоящему не сложена, подсчитаем — обязательно прослезимся!
А теперь, чтобы понять, откуда взялась в наших головах «государственная недостаточность», давайте вспомним, что нам показывало телевидение в промежутках между жуткими сообщениями о «бесланкосте» и его последствиях! Нет, речь не об оставшихся в программах легкомысленных, не соответствовавших скорбному моменту передачах. Будем объективны: мгновенно и полностью изменить сетку вещания невозможно, это знает любой нечуждый телевизионного ремесла человек. Речь о другом. Вот, например, на НТВ в информационном блоке нам с какой-то плохо скрываемой радостью сообщили о том, что начались торжества, посвященные 150-летию Крымской войны, в которой Россия потерпела позорное и сокрушительное поражение. Согласитесь, странное стремление, как говорится, «до кучи», напомнить стране, пребывающей в общенациональном террористическом шоке, о ее былых геополитических провалах. Сомневаюсь, чтобы американцам, потрясенным катастрофой 11 сентября, талдычили по телевизору о надвигающемся шестидесятилетии погрома Перл-Харбора…
В каждом народе, в каждом обществе, во все времена имеются группы людей, которые нацелены на уничтожение существующего порядка вещей и которых я обозначил бы термином «Герострата». Этот неологизм составлен мной из двух слов: «Герострат» и «страта» (общественный слой). Возможно, кто-то увидит здесь аналогию с гумилевской «антисистемой» и будет, конечно, прав. Любой человек, интересующийся историей, неизбежно задумывается над природой саморазрушительных процессов в обществе. Когда землетрясение обрушивает колосса на глиняных ногах, это понятно. Но ведь СССР-то рухнул в эпоху «сейсмического» затишья! <…>
«Герострата» особенно востребована во времена революционных сломов, ибо, во-первых, любит и умеет ломать, а во-вторых, не испытывает к объекту ликвидации никаких привязанностей. А ведь, как известно, даже опытные хирурги стараются не оперировать близких людей: рука может дрогнуть. У настоящего представителя «Геростраты» не дрогнет, лишен он и «патриотических предрассудков». Достаточно вспомнить интерна-ционал-большевиков, органично сочетавших суровое служение пролетарскому делу с работой на германский Генеральный штаб. Или, например, «гарвардских плохишей» периода шоковых реформ, наводнивших коридоры нашей власти своими друзьями — американскими экспертами в штатском. Кстати, национальная принадлежность чаще всего ни при чем. «Герострата» — принципиально внеплеменное явление, как бы кому ни хотелось объяснить политические взгляды того или иного деятеля формой его носа или девичьей фамилией его жены.
Но ведь сегодня, скажете вы, питомцев «Геростраты» во власти почти не осталось! Согласен: они уже, хочется думать, не определяют нашу внутреннюю и внешнюю политику, хотя нынешняя внутренняя и внешняя политика во многом определяется именно тем, что они успели наворотить за свое недолгое пребывание у кормила (имеются в виду оба значения этого слова). А вот в информационно-идеологической сфере (прежде всего в электронных СМИ) представители «Геростраты» до сих пор занимают ключевые позиции…»
«Зачем вы, мастера культуры?» (2005):
«Вы будете смеяться, но в многочисленных обращениях российской власти к народу, в том числе в посланиях Федеральному собранию, прозвучавших в последние годы, нет ничего об отечественной культуре. Ни слова! Про борьбу с бедностью есть, а про борьбу с духовной нищетой (не путать с «нищими духом»!) нет. Про обуздание инфляции имеется, а про обуздание взбесившегося масскульта ни-ни! Даже про нравственность недавно заговорили, а про культуру, собственно, формирующую и поддерживающую моральные устои общества, снова забыли!
Напомню: при советской власти в отчетных партийных докладах непременно имелась (правда, поближе к концу) главка, так сказать, про культурное строительство, а значит — про духовную жизнь общества, разумеется, в тогдашних ее формах. Вот и соображай: когда мы были в большей степени «материалистической скотиной» (Гоголь) — при «безбожной» власти или теперь, когда аббревиатура РПЦ встречается в газетах почти так же часто, как КПСС в советской печати? Однако православие, как и другие вероучения, не собирается да и не должно подменять собой светскую духовность. В результате складывается ощущение, что в сегодняшней России культура отделена от государства. Почему же?
Есть причины. Во-первых, сказался тинейджерский позитивизм лаборантов-реформаторов, занесенный ими в начале 90-х на вершины власти и залежавшийся там, точно несъеденная рождественская индейка в холодильнике. Нам продолжают твердить: будет рыночная экономика — будет процветающая культура. Но ведь это же типичное «надстроечное», вульгарно-материалистическое мышление, усвоенное еще в ВПШ или, на худой конец, в ВКШ. А именно оттуда большинство наших капитализаторов, которым в голову не приходит, что самоокупающаяся культура — такая же нелепость, как самоокучивающаяся картошка.
Во-вторых, не прошел бесследно и обкомовский макиавеллизм Ельцина, ценившего в «творцах» прежде всего готовность горячо поддерживать и одобрять очередную «рокировочку», прилюдно жечь партбилеты устаревшего образца, бить канделябрами оппозицию и давить классово чуждую гадину. Тогда никакой государственной политики, никакого направления в духовной сфере и не требовалось, достаточно было точечной финансовой поддержки отдельных «культпособников» — и все в порядке. Да и вообще, какое государственное направление в стране, вышедшей в те годы на геополитическую панель?!
Но времена изменились, началось восстановление державы, настолько странно-мучительное, что некоторые полагают, будто это всего лишь лукаво замаскированное продолжение разрушения. Но так или иначе, а духовная мотивация «сосредоточения» страны встала на повестку дня. Глубокий мыслитель Александр Панарин заметил по этому поводу: «Цивилизационное одиночество России в мире создает особо жесткие геополитические условия, в которых выжить и сохранить себя можно только при очень высокой мобилизации духа, высокой вере и твердой идентичности». Кажется, яснее не скажешь, а власть продолжает ходить вокруг да около культуры с опаской, как вокруг осиного гнезда. И понять власть можно.
О жутком идеологическом иге, царившем в советской культуре, сказано и написано (в основном деятелями, недонагражденными в тот период) столько, что в хорошей компании неприлично даже заводить речь о политике государства в духовной сфере. «Снова в ГУЛАГ захотели?!» — следует мгновенный окрик, и человек, озаботившийся взаимоотношениями культуры и власти, краснеет и коричневеет буквально на глазах общественности. Не отсюда ли нежелание руководства страны ввязываться в это липкое дело? Скажешь что-нибудь, а тебя те же «Московские новости» сразу в Ждановы и запишут. И люди, понятия не имеющие о том, кем был на самом деле Андрей Александрович и какую роль играл в советской истории, будут потом дразниться: «Жданов, Жданов…» Еще неизвестно, что опаснее, за что чернее «упиарят»: за обещание «мочить террористов в сортире», за осаживание олигархов, примеряющихся к «Моношапке», или за намерение «построить» мастеров культуры! <…>
Прежде всего нам необходимо духовное единение общества, раздербаненного приват-реформаторами, а это невозможно без сколько-нибудь солидарного взгляда на наше недавнее прошлое. Но с помощью известных информационных технологий людей заставляют глядеть на советскую цивилизацию примерно теми же глазами, которыми в 20-е годы рабфаковцы, обучаемые красными профессорами, смотрели на дореволюционную Россию. Ведь если, например, выборочно почитать Герцена, покажется, будто вся тогдашняя империя — это пыточный застенок для творческих персон и порядочных личностей: «Да будет проклято царствование Николая во веки веков, аминь!» Однако сегодня, когда ушла политическая острота, когда опубликованы документы эпохи и объективные исторические исследования, выяснилось, что «думы» об одном и том же «былом» бывают разными до противоположности и правда находится не посредине, конечно, а где-то между этими двумя крайностями. Ближе к тому или иному краю. <…>
Но для начала неплохо бы объявить хотя бы временный мораторий на обличение тоталитаризма. Нет, не потому что он был хорош. Он был ужасен. А потому, что при оценке той эпохи берется в качестве «объективной» не точка зрения дворян, крестьян или пролетариев и даже не условно-собирательное мнение народа, а позиция тех «советских элитарнее», в своем большинстве «пламенных революционеров», которые, запустив в 20-е маховик репрессий, в конце 30-х проиграли политическую схватку с «замечательным грузином» и отправились из просторных арбатских квартир в подвалы Лубянки. Собственно, именно точка зрения выживших и воротившихся в элиту арбатских детей была сначала робко обозначена «шестидесятниками», а позже, в 90-е, стала почти государственной идеологией.
При этом как-то забылось, что есть и другие точки зрения. Например, у наследников профессора, выгнанного из той самой арбатской квартиры в 1918-м и сгинувшего потом в нищей эмиграции. У потомков белого офицера, поверившего советской власти и вероломно расстрелянного в Крыму Розалией Землячкой, мемориальная доска которой до сих пор висит в двух шагах от Кремля. У тамбовского крестьянина, восставшего за обещанную землю и потравленного газами. У них на кровавый крах «комиссаров в пыльных шлемах» в 30-е имеется совершенно иной взгляд, у них иные обиды, умело вытесненные из нынешнего общественного сознания жупелом Сталина, ибо претензии исторические имеют особенность превращаться в претензии материальные…
Впрочем, есть и еще одна причина для демонизации советского периода. Только постоянное напоминание о чудовищном ГУЛАГе в какой-то степени оправдывает то насилие, какое было совершено над обществом в 90-е годы. У вас отобрали пенсии и зарплаты, ваши заводы и НИИ позакрывали, ваших детей отправили в Чечню, вас лишили социальных гарантий, а теперь вот еще монетизировали льготы и готовят жилищную реформу… Ужас? Ужас. Но что это по сравнению с кошмарами Колымы! Ведь в лагерную пыль вас не превратили? Так что живите и радуйтесь!»
«Лезгинка на Лобном месте» (2011):
«…Подсознательное отношение «малых» этносов к «метрополии» и «имперскому народу» определяется тем, при каких обстоятельствах зажили вместе: волей или неволей, бескровно или с кровью, давно это случилось, как с угро-финнами, или сравнительно недавно, как с народами Северного Кавказа. Что приобрели, а что потеряли, попав под скипетр. Национальный вопрос, если помните, клокотал во всех бунтах и смутах, потрясавших державу, однако не разнес ее вдребезги, подобно Австро-Венгрии или Османской империи. Почему? Наверное, потому, что почти каждый «язык» имел прежний опыт подчиненного сосуществования с другими, более мощными этносами, входил в другие государственные образования. И на крутых поворотах истории коллективный разум народа подсказывал: а с русскими-то получше будет! От добра добра не ищут!
Конечно, случалось всякое, но хорошего было больше. Когда больше плохого, жаловаться некому. Не в том смысле, что нельзя обратиться в ООН или в Страсбург. Можно. Но кто будет обращаться? На территории современной Германии еще в XVIII веке обитало не менее десятка крупных славянских племен со своими наречиями, культурой, традициями, верой… Где они? Их нет. А где калмыки, оставшиеся в пределах Китая? Я уже не говорю о кровавой резне армян, живших на византийских землях еще задолго до турок-османов. Посещение Музея геноцида в Ереване — одно из самых страшных впечатлений моей жизни… Зато народы, ставшие частью Российской державы, за редчайшим исключением, не только не исчезли, но расплодились, развились, обзавелись письменностью (у кого не было), приобщились к плодам русской цивилизации, может быть, не самой передовой, но и не самой отсталой. Впрочем, самая передовая в ту пору Британская империя вытворяла со своими колониальными холопами такое, что крепостнику Николаю Палкину в кошмарном сне не могло привидеться. Это информация к размышлению о том, «что такое хорошо и что такое плохо» в межэтнических отношениях. <…>
В России сегодня нет продуманной, скоординированной межнациональной политики в духовной сфере. Более того, идет постепенное (не хочется верить, что продуманное) разрушение федеральных связей на культурном уровне. Высшая власть говорит о необходимости формирования новой исторической общности — «российский народ». Интересно, как это произойдет без участия культуры, которая способна, как я уже сказал, корректировать национальные коды? Но коррекция может укреплять дружеские, партнерские отношения, а может и разрушать… И если это общность, то надо понять, что у нас будет общим, а что должно навек остаться уникально национальным, потому что «общность» — это не «одинаковость»…
И тут не обойти «русский вопрос», без решения которого никакой новой общности не будет. Прекрасно, что президент Медведев призвал «развивать лучшие черты русского национального характера». Мы, русские, горячо «за». Но возникают вопросы. Как? На какие средства? В рамках каких государственных институтов? А для начала не пора ли отказаться от недоброй многовековой традиции воспринимать русских не как самостоятельный народ, имеющий свои интересы, устремления, устои, проблемы, обиды, наконец, а как некий условный «этнический эфир», «государствообразующий вакуум», в котором идут социально-экономические процессы и осуществляются интересы различных этнических групп и страт… Но русские — это не «этнический эфир», это большой, мощный, хотя и надломленный жестоким веком этнос. И клич, брошенный на Манежной — «Россия для русских!» — надо понимать так: «Россия и для русских тоже!» У русских уживчивость и терпимость в природе, это давнее наследие: славяне традиционно жили соседскими общинами, и при оценке «свой-чужой» кровь никогда не играла для них ведущей роли. Соратничество — совсем другое дело! В этом сила русских, позволившая им сплотить огромную многоязыкую империю. В этом и слабость, наши защитные этнические механизмы слишком слабы и включаются слишком поздно. Но и они включились, когда русские стали чувствовать себя почти чужими в стране, носящей, между прочим, их историческое имя! Давно замечено: смуты и революции в России случаются именно тогда, когда русский народ (а не караул) устает от собственного государства».
«Где проспект Ивана Калиты?» (2012):
«Где проспект Ивана Калиты? Нигде. В Москве такого нет, как нет площади, улицы или переулочка, носящего имя этого рачительного князя, который, говоря по-современному, запустил процесс превращения одного из окраинных городов Золотой Орды в столицу Руси — собирательницу земель русских. Калитниковские улицы и проезды к Калите отношения не имеют, они лишь напоминают о том, что встарь здесь проживали калитники — ремесленники, мастерившие кошельки. Странное дело, за исключением Юрия Долгорукого, Александра Невского и Дмитрия Донского (их советская власть в трудную годину призвала под свои знамена), ни один другой венценосный Рюрикович или Романов не увековечен в московской топонимике. Где славные имена Ивана III, окончательно одолевшего ордынское иго, или Алексея Михайловича Тишайшего, начинавшего мягкую модернизацию России, которую его необузданный сын Петр «рукой железной поднял на дыбы». Кстати, Петровка получила свое имя не в честь Петра Великого, а из-за близости Высоко-Петровского монастыря. Есть, правда, названия, косвенно хранящие память о великих монархах: Александровский сад (разбит при Александре I), Екатерининский сад (принадлежал одноименному институту благородных девиц), Николаевский тупик — упирался в Николаевскую железную дорогу и чудом, а может, с глумливым умыслом сохранен большевиками. Вот вроде и все. Ни тебе Александра II Освободителя, ни Александра III Миротворца, ни царя-мученика Николая II. Знаете, вообще-то я не монархист, но и у меня такая «монархофобия» вызывает недоумение. Тот, кто бывал в столицах мира, наверное, замечал: там имена императоров, королей, курфюрстов и других суверенов, даже невеликих, непременно запечатлены в названиях улиц. Я уже не говорю про Чингисхана, который в иных среднеазиатских республиках давно по частоте употребления затмил Ленина с Марксом. А в Москве нет даже улицы родоначальника царской династии — Михаила Федоровича. Как-то даже неловко в преддверии четырехсотлетия Дома Романовых! Но не спеши, читатель, удивляться всем этим странностям, мы только вступаем в паноптикум парадоксальной московской топонимики. <…>
…В Москве остались десятки, если не сотни названий, хранящих для потомков имена борцов за власть Советов. Разумеется, недопустимо вычеркивать из истории столицы людей, установивших строй, при котором страна не так уж плохо прожила семьдесят лет. Многое из советских достижений я бы мечтал перенести в наше время. И такое обилие «красных» имен не вызывало бы у меня неприятия, если бы при этом целые пласты отечественной истории не выпали из столичной топонимики. Ну скажите, зачем нам с вами революционный пуговичник Балакирев, забытый уже при советской власти, если нет улицы имени его великого однофамильца? Зачем нам Клара Цеткин, если нет улицы княгини Софьи Щербатовой, великой благотворительницы, создавшей в Москве сеть приютов и богаделен?
В 90-е годы на мутной волне молодого, задорного антисоветизма были переименованы многие улицы Москвы. Например, улицу Горького сделали Тверской. И поделом — не дружи с большевиками. А с другой стороны, с кем еще дружить «буревестнику революции»? Улица Грибоедова снова стала Малой Харитоньевской, улица великого драматурга Островского — Малой Ордынкой, переулок писателя-страдальца Николая Островского, чья житийная повесть «Как закалялась сталь» переведена на все мировые языки, стал зваться Пречистенским, хотя до 37-го именовался Мертвым по имени домовладельца Мертваго (не путать с Живаго). Очевидно, в данном случае тяга к благозвучию победила порыв к исторической аутентичности. Площадь Маяковского снова стала Триумфальной. Площадь Лермонтова — Красными Воротами. Улица Герцена обернулась Большой Никитской, улица Алексея Толстого — Спиридоновкой. А ведь в ту пору уже имелись площадь Никитских Ворот, сохраняющая вечную память о Никитском монастыре, а также Спиридоньевский переулок. Зачем же было трогать больших писателей? Кстати, улица пролетарского поэта Филиппа Шкулева, автора песни «Мы кузнецы, и дух наш молод…», сохранена в неприкосновенности. С чего бы это?
И таких странностей в нашем городе хоть отбавляй. Исчезла вкупе с памятником площадь Дзержинского — главного чекиста, пролившего во имя революции немало кровушки. Может, и правильно исчезла — «не губи несчастных по темницам»! Но тогда почему осталась улица Вячеслава Менжинского, сменившего Железного Феликса на посту председателя ВЧК-ОГПУ? Почему сохранена улица Михаила Кедрова — начальника Особого отдела ВЧК? Зачем нам улица пламенного австровенгра Белы Куна, ох и полютовавшего в России, организовавшего вместе с Розалией Землячкой в Крыму массовое истребление белых офицеров, уже сложивших оружие. Да, улица, полвека носившая имя кровавой Землячки, ныне называется Большой Татарской. А вот имя одного из организаторов уничтожения последнего русского императора и его семьи — Петра Войкова — продолжают носить станция метро, улица и целых пять проездов! Иногда дело объясняют так: мол, Войкова увековечили не как цареубийцу, а как советского полпреда, погибшего на посту. Володарский тоже был убит на посту. Но его улица теперь называется Гончарной. Исчез без следа из городской топонимики Свердлов, куда более значительный деятель Октября, вдохновитель расстрела Романовых. А Войков, как заговоренный, хотя пишут об этом и возмущаются двадцать лет. Вы что-нибудь понимаете? Я ничего не понимаю…»
«Кустарь с монитором» (2016):
«Путешествуя по Волге, я всякий раз отмечаю, что большинство теплоходов носят имена писателей: Пушкин, Лермонтов, Блок, Толстой, Достоевский, Лесков, Шолохов, Есенин, Фадеев, Некрасов, Островский, Мамин-Сибиряк, Симонов, Твардовский, Пришвин… Конечно, встречаются по курсу также и ученые, музыканты, художники, полководцы, даже государственные и церковные деятели. Но все они в совокупности едва ли могут соперничать с писателями, которые, по выражению четырехпалубного круизного красавца «Владимира Маяковского», «умирая, воплотились в пароходы, стройки и другие добрые дела». В таком преобладании на водах вольно или невольно запечатлена особая роль Слова в судьбе России.
Так уж сложилось, но именно литература была у нас не только тиглем, где выплавлялась золотая норма родного языка. Словесность при всей своей изящности являлась у нас узницей политической, государственной, даже экономической мысли. Вспомните Энгельгардта или Чаянова. Литература была убежищем для «тайной свободы» при царях-батюшках, а в советские времена стала заповедником, где в суровые интернационально-атеистические годы удалось сберечь, зашифровав в художественных иносказаниях, национальные и религиозные коды народа, кстати, не только русского, которому досталось больше других — за великодержавность. Вместе с тем именно литература у нас традиционно аккумулировала и словесно оформляла недовольство людей жизнью, а значит, и властью. Не зря же Ленин так любил цитировать русскую классику, и «зеркалом революции», часто кривым, вольно или невольно становился любой честный художник. Оказавшись на германской войне, Куприн не узнал среди офицеров героев своего «Поединка». Впрочем, это была уже действующая, а не гарнизонная армия.
Наша история, как справедливо замечено, сначала словно «репетируется» на страницах книг, а потом уже случается в реальности. Пушкин провидел, Некрасов предвидел, а Блок уже трудился в комиссии по расследованию преступлений Романовых. Правда, недолго… Даже Бродский предсказал возврат Крыма, обмолвившись, что «лучше жить в провинции у моря». А советская власть, по сути, на страницах советской литературы закончилась задолго до того, как госдеп подсадил Ельцина на танк. Фига отросла и в кармане уже не помещалась. Творческая, прежде всего литературная среда стала лабораторией, где вывелся вирус социалистического иммунодефицита. При явном товарном и идейном дефиците размножался он стремительно. Однако «Апрель» и «Товарищество русских художников» не любили советскую власть каждый по-своему. Не случайно среди делателей социалистической революции 1917-го и капиталистической 1991-го мы обнаружим немало литераторов.
Заболевание писателей «державофобией» и даже «родиноедством» в нашей стране особенно опасно, ибо — нравится это кому-то или не нравится — литература искони была у нас частью общегосударственного дела. Многие классики XVIII и XIX веков дослужились до высоких чинов и звезд, являлись опорой трона. Достоевский давал уроки в тишине членам царской семьи. Но и те, кто был в оппозиции, сидя в Лондоне, Сибири или Ясной Поляне, заботились не столько о плетении словес, сколько о разумном и справедливом устройстве общества. Даже изгнанник всесоюзного значения Солженицын, грустя в Вермонте, кумекал, «как нам обустроить Россию». Русские, советские и антисоветские писатели были в своем большинстве заботниками и заступниками. Так их воспринимало и общество.
Вот с этой-то традицией отечественной словесности и повели жесткую последовательную борьбу в 1990-е годы. Началась решительная кампания по отделению и отдалению литературы от государства. Почему? Видимо, новая власть решила раз и навсегда удалить с политического поля слишком непредсказуемого партнера — русскую литературу. Я хорошо помню все эти разговоры-заклинания: мол, творчество — дело интимное, и не надо в тоталитарных калошах вламываться в мастерскую художника. Кто ж с этим спорит? Но и писателям объяснили: давая свободу творчества без берегов, власть просит в дальнейшем по вопросам смысла жизни, духовных устоев, политической морали и социальной справедливости ее не беспокоить. Как-то незаметно места писателей в парламенте заняли спортсмены, потом сочинители начали исчезать из эфира: патриоты почти сразу, за ними последовали совестливые либералы, усомнившиеся в правильности реформ, похожих на самопогром. Наконец, попросили очистить экран литераторов, готовых говорить все, за что платят и награждают: уж очень глупо выглядели…
Именно в этот период писатель был ликвидирован как класс — исчез из реестра профессий Российской Федерации. Власть понять можно: она же договорилась с литераторами, что творчество — дело сугубо личное. Чего же вы хотите? Одни на досуге любят писать книжки, другие разводить декоративные кактусы. Что ж, теперь и кактусоводов в реестр вставлять? Некоторые по привычке начинали вдруг заботиться о судьбах Отечества или защищать обездоленных, но на них смотрели с усмешкой. В 1990-е во власти вообще было много иронистов, чуть страну не прохихикали…»
…………………..
* * *
Юрий Поляков нацеливал сотрудников на то, чтобы использовать и развивать лучшие профессиональные традиции газеты. Вот что пишет об этом Колпаков:
«…Он начал устраивать показательные мозговые штурмы и призывал сотрудников придумывать суперслоганы. Даже сам платил за удачный заголовок тысячу рублей прямо на планерке. Мы только цокали языками, когда главный экспромтом выдавал, например, такое — «Голодомор: бред или бренд?» Или: «Прикол века. К столетию «Черного квадрата». Мы вместе нащупывали горячие темы, больные и острые вопросы, акцентировали внимание читателей, число которых сразу стало расти, на самом, на наш взгляд, важном. Часто тема новой газетной дискуссии рождалась прямо на летучке, из кем-то оброненного слова, из спора. Кстати, Поляков никогда не настаивал на своем мнении или решении, если точка зрения подчиненного выглядела убедительнее. Ответственность перед читателем была выше амбиций. И по сию пору придумать шапку у нас считается доблестью. «Огонь, вода и медные каски», «Таганка»: спектакли, полные огня», «Геноцид от генацвале», «Печатный пряник свободы», «Умом Фурсенко не понять», «Время Рублева и Рублевки», «Страна подсудимых», «Доктор живаго великорусского» (к юбилею Даля), «Другого Сталина у нас нет», «Речь помполита» (о решении Польши снести 500 советских монументов). Многие коллажи на первой полосе придуманы главным. Бильд-редактору, который минуту назад утверждал, что графического решения поставленной задачи не существует, оставалось лишь виновато хлопать глазами. Поляков очень интересно смешивает зрительный ряд и литературный подтекст. Вероятно, сказалось увлечение изобразительным искусством».
Во многих «шапках» «ЛГ» действительно ощущается поляковская рука, его манера вербальной игры, когда через созвучие корнесловий сталкиваются противоположные смыслы. Например: «В дальнейшем — Даль», «Деньги рубят…», «Флаги наголо!», «Игра в классики», «Дождь в помощь», «Как хлеб на голову», «Пиар во время зимы», «Лесная боль», «По ком звонит Царь-колокол», «Осторожно: следующая станция — теракт», «Террариум терроризма», «Ем, следовательно, существую», «Забиенналились», «Мы не наркобараны», «Предлагаю руку без сердца», «ДетоНЕрождение», «На руинах толерантности», «Беловежская горькая», «Королевство кривых учебников», «Безмузейный Гоголь», «Он сказал бы: «Приехали!», «Кредитная история Деда Мороза», «Ни дать, ни взять!» (о борьбе со мздоимством), «История Отечества в тротиловом эквиваленте», «ЕГЭ или угадайка?», «Учтите наши души», «Левитация Левитана», «Рособрпозор», «Таланты и разбойники», «Весь мир — Шекспир»…
В 2010-м широко отмечалось 180-летие газеты. Торжественный вечер состоялся в Малом театре — почти ровеснике пушкинской «Литературки». К этой дате по инициативе главного редактора и при поддержке московского правительства выпустили уникальную книгу «Три века с «Литературной газетой». Первая часть называлась «Онтология» и представляла собой первую подробную историю знаменитого издания, причем каждая глава была написана специалистом по соответствующему периоду. Вторая часть, «Антология», включала лучшие публикации, начиная с первого номера 1830 года и заканчивая нашим временем. Открывалась книга портретной галереей тридцати двух редакторов-предшественников, а Юрий Поляков, тридцать третий редактор, обращался к читателям, в частности, с такими словами: «Сегодня мы очевидно лидируем среди российских культурологических изданий по тиражу, цитированию, охвату отечественного и зарубежного читателя. «ЛГ» — такая же неотъемлемая часть нашей культуры, как Третьяковка, Московский университет, Пушкинский Дом, Художественный театр… Наше издание вступило в третий век своего существования и будет с читателями всегда, по крайней мере пока жива российская цивилизация».
Вскоре после прихода в газету Поляков предложил возобновить вручение премий «Литературной газеты». Как мы помним, сам он стал ее лауреатом в 1988-м. Теперь было решено присвоить премии имя первого главного редактора газеты Антона Дельвига. С 2012 года она была преобразована в Общероссийскую литературную премию «За верность Слову и Отечеству» имени А. Дельвига, премиальный фонд значительно увеличился и достиг семи миллионов, оформились номинации: проза, поэзия, критика, история, детская и юношеская литература, яркий дебют… Раньше премия просто выдавалась на заседании редколлегии с последующим скромным застольем. Теперь вручение проходит в знаковом для российской словесности месте — Музее А. С. Пушкина на Пречистенке, под вспышки телекамер. Премия «За верность Слову и Отечеству» стала первой общероссийской премией, ориентированной главным образом на писателей патриотического направления. Эту задачу незадолго до того пыталась выполнять премия имени Александра Невского «России верные сыны», которую десять лет щедро финансировал русский предприниматель Виктор Столповских. Одним из ее лауреатов, кстати, стал и Юрий Поляков. Но к описываемому периоду, из-за экономических проблем, она, к сожалению, сошла на нет.
Об этой ситуации в литературной жизни Поляков написал в нашумевшей статье «Кустарь с монитором», фрагменты которой мы здесь уже цитировали. Приведем еще один фрагмент:
«…Я убежден, что писатель, не испытывающий зависимости от самочувствия своего народа, страны, не связывающий с ними свою человеческую, а также творческую судьбу, это не писатель в нашем, русском понимании слова. Это какой-то иной вид филологической деятельности. Тот, кто не знает этой болезненной связи, даже «присухи», и тем не менее посвятил себя словесному творчеству, отличается от настоящего писателя примерно так же, как кикбоксер от купца Калашникова. Но должен оговориться: наличие такой внутренней связи с почвой — важное, однако не исчерпывающее условие успешного творчества. Человек, который пошел в литературу лишь на том основании, что любит Родину, обречен. Обилие таких авторов в почвеннической общине — ее главная проблема. Союзу писателей России смело можно вернуть довоенную аббревиатуру ССП. Вот только расшифровывается она теперь иначе: Союз самопровозглашенных писателей. Ведь писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают. Увы, патриотической макулатурой можно нынче Ангару перекрывать.
Вторая община, назовем ее по-постмодернистски «интертекстуальной», не такая уж и многочисленная — особенно в провинции. Сложив «длинные списки» Букера, «Большой книги», «Национального бестселлера» и «Носа», добавив сотню сетевых самописцев, вы получите почти полный состав общины отечественных «интертекстуалов». Зато они почти монопольно владеют информационным пространством и премиальным тотализатором. Авторы, принадлежащие к этой общине, а среди них есть и талантливые, воспринимают творчество как сугубо личное дело: что-то среднее между мелким семейным бизнесом и альковными изысками, о чем охотно болтают в Сети. Им тоже дорого наше Отечество, но не земное, реальное, а вербальное, так сказать, русская «словосфера». Они Пушкину за талант прощают даже «Клеветников России». В них есть что-то от пассажиров круизного лайнера, не подозревающих, что есть еще кочегарка с чумазыми матросами. Да и куда идет судно, им тоже, в сущности, безразлично, главное — при крушении не утонуть вместе с этим гигантским корытом.
Не случайно иные лидеры «интертекстуальной» общины уже перебрались на постоянное жительство за рубеж, продолжая оттуда активно участвовать в литературной и политической жизни России. Напомню, что первые две волны русской литературной эмиграции были связаны с мировыми катаклизмами. Третья — состояла из тех, кому не только было скучно строить социализм, но и обидно, что не позволяют говорить об этом вслух и писать в книгах. Аксенов и Войнович, например. А вот свежие писатели-эмигранты четвертой волны — это особая статья: они не перенесли того, что их точка зрения перестала быть господствующей, как в 1990-е. Утрату монополии в сфере борьбы идей они сочли оскорблением, катастрофой и уехали. Быков и Акунин, в частности…
Если же говорить об идеологии «интертекстуалов», то они чаще всего «подзападники». В отличие от «западников», искренне чающих объевропить российскую цивилизацию, и в отличие от «прозападников», желающих видеть РФ почетным членом НАТО, «подзападники» попросту хотят, чтобы Россия легла под Запад. Я немного огрубляю и спрямляю, но важна суть. Любя русскую «словосферу», «интертекстуалы» относятся к земной жизни Отечества свысока. Так, возвращение Крыма стало для них досадным пятном на репутации русской словесности. Теперь приходится отвечать перед мировым сообществом не только за травлю Пастернака и тунеядство Бродского, но и за «вежливых людей».
Достаточно пробежать глазами список тех, кто стал лауреатами «Золотого Дельвига», чтобы понять: Поляков не просто критикует политику других премиальных фондов, но, получив, благодаря президентскому гранту, возможность вместе с единомышленниками присуждать премию, умело обходится без «междусобойчика», поддерживая объективно талантливых авторов, независимо от их происхождения, национальности и даже идеологических пристрастий. Среди лауреатов «Золотого Дельвига» мы видим Анатолия Салуцкого и Юнну Мориц, Юрия Кабанкова и Игоря Гамаюнова, Михаила Тарковского и Александра Куприянова, Евгения Рейна и Евгения Чигрина. Есть в этом списке представители национальных литератур: чеченец Канта Ибрагимов, аварец Магомед Ахмедов, удмурт Вячеслав Ар-Серги, татарин Ренат Харис, азербайджанец Абудулла Камал, армянка Лия Иванян, казах Бахытжан Канапьянов, якутка Наталья Харлампьева. Золотые знаки премии «За верность Слову и Отечеству» вручены писателям из регионов Николаю Ивеншеву (Кубань), Ирине Мамаевой (Петрозаводск), Юрию Щербакову (Астрахань), Анатолию Байбородину (Сибирь).
Творчество многих крупных писателей долгие годы не удостаивалось премий исключительно по мировоззренческому принципу. Полякову и его команде удалось восполнить этот пробел. Премии получили Егор Исаев, Дмитрий Жуков, Юрий Болдырев, Владимир Личутин, Мария Семенова, Юрий Архипов, Юрий Козлов, Юрий Нечипоренко, Лариса Васильева, Андрей Дементьев, Александр Проханов, Владимир Бондаренко, Сергей Шаргунов, Сергей Есин, Владимир Костров, Юрий Жуков, Святослав Рыбас и др.
С особым вниманием относится Юрий Поляков к писателям-фронтовикам, увы, уже немногочисленным. Он считает своим долгом тщательно следить за тем, чтобы каждый юбилей, каждая новая книга даже не самого яркого представителя этого героического поколения нашли отклик на страницах «ЛГ». И не важно, живут ли они в Москве, Питере, на просторах России, в странах СНГ или в дальнем зарубежье: «ЛГ» о них не забывает. Постоянным автором газеты стал Даниил Гранин. «ЛГ» единственная рассказала о судьбе Александра Межирова, умершего в доме престарелых в США, но завещавшего похоронить его прах в Переделкине. До последнего дня свои новые произведения печатали в писательской газете Михаил Алексеев, Николай Савостин, Егор Исаев, Дмитрий Жуков… Хлопотами «ЛГ» и ее главреда была выпущена книга прозы Константина Ваншенкина.
Не забывают в газете и об ушедших — в рубрике «Имена на поверке» печатаются материалы, посвященные «стихотворцам обоймы военной»: Николаю Майорову, Павлу Когану, Алексею Недогонову, Анатолию Софронову, Семену Гудзенко, Сергею Наровчатову, Александру Твардовскому, Алексею Фатьянову, Николаю Старшинову, Юлии Друниной, Павлу Шубину и многим другим. Под руководством Полякова газета упорно ведет свою «битву за память», полемизируя с теми, кто пытается преувеличить потери и преуменьшить подвиг советского народа. Интересно, что к семидесятилетию Великой Победы практически все центральные издания были отмечены правительственными наградами и поощрениями за освещение этого события, а вот про «ЛГ», которая вела эту важную тему независимо от круглых дат и гораздо шире других, в правительстве «забыли»: нынешняя «Литературка» вызывает очевидное раздражение облеченных властью высокопоставленных чиновников либерального извода, которые обладают особым влиянием в сфере средств массовой информации.
Однажды, участвуя в круглом столе «Патриотизм без экстремизма», который проводил в Краснодаре президент Путин, Поляков откровенно и жестко заявил, что в культуре и информационном пространстве России труднее всего приходится почему-то именно патриотам и государственникам. Более того, искренне любить родину сегодня даже невыгодно: молодой писатель или журналист, объявивший себя патриотом, практически сразу ставит крест на карьере — не видать ему ни премий, ни командировок, ни грантов. Вот как рассказывает об этом сам Поляков: «Услышав мое утверждение, что деятеля культуры, объявившего себя патриотом, тут же затрут, как «Красина» во льдах, Путин посмотрел на меня долгим грустным и понимающим взглядом:
— Неужели так плохо?
— Хуже, чем вы думаете. Вот «Литературка» — патриотическое издание, а мы можем рассчитывать только на себя. И это в рыночных-то условиях! Зато любое либеральное издание, хамящее Кремлю по всякому поводу, сосет и западных грантодателей, и отечественное вымя.
— Напишите мне письмо!
— Уже написал.
— Отдадите мне, когда закончим разговор. Ну, продолжим. Высказывайтесь! Смелее! Не тридцать седьмой год на дворе…
Актер Василий Лановой, сидевший рядом, поощрительно ткнул меня в бок. Дожидаясь окончания, я ловил на себе сочувственные взгляды участников дискуссии и неприязнь разного рода чиновников, но особенно злопамятно поглядывал президентский советник, похожий на конферансье Апломбова из образцовского «Необыкновенного концерта». Едва круглый стол завершился, я ринулся к руководителю с письмом в руке, но был остановлен охраной: «Нельзя!»
— У меня письмо.
— Давайте, я передам, — ласково предложил «Аплом-бов» и выдернул из моих пальцев конверт.
Вдруг на пороге Путин оглянулся, нашел глазами меня и спросил:
— Письмо-то где?
— У меня его забрали.
— Кто-о?
— Вот… он… — Я кивнул глазами на явного советника.
— Э-э, нет, этот обязательно потеряет. Давайте мне…
Взяв письмо и приложенный к нему свежий номер «ЛГ», он покинул режимное помещение. А мы двинулись к автобусам. Я прошел мимо группы чиновников, обсуждавших круглый стол. Донеслись жаркие слова недовольства, касавшиеся меня, неуправляемого. Видимо, они полагали, что обсуждение проблем патриотического воспитания должно проходить в тихом благолепии, как именины парализованной бабушки. На подъезде к аэропорту автобус был неожиданно остановлен. Вошли два стриженых крепыша:
— Кто Поляков?
— Я! — откликнулся я.
— И я! — встал политолог Леонид Поляков.
— Юрий Михайлович?
— Я…
— Пойдемте!
— Ну вот, а сказали, что теперь не тридцать седьмой! — вдогонку вздохнул Лановой. — Держись, Юра!
На улице мне дали в руки большой телефон с антенной и предупредили:
— Говорите громче. В вертолете плохо слышно.
И действительно, из трубки сквозь стрекот донесся голос Путина:
— Юрий Михайлович, я прочитал и письмо, и газету. Вы все правильно пишете. Жаль, что тем, кто меня поддерживает, живется так непросто. Постараюсь помочь. Я уже дал поручение… — и он назвал имя «Апломбова»…
— Спасибо, Владимир Владимирович…
— Держитесь!
— Держусь! — ответил я упавшим голосом.
Когда я вернулся в автобус, меня спросили, конечно, зачем и куда уводили.
— С Путиным говорил. Он звонил из вертолета…
— Тебе?!
— Мне…
Стало слышно, как тикают дорогие часы на руке у шефа «Роспечати». Пока летели из Краснодара в Москву, я перечокался и переобнимался с руководителями всех уровней. Такого количества добрых слов от чиновников и деятелей культуры я не слышал никогда. Остается добавить, что хитрым аппаратным маневром «Апломбов» свел обещанную первым лицом помощь газете к таким смехотворным результатам, что и вспоминать-то неловко. Да уж, непросто живут в России те, кто поддерживает Путина…»
Принципиальность Полякова, его умение отстаивать свои идеи и воплощать их в жизнь незамеченными не остались. В 2004 году он стал членом Совета по культуре при Президенте России, а с 2014 года — членом Общественной палаты РФ. В течение ряда лет он входил в кадровый резерв на должность министра культуры Российской Федерации. Вот как сам он рассказывает об этом в интервью журналисту Валерию Бурту:
«В. Б. Отвлечемся от творчества. Мне кажется, что раньше вы более активно участвовали в общественно-политической жизни…
Ю. П. Во-первых, я стал старше. Как бы ни бодрился, мне уже за шестьдесят. И если в былые времена хватало на все, то теперь нужно делать выбор. И этот выбор я всегда делаю в пользу творчества.
В. Б. Возможно, вы поняли, что многое просто невозможно изменить?
Ю. П. Пожалуй. К примеру, много лет говорил первым лицам государства: когда писателей и книжное дело относят почему-то к Министерству связи, это нелепость. Они все удивлялись, обещали исправить ситуацию, но ничего не изменилось. В такие минуты хочется нырнуть в свой новый роман и там остаться.
В. Б. Правда, что вас хотели назначить министром культуры?
Ю. П. Я дважды, насколько мне известно, стоял в кадровом резерве, как сейчас модно говорить, в шортлисте. Однажды мне даже позвонили «сверху» и сказали: готовься, тебя скоро пригласят на беседу к Начальнику. Я провел несколько бессонных ночей, с ужасом понимая, что, если назначение состоится, в ближайшие годы придется забыть о творчестве. Потому что министр — это круглосуточный администратор, а если он не администратор — то плохой министр. К тому же я тогда прилично выпивал. И отчетливо видел, как, хватив лишку, вываливаю президенту всю правду! В разгар терзаний я включил телевизор, а там — новый министр культуры Авдеев, похожий на похоронного агента. Можете не верить, но я страшно обрадовался. Между прочим, в советские времена меня звали работать в отдел культуры ЦК партии, и я два раза — к вящему изумлению людей, которые меня приглашали, — отказывался. Потому что такие предложения обычно не отвергали.
В. Б. Прочитав эти строки, люди в Кремле поймут, что они поступили верно, отказавшись от вашей кандидатуры. И все-таки почему сорвалось назначение?
Ю. П. Думаю, что для этой должности я слишком сам по себе. Чиновник должен уметь работать в команде. Для писателя командная психология — гибель. В общем, кадровое решение было принято верное».
Удивительное дело: несмотря на то, что много лет назад он уже сделал свой выбор не в пользу чиновничьей карьеры, жизненный путь снова вывел его все к той же развилке, все к тому же камню, и только благодаря идейным противникам эта карьера не состоялась. Скажем же им спасибо, ведь в запутанных коридорах власти несложно потеряться.
Работа главного редактора — о чем редко приходится думать и читать — часто связана с опасностями, ведь честное издание всегда задевает чьи-то интересы, пишет правду о том, что кто-то всеми силами старается скрыть.
В конце декабря 2009 года на дом писателя в Переделкине было совершено нападение, в результате которого оказалась зверски избита жена Наталья. Нападение было странным и очень похожим на чей-то заказ. Когда хозяин, работавший в кабинете, услышав крики жены, начал спускаться со второго этажа, вооруженные преступники моментально покинули дом, ничем не поживившись.
«Накануне мы вернулись из театра. Наталья легла спать, положив на тумбочку кольца и сережки. Так все и лежало, когда мерзавцы скрылись…»
Поляков был уверен, что налет стал акцией устрашения в связи с публикацией в «ЛГ» материалов о расхищении писательской собственности людьми, захватившими власть в Литфонде с помощью «масок-шоу» и оттеснившими писателей от управления имуществом, предоставленным им советской властью. В результате ушли с молотка дома творчества, помещения, земля, в неизвестном направлении исчезли деньги, получаемые от аренды. Счетная палата только за 2008 год обнаружила пропажу около 20 миллионов рублей. Кстати, налет был совершен накануне встречи Полякова с тогдашним председателем Счетной палаты Сергеем Вадимовичем Степашиным. Поляков должен был передать ему дополнительные документы, касавшиеся этих хищений. Далее начались не менее странные вещи: прибывшая на место преступления следственная группа провела первичный осмотр небрежно, забыв взять с собой служебно-разыскную собаку. Далее дело «пошло по рукам», его передавали из районного в областной отдел, оттуда — в центральный аппарат МВД, и всё безрезультатно. В итоге следствие остановилось на самой «безобидной» и ни к чему не обязывающей версии: налет совершили случайные гастарбайтеры. Впоследствии Поляков с горечью говорил в одном из интервью: «Если даже преступление в отношении семьи главного редактора знаменитой газеты и члена Президентского совета расследуют с такой наплевательской расхлябанностью, на что же тогда может рассчитывать простой человек, у которого ни имени, ни денег, ни связей?..» После происшествия «ЛГ» не прекратила печатать материалы, разоблачающие расхитителей писательской собственности, а также другие острые статьи и расследования. Параллельно шли поиски форм выживания культурологического издания в рыночных условиях — при фактическом отсутствии государственной поддержки.
Существует мнение, что благосостояние газеты или журнала зависит от тиража. Это верно лишь отчасти, ибо большой тираж требует больших расходов и содержания дополнительных структур, наподобие пунктов печати в регионах. В основном прибыль идет за счет рекламы, которую размещают на своих страницах газеты. А реклама, ее объем и стоимость напрямую зависят от тиража. Но эти закономерности не распространяются на культурологическое издание, ибо ни при каких условиях оно не может достигнуть той массовости, которая заинтересует рекламодателей. Кроме того, не всякая реклама может быть помещена на страницах пушкинского детища без ущерба для его репутации. Например: «Диплом о высшем образовании в течение двух часов». Или: «Унитазы нового поколения с встроенным гидромассажером. Оптом и в розницу». Коллектив единодушно решил: такой рекламы в «ЛГ» не будет, как бы тяжко ни пришлось. Газета, достигавшая после 2001 года максимального для изданий такого типа тиража 100 тысяч экземпляров, не могла окупать свои расходы на производство. И тогда Поляков предложил заменить рекламу оплачиваемыми проектами, посвященными различным гуманитарным акциям. Так возникли коммерческие приложения. Первым стало российско-белорусское — «Лад». Появилось оно в 2003 году, когда президент Лукашенко и его курс были излюбленной мишенью российской прессы. Затем последовали приложения «Евразийская муза», «Невский проспект», «Многоязыкая лира России», «Настоящее прошлое», «Русский глагол», «Всемирное русское слово», «Словесник», «Роза Турана», «Страна Наири», «Научная среда», «Литературная ярмарка»… Доходы от приложений помогали покрывать дефицит бюджета, при этом большую финансовую помощь — из личных средств — постоянно оказывал председатель попечительского совета «ЛГ» Вячеслав Копьев.
Ситуация несколько улучшилась с того момента, когда появилась президентская система грантов, среди получателей которых оказалась и «Литературка». Однако главного редактора «ЛГ», как это ни досадно, по-прежнему волнует, хватит ли денег на выпуск очередного номера, на жалованье сотрудникам, на гонорар авторам. Если же средств не хватает, он издает по редакции приказ: «До момента финансовой стабилизации приостановить начисление заработной платы главному редактору…» На вопрос о том, как будет жить без зарплаты, он отвечает: «Ничего, я займу у прозаика Полякова. Он неплохо зарабатывает».
С редакторской работой Полякова тесно связано его присутствие в телевизионном пространстве. Он, один из немногих писателей патриотических взглядов, постоянно появляется на центральных каналах в таких популярных передачах, как «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и других известных ток-шоу. Высказывания Полякова выгодно выделяются на фоне обычной в таких дискуссиях злободневной риторики. Дорогого стоят такие его эфирные афоризмы, как «гормональный либерализм», «искусство принадлежит народу, потому что оплачивается государством», «мы, конечно, живем по рыночным законам, но это не повод торговать законом в суде», «власть может делать только то, что способна объяснить людям», «крымоугольный камень политики», «когда вы говорите об Америке, у вас даже рот радуется…», «заложники незалежности»… Эти и другие его формулировки уходят в народ, передаются в разговорах. И, конечно, он никогда не забывает напомнить в эфире о «Литературной газете».
С 2011 по 2013 год на телеканале «Культура» Поляков вел информационно-аналитическую программу «Контекст». Вот что он говорил в начале 2011 года в интервью корреспонденту «Собеседника» Ольге Сабуровой, которое вышло под заголовком «Хочу покончить с вкусовщиной»:
«…Мне кажется, «Контекст» будет иметь аудиторию. Федеральные каналы сами себя убедили в том, что наш зритель хочет только развлекаться. Это игра в поддавки с самим собой, оправдание появления в эфире пустяковых, за редким исключением, программ.
О. С. Как вы подбираете экспертов для обсуждения? Ведь тот же спектакль «Околоноля» можно оценить как хорошую пьесу Суркова (если это все-таки он писал), испорченную Серебренниковым, а можно — как беспомощную литературу, вытянутую на классе режиссера. Смотря кому дать слово.
Ю. П. Экспертов подбирает канал. Среди них преобладают люди с либеральными взглядами, но тут ничего не поделаешь: у нас телевидение в принципе либеральное. То, что хотя бы ведущего пригласили с нелиберальными взглядами, — уже большой шаг вперед. А что касается Суркова и Серебренникова, то, мне кажется, оба занялись не своим делом.
О. С. Но вы свои убеждения не очень афишируете?
Ю. П. Наоборот. Если бы вы читали собственный еженедельник, то такой вопрос не задавали бы. Посмотрите мои колонки в «Собеседнике» середины 90-х! <…> С некоторыми экспертами я откровенно спорю. С теми же Галиной Юзефович и Александром Гавриловым по поводу Акунина, например. Они пытаются рассматривать его сочинения как литературу. Я же считаю это явлением коммерческого книгоиздания, никакого отношения к литературе не имеющим. Но я, конечно, никогда не позволю себе того, что вытворяет Познер, который дает очень долго и нудно разглагольствовать своим единомышленникам и тут же затыкает рот, как только кто-то начинает говорить вещи, не совпадающие с его представлениями. Сам с этим сталкивался…
О. С. Может, так и надо? Он на ТВ, в отличие от вас, давно.
Ю. П. Затыкать рот приглашенному в студию гостю недопустимо. В таком случае дантист может у пациента, который ему несимпатичен, рвать зуб без наркоза. Я тоже не новичок в эфире. Я вел передачи «Подумаем вместе», «Дата», в 90-е годы — «Стихоборье» на Семейном канале. Это была, кстати, последняя поэтическая программа на ТВ. Поэтому, когда оформлялся «Контекст», я предложил каждую передачу заканчивать стихами, чтобы обязательно звучали живые голоса поэтов. Есть такая идея: поэт читает стихи около памятника Пушкину в том городе, где он живет, а памятник Александру Сергеевичу есть в каждом городе. Таким образом, мы бы показали, что литература есть не только в Москве и Петербурге, но и в губернской России, которую столичные тусовки откровенно дискриминируют (это видно по спискам «Большой книги», «Нацбеста», «Букера»). Если это получится, то будет символично.
О. С. Чего еще от программы хотите?
Ю. П. Идея «Контекста» принадлежит главному редактору канала «Культура» Сергею Шумакову. Она заключается в полифоничной, максимально объективной подаче информации, которая в сфере культуры обычно субъективна до бреда! Это очень близко мне как главному редактору «Литературной газеты». В свое время я принял предложение возглавить это издание во многом потому, что был возмущен тем, как необъективно отражают литературный процесс толстые журналы. Это я чувствовал и на себе. И на ТВ я пошел, чтобы попытаться противостоять губительному для развития культуры разгулу вкусовщины и групповщины. Если передача пойдет (было всего четыре эфира) и у нас получится «острая объективность», то потраченных сил не жалко. Все-таки ведение передачи — большая нагрузка с учетом того, что я не только пишущий прозаик и драматург, но и главный редактор.
О. С. Выйдет у вас не сегодня-завтра новая книга или премьера… Расскажете о ней в «Контексте» или промолчите?
Ю. П. Нет, не расскажу, это нескромно. С другой стороны, я же не могу делать вид, будто тот Поляков, который пишет романы, чьи пьесы идут в десятках театров, включая столичные, и тот, что ведет «Контекст», — это два разных человека. Смешно! Я в крайне щекотливом положении. Но цель — привести телевизионную версию современного культурного процесса в соответствие с реальностью — настолько значительна и важна, что я готов ради нее смирить мое писательское самолюбие…»
Поляков вел «Контекст» два года, и передача была чрезвычайно популярна. Воскресным вечером зрители, интересующиеся проблемами культуры, ждали ее в уверенности, что будет острый разговор, неожиданные повороты, а ведущий не даст гостям вещать в привычном режиме, задаст резкие вопросы и потребует конкретного ответа. Ведущий подводил гостей к тому, чтобы они доказывали свою точку зрения, а не объявляли ее изначально верной — как это было принято прежде.
«Мы широко осветили итог премии имени Кандинского, — рассказывает Поляков, — а когда дошло до итогов премии имени Пластова, оказалось, что эта тема вообще не запланирована. Я пожаловался руководству. Тему в план включили, но в последний момент не оказалось свободных камер, которых всегда не хватает на освещение деятельности актеров, режиссеров, писателей, художников, музыкантов, не входящих в «либеральную» номенклатуру. Я устроил спокойный скандал, и мне клятвенно обещали, что через год премия имени Пластова будет в центре внимания канала. Наивные, они полагали, что у меня плохая память! Прошел год, и я спросил:
— Что там у нас с Пластовым?
— С каким Пластовым?
— Тем самым…
— Ой, а он не запланирован…
— Вставьте!
— Все камеры уже расписаны.
— В таком случае следующую передачу у вас будет вести Кандинский.
— В каком смысле?
— В прямом.
Сразу нашлись и место, и камеры. Примерно так же приходилось действовать и при освещении театральных премьер. Если сюжеты про все новинки МХТ имени Чехова под руководством Табакова попадали в эфир автоматом, то информацию о премьере МХАТа имени Горького под руководством Дорониной приходилось буквально выгрызать. Причем шло это не от руководства, как раз главный редактор канала Сергей Шумаков и его заместитель Игорь Пелиев разделяли мою установку на полифонию и меня поддерживали. <…>
Помню, сижу в гримерной перед эфиром. В комнату влетает, выпучив глаза, руководитель программы. В благоговейно вытянутой руке мобильник.
— Вас!
— На проводе.
— Юрий Михайлович, я вас прошу, не ругайте сегодня в эфире Марка Захарова.
— Да я вроде и не собирался…
— Вы человек увлекающийся… Я вас прошу! Он сказал, у него нелады с сердцем. Может не выдержать…
— Ну хорошо… Хотя я и не собирался…
Накануне я действительно посмотрел в Лейкоме премьеру «Пер Гюнта», которую было не за что ни ругать, ни хвалить. А то, что худруки отдают главные роли своим не очень талантливым женам, детям, подругам и гей-симпатиям, теперь вообще считается нормой. Но, оказалось, Захаров видел, как я выхожу из зала, и ему не понравилось выражение моего лица. В результате он разыскал отдыхавшего на островах в океане руководителя канала и потребовал, ссылаясь на слабое здоровье, чтобы «Поляков не ругал премьеру». Увы, те, кого мы по наивности считаем небожителями в искусстве, нередко забираются туда с помощью «когтей», которыми пользуются электромонтеры, чтобы залезть на столб.
Но особенно мне запомнился случай с директором Московского дома фотографии Ольгой Свибловой и куратором Музея современного искусства, чью фамилию я забыл, очевидно, по ненадобности. Помню только его прическу а-ля Малевич. В ту пору все обсуждали шумный перфоманс, устроенный в Питере группой «Война». Они белой краской нарисовали на разводном мосте, прямо напротив областного отделения ФСБ, огромный фаллос, который в ночной час, по расписанию, поднялся, как говорится, во весь свой нечеловеческий рост.
— Какая эстетическая отвага! — восхищалась Свиблова.
— А разве это не хулиганство? — сомневался я.
— Ну что вы! — уверял а-ля Малевич. — Это экшн. Настоящее актуальное искусство.
— Но ведь напротив ФСБ!
— И замечательно! Дерзость — главное в актуальном искусстве.
— А если нарисовать фаллос, скажем, на стене Музея академика Сахарова, тоже будет искусство?
— Нет, это будет хулиганство! — в один голос воскликнули оба, переглянулись и поняли, что попались.
— Но почему же? Объясните мне, бестолковому, да и зрителям заодно… — лениво попросил я.
— Остановите съемку! — потребовала Свиблова.
— Почему же?
— Мы неточно выразились.
— А по-моему, как раз очень точно!
— Это надо перезаписать.
— Нельзя. Мы работаем в режиме прямого эфира.
— Мы требуем.
— Я отказываюсь.
После долгих препирательств Свиблова и а-ля Малевич подхватились и побежали наверх к руководству. Я давно заметил: чем прогрессивнее творческая интеллигенция, тем больше она любит бегать к начальству. Минут через пятнадцать появилась редакторша, неся в благоговейно вытянутой руке мобильник.
— Юрий Михайлович, — услышал я в трубке смеющийся голос главного. — Перезапиши, я прошу, они же всю передовую интеллигенцию на ноги поднимут.
— Ладно. Но вопросы я задам те же, а они со своим фаллосом пусть как хотят выпутываются.
Выпутались. Мастера!
В таком режиме я проработал два телевизионных сезона, каждую субботу приходя в студию на Малой Никитской улице. Но в какой-то момент почувствовал, что одновременно писать книжки, редактировать «ЛГ» и бороться за здравый смысл на ТВ сил уже не хватает. Не мальчик все-таки. Когда я пришел к Шумакову, заранее предупредив о предстоящем серьезном разговоре, и попросил об отставке, он очень удивился:
— А я-то думал, прибавки к зарплате просить будете.
— Почему вы так решили?
— Обычно под «серьезным разговором» подразумевают деньги. А вы сбегаете! Почему?
— Нет, не сбегаю… — ответил я. — Просто устал…
— Вы первый на моей памяти, кто сам уходит из эфира. Заразная штука, как наркотики…»
В мае 2016 года исполнилось 15 лет, как Поляков заступил на пост главного редактора. Об этом шла речь в апрельском интервью Валерию Бурту, опубликованном на сайте «Свободная пресса».
«В. Б. В заключение вернемся к «Литературной газете». Как она переживает кризис?
Ю. П. Как и вся страна — нелегко. Но кажется, что самый крутой и опасный поворот мы прошли. Во всяком случае, хочется в это верить.
В. Б. Почему вы перешли на новый, небольшой формат?
Ю. П. Здесь есть несколько причин. Во-первых, это дань традиции — такой формат был у первых номеров «Литературной газеты», которые редактировали Дельвиг и Пушкин. Во-вторых, это удобнее для читателей. Скажем, газету можно раскрыть в часы пик в переполненном транспорте. Ну и еще, конечно, чуть-чуть на бумаге экономим… Внешний вид, безусловно, важен, но главное в газете — содержание. Об этом мы говорим на каждой редакционной летучке. И, как водится, готовим «гвоздь» номера. А лучше сразу несколько. Недавно за такой гвоздь — острый материал об открытии в Екатеринбурге «Ельцин-центра» — меня едва не сняли с работы… Материал назывался «Мумификация позора». Дальше рассказывать?
В. Б. Не надо! Спасибо за беседу…»
* * *
Роман «Гипсовый трубач» застопорился, но творческий процесс у писателя Полякова шел своим ходом, несмотря на дополнительные нагрузки и перегрузки: на время отложив роман, он писал пьесы, инсценировки, повести, статьи. Продолжил тему семьи, успешно начатую романом «Замыслил я побег…» и разработанную не только в прозе, но и в драматургии, о чем речь пойдет в заключительной главе.
В 2001-м в журнале «Смена» вышла повесть «Возвращение блудного мужа», которая по аналогии с притчей о блудном сыне подразумевала вполне конкретный сюжет: уход мужа из семьи в попытке создать новую, внезапное прозрение и скорое раскаяние. Автор так рассказывал историю написания повести в эссе «Геометрия любви»:
«…Закончив «Побег», я решил, что закрыл, как говорится, «семейную» тему, и сел сочинять маленький рассказ, сюжет которого мне подсказал один забавный эпизод. Как-то раз меня пригласили на ТВ — поучаствовать в «Большой стирке» Андрея Малахова, только-только появившейся тогда в эфире. В этом треп-шоу, если помните, участники какого-нибудь житейского конфликта на глазах миллионов зрителей бурно, чуть не до драки, обсуждали свои кухонно-постельные проблемы, а приглашенные эксперты потом оценивали ситуацию и давали семейно-бытовым супостатам мудрые советы и рекомендации по примирению.
Такими экспертами в тот раз оказались певец Валерий Меладзе и я. Мы, сидя в закулисной засаде, с возмущением следили по монитору за семейной драмой — ее содержание прочитавшим повесть «Возвращение блудного мужа» известно. Мы дружно возмущались наглостью разлучницы-секретарши, а потом вышли к публике и принялись искренне наставлять участников скандала на путь истинный. Лично я сказал какую-то прочувствованную речугу о мужской доблести, которая сводится к тому, чтобы сохранить брак любым способом, чуть ли не ценой собственной жизни. Страсть к стилистическим красотам иногда заводит писательское воображение туда, куда самих литераторов палками не загонишь!
И лишь после съемки, избавляясь от телемакияжа, мы со знаменитым певцом вдруг с изумлением обнаружили, что нас надули самым незамысловатым образом: в гримерку шумно ввалилась вся компания имитаторов: и брошенная жена, и закобелившийся супруг, и нахалка-секретарша, и проклявший отца сын… Живо и профессионально они обсуждали, насколько удачно им удалось заморочить публику. Такие подставы тогда были еще внове, и мы с Меладзе попались: вместе с миллионами простодушных невольников телеэфира приняли неузнаваемых актеров за жертвы реальной семейной драмы. Оставалось проклинать свое простодушие, оставшееся в наших искушенных мужских душах, вероятно, еще с пионерских времен! Рассказ, навеянный этим конфузом, как вы догадались, разросся в повесть. И снова, к недоумению автора, оказался историей мужчины, пытающегося уйти от жены к любовнице. Только на этот раз в лоно семьи его возвращает нравственный катарсис, пережитый во время треп-шоу. Такая зацикленность на одной проблеме меня несколько озадачила, но я смирился, ибо давно уже понял: на самом деле не писатель выбирает тему, а тема выбирает писателя».
Вот что писал о «Блудном муже» как о части «семейной» поляковской трилогии Лев Аннинский:
«Имена, конечно, заменены. Башмаков теперь (в повести «Возвращение блудного мужа». — О. Я.) — Калязин по кличке Коляскин (Тапочкин, пожалуй, выразительнее). Жена теперь Таня (будет и Тоня, а раньше была Катя), но запах стен, оклеенных обоями, тот же. Имена у жен простые и неброские, у любовниц непростые и броские: была Вета, стала Инна (в наследство получены длинные черные волосы вразмет на подушке).
Кроме обернутого финала обновлены мотивировки. Прежняя повторена: вожделение, облагороженное страданием. Обновление — степени втянутости. Вета втягивала Башмакова в свои сети, и он, в сущности, не сопротивлялся. Инна втягивает — и он пытается сопротивляться. Дело даже не в том, какой вариант лучше: уютно-кухонный тут или неистово-постельный там. Дело в том, что надо сделать выбор: тут или там? В факте выбора.
Да какой может быть выбор у Тапочкина или у Коляскина, если притворство, обман и глупость — и там, и здесь! И он это знает! И крутится, наблюдая, как бывшие парторги редактируют тем планы порноиздательств, и даже в этом участвует. Но души не продает! И подчиняется «шкафандрам»-охранникам, носящим золотые цепи на бычьих шеях, — но к ним не идет! То есть это все тот же Полякове кий круглогодичный тип, который учитывает круговорот подлости и глупости вокруг себя, но все-таки ни в подлость, ни в глупость без оглядки не втюхивается.
А если и втюхивается — по милости и хватке какой-нибудь неотразимой Веты, — то выдирается обратно, освобождаясь и от милости, и от хватки преемницы Веты по имени Инна.
«Возвращение блудного мужа» — эпизод из «Побега», повернутый вспять. Интересно, что внутри «Возвращения» этот отыгрыш реализован через мерзейшее телепредставление о брошенной жене, наглой разлучнице и раскаявшемся гуляке-муже: оказавшись среди зрителей этого телешоу, Коляскин, прохваченный тошнотой, окончательно решает вернуться в лоно семьи. То есть сюжетно это выворот внутри выворота, своеобразное отрицание отрицания на пути к некоей положительности.
К некоей — потому что ничего определенного Коля-скину не светит, ни в оголтелую демократию, ни в пещерную патриотичность он не целится, зато наследует от Тапочкина замечательную способность на всякий неожиданный вопрос отвечать вопросом же:
— В каком смысле?
То есть: что бы ему ни предложили, какой бы идеологический пряник ни подсунули, он уточнит, не пахнет ли дело кнутом, или, как формулируют в его кругу, не спрятана ли там бяка. Ибо смыслы в этом балаганчике меняются беспардонно. Как любит говаривать замполит Агариков, поразивший героев Полякова не меньше, чем Черномырдин нас всех: «Жизнь любит наоборот».
Последний оборот, поразивший Коляскина по ходу его телеперевоспитания, таков. Оказывается, все те несчастные, что мучились перед камерой, выворачивая подноготную: жена, любовница и бегун, — сыграны актерами, которые подрабатывают на ТВ!
Тут уж Коляскин — прямой преемник Тапочкина. Тот, слушая яростные речи горбачевцев и ельцинистов в демократическом парламенте, сравнивал все это с восстанием кукол в театре Карабаса-Барабаса: «Казалось, вот сейчас бородатый детина, задевая шляпой кремлевские люстры, вывалится из-за кулис и щелкающим кнутом разгонит всю эту кукольную революцию. Но детина почему-то не вываливался».
А потому и не вываливался, что и сам — кукла.
Кто же тогда кукловод?
«Настоящая драка идет за ширмой между невидимыми кукольниками, которые по причине занятости рук, должно быть, пинают друг друга ногами… И из-за ширмы доносятся заглушаемые верещанием барахтающихся Петрушек нутряные кряканья да уханья от могучих ударов».
А что если и эти могучие кукольники — такие же марионетки в руках еще более могучего кукловода и нитки, на которых они дергаются, уходят еще выше… в непостижимые небеса?
Тут уж надо размышлять о Вседержителе, но ни Ко-ляскин, ни Тапочкин Всевышнего не опознают, да не очень и ищут. Поляков со Всевышним спознается в третьей книге рассматриваемого цикла. А пока вместо Бога — безногий инвалид Витенька: небесно-голубые глаза, медаль «За отвагу», кружка пива в мускулистой руке.
Сгинул Витенька, герой войны. Коляску его Трудыч попробовал приспособить в хозяйстве, а потом выбросил за бесполезностью»…
* * *
В 2002-м в журнале «Нева» вышла повесть «Подземный художник», написанная уже за письменным столом в новом доме в Переделкине.
«История моего вселения в Переделкино — это настоящий детектив. Тогдашний директор Литфонда с красивым именем Рафаэль Гюлумян в конце 80-х бежал от погромов из Баку в Москву. Устроившись в Литфонд поначалу на незначительную должность, он стал расти, матереть, перенаправлять казенные деньги куда следует и сообразил, что одновременно поддерживать в надлежащем состоянии писательское хозяйство и извлекать личное благосостояние не получается. Надо выбирать… А тут еще, как на грех, сгорело несколько казенных дач. И управленец принял смелое рыночное решение: привлечь к застройке пепелищ хорошо зарабатывающих литераторов, а таковых в середине 90-х можно было сосчитать по пальцам. Одно пепелище досталось мне, а второе Юрию Комову — переводчику-синхронисту с английского, долгие годы работавшему в Америке, видимо, по линии спецслужб. Компетентные коллеги отказались от его услуг по причине нараставшей тяги к спиртному, и он вернулся в распавшийся СССР.
Комов происходил, поговаривали, из «кремлевских детей» — его отец долгие годы служил водителем у Булганина, и сам синхронист подозрительно напоминал лицом несостоявшегося сталинского преемника. Впрочем, сам Юрий эти слухи не подтверждал и не опровергал, ему было некогда — он занимался делом. В то время, в начале 1990-х, издательства как ненормальные переводили и печатали любую зарубежную чепуху, удовлетворяя постсоветскую тягу к тамошней массовой литературе. Прилавки были завалены мурой: «Космическими проститутками», бесконечными подвигами Джеймса Бонда, мрачными фантазмами про лягушачьих головастиков, которые в результате попадания крошечного метеорита в родную лужу вдруг превратились в гигантских пираний, пожирающих человечество. Спасал род людской опять же какой-нибудь американец с бугристыми мышцами и непреходящей эрекцией. К сожалению, все это раскупали и взахлеб читали. Братья Стругацкие стали похожи на двух бедных интеллигентных сестричек, одновременно брошенных богатыми мужьями ради силиконовых радостей.
Так вот, Комов сплотил вокруг себя группу старушек-переводчиц, потерявшихся в рыночных условиях, и раздавал им, поделив на пять-семь частей, детектив или триллер, который нужно было срочно — в неделю! — перевести, чтобы издатели смогли опередить конкурентов. Понятно, этот скоростной лоскутно-бригадный метод плохо вязался с качеством переводного текста. Тем более что общая редакция лежала на Комове, который был трезв лишь в тот краткий миг, когда, проснувшись после попойки, шел от кровати к умывальнику. Но рынок командовал: «Давай-давай!» И какое-то время бывший боец невидимого фронта зарабатывал приличные деньги, ведь старушкам из гонорара доставались крохи — поклевать. Однако вскоре «пипл» насытился космическими проститутками и кровожадными головастиками, к тому же издатели стали замечать, что «лоскутные» переводы с трудом поддаются чтению. Мало того: Комов иной раз спьяну путал старушечьи куски, и роман про супермена, в одиночку порешившего всю Советскую армию вкупе с союзниками из Варшавского договора, начинался почему-то не с пролога, а с эпилога: «Красная Москва дымилась руинами, по которым бродили в поисках корки хлеба бывшие секретари райкомов и агенты КГБ…»
В общем, издатели отказались от его услуг, но Юра успел заработать немалые деньги и решил потратить их на дом в Переделкине, чтобы, уйдя на покой, полностью отдаться зеленому змию на воздухе, под шум литературных сосен. Он взял под застройку пепелище от казенной секретарской дачи — результат пиротехнических забав сына Риммы Казаковой Федора Радова, сочинявшего странные и грязные романы, вроде «Змеесоса». То был талантливый и страшный, в сущности, парень — тихий блондин с поросячьими ресницами. По рассказам, Федя выбил глаз однокласснице, и только связи влиятельной матери спасли его от колонии для несовершеннолетних. Помню, по просьбе Риммы Федоровны я взял его на учет в комсомольскую организацию Союза писателей: в прочих местах от него все давно отказались. Иногда чиновная мама со своим помощником поэтом Владимиром Савельевым, похожим на приземистого трансформера, присылала мне взносы за сына, который так ни разу и не показался ни на одном собрании. Он, как и многие советские мажоры, подсел на наркотики и подсадил на них своих сверстников-соседей, обитавших в знаменитом писательском доме в Безбожном переулке на задах Склифа. Почти никто из них не дожил до тридцати. «Выглянешь в окно — снова из подъезда гроб выносят! — со слезами рассказывала мне Галина Степановна, жена поэта Кострова и редактор моего молодогвардейского сборника «Сто дней до приказа». — Ну просто нет сил смотреть… Двадцать пять лет, двадцать семь, двадцать девять…»
Решив, как и большинство писательских отпрысков, пойти по стопам родителей (отец его был видным журналистом-правдистом), Федя как-то навалял и притащил в журнал «Литературная учеба» почти документальную повесть про связь своей матери с поэтессой Инной Кашежевой. Володя Еременко, заведовавший тогда в «ЛУ» отделом, рассказывал мне, что никто в редакции так и не мог дочитать откровения болтливого сына до конца — столько там было запредельной физиологии. Сам же Радов смог в конце концов отказаться от наркотиков — ему сделали дорогую операцию на мозге, отключив «центр удовольствий». Кстати, эту тему я потом использовал в пьесе «Хомо эректус». Римма Казакова, возглавлявшая тогда Союз писателей Москвы, вынуждена была содержать сына с его дочерью (жена его тоже погибла от наркотиков — выбросилась из окна), поэтесса оплачивала все его безумства и последующее лечение, а за стихи в ту пору уже не платили. Даже за песни ничего не перепадало, хотя у Казаковой были и шлягеры:
Я узнаю цену раю, Ад вкусив в раю, Я тобой переиграю Молодость мою…Видимо, безденежьем и объяснялся тот печальный факт, что она стала небезвозмездно поддерживать художества директора Гюлумяна, а тот с благодарной нежностью звал ее «женщина-лев». Слова «львица» он, вероятно, просто не знал. Дело в том, что писатель-фронтовик В. Огнев, избранный председателем Литфонда, некоторое время то ли не видел, то ли не замечал злоупотреблений своего заместителя-директора, но едва он прозрел, как случился переворот, и под охраной нанятых «чоповцев» состоялась закрытая конференция, на которой Огнев был низвергнут, а председателем избрана Казакова. С этого печального события «маски-шоу» привлекались к боям за писательское имущество с той же регулярностью, с какой лейб-гвардия участвовала в XVIII веке в борьбе за русский престол. Римма Федоровна тут же с присущей ей энергией вступилась за поруганного Гюлумяна. Какое-то время этот тандем торжествовал, заняв помещение на улице Усиевича и взяв под контроль, как говорится, все финансовые потоки, весьма неслабые. У Международного литфонда в распоряжении были, между прочим, не только поселок Переделкино с Домом творчества, но еще и более пяти тысяч квадратных метров офисных и производственных помещений, включая знаменитое меховое ателье на «Аэропорте», описанное В. Войновичем в повести «Шапка». Разумеется, все площади сдавались внаем, аренда квадратного метра стоила тогда от 300 до 500 долларов в год. Вот и посчитайте!
Раз уж я упомянул Войновича, не могу удержаться от отступления. Сюжет повести и одноименного фильма незатейлив: рядовой писатель, мастер соцреалистической духоподъемной прозы, к тому же, по воле автора, еврей, подает литературному начальству заявление с просьбой пошить ему в литфондовском ателье шапку из благородного меха — ну там — ондатра, пыжик, колонок, белка… Однако получает страшную резолюцию: пошить из кота домашнего средней пушистости. Возмущенный таким небрежением власти писатель восстает против режима и погибает, преданный всеми, в том числе женой, изменяющей ему с генералом, кажется, КГБ… И вот возникает вопрос: а если бы писателю сшили шапку из ондатры, претензий к советской власти у него бы не было? Войнович, сам того не подозревая, выдал тайную пружину бузы конца 80-х. Увы, многие из тех, кто ломал «совок», хотели не справедливости вообще, а повышения собственного уровня жизни — ондатровую шапку хотели. А то, что в результате большинство останется в кроликовых ушанках или вообще без головных уборов, это их совсем не волновало. Не случайно, кстати, Войнович, вернувшись из эмиграции, вступил в Союз писателей Москвы, возглавляемый Риммой Казаковой, ставшей к тому времени еще и председателем Международного литфонда, от которого писателям не перепадало уже ничего — даже малахая из кота домашнего средней пушистости. Интересно, что Войновича это не беспокоило, и «Шапки-2» он не написал…
Так вот, все 1990-е годы я жил и работал вдали от писательского сообщества, если не считать интригу Ганичева, позвавшего меня к себе в заместители. И вот в 1998-м, кажется, году, взяв под застройку второе пепелище, я оказался втянут в разгоравшуюся борьбу. Дело в том, что вокруг изгнанного Владимира Огнева и примкнувшего к нему Феликса Кузнецова (в цеху критиков они, кстати, были врагами) сплотились литераторы, надеявшиеся с помощью правоохранительных органов отогнать жулье от писательской собственности. Честно говоря, я предчувствовал, что вступаю в сердцевину писательской свары, и поначалу отказался от предложения, но меня уговорила поэтесса Надежда Кондакова, к мнению которой я тогда еще прислушивался. Потом оказалось: им просто нужны соратники по борьбе. И я на полтора десятилетия погрузился в бесконечную войну вокруг стремительно таявшей писательской собственности. Конечно, возглавив «Литгазету», я стал печатать разоблачительные материалы о деятельности Гюлумяна. Мне тут же отвечала со страниц либеральных изданий Казакова. Боже, каких только нелепиц и гадостей не наговорила она обо мне! Я не однажды с ней встречался, показывал документы, изобличавшие бакинского беженца, Римма Федоровна ужасалась, благодарила, что я открыл ей глаза, вспоминала, как «открыла» меня на совещании молодых писателей, даже плакала от чувств… И на следующий день в эфире «Эха Москвы» несла меня снова по кочкам, обвиняя черт знает в чем…
Наконец, суд признал незаконной конференцию, проведенную с помощью «масок-шоу», и низложил Римму Федоровну. Как Людовик XVIII из изгнания, Владимир Огнев вернулся в кабинет на улице Усиевича, а Гюлумян, который казался нам порой непобедимой эманацией мирового зла, поселившейся в импозантном усатом закавказце, исчез, точно плевок с каминной решетки. А вскоре умерла Казакова: неудачно поскользнулась в бассейне. Тело выставили в большом зале Дома литераторов, и я, поколебавшись, отправился на панихиду. Все-таки до того, как оказаться по разные стороны баррикад, мы относились друг к другу с симпатией. И в самом деле, она благословила мой литературный дебют. Сливки московской либеральной интеллигенции, скорбно стекшиеся туда, смотрели мне вслед так, будто я — Сталин и пришел проститься с Троцким, зарубленным по моему же приказу. Римма Федоровна, точнее безымянная ссохшаяся старушка, лежавшая в гробу, ничем не напоминала «женщину-льва», сотрясавшую борьбой сначала советский, потом перестроечный и, наконец, остаточный Союз писателей. Все-таки поэты — счастливые люди, подумал я: от них остаются не только дурные поступки и буйные заблуждения, но и хорошие стихи…
Ее сын Федор, ошалевший от рухнувшего на него наследства, вскоре улетел с дочерью в Таиланд и погиб там, выпив в номере отеля, как рассказывали, запредельное количество виски. Видно, центр удовольствия отключили ему не до конца…
К тому времени на пепелище, оставшемся вместо дачи литературоведа Виталия Озерова, автора знаменитой монографии «Образ коммуниста в советской литературе», я достроил дом, вложив в него все деньги, которые у меня были, и продав, чтобы вернуть долги, квартиру на Хорошевском шоссе. Строили, между прочим, западные украинцы, во главе с бригадиром, имевшим смешную фамилию Сметанка. В то время они, если судить по некоторым обмолвкам, уже страдали первыми приступами «майданизма». Во всяком случае, мою жену Наталию, урожденную Посталюк и появившуюся на свет в Борисполе, за свою почти не считали. В июне 2001 года мы наконец переехали на ПМЖ из пыльной Москвы в Переделкино. Однако тут начались новые напасти. Я попытался, как и следовало из договора, передать сооружение на баланс Литфонда и получить аренду на 25 лет, но это оказалось невозможно: земля, на которой я построился, находилась под юрисдикцией Ленинского района Московской области, что бакинский лукавец Гюлумян тщательно от всех скрывал, уверяя, будто угодья принадлежат писателям. Вышло, что я теперь нарушитель закона: осуществил злостный «самострой» на государственных землях, и узаконить дом, а значит, подключить к нему коммуникации, можно лишь через суд. Этим я и занялся скрепя сердце, проклиная тот час, когда жена уговаривала меня поселиться в писательском городке. Трехлетний опыт хождения по кабинетам, инстанциям и судам потом пригодился мне при сочинении романов «Грибной царь» и «Гипсовый трубач». А многие читатели удивляются, откуда мне знакомы тонкости судопроизводства. Вероятно, человек, попавший под электричку и выживший, потом очень интересно и достоверно может описать эту жуткую пограничную ситуацию… Но лучше под электричку все-таки не попадать.
Когда суд успешно принял решение в мою пользу, и я смог получить документы как на дом, так и на землю, — подоспела новая беда: товарищи уговорили меня стать председателем Литфонда вместо запросившегося в отставку Огнева: сердце фронтовика устало от ответственности. Я согласился при условии «югославского варианта»: из пяти сопредседателей Литфонда каждый будет рулить год, а потом передавать кресло по ротации, во избежание новой узурпации и перерождения общественного в личное. С трудом выдержав оговоренные двенадцать месяцев и уволив мутного хозяйственника Ивана Переверзина, бежавшего в свое время из Якутии, подальше от неприятностей, в Москву, я с облегчением передал бразды следующей жертве ротации — Феликсу Кузнецову, шолоховеду, которого знал еще руководителем Московской писательской организации.
Но насладиться намоленным покоем в переделкинских кущах мне так и не удалось. Все повторилось с дурной однообразностью, словно дежавю в фильме Хичкока. Феликс Кузнецов зачем-то вернул выгнанного мной Переверзина и снова сделал его директором. Это была роковая ошибка. С беженцами вообще надо быть поосторожнее! Помимо непонимания того, чем казенные деньги отличаются от личных сбережений, Переверзин еще сочинял стихи — простодушно-беспомощные. Однако по мере овладения ситуацией его самооценка росла, как бобовое зернышко в сказке, и скоро поднялась выше неба. В последний раз я с ним общался, когда он перерос Рубцова, да и на Тютчева уже смотрел сверху вниз. Первый признак клинической графомании — неспособность объективно оценить то, что сам написал. Вскоре, войдя в силу и сговор с нищими литераторами, которым были обещаны казенные дачи, Переверзин с помощью все тех же «масок-шоу» сверг Кузнецова, изгнав его из кабинета на улице Усиевича, и началась Вторая война за Литературное наследие, более долгая, изощренная и жестокая, нежели первая… Налет на мой дом, избиение Натальи — всего лишь одна из спецопераций этой войны. «Женщины-льва», наподобие покойной Казаковой, у Переверзина под рукой не оказалось, и он завел себе «мужчину-льва» — Станислава Куняева, ставшего формальным председателем Литфонда. Описывать перипетии этой свары не имеет смысла, так как она идет до сих пор с переменным успехом…
…Впрочем, зачем Бога гневить? Мы живем в Переделкине уже больше пятнадцати лет, здесь написаны и «Подземный художник», и «Грибной царь», и «Гипсовый трубач», и «Любовь в эпоху перемен», многие пьесы… Я даже снова стал здесь писать стихи, такие например:
Октябрь уже отступит скоро. День раньше, чем вчера, погас. Моя береза у забора Теряет золотой запас. Дождь ночью пробежал по крыше, Но лужи утром в струпьях льда. И подбираются все ближе Врачующие холода, И все смешнее мне ужимки Необходимой суеты. И стали первые снежинки, Как прежде первые цветы. Варенье чаем запивая, Я не мечтаю вгорячах О сумасшедших птицах мая, Но лишь — о мартовских ручьях. («Осень в Переделкине»)Здесь я встретил мои юбилеи — пятидесяти- и шестидесятилетие. Сюда из роддома Алина привезла сначала Егора, потом и Любу. Здесь летом 2001 года я бросил курить: забравшийся ночью вор опустошил мою коллекцию трубок, которую я собирал много лет. Потеря так меня огорчила, что я долго не мог даже взглянуть на моих поредевших соавторов: ведь без дымящейся трубки вдохновение меня покидало. Вор оказался специалистом и упер лучшие «бриары». Дней через десять я вдруг сообразил, что отлично сочиняю и без табака: ароматный никотин мне вполне заменил хороший крепкий чай. Видимо, горе утраты сработало подобно кодированию, и я избавился от зависимости разом, хотя до этого бросал курить раз пять — и безрезультатно. Спасибо тебе, неведомый домушник! Кури на здоровье мои трубки! Итак, вроде бы все хорошо. Но скольких друзей и соратников я потерял на этих литфондовских баррикадах… Первым, кстати, оказался мой однокашник Владимир Вишневский, который по просьбе Леонида Жуховицкого, воевавшего на стороне Казаковой, подписал облыжное коллективное письмо в инстанции. Там была и какая-то обидная чепуха в мой адрес. А скольких высоких чиновников узнал я с темной стороны, в скольких людях разуверился! Да и сам, наверное, многих разочаровал… Вот пишу про это и думаю: зачем? Прочтет нормальный книголюб и огорчится: «Вот, оказывается, чем писатели занимаются в свободное от создания шедевров время! Ай-ай-ай…» Ну и пусть знает. Да, садовники не только розы подрезают, но и навоз в тачках возят…»
Вернемся к поляковской прозе. Вот что писал Андрей Рудалев о «Подземном художнике» и семейных историях от Полякова в статье «Человек горизонтальный», опубликованной в журнале «Аврора»:
«Герои Полякова раздваиваются между обычной тихой семейной жизнью, которая ведет к медленному затуханию, притуплению сил, где всевластвует привычка, и наркотическим дурманом разврата, пробуждающим к новой сладостно-иллюзорной жизни, к буйству страстей. И пусть этот дурман гибелен, но притягателен, восхитителен и заманчив.
В героине повести «Подземный художник» Лиде Зольниковой обитали две внутренние женщины: Оторва и Благонамеренная Дама, говорившая языком мамы-учительницы, женщины «собранной и правильной». Каждая из них по-своему оценивала ситуацию и давала свой совет, часто вступая друг с другом в спор.
Или вот классическое раздвоение женатого мужчины между любовницей и супругой в «Возвращении блудного мужа»: «неистово-постельной там и уютно-кухонной здесь». До поры это даже доставляет удовольствие, но со временем возникает необходимость выбора, и ты понимаешь, что в годы тихой семейной идиллии «мужской интерес томился и чах». Пора на волю, на охоту, вспарить в небо орлом и начать питаться свежим мясом, а не «сухим гранулированным кормом». Жизнь приобретает новый импульс, в ней появляется возбуждающая на деятельность интрига. Первая близость с Ингой и «острое любовное помешательство» трансформировались в «неизлечимую хронику». При том, что в трактовке, которая превалирует в сборнике, разврат более нравственен, чем обман чувств и жизнь по инерции годами в семье. «Блудный муж» Калязин попал на передачу «Семейные катастрофы», где разыгрывался спектакль слез, истерик и эмоций на тему «Я ушел от жены…». Именно здесь промелькнула реплика о нравственности, когда актер, изображавший бросившего семью мужа, сказал, что «жить с женщиной, которую не любишь, безнравственно…».
Этот правдоподобно сыгранный спектакль и отправил Калязина домой, к «запаху одного жилища», к словам жены: «Наблудился?» — и осознанию того, что простит. Освежились воспоминания, на какой-то момент вернулись прежние чувства, возникла ностальгия по ушедшему времени, духу, аромату прошлого. Ну а блуд? Это временная хандра, слабость от двухнедельного заболевания гриппом или ОРЗ, не более».
* * *
14 сентября 2003 года Юрий Михайлович стал дедушкой: в семье Алины родился мальчик, которого назвали Егором — собственно, в честь дедушки, ибо Юрий, Егор и Георгий суть имена одного корня. А 8 декабря следующего года Алина родила еще и дочку, которую назвала в честь бабушки Любовью.
В 2003-м «Замыслил я побег…» был признан в Китае лучшим переводным романом, а в России режиссер Мурад Ибрагимбеков поставил по нему восьмисерийный фильм. Вышел фильм по «Козленку…», снятый режиссерами Мозгалевским и Нахабцевым, была экранизирована «Парижская любовь…» режиссером Константином Одеговым. Сам Юрий Поляков стал в том году «Человеком года» по версии Русского биографического института. А в последнем, декабрьском номере «ЛГ» был опубликован фрагмент нового романа «Грибной царь».
Вскоре в издательстве «Росмэн», куда со всеми своими произведениями перешел из «Молодой гвардии» Юрий Поляков, вышло несколько его книг, в том числе сборники публицистики — «Порнократия» и интервью — «Апофегей российского масштаба». Там же к пятидесятилетию вышло пятитомное собрание сочинений с комментариями и статьями известных критиков и литературоведов.
«Грибного царя» в 2005 году тоже издали уже в «Рос-мэне», но прежде, по своему обыкновению, автор опубликовал новую вещь в журнале — на этот раз в трех номерах «Нашего современника». Поляков рассказывает, что вначале предложил роман, как и предыдущую вещь, в журнал «Москва», но главный редактор Леонид Бородин неожиданно отклонил рукопись, столь необходимую для пребывавшего в кризисе издания. Критик Виктор Калугин, в ту пору работавший заместителем главного редактора, так рассказал ему о причине отказа: Бородин, принимавший важного посетителя, попросил принести ему экземпляр «Москвы» с его новой повестью, и сотрудник ответил, что тираж номера закончился. «Вот видите!» — снисходительно улыбнулся Леонид Иванович. «Ну конечно, — пояснил неделикатный заместитель, — там же окончание романа Полякова — сразу смели…» Главный редактор вновь улыбнулся, но по-другому, — и Поляков перестал быть желанным автором журнала «Москва». Зато его тут же пригласили в «Наш современник». Вот что делает с достойнейшими людьми обычная писательская ревность.
Естественно, что Поляков не отказался и от другой своей традиции: он широко публиковал фрагменты новой вещи в газетах: в «Труде», «Комсомольской правде», «Слове», «Новой газете», «Книжном обозрении», «Литературной России» и т. д. Едва выйдя отдельной книгой, роман стал лидером продаж, оставив далеко позади уверенно занимавшую первые строчки коммерческую беллетристику, и это, конечно, было отмечено прессой. «Современный интеллектуальный роман окончательно обосновался в верхних строках рейтинга «Московского дома книги»; «Мужской роман для женщин» Юрия Полякова — «Грибной царь» — стал в этом месяце самой продаваемой книгой», — сообщали газеты, публиковавшие рейтинги продаж. Тогда же доктор филологических наук, автор школьного учебника литературы Владимир Агеносов выдвинул роман Полякова на премию «Большая книга», недавно учрежденную. Итог оказался именно таким, о каком и предупреждал литературоведа писатель. И если за десять лет до этого знаменитый «Козленок в молоке» попал хотя бы в лонг-лист, «Грибного царя», великолепный роман зрелого мастера, эксперты не допустили даже в «длинный список». Этот сюжет неоднократно всплывал позднее в полемике, и именно этим обстоятельством оппоненты объясняли стойкую неприязнь Полякова к либеральным литературным премиям. Вот как ответил писатель на очередной упрек модератору «Большой книги» на страницах «Вечерней Москвы» весной 2016 года в заметке «Бутов и его полигон»:
«…Говорю все это со знанием дела, ибо некоторое время я, как главный редактор «ЛГ», довольно близко соприкасался с ПБК (премией «Большая книга». — О. Я.), входил в число так называемых «академиков», а в 2008 году согласился стать сопредседателем жюри вместе с А. Архангельским. Кстати, функция чисто декоративная. Но то, что я увидел вблизи, подтвердило мои самые мрачные догадки. Явным лидером того года был мощный роман «Каменный мост» А. Терехова. Вторым номером шла хорошая литературоведческая беллетристика — книга про личную жизнь Ахматовой Аллы Марченко. Но «экспертное сообщество» отдало вдруг первую премию беспомощному сочинению Леонида Юзефовича «Журавли и карлики», о котором, думаю, читатели «Вечерки» даже не слышали. Когда я вскрыл конверт, то сначала хотел отказаться вручать премию, как это сделал Меньшов, не ставший вручать приз фильму «Сволочи» — подлой фантазии о военном детстве. Но мне стало жаль седого Леонида Абрамовича, он же не виноват и пишет как умеет. Вина на тех, кто крутит этот литературный «лохотрон». Молчать я не стал и сразу высказал свои претензии к ПБК, и не в «ЛГ», как можно подумать, а на страницах газеты, которую выпускала сама же «Большая книга». Среди прочего предложил регулярно менять председателя «экспертного сообщества», да и сам совет чаще обновлять во избежание «сговора монополистов», ибо «эксперты» все из одной реторты. Пригласите, говорил я, в модераторы критика из губернской России или из республики, и вы увидите совершенно другую литературу! Пригласили? Конечно, нет, ведь тогда пришлось бы выйти за узкий круг своих авторов, страдающих гормональным либерализмом. Но эта публика к честной творческой конкуренции не привыкла.
Объясню, как работает «экспертное сообщество». Допустим, в редакцию «ЛГ» прислали новую книгу того же Бутова, а у меня есть два рецензента. Один давно всем сердцем не любит автора новинки. Второй относится к нему без предубеждений. От того, кому я закажу отзыв, и зависит, какая рецензия, объективная или намеренно разгромная, появится в газете. Конечно, я отдам книгу объективному автору, а вот сам Бутов, судя по тому, что каждый год ПБК упорно воспроизводит один и тот же «набор литературных хромосом», беспристрастностью не страдает. Отсюда и нехватка хороших авторов. Ведь если искать их только среди своих, приходится даже Б. Екимова объявлять последним «писателем-деревенщиком». О существовании А. Байбородина, В. Личутина или В. Лихоносова Бутов, видимо, не подозревает: эти авторы печатаются в «Нашем современнике», а не в «Новом мире», где служит наш модератор. А чужой для него не может быть талантлив по определению. Его даже читать не надо. Конечно, никакого заговора в литературе нет, есть только сытый междусобойчик за казенные деньги.
Теперь о любимом приеме моих оппонентов — переводить принципиальную критику в личную сферу. Бутов объявляет: «Книга Юрия Полякова выдвигалась на премию в самом первом сезоне, но не удостоилась благожелательности экспертов, откуда и его давняя нелюбовь к «Большой книге». А выдвигать каких-либо других писателей «Литературка», наверное, считает ниже своего достоинства». Деликатные англичане в таких случаях говорят: «Не надо экономить правду!» Бутову хорошо известно, что «ЛГ» никогда никого не выдвигала на ПБК, в том числе и мой роман «Грибной царь». Зачем нам пустые хлопоты? Два года назад я уже объяснился на эту тему с пресс-центром ПБК, обвинившим меня в сведении счетов и подрыве деловой репутации «Большой книги»… Позволю себе цитату из моего ответа: «Репутации ПБК повредить невозможно, как невозможно повредить репутации женщины известного поведения…
В 2005 или 2006 году профессор-литературовед В. Аге-носов, несмотря на мои возражения, номинировал на ПБК мой роман «Грибной царь», который не вошел даже в длинный список, о чем я профессора предупреждал заранее. С тех пор «Грибной царь» переиздан более десяти раз, экранизирован, инсценирован, переведен на иностранные языки. Если вы мне назовете хоть один роман, получивший ПБК и имевший потом такую же судьбу, я уйду в монастырь»…
В монастырь, мне, как видите, уходить не пришлось. Но и коллега Бутов продолжает игры на литературном полигоне для своих. Зачем же тогда эти мои замечания? Для власти? Нет, ее, судя по всему, устраивает либеральный перекос в литературной жизни страны. Писал я скорее для истории, чтобы потом, когда «либеральный пролеткульт» грохнется, как всякое ложное построение, никто не смог бы сказать, мол, «народ безмолвствовал».
Но от литературной борьбы обратимся наконец к самому роману. О чем он? О «новом русском»? О том, во что превратилось постсоветское общество и какие возобладали в нем отношения. О том, каково это — быть при деньгах и постоянно сталкиваться с тем, что никто из окружающих не воспринимает тебя как личность, но все замечают лишь твой пухлый бумажник и фактически обращаются именно к нему. О том, какую цену приходится платить за материальный достаток. О том, что произошло в постсоветские времена с семьей. Ну и, конечно, о любви. Точнее, о ее суррогате, который достается главному герою Свирельникову то ли потому, что он не знает, где искать истинную любовь, то ли потому, что и сам любить уже не в состоянии, обладая слишком трезвым и оценочным взглядом привычного к обманной жизни бизнесмена. В книге много зашифрованных смыслов, которые не сразу и обнаружишь. Взять, к примеру, фамилии действующих лиц романа: они все — из мира… грибов, только догадаться об этом сложно, поскольку читатель, как правило, не разбирается так свободно в грибных названиях, как автор.
«…Грибная тема довольно долго никак не проявлялась в моих писаниях, хотя я с детства буквально болен «тихой охотой». Ужение, сирень рыболовство, волнует меня гораздо меньше, а ружейного звероубийства мне и даром не надобно. Должен с удовлетворением сообщить, что неплохо разбираюсь в грибах. Когда я стал жить в Переделкине, многие обитатели этого писательского поселка поначалу были уверены, что, гуляя по лесу, я собираю исключительно поганки, каковыми они, грибные невежды, считали фиолетовые, допустим, рядовки или еловые, скажем, мокрухи. Мне всегда очень хотелось сочинить что-нибудь грибное в хорошем смысле слова. И отголосок этого хотения можно уловить в моей пьесе «Халам-бунду, или Заложники любви», идущей ныне во многих театрах. Речь, конечно, о Косте Куропатове, изобретателе чудодейственного порошка «фунговит», благодаря которому можно раз и навсегда решить проблему пищевого равенства человечества. Но кроме грибных фантазий, в моей памяти уже много лет хранилась услышанная как-то история про женщину, последовательно побывавшую замужем за двумя офицерами, учившимися в одном военном институте. Несмотря на то, что они стали участниками своего рода эстафетного брака, отношения между ними остались товарищескими, предшественник даже давал преемнику некоторые советы по оптимальному режиму эксплуатации «бэушной» супруги. Видимо, из-за своей бесконфликтности это житейское происшествие и томилось невостребованным в моем сюжетном депо. И вдруг в один прекрасный момент я сообразил, что друзья должны непременно покинуть ряды вооруженных сил, стать коммерческими компаньонами, жутко разругаться из-за женщины или денег и довести конфликт до смертоубийства, которое случится во время сбора грибов!
Если вы думаете, будто такое озарение родилось из ничего, как наша Вселенная, то глубоко ошибаетесь! Кровавая катавасия между соратниками осталась в моей голове, отколупнувшись от сценария, который мы когда-то, в середине 90-х, сочиняли вместе с замечательным режиссером Владимиром Меньшовым. Но так и не сочинили, потратив силы на споры о будущем России и некоторые традиционные русские излишества. <…>
Итак, я сел за «Грибного царя», задуманного, разумеется, как рассказ. О том, что рассказ превратился в повесть, а повесть распространилась в роман, читатель и сам уже догадался. Поначалу я ставил перед собой задачу от противного — хотел написать историю не безответственного «эскейпера», но русского пассионария, в данном случае советского офицера, победившего жестокое, абсурдное, безнравственное время, одолевшего эпоху первичного накопления, сделавшегося успешным и богатым. Конечно же, как выкормыша великой русской литературы, меня прежде всего интересовала нравственная цена вопроса, а именно: чем приходится платить в наше неправедное время за преуспеяние? Не мной замечено: материальное обогащение часто ведет к душевному оскудению. Гриб, кстати, не создающий жизненно важный хлорофилл, а забирающий его у других растений, показался мне довольно удачным социальным символом, отражающим взаимоотношения тонкого слоя богатых с толщей обделенных и обобранных. И я решил созорничать: всем своим персонажам я дал грибные фамилии. Да-да… А разве вы не встречали в лесу неприличный по форме и несъедобный по содержанию гриб, называющийся «весёлка»? Называется он так, потому что с древних пор селяне и селянки, обнаружив его, разражались игривым смехом. Да и фамилию главного героя — Свирельников — я образовал не от «свирели», а от «свирельника» — так в иных областях называют гриб-трутовик. Первоначально даже трех наших президентов я переиначил по-грибному: Грибачев, Подъеломников и Паутинников. Но потом старинный товарищ Геннадий Игнатов… убедил меня, что я вроде бы как испугался назвать властителей их настоящими именами и проявил малодушие. Тогда я проявил многодушие и, кажется, зря…
Но каково же было мое изумление, когда по мере написания романа меня помимо воли все глубже и очевиднее стала затягивать все та же история мужчины, убегающего из семьи в «сначальную» жизнь. Да, теперь он убежал, извините, с концом. Но при этом унес с собой в новую участь все свои комплексы, проблемы и заморочки, как увозят из старой квартирки в новехонький пентхаус родных тараканов. Возмущенный таким навязчивым однотемьем, я даже на некоторое время отложил рукопись в сторону, точнее, забил файл. Но потом, поразмышляв, понял: если подсознание упорно возвращает меня все к той же нравственной коллизии, значит, так надо. Значит, я еще сам что-то не понял и в чем-то не разобрался, а следовательно, не объяснил это «что-то» моим читателям. Ведь подсознание зря ничего не делает, в отличие от сознания. И я решил: раз такое дело, надо расслабиться, как в известном анекдоте, и получать удовольствие. Судя потому, что, выйдя в свет, «Грибной царь» стал бестселлером, заняв первые строчки в рейтингах, удовольствие получил не только я один…»
Многие эпизоды романа напоминают четкие снимки с отличной выдержкой — при всей художественности текста и метафоричности поляковского языка. Вот что писал о романе и о самом Полякове Александр Щипков:
«Девяностые и нулевые стали временем, когда большая литература оказалась отделена и от общества, и от государства. Образованному читателю было заявлено, что он нуждается не в серьезной словесности, а в «умной беллетристике», поскольку и креативный менеджер, и бывший интеллигент теперь так заняты в производстве смыслов, что не имеют времени на вдумчивое чтение. Роман идей стал признаком плохого вкуса. Вместо него издательский и культуртрегерский агитпроп предложил необременительную беллетристику с периодическим «интеллектуальным» перемигиванием, свидетельствующим о том, что школьный курс все еще не забыт «образованным» читателем. Его, читателя, холили и трепали по щеке.
Юрию Полякову эта фальшивая умилительная интонация оставалась абсолютно чуждой. Он не пошел по легкому пути «умной беллетристики» — того сорта литературы, которой так жаждали поглупевшие к концу 90-х бывшие интеллигенты. Правда, беллетристический арсенал у Полякова богатый, ему не откажешь в умении закрутить интригу, сложить головоломку из житейских обстоятельств, его криминальным сюжетам позавидовали бы иные детективщики. Но литературность никогда не приносилась им в жертву ремеслу.
Наоборот. Тайные пружины и колесики действия в конечном счете помогают Полякову взять читателя за пуговицу для серьезного разговора. И читатель любого ранга, от бывших мэнээсов до нынешних сисадминов, часто на этот крючок попадается.
Не будет преувеличением сказать: блажен тот пишущий муж, который, будучи ловцом сюжетных историй, остается и ловцом человеков. Проза Полякова, как неоднократно отмечали критики, стала энциклопедией «эпохи первоначального и окончательного накопления капитала». Но разговор об общественном Поляков всегда ведет на равных, предлагая доверительную интонацию.
Авторы массовой литературы сделали образ креативного менеджера своим вечнозеленым брендом. А Юрий Поляков описывает нового гегемона совсем по-другому, без притворного сочувствия. Например, герой романа «Грибной царь» — владелец фирмы «Сантехуют» и участник коммерческих войн — все время катится по наклонной. И дело не в одном только хроническом адюльтере, но и в беспринципности. Он — жертва обстоятельств, им же самим и созданных. К тому же типу относится и Башмаков из романа «Замыслил я побег…», и другие поляковские герои постсоветского периода.
Интереснее всего наблюдать этих героев на психологических изломах. Словно проверяя ножку гриба: червивый или нет? где здоровая часть, а где темные пятна начинающегося распада? И не только роман «Грибной царь» с его мощной буколической метафорикой, но и остальные романы и повести дают материал для, так сказать, органического исследования души. При этом авторская зоркость подспудно передается читателю и никогда не утомляет последнего. Тому есть несколько причин.
Во-первых, и «Грибной царь», и «Замыслил я побег…», и «Возвращение блудного мужа» — психологическая проза, наполненная гротеском. Соединение гротеска с психологизмом относится к числу трудных литературных задач, но в случае успеха результат ошеломляет. А Юрий Поляков прекрасно умеет это делать.
Во-вторых, привлекает фирменная авторская манера вести повествование на грани анекдота, не срываясь ни в карикатурность, ни в безбрежную стихию карнавальности, где любые вопросы растворяются, но не решаются. Смех у Полякова не имеет ничего общего и с постмодернистской «всеобщей теорией относительности». Это смех хорошо нацеленный и продуманный. Но — и это важнее всего! — никогда не уничтожающий до конца объект осмеяния, будь то какой-нибудь ресторатор, сантехнический бизнесмен или вытянутый школьным другом к лучшей жизни неудачник».
А вот мнение Льва Аннинского, высказанное в статье «Повороты Юрия Полякова», которая была опубликована в журнале «Дружба народов»:
«Свирельников, кажется, единственный из основных героев Полякова, чье имя не переворачивается в каламбурах, а сохраняется в своей загадочной музыкальности, особенно когда звучит в резонанс с Веселкиным, его корешем, чье имя без конца переиначивают: то в Мурзилкина, то в Пистонкина, то в Женилкина, а то и в Мочилкина — в зависимости от степени подлости и кровавости предполагаемого сюжетного поворота.
Одна образная струя объединяет роман о Трудыче и роман о Свирельникове (не считая, конечно, универсального вопроса: «В каком смысле?» — коим встречают герои Полякова вызовы вертящейся вокруг них эпохи).
Один смысл отмечаем сразу и бесповоротно: «постельный опыт», «катастрофически опережающий» прочую жизненную практику. А именно: «телесные причуды дам», называемых в зависимости от их успешности то вагинальными труженицами, то отосланными партнершами, то совокупительными чудачками, а около них — соответствующие подвиги кавалеров, всегда готовых к любодеянию, но иногда стыдящихся (тут я, пожалуй, спрячусь за цитату) «своего бессовестного многолетнего скитания по сладким расселинам плоти», а иногда искренне верящих, что «генитальная неверность укрепляет сердечную преданность законному супругу».
Никак не ставя под сомнение ни одно из этих положений (даже отдавая должное читательской завлекательности тех поляковских страниц, которые устами одного из героев он называет «путеводителем по эрогенным зонам»), — рискну все-таки отметить в романе «Грибной царь» некий нюанс, которого не было ни в похождениях Башмакова-Тапочкина, ни в терзаниях Калязина-Коляскина. Те просто отвечали на вызовы естественной нормальной плоти. Свирельников же чувствует, что причастен к куда более серьезным узам, причем не просто эротическим (этого и у Трудыча хватало), а, так сказать, философским: «Если, например, каждого индивидуума связать мысленной веревочкой со всеми его интимными партнерами, человечество окажется опутанным густой сексуальной паутиной».
Вот что проступило в последнем романе Полякова: глобальный аспект! Мировая паутина, как сказали бы мэтры Интернета. Масштабность дел и деяний. Крутость.
Сравнить: Трудыч перебивался с неверных башлей челнока на жалкие деревяшки охранника — Свирельников шуршит капустой, крутит бабки, считает штуки десятками и чувствует себя миллионером.
В каком смысле?
В смысле возможностей, конечно. Но и в смысле риска.
Трудыч сравнивал прелести жены и любовницы, не теряя юмора (совместными усилиями они удержали-таки его на этом свете, не дали сверзиться с балкона).
У Свирельникова оставленная жена — не какая-нибудь страшилка из гоголевской «Женитьбы», от которой можно сигануть через балкон, — теперь это почти состоявшаяся леди Макбет, готовая, как убежден Свирельников, нанять киллера, чтобы угробить бывшего мужа, — по каковой причине киллера нанимает и он сам…»
«Грибной царь», как и большинство предыдущих сочинений Полякова, шагнул с журнально-книжных страниц в кино и театр. В 2011 году инсценировка «Грибного царя» была поставлена на сцене МХАТа им. М. Горького (в роли Свирельникова — народный артист Валентин Клементьев), а в 2015-м — в Оренбургском академическом театре драмы. Режиссер Григорий Мамедов снял по мотивам романа шестисерийный фильм, в котором Свирельникова сыграл народный артист Александр Галибин.
* * *
На вернемся в 2004-й. В том году Поляков получил в Санкт-Петербурге Литературную премию имени Н. В. Гоголя — за сборник «Плотские повести», а в Москве — премию Правительства РФ в области литературы — за сборник «Небо падших» и в связи с пятидесятилетием. Нельзя сказать, что власть не оценила деятельность Полякова как публициста и главного редактора, но награды на пятидесятилетие он не получил, хотя документы на орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени коллектив «Литературной газеты» подал своевременно: вскоре выяснилось, что не имеющему ни советских, ни ельцинских наград Полякову такой орден не полагается, только медаль. Потом все же решили дать орден, но рангом поменьше, «Знак Почета». Потом снова передумали и пообещали медаль. И так тянулось года полтора. Тем временем ордена успешно получали деятели с обложек глянцевых журналов, которых во власти, видимо, ценили несравненно выше. Но наконец в начале 2006-го орден «Знак Почета», как говорится, нашел героя.
Пока решался вопрос с наградой, Поляков пережил незабываемое событие: в апреле 2005 года в Институте мировой литературы прошла конференция, посвященная его творчеству и приуроченная к выходу монографии доктора филологических наук Аллы Большаковой «Феноменология литературного письма. О прозе Юрия Полякова». Вел конференцию директор И МЛ И академик Александр Борисович Куделин. Свое мнение о творчестве писателя высказали литературоведы, литературные критики и его коллеги. Всего выступили более двадцати докладчиков: Александр Куделин, Юрий Борев, Павел Басинский, Игорь Волгин, Инна Ростовцева, Владимир Личутин, Вера Галактионова, Сергей Небольсин, Л. Трубина и др. Стоит ли говорить, что мало кто из современных писателей удостаивался такой чести и такого признания! Впрочем, по его творчеству уже вовсю защищали диссертации, как кандидатские, так и докторские, и порой он узнавал об этом совершенно случайно. Так, в 2008 году в Омском университете им. Достоевского успешно прошла защита диссертации на соискание звания кандидата филологических наук Л. С. Захидовой «Идеостиль Ю. Полякова в лексико-семантическом аспекте».
* * *
Проблем и тем, которых касался публицист Поляков, слишком много, их невозможно здесь даже перечислить, и относятся они к самым разным сферам нашей жизни: к политике, культуре, образованию, памятным датам истории, памятным именам. Но все они связаны прежде всего с его главной борьбой, которой он посвятил свое творчество в последние 25 лет: борьбой с навязываемым нам либеральным мировоззрением, которого придерживается пускай и немного соотечественников, но зато они по-прежнему занимают видные посты в госаппарате и средствах массовой информации. Временами, по мере того как Поляков высказывает свои взгляды на события и явления нашей жизни, их неприязнь трансформируется в некое более сильное и агрессивное чувство.
Впрочем, его это не обескураживает. В одном из интервью Поляков высказался так: «У беллетриста врагов быть не должно, он же не политик. Писатель обязан понять всех. Возьмите мои книги, вы не найдете там ни одного по-настоящему отрицательного персонажа, такого, которого нельзя было бы понять. Публицистика — дело другое. У публициста должна быть политическая идея, а следовательно — враги».
У Полякова они есть. А поскольку он по-прежнему не считает нужным говорить с оглядкой, вокруг его имени часто бушуют страсти и вскипают скандалы. Их было много в последние годы, и о некоторых мы уже рассказали. Осталось только упомянуть те, что были связаны с именами некогда опальных у советской власти писателей, из которых в наше время пытаются создавать икону — в ущерб объективной реальности.
Чуть ли не месяц на страницах разных СМИ и в Интернете обсуждалось высказанное Поляковым мнение относительно юбилея Солженицына, подготовка к которому началась за четыре года (!) до срока. На страницах интернет-издания газеты «Культура» Поляков выразил мнение: «…нынешний «заблаговременный» предъюбилейный ажиотаж в связи с приближающимся столетием А. И. Солженицына, на мой взгляд, выглядит в какой-то мере неуместным. Не стану обсуждать литературно-художественные достоинства его творений, однако вынужден заметить: Солженицын не просто уехал в свое время из Советского Союза (а СССР, хотим мы того или нет, по сути одна из политических версий исторической России), но фактически призывал американцев начать против него войну. Никто не предлагает вычеркнуть Солженицына из списка выдающихся соотечественников, но и культовую фигуру из него лепить явно не следует».
Надо сразу отметить: Поляков не оговорился, когда сказал о том, что Солженицын уехал из страны. Александр Исаевич деятельно и энергично боролся, как мог, с советской властью. Будучи человеком выдающегося ума и уже имея за плечами лагерный опыт, он, конечно, понимал, что, если у власти дойдут до него руки, его ждет тюрьма. Готовился к этому, тщательно заметал следы, прятал и перепрятывал рукописи, никогда не хранил их целиком в одном месте, наладил связь с заграницей. В те времена ходили упорные слухи, будто Солженицыну предложили на выбор: либо отправиться в места не столь отдаленные, либо выехать за пределы СССР. И Солженицын уехал — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кое-кто даже утверждал, что Александру Исаевичу перед отъездом якобы выдали какую-то сумму в валюте. Впрочем, Поляков на слухи никогда не ссылался: мало ли кто и зачем их распускает. Однако, как и многие, понимал, что автора «Матренина двора» и «Ивана Денисовича» просто так ни посадить, ни выслать власти не могли. Совершенно понятно, что точка зрения, высказанная Поляковым, вызвала у вдовы Солженицына возмущение. «Возмущена бесчестной клеветой в адрес А. И. Солженицына, напечатанной Вами на портале газеты «Культура»: «Солженицын не просто уехал в свое время из Советского Союза… по сути исторической России, но фактически призывал американцев начать против него войну».
Вы не можете не знать, что в феврале 1974 года Солженицын был арестован, лишен гражданства и под конвоем выслан из страны. Об этом гражданам СССР сообщило ТАСС в центральной прессе. Если, зная это, Вы печатаете приведенные выше слова — значит, Вы сознательно лжете. Если же Вы не знаете этого всеизвестного (по крайней мере, в истории литературы XX века) факта, то странно, как Вы при этом возглавляете «Литературную газету». И будучи на этом посту, недостойно повторять клевету о призывах к войне, состряпанную против Солженицына в глухие советские времена 5-м управлением КГБ по борьбе с инакомыслием. Напротив, будучи в изгнании, Солженицын на долгие годы впал в немилость у американской прессы именно за то, что защищал историческую Россию. Да, он считал, что большевики исказили ее лик, и упорно убеждал не приписывать русскому народу жестоких черт коммунистической практики Ленина — Сталина. Не сомневаюсь, что молодое поколение разберется, что считать за правду, в чем подлинный патриотизм и кто его настоящие носители», — писала Наталья Дмитриевна в «Российской газете», где она и Юрий Михайлович обменялись открытыми письмами. В ответ Поляков заметил, в частности, следующее: «Убежден и в том, что нельзя включать в школьную программу «опыт художественного исследования» под названием «Архипелаг ГУЛАГ», на чем Вы настояли. Гомерические оценки сложнейшей эпохи Ленина — Сталина, помещенные в эту книгу, серьезно расходятся с данными исторической науки и здравым смыслом. Однобоко понятое прошлое воспитывает ненависть к собственной стране и порождает гражданское болото. А вот по-настоящему художественный «Один день Ивана Денисовича», безусловно, прочесть должен каждый старшеклассник». Напомнив, что именно возглавляемая им «Литературная газета» поддержала Солженицына после выхода его книги «Двести лет вместе», когда от него отвернулась «либеральная общественность», и опубликовала солженицынскую отповедь «потемщикам», приписывавшим ему сотрудничество с КГБ, Поляков объяснил свою позицию: «Отвечая на Ваше негодование, поясню свою мысль: мне непонятно, почему столетия крупнейших русских писателей, не ссорившихся столь всемирно с советской властью (Леонова, Шолохова, Твардовского), отмечались весьма скромно в сравнении с планами празднования предстоящего юбилея автора «Красного колеса»… (А о надвигающихся столетии К. Симонова и 150-летии М. Горького вообще ни слуху ни духу.) Как раз по этой причине я и уклонился от предложенной чести войти в состав юбилейного солженицынского комитета».
Страсти вокруг этих высказываний вскипели нешуточные. Игорь Караулов в «Известиях» удивлялся: «…Кто бы мог подумать: нашелся-таки повод, по которому официозная «Российская газета», пламенно-оппозиционная «Новая газета» и либерально-плюралистическое «Эхо Москвы» — лебедь, рак и щука нашего информационного рынка — с энтузиазмом впряглись в единую кампанию травли.
Наверное, Поляков и вправду сказал нечто ужасное про Александра Исаевича? Обнажил его скрытые пороки, оскорбил родных и близких?
Ничего подобного. О Солженицыне Поляков написал восемь строчек, из которых сомнения вызывает ровно одно предложение: «Солженицын не просто уехал в свое время из Советского Союза (а СССР, хотим мы того или нет, по сути одна из политических версий исторической России), но и фактически призывал американцев начать против него войну».
Разумеется, Солженицын не «просто уехал», а был принудительно выслан. Тут Юрий Поляков явно дал маху. А вот о второй части этого предложения имеет смысл поговорить поподробнее. Защитники Солженицына единодушны: никаких подобных призывов Александр Исаевич не произносил. Но если нет огня, то откуда взялся дым?..
В романах Солженицына («Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом») в самом деле есть эпизоды, в которых персонажи призывают американскую атомную бомбу на головы советских вождей. Но автор, как мы знаем, за персонажей не отвечает.
А вот за эти слова автор, без сомнения, отвечает: «Коммунистические лидеры говорят: «Не вмешивайтесь в наши внутренние дела. Позвольте нам душить наших граждан в тишине и покое». Но я говорю вам: вмешивайтесь больше и больше, вмешивайтесь столько, сколько вы можете. Мы просим вас прийти и вмешаться».
Это из речи Солженицына перед представителями профсоюзов США, произнесенной в июне 1975 года. Всего писатель произнес пять речей на американской земле, они были в том же году изданы «YMCA-Press» в сборнике под названием «Американские речи». Я привел цитату в обратном переводе с английского, поскольку русский оригинал, кажется, довольно трудно найти. Впрочем, английские тексты этих речей сразу же стали фактом американской политической жизни; они цитируются во множестве политологических книг и до сих пор переиздаются. Дело в том, что Солженицын выступил в удачный момент: в США начиналась очередная президентская кампания, и Рональд Рейган, борясь за республиканскую номинацию, ухватился за изгнанного писателя как за важного идейного союзника в борьбе против политики разрядки, придуманной тогдашними лидерами демократов. Тогда Рейган назвал Солженицына «великим маяком человеческой храбрости и нравственности». Через несколько лет он все-таки стал президентом, и в его концепции «СССР — империя зла» был отзвук мысли Солженицына о том, что нравственность в политике выше закона.
Вся последующая внешняя политика США воплощает идеи, высказанные тогда Солженицыным: Америка — главная сила добра и должна сеять это добро по всему миру, не стесняя себя суверенитетом других государств. Отдельные абзацы упомянутой речи мог бы произнести Барак Обама. Более того, в этом же духе сейчас высказываются и многие вожди «либеральной интеллигенции», умоляющие США давить Россию где только можно. <…>
Солженицын прекрасен тем, что спорен. В нем спорно всё — и литературные достоинства его книг, и политические взгляды, и причудливый вклад, внесенный им в развитие русского языка. Бесспорно только одно — масштаб личности».
«Откуда Солженицын взял 60 миллионов репрессированных? — говорил Поляков в одном из давних, за много лет до конфликта, интервью. — А кто же строил, воевал? Дети и старики? Да, ГУЛАГ — это страшно, бесчеловечно, как любое насилие. Но в лагерях у нас единовременно сидели не больше двух с половиной миллионов. Много? Конечно! Но для сравнения: в США сейчас в тюрьмах около двух миллионов. Без всякого Сталина. А Солженицын, к сожалению, до сих пор не признал, что, сочиняя, в частности, «Архипелаг ГУЛАГ», пользовался непроверенными фактами и цифрами. Не подумайте, что я имею что-то против Александра Исаевича, сегодня в России «Литературка» — единственная газета, последовательно поддерживающая его после того, как либеральный читатель отвернулся от него из-за публикации исследования «Двести лет вместе». А так называемые «советские патриоты» отвернулись от него еще раньше…»
Вряд ли нужно говорить, что людей, которые поддержали точку зрения Полякова, было подавляющее большинство, в том числе и среди читателей сайта «Российской газеты», в чем сотрудники так и не решились признаться перед публикой. Творчество Солженицына сегодня, когда любую его книгу можно купить в магазине, уже никого не привлекает своей запретностью, интерес к нему с годами делается все глуше. А аргументы, которые доказывают, насколько, мягко говоря, неправдива его самая знаменитая книга «Архипелаг ГУЛАГ», наводняют сегодня Интернет.
В интервью газете «Завтра», еще раз поясняя свою позицию, писатель сказал: «В ряде СМИ, в том числе в газете «Культура», я высказал недоумение: почему к столетию А. И. Солженицына (2018 год) уже началась бурная общефедеральная подготовка, в то время как аналогичные круглые даты крупнейших наших писателей XX века: Шолохова, Твардовского, Катаева и других — прошли более чем скромно. <…> Я нисколько не умаляю роли Солженицына в нашей литературе и считаю, что «Один день Ивана Денисовича» (но не сумбурный «Архипелаг ГУЛАГ») должен быть рекомендован старшеклассникам. Но я против того, чтобы задним числом переписывать, спрямлять историю новейшей литературы, как это делает, например, «карамельная мифологесса» Л. Сараскина в монографии о Солженицыне. Да, я против того, чтобы классиков, достойных «бронзы многопудья», назначали в основном из тех, кто боролся против советской власти со вселенским размахом. В таком случае у молодых людей сложится иллюзия: кандидатом в памятники можно стать, только вдрызг поссорившись хотя бы на время со своей родиной. А им надо бы объяснить как раз обратное: те наши выдающиеся соотечественники, которые не выносили домашние ссоры и сор на трансатлантические сквозняки, достойны как минимум равного с диссидентами уважения и внимания со стороны общества и государства».
* * *
Еще одним образчиком идейной борьбы за правду стала дискуссия, вызванная высказыванием Полякова о Варламе Шаламове. Так, в передаче «Право знать!» на ТВЦ он, в частности, сказал: «…Фигуры умолчания — это в основном оружие тех самых либералов, которые нас начинают упрекать в том, что мы не говорим всю правду… А что же вы не говорите о Варламе Шаламове, которому во время войны добавили третий срок? За что добавили? За то, что Шаламов в заключении агитировал за победу Гитлера. Он считал, что победить Сталина можно тогда, когда Гитлер оккупирует Советский Союз… Так что всю правду-то они (либералы) сами недоговаривают».
Об этом же Поляков сказал и в интервью газете «Вечерняя Москва»: «…Варламу Шаламову добавили срок за то, что он в заключении агитировал за победу Гитлера. К сожалению. Это опубликовано и, увы, документально подтверждено: он уверял, что Сталина можно одолеть только с помощью немцев. Кстати, автора «Колымских рассказов» арестовали как члена подпольной троцкистской организации. Это не умаляет его большой талант, но объясняет жестокую его судьбу».
В ответ «Новая газета» предоставила слово Валерию Есипову, который в выражениях не стеснялся: «…Когда натыкаешься на абсурд — ни ахи, ни другие междометия не помогают. И даже апелляции к медицине кажутся слабоватыми аргументами: психическое здоровье редактора «Литературной газеты», судя по его вальяжному экранному виду, сомнений не вызывает». Далее автор, как ему показалось, убедительно «развенчал» точку зрения «вальяжного» главреда.
Но Поляков никогда не позволяет себе спорить без аргументов и досконального знания материала, в том числе следственного дела Варлама Шаламова, тем более что он и сам когда-то был удивлен, изучив биографию этого незаурядного человека.
Вскоре «Литературка» опубликовала ответ на выпад «Новой газеты», озаглавленный «Не люблю иллюзий!». Ниже мы приводим его почти целиком, чтобы показать, как аргументированно и хлестко, но не опускаясь до оскорблений, расправляется писатель со своим нахрапистым оппонентом.
…………………..
К «Новой газете» у меня никаких вопросов. Гормональный либерализм давно лишил ее объективности, разборчивости и профессиональной щепетильности. Но с автором инвективы придется спорить, хоть и не следовало бы: он из тех, кто сначала придумывает себе идиота-оппонента, а потом с блеском громит врага «в полемике журнальной». Но не хочется хорошего русского писателя отдавать на откуп истерическому литературоведению. Если бы мои, в самом деле, весьма субъективные соображения о трагической судьбе большого художника Варлама Шаламова освистал, скажем, известный футболист Валерий Есипов, я бы еще понял: у человека просто другая профессия. Но когда вроде бы специалист-историк Валерий Есипов бранится, как воинствующий гуманист с незаконченным общечеловеческим образованием, ей-богу, даже неловко отвечать. Однако положение обязывает…
Оставим на совести моего зоила утверждения, что я впал в воспетый мной же «апофигей». (Моя повесть, кстати, называется «Апофегей».) Пропустим мимо ушей поседелую остроту про ЦПШ и ВПШ. Не знаю, как в церковно-приходских школах, не застал, а в Высшей партийной школе учили куда лучше, нежели в нынешней Высшей школе экономики. Впрочем, сам я окончил Московский областной педагогический институт, где и защитил диссертацию по фронтовой поэзии. Так что к Брокгаузу заглядывать пришлось. И уж, конечно, не станем обижаться на сетования автора «Новой газеты», что невежде Полякову доверена роль «предводителя главного литературного органа страны». Все это уже было, и не раз.
Именно о печальной участи «ЛГ» шумно горевала Н. Д. Солженицына, когда я упомянул общеизвестный факт, что автор «Ивана Денисовича», обитая в США, всячески настраивал руководство этой державы против СССР — советской версии Российского государства. Кстати, речь велась о санкциях вроде нынешних. И надо мной грянул гром! Кремлевский таблоид «Российская газета» проработала меня в лучших традициях борьбы с инакомыслием. Литературовед Сараскина объявила, что моего имени не будет даже в мелких сносках к истории отечественной словесности. Трепетный актер Миронов, оторвавшись от театрально-хозяйственной деятельности, вызвал меня на дуэль, но секундантов не прислал. Закрутился. Странное, ей-богу, возбуждение граждан! Ведь даже в книжке В. Войновича «Портрет на фоне мифа» эти факты биографии великого гулагописца обозначены весьма подробно. Но на Войновича почему-то не обижаются, а на меня разгневались.
Доставалось мне и прежде, например когда я лет десять назад в эфире напомнил про то, как будущий нобелевский лауреат И. Бродский планировал с приятелем угнать самолет из Сухуми в Иран, с чем, наверное, и связан столь ранний интерес КГБ к еще безвестному поэту. О, что тут началось! Как меня только не называли! Но выяснилось потом, что этот эпизод подробно описан в книге Соломона Волкова — и все как-то сразу успокоились, стали даже хвалить Бродского за вызов тоталитаризму, хотя в толерантной Америке он получил бы за одно угонное намерение приличный срок. Но эти дела давно минувших дней я вспомнил не из тщеславия, а чтобы обратить внимание читателей на странную закономерность: меня клеймят за то, что другим прощают или вообще не замечают. М-да, хорошо быть Войновичем, а еще лучше — Соломоном Волковым!
Повторю, что, занятый подготовкой к печати моего нового романа «Любовь в эпоху перемен», я поначалу не хотел отвлекаться на полемику с кипучим шаламоведом. Но мой обвинитель помянул всуе Иванушку Бездомного — героя почитаемого мной Булгакова, поэтому без разоблачения очередного члена акустической комиссии не обойтись.
Итак, гражданин Есипов, «давайте по документам»! Вы будете смеяться, но связи молодого Шаламова с троцкистами общеизвестны. Вот что пишет исследовательница И. Сиротинская: «В ряды большевиков-ленинцев (так называли себя оппозиционеры) он вступил в 1927 году: его привела и поставила в ряды демонстрантов Сарра Гезенцвей. Демонстрация к десятилетию Октября проходила под лозунгом «Долой Сталина!» (Шаламов В. Новая книга: Воспоминания, записные книжки, переписка, следственные дела. М.: ЭКСМО, 2004. С. 946). Ей вторит автор биографии писателя, вышедшей в популярной серии «Жизнь замечательных людей»: «Не случайно, что молодой Шаламов пришел на демонстрацию под лозунгами «большевиков-ленинцев», как неудивительно и то, что он позже участвовал в подпольном печатании «Завещания Ленина» (Есипов В. Варлам Шаламов. М.: Молодая гвардия, 2012. С. 86).
Добавлю от себя: с помощью этого завещания (есть версия, что поддельного) оппозиционеры хотели выбить из политической жизни Сталина. Не получилось. Выбивать начали их. Такова жестокая логика внутрипартийной борьбы, а юный Шаламов в ней активно участвовал, причем на стороне «левых», жаждавших продолжения «революционного банкета». Вот что заявил 22-летний «оппозиционер-ленинец» на допросе в 1929 году: «Я считаю, что руководство ВКП(б) сползает вправо, тем самым способствует усилению капиталистических элементов в городе и деревне и тем самым служит делу реставрации капитализма в СССР» (Новая книга. С. 949). Думаю, встретив в те годы какого-нибудь Чубайса, левый Варлам как минимум плюнул бы главному приватизатору в лицо за реставрацию капитализма. Молодой был, горячий. И получил «трешку» лагерей.
За год до ареста юношу выгнали из Московского университета. «Исключение состоялось 13 февраля 1928 года, и хотя основной формулировкой значилось» за сокрытие социального происхождения», очевидно, что за этим стоял весь веер копившегося на него компромата, в том числе политического. Надо полагать, Варлам воспринял исключение без больших переживаний — перспектива служить закону, который обслуживает интересы Сталина, и идти стезей Вышинского его вряд ли устраивала» (ЖЗЛ. С. 89). Ну конечно, двумя годами раньше, поступая на отделение советского права, он рассчитывал, видимо, обслуживать интересы беспартийной Фемиды и шагать дорогой председателя Верховного трибунала республики товарища Крыленко. Кстати, дети «лишенцев»: дворян, купцов, буржуев, попов — и без «веера» даже мечтать не могли о высшей школе до 30-х годов. Исключения делались редко и в особых случаях. Будущий писатель не оценил странной небдительности советской власти.
Чем еще не нравился сталинский курс недавнему студенту университета, а теперь заключенному четвертой роты управления Вишерских лагерей особого назначения Шаламову? Вот строки из его жалобы в Коллегию ОГПУ ЦК ВКП(б): «Решения XVI конференции, чистка партии, чистка аппарата, борьба с правым уклоном… представляют собой несомненно серьезные шаги руководства влево… в направлении исправления сделанных ошибок… внутренней и внешней политики, приведших к перманентному экономическому кризису страны, затяжке мировой революции и ухудшению международного положения Коминтерна..» Заметьте, в стране голод, разлад, индустриализация дает сбои, «тянет порохом со всех границ», а юношу беспокоят мировая революция и авторитет Коминтерна. Впрочем, обычное тогда дело, Есенин тоже одно время был «за знамя вольности и светлого труда готов идти хоть до Ла-Манша». А может, шутил. Кстати, в этом шаламовском письме, кроме просьбы о возвращении «ленинской оппозиции в партию», есть и несколько ссылок на труды Троцкого, упреки за его изгнание из страны (Новая книга. С. 953–955).
Неясно, помогла жалоба или посодействовали соратники, оставшиеся на воле, но в 1931-м Шаламова освободили досрочно, потом, правда, передумали, объявили в розыск, искали, не нашли, хотя он жил в Москве, сотрудничал в журналах, женился на Гале — дочке крупного деятеля Наркомпроса Гудзя, соратника Крупской, тоже не любившей Сталина. Гудзь подвизался политредактором учебников, а в прошлом являлся видным меньшевиком, вовремя «побольшевевшим», если воспользоваться выражением поэта, сгинувшего в ГУЛАГе. Сын Гудзя Борис, как замечает автор «ЖЗЛ», был человеком с «большой чекистской биографией». Жили дружно в пятикомнатной квартире на Пречистенке. Шаламов «был вынужден написать заявление в НКВД с официальным отречением от троцкизма. Родственники, и прежде всего шурин с ромбами полкового комиссара, считали, что только это спасет всю семью от серьезных неприятностей» (ЖЗЛ. С. 120–125). Станет человек, чуждый оппозиции, от нее отрекаться? Я бы не рискнул, а то ведь, наоборот, не так подумают и придут. Впрочем, Шаламов активен, сотрудничает в журналах «За овладение техникой» и «За пром, кадры», сочиняет, ищет себя, судится за невыплаченные гонорары, снова сходится с прежними соратниками по оппозиции. И его находят в 1937-м.
Вот строки из следственного дела 1937 года.
«Вопрос. Что заставило вас встать на путь к-p троцкистской деятельности?
Ответ. Я был хорошо знаком с Сегал и Гезенцвей, любил их как людей и после их исключения из комсомола не порвал с ними отношения. Эта личная связь привела к тому, что Гезенцвей использовала меня как передатчика к-p троцкистской литературы. Само содержание тех документов, с которыми я был знаком, и пропаганда Гезенцвей привели к тому, что я в то время стал считать, что троцкисты — революционеры, что именно они занимают правильную позицию…» (Новая книга. С. 962).
Донос на соратницу? Нет, скорее чистосердечное признание. Под пыткой? Вряд ли, ведь на большинство вопросов он отвечал отрицательно или уклончиво: не участвовал, не состоял. Начинающему литератору за грехи молодости дают пять лет, отправляют на Колыму. Жизнь сломана. За что? По нынешним понятиям, без вины. Хотелось всего-навсего мировой революции, к которой звал великий Ленин и которой пренебрег кремлевский горец Сталин. Правда, неизвестно еще, что стало бы со страной, победи тогда «перманентники». Но это, как говорится, вопрос исторической веры. С другой стороны, вообразите на минуту, что поповича Шаламова взяли не за троцкизм, а за монархизм или, о ужас, за черносотенство. Шлепнули бы, не задумываясь. Вспомните судьбу расстрелянного за «русское направление» поэта Алексея Ганина, знаменитого в ту пору, в отличие от Варлама! Не забудьте и про дело русских историков! А чем, собственно, с сегодняшней точки зрения монархист хуже троцкиста? По-моему, даже лучше.
Но тогда была тогдашняя точка зрения, чего историки «есиповской школы» понять не хотят или не могут.
Теперь, кстати, на старых московских домах можно увидеть таблички в память о тех жильцах, что ушли и не вернулись домой в 1937–1952 годах. Нужный почин? Очень! А как же быть с теми, кто ушел и не вернулся в 1918—1936-м? Как быть с теми, в чью квартиру на Пречистенке въехал заслуженный Гудзь с чадами и домочадцами? Эти не в счет? Почему? Помните, у Булгакова в «Зойкиной квартире» видного партийца, набитого червонцами и зарезанного китайцем, зовут Гусь. Совпадение? Возможно, и нет: Булгаков принимал участие в конкурсе Наркомпроса на лучший школьный учебник истории, написал свою версию, которая канула в Лету, попав, быть может, на рецензию политредактору Гудзю, тестю Шаламова. Дарю эту версию специалистам.
Я искренне жалею тех, кто испытал на себе суровость эпохи перемен, не зря же Павел Нилин назвал свою повесть о тех временах «Жестокость», а Олег Волков свои воспоминания — «Погружение во тьму». О замечательной книге Олега Васильевича сегодня почти не вспоминают, хотя по своим достоинствам она не уступает ни Шаламову, ни Солженицыну, к тому же служит живым источником для молодого поколения гулагописцев. Как «социально чуждый элемент», Волков с 1928 по 1953 год арестовывался пять раз: сажали и выпускали, сажали и выпускали — в ссылку. Но кто же станет нынче кручиниться о судьбе какого-то дворянского отпрыска, никогда не увлекавшегося ни Троцким, ни даже Лениным? Другое дело — дети революции, ею же и пожранные. А ведь прежде чем стать жертвами, мальчики-девочки, вдохновленные мировым пожаром и классовым чутьем, в 1920-е без сомнения ставили к стенке людей лишь за то, что они дворяне, купцы или священники.
Кстати, и судьба отца, Тихона Шаламова, который в трудную минуту разрубил и сдал в Торгсин свой золотой крест, могла сложиться куда печальнее. Но священник примкнул к митрополиту-бунтарю А. Введенскому, чьи лозунги «были близки идеям военного коммунизма, лелеяли слух власти, но никак не соответствовали интересам большинства духовенства, которое давно привыкло различать «богово» и «кесарево» (ЖЗЛ. С. 70). Как я понял, те, кому — «богово», пошли в обновленцы, а те, кому — «кесарево», — на Бутовский полигон. Или не так? Пусть адекватность этого пассажа оценивают православные специалисты, а я лишь отмечу преемственность: отец примкнул к обновленцам, сын — к троцкистам. Конечно, в поисках правды. Нет, я никого не осуждаю, каждый в то запутанное время мучительно искал свой путь. Революция — это пожар, в котором страдают и невинные, и те, кто баловался спичками. Шаламов по молодости играл с огнем, был молодым гвардейцем жестокой внутрипартийной борьбы. Отрицать эту часть биографии писателя так же нелепо, как, скажем, факт участия Достоевского в революционном кружке, за что его едва не казнили. Да, потом он стал консерватором, был вхож даже в императорскую семью, но из жизни сделанного не выкинешь.
А как же в таком случае понимать реабилитацию, состоявшуюся в 2000 году, когда «был смыт навет о троцкизме»? Прежде надо условиться о понятиях. «Навет» — это когда тебя обвиняют в изнасиловании, а ты импотент. Тут же речь совсем о другом — о переоценке той или иной политической деятельности в исторической перспективе. Давайте вникнем вместе с коллегой Есиповым в текст заключения Генеральной прокуратуры, на основании которого была выдана справка о реабилитации. Читаем по слогам: «…Тот факт, что он разделял взгляды оппозиции, не является уголовно наказуемым деянием. При таких обстоятельствах можно сделать вывод, что Шаламов подвергся репрессии необоснованно, по политическим мотивам…» (Новая книга. С. 959). Конечно, по политическим. По каким еще? Он же не бухгалтер и не нэпман. Жестоко? Еще бы: пять лет ГУЛАГа. А знаменитого журналиста Михаила Кольцова за неосторожный контакт с троцкистами просто расстреляли. Такое время. Впрочем, за политику и в более мягкие времена даже парламент из танков расстреливали. Кстати, заключение Генпрокуратуры как раз и подтверждает, что к оппозиции Шаламов отношение имел. Значит, все-таки не навет. Просто принадлежность к троцкизму в 2000 году уже не считалась преступлением, как и валютные спекуляции, а ведь еще при Хрущеве валютчикам «вышку» давали!
Теперь о третьем сроке автора «Колымских рассказов». Упоминание о нем так возмутило В. Есипова, что он впал в антисоветскую ярость и на «доносчиков», и на меня, грешного: «…некто Кривицкий и некто Заславский. Один из них являлся, между прочим, бывшим членом ВКП(б), другой — бывшим членом ВЛКСМ. Ю. Поляков доверился показаниям лжесвидетелей-доносчиков. Видимо, писатель пробежал в свое время бегло следственное дело Шаламова..<…> не удосужился прочесть до конца. Ибо в нем есть и определение Военной коллегии Верховного суда СССР от 18 июля 1956 года, которое сняло с Шаламова все обвинения и тем самым реабилитировало его».
Ну что сказать? Троцкистка Сарра Гезенцвей тоже была членом ВЛКСМ, а Троцкий — аж членом ВКП(б). 0 чем это говорит? Ни о чем. Думаю, Есипов, как и я, смолоду состоял в комсомоле, а не в союзе молодых адвентистов. Против Шаламова дал показания и беспартийный бригадир Нестеренко. Некоторых везли для очной ставки за много километров. Кстати, известного очеркиста Илью Петровича Заславского я застал в живых, и он на меня не производил впечатления доносчика. Более того, наш писательский мир тесный, бдительный и пересудливый, но я не припомню разговоров о том-де, что Заславский оклеветал Шаламова, хотя бывшие соседи по нарам порой сидели рядом на собраниях и за столиками в кафе ЦДЛ. Мелочь? Как сказать…
Далее, объясните мне, зачем надо было старательно шить дело неведомому литератору и бывшему троцкисту на посылках? Чтобы не выпустить на волю опасного оппозиционера, когда страна изнемогает в борьбе с Гитлером? Допустим, ведь Троцкий писал: «Если война будет лишь войной, поражение Советского Союза будет неизбежным… Если империализм не будет парализован революцией на Западе, он сметет режим, который был порожден Октябрьской революцией» (Емельянов Ю. Троцкий: Мифы и личность. М.: Вече, 2003. С. 463). Того, кто мог распространять идеи мертвого Льва, не спешили отпускать. Увы, многих оппозиционеров даже при отступлении казнили, как «эсеровскую богородицу» Марию Спиридонову. Война. Не щадили ни себя, ни других. Я не питаю иллюзий в отношении неукоснительной законности в ГУЛАГе. Но зачем было проводить множество допросов, этапировать из разных концов воюющей страны свидетелей опасных барачных разговоров? Если речь о явном оговоре, то «свидетеля» можно найти в соседнем бараке. Он бы и подтвердил вместо Заславского: мол, Шаламов пророчил, что «в конце концов нынешняя война с гитлеризмом внесет коррективы, рухнет руководство советской власти, и тогда наступит период свободы печати и слова». В обвинительном заключении «сталинской юридистики» сказано так: «Высказывал неудовольствие политикой ВКП(б), восхвалял контрреволюционную платформу Троцкого… восхвалял гитлеровскую армию, его военную технику и неодобрительно отзывался по адресу Красной армии» (Новая книга. С. 1023–1027).
В результате приговор: десять лет.
Что и говорить, сурово, но, увы, в духе эпохи. Знаменитый эмигрантский певец Петр Лещенко сгинул в лагере лишь за то, что выступал перед румынскими и немецкими военными. Известного писателя, казачьего генерала Петра Краснова повесили за связь с фашистами. Мой любимый Георгий Иванов, лишь заподозренный в симпатиях к немцам, доживал во Франции почти изгоем. Если верить Солженицыну, высказывания, мол, придут немцы — поквитаемся, не были исключением. Это и понятно: страшная обида, жажда мести за унижения и страдания. Попрошу теперь набраться мужества поклонников Даниила Хармса, но их кумир попал под следствие, а потом был помещен в ленинградскую психбольницу, где и умер за пораженческие разговоры, — если верить, конечно, материалам допросов. Загляните в книгу А. Кобринского в той же серии «ЖЗЛ». Там все написано. Естественно, доносчики названы клеветниками. А как же иначе-то? Я вообще в жизни встречал один-единственный справедливый донос — «на гетмана-злодея царю Петру от Кочубея». Припоминаете? Да еще как-то бдительная россиянка, подслушав разговор наших военных, донесла в украинское посольство о готовящейся агрессии. Кажется, «Новая газета» и «Эхо Москвы» за нее горячо заступались…
Да, я не специалист и, возможно, «пробежал в свое время бегло следственное дело», но при всей беглости заметил то, что ускользнуло как-то от профессионального зрения шаламоведа Есипова. Давайте опять же по слогам прочтем определение Военной коллегии Верховного суда СССР от 18 июля 1956 года. «…Высказывания, которые допускал среди заключенных Шаламов и которые расценены судом как антисоветские, по своему содержанию не являются контрреволюционными и под признак 58–10 УК РСФСР не подпадают…» (Новая книга. С. 1032). Где здесь о том, что Шаламов не вел с сокамерниками опасных разговоров? Наоборот, подтверждается: вел, но теперь, через одиннадцать лет после войны, когда умер Сталин и расстрелян Берия, подобные темы контрреволюционными не считаются. Свидетелей, кстати, как я понимаю, не обеспокоили, поверив жалобе пострадавшего. Правильно реабилитировали Шаламова? Конечно правильно. Время меняет оценки. Тамбовский Антонов теперь не бандит, а борец против большевистского произвола. Маршал Тухачевский, жестоко подавивший антоновцев, — тоже жертва. И маршал Блюхер осудивший Тухачевского на смерть, — опять-таки жертва… «Дело врачей» — дело рук Сталина, смерть которого, как теперь подозревают, — дело рук врачей… Просто разум вскипает!
Чтобы моя позиция стала понятнее, приведу близкий нам пример. Вообразите разбомбленный Донецк: руины, мертвые женщины и дети. Вдруг кто-то заявляет, мол, вот победят «укропы» и наведут тут европейский порядок. Как полагаете, могут за такие слова репрессировать? Думаю, да. Однако лет через десять, когда Новороссия вернется в родную гавань, станет частью большой страны и многое забудется, наверное, реабилитируют. Он же не был террористом, а просто выражал свою политическую позицию. Имеет право выразиться свободный человек? Разумеется.
Таким образом, вопрос с третьей судимостью Шаламова как минимум спорный, и не стоит оппонента, придерживающегося иной точки зрения, объявлять чуть ли не слабоумным. В науке так не принято. А вот в сфере манипуляций общественным сознанием это обычный прием: если враг, значит — дурак.
В заключение замечу, что историки «есиповской школы», оберегая своих священных коров от мельчайших мошек или слепней вроде меня, в отношении чуждых кумиров высказываются без всякой щепетильности. Примеры? Пожалуйста, вот вам из той же книги серии «ЖЗЛ». Автор пишет, что «не кто иной, как Солженицын — вопреки его собственным высказываниям о стремлении помочь Шаламову — посеял семена предубеждения в отношении редактора «Нового мира» к заштатному рецензенту, а на самом деле большому поэту и писателю» (ЖЗЛ. С. 250). Если продраться сквозь «семена предубеждения», можно догадаться, что Исаич злостно интриговал против Варлама, настраивал Твардовского и отсрочил писательский триумф конкурента аж на четверть века. Возможно ли это? Почему бы и нет. Но где доказательства?
Есть в этой книге, на мой взгляд, и настоящий поклеп. Речь снова о доносе. Группа студентов просит выселить Шаламова из комнаты общежития, так как он пьянствует и мешает заниматься, заявляя: «Плевать я на вас хотел с батиной колокольни!» В феврале 1928 года пять соседей по комнате пишут: «Просим принять меры и избавить нас от шаламовщины». «Не исключено, что вся эта грязь, — приходит к научному выводу автор книги, — была инспирирована сверху. Об этом можно судить по одной из подписей под заявлением — «М. Залилов». Это был студент этнологического факультета, молодой татарский поэт, взявший впоследствии псевдоним Муса Джалиль… Можно предполагать, что юного Мусу как комсомольца просто вынудили подписать это заявление. А историческая ценность этой кляузы в том, что она дает некоторое представление о том, чем в действительности занимался Шаламов» (ЖЗЛ. С. 81–82). Мутно, но с напором. Выходит, фашисты не смогли в Моабитской тюрьме сломить будущего Героя Советского Союза и классика татарской литературы Джалиля, а комендант советского общежития «ссучил» его запросто.
Не слишком ли много достойных людей поименованы доносчиками, стукачами, кляузниками ради сохранения белых одежд крупного, но весьма сложного в быту и противоречивого в общественно-политической жизни писателя? Кстати, известны случаи, когда за то, что «мешали заниматься», выселяли не только студентов из общаги, но и видных литераторов из домов творчества. А замечательного поэта Анатолия Передреева на год лишили права посещать Дом литераторов за то, что он со словами «Не люблю иллюзий!» мимоходом послал в нокаут всемирно известного фокусника Игоря Кио. Кто доносчик, думаю, понятно.
Не следует, право, пиетет перед объектом исследования доводить до абсурда, до гуманитарных судорог и либеральных стигматов. Не стоит трагическую и героическую эпоху превращать в выгребную яму только потому, что твой герой в той эпохе не ужился, как Ленин в царской России, процветавшей, если верить Михалкову, что твой колхоз в кинофильме «Кубанские казаки». Не надо людей, которые искренне признавали Сталина лидером державы, изображать трусами и приспособленцами. Пастернак, например. со Сталиным уживался, даже славил стихами, а вот с Хрущевым у автора «Доктора Живаго» не сложилось. И что делать исследователю творчества Пастернака — объявить «оттепель» «мразью»?
Осталось назвать имя автора книги о Шаламове, выпущенной в почтенной серии «ЖЗЛ». Это Валерий Есипов. Не футболист, как вы подумали, а скорее — иллюзионист. Как раз по ведомству акустической комиссии.
…………………..
Глава седьмая «СМОТРИНЫ»
Истинный драматург показывает нам жизнь средствами искусства, а не искусство средствами жизни.
Оскар УайльдВ российской театральной критике с начала 1990-х годов постоянно высказывалась мысль, что вот-вот должен явиться драматург, который выразит новое время. Он и явился, только не с той стороны, откуда ждали, и критика впала в ступор: им оказался отнюдь не «новодрамовец», а откровенно нелюбимый ею, неудобный и нелицеприятный прозаик и публицист Юрий Поляков. В 1999-м состоялась премьера инсценировки его суперпопулярного романа «Козленок в молоке» в постановке Эдуарда Ливнева на сцене Театра им. Рубена Симонова, а в наши дни пьесы Полякова идут уже от Владикавказа до Владивостока, в одной Москве играют семь его пьес и инсценировок. На аншлагах, удерживаясь в репертуаре десятилетиями, как «Контрольный выстрел» во МХАТе им. М. Горького и «Хомо эректус, или Свинг по-русски» в Театре сатиры. Поляков — первый и пока единственный из современных драматургов удостоился персонального фестиваля «Смотрины», который прошел в ноябре 2015 года, а регулярно выпускаемые сборники его пьес моментально раскупаются, что случается чрезвычайно редко с книгами этого жанра.
Отечественный зритель так и не принял «новую драму», которую усиленно навязывали ему театральные экспериментаторы. И тогда эксперимент, как это всегда бывает в момент идейного кризиса, переметнулся на классику. Появились «новые прочтения» «Чайки», «Дяди Вани» и «Вишневого сада», перелицованный Достоевский, «переосмысленный» Пушкин, а шекспировские пьесы стали разыгрывать, сидя за столом, — по принципу «сядем рядком, поговорим ладком». Должно быть, актерская гениальность в наши дни буквально зашкаливает, если несколько человек, почти не двигаясь и произнося реплики и диалоги себе под нос, несколько часов удерживают внимание театрального зала. Впрочем, дело зрителей решать, какой Шекспир им больше по душе. Возможно, кого-то действительно удерживает в зале уверенность в эксклюзивности происходящего, тем более что каждый знает, чем все закончится, и саспенс с катарсисом играют здесь второстепенную роль.
К счастью для массового зрителя, среди театральных режиссеров немало и таких, кто ищет для своих театров «универсальные» пьесы, которые могут увлечь любую зрительскую аудиторию. И в этом поиске они неизбежно обращаются к драматургии Полякова, пьесы которого второе десятилетие не сходят с больших и малых сцен. На вопрос о том, что привлекает в них более всего, режиссеры отвечают по-разному. Для одних крайне важно, что они выстроены по всем правилам жанра, что отнюдь не характерно для современной драматургии. Для других — что автор виртуозно владеет словом, а поскольку театр общается со зрителем прежде всего посредством слова, ему удается вызвать у зала живые ответные эмоции; третьих привлекает возможность как бы шутя (ведь в пьесах Полякова много юмора, самых разных оттенков) говорить о серьезных вещах, о проблемах, волнующих современное общество — без чего современный театр немыслим.
По сути, появление в отечественном репертуаре пьес Полякова было не просто возникновением нового драматургического имени, а возвращением в русский театр Автора, Писателя, который и был там главным лицом в XIX веке и почти весь XX век.
Вот точка зрения искусствоведа Марии Фоминой, посвятившей драматургии Полякова обширную статью:
«Пьесы Полякова настолько зримо-театральны, настолько диалогичны — и в мастерстве построения «разговоров» персонажей, и в ассоциативном разговоре писателя с его читателем / зрителем — что, по сути, в значительной мере «обречены» на сценический успех. Причем нарастание зрительского сопереживания, равно как и властно забирающее тебя в плен чередование смеха и грусти, веселья и сострадания — не дозируются на каких-то закулисных весах ни автором, ни режиссером, как это порой бывает даже у знаменитых драматургов и постановщиков. Вернее, если эта поверка «алгеброй» художественного расчета «гармонии» целого и присутствует, — то пребывает незаметной, как сплавление мазков в красочном слое у старых мастеров, не превращается в манипулирование сознанием зрителя. <…>
Режиссер, вот уже сто с лишним лет являющийся, как известно, полновластным «хозяином спектакля», в последние годы доминирования постмодернистской трактовки этой его функции — очень часто превращается в соавтора драматурга, а иногда — почти заново сочиняет пьесу (и тут особенно сильно достается классике, создатели которой не могут возразить или обратиться в Страсбургский суд). Мы повсеместно наблюдаем своего рода новый «тотальный театр». На этом фоне, ставшем почти мейнстримом режиссерской практики, по крайней мере, в обеих столицах, бросается в глаза, что постановщики, берущиеся за Полякова, не претендуют на переосмысление его замысла, на «перекодировку». Они, словно сговорившись, отнюдь не перелопачивают пласты смыслов, а стремятся бережно донести до зрителя и сюжет, и мысли, и слова драматурга. <…>
Почему Юрий Поляков — «наш драматург»? Прежде всего потому, что он любит своих героев. Не препарирует их с брезгливой миной постмодернистского экспериментатора, не издевается над ними с людоедской усмешечкой пожирателя стилей и слов. Его персонажи — не гомункулы, выведенные в стерильной лаборатории «актуального» творчества, скорее напоминающей прозекторскую, где и сам демиург-автор давно уже мертв. И еще Поляков — «наш» автор, потому что он продолжает мейнстрим русской словесности. В сжатой формуле этого главного русла — милость к падшим, вера, надежда и любовь. И последняя из них — наиглавнейшая. Именно любовь преображает «отрицательных» поначалу персонажей. Любовью движутся героини Полякова. И пусть поначалу это может быть ревнивое, страстное, себялюбивое чувство. Сквозь очистительный огонь саморазоблачения пройдет эта любовь — и закалится, и преобразится. И только совсем не способные на преображение героини лишаются не только права на любовь, но даже и права на осуществленную корысть, их главную страсть. <…> Поляков-драматург — достойный и почти единственный продолжатель театральной традиции Зощенко и Булгакова. Его женщины грешны и преданы любви — как булгаковская Зоя Пельц. И хотя персонажи его говорят языком сегодняшней улицы, а зачастую и молодежным сленгом, Поляков — очевидный потомок классической линии в русской драматургии. Не потому только, что смеется над общественными язвами, как Гоголь, или умеет подмечать комическое в повседневности, в «трудовых буднях» нашего капитализма с бесчеловечным лицом — почти так, как это удавалось лишь Чехову. Как всегда у Полякова, в игровой и динамичной форме преподносится весьма серьезное социально-психологическое содержание. Но оно — и в этом магия писательского дара — не «грузит» нашего отвыкшего от душевной работы читателя-зрителя, а втягивает, вовлекает в сопереживание. Поистине, сочувствие ему дается как благодать. <…>
В пьесах Полякова, так же, как и у Булгакова, Зощенко или Эрдмана, дух времени схвачен не только через темы разговоров персонажей, но и через сам их язык: нэпмански-мещанский — у отцов-основателей комической социальной драматургии XX века; или через сленг улицы, которая не то чтобы «корчится безъязыкая» — просто создает свои ответы на вызовы природной среды нашего общества тотального потребления (почти по А. Тойнби). Поляков не менее профессионального лингвиста чуток к словесному сору эпохи, но он писатель, поэтому из этого сора у него произрастают цветы «маргинального фольклора» и рождаются его собственные неологизмы… Примеры снова можно умножать и умножать — автор на редкость изобретателен в сочинении идиом для нашей невеликой эпохи.
Что отличает драматурга Юрия Полякова от других современных авторов пьес «из наших дней»? Прежде всего то, что он всегда оставляет своему читателю (и зрителю спектакля) свет в конце тоннеля. Оставляет надежду на духовное преображение своих героев. Щедрый автор изливает на них благодать своего сочувствия, попутно осыпая блестками неподдельного остроумия.
Талант Полякова — очень русский. Автор не презирает человека, не истребляет его. Он, повертев его в руках так и сяк, вдоволь насмеявшись, — жалеет его и дает ему шанс все-таки превратиться из хомо эректус в хомо сапиенс. Он из тех добрых писателей, которые стремятся к катарсическому финалу. Удушливый чад антикатарсиса, тянущий читателя-зрителя в демоническое озлобление и даже отчаяние, глубинно чужд его душевно-чувственному складу».
Сам Юрий Поляков в начале творческого пути и не предполагал, что когда-либо займется драматургией, а опыт инсценировок первых повестей привел к тому, что он чуть ли не зарекся сотрудничать с театром. Хотя если внимательно читать его интервью и мемуарные заметки, становится очевиден его давний интерес к литературе для театра, а в юности его настольными книгами были пьесы Бернарда Шоу, Оскара Уайльда, Леонида Андреева, Скриба, Булгакова…
Лет десять назад по каналу «Культура» прошел цикл интервью с видными российскими писателями. Ведущий цикла Николай Александров с нескрываемой иронией слушал рассказ Полякова о его страстном юношеском увлечении пьесами Уайльда и Шоу. Отметим, что следы этого давнего увлечения, наряду с глубоким прочтением Чехова, Горького, Островского, Гоголя, Булгакова, явно прослеживаются в драматических работах гротескного реалиста.
О своем сложном романе с театром Поляков рассказывает в эссе «Драмы прозаика».
…………………..
В пору литературной молодости пьес я не писал. Даже не помышлял об этом. Драматурги казались мне небожителями. Я, начинающий поэт, забежав в ЦДЛ выпить пива, видел, как с антресолей Московской писательской организации величаво спускался председатель объединения драматургов Алексей Арбузов. И все вокруг шептали: «Смотрите — Арбузов!» Приезжал на белом «мерседесе», невероятном в Москве 70-х (второй такой имелся, кажется, только у Высоцкого), Михаил Шатров — автор пьес о Ленине. Лицо у него всегда было хмуро-брезгливое, словно он, озираясь, не мог смириться с тем, во что превратил великие замыслы Ильича наш неудачный народ. Совсем другое впечатление производил Виктор Розов, напоминавший доброго, лысого детского доктора, но и он был небожителем. Сама мысль сесть и сочинить пьесу казалась мне таким же странным намерением, как желание написать, скажем, конституцию. Написать-то можно, но какая страна захочет жить по твоей конституции? Точно так же не было надежды, что лохматый режиссер перенесет твои фантазии на сцену, люди с высшим актерским образованием выучат и будут декламировать твои диалоги, а художник измалюет краской пол сотни квадратных метров холстины, чтобы отобразить коротенькую ремарку:
«Нескучный сад. Входит Петр. Анфиса сидит на скамейке. Листопад».
Остальное, казалось, вообще из области фантастики: купив заранее билеты, зал заполнят зрители и будут смеяться, плакать, хлопать, а в конце заорут: «Автора!» Тогда я в новом костюме выйду к рампе, поклонюсь и умру от счастья — в театре, как и завещал великий Белинский.
Но жизнь любит сюрпризы. Нет, не я пришел в драматургию, она пришла ко мне. Пьесами, точнее сказать, инсценировками обернулись мои «перестроечные» повести «ЧП районного масштаба», «Сто дней до приказа», «Работа над ошибками», «Апофе-гей». Это случалось как-то само собой: звонили из театра, спрашивали согласия (видимо, бывают странные прозаики, которые возражают против инсценировок!), а потом приглашали уже на премьеру. Именно так случилось с «Работой над ошибками», поставленной в 1987-м в Ленинградском ТЮЗе Станиславом Митиным. Спектакль шел на аншлагах, вызывая бурные споры учащихся и учительствовавших зрителей. Я участвовал в этих диспутах, нес прекраснодушный перестроечный бред и очень удивлялся, что у мудрых пожилых педагогов есть сомнения в конечной цели начавшегося ускорения. Станислав Митин впоследствии перебрался в Москву, стал кинорежиссером и через четверть века поставил фильм «Апофегей» с Марией Мироновой, Даниилом Страховым и Виктором Сухоруковым в главных ролях.
Впрочем, случались ситуации и позамысловатее. Так, первым инсценировать мою нашумевшую повесть «ЧП районного масштаба» вызвался Марк Розовский в своей студии. Он взял с меня честное слово, что я больше никому не отдамся, и надолго исчез. А тут вдруг с лестным предложением позвонил сам Олег Табаков, он как раз открыл свою «Табакерку» и искал что-нибудь остросовременное. Острее «ЧП» тогда, в 1985-м, скажу без ложной скромности, ничего не было. Кстати, Олег Табаков и поныне любит все радикально новое, а точнее сказать, все то, к чему привешен яркий ярлык «новая коллекция». Однако настоящая новизна в театре — вещь редкая. Зато эрзац-новизной часто пытаются подменить мастерство. Но искусство, как нож, нельзя вострить до бесконечности, лезвие однажды бесследно сточится, что мы и наблюдаем.
Верный данному слову, я бросился разыскивать Розовского и обнаружил его в писательском парткоме. Он платил взносы. Если когда-нибудь в Отечестве налоги будут платить так же аккуратно, как сдавали в свое время партийные взносы, страна накренится от изобилия. Помявшись, Розовский сознался, что горком ВЛКСМ одарил его театр-студию списанными креслами и теперь ему неловко ставить что-то критическое о комсомоле. Сколько лет прошло, а отношение нашей либеральной интеллигенции к государству осталось тем же: вообще-то мы власть в принципе нелюбим, но, если нам подарят просиженные кресла, потерпим.
В результате первым спектаклем «Табакерки» стало «Кресло» — сценическая версия «ЧП районного масштаба». Кстати, именно тогда мне впервые пришлось столкнуться с коварством театра как системы. Прочитав инсценировку, я горячо возразил против некоторых мест, искажавших, на мой взгляд, повесть. Ведь я-то хотел улучшить советскую систему, комсомол, в частности. А мои сценические интерпретаторы мечтали сломать ее и развеять по ветру. Автор инсценировки жарко со мной согласился и обещал все исправить. Надо ли объяснять, что ни одно мое пожелание учтено не было. Это я и обнаружил, сидя на премьере и хлопая больше глазами, нежели ладошами. Вспомнив о гоголевских наставлениях господам актерам, я после премьеры простодушно объяснился с исполнителями. Кстати, в спектакле играли юная, еще не заавгустевшая Марина Зудина, заслуженный «доброволец» Петр Щербаков, Игорь Нефедов, который перевоплощался в за вор га Чеснокова с таким веселым азартом, что невозможно было помыслить о скором самоубийстве молодого таланта. Они слушали мои глупые, как я теперь понимаю, наставления, кивали и смотрели на меня с изнуренным недоумением. Позже мне стало ясно: автор в театре беззащитен, как прохожий в зоне антитеррористической операции.
Но эти первые огорчения оказались пустяком в сравнении с тем, что ждало меня в Ленинграде. «ЧП» задумали поставить в Александринке. Впервые попав в золоченый зал, мало отличающийся от Большого театра, я испытал чувство неловкости: «Неужели моя простая история об украденном комсомольском знамени будет сыграна здесь, среди этой имперской роскоши? Не может быть…» Но меня успокоили: на этой сцене и комбайны рожь косили, и бойцы строем ходили, и вредителей обезвреживали… Худрук Александринки знаменитый Игорь Олегович Горбачев пригласил на постановку молодую режиссерскую даму, искрившую буйными идеями, которые происходят от не перебродившего в голове вузовского курса истории театра. Начать она решила со сцены штурма графского дома революционными матросами, хотя в повести лишь кратко сообщалось, что райком помещался в старинном особняке. Но театр был академический — и средств не пожалели: революционные толпы бурлили на многометровом заднике-экране. Сейчас этот «кинотеатр» стал обычным делом, даже смешно: зачем живого актера заменять проекцией? Но тогда — в середине восьмидесятых… Прорыв!
Мне тоже пришлось попотеть: год я буквально жил в «Красной стреле», переписывал сцены, переделывал диалоги, придумывал репризы, млел на репетициях: режиссерская дама иногда выпрыгивала из-за пульта, перемахивала оркестровую яму и показывала актерам, как надо играть тот или иной эпизод. Они слушали ее с плохо скрываемой иронией, так усатые фронтовики слушают не бреющегося лейтенанта. Опытный драматург сразу бы догадался: спектакль обречен, по крайней мере с этой постановщицей. Но я был новичком и ничего не подозревал, хотя сидевший на репетициях Игорь Олегович Горбачев вздыхал, становясь все угрюмее. Однажды, когда на сцене два актера изображали воспитательный спор первого секретаря со злоумышленником, он вдруг тихо меня спросил: «Юра, как вы думаете, кто из них выше?» — «В каком смысле?» — «Ну, в ком росту больше?» — «В нем!» — указал я на молодого актера. «А вот и нет. Он на десять сантиметров ниже, а кажется высоким, потому что талантливей. Это театр…»
И вот в Ленинграде расклеены афиши. Иду по Невскому проспекту, останавливаюсь около тумб и читаю:
«Юрий Поляков
«ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА».
Премьера».
Спешащие мимо бледнолицые северные красотки не подозревают, что могут запросто познакомиться с видным драматургом средних лет и попасть на премьеру по авторской контрамарке. Однако премьера отменилась: из обкома КПСС поступило мнение: «Не надо!» На «Ленфильме» Сергей Снежкин как раз начал снимать одноименное кино, и руководство решило: для колыбели революции двух «ЧП» многовато. Тогда я, конечно, почувствовал себя жертвой врагов перестройки, засевших в Смольном, но теперь думаю иначе: Горбачев (не Михаил Сергеевич, потихоньку сдававший страну, а Игорь Олегович) мог одним своим авторитетным словом спасти постановку, но не спас. Почему? Да уж больно слабый получился спектакль. Требовательное поколение! Так мне и не довелось выйти на поклон перед многоярусным зрителем Александринки.
Узнав об отмене премьеры «ЧП», я, конечно, закручинился, жалея напрасно потраченное время. И тут в «Юности» вышла моя повесть «Апофегей», имевшая бурный успех. Мне позвонил обаятельный завлит Театра имени Маяковского с пушкинской фамилией Дубровский. Он сообщил с сакральным придыханием:
— Вас хочет видеть Андрей Александрович Гончаров. Лично!
Я помчался и познакомился с этим замечательным режиссером, похожим на орла, поседелого в комфортабельной неволе. Гончаров объявил, что влюблен в мою повесть и непременно поставит «Апофегей» на сцене Маяковки, но… Это «но», облагороженное рассуждениями о тонкостях эстетического сопряжения прозы и сценического действа, сводилось, как мне стало со временем понятно, к одному: в повести слишком уж ехидно изображены партработники, а они ведь тоже люди! Далее без малого два года я приносил один вариант за другим, и каждый, по словам завлита с пушкинской фамилией, оказывался лучше предыдущего, но… И мне приходилось снова дорабатывать текст, постепенно накапливая в душе яд «антисценизма» или «театрофобии». Это уж кому как нравится.
Но тут грянул август 91-го. Еще не успели отликовать победившие демократы — совсем недавно они так же радовались, получив отпуск из СССР на ПМЖ за границу. Едва сойдя с самолета, я бросился в Театр имени Маяковского к своим мучителям: мол, теперь-то можно все-все-все! И снова услышал «но». Только на сей раз сквозь умные рассуждения о сценическом инобытии прозаического образа сквозили иные печали и опасение: а не слишком ли мягко изображены в «Апофегее» номенклатурные монстры? Мы с ними, как с людьми… А ведь, в сущности, партия — преступная организация. Говорят, будет даже суд над KflSS. Опытные люди уже готовятся: один главный режиссер перед телекамерами сжег свой партбилет, правда не настоящий, а дубликат, предусмотрительно сработанный в бутафорском цеху. В общем, я понял: Гончаров, конечно, — великий режиссер но с веком-волкодавом предпочитает не ссориться. Призрак горкомовских кресел всплыл в моем сознании, и я поклялся никогда больше близко не подходить к театру. Разумеется, в качестве автора. <…>
Никогда не говори «никогда». После выхода в 1996-м моего романа-эпиграммы «Козленок в молоке» мне позвонил Вячеслав Шалевич и завел речь о постановке в Театре имени Рубена Симонова, что на Старом Арбате. Писать инсценировку, помня бездарно потраченные силы, я отказался, и ее поручили профессиональной драматургессе — даме с голосом проснувшейся девочки. Но она выдала такую беззатейную халтуру, что пришлось садиться и переписывать, а точнее, сочинять пьесу по мотивам собственного романа. Итак, несмотря на зарок, мне довелось снова стать драматургом. Эдуард Ливнев доработал текст и поставил блестящий спектакль, который шел в театре 17 сезонов, и всегда при переполненном зале. Актер Игорь Воробьев, игравший Акашина, стал на Арбате легендарной личностью: завидев его, говорили: «Вон, Витек пошел!» Несколько лет главную мужскую роль исполнял Игорь Гаркалин, а спектакль играли в огромных, тысячных залах.
…………………..
(В скобках заметим, что спектакль «Козленок в молоке» был снят из репертуара в связи с реорганизацией, в результате которой Театр им. Рубена Симонова перешел в федеральное подчинение, став частью Театра им. Вахтангова. Вместе с Театром им. Симонова самоликвидировалась и успешная постановка, на которой в буквальном смысле слова побывала вся театральная Москва: художественный руководитель Римас Туминас на большую вахтанговскую сцену «Козла» — как любовно прозвали свой спектакль актеры — не допустил, и нам остается лишь гадать, почему. Впрочем, современную русскую драматургию в этом театре вообще не ставят. Не исключено, что при решении судьбы спектакля сыграла роль обида: в книге «Левиафан и Либерафан: Детектор патриотизма» Поляков весьма критично отозвался о его постановке «Евгения Онегина», справедливо усмотрев в ней плохо закамуфлированную русофобию: «…Как примирить право художника на самовыражение с правом людей не страдать, попав в информационно-культурное пространство, засоренное отходами фобий, галлюцинаций и умопомрачений? Не включать телевизор, не ходить в театр? Тогда давайте и голодать, ведь в колбасе попадаются крысиные хвостики! Лично я не хочу, чтобы мой внук, придя на «Евгения Онегина», скажем, в Театр имени Вахтангова, увидел, как актер, декламируя: «Татьяна, русская душою», указывает пальцем на свой замещающий жезл. Видимо, господин Туминас полагает, что русская душа расположена не там, где литовская».)
Как выясняется, драматурги — люди зависимые: их благополучие зависит от режиссеров. Но Поляков-публицист отмалчиваться не может, да и не считает нужным. Он много говорит о современном театре и театральных деятелях, говорит резко и нелицеприятно — то, что думает:
«…Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок широко обнародовал свое интервью «Театр — территория компромисса». По приторной журналистской подобострастности оно похоже на рекламу недобросовестного застройщика. Интервью роскошно проиллюстрировано глянцевыми портретами токующего театрального «начпупса», не хватает лишь снимка, где Кирилл Владимирович стоит между Станиславским и Немировичем-Данченко… В общем, как писали классики: «Остапа понесло!» И я бы даже не обратил внимания на это глупейшее утверждение, что «театр — территория компромисса» (проезжая часть, между прочим, тоже), ведь для меня-то театр по-прежнему — кафедра. Однако г-н Крок позволил себе хамский пассаж, касающийся меня лично:
Скажите, а что это за история с мнением экспертов Российского научно-исследовательского института, которые, изучив постановки пушкинских произведений, обвинили Римаса Владимировича Туминаса в нелюбви к России?
— Человек, который начал войну с нашим театром, — небезызвестный автор Юрий Поляков. В его собственных пьесах немало пикантных ситуаций, более чем смелых реплик, сюжетные повороты, обстоятельства на грани приличия. Мне лично кажется, он сам является аморальным типом, но пытается нас учить морали… Комиссией из трех человек мы отсмотрели все спектакли этого театра. «Козленок» хорошо воспринимался 25 лет назад, так как являл собой политическую сатиру на перестройку. С позиции сегодняшнего дня это скорее пошлый архаизм. Поэтому мы от него отказались. После этого Юрий Поляков на федеральном канале заявил, что в постановке Туминаса «Евгений Онегин» Татьяна, читая знаменитый пушкинский монолог про русскую душу, показывает пальцем на причинное место… Увы, мы не привыкли радоваться за коллег… Легче поливать их грязью и рассказывать небылицы».
Главная небылица г-на Крока заключена в том, что он перевернул причинно-следственные связи. Мол, обидели драматурга, он и наехал на театр. На самом же деле все было с точностью до наоборот, и получается: «гражданин Крок соврамши». Зачем? А чтобы не оправдываться, точнее, не отвечать на вполне определенную критику. Года два назад я написал примерно следующее: может ли современная Россия не интересовать выдающегося литовского режиссера Римаса Туминаса, гражданина страны, пребывающей с нашим Отечеством в непростых геополитических отношениях? Вполне. Он имеет на это право. Имеем ли мы, граждане РФ, право удивляться тому, что наша жизнь по барабану худруку русского государственного академического театра Римасу Туминасу? Тоже имеем право. Более того, мы имеем право такое отношение к нам расценить как профессиональную непригодность. Разумеется, с нашей, российской точки зрения. Кстати, русского режиссера, который, чудом возглавив в Вильнюсе театр, игнорировал бы чаяния современной Литвы, просто выслали бы на родину бандеролью. Понятно, мэтр Туминас обиделся, но негоже небожителю и гражданину Евросоюза полемизировать с каким-то там смертным русским писателем. А устарел ли «Козленок», можно узнать у зрителей Хабаровского театра, где Эдуард Ливнев поставил эту инсценировку весной 2015-го…»
Но вернемся в 1999 год, когда в Театре им. Рубена Симонова, еще не поглощенном Кроком, триумфально прошла премьера «Козленка…».
…………………..
Но и это радостное событие (успешная постановка «Козленка…». — 0. Я.) вряд ли заставило бы меня всерьез заняться сочинением пьес, если бы я, как всякий нормальный человек, не ходил в театр. А что я мог там увидеть? Чаще всего — новаторски оскверненный труп классики. Как-то мы с женой отправились на «Трех сестер» и узнали, что Соленый застрелил своего любовника Тузенбаха за то, что изменщик решил жениться на «натурал-ке». Ей-богу!
В солидном театре можно было налететь на современную драму про обитателей городской помойки, которые, матерясь, мечутся между промискуитетом, вечностью и наркотой. Сплошь и рядом шли прокисшие антисоветские капустники в духе Коляды. В лучшем случае давали импортную комедию, очень смешную, но ее содержание намертво забывалось в тот момент, когда гардеробщица с моим номерком шла к вешалке, с которой начинается театр.
Непостижимо, но российский театр словно и не заметил жуткую социально-нравственную катастрофу, потрясшую Россию в 1990-е. Он прошел мимо, «не повернув головы кочан», как сытый банковский клерк проходит мимо побирающегося ветерана. Это нежелание признавать центральный конфликт эпохи — между обманувшими и обманутыми — фантастически нетипично для нашего театра. Всегда, и при самодержавном присмотре, и в самые подцензурные советские годы реальные, а не фантомные боли общества прорывались на подмостки. А ныне… Куда девалась, скажем, сатирическая комедия, жанр, уцелевший даже в 1930-е и словно специально предназначенный для нашего гомерически нечестного времени? Неужели спонсоры оказались страшнее следователей НКВД? Эту мину брезгливого равнодушия к реальности, въевшуюся в лицо отечественной Мельпомены, нельзя было прикрыть никакими «золотыми масками», канонизировать никакими госпремиями и триумфами. Самое грустное — что произошло это в годы, когда власть в кои-то веки дала российскому театру «вольную». Впрочем, в результате все оказались как бы «временно обязанными». Может, именно в этом суть проблемы? Конечно-конечно, были исключения, были настоящие, честные пьесы и блестящие режиссерские работы. Но я — о тенденции. Судьбы русского театра мы еще коснемся.
И тогда я решил попробовать сочинить пьесу, такую, какую сам как зритель хотел бы увидеть на сцене. Современную комедию. Так в 1997-м появилась «Левая грудь Афродиты». Но ее ждала странная судьба. Не успел я показать пьесу театрам, как кинорежиссер Александр Павловский попросил почитать и… немедленно снял по ней двухсерийный телефильм с Ларисой Шахворостовой, Сергеем Маховиковым и Андреем Анкудиновым. Ленту показали по телевизору и «засветили» сюжет. Лишь несколько театров потом поставили пьесу, так сказать, «испорченную» коварным кинематографом. Но, думаю, театры к ней еще вернутся. Подождем.
Тем временем я задумал новый сюжет — «Халам-бунду»… Но тут Станислав Говорухин, закончив работу над фильмом «Ворошиловский стрелок», где я прописывал диалоги, сказал мне: «Давай напишем пьесу! Ульянов очень просит. Жалуется: ставить нечего, один мат, чернуха и совокупления при отягчающих обстоятельствах…» Я согласился и предложил оттолкнуться от моих набросков к «Халам-бунду»: конфликт «старых советских» с «новыми русскими». «Отлично! — кивнул Говорухин. — Старая советская квартира, орденоносный дед, никчемные дети, мятущаяся внучка, за которой ухлестывает нахрапистый бизнесмен. Но остальное надо придумывать заново!» Придумали. В моем архиве хранится первый вариант «Смотрин» с роскошно-нецензурными замечаниями Говорухина. Пьесу закончили в 2000 году и отдали, как договаривались, в Театр имени Вахтангова. Прочитав, Михаил Александрович грустно молвил: «Слишком остро. Меня не поймут…» — и показал в сторону Кремля, где досиживал последние месяцы всенародно избранный дирижер немецкого оркестра. Да, экранный Ульянов, будучи Жуковым, не боялся даже Сталина! Впрочем, мне и потом приходилось сталкиваться с актерами, чей экранный образ отличался от жизненной позиции, как шахид от хасида. «Подумаешь! — хмыкнул Говорухин. — В Москве театров до хрена, академические сосчитать — пальцев не хватит!» Он предлагал наш горький плод другим, показывал своим влиятельным друзьям, реакция везде была примерно одинаковая: «Стасик, нуты уж совсем!» Один замахал руками: «Ты с ума сошел! У меня эти Корзубы (отрицательный герой в «Смотринах») на лучших местах сидят, а вы его мерзавцем изобразили! Не поймут. Обидятся…»
В конце концов пьесу взяла Татьяна Васильевна Доронина. Социальная жесткость и горькая ирония ее не смутили, а, напротив, вдохновили. Правда, по поводу Корзуба она заметила: «Какой-то он получился симпатичный. А ведь это же конченый мерзавец!» Я согласился, но оставил все как есть. Спектакль ставил сам Говорухин. Это была его первая в жизни сценическая работа, и протекала она в бодрящем конфликте с руководством театра. Будучи председателем комитета по культуре Госдумы, он иной раз срочно уезжал на заседание и приказывал мне: «Репетируй без меня!» — «Я?! Как?.. Я же не умею!» — «А что тут уметь? Ори на актеров и говори, что Станиславский их вообще убил бы!» В канун премьеры все нервничали. Татьяна Васильевна предсказывала полный провал, намекая на то, что служение сразу двум богам (Театру и Политике) до добра не доводит. Заразившись сомнениями, Говорухин потребовал придумать интригующее название, чтобы зритель валом повалил. Напоминаю: дело было в 2001-м, когда интерес к театру после варваризации 1990-х только восстанавливался. Я предложил назвать спектакль «К нам едет олигарх!». — «Неплохо, но думай еще!» — был ответ. Я напрягся и родил «Контрольный выстрел». Так назывался в пьесе роман, сочиненный филологической старушкой, зарабатывавшей этим на жизнь для всей обнищавшей семьи. «Пойдет!» — кивнул мэтр.
Есть два типа режиссеров. Первые (Говорухин из них) знают, чего хотят от писателя. Они будут ругаться, отвергать предложенное, стыдить, унижать, грозить разрывом и возвратом аванса, но как только ты выдашь требуемое, они, в зависимости от характера, тебя обнимут, поведут в ресторан или скупо похвалят, чтобы не избаловать «писарчука». А вот ко второму типу относятся те режиссеры, которые не знают, чего хотят. С авторами они обращаются как недееспособные мужчины с женщинами, требуя от несчастных чего-то невероятного, что вернет силы и способность к любви. С такими лучше не связываться. Результат всегда один: измочаленные нервы и выпотрошенное подсознание, а на выходе то же самое, что и на входе.
После генерального прогона Станислав Сергеевич закурил трубку и сказал: «Поляков, мы с тобой два м…ка, я старый, а ты молодой!» — «Почему?» — удивился я. «У нас нет концовки, коды. Удара под занавес нет!» Всю ночь я ворочался, перебирая варианты, а под утро понял: в квартиру должен войти телохранитель олигарха и сказать: «Господа, машины поданы. Спускайтесь! Босс ждать не любит!» Это и есть — контрольный выстрел. Не случайно первый исполнитель роли академика Кораблева народный артист Николай Пеньков всегда добавлял от себя: «Вот вам и контрольный выстрел. В лоб!» Хотя в тексте «лба» в помине не было. А какой замечательной бабушкой-писательницей, сочинявшей под псевдонимом Ричард Баранов (потому что все читатели — козлы), была народная артистка Луиза Кошукова! Когда она говорила: «Напьемся до синих зайцев!» — зрители падали под кресла. Талант актера в чарующем преувеличении. Талантливый актер не только кажется выше ростом, но и выше, значительнее кажутся произносимые им слова. Однако как только драматург начинает писать в расчете на это «преувеличение», получается халтура.
Премьеру приняли на ура. «Интересно, она слышит эти овации?» — спросил ворчливо Говорухин. «О да! У Татьяны Васильевны в кабинете радиотрансляция!» — с трепетом ответила завлит. Но Доронина сидела в глубине директорской ложи и загадочно улыбалась. Не только у Говорухина были методы выдавливания из соавтора результатов, у художественного руководителя тоже имелись свои хитрости, чтобы постановщика, утомленного общественной деятельностью, «завести», подвигнув на художественный рекорд. Так и вышло: вот уже пятнадцатый сезон во МХАТе имени Горького играют «Контрольный выстрел», а любой спектакль идет, пока на него идет зритель. В марте 2015 года давали благотворительный «Выстрел» в поддержку Крыма, возвращенного в Россию. На сцену вышел подводник Леша и стал рассказывать, как непросто служится в Севастополе, как власть бросила ржаветь Черноморский флот, как даже русских книг не стало на незалежной Украине, а «только про то, какие все москали — сволочи»… И зал, встав, зааплодировал. «А я-то думал, все это давно устарело! — повернулся ко мне Говорухин. — Хорошо мы тогда с тобой написали!»
(«Драмы прозаика»)…………………..
(Заметим, что одна из немногих либеральных рецензий на этот спектакль называлась «Зоологический реализм»: уже в одном заголовке содержалась попытка перечеркнуть творческие усилия драматурга, режиссера и театра и продемонстрировать неприязнь к спектаклю, который только потому задержался на мхатовской сцене, что, в отличие от многих тогдашних постановок, объединяет зрителей живыми чувствами и эмоциями. Но больше всего раздражали авторов подобных рецензий полные залы и неподдельный интерес зрителей к пьесам гротескного реалиста: это не вписывалось в представления критиков о том, какой драматург, с какими общественными и эстетическими взглядами, должен стать новым властителем дум. Да, Поляков явился не оттуда, откуда ждали. «Да при чем здесь, что он пишет! — воскликнул в одной из сетей театральный критик Григорий Заславский. — Он мне вообще не нравится!» На что Поляков ответил ему там же, что ни пол, ни национальность, ни свои взгляды, чтобы понравиться Заславскому, он изменить, увы, не может.)
…………………..
Окрыленный и кое-что понявший во время репетиций «Контрольного выстрела», я досочинил комедию «Халам-бунду» и показал Вячеславу Шалевичу, а он предложил ее продюсеру Юлию Малакянцу. Был приглашен режиссер Сергей Кутасов, и вышла роскошная антреприза с участием Сергея Никоненко, Кати Климовой, Дмитрия Харатьяна… Играли спектакль в больших залах, например в Центре на Яузе — бывшем Телевизионном театре. Как-то с друзьями мы сидели в ложе, и я, млея от авторского восторга, шептал: «Погодите, то ли еще будет во втором акте!» А во втором акте бесследно исчез один из персонажей — Костя, отец главной героини. Его текст актеры поделили по-братски, отчего на сцене начался антисюжетный ужас. Я ждал, когда зрители начнут свистеть как на стадионе, если мазила-нападающий бьет мимо пустых ворот. Но зал, включая моих друзей, с интересом наблюдал за происходящим на сцене, хохоча над репризами. Едва сошелся занавес, я помчался в гримерку, чтобы устроить скандал, и узнал: исполнителя роли Кости в антракте увезли с сердечным приступом. Выбор невелик: выйти к публике, извиниться — или доигрывать как ни в чем не бывало. Они выбрали второе. Я понял и побежал в магазин за выпивкой — снять общий стресс.
Дальнейшая судьба этой антрепризы печальна и показывает, насколько хрупка судьба любой постановки. Это тебе не кино: снял, нашлепал копий — и крути до одури. Один из основных исполнителей страдал запоями, недугом более характерным для писателей, но встречающимся и среди актеров. Когда в третий раз он сорвал гастроли и обрек продюсера на серьезные убытки, проект прогорел и закрылся. Но пьеса вскоре была поставлена во МХАТе имени Горького все тем же Сергеем Кутасовым. В спектакле блистал народный артист Михаил Кабанов, игравший предводителя районного дворянства Лукошкина. Он загримировался под Никиту Михалкова, надел широкополую шляпу и говорил неповторимым амвонным тенорком Никиты Сергеевича. Едва Кабанов-Михалков появлялся на сцене и произносил несколько слов, зал заходился от хохота.
Пьеса «Халам-бунду» по сей день широко идет в России и СНГ. Посещая премьеры, я невольно исполнил наказ Гоголя — «проездился по России». Я увидел множество постановок, хороших и разных. Но одна запомнилась особенно. Художественная руководительница, встретив меня у поезда, таинственно шепнула: «Юрий Михайлович, мы приготовили вам сюрприз!» Весь спектакль я томился в ожидании. «Сейчас, сейчас!» — интимно шептала мне худрукиня в темноте директорской ложи. Наконец сыграли предпоследнюю сцену. Многообещающе опустился занавес. «Что же они такое придумали? — гадал я. — Наверное, что-то фантастическое, если так долго меняют декорации. Может, саванну сооружают?» Занавес открылся, и актеры вышли на поклон. Последняя сцена, где молодые герои сливаются в пылком «халам-бунду», была просто выброшена. Сюрприз! «Ведь правда же так лучше?» — спросила худрукиня голосом женщины, сделавшей новую прическу. Я только вздохнул в ответ, ибо к тому времени понял: спорить с режиссером — как спорить с инспектором ГАИ. Прав тот, у кого полосатый жезл, а в театральном деле жезл всегда у постановщика. Но об этом мы еще поговорим…
На премьере «Халам-бунду» я познакомился с Александром Ширвиндтом. Он предложил мне написать что-нибудь для Театра сатиры, и через год я принес ему «Хомо эректус, или Свинг по-русски». Пьеса его озадачила, но понравилась. Стали искать режиссера, кандидатуры появлялись и отпадали. Наконец сговорились с худруком окраинного московского театра. Сделали распределение. Но случилось невероятное: заслуженный артист, который должен был играть диссидента, ставшего депутатом-жуликом, отказался от роли по идейным мотивам, мол, пьеса — клевета на светлые идеалы демократии. Вообще, такие слова в устах актера звучат примерно, как рассуждения боксера о бесценности каждой клетки головного мозга. К идейно возбудившемуся артисту примкнули другие предполагаемые исполнители. Стало ясно: детей просцениума кто-то накрутил. Они обратились к Ширвиндту с петицией: пьеса Полякова не в демократических традициях театра. В общем, бунт на корабле.
Ширвиндт железной рукой подавил мятеж, сделал новое распределение, и состав получился звездный: Валентина Шарыкина, Алена Яковлева, Юрий Васильев, Олег Вавилов, Светлана Рябова. Но тут, озаботясь своей либеральной репутацией, отказался от постановки окраинный режиссер. Поговаривали, Минкульт (им тогда руководил мой давний соратник по бюро Краснопресненского райкома ВЛКСМ) обещал ему взамен финансовое вливание. Я к тому времени пришел в «ЛГ» и за позицию главного редактора расплачивался как драматург. Но об этом ниже. Итак, пьеса зависла на два года, первоначальный азарт стал угасать, а в театре, как и в любви, отложенное желание ни к чему хорошему не ведет. Руководство при встрече улыбалось мне все шире, но в глаза смотрело все реже: верный признак агонии проекта. Предполагаемые постановщики время от времени появлялись, но, обнюхав материал, убегали в норки.
Напоследок позвали Андрея Житинкина. Он взялся за дело решительно и быстро сбил пьесу в мощный спектакль. В отличие от Говорухина, заставлявшего сидеть на репетициях, Житинкин лишь позволил мне прочитать пьесу актерам. После читки ко мне подошла интеллигентная девушка, похожая на тихую мученицу сольфеджио, и прошелестела: «Мне поручена роль Кси. Проститутки… (Она покраснела.) Но в этом образе мне не все понятно…» — «Еще бы!» — подумал я в тоске, а потом навел справки: ко мне подходила Елена Подкаминская. Она недавно в труппе, ученица Ширвиндта, он возлагает на нее большие надежды. Катастрофа! В следующий раз я увидел актеров только на показе «для пап и мам». Особенно мне понравилась Кси, зажигавшая зал своим простодушным бесстыдством. Я склонился к Андрею и шепнул благодарно: «Молодец что заменил Подкаминскую! Новая — что надо! Как ее фамилия?» «Подкаминская», — был ответ.
На заседании художественного совета, принимавшего спектакль, Ольга Аросева сказала:
— «Хомо эректус» — сатира, которую мы ждали в театре почти двадцать лет. Мечтали о такой сатире. Мы так долго ждали, что сразу и не поняли, что это она! Чуть не упустили такой материал…
Кстати, ничего странного тут нет. Сатиру часто принимают за клевету, а клевету, наоборот, за сатиру. А то, что мой совсем не развлекательный «Эректус» собирает зрителей не меньше, чем коммерческий «Слишком женатый таксист» Рея Куни, идущий на той же сцене, подтверждает известный факт: современникам нужна современность! На сегодняшний день сыграно 300 спектаклей. Покажите мне хоть одну «новодрамовскую» пьесу с такой судьбой! Не покажете! Кстати, много лет спустя я случайно перемолвился с одним из участников бунта на корабле, назовем его «Ф». «Что же вас так тогда смутило? — спросил я. — «Совесть русской интеллигенции» пришел на свинг со студенткой, которая приторговывает собой. Разве в жизни такого не бывает? Я же видел вас в постмодернистской чернухе. Вы там такое вытворяете, что можно смело писать в афише: детям до 30 лет не рекомендуется!» — «Э-э! — махнул рукой «Ф». — Там-то все понарошку, а у вас по-настоящему!» Он невольно сформулировал коренное отличие постмодерна от реализма.
(«Драмы прозаика»)…………………..
(Кстати об оценках. Литературовед и литературный критик Юрий Архипов называет «Хомо эректус» «одной из самых успешных пьес современного театрального репертуара», ничуть не уступающей «Зойкиной квартире» или «Багровому острову» Булгакова. Пьеса живет жизнью, характерной для классического репертуара: 15 лет назад она еще была непосредственным откликом на процессы, происходившие в обществе, и воспринималась как остро актуальная (недаром так неоднозначно приняли ее в театре). Ну а сегодня ее персонажи обретают исторические черты, не теряя при этом связи с современностью. В последнее время пьеса, ставшая классикой нулевых, обрела второе дыхание. Постановка Геннадия Шапошникова в Иркутском драматическом театре (2015) стала ярчайшим событием культурной жизни города.)
…………………..
Для Театра сатиры я написал еще пьесу «Женщины без границ», которую поставил сам Ширвиндт и где играли Светлана Рябова, Зиновий Высоковский… Идет она и в других театрах, но с трудом. Видно, опять виноват мой реализм. Зато ее любят ставить за границей — в США, Австралии, Венгрии, Болгарии… В этой пьесе, рассказывая о запутанной личной жизни нашей современницы, я довольно деликатно затронул лесбийскую тему, изъезженную постмодернизмом вдоль, поперек и наискосок. Но, видимо, слово, идущее от жизни, а не от литературной игры, воздействует на людей значительно сильнее. И то, что у Виктюка — лишь изыск, у меня — культурный шок. Худрук одного театра, расположенного в казачьей области, сказал мне: «Эх, как же мне нравятся ваши «Женщины без границ»! А поставить не могу. Народ у нас строгий, правильный. Могут и нагайками выпороть!» Совсем недавно «Женщин» по-новому прочитал в театре «Модернъ» режиссер Олег Царев — и народ повалил валом. <…>
Сюжет «Одноклассницы» я таскал в голове лет десять. Впрочем, ничего особо оригинального я не придумал. «Традиционный сбор» Розова?» — спросил кто-то, прочтя пьесу и намекая на преемственность темы. «Нет, — ответил я. — «Двадцать лет спустя» Дюма-отца». И это нормально. Как говорится, плоха та песня, которая не похожа ни на какую песню. Новое — это понятое старое. Собрать десятиклассников 1961 года в 1984-м, когда им стукнуло сорок, и собрать выпускников 1984 года в 2007-м — не одно и то же. Да, в обоих случаях прошла целая жизнь. Но в первом варианте она уместилась в благословенном застое, а во втором — совпала с жестокой, революционной ломкой мироустройства. Выпускник 1961-го не мог стать олигархом, а выпускник 1984-го — мог. Это было поколение, угодившее в эпоху глобальной перемены участи, и мне захотелось собрать их вместе, чтобы они поглядели друг на друга, а зритель — на них. Но у меня не было того, что называется «ходом». Ну встретились, ну поохали, как изменилась жизнь и они вместе с нею… А дальше? Достоевскому в поисках сюжетных поворотов помогали газетные разделы судебной хроники. Мне помог телевизор. Я увидел сюжет о несчастном генерале Романове, взорванном в Чечне и потерявшем почти все человеческие свойства, кроме обмена веществ. Так в пьесе появился Иван Костромитин, любимец класса, умница, смельчак, воин-интернационалист, раненный в Афганистане и ставший «теловеком», как с пьяным прямодушием назвал его спившийся поэт Федя Строчков. И сюжет сразу закрутился.
Авторы склонны к самообольщению, но есть какая-то внутренняя жилка, которая безошибочно трепещет, если вещь получилась. Я сразу почувствовал: «Одноклассница» удалась. Однако реальность оказалась сурова, мне вернули пьесу тринадцать московских театров. Одни без объяснений, вторые с лестными отзывами и сожалением, что планы сверстаны на пятилетку вперед, третьи сокрушались, что такого числа хороших сорокалетних актеров, нужных для постановки, в труппе нет, а приглашенная звезда нынче стоит дорого — не девяностые на дворе. И то правда. В 1999 году покойный ныне Леонид Эйдлин, экранизируя «Халам-бунду», собрал за совершенно смешные деньги фантастический ансамбль: Вера Васильева, отец и сын Лазаревы, Светлана Немоляева, Владимир Назаров, Полина Кутепова, Виктор Смирнов, Ирина Муравьева… Сегодня за такие деньги лысину Гоши Куценко не укупишь.
Почему пьеса не увлекла ведущие московские театры, в репертуаре которых зачастую вообще нет современной русской темы? Напомню: Малый театр поднимался на пьесах остросовременного драматурга Александра Островского. Художественный театр начинался с актуальных пьес Чехова, Горького, Андреева, Найденова. «Современник» — это Рощин, Розов, Арбузов, Володин, Вампилов. А где нынешние властители зрительских дум? Не считать же таковым Дурненкова с его дихлофосными сумерками. Почему так случилось?
Попробуем разобраться. В 1990-е разговор о главном конфликте эпохи был опасен для власти, ломавшей страну через колено. Либеральная творческая интеллигенция, самый чуткий флюгер Кремля, это уловила и учла. А дальше заработали классовые интересы, ведь худруки, лишенные строгого партийного присмотра, превратились в рантье, живущих с доходов от своего зрелищного бизнеса. Не случайно в современном российском законодательстве то, что делают деятели культуры, называется услугой. Я не шучу! В России буржуазный театр появился раньше буржуазии. Удивительная ситуация: фабриканта Алексеева (Станиславского) судьбы униженных и оскорбленных волновали больше, чем, скажем, наследников «комиссаров в пыльных шлемах» Олега Табакова и Марка Захарова. Режиссеры, в прежние времена не прощавшие советской власти малейшей оплошности, рыдавшие над каждой слезинкой ребенка, не заметили, что после 1991-го в Отечестве появились толпы беспризорных неграмотных детей. Они и в самом деле стали так похожи на рантье, что им не хватает только серебряной цепочки с ножницами — стричь купоны.
Но вот общество осознало наконец глубину своего нравственного падения, а власть поняла, что без морали не бывает модернизации. Государство напомнило театральному бомонду о гражданской и воспитательной составляющей творчества. И по рядам «худрантье» пробежал нервный ропот. Так во времена СССР роптали директора гастрономов, узнав, что новый начальник главторга взяток не берет. Пока. Так что моя «Одноклассница» не подошла многим столичным театрам прежде всего по классовому признаку. «Мы разноклассники!» — как справедливо заметил пьющий, но думающий поэт Федя Строчков.
…Театральный критик Анна Кузнецова показала «Одноклассницу» директору Театра Ленинского комсомола. Прочитав, тот просиял, и вот почему. Все, конечно, помнят трагедию, случившуюся с актером Николаем Караченцовым — человеком уникального темперамента. Я помню, когда он выступал на Совете творческой молодежи в ЦК ВЛКСМ, от его страстных слов, смысл которых не всегда был ясен, вибрировал и подпрыгивал графин с водой. И вдруг — автокатастрофа, неподвижность, коляска, полунемота, но при этом страстное желание остаться на сцене родного театра, играть, а значит — жить. Сначала театр хотел даже заказать пьесу для актера «с ограниченными возможностями». И вдруг приносят вещь, словно специально написанную для этой трудной ситуации: главный герой недвижно сидит в коляске, молчит и только в финале хохочет, будучи при этом главным героем всего действа. Директор обрадовался: «Очередь за билетами выстроится до Кремля! Вот вернется из командировки Захаров — и начнем репетиции!» Вернулся Захаров, тоже загорелся, но узнав, кто автор пьесы, передумал — от природы печальное лицо его вовсе померкло:
— Поляков? Никогда!
— Почему?
— А вы «Литгазету» почитайте!
Пересказываю коллизию со слов очевидцев, не сомневаясь в достоверности.
(«Драмы прозаика»)…………………..
(Вот как описал свои впечатления от спектакля «Одноклассники» Дмитрий Черный в статье «Разноклассни-ки» в казахском стиле «Модернъ» — он увидел ее на проходившем осенью 2015 года театральном фестивале «Смотрины» в постановке Южно-Казахстанского областного русского драматического театра им. Жумата Шанина: «Спектакль «Одноклассники»… собрал полный, переполненный зал… Достоевский любил потоптаться возле недозволенности и проклятости, и сладострастий (как критик, но все же — не коснувшись и не обсудишь), Поляков же здесь заставил понервничать не по законам шоу. Линии судеб, уже четко прочерченных от школьного звонка, где есть два «афганца» — Чермет и инвалид Ваня, и есть загадочная дочь, то ли от первого, то ли от второго, — линии судеб в руках автора легко меняются, играют, переливаются. И любой постановщик тут не удержится от подогрева гадательных настроений в зале. Дочка-оторва, расставшаяся то ли с байкером, то ли брокером и явившаяся к матери за ключами от родной квартиры, — может быть из нее и похищена, так как отец (не родной) заложил все имущество и, получается, семью, за якобы бизнес, который… вовсе не бизнес — тут Поляков продолжает играть с доверчивостью зрителя, пластилин сюжета, уже разогревшись в нервных ладонях зала, поддается в другую сторону, — а лишь прикрытие второй семьи, где растет новорожденный. Всё не только с двойным дном — но и с тройным лукавством… Редко с таким КПД удавалось провести время в театре, который искони недолюбливал… за условность жанра и прочие с детства раздражавшие шероховатости лицедейств».)
…………………..
«Одноклассница» стала первой моей пьесой, которая пошла сначала в провинции. Я слетал на премьеры в Тобольск, Владикавказ, Владивосток, Ереван. Еще куда-то… Аншлаги. Выхожу, как грезилось в молодости, на сцену, беру за руки героев-любовников, и мы с поклоном идем к рампе. Вдруг дают свет в зал… Ничего не понимаю! Кажется, осветили ночной росистый луг. А это блестят слезы в глазах зрителей. «Ну да, конечно, а на театральном подъезде еще сорок тысяч курьеров топчутся! — улыбнется иронический читатель. — М-да, зазвездел наш Юрий Михайлович…» Если и зазвездел, то совсем немного, а если и прихвастнул, то чуть-чуть. Как без этого в искусстве? Но мы живем в эпоху Интернета. Кликните, скажем, «Вечерний Владивосток», «Правду Кавказа» или «Армянские вести», прочтите, что писали там о моих премьерах…
Впрочем, «Одноклассница» добралась вскоре до столицы. Я где-то столкнулся с главным режиссером Театра Российской армии Борисом Морозовым.
— Есть что-нибудь новенькое? — спросил он.
— Есть, — ответил я, соображая, почему не показал ему «Одноклассницу» раньше.
— Пришли!
Придя домой, я тут же отправил пьесу. А не показал я ему «Одноклассницу» раньше из-за того, что там довольно иронически изображен военкомовский чиновник, который приносит парализованному ветерану Афгана к сорокалетию протезы, сначала — руку, потом — ногу. Я решил: военные все равно не пропустят. Но вежливые люди в погонах оказались гораздо терпимее к инакомыслию, нежели наши либеральные худрантье. А может, причина в другом: спектакль выпускали в тот год, когда военное ведомство под водительством министра-мебельщика Сердюкова окончательно превратилось в «оборонсервис», где никого не интересовали вопросы, не связанные с извлечением прибыли из безопасности страны. Кстати, с Морозовым в начале нулевых я вел переговоры о постановке «Халам-бунду». Он взял у меня пьесу, а позвонил через полгода, когда уже шли репетиции на сцене МХАТа имени Горького, и поезд, как говорится, ушел. Итак, вечером того же дня я отправил ему «Одноклассницу», а рано утром раздался звонок, и я услышал голос Морозова:
— Никому больше не отдавайте! Начинаю репетиции. Я двадцать пять лет после «Смотрите, кто пришел!» не ставил современных пьес. Ждал. И дождался…
«Одноклассница» восемь лет идет в Театре Российской армии на аншлагах. Ко мне подходила зрительница, смотревшая спектакль в пятый раз. С таким же успехом пьеса идет по всей стране. Вы думаете, ее отметили хоть какой-то премией? Ничуть. Повторю: современное театральное пространство — «майдан», где чужие не ходят. <.. >
Сегодня, когда я пишу эти строки, моя новая пьеса «Как боги» пошла по стране. Я уже побывал на премьерах в Пензе, Белгороде, Владикавказе, Туле, Ереване… В Москве ее поставила на сцене МХАТа имени Горького Татьяна Доронина. <…>
Невостребованный сюжет долго хранился в запасниках моей памяти, пока вдруг не очнулся, соединяясь с китайской темой, а она пришла мне в голову, когда я на Тайване разглядывал в музее бронзовый жертвенник, отлитый три тысячи лет назад…
Золотомасочный критик, прочитав пьесу «Как боги…» в журнале «Современная драматургия», раздраженно воскликнул:
— Но ведь так сейчас никто не пишет!
Я воспринял это как похвалу…
(«Драмы прозаика»)Следует отметить, что свое пятидесяти- и шестидесятилетие Юрий Поляков отмечал в творческом коллективе МХАТа им. М. Горького, где были поставлены четыре его пьесы. Именно этот театр способствовал становлению драматурга, по духу и пониманию сцены совпавшего с его художественным руководителем Татьяной Дорониной. Вот что пишет об этом театровед Галина Ореханова, долгие годы заведовавшая литературной частью театра: «…Не скроем: многие постановщики стараются эксплуатировать юмор автора как завесу, которая помогает им спрятаться от ужасающей жестокости современной российской жизни. Им кажется, что изысканность юмора Полякова способна скрасить общую картину распада совсем еще недавно великой державы. Но… так кажется. И в этой связи показательна история постановки спектакля «Грибной царь», осуществленной на сцене МХАТа имени М. Горького молодым режиссером Александром Дмитриевым. Характерна реакция одного немолодого поклонника творчества Полякова, который по окончании просмотра спектакля «Грибной царь» с негодованием воскликнул: «Нет! Это не Поляков! Не понравилось! У Полякова смеха полно, смотришь — отдыхаешь, а здесь такая тяжелая картина деградации всего общества». И это правда. Потому что под слоем «легкого юмора» в произведениях Юрия Полякова скрыты «мерзости жизни», которые убивают душу России. Ради очищающего эффекта и пишет свои пьесы и романы русский писатель Юрий Поляков. Это его бой «мерзостям жизни», это то, что роднит его с русской традицией Чехова и Булгакова. Да, режиссер Александр Дмитриев «вытянул» наиболее трагично звучащую струну из музыкальной какофонии «Грибного царя», усилил ее до «крещендо». Имеет ли право на это режиссер-постановщик? Безусловно. Больно на это смотреть? Очень больно! Но необходимо. Необходимо, если относиться к жизни серьезно, если верить, что честное писательское слово способно отстоять ту «правду жизни», которая утверждалась веками как национальный идеал. Трагическое крушение личности в романе «Грибной царь» — не единственная мелодия, заложенная писателем в романе. Более того: это — важнейшая мелодия, пусть и остались недовольными те «ужи», которые, как в «Песне о соколе» М. Горького, не разбиваются, падая в пропасть. Ради правды пишет свои книги истинно русский писатель Юрий Поляков, пишет «кровью сердца», пишет с надеждой, что люди, поняв всю глубину своего падения, ужаснутся и захотят стать лучше.
Без всякого сомнения, каждый драматург мечтает быть прочитанным прозорливым режиссером. Показательным примером в этом отношении может служить постановка новой пьесы Ю. Полякова «Как боги…», получившая, едва выйдя из-под пера писателя, широкое признание. Пьесу «Как боги…» уже поставили в Белгороде и Пензе, Калуге и других городах России. Премьерные спектакли идут во МХАТе имени М. Горького. В данном случае режиссером выступила художественный руководитель театра народная артистка СССР Т. В. Доронина. И здесь у нас появились основания говорить о редком понимании режиссером этой пьесы. Именно благодаря режиссеру границы ее расширились, и общая картина постижения реалий современной России в спектакле предстала перед зрителем в разящей правдивости и многогранности. То, как представила Доронина события, происходящие в семье Гаврюшиных, заставило зрителя вдуматься в его судьбу, увидев ее в свете реалий его недавнего прошлого — успешного высокообразованного политика и философа, посла СССР в Китае, человека высоких культурных запросов. И этот фон — интересен не только в связи с судьбой Гаврюшина. Он взывает к воображению зрителя, заставляет его задуматься над тем, какие реалии нас окружают, какой жизненный опыт формирует наше сознание сегодня. Режиссура Дорониной открывает и широту подхода к жизненным явлениям дня текущего, и вдумчиво, внимательно, более того, сострадательно вглядывается в судьбу и характеры участников представленной драмы. Зоркий взгляд драматурга, хорошо знающего жизнь современного общества, сумел представить историю, в которой, как однажды сказал Чехов о «Чайке», «сто пудов любви». Это та тема, которая оказала решающую роль в выборе пьесы для постановки: «в обществе, где унижена любовь, где так и норовят подменить все высокое и прекрасное в человеке пошленьким, низким словечком «секс*, — считает Доронина, — сегодня разговор о высоком чувстве любви, облагораживающем человека, архиважен». Ее спектакль дает публике впечатляющую картину современной России с ее извращенной и изуродованной моралью, с ее кровоточащими язвами изувеченной жизни, с ностальгией по ее великому прошлому. <…> Почему зрители любят драматургию Полякова? Потому что люди в его пьесах ведут себя как живые — по-настоящему страдают, болеют, любят, борются за свое счастье. Доронина сумела показать внутреннюю драму своих героев. И закрытого, воспитанного, интеллигентного дипломата Гаврюшина, и радость и трагедию нежданной любви его жены Веры, и жажду счастья молодого, сильного и красивого сибиряка Артема. К достоинствам режиссерского почерка нужно отнести глубокий психологизм постановки, где поступки героев внутренне оправданны, где волнение участников драмы переносится в сердце зрителя, вызывая искреннее волнение. Дорониной удалось показать тайну зарождения любви, и то, как огонь любви разгорается, и то, как человек страдает и борется во власти большого и сильного чувства. Не бутафорские изыски, не шутовскую клоунаду, а «гибель всерьез» увидели мы на сцене… И восхитились. Встреча с настоящим искусством состоялась.
Человек выходит из театра. Он погружен в себя, какие-то диалоги еще звучат в нем, он весь во власти переживаний. Он выходит из зала обогащенным и возвышенным, потому что к нему отнеслись с уважением, потому что он увидел и понял, что его мнением дорожат, считаются с ним, увлечены его душевным богатством, к нему обращены мысль и чувства создателей спектакля. Этим всегда дорожил русский театр. Будем же благодарны ему. А драматургу Юрию Полякову скажем: «Да здравствует ваш талант, высокий дар, богатство русского Слова!».
Простые ответы на сложные вопросы не всегда и не всех устраивают. К тому же люди в эпоху перемен меняются слишком скоро и бесповоротно, да и, будучи школьниками, герои «Одноклассницы», вместе со всей страной, уже переживали ломку устоев, подспудно проходившую еще с 1960-х. Но на то она и пьеса, чтобы что-то утрировать, а что-то — преувеличивать, фокусируя внимание зрителя на том, что представляется автору самым важным. Кто-то из критиков попрекнул драматурга Полякова, что практически в каждой пьесе среди главных персонажей у него непременно найдется «олигарх». (О женщинах-красавицах говорить не будем, куда же без них!) Но ведь и во времена Александра Островского не каждому встречались в жизни богатые купцы-самодуры, тем не менее драматург считал необходимым выводить на сцену этот тип, ведь общество остро реагировало на этих людей — и они играли в нем заметную роль. Как мы помним из истории, один такой человек исключительной предприимчивости чуть Волгу в среднем течении не купил, и помешал ему совершить сделку не губернатор или министр, а какой-то слишком въедливый мелкий служащий. Вот и для нынешних поколений внезапно — словно действительно из ниоткуда — возникшие миллионщики со всем набором их отнюдь не джентльменских качеств — это проблема, которую решить нельзя, можно только изжить. И то, что в стране в последние годы стали возникать различные благотворительные фонды и организации, ее остроты не снимает. Потому что недра и, в целом, богатства огромной страны оказались в руках у кучки не всегда рачительных и щедрых только при покупке замков и яхт толстосумов. Потому что им свойственно презрительное отношение к труду и человеку труда, потому что и в наше время людям платят серую зарплату, обделяя и самих работающих, и Пенсионный фонд, и госказну. Да и труд соотечественников, в разы более интенсивный и отнюдь не гарантирующий благополучной старости, посвящен уже не благу родины, как когда-то, а благополучию хозяина и его семьи. Почувствуйте разницу.
Пусть схематично — насколько это возможно в рамках пьесы — драматург Поляков показывает нам, как расслоилось общество, заостряя наше внимание на «старой» русской — а на самом деле советской — интеллигенции, которой сложнее всего подстраиваться под новую жизнь. Автор сознает, что это — уходящая натура, а ей на смену идет поколение, не знающее той, прежней жизни и готовое верить любым мифам о русской истории вообще и о советской власти в частности. Одних сериалов с пугающей правдой про то время сколько наснимали — не пересмотреть. И в наше бескнижное время они вполне могут утвердить в сознании современников всю эту кривду как истину.
Чем более расшифровывают театральные критики свои претензии к драматургу Юрию Полякову, тем понятнее становится, что адресуются они не совсем к автору, точнее совсем не к нему. Так, Марина Токарева в «Новой газете» в статье под саркастическим заголовком «Спаситель сцены» свои претензии перечислила: жизнь в пьесах Полякова показана «плоская, густо бытовая, якобы комедийная» (первичные признаки сатиры, разве нет?), в то время как «у сатиры есть свойство подниматься над материалом, а не топить в нем зрителя» (вспомним хотя бы «Баню» Маяковского или «Зойкину квартиру» Булгакова, там ведь зритель просто парит над сценой), а здесь «не характеры — пародии, схожие друг с другом, как близнецы. И с кем спасать русскую цивилизацию — вот с этими обмылками режима?..» (Это уже, конечно, на совести критика, потому что «обмылки» — это наши современники, то есть мы с вами, а некоторые черты в характерах персонажей утрированы намеренно, чтобы у нас был повод посмеяться над собой.)
Валерий Печейкин в «Театрале» многое припомнил Полякову («это высмеивание священнослужителей, похабщина… никто из героев не состоит в счастливом гетеросексуальном браке, то есть налицо дискредитация традиционной семьи. И так далее», — язвил эксперт по поводу все того же спектакля «Одноклассники», который привезли на «Смотрины» из Казахстана), но главным — и признаться, неожиданным — упреком было то, что драматург, по его мнению, «перестал обновлять свой словарь… Его ухо не слышит того, что происходит сейчас с речью… Автор явно даже не гуглит, что происходит с языком». Интересно, сам-то уважаемый эксперт себя слышит? Или он считает, что герои на сцене должны изъясняться так же, как в обычной жизни? И что только «погуглив», человек может считать свою речь образцово современной? Стоит обратить внимание на тот факт, что несмотря на серьезные изменения, случившиеся в языке за 150–100—50 лет, сценическую речь героев Гоголя, Островского, Чехова, Горького, Булгакова, Эрдмана, Розова, Зорина, Володина, Вампилова мы воспринимаем без усилий, понимая все оттенки смыслов. Видимо, все дело в том, что истинный драматург обладает способностью, по выражению Полякова, «вербальным средним ухом» вылавливать из постоянно обновляющегося живого языка именно то, что останется в нем если не навсегда, то надолго, создавая, помимо прочего, языковую картину своей эпохи. И насколько точен его вербальный слух, покажет время. Например, многие «новодрамовские» пьесы конца 1990-х сегодня прочно забыты, а сочиненная тогда же комедия Полякова «Левая грудь Афродиты» сегодня переживает второе рождение.
Следует заметить, что пристального внимания столичной критики Поляков удостоился только в связи с театральным фестивалем «Смотрины» — первого за 30 лет авторского фестиваля в России, посвященного ныне здравствующему драматургу.
Как видим, претензии у критиков к драматургу Полякову встречаются самые неожиданные. Его упрекнули даже в том, что в новой сатирической пьесе «Чемоданчик» он вдоволь посмеялся над теми же новодрамовцами. Казалось бы, что в том такого? Разве не принято было в литературе подобным образом сводить счеты с идейно-эстетическими противниками (вспомним все того же Булгакова, к примеру)? Неискушенный зритель посмеется, если смешно, искушенный — понимающе усмехнется: мол, знаем, Юрий Михайлович, кого имеете в виду. И только оказавшийся не в своей тарелке критик станет пенять автору за «цветы зла»: на этом сатирическом газоне они, видите ли, неуместны.
Полякова попрекают за гэги и довольно смелые шутки с эротическим подтекстом — при том, что новодрамовские пьесы, которым откровенно противопоставлена его драматургия, порой целиком строятся на мате, физиологии и шутках ниже пояса, если не сказать — плинтуса. И при этом критики даже не задаются вопросом, почему тот же «Хомо эректус» идет в Театре сатиры при заполненном зале уже более десяти лет. Кстати, и названием спектакля, в переводе означающем «человек прямоходящий», попрекают автора критики-эстеты. Кто-то из них заметил, впрочем, что у рублевских жен принято было дарить друг другу и гостьям-подружкам билеты на этот спектакль. Что ж, это как раз вполне понятно: такой автор и видел свою задачу — находить отклик у зрителей всех сословий и социальных страт. По давней советской привычке Поляков не хочет делить зрителей на «чистых и нечистых», не гонится за успехом у публики, которая считает себя утонченной и интеллектуальной. Слишком многое нас теперь разъединяет. Пусть, хоть на время, объединит смех. И сопереживание.
Томас Манн недаром утверждал, что театр — это место, где толпа превращается в народ. Такое ощущение возникает и у зрителя, когда в конце спектакля «Хомо эректус» саморазоблачившиеся герои запевают песню про замерзающего в степи ямщика. И вдруг становится понятно, что каждый из них — и не стесняющийся в средствах для достижения своих целей бизнесмен, и его обманщица-жена, и беспринципный депутат, и продажный журналист, и его неприспособленная к жизни ученая подруга, и промышляющая проституцией студентка, и запутавшийся в своем классовом выборе рабочий, и интеллигентно-беспомощные старики-родители, и маленький мальчик, которого вскоре наверняка ушлют учиться куда-нибудь в Лондон, все они — тоже народ и объединяют их на первый взгляд незаметные, но чрезвычайно крепкие узы: генетическая память, общая история и общие герои. Пока еще объединяют.
Хорошие пьесы не пишутся по заказу. Вернее, если и пишутся, то не под каждый заказ. Материала, может, и хватает, но идею нужно прежде выносить, проиграть в голове сюжет, выстроить биографии и характеры героев. Лучше, кажется, получается, когда пьеса создается скорее для себя. Может, поэтому такой успех ожидал пьесу «Как боги», замысел которой появился у драматурга довольно давно. Хотя, если захочется, тут вообще-то есть к чему придраться. Кого-то утомляет назидательность героини, вдалбливающей собеседнику элементарные правила хорошего тона. Кому-то кажется странной история про нашего высокопоставленного дипломата, который решил сообщить о непорядках во внешней политике затеявшему с ним «откровенный» разговор подвыпившему «гаранту», пребывавшему в Китае с официальным визитом. Представить себе вышколенного дипломата, профессионально, не хуже разведчика, умеющего «читать» лица собеседников, который вдруг решает поговорить как на духу с прожженным политиком, довольно трудно. Правда, сам драматург утверждает, что знает подобные случаи, имевшие место в недоброй памяти «козыревский» период, когда получали отставку дипломаты старой советской школы, в отчаянии пытавшиеся открыть высокому начальству глаза на происходящее. С другой стороны, ведь не удивляемся же мы, что обдуманно молчаливый Молчалин вдруг делится своими тайными мыслями со смазливой горничной, которую намерен соблазнить.
Ну и дочь — с неустроенной личной жизнью — как постоянный рефрен в пьесах Полякова. И не только в пьесах — вспомним и романы: «Замыслил я побег…», «Грибной царь», «Гипсовый трубач»… Взрослая дочь, ее отношение к отцу и матери, ее желание заявить о своей самостоятельности, ее личная жизнь наконец — все эти темы явно продиктованы в том числе собственной биографией и приверженностью к реалистическому воспроизведению жизненных ситуаций. Дочь-невеста, фигурирующая в пьесах и романах, — это прорвавшиеся из подсознания опасения за судьбу единственной дочери в бурную эпоху, когда ломаются судьбы вполне взрослых и твердо стоящих на ногах людей. Извечное отцовское беспокойство, столь знакомое старшему поколению, — не только за дочь, но за будущее страны, видимо, и заставляло писателя многократно моделировать все возможные ситуации, а также характерные для нынешней молодежи типы поведения, обусловленные укладом современной жизни. И в пьесах, и в романах герой Полякова пытается установить диалог с взрослой дочерью — и в том не преуспевает… А в новом романе «Любовь в эпоху перемен» дочь вообще оказывается мнимой: и реальная дочь, носящая фамилию героя, но, в отличие от него, знающая, что он не является ее биологическим отцом, и девушка с фотографии, вдохновившая его на дорогие сердцу воспоминания и оказавшаяся в итоге совершенно посторонним человеком. Этот двойной обман — обман житейский и обман воображения — оказывается самым болезненным при подведении итогов пережитого.
Вот какие впечатления вызвал спектакль «Как боги» у театрального критика «Новых известий» Ольги Егошиной: «Надо отдать должное чутью постановщика — Татьяны Дорониной, которая поместила все действие под лазоревые небеса в виллу с мраморным балконом и заглядывающими в окно олеандрами. Поворотный круг нам открывает все новые обстановочные возможности театра: интерьеры в квартире отставного посла отличаются дворцовой роскошью. Актеры исправно меняют шелковые домашние халаты на вечерние платья и костюмы. Они эффектно подают выигрышные реплики («Когда денег много, добрым быть легко. А с тех пор как придумали виагру, все мужчины горячие… до смерти»). Красиво расшвыривают букеты по сцене и принимают изящные позы на неудобных диванах и креслах. И несколько хуже изображают драматические метания и страсти. Я совсем не пурист в своих театральных взглядах и вполне признаю, что публика любит вампуку, «слишком женатых таксистов», адюльтеры дам из высшего общества, любит Рея Куни и Юрия Полякова. Но я решительно не понимаю: при чем тут бедная русская духовность? При чем тут современная драма? И чеховские традиции…»
А вот как описала в соцсети свои впечатления от того же спектакля Татьяна Набатникова: «Во второй половине 70-х я жила в Новосибирске и заочно училась в Литинституте. Дважды в год на месяц мы приезжали в Москву на сессию, жили в общежитии на Добролюбова и каждый вечер «как скаженные» бегали по театрам. Купить билеты было невозможно, но нам давали в институте «проходки». Сидели на ступенях. Плакали, смеялись, восхищались — ну, известное дело, катарсис. Последние лет двадцать я не была в театре. Хватало самой жизни. Да и в театре времен «Золотой маски» можно было испытать разве что изумление. И вот вчера меня вытащили на спектакль Белгородского драмтеатра по пьесе Юрия Полякова «Как боги». Это было как возвращение в юность. Я плакала, смеялась, восхищалась, то и дело хлопала вместе с залом чуть не каждой реплике. Людей, умеющих написать пьесу, никогда не насчитывалось и десятка. Их надо носить на руках».
В своей публицистике и в интервью Поляков нередко рассуждает о том, что такое современный театр и каковы его задачи. Возможно, драматургу и необязательно теоретизировать — достаточно того, что он вкладывает свои мысли в уста персонажей, прокламирующих их со сцены. Но и его можно понять: регулярно бывая в московских театрах на модных постановках, он не может смолчать, видя, во что порой выливаются театральные эксперименты и как изгаляются над зрителем (и часто — над классикой) режиссеры-экспериментаторы.
Вот отрывок из интервью, которое дал Поляков в дни своего шестидесятилетнего юбилея корреспонденту «Вечерней Москвы»:
«Корр. Сегодня вошли в моду ремейки классических произведений — Михаил Шишкин написал продолжение «Анны Карениной», Борис Акунин — чеховской «Чайки». Но ведь зритель должен узнать и полюбить героев непосредственно во время спектакля, а не по памяти другого произведения.
Ю. П. Придумали это не современные драматурги, можно вспомнить Ануя «Троянской войны не будет», Стоппарда, который переделывал Шекспира. Этим занимался Евгений Шварц, который брал сказочные, бродячие сюжеты и на них строил свои пьесы. В принципе, почему бы и нет: взять вечный сюжет и дать свою трактовку. Но если ты за это берешься, то должен предложить такую версию, чтобы все ахнули. А все сидят и чешут репу: зачем? На мой взгляд, это постмодернистский ход от бедности собственных мыслей и чувств. Когда человек не знает, о чем писать, а писать хочется, поскольку он графоман, начинается браконьерство в классических лесах. <…>
Корр. В Англии пьесы, которые определяют моральное состояние общества, носят термин — «state of the nation play». Их очень ценят, потому что они являются индикатором общественных настроений…
Ю. П. Настоящая драматургия выполняет функцию социального диагноста. При советской власти так оно и было. При всех проблемах с цензурой мы отлично знали, что «Гнездо глухаря», допустим, поднимает одни проблемы, «Покровские ворота» — другие. А, например, Вампилов в «Утиной охоте» диагностировал так называемое аутсайдерство. Театр — это и социальный психолог, и педагог, и врач. Конечно, он не может полностью заменять собой эти профессии, но ведь в правильной диагностике всегда уже заложен курс лечения. В том случае, конечно, если эта диагностика сделана с позиций наших традиционных ценностей, нравственности, патриотизма. Потому что когда я смотрю некоторые пьесы «новой драмы», я вижу, что люди, написавшие их, патологически не любят нашу страну, где им не посчастливилось родиться. Возникает вопрос: если ты так нас не любишь, зачем живешь среди нас? Пожалуйста, езжай в цивилизованные страны! Не едут. Там своих чудил хоть отбавляй. Не протиснешься.
Корр. Есть мнение, что русский репертуарный театр — «уходящая натура». Подозрительно веселые реформаторы вместо театров создают центры с ресторанами, кинозалами, магазинами, где можно хорошо провести время, выпить-закусить, потанцевать и при желании взглянуть на «Вишневый сад»…
Ю. П. Я против превращения театров в такие центры. Считаю это ошибкой. В Москве ведь не так много «намоленных» театральных мест, их можно пересчитать по пальцам. Зачем было строить центр на базе Театра Гоголя, если есть масса новых, экспериментальных площадок? Пожалуйста, иди на ровное место или возьми Дом культуры, как это сделал Швыдкой, который создал Центр мюзикла, но в основном занимается пропагандой западных «шедевров». Странная ситуация для бывшего министра культуры России. Впрочем, бывший министр иностранных дел Козырев служит в американской фармацевтической фирме. В Москве вообще что-то не то с руководством столичной культуры. Руководитель культурной сферы должен быть консерватором, потому что его задача — сохранить то, что есть. И уступать под напором новых форм. Когда же культурой руководит авангардист или постмодернист — это катастрофа, мы это уже имели в двадцатые годы. Тогда он возглавляет само-погром национальной культуры.
Репертуарные театры должны остаться, как, например, толстые журналы. Была же попытка закрыть журналы, поняли: не стоит этого делать. Театры — это те же толстые журналы, та же Третьяковская галерея, которую тоже пытаются сдвинуть. Я, например, не понимаю, почему актуальное искусство претендует выставляться в Третьяковской галерее. Во всем мире для этого вида интеллектуально-провокативной деятельности есть отдельные музеи, вот и выставляйтесь там. Есть «Винзавод», Музей современного искусства, почему ты лезешь в Третьяковку? Как говорил Чапаев, к чужой славе хочешь примазаться? Это продолжение ответа на вопрос, зачем человек вместо того, чтобы написать оригинальную пьесу, переиначивает Чехова. Та же самая причина: не может создать свое и хочет прислониться к чужому.
Корр. Театр, утверждал Гоголь, это кафедра, он должен отстаивать мораль, нравственность, нормы поведения. А если предметом экспериментов новомодного режиссера, пусть даже очень талантливого, становится то, что искусством не является, если спектакль проповедует духовный распад или разврат, то общество должно как-то защищаться от этого?
Ю. П. Безусловно. В русской традиции театр — это и кафедра, и место, где обсуждаются сложные социальные, нравственные и эстетические проблемы. Но не ради развала социума, насаждения хаоса, а, наоборот, ради поиска гармонии, преодоления болезненных состояний. Могут сказать, допустим, что театр Серебряного века тоже был депрессивным, упадническим и даже извращенным. А какие шедевры созданы! Да — созданы. Но потом жахнула революция, вся страна превратилась в пепелище. Мы что же, этого хотим? Зачем? Мы это уже проходили.
Театр — это очень чувствительная сфера и если мы видим, что в нем преобладают разрушительные тенденции, надо что-то противопоставить этому. Мы должны эти интенции преодолеть еще тогда, когда они витают в информационном, культурологическом пространстве, потому что когда они опустятся в политику и социум, будет поздно…»
А вот что Поляков записал в своем дневнике в 2010 году, побывав на золотомасочном спектакле «Жизнь удалась» в «Театре. DOC»: «Смотрели (с Н. И.) спектакль «Жизнь удалась» по пьесе П. Пряжко. История такая: два брата работают в школе преподавателями физкультуры. Один из них, понахальней, живет одновременно с двумя подругами-старшеклассницами. Второй, попроще, влюблен в ту подругу, которая покрасивее, и женится на ней, едва она получает аттестат, полный «колов». Пятерка только по физкультуре. На свадьбе они все четверо страшно напиваются, с женихом случается понос, еще он роняет в унитаз деньги, подаренные молодоженам. По пути домой пьяный «молодой» скандалит с таксистом, тот высаживает буйную компанию. Молодая хочет пописать и просит, чтобы ее проводил до ветра нахальный брат мужа. В темноте они, стоя, прислонясь к дереву, совокупляются. Через три месяца, пропив подаренные деньги, молодые разводятся. Жизнь удалась! Текст — мат-перемат. Фактически ни одной фразы без мата, не особенно, кстати, затейливого. Но молодые актеры играют хорошо, хоть и играть-то, в сущности, нечего. Более того, исполнители — известные персоны в молодежной среде: топ-модель, певица, выпускник «Фабрики звезд»… В зале тоже в основном молодежь: хихикали, ржали, в конце — хлопали. Понравилось. Лишь немногие удивленно переглядывались. И вот что самое пакостное: Бояков приучает их, еще глупых, доверчивых, к мысли, что это и есть театр, а свально-фекальный анекдотец с матюгами и есть драматургия. Жаль, Александр Освободитель отменил телесные наказания для лицедеев и антрепренеров».
Правда, следует заметить, что хотя принципиально ситуация в современном театре не переменилась и экспериментаторы продолжают свои эксперименты, как правило, щедро оплаченные государством, некоторая корректировка в их эстетике все же происходит. Впрочем, поживем — увидим.
Если принять за истинные слова Станиславского, что театр — это отражение жизни, невозможно не огорчиться, что современная жизнь представлена нынешним театром в столь неприглядном виде. В отличие от горьковского «На дне», где герои рассуждают — в ночлежке — о мире и о правде, о будущем и об утешении, о самоценности человека, современная экспериментальная драматургия слишком долго зацикливалась на физиологических отправлениях и принципиальном аморализме.
В последнее время сентенцию о театре как отражении жизни многие оспаривают либо сходятся на том, что эту функцию театр выполнять перестал. Но такие разительные перемены произошли, конечно, не только в отечественном театре, ведь вся наша «новая драма» — калька с того, что было модным на Западе десятки лет назад. Театр утратил функции морализатора, отвлекавшего толпу от площадных зрелищ, на потребу публики он даже отказался от своих драматических канонов. И что он собой представляет? Все то же зрелище, только с вешалкой, фойе и буфетом? Но долго ли могут привлекать зрителя выползшие на сцену бомжи? В конце нулевых одна наша соотечественница, купив билет в оперный театр во Франкфурте, на протяжении всего спектакля сидела, низко опустив голову, чтобы не видеть искусно сооруженной на сцене помойки, и рыдала — от обиды за классическую музыку.
В одном из выпусков «Что делать?» (№ 400) Виталий Третьяков поинтересовался у собеседников, известных театральных критиков, насколько в своих суждениях они зависят каждый от своей «тусовки». Неохотно и не сразу присутствовавшие все же признали, что такая зависимость определенно существует. Как же, воскликнем мы, ведь наше поколение еще не забыло ленинского: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя!» Стоит, кстати, напомнить, что сказано это было в статье «Партийная организация и партийная литература». Название статьи тоже в тему: давно общепризнано, что общество поделилось у нас по большому счету на две «партии» — патриотов-консерваторов и демократов-либералов и творческая интеллигенция неукоснительно соблюдает нигде не записанные правила партийной дисциплины.
Недаром столь недоброжелательно либеральная критика встретила в ноябре 2015 года фестиваль «Смотрины», посвященный современной русской драме и на первый раз — одному из самых ярких ее представителей и определенно самому востребованному ныне современному драматургу Юрию Полякову. Главным упреком стало именно то, что фестиваль поддержало государство. Вот как, с государственным подходом, возмущалась этим фактом Ольга Егошина в «Новых известиях»: «Юрий Поляков — уже давно больше, чем писатель, он — активный общественный деятель (то порочит память Солженицына (sic!), то нападает на Туминаса). Он — член многочисленных правительственных организаций и советов. Сам факт возникновения нового фестиваля на фоне резкого сокращения госдотаций всем существующим фестивалям о многом говорит…» — добавляет она «зловешести». А вот не менее сильное высказывание обозревателя «Новой газеты»: «Как подобное может пользоваться государственной поддержкой? — возмущается Марина Токарева. И дальше: — «Смотрины» устроены ради того, чтобы сделать из Полякова государственного автора… Тут же речь о союзе государства с пошлостью в особо крупных размерах. И если Полякова теперь объявляют образцом для масс, это означает развращение вкусов этих самых масс — раз; агрессивное навязывание низких критериев обществу — два; и значит, нецелевое расходование средств — три. Коммерчески успешная пьеса? Да. Новый государственный культурный тренд? Нет!»
Удивительно: когда со сцены несется мат-перемат, это — не пошлость, раз, и не агрессивное навязывание низких критериев, два. Это — чистое искусство, и оно безусловно нуждается в государственных дотациях. А когда со сцены говорят о том, что волнует сидящих в зале зрителей, — это безобразие, которое не должно получать государственной поддержки.
Да, драматург был представлен на фестивале «Смотрины» всего один, но при этом театры привезли в столицу самые разные спектакли, практически на любой вкус, и не найти в них совсем ничего хорошего можно было лишь в случае, если редакционное задание заключалось именно в том, чтобы изыскивать только плохое. Чистый жанр сейчас почти не встретишь. Вот и у Полякова многие пьесы представляют собой смешение драмы, мелодрамы, комедии и сатиры, и те из них, где драматический элемент перевешивает («Хомо эректус», «Одноклассница», «Как боги»), невозможно оставить без внимания — хотя бы потому, что во всех городах, где эти спектакли идут, они собирают полные залы.
В те ноябрьские дни 2015 года в Москве показали 12 спектаклей из Кирова, Пензы, Белгорода, Армении, Казахстана, Петербурга, венгерского города Кечкемет, Костромы и Симферополя: четыре постановки по пьесе «Как боги», три по «Одноклассникам», две по «Хомо эректус», а также «Левую грудь Афродиты», «Небо падших» и «Козленка в молоке», которые шли при полных залах. Такой интерес публики не понравился критикам. «Настоящая русская драматургия, — недоумевал Заславский, — как теперь выясняется, это — «Хомо эректус» Юрия Полякова, само название которой говорит за себя. Вряд ли это имел в виду министр (имеется в виду, естественно, министр культуры. — О. Я.), когда горевал, что очень не хватает нашим театрам современных пьес о нашей действительности».
Сталкивать своего эстетического оппонента с властью — излюбленный прием либеральной критики, но, к счастью, он не всегда работает. Мы уже отмечали, как переводится название пьесы Полякова, а также то, что постепенно она становится не столько остро современной, сколько отчасти исторической — о наших девяностых с нулевыми. Хочется заметить также, что настойчиво проводимую культурную политику по приучению отечественной публики к западному взгляду на театр трудно назвать успешной — зрителя по-прежнему больше интересует свое, родное и понятное. Не желая этого признавать, некоторые критики попытались представить дело так, будто зрителя на «Смотрины» заманили бесплатными билетами. Понять их можно: обидно, когда на спектаклях нелюбимого Полякова, даже привезенных из провинции, чуть ли не в проходах стоят, в то время как на пьесах его антагонистов полупустые залы, вовсе пустеющие после антракта. Впрочем, это, видимо, и не важно: режиссер-экспериментатор ставит спектакль для избранных, не для толпы.
Спектакли Полякова идут, конечно, не только по-русски: театр из Венгрии привез на «Смотрины» его пьесу на венгерском. Самому ему довелось побывать в Китае на спектакле по «Грибному царю», который давали на китайском языке. Этот же спектакль играют там и на русском. «Бегут на субтитрах иероглифы — и китайцы смеются! — вспоминает Поляков. — Потом ко мне подошел один местный житель, владеющий русским, и сказал: «Какой вы счастливый человек». Я говорю: «А что такое?» — «У вас в России, — объясняет, — можно со сцены обличать коррупцию». Я говорю: «Минуточку, у вас же расстреливают за коррупцию». Он говорит: «Да, у нас расстреливают, но обличать со сцены — нельзя». Я говорю: «А у нас нельзя расстреливать за коррупцию. А обличать публично — можно!».
В ноябре 2015-го поляковские «Смотрины» открыл МХАТ им. М. Горького спектаклем «Как боги», приехавшие на фестиваль коллективы практически ежедневно выступали на сцене театра «Модернъ», где гостей принимала художественный руководитель театра Светлана Врагова, а закрылся фестиваль спектаклем «Хомо эректус» в Театре сатиры. К закрытию здесь поначалу собирались показать премьеру новой сатирической пьесы «Чемоданчик» в постановке Александра Ширвиндта, но — не сложилось. Премьера состоялась вскоре, 3 декабря.
На фестивале «Смотрины» побывали многие знаменитости: писатели, политики, театральные и общественные деятели, и все они отмечали живую реакцию зала на происходящее на сцене, потребность общества именно в такой драматургии, в таком разговоре со зрителем.
О кипевших вокруг фестиваля страстях поведала в газете «Культура» Виктория Пашкова, внятно объяснив читателям, почему героем первых «Смотрин» стал именно Юрий Поляков:
«Русский театр всегда позиционировал себя кафедрой, с которой можно было не просто обратиться к зрителю, но и вступиться за униженных и оскорбленных. Именно драматург ставил перед жизнью то зеркало, которое, не ровен час, оборачивалось в его руках увеличительным стеклом. Сегодняшний театр зачастую сует нам либо генно-модифицированную классику в лице гомосексуалиста Гамлета и обернувшихся лесбиянками сестер Прозоровых, либо душевный стриптиз маргинала, гордящегося своей непохожестью. Создается впечатление, что люди с их реальными бедами и радостями нынешним драматургам мало интересны. На афишах московских театров современная российская пьеса присутствует в лучшем случае в виде «новой драмы», забравшейся куда-нибудь на чердак или в подвал, поскольку большой зал ей не по плечу. Список весьма ограничен: братья Пресняковы, Михаил Дурненков, Максим Курочкин, Иван Вырыпаев, Ярослава Пулинович, еще две-три фамилии. При этом худруки жалуются, что, кроме «новодрамовцев», ставить больше некого. А драматурги парируют — так вы у нас ничего другого и не берете. Мы бы рады, самим чернуха надоела… Замкнутый круг.
В провинции ситуация еще сложнее. Там зритель на «продвинутость» не претендует, на чернуху его калачом не заманишь. Однако театру нужно не только репертуар держать, но и на «Золотой маске» себя показать. Вот и ставят на малых сценах все тех же «дурненковых», поскольку иных на национальной театральной премии до последнего времени не жаловали. С экспертов словно берут подписку, мол, никакой традиционной ориентации. В эстетическом смысле, разумеется. А драматург — человек зависимый. Вот и лепит на скорую руку то, что предписано и будет востребовано если не «Маской», так хотя бы одной из множества «лабораторий» и «мастерских» современной пьесы. А то, что пьеса продержится в репертуаре театра сезон, максимум два — не беда. Казна не обеднеет.
Сегодня в искусстве (да и в нем ли одном) зачастую правят бал люди, воспринимающие определение «профессионал» чуть ли не как оскорбление. Для них свобода творчества базируется не на совершенном владении школой, не на знании законов и принципов своего ремесла, а на безудержном самовыражении, часто эти законы и принципы попирающем. Авторы, будучи не в состоянии выстроить сюжет, объявляют его анахронизмом. Не умея сочинить яркие диалоги, бегут с диктофонами на улицу и записывают перебранку бомжей у помойки. «Вербатим», понимаешь ли! Полноценная пьеса как литературный жанр выродилась в аморфный «драматургический материал». <…>
Драматург испокон века был главной фигурой на театре. Он определял, что говорят с подмостков. Чтобы остаться «с веком наравне», каждый коллектив искал свою тему и своего драматурга, и тот придавал театру «лица необщее выраженье». Заметьте, выраженье, не гримасу. В одночасье вековая традиция пресеклась. Более того, она была подвергнута осмеянию, объявлена чуть ли не признаком дурного тона. Самым главным стало «как», вытеснившее «что» со сцены. Вряд ли это произошло само по себе — слишком большой властью над умами обладал русский театр. Шоковые пертурбации 90-х можно было вести, только отключив социальную функцию театра, а также отечественного искусства в целом, оставив ему на прокорм «услуги» развлечения и эксперимент ради эксперимента. Сегодня быть «в тренде» — значит делать кассу на эпатаже, например, отправляя Христа в бордель. Или бросать все силы на поиск бесцельной новизны. Такова программа многих художественных руководителей, превративших вверенные им сцены в источник пожизненной ренты. А современность? Слишком неудобные вопросы ставит сегодня время — начнешь отвечать, того и гляди без ренты останешься. Это тебе не партбилет по согласованию с ЦК КПСС сжигать. <…>
Любопытная деталь: ни один спектакль (по пьесам Полякова. — О. Я.) ни разу не был замечен экспертами «Золотой маски». А ведь выпускали их режиссеры разных направлений в разных театральных коллективах, многие постановки стали событиями, востребованы зрителями. Более того, иным худрукам, взявшимся за постановку тех же «Одноклассников», сигналили из определенных кругов: мол, возьметесь за Полякова, на «Маску» не рассчитывайте. Почему? Ответ не сложен: своим творчеством драматург опровергает то, на чем стоит подавляющее театральное меньшинство. Они твердят: социально-психологическая драма, опирающаяся на гражданские, национальные и гуманистические традиции отечественного искусства, сегодня в принципе невозможна. Театр способен только развлекать или экспериментировать, третьего не дано. Однако судьба пьес Полякова говорит об обратном: «третье» не только дано, но именно этого «третьего» и жаждет зритель. <…>
В науке из стен лабораторий к людям попадают лишь результаты удачных опытов, а неудачные эксперименты потихоньку списывают. Что ж, отсутствие результата — тоже результат. В науке — да. А в искусстве?
Отчасти для того, чтобы разобраться в этой проблеме, и возникла идея, поддержанная Министерством культуры РФ и Департаментом культуры правительства Москвы, провести фестиваль современной российской (так и хочется добавить: нормальной) пьесы. Форум задумывался как доказательство того, что традиционный театр нужен зрителю и современная пьеса может годами держать репертуар, постепенно из «острой вещи» превращаясь в классику, как оно и случалось с нашими крупнейшими драматическими писателями: Островским, Чеховым, Горьким, Булгаковым, Вампиловым, Розовым… Выбор творчества Юрия Полякова не случаен. Драматургу удалось предложить обществу и театру по-настоящему новую драму, не по названию, а по идеям, темам, героям, языку, по плодотворному переосмыслению традиции и развитию пьесы как жанра большой русской литературы…»
Вот как писала о «Смотринах» Ольга Стрельцова в газете «Завтра»:
«Как сказал заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, «сохранять русское культурное пространство, русский мир, русскую цивилизацию — это серьезная русская миссия». А Юрий Поляков сумел это русское пространство еще и расширить — создать произведения, которые одинаково интересны зрителям не только России, но и многих стран мира… Он пишет живо, искрометно, «легкость в слове необыкновенная», при этом ставит такие глубокие вопросы, формулирует их столь широко, и сиюминутно, и вечно, что это близко людям разных стран, возрастов, профессий, социальных групп. И огромный зал театра — почти полторы тысячи мест — в день открытия фестиваля был переполнен. Да, честь — фестиваль собственных пьес! Об этом сказал председатель комитета Госдумы по культуре режиссер Станислав Говорухин. Но это и ответственность. Ведь может быть успех «на весь мир», а может и совсем наоборот. Это же ты идешь в люди, которые могут оценить твой выход по-разному. Да и попробуй создать такие произведения, чтобы их ставили театры, которые сегодня не могут себе позволить полупустых залов: искушенный и избалованный, да и обедневший, вынужденный экономить зритель должен захотеть прийти и разделить с драматургом, режиссером и актерами и радость, и печаль. <…>
Сам Поляков отметил, что из современного театра ушло слово. Его заменили мимикой, жестом, визуальностью — всем, чем угодно. А слова-то и нет. Русский театр был силен именно словом. В нем и глубина, и красота, и тональность — все важно и интересно. При этом словом нужно наполнить, но не затянуть его. Чтобы диалоги и монологи не превратились в токование и любование собой. Не впасть ни в морализаторство, ни в пустой брех. В русском театре было много драматурга! А сейчас — постановщики трюков, декораторы, мастера лазерного шоу, тренеры по рукопашному бою сталкивают со сцены автора-бумагомараку несчастного. И с ним сталкивают под сцену сам русский театр.
Итальянский журналист и политолог Джульетте Кьеза, побывавший на спектакле, поделившись наблюдениями, сравнил русский современный театр с европейскими, с итальянским в частности: «Уровень исполнения, пьеса, режиссура, оформление — все великолепно. Впечатления у меня сильные и от самого факта, что публика так эмоционально реагировала, так восторженно принимала постановку. Аншлаг в таком большом театре, который сам по себе очень красив и величествен, он создает особый эмоциональный настрой, приподнятость. У нас театр, по существу, умирает, а у вас, напротив, — есть люди, которые пишут, ставят, играют. Зрители, которые заполняют зал и солидарны с происходящим на сцене, живо реагируют. Значит, их это задевает. И у государства есть желание использовать театр как средство оздоровления духа общества, сделать общество с помощью искусства возвышеннее. Ведь в искусстве — а то, что мы увидели, настоящее искусство — имеют значение высокие ценности и профессионализм тех, кто создает произведения: и драматурга, и актеров, и режиссера. У меня создается впечатление, что Россия в настоящее время — на одном из самых высоких уровней культуры европейской цивилизации. Я вижу в России, и сегодня дополнительное подтверждение этому, целый ряд признаков высочайшей цивилизации. Это меня очень вдохновило. Почему так высоко оцениваю состояние уровня культуры в России? Не могу сказать, что этот уровень возрос в сравнении с прежним временем. Но на Западе везде наблюдается явный спад культурных традиций и характеристик. Все, по существу, ломается, идет настоящий культурный слом. В то время как у вас есть желание и возможности сохранить тот достойный уровень, который был достигнут, не снижать планку, что и выделяет вас. Когда вокруг все рушится, сам факт крепости культуры, ее устойчивости, поддержания высокой планки, оплота ее для общества имеет большое значение и очень обнадеживает меня как европейца».
Вот оно что! Нас призывают бежать за авангардом, который якобы являет западный театр. Упрекают и даже насмехаются над традицией, хранимой театром Дорониной. А он, этот авангард — упадок. То, что наши Смердяковы принимают за новизну и оригинальность, экзальтированную непредсказуемость действия на сцене, «новое движение» — попросту судороги! Судороги, а не авангардные экспрессия и новый вектор».
Подавляющее большинство зрителей, оставивших свои отзывы, в том числе в соцсетях, отмечали, что перед началом спектаклей у билетных касс царило оживление, что зал был полон, а публика много смеялась — и очень живо реагировала на реплики персонажей.
«Министр культуры Владимир Мединский, появившийся в Театре сатиры по случаю закрытия первых «Смотрин», признал, что «первый блин оказался совсем не комом», и тоже посокрушался, что в наших театрах дефицит драматургии на современные темы… — писала в газете «Культура» Антонина Крюкова. — Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал, как, организовав конкурс сатирических пьес весной этого года, был весьма разочарован его результатом, отобрав из множества текстов всего один. «Раньше сатира держалась на аллегории, подтексте, фиге в кармане. Сегодня фигу из кармана вытащили, но ни новых гориных, ни гоголей, ни Салтыковых-Щедриных нет».
Не поскупился на похвалы в адрес фестивального первопроходца единственный российский сатирик Михаил Задорнов: «Я посмотрел все спектакли по пьесам Юрия Полякова — у меня после них улучшается настроение. Это великолепная драматургия — в них есть то слово, которое может придумать настоящий, талантливый литератор, его тексты остроумны. Многие люди живут сегодня кривдой, а не правдой, политики поменяли плюс на минус, а Поляков вернул эти знаки на свои места, и после него в театральной жизни началось оживление и возвращение к советской драматургии». В Театр сатиры пришел еще один высокий гость — председатель комитета по культуре Госдумы режиссер Станислав Говорухин… «Пьесы Юрия Полякова — редкое явление в нынешней драматургии, — сказал Говорухин. — Они очень современны, хотя написаны по классическим канонам, без хаотичного новаторства, скрывающего беспомощность. Он — мастер. Кажется, это давно поняли все, кроме жюри «Золотой маски»
Многие из тех, кто в ноябре 2014 года присутствовал на чествовании Юрия Полякова во МХАТе им. М. Горького в связи с его шестидесятилетием, восприняли фестиваль «Смотрины» как продолжение тех юбилейных торжеств, с участием видных деятелей культуры, общественных деятелей и политиков. «Смотрины» и должны были пройти в ноябре 2014-го, но возникли организационные трудности, возможно, связанные с тем, что идея проведения авторского фестиваля Юрия Полякова казалась кому-то неприемлемой.
К шестидесятилетию писателя издательство «АСТ» выпустило первый том десятитомного собрания сочинений, озаглавленный «Время прибытия» (по названию первого сборника стихов), куда вошли ранние повести и стихи, многие из которых ранее не публиковались, дожидаясь своего часа в архиве автора. Издательство «Литературной газеты» выпустило к ноябрю 2014-го юбилейный сборник «Моя вселенная — Москва. Юрий Поляков: Личность. Творчество. Поэтика».
Тогда же в альма-матер Полякова МГОУ (бывшем МОПИ) прошла научная конференция, где выступили с докладами ученые, писатели, общественные деятели. По ее итогам издательство «У Никитских Ворот» выпустило объемистый сборник «Испытание реализмом» с предисловием Н. Н. Скатова. Среди авторов — Алла Большакова, Юрий Прохоров, Лев Колосов, Михаил Голубков, Владимир Агеносов, Дмитрий Каралис, Николай Казаков, Петр Калитин, Любовь Турбина, Ольга Шаталова, Татьяна Черкашина, Лариса Захидова, Александр Щипков, Лия Иванян, Галина Ореханова и др. В сборнике представлена также обширная библиография Полякова, охватывающая период с 1973 по 2014 год и включающая 2350 названий. Более 150 позиций занимают только его книги, изданные в СССР и Российской Федерации. Пожалуй, мало кто из современных авторов может похвастать таким количеством книг, публикаций и материалов о нем, напечатанных в периодике. И хотя эта библиография далеко не полная, следует отдать должное библиотекарю С. Путиловой, редактору-филологу К. Владимирову, библиографу П. Хвостовой, менее чем за год проделавшим эту громадную работу, на которую у коллектива специалистов уходит обычно несколько лет.
В показанном на юбилейном вечере в Музее А. С. Пушкина на Пречистенке фильме были отражены все достижения юбиляра: публика вновь увидела обложки десятков, если не сотен изданий его повестей, романов, афоризмов и публицистических книг, а также сборников пьес, фрагменты из идущих на различных сценах спектаклей, отрывки из снятых по его произведениям фильмов. Говорилось, конечно, и о деятельности Полякова на посту главного редактора «ЛГ». Юбиляра приветствовали мастера культуры и общественные деятели Владимир Меньшов, Станислав Говорухин, Вячеслав Никонов, Карен Шахназаров, Алексей Пушков, Александр Ширвиндт, Виталий Третьяков, Валентин Юркин, Лариса Васильева, Андрей Дементьев, отец Тихон Шевкунов и др. Было зачитано поздравление от Президента Российской Федерации В. В. Путина… Впрочем, иные деятели уклонились от участия в торжествах: в разгаре был скандал с «солженицынским пулом», прошел слух, будто вдова писателя была на приеме у президента, он ее всецело поддержал и Полякова снимают с газеты. Впоследствии все оказалось с точностью до наоборот: высказывания Полякова подтвердили сомнения власти в целесообразности присутствия «Архипелага ГУЛАГ» в школьной программе. Впрочем, все к лучшему: в подобных «пограничных» ситуациях становится ясно, кто дружит с тобой, а кто — с твоим общественным статусом.
Кстати, орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, не «датский», а совершенно заслуженный, так долго оформляли «наверху», что вручили значительно позже, более чем через год. Правда, при Ельцине награждение Полякова чем бы то ни было, даже грамотой за активную общественную работу, представить себе невозможно: более резкого и нелицеприятного критика власти, не имевшего при этом политических амбиций, тогда, пожалуй, и не было. Но и теперь Поляков не стал ни более приятным, ни более угодным — в публицистике он по-прежнему резок и требователен, да и в своих художественных произведениях он власть не щадит. Александр Ципко как-то сказал, что «публицистика Юрия Полякова — это публицистика национального, народного сопротивления. Она произрастает из слияния воедино нравственной потребности в справедливости и глубинного ощущения принадлежности к своему народу». Мы можем лишь добавить, что эти слова относятся ко всему творчеству писателя.
В одном из недавних интервью Поляков отмечал, что его мироощущение именно как сына своего народа с годами только усилилось: «Чем старше становишься, тем тебя больше волнует судьба твоего народа, твоей страны, мира в целом, чем твоя личная. От эгоистичного отношения мир «для меня» — к православному «я для мира». Это нормально, потому что нет ничего неприятнее агрессивно-эгоистичного старика».
Так что недаром он взыскателен и нелицеприятен. А особенно от него достается высокопоставленным чиновникам, которые тем не менее в массе своей принадлежат к числу его поклонников — так же как врачи, учителя, военные и техническая интеллигенция. Неплохая аудитория, не правда ли?
* * *
Подтверждением вышесказанному стала «эсхатологическая комедия» «Чемоданчик». В интервью ОРТ в январе 2016-го, когда шли премьерные спектакли «Чемоданчика» в Театре сатиры, объясняя, почему его новая пьеса — «комедия очень сердитая», Юрий Поляков поделился такими наблюдениями: «Год от года все острее и жестче зритель (в театре. — О. Я.) реагирует на социально-политические шпильки, репризы, уколы. Это симптом. Литература — это социальный сейсмограф. Публика гораздо раньше реагирует на какие-то грядущие социальные потрясения, чем даже политологи. И я заметил, что ощущение социальной несправедливости в обществе стало острее». И дело, конечно, не только и не столько в экономическом кризисе, сколько во вновь охватившем общество чувстве обманутых ожиданий: его не воодушевляет то, что президенту приходится вручную управлять огромной страной, как и то, что коррупционные скандалы становятся все глуше, а средства, уворованные из бюджета, обратно не возвращаются, и те, кто их украл, в лучшем случае отделываются смешными сроками, несравнимо более щадящими, чем присуждаемые мелкой шпане за ограбление уличной палатки.
Премьерные показы «Чемоданчика» имели успех, и дальше спектакль пошел на аншлагах — независимо от того, как его приняли критики. А критики, как водится, в своих оценках не совпали. Вот что писала искусствовед Мария Фомина: «Чемоданчик» — типично поляковская история. Он вообще мастер to tell stories, как любят говорить (и сами умеют это делать) американцы. И здесь есть все, что может привлечь публику: водевиль с неверной, но милой женой и чужим мужем под кроватью, ехидная пародия на театральную изнанку… Наконец, есть и политическая комедия… Особенно интересно, посмотрев спектакль с его лейтмотивом одесской песенки про чемоданчик, почитать саму пьесу. Она показалась нам глубже, чем в целом удавшийся спектакль, в котором опущены не только некоторые реплики, но и интонации героев. Глубже и печальнее в пьесе Надежда, жена Суперштейна и снайпер поневоле (тут есть переклички с еще одной женской судьбой — героини романа «Замыслил я побег…»). Да и «сама, сама» президентша тоже предстает женщиной «с трудной судьбой», недаром автор вкладывает в ее уста финальный монолог белым стихом (не хуже и глубже Димы Быкова!), стилизованный под «Бориса Годунова». Да, в России тяжела шапка Мономаха, демократия часто превращается в «театр для людей с ограниченными умственными способностями», народ молчалив, как тараканы, а люди, растащившие полстраны, «сидят не в тюрьме — в правительстве» (в спектакле последнее политкорректно заменено на губернаторов). Трубу с газом все тянут-по-тянут и никак не дотянут до костромской деревни, где живет чрезвычайно витальный отец главного героя — охранника президента: «Газ, сказали, в Европе нужнее. Там люди, а здесь народ. Потерпит. Не впервой». И что может поделать безмолвствующий народ, если «врачи и власть у нас никогда ни в чем не виноваты», а «пресса — как дрессированная собака: приносит в зубах только то, что ей бросили»?..»
Интересно, что во многом о том же, только в совершенно иной, отрицательной тональности, сказал, посмотрев спектакль, Григорий Заславский. Назвав пьесу «немудреной историей» и признавшись, что прочесть ее всю ему не довелось, Заславский тем не менее с досадой констатировал расхождения с авторским текстом, упростившие пьесу и сгладившие ее остроту, или, как сказал бы сам драматург, «сердитость». Недовольный критик более всего сосредоточился на режиссуре спектакля и актерской игре, посетовав, что нельзя из спектакля в спектакль выезжать на одних и тех же набивших оскомину приемах. Заславский упрекнул автора в том, что тот «стал главным официальным драматургом нашей эпохи», видимо, давая понять, что Поляков занял это место не по заслугам, был на него чуть ли не назначен. Интересно, кем и каким образом, если его драматургия никогда не была отмечена ни одной государственной или полугосударственной премией, а правительственная «Российская газета», столь внимательная к «новой драме», словом не обмолвилась ни об одной его громкой премьере, даже в столичных академических театрах.
Да и кто водил рукой Полякова, когда он писал свои пьесы? Ведь именно по этому итогу кто-то готов признать его «официальным драматургом», а не наоборот. «При этом сам он полагает, — продолжает известный критик, — что пишет острую политическую сатиру. Несколько по другому поводу в начале прошлого века известный тогда политик Павел Милюков заметил различие между оппозицией его величеству и оппозицией его величества». Любопытно, что пишет это человек, не находящийся в подполье или эмиграции, но вошедший во все экспертные советы Минкульта, ведущий передачу «Культпросвет» на канале «Мир», официальном органе Комитета по культуре стран СНГ, и недавно возглавивший главный театральный вуз страны.
Тем временем «Чемоданчик» пошел по стране. Вот странички из дневника Юрия Полякова:
«03.04.2015… 31-го приехали поездом в Ростов-на-Дону на премьеру «Чемоданчика». Большой драматический театр имени Горького — это огромное здание в виде трактора, шедевр советского конструктивизма 1930-х годов. Зал, под тысячу мест, был полон. Когда Пудин, всегда казавшийся мне сверхосторожным чиновником (он был личным помощником покойной Швецовой), выбрал для постановки «Чемоданчик», я удивился. Удивился я и когда он пригласил на постановку С. Яшина — бывшего худрука Театра имени Гоголя. Тот два раза собирался меня ставить. В начале 90-х — «Парижскую любовь», а в нулевые — «Халам-бунду». Мы ударяли по рукам, но потом выяснялось, что ставит он в очередной раз Т. Уильямса, которого любил со всей пламенностью. Когда Яшина стали снимать, освобождая площадку для более перспективного «первопроходца» Серебренникова, мне позвонил Андрей Яхонтов и сказал, что «за Сережу надо заступиться». Я ответил: «Пусть за него заступится Теннесси Уильямс!»
А. Пудин, оказавшийся креативным и системным руководителем, увидев готовый первый акт, сказал Яшину, что «прерывает эту беременность», и вызвал из Иркутска Ген. Шапошникова, поставившего там «Халам-бунду» — блестящий спектакль. И тот, поменяв актеров, поставил «Чемоданчик» с нуля за десять дней. Пудин придумал кордебалет из тараканов, очень смешной. Сам драматург, он чувствует сцену. Спектакль вышел отличный. Зал заходился от хохота. Хорош, даже в чем-то лучше Добронравова, капитан Стороженко. Просто уморителен Суперштейн. Кстати, актер Гайдамак играл у Шапошникова Мелехова. Узнать его невозможно. Поразительно талантлив! Не хуже Е. Миронова, даже лучше, но до Москвы вряд ли долетит: нет реактивного двигателя. В перерыве подходили ко мне зрители и спрашивали, не боюсь ли я так критиковать власть. И правда ли, что спектакль закроют? После долгих оваций отметили премьеру пивом с раками.
2-го съездили в Таганрог, где я никогда не был. Посетили огромный Музей Чехова. Шел по экспозиции и думал, что надо было сделать иначе в моей жизни, как ее прожить, чтобы «выписаться» в Чехова? Наверное, ничего… Все зависит от полученного от Бога таланта, который, как дерево с мощными корнями, добудет соки из самой скудной жизненной почвы…
Вечером был второй спектакль. Снова полный зал. Актеры работали более слаженно, держали паузы, не просыпали реплики, не наезжали на аплодисменты, вспомнили забытые вечор реплики и репризы. Среди зрителей прошел слух, что это — последний спектакль: уже пришло распоряжение — закрыть. Я успокаивал, мол, в Москве же не закрыли! Потом ужинали с актерами. Каждому подарил «Чемоданчик» с дарственной надписью…»
Завершая разговор о драматургии Юрия Полякова, хотелось бы процитировать его программную статью, касающуюся процессов, происходящих в современной культуре, опубликованную в «ЛГ» в 2015 году и имевшую большой резонанс.
…………………..
Становлюсь «историческим» человеком. Не успели утихнуть страсти по «детектору патриотизма», о необходимости которого я образно обмолвился в эфире, как грянула история с худсоветами. И на меня вновь ощерился отечественный Либерафан — извечный враг Левиафана. Либерафан, кстати, вовсе не золотая рыбка, исполняющая общечеловеческие желания, а тоже чудище «обло, озорно, стозевно»: за нашу и вашу свободу в клочья порвет.
Дело было так. Общественная палата затеяла круглый стол «Театр и общество», навеянный, конечно, скандалом с новосибирским «Тангейзером». Выступая там, я, помимо прочего, вспомнив о пользе советских худсоветов, предложил создать при Министерстве культуры «конфликтный худсовет» — КХС. Что-то вроде МЧС, но только в сфере искусства. У вас беда? Тогда мы летим к вам. Или идем, если беда, скажем, в Московском драматическом театре имени Станиславского, измученном электричеством. Всероссийской свары в Новосибирске можно было избежать, если бы вовремя вмешалась группа товарищей, «неглупых и чутких», представляющих разные «тренды» отечественной культуры, но озабоченных ее процветанием. Однако помощь пришла поздно, да еще в виде православных протестантов, и Москва стала прирастать Сибирью. Вот уже и свиная голова опасно улыбается на пороге МХТ имени Чехова, предостерегая Олега Табакова, что из доставшейся ему половины Художественного театра не следует устраивать кунсткамеру с заспиртованными богомолами.
И вот, едва я заговорил о худсоветах, поднялся шум. Реакция была такая, словно я предложил прилепить на грудь нашему двуглавому орлу серп и молот. Не меньше! Гнев изрыгали и театральные брехтазавры, хранящие на заслуженной чешуе рваные раны от проклятого совка. Сердилась и СМИ-шная молодь, для которой перестройка — кумачовая древность. Почему такая реакция? Какой плавник коллективного Либерафана я ненароком задел? Давайте разбираться. И начнем с «Тангейзера». Всем хочется придумать что-то новое. Кулибин, например изобретал. Кулябин изголяется. Сам признался в интервью: взыскуя славы и просчитывая будущий эпатаж, он колебался между Холокостом и Христианством. Выбрав второе, режиссер не ошибся, в противном случае, не доводя дело до премьеры, его просто тихо смахнули бы в творческое небытие, как таракана, забежавшего на праздничный стол. Режиссера лишить профессии гораздо легче, чем, например, писателя или живописца. Он без театра как генерал без рядовых. Постановщику для самовыражения нужно слишком много, прежде всего — деньги. А деньги в России дает государство и режиссерам, и олигархам.
Иные спрашивают: а в чем, собственно, преступление молодого постановщика, за которое наказали директора театра? В богоборчестве? Но сложные, противоречивые отношения искусства и религии теряются в веках. Кстати, Вагнер будучи христианином, уносился гением в пучины германского племенного язычества, предвосхищая наступательную мистику Третьего рейха, за что его музыку в некоторых странах даже не исполняют, а 200-летие композитора отметили, в том числе и в России, словно извиняясь. «ЛГ» — редкое исключение. Но если мы однозначно встанем на сторону клира, то куда денем лицейский «афеизм» Пушкина, антипоповские выходки молодого Есенина, лефовское безбожие Маяковского? Впрочем, одно дело — искреннее, мятежное, заложенное, видимо, в генезис таланта богоборчество, которое художник сам преодолевает, если доживет. И совсем другое дело, когда богохульство — расчетливый продюсерский ход. Если хотите, кощунство и святотатство — это шпанская мушка и виагра современного искусства. По-другому не получается…
Если кто-то думает, что найти «смелый ракурс» для рекламной заманухи безумно трудно, то он сильно ошибается. Вот вам навскидку «версия», в отличие от Кулябинской вытекающая из замысла Вагнера, а он был не только композитором, но и поэтом, лично сочиняя либретто, выверяя каждое слово. Помните, Тангейзер за свои венерические грехи так и не вымолил пощады у Папы Римского, видимо, индульгенции на тот момент кончились. Понтифик, явно в насмешку, сказал, что прощение грешный рыцарь получит, когда расцветет и прорастет папский посох. То есть никогда. Как известно, посох, жезл — это традиционные замещающие фаллические символы. Справьтесь у Фрейда или ближайшего сексолога. Теперь вообразите: в финале оперы на сцену выходит сам Папа Римский с расцветшим фаллосом. Пардон, с «замещающим символом». Ну и как вам? Учитывая нынешнее недружелюбие Польши, понтифику можно придать внешнее сходство с Иоанном Павлом (Войтылой). Думаю, скандал из Новосибирска через Москву перекинется в Брюссель. А дальше — переговоры в Минске, под эгидой Лукашенко. Баш на баш: вы снимаете санкции, а мы — «Тангейзера». Вот это скандал!
…В чем же суть нынешнего конфликта? Почему общество лихорадит то от тельмановских пакостей, вроде выставки «Осторожно, религия!», то от кривляний «Пуси райот» у алтаря, то от занудных непотребств Богомолова? А теперь вот и Тим Кулябин поместил Спасителя в венерический лупанарий. «Художник на все право имеет! Потомки разберутся!» — воскликнет редактор журнала «Театр» Марина Давыдова, которую от комиссарши Гражданской войны отличает разве отсутствие маузера на ремне. Да, имеет. Причем такое же, как и граждане, протестующие, что их налоги идут на оскорбительные выдумки и экспериментальный вздор. Лучше поможем детям Донбасса!
Но не все так просто. Проблема куда глубже… Как примирить право художника на самовыражение с правом людей не страдать, попав в информационно-культурное пространство, засоренное отходами фобий, галлюцинаций и умопомрачений? Не включать телевизор, не ходить в театр? Тогда давайте и голодать, ведь в колбасе попадаются крысиные хвостики! Лично я не хочу, чтобы мой внук, придя на «Евгения Онегина», скажем, в Театр имени Вахтангова, увидел, как актера декламируя: «Татьяна, русская душою», указывает пальцем на свой замещающий жезл. Видимо, господин Туминас полагает, что русская душа расположена не там, где литовская.
И вот еще проблема, которую я пытался поднимать, когда вел передачу «Контекст» на «Культуре», вызывая глухое недовольство приглашенных экспертов и бессильное сочувствие руководства канала. Чтобы понять степень новизны, зритель должен иметь хотя бы представление о норме, об «исходнике», с которого начинается чреда интерпретаций. Ведь согласитесь, по сравнению с Гамлетом-капрофагом Гамлет-гей — это вроде как и норма. Когда-то я был учителем-словесником, не могу даже сообразить, куда бы сегодня можно повести учеников, чтобы они увидели на сцене «исходник». ТЮЗы давно превратились в зоны рискованного, если не болезненного самовыражения худруков. Но внутренняя ориентация на норму необходима. Не случайно психиатры частенько повреждаются в уме. Почему? Да потому что больше общаются с ненормальными, чем со здоровыми. В такую же ситуацию зачастую поставлен нынешний зритель и читатель. Берешь в руки «Большую книгу» и, кажется, читаешь историю болезни, позаимствованную из психдиспансера.
Ну ладно, в Москве еще есть места. Но наш Либерафан активно мечет икру во все пределы Отечества. Что прикажете делать, если в единственный облдрамтеатр присылают пестуна «Золотой маски» (так случилось в Пскове), и тот выгоняет на сцену полуголых пионерок читать дурными голосами «Графа Нулина»? Что остается пока еще нормальным губернским гражданам, желающим вырастить нормальных детей? Взять штурмом театр и повесить потерявшего меру новатора на колосниках, как на рее? Успокойтесь, пошутил…
Вот для подобных конфликтных ситуаций я и предложил создать КХС, чтобы в спор вступала третья сторона, безусловные авторитеты, к мнению которых прислушаются. Другого выхода нет. Театральная критика давно превратилась в приживалку при «Золотой маске». А Минкульт традиционно воспринимается творческой интеллигенцией как щупальце Левиафана. Кстати, худсовет быстрого реагирования не обязательно должен в конфликте вставать лишь на сторону возмущенных традиционалистов, которые тоже ошибаются. В случае, если дерзость художественно оправдана и не является кощунством, КХС защитит экспериментатора, сказав «фу!» Левиафану.
Впрочем, конфликт между Левиафаном и Либерафаном вечен, в нем заложено неразрешимое противоречие между теми, кто хочет неведомо нового, и теми, кому достаточно обжитого старого. Все, что мы имеем, результат компромисса. Если Левиафан и Либерафан не договариваются, они гибнут. При этом каждый думает, что победил…
(«Левиафан и Либерафан»)…………………..
Когда отмечалось 125-летие Михаила Булгакова, Поляков опубликовал в «Литературке» небольшую статью с характерным названием «Булгаков против электротеатра», где не только высказал свое мнение о великом писателе, но и косвенно, прибегая к исторической аллегории, ответил и своим критикам в лице Заславского, Егошиной и др.
…………………..
Михаил Булгаков — один из немногих, кто в сверхполитизированные 1920—1930-е годы писал так, как хотел, повинуясь лишь своей внутренней свободе. Помните восклицание Воланда? «О ком, о ком? О Понтии Пилате? Это сейчас-то?» Да, сейчас. Можно сказать, мастер существовал вне тогдашних «букеров», «больших книг», «золотых масок» с их идеологическими, тематическими, а то и мелко конъюнктурными установками. Тогда, например было выгоднее ненавидеть царскую Россию. Сегодня — СССР. Разница? Никакой. Да, «репертком» Булгакова не любил. А что, разве нынешний «агенпоп» любит самостоятельных писателей?
Однако именно этим самостояньем, помимо замечательного таланта, объясняется долговечность читательского и зрительского успеха Булгакова. Литератор гуляющий на поводке у власти, оппозиции или влекомый запахом сыра в премиальной мышеловке, устаревает так же быстро, как лозунг вчерашних выборов. Именно внутренняя свобода так бесила его собратьев по перу и его неистовых зоилов, недоумевавших, куда же смотрит ОГПУ. Между прочим, Г. П. Ухов — один из его псевдонимов. Улавливаете? Как говорится, наш ответ Киршону. Нынешним критикам, обслуживающим теперешнюю «Акустическую комиссию», чаще надо бы заглядывать в педантично составленный памятливым Михаилом Афанасьевичем список его хулителей и очернителей: Авербах, Алперс, Бачелис, Безыменский, Билль-Белоцерковский, Блюм, Вишневский, Киршон, Лелевич, Машбиц-Веров, Орлинский, Пельше, Пикель, Рубинштейн, Циновский и т. д. Желаете, господа, остаться в истории отечественной словесности таким же образом? Нет? Уже остались. Кстати, составитель одной из последних биографий Булгакова поостерегся включать приведенный список в свою объемистую книгу. С чего бы это?
Нет, язвительный автор «Собачьего сердца» совсем неслучайно придумал для контрольно-указующих органов и ватаг кличку «Акустическая комиссия», ибо замалчивание тоже есть вид запрета. «Акустика», точнее сиюминутный резонанс — результат того, что сейчас мы называем «пиаром» и «манипуляцией общественным сознанием». Но искусственная акустика недолговечна, ее результат рассасывается порой еще до того, как очередной «любитель домашних птиц» Семплеяров вылетит из кресла. Записные акустики, сидевшие не столько в ЦК и ОГПУ, сколько в Союзе писателей, замалчивали мастера почти полвека. И что? Вы давно были на премьере Билль-Белоцерковского или перечитывали на ночь Безыменского? А ведь они «классики» той эпохи! Любимцы «Акустической комиссии». Лауреаты всех степеней. Кавалеры всего, что висит. И где они теперь? Зато латунские поголовно стали булгаковедами и пишут биографии мастера.
Шел я недавно по Тверской улице мимо «электротеатра «Станиславский» и вспомнил вдруг, что когда-то здесь, в Московском драматическом театре имени Станиславского, впервые увидел «Дни Турбиных» в постановке Михаила Яншина с Евгением Леоновым в роли Лариосика. Великий был спектакль! И такая мрачная символика… Ведь именно «электротеатру» насмерть противостоял драматург и режиссер Михаил Булгаков, Нет, я не о синематографе, боже упаси. Я о той выдуманной сценической новизне, что горит не живым одухотворенным светом, а лишь рябит да прыгает в глазах, точно голые бояре на трапеции. Эта новизна словно подключена к тарахтящей «динамо-машине», снабжающей дурной энергией очередной окончательный эксперимент над искусством и здравым смыслом.
Не огорчайтесь, Михаил Афанасьевич, и этот «электротеатр» ненадолго.
…………………..
* * *
Осенью 2007 года Поляков перешел из «Росмэна» в издательство «АСТ»: сотрудничество с благополучным детским издательством, выпускающим заодно взрослую литературу, оказалось в целом удачным, но не вполне. Тиражи поляковских сочинений пусть и выросли — особенно за счет новинок и суперуспешного романа «Грибной царь», — но все же не стали массовыми, в то время как рыночный потенциал у книг Юрия Полякова оставался велик. Впрочем, появился у него и некий новый опыт — в «Росмэне» вышел первый сборник его афоризмов «Слово за слово. Карманный цитатник от Юрия Полякова» — и книгу пришлось дважды допечатывать, так как тиражи в магазинах буквально разлетались.
Издательство «АСТ», куда перешел Поляков, а точнее, его «дочка» — издательство «Астрель» было в ту пору одним из ведущих, а по некоторым показателям — крупнейшим в России. Юрия Полякова там не просто знали, но относились к нему с почтением и считали большой удачей заполучить произведения этого автора в свой издательский портфель. Более того, «АСТ» поборолось за автора с другим крупным издательством — «Эксмо» — и победило, сделав писателю предложение, от которого он не смог отказаться.
Уже в начале 2008 года в «АСТ» — «Астрели» вышли все его произведения в персональной, оригинально оформленной серии «Геометрия любви», получившей такое название по одноименному эссе, написанному к сборнику «Треугольная жизнь», куда вошли романы «Замыслил я побег…», «Грибной царь» и повесть «Возвращение блудного мужа». В этом эссе мы находим и такое любопытное самонаблюдение:
«Никогда не думал, что стану автором «мужских» романов, интересных, впрочем, также и женщинам. Мне всегда казалось и кажется до сих пор, что членение литературы по половому признаку — нелепость. Однако, как писали в советских учебниках, «художественная реальность часто оказывается шире замысла автора». И вот как-то раз, вскоре после того, как моя семейная сага «Замыслил я побег…» увидела свет, произошел занятный эпизод. Во время пафосного юбилейного мероприятия один из руководителей нашего государства, удивив охрану, изменил направление торжественного движения, решительно направился ко мне, отвел в сторону и тихо сказал:
— А знаете, вы в «Побеге» прямо-таки про меня написали!
Потом он внимательно посмотрел мне в глаза, давая понять, что сообщенная информация совершенно секретная и разглашению не подлежит, вернулся к своим квадратным телохранителям и ушел рулить страной.
Впоследствии я неоднократно слышал подобные признания от своих чиновных и бесчинных читателей, и это навело меня на мысль, что в душе даже самого образцового семьянина таится брачный беглец. А один мой давний приятель сказал даже так:
— Ты, Поляков, сдал нас, мужиков, с потрохами!
Кстати, это выражение — «сдал» — преследует меня чуть ли не с самого начала моей литературной работы. Сначала я «сдал» в повести «ЧП районного масштаба» (1985) комсомол. Потом в повести «Сто дней до приказа» (1987) — армию. Затем в «Апофегее» (1989) — партию. Далее в «Демгородке» (1993) — демократию. Позже в романе «Козленок в молоке» (1995) — писательское сообщество. И вот, наконец, сочинив «Замыслил я побег…», сдал мужиков как таковых…
Сначала это выражение меня немного задевало, как и то, что критика успех каждой моей новой вещи неизменно объясняла «конъюнктурой». Но если это конъюнктура, то, согласитесь, какая-то мистическая и от воли автора явно не зависящая. Скорее всего, тут другое: важнейшей составляющей частью художественного дара является интуитивное умение совпасть с главной болью своего времени. Деятели, такой способностью не обладающие, всегда будут барахтаться или в патоке официоза, или в нечистотах вечного сопротивления.
Со временем я понял и еще одну вещь: критики часто мстят писателям за то, что настоящая литература ходит совсем не теми стежками-дорожками, которые намечают для нее теоретики художественного процесса. Вот ведь и постмодернизму отводилась роль главной творческой магистрали, или, как выражаются продвинутые критики, «мейнстрима». А вышло что-то вроде тропки к дачному сортиру. Литератор, добившийся у публики успеха, не запланированного и не предсказанного критикой, непременно будет обвинен в конъюнктуре, даже если изложит свой новый замысел с помощью индейского узелкового письма. Да и леший с ними: критики по сути своей очень напоминают (за редким исключением) лакеев, допивающих из хозяйских бокалов, но воображающих себя при этом дегустаторами, а то и виноделами.
А вот выражением «сдал» я со временем стал гордиться, ибо в это слово на самом деле читатель вкладывает совершенно особый смысл — признает, что тебе как автору удалось выйти на некий новый, непривычный, удивляющий и даже шокирующий уровень душевной искренности, социальной достоверности и художественной убедительности. Предвижу чье-то раздражение, но скажу: главная миссия художника и заключается в том, чтобы «сдать» свое время, своих современников да и себя самого, то есть сказать читателям такую правду, какую они сами себе не смеют или еще пока не умеют сказать. Только умоляю, не путайте эту правду жизни с откровенной чернухой, когда вам рассказывают не о жизни, а об отходах жизнедеятельности организма или общества. Разумеется, писатель на белый свет может взирать отовсюду, даже из унитаза, но в таком случае у читателей складывается ложное впечатление, будто весь наш мир населен исключительно задницами и гениталиями. А разве ж это так?»
В том же 2008 году — в порядке эксперимента — увидела свет первая часть, по авторскому замыслу дилогии, но, как показала жизнь, трилогии и даже тетралогии — романа «Гипсовый трубач».
Первая книга, «Гипсовый трубач, или Конец фильма», вызвала ажиотажный интерес и принесла автору немало огорчений: читатели и почитатели, встреченные в самых неожиданных местах: на улице, в Кремле, в приемной у стоматолога, в самолете, требовали продолжения, и как можно скорее. Между тем писатель не считал себя вправе отдавать в печать сырую, недоделанную вещь. Его персонажи еще жили своей жизнью, отдельной от автора, у них менялись имена, корректировались биографии, да и сюжет обрастал все новыми подробностями, а самыми острыми — и смешными — как водится, были сатирические зарисовки, обильно сдобренные точными бытовыми деталями. Короче, смех сквозь слезы. Читателям хотелось поскорее узнать, чем все закончится, — но автору, возможно, и самому еще не до конца были известны все повороты сюжета. Он негодовал на издателей, сподвигнувших его на этот мучительный эксперимент, тем более что все больше времени занимала у него драматургия. И тем не менее каждая из частей трехкнижия была встречена читателями на ура.
Работа над романом-эпопеей «Гипсовый трубач» растянулась на несколько лет. Вначале выяснилось, что второй книгой дело не кончится, затем долго дописывалась третья часть, все более вырастая в объеме, а эпилог превратился в небольшую повесть. Идея обложки первого тома «Трубача», вышедшего в 2008 году, принадлежала автору: на ней красовалась Мэрилин Монро в пионерском галстуке. Замысел понятен: рассказ Кокотова «Гипсовый трубач», послуживший запалом для разветвленного сюжета и толчком к написанию сценария героями романа, повествует о пионерском детстве. А Мэрилин — символ мирового кинематографа, особенно в том жанре, который принято называть «лав стори». Именно чередой любовных историй, которые рассказывают друг другу писатель и режиссер, прежде всего захватил читателей новый роман. Не дожидаясь предложений от дизайнера, очень известного книжного графика Андрея Фереза (он всегда читает книги, которые оформляет, а это такая редкость в наше время!), Поляков сразу предложил для второго тома, вышедшего в 2009-м, «красногалстучного» Элвиса Пресли. А весной 2012 года, с опозданием, вышел третий том, с Фантомасом — тоже пионером. Намек очевиден: именно в последнем томе срываются все маски и вскрывается подоплека хитроумной интриги. Автор так вспоминает о затянувшейся работе над своей «иронической эпопеей»:
«Ну и когда вы закончите роман?» — спросил издатель, глядя на меня с ласковой неприязнью. «Года через два…» — ответил я, страдая от полученного и потраченного аванса. «Это невозможно! Сколько вы уже написали?» — «Листов пятнадцать…» — «Так это ж целая эпопея! Будем печатать частями…» — «Никогда!» — гордо ответил я. Однако, вернувшись домой, как и положено русскому интеллигенту, я предался шершавой сладости сомнений. В самом деле, Шолохов печатал «Тихий Дон» частями? Печатал. Голсуорси печатал «Сагу о Форсайтах» частями? Печатал. Надо брать пример с великих. И я согласился, тем более что написанный фрагмент представлял собой законченный сюжетный цикл — один из трех задуманных. Вторая, завершающая часть должна была выйти через год, что и было обещано на последней странице первого тома: «Окончание следует». Однако, как я уже сказал, «Гипсовый трубач» разрастался и ветвился, напоминая дерево с затейливой кроной да еще с пышными омелами вставных историй, вроде «Змеюри-ка» или «Голой прокурорши». Я поначалу пытался решительно рубить излишние побеги, но потом понял, что нарушаю некую внутреннюю вольную самоорганизацию текста, которая от меня уже не зависит. И я отдался на милость самостийного слова.
В результате мои верные читатели, купив в 2009 году якобы «последний» второй том, с удивлением обнаружили, что окончание все еще следует. Чувствуя вину, я в газетных и телевизионных интервью заверял, что не позднее осени 2010-го закончу историю игровода и писодея, представив ее на суд любителей современной словесности. Как я ошибался! Оказалось, чтобы свести разбежавшиеся сюжетные линии и завершить судьбы героев, понадобилось написать столько же страниц, сколько содержали два первых тома вместе взятых. А что делать? Постмодернистам, им легко: у них есть заветный принцип «нон-селекции», который означает примерно следующее: как получилось — так и вышло. Пропала в романе сюжетная линия, словно вклад в банке «Чара», — это, значит, такой художественный прием, продвинутый. Исчез персонаж, словно монета в дырявом кармане, — это, выходит, другой прием, еще более продвинутый. А если бедный читатель после пятой страницы начинает тосковать, точно в очереди к проктологу, — это не что иное, как третий прием, даже принцип: книги пишутся не для читателей, а вообще…
Но я литератор старой школы, можно сказать, забубенный реалист. Мой принцип: занимательность — вежливость писателя. Я всегда рассказываю начатую историю до конца и не забываю героев, как увечных младенцев в роддоме. Потому работа над завершающим томом затянулась. С одной стороны, мне было стыдно за нарушенные обещания, и я торопился. С другой — я вдруг столкнулся с тем, что особенно дорого каждому писателю, — с нетерпеливым интересом читателей к окончательной судьбе моего сочинения. С вопросом: «Когда же третья часть?» — ко мне обращались самые разные люди, в самых разных местах. Дело в том, что человек я телевизионный, и многие помнят меня в лицо. Однажды на каком-то приеме военный комендант Кремля строго спросил: «Когда?» Я понял: дело плохо, надо поторапливаться, и наддал, закончив роман весной 2012-го. И вот мы с женой возвращались откуда-то самолетом. Подошел стюард и вежливо так поинтересовался: «Когда можно и можно ли ожидать окончание «Гипсового трубача»?» — «18 апреля поступает в продажу!» — гордо ответил я. «Тогда — шампанского!» — воскликнул он. И до самого приземления мы пили «Вдову Клико» за счет авиакомпании…»
«Гипсовый трубач» стал первым произведением, которое автор не напечатал в журнальном варианте, но зато, следуя своему принципу, в течение четырех лет он исправно публиковал фрагменты в периодике: в «Лит-газете», «Московском комсомольце», «Комсомольской правде», «Литературной России» и др. Осенью 2012-го Поляков занялся общей авторской редакцией, тщательно выверяя все детали и описанные в романе обстоятельства, вплоть до дат, дней недели и времен года — его писательское кредо всегда заключалось в максимальной точности и достоверности малейших мелочей, и он ему никогда не изменял. Наконец в конце 2012-го — начале 2013 года толстенный роман, исправленный и дополненный, перекомпонованный и разделенный на четыре части плюс эпилог — в новой авторской редакции — вышел целиком, под одной обложкой. Автор реализовал свой давний замысел: создать обширный и свободный роман (не зря же взял эпиграф из Пушкина: «…И даль свободного романа») наподобие «Декамерона», который можно читать с любой страницы и который может надолго стать настольной книгой у читателей самых разных социальных слоев и профессий. Кроме того, специально для этого издания он написал большое эссе «Как я ваял «Гипсового трубача», в котором, помимо прочего, дал историю создания романа, начиная с первого, еще мимолетного замысла. Подобный тщательный самоанализ, несомненно, интересен не только специалистам по психологии творчества, но и всем поклонникам творчества Юрия Полякова.
…………………..
Наверное, читателям интересно, из какого жизненного сора растут, не ведая стыда, не только стихи, но и романы. Мне, кстати, тоже интересно. И, будучи по образованию литературоведом, даже остепененным, я иногда с интересом наблюдаю за собой-писателем, пытаясь найти закономерности в том странном созидательном хаосе, который именуют творчеством. Наверное, так же и врач наблюдает себя, собственную болезнь — от первых невнятных симптомов до выздоровления или же, увы, летального итога…
Начну, как говорится, от яйца Леды. Давным-давно, в середине 70-х, я задумал написать рассказ или повесть (как пойдет) про пионерский лагерь, точнее про пылкую любовь, охватившую двух юных вожатых, разумеется, разнополых: я, знаете ли, традиционалист. Мне грезились довольно смелые телесные сцены — так сказать, наш, советский ответ «Темным аллеям» Бунина. Материала для такого сочинения у меня было более чем достаточно. Все мое летнее детство я провел в простеньком пионерском лагере, принадлежавшем на паях Макаронной фабрике и Маргариновому заводу, где работала в майонезном цехе моя мама Лидия Ильинична. Наша здравница располагалась близ станции Востряково Павелецкой железной дороги, километрах в пяти от речки Рожайки, куда мы раз в смену отправлялись в однодневный поход — к плотине.
Потом, повзрослев, я работал в пионерском лагере художником, ибо учился на подготовительных курсах Московского архитектурного института. Потом я поступил в Московский областной пединститут на факультет русского языка и литературы и после второго курса поехал на летнюю педагогическую практику — вожатым. Собственно, эти два взрослых пионерских лета, переплетясь, перепутавшись в моей памяти, и легли много позже в основу «Гипсового трубача». В лагере вожатые и педагоги жили особой жизнью, насыщенной дневным воспитательным героизмом и ночной безответственностью: крутились беспорядочные романы, случались хмельные грехопадения, однако бывала и верная любовь, краткая, как подмосковное лето. Но больше об этом ни слова, ибо я женат давно, можно сказать, с детства, а жены писателей читают сочинения мужей, как следователи по особо важным делам читают чистосердечные признания преступников.
Собственно, о таком вот летнем лагерном романе я и хотел написать лирический рассказ или повесть, но в ту пору поэт во мне еще медленно остывал, а прозаик только разгорался, и все закончилось стихотворением, которое долго потом редакторы не решались включать в мои сборники. Зато на поэтических вечерах в Доме литераторов я читал эти стихи с лихой безответственностью и всегда срывал аплодисменты:
Ныряет месяц в небе мглистом. И тишина, как звон цикад, Плывет над гипсовым горнистом, Дрожит над крышами палат. Колеблет ветер занавески. Все, как один, по-пионерски Уставшие ребята спят. А там, за стеночкой дощатой, Друг друга любят, затая Дыханье, молодой вожатый И юная вожатая. Всей нежностью, что есть на свете, Июльский воздух напоен… Ах, как же так! Ведь рядом дети… Она сдержать не в силах стон… Ах, как же так! Но снова тихо. И очи клонятся к очам. …И беспокоится врачиха, Что дети стонут по ночам.Возможно, я бы так и не вернулся к «пионерскому замыслу», но тут, кажется, в 86-м, ко мне прибился молодой композитора его фамилию я давно забыл, но имя отчетливо помню: Тенгиз. Он очень хотел, чтобы я написал песню на его музыку, приглашал к себе домой, играл на рояле свои сочинения, а его мама кормила нас домашними грузинскими блюдами. Я жил в ту пору в Матвеевском, на Нежинской улице, в ДВК — Доме ветеранов кино, построенном на участке, примыкающем к ближней даче Сталина, куда машины «скорой помощи», воя, везли будущих матерей. Именно ДВК (вкупе с домами творчества кинематографистов в Болшеве и писателей в Переделкине) послужил прообразом «Ипокренина». Впрочем, каскад прудов я позаимствовал у дома отдыха Гостелерадио в Софрине. Но в творчестве это обычное дело: с миру по нитке…
А в ДВК я оказался не случайно. Патриарх советского кино Евгений Иосифович Габрилович предложил мне написать с ним в соавторстве сценарий. <.. > Мы начали работать над сценарием. Чтобы каждый день не ездить из Орехово-Борисова в Матвеевское, я купил путевку и тоже поселился в ДВК, который был домом престарелых и домом творчества одновременно. А композитор звонил мне каждое утро и говорил ласково: «Здравствуй, это Тенгиз. Ну, как наши дела?» После выхода «ЧП…» я страдал в первых лучах литературной славы, сопряженной часто с неумеренным употреблением алкоголя, и был необязателен: синдром похмелья и творческое усердие — две вещи несовместные. Хотя, должен признаться, иные неожиданные идеи зарождаются именно в похмельном мозгу. Но, увы, для многих молодых талантов, не научившихся соизмерять написанное с выпитым, первые лучи славы оказались последними. Я долго огорчал настойчивого Тенгиза, пока однажды вдруг его мелодия, которую я по вечерам прокручивал на диктофоне, не разбудила во мне воспоминания о пионерском лагере, теплых ночах у брызжущего искрами костра и хорошенькой баянистке Тае, которая была старше меня лет на десять. И сразу же получилось:
Только прошу тебя: «Не плачь!» Только прошу тебя: «Не плачь!» Я задержу в своих ладонях твою руку. Ты слышишь, гипсовый трубач, Маленький гипсовый трубач Тихо играет нашу первую разлуку…Тенгиз обрадовался, взял текст, сказал, что скоро нас запоет весь Советский Союз, и исчез навсегда. А лет через пять исчез и Советский Союз, странная империя, пытавшаяся, как советовал Тютчев, сплотить народы не кровью, а любовью. А там, мол, посмотрим, что сильней! Кровь, точнее зов крови оказался сильней.
«Пионерский» замысел снова увлек меня в конце 80-х, когда с радостным уханьем рушили все советское, а пионерские лагеря выставляли чуть ли недетскими подразделениями ГУЛАГа. Кстати, в ту пору «пионерский сюжет» стал обретать в моем воображении явные черты разоблачительной прозы, хлынувшей тогда на страницы журналов бурным селевым потоком. Мне грезилась жуткая история о том, как чистую, трепетную любовь героев, зародившуюся в душной оторопи цветущего шиповника, затоптали хромовыми сапожищами, испоганили перекрестными допросами и очными ставками, сгноили на мордовских нарах безжалостные гэбэшники.
…После скандального «Апофегея» я, молодой, полный «веселой злобы» литераторк засел, наконец, за «Гипсового трубача». Название явилось само собой из песни, которую мне все-таки удалось сочинить для композитора Тенгиза. Надеюсь, он жив и благоденствует в новой Грузии, независимой, как цветок персика. Сюжет повести под влиянием политических треволнений претерпел изменения и обрел откровенно перестроечные черты. Нет, пионерский лагерь остался. Сохранилась и беззаконная страсть, бросившая вожатого-практиканта Львова теперь уже в зрелые, но пока еще нежно-хваткие объятия замужней воспитательницы Зои. Однако ночные отлучки парочки из спального корпуса, их упоительные бесчинства в росистых июльских травах выследил и заснял лагерный фотограф, ранее отвергнутый пылкой, но разборчивой Зоей. Снимки ложатся на стол директора лагеря Добина — злобного партократа, сброшенного на эту унизительную должность за какую-то жуткую провинность. Зоя прямо с утречка, еще не остыв от своего позднего женского счастья, вызвана к начальству, ей предъявлены уличающие фотографии и ультиматум: или снимки отправляются прямиком к законному мужу — человеку ревнивому, военнослужащему и вооруженному, или она идет на компромисс. А именно: на днях в лагерь попариться в баньке приезжает большой начальник, от которого зависит, скоро ли окончится опала Добина. Так вот, если Зоя как следует поработает веничком и бонза останется доволен, в этом случае…
Окончание сюжета я помню смутно, так как повесть застопорилась в самом начале. Кажется, Зоя призналась любимому, что вынуждена принять гнусное предложение… Ослепленный гневом Львов сначала мчится к злодею Добину и, кажется, справедливость торжествует: от развратного директора как раз выбегает в слезах то ли поруганная пионерка, истекающая девственной кровью, то ли красногалстучный отрок испорченной ориентации… Тугие частые выстрелы нарушают сонный покой пионерского лагеря…
Конечно, дорогой читатель, я что-то утрирую, потешаясь над собой, тогдашним. Но в целом сюжет пересказан точно. И можно только изумляться тому, как черная плесень самоненависти поразила в те годы огромную часть общества, включая и автора этих строк. Слава богу, я все-таки почувствовал злонамеренную нелепость сюжета… Толи рабоче-крестьянское происхождение не снабдило меня необходимой ненавистью к советской власти, то ли судьба разминула с пламенно нездоровыми диссидентами, не дав пострадать от репрессивных органов. Так или иначе, разоблачительная пионерская повесть тихо уснула во мне, как осенний слепень за стеклянной рамой.
А вокруг тем временем поносили и рушили ненавистный «совок»: кто-то мстил за дедушку, отсидевшего то ли за анекдот про Сталина, то ли за двойную бухгалтерию, кто-то взъелся, потому что это стало выгодно, кто-то просто наслаждался шелестом свежих знамен. А мне вдруг захотелось написать об уходящей советской эпохе по совести, искренне, а значит, не злобно. В результате я написал «Парижскую любовь Кости Гуманкова».
Очередная моя попытка написать «Гипсового трубача» связана как раз с нараставшим чувством утраты уходящего советского мира. Не знаю, наверное, кто-то расставался с этим прошлым, смеясь, ерничая и глумясь. По моим наблюдениям, так себя вели как раз люди, взявшие от советской власти больше, чем можно унести. Кажется, в 93-м я дал интервью «Московской правде» о том, что пишу повесть «Гипсовый трубач». После ехидного политического памфлета «Демгородок», вышедшего в журнале «Смена» в те дни, когда дымился расстрелянный парламент, мне захотелось сочинить что-то нежное, зыбкое, печальное. Тут-то и всплыл в памяти старый пионерский замысел. Я сел и написал, наверное, страниц двадцать на машинке. Потом, начиная с «Козленка в молоке», я уже работал только на компьютере. Кстати, не верьте, если вас станут убеждать, будто проза, написанная от руки, обладает некой особой ювелирной энергетикой. Чушь! И проза, и стихи, и публицистика пишутся умом и сердцем, а с помощью какого приспособления — стила, гусиного пера, «ундервуда» или ноутбука — зафиксировано сочиненное вами, не имеет никакого значения. Эпос о Гильгамеше, к примеру, выдавлен на глиняных табличках. И что же?
Новый вариант сильно отличался от прежнего, «перестроечного». Теперь постаревший и разочарованный в жизни Львов каждый год, таясь от жены, уезжал, якобы по грибы, туда, где был однажды счастлив, где случился его «солнечный удар», его безумная любовь к Лике. В ту пору вокруг Москвы таких заброшенных, разваливавшихся пионерских лагерей встречалось великое множество. Новые хозяева, получившие заводы почти даром, первым делом сбрасывали «социалку»… И редкий пионерский лагерь наполнялся в те годы детскими голосами, ветшая и разворовываясь…
Но «Гипсовый трубач» и в тот раз у меня не пошел. Не помню, уж и почему. Трудно сказать. Вообще, я давно заметил, отношения автора с начатым сочинением напоминают чем-то роман с женщиной. Еще вчера тебя нежно лихорадило от назначенной встречи, и ты чуть не плакал, если свидание отменялось. Еще вчера ты ложился спать со сладостной мыслью о том, что пишешь главную книгу своей жизни, что утром снова сядешь за стол и повлечешь сюжет дальше — сквозь сказочный лес творческого воображения. Потом вдруг ни с того ни с сего страсть к вожделенной особе превращается в навязчивую рутину, от которой надо как-то поскорей избавиться, а начатая повесть кажется бессмысленной, банальной затеей, не стоящей усилий. И рукопись убирается в дальний ящик стола. Чтобы закончить вещь, с ней надо вступить не в романтические, а как бы в брачные отношения, когда каждый день ты вновь и вновь видишь рядом с собой одну и ту же, давно уже не воспламеняющую подругу, да еще без макияжа… А куда деваться — жена! Только так пишутся большие книги…
Итак, не вступив с «Гипсовым трубачом» в «брачные отношения», я увлекся другими сюжетами. Сочинил сначала «Козленка в молоке», потом «Небо падших», затем «Замыслил я побег…». Одновременно, где-то в конце 90-х, у меня возник новый небывалый замысел. Я уже рассказывал, как поехал в Матвеевское работать с Габриловичем и Эйдлиным. С самого начала меня поразила одна вещь. Я раньше думал, что сценарии пишут, просто садясь и отстукивая на машинке:
«Вечер. Квартира. Неубранная постель. Входит Михаил.
Михаил. Маша, ты дома?
Маша. Да, я дома…»
Нет, оказалось, что сценарий… как бы это поточней выразиться… набалтывают. Да-да, набалтывают, наговаривают, на-борматывают… Первый этап сочинения — это бесконечные разговоры обо всем на свете, не имеющем никакого отношения к сценарию, сооружение каких-то словесных химера конструирование завиральных космогоний и разгадывание смыслов бытия, это бесконечные рассказы и байки, правдивые и выдуманные, это поведанные в приливе нетрезвой откровенности тайны личной жизни, истории трагических Любовей или легких побед над знаменитыми актрисами, перепившими на фуршете до буйной интимной неразборчивости. Это — бесконечная игра в слова, в каламбуры, это политические дебаты такой ярости, когда хочется забить супостата-соавтора комнатными тапочками. Это страстные споры о превратностях русской истории и русской судьбы, о еврейской загадке, которую тщетно пытаются разрешить — каждый со своего конца — юдофилы и антисемиты. Это: анекдоты, дурацкие розыгрыши, приколы и снова сущностные метания мысли, снова застольная метафизика, снова разговоры о странностях любви. Не понимаю, как из этой говорильни, разнотемья, напоминающего ирландское рагу, сначала зыбко вырисовывается, а потом обретает вполне зримые формы сам сценарий, ради которого собственно и сошлись заинтересованные стороны. Но он вырисовывается… И тогда мэтр, вздохнув, говорит: «Ну, теперь надо записывать…»
Именно так с покойным Петей Карякиным сочиняли мы киноверсию «ЧП районного масштаба». То же самое повторилось с Владимиром Меньшовым: с ним мы придумывали семейную драму под условным названием «Зависть богов». Нечто подобное было, когда со Станиславом Говорухиным мы трудились над «Ворошиловским стрелком», снятым, кстати, по мотивам повести Виктора Пронина «Женщина по средам»… И всякий раз повторялось одно и то же: изысканное буйство человеческого общения. Когда же текст, наконец, ложился на бумагу, головокружительное марево словопрений рассеивалось, как табачный дым в комнате уснувших картежников, и мне становилось до слез обидно, что никто и никогда не узнает, из какой восхитительной пены умнейших мыслей, тонких наблюдений, удивительных историй, острых шуток, рискованных каламбуров, отчаянных откровений рождаются скупые строчки сценария:
«Михаил. А я думал, ты ушла.
Маша. Нет, я осталась…»
И тогда я задумал повесть о том, как режиссер и литератор пишут сценарий, спорят, ссорятся, сочиняют и отметают варианты сюжета, выдумывают судьбы персонажей, распоряжаются их страстями, жизнями и смертями… Я хотел погрузить читателя в удивительную атмосферу словесных миров, недолговечных, как бабочки-поденки. Захваченный этой идеей, я набросал первые страниц сорок: звонок режиссера, встречу героев, их поездку в Ипокренино, первые разговоры и истории, рассказанные друг другу… Странного режиссера в берете с петушиным пером поначалу звали Стратоновым, и у меня возникло ощущение, что впоследствии он может оказаться чертом. Кто ж мог предположить, что из него выйдет Жарынин — мой любимец, один из тех буйных талантливых неудачников, которые так часто встречаются среди русских людей, запропавших в искусстве, где хватка и сцепка значат больше, чем дар. А вот писатель разу стал Кокотовым — эту редкую фамилию я позаимствовал у одной молодой сотрудницы «Литературной газеты», куда я как раз в 2001-м пришел главным редактором. В Андрее Львовиче, кстати, много есть от меня самого, точнее, от той части моей натуры, которая мне, честно говоря, не очень-то и нравится.
Но работа, как я уже сказал, застопорилась. Сначала из-за того, что надо было вытаскивать из финансово-творческого кризиса «Литературку», а потом я с размаху взялся за «Грибного царя». История современного Фомы Гордеева, русского предприимчивого человека, добивающегося капиталистического успеха ценой краха душевного, нравственного распада, казалась мне тогда архиважной. Кстати, сама идея огромного боровика, исполняющего желания, впервые мелькнула в голове Львова, бредущего по лесу. «Вот бы найти грибного царя, думал он, и вернуться в юность, в тот самый единственный июль!» Так грибная тема перекочевала в мой новый роман, вышедший в 2004 году. Потом на несколько лет я ушел с головой в драматургию, и мне было не до прозы, а затем собирался засесть за совершенно другой роман, мистический (помните про Стратонова, оказавшегося чертом?), который, возможно, я еще и напишу.
Но вот однажды, спускаясь в метро по эскалатору и разглядывая встречных девушек, все молодеющих год от года, я вдруг ощутил ошеломительную мысль: Кокотов и Жарынин едут в Ипо-кренино писать сценарий по повести «Гипсовый трубач». Так два замысла, жившие во мне каждый сам по себе, вдруг слились, как говорится, в экстазе. И роман пошел, захватил меня, причем не романтическим порывом, а крепкими многолетними «супружескими» узами. Дальше началось то, что я условно называю насыщением текста жизнью. Вообще, большинство писателей делают литературу из литературы. Это несложно и напоминает вариации на темы известных композиторов. Делать литературу из жизни гораздо сложнее. Нужно искать вербальный эквивалент своему жизненному опыту, придумывать свою собственную мелодию. А вот это непросто.
«Насыщение текста жизнью» — сложный, многоуровневый, часто подсознательный процесс. Хотя есть в нем и вполне очевидные приемы. Ну, например: борьба за Переделкино, где я живу много лет, вступила в явно криминальную фазу, и в моем воображении возник рейдер Ибрагимбыков, жаждущий захватить «тихую гавань престарелых талантов». Потом я вспомнил, как после премьеры «Женщин без границ» в Театре сатиры ко мне подошла милая, неюная дама и спросила: «Вы узнаете меня?» — «Нет…» — ответил я, обшаривая ту часть памяти, где у мужчин хранятся тени попробованных женщин. «Ну как же! Вы преподавали у нас в седьмом классе литературу. И я даже была в вас немножко влюблена…» — «Да что вы!» — зарделся я, как китайский фонарик. А вскоре в роман ворвалась и закрутила Кокотова феерическая Наталья Павловна. Потом как-то в ресторане я случайно встретил мою одноклассницу Люду Бондареву, настолько молодо выглядевшую, что невольно закрадывалась мысль о некоем дамском варианте Дориана Грея. Выяснилось, она успешно занимается бизнесом и отмечает какой-то коммерческий успех со своим молоденьким плейбойчатым мужем. Кажется, четвертым по счету… Так в романе появилась Нинка Валюшкина. Однако ее верность первой любви и манеру говорить, как «робот устаревшей модели», я позаимствовал у другой своей знакомой. Конечно, я упрощаю, спрямляю, конечно, превращение реальных людей и событий в литературную ткань происходит гораздо сложнее, прихотливее и под влиянием каких-нибудь озаряющих ассоциаций, но суть процесса, кажется, я передаю верно.
Вообще, в «Гипсовом трубаче» много деталей, взятых из моего личного опыта, из жизни моих друзей. Например приписывать всякую чепуху забытому нобелевскому лауреату Сен-Жон Персу, сочинявшему голубовато-изысканно-непонятные стихи, любил Сергей Снежкин, поставивший «ЧП районного масштаба». А история с карнавальной надписью «хиппи», которой заинтересовались бдительные «органы», случилась со мной на самом деле, когда я работал художником в пионерском лагере в Ступине. И тяжелая болезнь Кокотова тоже из жизни.
Мне много раз задавали вопрос: почему «Гипсовый трубач» печатался частями? Первая вышла в 2008-м, вторая в 2009-м, а третья и вообще весной 2012-го. Кому пришла в голову эта идиотская идея? Конечно же, издателям. Дело в том, что впервые в своей литературной жизни я решил написать «свободный роман», пространный, воздушный, насыщенный разговорами, спорами, вставными новеллами, сюжетными ответвлениями, отступлениями. Раньше я всегда ставил себя в жесткие рамки и без жалости отсекал все лишнее. И такие мои повести, как «Апофегей» или «Небо падших», на самом деле были романами, затянутыми в корсет самоограничений. Но тут я отвязался, и текст начал разрастаться с тропическим буйством. А издатели, доложу я вам, даже самые просвещенные, относятся к авторам, как к свиноматкам, вроде Нормы, которые в намеченные сроки должны приносить положенный приплод…
Такова вкратце история моей многострадальной иронической эпопеи…
…………………..
Как это ни удивительно, из-за реалистических и фантасмагорических мини-сюжетов, вплетенных в роман и весело, по-поляковски озорно рассказанных, проглядывают… авторская грусть и разочарование. Герой Полякова, как всегда, легко узнаваем: это все тот же диванный мечтатель, вынужденный ради выживания строчить популярные женские романы для серии «Лабиринты страсти». Он все такой же неприспособленный приспособленец, неудовлетворенный женолюб и слишком пристальный созерцатель. Ему по-прежнему хочется невозможного, но он вполне удовлетворяется малым. Вот только социальный фон, какими бы нелепыми и смешными ситуациями ни развлекал нас автор, почему-то ощущается как укор чему-то лучшему в нас, как нечто позорно застывшее со времен дирижирования оркестром, как длящееся недоразумение. И рейдерские захваты, и продажные чиновники, и алчные адвокаты, и поиски справедливости как черной кошки в темной комнате — там, где ее и быть не может, — все это ощущается как тревога автора за нашу нынешнюю, по-прежнему неприкаянную жизнь. Такое чувство, будто даже рассказывать эти маленькие истории писателю порою тягостно (один сюжет про организацию похорон знаменитой некогда актрисы Ласунской чего стоит — а ведь все как в жизни!). Рассказывая, он, как обычно, спрашивает: «Смешно?» — а глаза у него при этом грустные. Или это только кажется…
В «Гипсовом трубаче» Поляков впервые использовал трагический сюжет из своей жизни — историю с онкологическим диагнозом, которой, как водится, наделил своего героя:
«В 1996-м мне был ошибочно поставлен смертельный диагноз. Пока ошибка врачей не разъяснилась, я несколько месяцев прощался с жизнью, а друзья и близкие — со мной. Первое время после «выздоровления» я даже боялся вспоминать о случившемся, хотя знал, что обязательно когда-нибудь воспользуюсь этим тяжким испытанием в литературной работе. У писателя, как у хорошего старьевщика, ничего зря не пропадает. И спустя пятнадцать лет я поделился этим жутким опытом с моим героем — Кокотовым».
Так появился новый поворот в сюжете «Гипсового трубача».
Вот что он записал в дневнике про пережитое тогда потрясение:
«1.03.2010 г. … Подержал в руках мою онкологическую карточку и выяснил, почему меня госпитализировали в 1996 году да еще спешно, сказав Н. И., что у меня меланома и надо готовиться к худшему. В гистологическом заключении написано: «В полученном материале найдены изменения, соответствуют коду 8000-1. Новообразование, неясно, доброкачественное или злокачественное. Возможно, невус. Однако отдельные клетки с признаками атипии, с внутриядерными вакуолями не позволяют исключить злокачественность процесса. Врач: Соломатина».
На бланке симметрично, рядышком размещены следующие антагонистические пункты, набранные типографским шрифтом.
Вид лечения…………………..___Умер. Чис__Мес__
Дата выписки…………………..____Протокол вскрытия…………………..
Сурово, конечно, но соответствует жестокости бытия.
Госпитализировал меня тогда тот же Сергей Марков, что в 1991 году положил на операцию и Н. И. Ему я обязан спасением жены — поймали опухоль в последний момент. А мы собирались на юг! Потом, после моей операции, когда выяснилась ошибка, он рассказал, что профессор Шенталь, опираясь на свой большой опыт, был практически уверен, что это меланома, но в историю болезни нарочно записал двусмысленное заключение, а в графе диагноз поставил «базилиома?». Оказывается, пациенты всеми правдами-неправдами умудряются заглянуть в свою историю болезни, и врачи, чтобы не пугать меня, «смягчили» формулировку приговора. Тем не менее испуг был таков, что этот свой «раковый» опыт я смог использовать лишь в «Гипсовом трубаче». Раньше просто перо не поднималось.
Теперь же, за минувшие пятнадцать лет, нравы на Каширке сильно изменились: при мне врач преспокойно объяснял молодому, сникшему мужику, только что прошедшему колоноскопию, что у него опухоль прямой кишки, доброкачественная или злокачественная — выяснится дня через два, а пока надо избегать острой пищи и алкоголя. Но и эффективность лечения, конечно, выросла. А профессор Шенталь в конце 90-х заболел тяжелой формой костного рака, лежал тут же, в онкоцентре, и выбросился из окна своей палаты, с одиннадцатого этажа.
И хотя на этот раз у меня при обследовании ничего не нашли, я, выйдя от врачей, захотел немедленно выпить. Не найдя никаких противопоказаний к этому, так и сделал. Немедленно!»
«Онкологический» поворот сюжета мы обсуждали с Геной Игнатовым, который с конца 70-х был моим лучшим другом, главным оценщиком моих задумок и первым читателем еще сырых текстов, — рассказывает Поляков. — Один из создателей отечественной школы программирования, он обладал тонким художественным вкусом, и его оценки были безошибочны. Неожиданный недуг Кокотова ему тоже глянулся, показался сюжетно выигрышным и «экзистенциально богатым». Но вскоре Гена сам внезапно и безнадежно заболел. Он два года упорно боролся за жизнь, но кто и когда выигрывал у смерти? Проведывая его в онкоцентре на Каширке (опять же помог Сергей Марков!), я невольно насыщался будничным кошмаром «ракового корпуса», с внутренним стыдом перенося все это потом в роман, третью часть которого Гена так и недочитал…»
О смерти друга Поляков узнал в Кремле, ожидая инаугурацию президента Путина, доверенным лицом которого был на выборах. Вот что он написал в дневнике:
«7.05.2012 г. Утром поехал на инаугурацию в Кремль. Машину дальше Садового кольца не пустили. На «Киевской» сошел в метро и доехал до «Александровского сада»: все выходы закрыты, народ ругается. Меня под неодобрительные взгляды соотечественников выпустили после предъявления приглашения… Буквально за двадцать минут до начала позвонила Н. И. и сказала: только что умер Гена. А я звонил ему позавчера, и мы договорились, что сегодня после Кремля его проведаю. Набирал его номер в половине одиннадцатого, но никто не ответил. В это время он умирал. Отмучился…»
Так, впервые за долгие годы, Юрий Поляков не отдал на дружески-экспертную оценку свою новую рукопись. Перевернулась очередная страница, ушел человек, который был неотъемлемой частью жизни. Может, поэтому роман пронизан смутной грустью, а один из его героев — впервые за всю писательскую биографию автора — умирает…
Вот какими словами передал свои впечатления от «Гипсового трубача» Лев Пирогов, несмотря на сложнейшую структуру романа определивший для себя, что главная его тема — любовь в двух ее ипостасях, платонической и плотской. Говоря об этом, Пирогов не мог не отметить, что и о той и о другой автор умеет сказать нетривиально, а главное — непошло: «Плюшевый, опереточный, «для народа», из анекдотов сотканный Поляков умеет петь хрустальным голоском с колокольчиками, изредка легонько будто бы поглаживая педаль форсажа. Двигатель не ревет, он еще даже не ворчит — он как будто отдаленно взмурлыкивает, но от мощи этого голоса по телу уже бегут мурашки. А что же будет, если нажмет? Мы все умрем?» Здесь важно отметить, что и Пирогов явно ощутил сокрытую и непривычную для поляковских вещей трагичность, пронизывающую роман.
«Один мой друг придумал такую фантастическую коллизию для рассказа, — продолжает Пирогов. — Жил-был писатель. Писал книжки. Их издавали, люди читали их. Едешь в метро, смотришь — читают. Только ни в одной газете ничего про это не пишут. Премий не получает он никаких. Спросишь у специалиста-критика, а специалист-критик наморщит лоб: кто это?
Он придумал, а в жизни так сплошь и рядом бывает. Литературный мир в лице своих лучших и авторитетнейших представителей бредит одним, а люди читают совсем другое. Кто такой Юрий Поляков для литпроцесса? Смешно говорить. Он — особая лига. Скажем, загадочного Пелевина или невозможного Сорокина в общие игры все-таки принимают. Его — никогда. Он сам по себе. Наедине со своими читателями. Я тоже ему не критик — читатель. Трудно быть критиком того, кого не выдвигают на премии, не обсуждают на профессиональных площадках. А вот читать — наоборот, легче. Поляков — один из очень немногих современных авторов, чьи книги я покупал не для работы, а для того, чтобы почитать. <…>
…Даже в стопроцентно не моем «Трубаче…» — на каждой странице улыбаешься или задумываешься. Или — и улыбаешься, и задумываешься. Густо написано. <…>
Говорят об «административном ресурсе» (якобы у Полякова он есть), но ведь на «административном ресурсе» можно раскрутить одну, максимум две-три книги; никаких «ресурсов» не хватит на тридцать лет. Чтобы быть любимым читателями, надо их тоже понимать и любить (а не только «литературу»), вот вам и весь секрет».
Тонко подмечено. Может, секрет-то и не весь, но бесспорно — главная его составляющая.
Михаил Маслин, напротив, считает самым важным в романе его сатирическую линию. Вот что он пишет в статье «Роман как национальная идея»:
«Роман «Гипсовый трубач, или Конец фильма» необычен уже потому, что его главные герои… обычные советско-русские интеллигенты — писатель Андрей Львович Кокотов, режиссер Дмитрий Антонович Жарынин, соавторы сценария фильма и многочисленные интеллигенты — писатели, артисты, художники и др. Это «слишком большое» трехчастное произведение своим объемом даже вызвало в блогосфере критику — как же иначе! Ведь поколение «тех, кого выбрало ЕГЭ», привыкло читать и писать главным образом лишь «посты» и «перепосты». Напротив, люди, не отучившиеся читать, должны приветствовать роман как произведение качественной русской литературы, продолжающее сегодня сатиру М. Е. Салтыкова-Щедрина. Сатирическое основание романа, бесспорно, — преобладающее, и это заставляет нас вспомнить о том, что вся современная русская литература своим первоисточником имела сатирическую основу. <…>
Автор романа не просто смешит своих читателей, но также развенчивает, отрицает и по-своему, посредством смеха, преодолевает широко разлившуюся стихию современной российской посткультуры, с ее культом насилия, индивидуализма, порнографической телесности, враждебной сфере духовного. Сатирическая первооснова романа имеет и своеобразное просветительское преломление, весьма полезное для тех, кто подзабыл или вообще не знал многие интересные факты из отечественной истории. <…> В романе в гротескной форме блестяще описан феномен «перевертывания» и «перекрашивания», хорошо знакомый по нашей постсоветской истории, когда над разработкой текста Конституции РФ работали авторы диссертаций по научному коммунизму, когда высшее руководство теперь уже капиталистической страны представляли бывшие руководители КПСС, когда идеологами рыночной «шоковой терапии» были авторы идей «развитого социализма» и т. п. <…>
Роман «Гипсовый трубач» — произведение реалистическое, но к нему вполне приложимо определение «фантастический реализм», которое использовал, как известно, Достоевский. Постмодернистской является сама российская действительность, и ее сатирическое изображение автором вовсе не означает, что роман специально выдержан в духе каких-то влияний, идущих от Фуко, Делеза и т. п. Ведь «ненаучной фантастикой» буквально пронизана вся отечественная действительность. На каждом шагу человек сталкивается с тем, что живет в мире не идеальной, а реальной деконструкции, полного искажения смыслов, где борцы с преступностью — преступники; занимающиеся детской благотворительностью — педофилы, а министры — не хранители, а расхитители государственной собственности. <…> Гротесковые ходы художественной мысли Юрия Полякова разворачиваются в романе в целые эпические повествования о нашем героическом прошлом, где наличествует не смех как таковой (всегда присутствующий в жизни, даже в самые трагические эпохи), но именно «смех сквозь слезы». <…>
Архитектоника романа такова, что он состоит главным образом из рассказов и диалогов, раскрывающих личные судьбы героев, тесно переплетенные с историей нашей страны. <…> Это один всеобщий бесконечный карнавал, в котором действующие лица противостоят официальной советской и постсоветской культуре, возводятся на пьедестал, развенчиваются, высмеиваются, свергаются и т. п. Этот карнавал в романе становится особой формой реальности, развивающейся по своим правилам, продиктованным художественным воображением Юрия Полякова. Это и есть то, что можно назвать карнавальной национальной беседой, разговором о не поддающемся рациональным объяснениям жизненном потоке».
Следует признать, что время для такой беседы, для подробного разговора о «не поддающемся рациональным объяснениям жизненном потоке», который смоделировал в своем романе Юрий Поляков, возможно, еще не наступило, и потому так мало появилось внятных рецензий на роман. Тем более что для восприятия этого потока нам не хватает цельности сознания, от которой мы вольно или невольно отказались, следуя в своем личностном развитии за современной цивилизацией. Самой структурой романа «Гипсовый трубач» автор словно спародировал клиповое сознание, идеально подходящее для повседневной суеты и как раз препятствующее ощущению жизни как потока. Клиповое сознание не дает проживать ее здесь и сейчас, подбрасывает ложные решения вечных вопросов, подсказывает поступки, которые ничем нельзя оправдать, образует ненужные зависимости и разрывает нерасторжимые связи. И для того чтобы осмыслить это состояние сознания, требуется его прежде всего «очистить» — побыть в тишине, прочесть молитву, помедитировать на рассвете — или пропустить через себя энергию «торсионных полей»…
Тут речь снова может идти о масштабе личности современного человека. О том, что чем более величественной представляется нам технократическая цивилизация, тем меньше становится человеческий масштаб. Современный человек мельчает — и писателю это слишком очевидно, хотя он и исполнен сочувствия к своим героям. Он даже наделяет их способностью совершать героические поступки — которые, правда, на деле оказываются бессмысленными и непоправимыми.
Вот что пишет о романе искусствовед Мария Фомина в статье «Русский Боккаччо народился?»:
«Несмотря на всю свою насмешливость, повышенный эротизм и склонность рассматривать персонажей и их движения души в безжалостное увеличительное стекло, Юрий Поляков сохраняет верность классической русской традиции — сострадать «маленькому человеку». Он пишет без всякой назидательности, легко и технически виртуозно, не тычет пальцем в пороки общества и человека, шутя порой так, что читатель беззвучно сотрясается от хохота. Но почему-то вскоре ему, этому читателю, становится грустно. <…>
Юрий Поляков… сумел приспособить свой честный реализм к эпохе постмодерна. Видимо, это тот случай, когда художественный дар, достигнув своего «апофегея» в романах 1990-х, сумел сохранить набранную высоту, не скатиться на круги «неба падших» талантов. Напротив, мысли дозрели, а стиль отстоялся. В России надо жить долго. Особенно — прозаику».
Литературовед Алла Большакова, анализируя достижения современных писателей и их заслуги перед литературой, уверенно ставит Полякова на особое место, выделяя его из числа самых востребованных за уникальную способность к новаторству в русле традиции: «При уже обозначившемся сходстве и различии современных писателей, — таких как А. Варламов, В. Галактионова, Б. Евсеев, А. Иванов, Ю. Козлов, П. Крусанов, З. Прилепин, Р. Сенчин, С. Шаргунов и др., — стиль мышления Юрия Полякова (удивительный сплав лиризма, иронии и трагизма!) выделяется большей социальной зоркостью, большей заземленностью на реальной проблематике. Возможно поэтому (по сравнению, скажем, с П. Крусановым или Ю. Козловым) он, показываясь читателю в любых ракурсах — от неомодернизма до постмодернизма (и даже на грани китча), — остается по преимуществу реалистом, хотя и не в традиционном смысле слова. Впрочем, отход от традиции при одновременном следовании ей и составляет парадокс новейшей русской прозы: ее дерзкую попытку сказать свое незаемное слово — не играя со «старыми» формами в духе постмодернистской усталости (…от всего), но преломляя высокий канон о новую реальность, безмерно раздвигающую свои границы и наши представления о ней. Разрыв между словом и делом, мифом и логосом, русскостью и советскостью зафиксирован в художественных мирах Ю. Полякова с беспощадностью, пожалуй, самых главных вопросов наступившего столетия».
Надо сказать, что автор и сам от этой беспощадности пострадал: груз «Трубача» дался ему нелегко, и он даже какое-то время считал, что больших вещей писать не будет, а посвятит себя драматургии. Отчасти это решение было вызвано перенапряжением сил, отчасти же — все той же горечью от недоброжелательства и замалчивания. Вот запись, сделанная им в дневнике 10 февраля 2012 года, в разгар работы над «Гипсовым трубачом»:
«Начали в «ЛГ» дискуссию о постмодернизме. Прошло уже несколько статей. О моих книгах — ни слова, а ведь «Козленок…» — первая и постоянно переиздаваемая пародия на российский постмодернизм. Зато Пеле-вина называют русским Свифтом. Я со своей сатирой, выходит, проехал остановку. Но «подкорректировать» дискуссию не могу: главный редактор обязан всегда быть «над». <…> Прислали в редакцию монографию о современном российском романе. Моя фамилия вообще не упоминается. Конечно, злюсь, обижаюсь, но с другой стороны, это, пожалуй, и к лучшему. Признание читателя дает мне материальную независимость и реальную известность, а бойкот критического «кагала» ставит меня в положение изгоя, гонимого власть имущими антисемитами «еврея», вынужденного постоянно доказывать право на место в литературе высоким, неоспоримым качеством текста. Но ведь именно в такой ситуации жили и писали, при всей несоизмеримости талантов, великий Лесков, блистательный Булгаков, неповторимый Платонов, могуче-упертый Солженицын, остроумный еврейский акын Довлатов. Чего ж мне еще желать-то? Спасибо, что не заметили, латунские!»
Не так давно началась работа над многосерийной экранизацией «Гипсового трубача». Возможно, выход на экраны киноверсии романа заставит кого-то наконец прочитать, а иных — перечитать ироническую эпопею, стоящую особняком в русской литературе и явно недооцененную современниками.
* * *
В последние годы Юрий Поляков сотрудничал не только с «АСТ»: издательство «У Никитских Ворот» выпустило книгу «Юрий Поляков. От «А» до «Я»: Полная энциклопедия афоризмов, мыслей и цитат», составленную исследователем афористики Николаем Казаковым. В предисловии составитель привел необычный образчик изучения авторского стиля методами точных наук, характерный для современного постструктурального литературоведения.
«При оценке творчества того или иного автора актуальным является вопрос об афористичности его произведений, под которым понимается насыщение произведений афоризмами, — пишет Казаков. — Желание быть афористичным имманентно присуще многим (в том числе и современным) авторам. В одном из предисловий Юрий Поляков заметил: «Всякий нормальный писатель так же хочет быть афористичным, как всякая нормальная женщина — привлекательной. Надо сознаться, женщинам это удается гораздо чаще… Если после прочтения какой-нибудь книги в вашей голове задержалось хотя бы несколько авторских фраз и мыслей, значит, это приличный писатель и хорошая книга. От плохих в голове остается только желудочная тяжесть и обида на первопечатника Ивана Федорова».
Но возникают закономерные вопросы: «А как определить афористичность произведения? Существуют ли какие-то математические (как наиболее объективные и точные) показатели, характеризующие афористичность? Можно ли сказать, что один писатель более афористичный, чем другой?» Однозначные ответы — к большому сожалению — отсутствуют».
Однако попытки найти ответы имеются. В пример Казаков приводит диссертационную работу Н. М. Калашниковой, посвященную творчеству Виктории Токаревой, отметив уязвимость метода диссертанта: погрешности в ее расчетах доходят до 50 процентов — и даже для одного и того же произведения, выпущенного разными издательствами, цифры получаются разные. В поисках более объективного показателя Казаков разработал собственную методику вычисления коэффициента афористичности произведения. С составленной им формулой и подробностями расчетов поклонники творчества Полякова могут ознакомиться в книге «Юрий Поляков. От «А» до «Я»…», мы же обратимся непосредственно к результату: коэффициенты афористичности произведений Юрия Полякова таковы: «Небо падших» — 2,965; «Апофегей» — 2,868; «Замыслил я побег…» — 2,372; «Козленок в молоке» — 2,180; «Парижская любовь Кости Гуманкова» — 1,775; «Демгородок» — 1,619; «Сто дней до приказа» — 1,420; «Халам-бунду, или Заложники любви» — 1,706; «Левая грудь Афродиты» — 1,676; «Одноклассники» — 1,421. Сравнив полученные цифры с коэффициентами других писателей, автор методики приходит к однозначному выводу: Юрий Поляков — самый афористичный современный русский писатель. Такой парадоксальный подход к литературе мне представляется более чем спорным: если с его помощью оценивать русскую классическую литературу, самые дорогие нашему сердцу писатели никогда не займут в результате первые места. Литература создается не ради афоризмов, и читают люди книги не для того, чтобы выудить из них остроумное словцо. Впрочем, если у остепененных литературоведов возникла потребность производить подобные расчеты, значит, наверняка и у Калашниковой, и у Казакова имеются единомышленники и последователи.
* * *
Вскоре после завершения работы над эпопеей Юрия Полякова, как это обычно и бывает у писателей, начали одолевать новые замыслы больших вещей, а один так увлек, что итогом стал новый роман — «Любовь в эпоху перемен». Книга получилась во многом ностальгической, отчасти из-за истории героя, отчасти из-за описанной в ней эпохи, к которой автор обратился, желая подвести и личные и общие итоги. Речь идет об эпохе перестройки с ее несбывшимися мечтами и непомерными иллюзиями, с ее невеликими героями и пустыми надеждами. Спустя 30 лет она раскрылась перед нами во всей своей голой правде, которую тогда невозможно было рассмотреть.
«Любовь в эпоху перемен» удачно дополняет трилогию «Треугольная жизнь», включающую «Замыслил я побег…», «Возвращение блудного мужа» и «Грибной царь», — теперь это тетралогия», — считает доктор исторических наук Антон Захаров. Он отмечает, что перечисленные романы прежде всего объединяет то, что они построены циклически — как воспоминания главного героя о прожитой жизни. Но главное — во всех романах герой, как правило, является фактически ровесником автора, а его комсомольская молодость приходится на 1980-е годы и перестройку — что явно указывает на желание писателя вновь и вновь обратиться к опыту собственной жизни, заново пересмотреть пережитое и оценить полученный тогда опыт, личный, общественный, карьерный.
В обстоятельном послесловии к роману «Любовь в эпоху перемен», вышедшему в «Роман-газете», известный литературовед Михаил Голубков отмечает:
«Можно сказать, что это роман об ошибках. Герой ошибается и принимает страсть к надменной однокурснице, которая его едва и замечает, за любовь, в результате чего семейная жизнь в тот период, когда мы застаем Геннадия Скорятина в его редакционном кабинете, напоминает поездку в купе поезда с похмельным, закусившим черт знает чем попутчиком, — и когда долгожданная конечная станция, никто не знает…
Он ошибается в любовнице и прозревает неверность, застав ее с индусом, торговцем лавки колониальных товаров, ошибается в друге, который «сливает» написанную Геной статью о пороках нынешней власти… политическим оппонентам, ошибается в собственном отцовстве… Кажется, что автор, нанося герою удар за ударом, даже переходит некую границу правдоподобия, гротескно сгущая абсурдные факты его жизни, нагромождая заблуждение за заблуждением, заставляя героя вновь и вновь расставаться с иллюзиями, переживать отрезвление, обрекая его на мильон терзаний… Поляков обращается к давно характерной для него жанровой романной форме, прибегая к приему сжатия времени: сюжетное действие романа охватывает один день, а фабула вмещает всю жизнь персонажа. Именно так построен роман «Замыслил я побег…». <…>
Однако между двумя романами — целых полтора десятилетия, что не могло не отразиться на их проблематике. «Любовь в эпоху перемен» — и сложнее, и обладает теми смыслами, которые, наверное, не могли воплотиться в конце прошлого века, когда создавался роман «Замыслил я побег…». <…>
Насколько плодотворной могла быть эпоха перемен в русской социально-политической жизни и насколько сильно обманула она тогда, четверть века назад? <…> Молодой журналист Геннадий Скорятин, страстный адепт Перестройки и проповедник Гласности, приезжает в Тихославль и не только будоражит публику в библиотечной зале расхожими пропагандистскими штампами того времени, искренне принимая их за грани исторической правды и сокрытые аспекты национального опыта, но и встречает любовь всей своей жизни. <…>
Замечательный исследователь средневековой культуры А. Я. Гуревич дал прекрасное определение времени, актуальность которого представляется очевидной не только в отношении к Средневековью, но и к Новому и Новейшему времени: «Время — это солидарность человеческих поколений, сменяющихся и возвращающихся подобно временам года». Осознание времени как «солидарности человеческих поколений» подразумевает, что ушедшие поколения понимаются не как «почва» или «материал» для утверждения и укоренения ныне живущих, но как присутствующие здесь и сейчас, но не в плане мистическом или трансцендентном. Речь идет о том, что настоящее воспринимается как плод их трудов, усилий, приносимых жертв, как результат их созидательной исторической деятельности, причем в совокупности всех ушедших поколений. В таком случае и жизнь людей, существующих в настоящем, наполняется историческим смыслом: они транслируют в будущее опыт тех, кто прошел свой черед раньше, вкладывая в него свой, и очень немалый, опыт. Тогда есть все основания полагать, что и будущее реально существует, опираясь на настоящее, исходя из него, в виде потенций, которые непременно будут реализованы. В таком случае настоящее избегает гамлетовского скептицизма, разъедающего, эррозирующего смысл времени: мир тогда не предстает перед людьми вывихнувшимся из коленного сустава, как говорил Шекспир, дней связующая нить не распадается, как переводил слова Гамлета Пастернак.
В романе Полякова мы видим мир вне прошлого и настоящего. Скорятин мечется в настоящем, пытая прошлое и тщась понять, какие же из тех, как казалось, богатейших возможностей реализовались сейчас. И здесь возникает еще один очень важный мотив «Любви в эпоху перемен»: это мотив онтологической пустоты. Мучительные возвращения в прошлое обнаруживают, что, в сущности, время перестройки и последовавшее за ним не было «эпохой перемен», жить в которую так боятся китайцы; скорее это было время тягчайших исторических деформаций, смысл которых сводился к насильственному разъятию времени; тектонических изменений национальной культуры, невероятным усилием вывихнувших советский мир из его коленного сустава.
Когда мы говорим о времени, то, в сущности, речь идет о реализовавшихся потенциях прошлого в настоящем и возможности их прорастания в будущем. Или же, напротив, о сломе времени: когда здоровый потенциал развития не реализуется, а начинает доминировать вектор, еле различимый ранее, маргинальный, вроде бы и не имеющий смысла, но все более и более заметный, отрицающий иные перспективы развития, чем те, на которые указывает сам. Такой момент, когда направление исторического движения может резко измениться, называется в науке точкой бифуркации. Это момент, когда любая система, будь то частная человеческая судьба или государственное устройство, находится в «неравновесном состоянии» и любая мелочь, пылинка, случайность может определить новое, и далеко не всегда лучшее, направление развития — будь то частная судьба или же национальный путь. Тогда время как целостность, как единство прошлого и будущего распадается на не связанные друг с другом и совершенно случайные фрагменты, не соединяющие поколения по вертикали времени, но разъединяющие их. Размышляя о подобном периоде нашей общей истории, Поляков так характеризует мироощущение человека, в судьбе которого сбылось китайское проклятие: «И мозг озарялся страшным открытием: они родились и жили в стране с омерзительным прошлым, отвратительным настоящим и безнадежным будущим». Это и есть страшная реализация гамлетовской метафоры: распалась связь времен. Или, добавим от себя: это ситуация, когда человек выпал из своего времени. И не один человек… А ведь время — это тоже родина, и его нужно тоже беречь, им нужно бы тоже гордиться. И это чувство было прекрасно известно раньше. «Наше время еще занесут на скрижали. В толстых книгах напишут о людях тридцатых годов», — с гордостью писал К. Симонов. Увы, этого чувства не знают герои Ю. Полякова. Тотальной утратой смыслов своего времени обернулась для них точка бифуркации — горбачевская перестройка. <…>
Маркес создал, пожалуй, уникальное произведение, показывающее, что любви всей жизни можно дождаться, если терпеливо ждать, и в глубокой старости она еще более остра и ценна, чем в молодости. Любовь, потерянную в ранней юности, человек лелеял всю жизнь и получил свою возлюбленную в глубокой старости, что не помешало насладиться обоим всеми прелестями любви и чувственной, и духовной. Маркес соединяет юность, когда любовь вспыхнула, со старостью, когда судьба позволила героям соединиться, обнаруживая нерушимую связь времен в частной судьбе.
Сходство композиционной структуры двух романов — «Любовь в эпоху перемен» и «Любовь во время чумы» — не только в названии, которое соединяет частное и историческое время. Оно и в композиционной структуре, которую избирают оба писателя, испытывая потребность в соединении частной судьбы и национально-исторических событий: в стране Карибского региона на рубеже XIX–XX веков и в России на рубеже XX–XXI веков. Различие между ними состоит в том опыте, который извлекают из этого соединения писатели. У Маркеса — радостная песнь любви, победившей всемогущее время. У Полякова — реквием светлым надеждам обманувшей нас эпохи перемен. Грустный получился роман…»
«Любовь в эпоху перемен» автор писал чуть более двух лет. Ниже приводятся фрагменты писательского дневника, благодаря которым, в режиме онлайн, мы видим, как из первоначального замысла рождается роман.
«30.09.2013.…Тепло: 27–29°. Море — 25–26°. В Москве, между прочим, всего пять градусов и дожди. Такая погода в это время была в последний раз сто лет назад. Много плаваю. «Письма из казармы» застопорились, не идут. Зато вроде пошел рассказ «Тобою счастлив я…» из цикла «Несказанное», задуманный лет десять назад. Вскоре после прихода на работу в «ЛГ» я обнаружил на своем столе конверт с фотоснимком милой девушки. На обороте надпись: «Наша Нина теперь такая!» Я невольно задумался: зачем мне прислали снимок девушки, которая в принципе по возрасту могла быть моей дочерью. Вспомнил почему-то покойного Вовку Шленского, которому перед смертью привезли неведомую взрослую дочь от командировочной интрижки. Стал рыться в памяти. Но тут выяснилось, что на фотографии племянница Ольги, моей секретарши, настолько рассеянной блондинки, что я не удивлюсь, если она однажды ошибется и супружеской постелью. «А ведь неплохой сюжет для рассказа!» — подумал я и замыслил цикл «Несказанное». Мой ответ бунинским «Аллеям». Вскоре набросал начало (три страницы) и остановился…
Теперь вот, мучась от отвращения к моим армейским письмам, которые решил обработать для печати, случайно открыл файл «Несказанное», перечитал начало, и понеслось… Конечно, любовные воспоминания героя сразу стали осложняться «социалкой», ушли в хитросплетения перестройки (по моим прикидкам дочь зачата в разгар провинциальной гласности), а поскольку герой — главный редактор, то, боюсь, выйдет повесть про журналистов.
Н. И. тем временем впервые читает «в сборе» «Гипсового трубача», страшно недовольна эротическими сценами, говорит, роман вышел ненастоящий, скучный, искусственный… Короче, неудача. Говорит: «Если я тебе не скажу правду, то кто же скажет?» Если это так, то шесть лет потрачены впустую. В последнее время у меня все чаще появляется чувство, что мои литературные способности начали иссякать да и вообще все пошло по нисходящей — к умственному одряхлению. Книга о Лескове теперь стала казаться невозможным усилием. Нет, теперь только малые формы, чтобы не тратить столько сил на неудачи!
12.01.2014. Новый год встречали в ресторане «Наутилус». Так себе. Шумно. Все эти дни сочинял «Тихо-славль». Погода хорошая. Днем 21°. Ночью опускается до 5–7°. Гуляю вдоль берега моря и обдумываю сюжет.
27.01.2014. Все эти дни занимался «ЛГ» и писал «Тихославль». Как всегда, рассказ разросся в повесть. Кажется, это будет повесть не только о любви, но и о перестройке. Об обманутых надеждах сердца и страны.
04.04.2014. Сегодня работал дома. Наконец-то закончил главу «Встреча с читателями в библиотеке». Промучился над главой почти месяц, а то и более. Чтобы воспроизвести споры мая 1988-го, пришлось залезать в перестроечные журналы. Но главное, нельзя погружать читателя в мусор той эпохи — утонет и затоскует. Надо вычленить главное, но так, чтобы было полное ощущение погружения в то время. Очень трудно. Приходится вытаскивать из пассивной памяти язык той эпохи, точнее стилизовать диалоги под тот язык. Выходит уже не просто большая повесть, а маленький роман. Название «Тобою счастлив я…» нравится мне все меньше. Возможно, назову просто «Тихославль».
23.04.2014. Утром сочинял «Тихославль». Дописываю вчерне последние главы. Точнее, наживлял концовку. Хочу изменить фамилию главного героя Медникова. В ней нет тайной символики и фонетической прилипчивости. Чичиков, Обломов, Хлестаков, Головлевы, Турбины… Такую хрестоматийную фамилию не вычислишь, она должна присниться или выскочить, как ячмень на глазу.
27.04.2014. Вчера утром прилетели с Н. И. в Пекин и на машине поехали в Тиньдзинь — 150 км. Огромный город центрального подчинения, 12 млн. населения. Вечером посмотрели спектакль в рамках фестиваля. «Фрекен Жюлия» Стриндберга. Привезли немцы. Слов почти не осталось. С помощью камер на экран транслируются крупные планы актеров и то, что происходит за выгородками. Долго во весь экран показывали, как актриса режет сырые бараньи почки. Интересно, но не более.
01.05.2014. Все эти дни по утрам по несколько часов работал над романом и плавал. В отеле отличный бассейн. Во время плаванья мне пришла в голову масса любопытных соображений. Во-первых, новое название — «Любовь в эпоху перемен» («ЛЭП»). Кажется, недурно! Придумал новый персонаж — Сузиловского (Су Цзы Ло), который сочиняет стихи в духе китайской классической поэзии.
Мелькнула женщина за облетевшей сливой, Не слышно плача флейты за рекой. Туман над водами горчит, как дым пожара. Грустна любовь в эпоху перемен…Заодно сочинил дюжину подражаний китайскому — цикл «Не в рифму». Сам пока не пойму, что получилось: поэзия или графомания. Роман идет, поймал ветер.
16.05.2014. Поплыли с Н. И. на теплоходе «Александр Суворов» в Н. Новгород. Это по линии Союза журналистов. Погода отличная. Сижу в каюте и пишу «ЛЭП». За окном — сталинский канал со шлюзами.
18.05.2014. Бродили с Н. И. по Угличу, Ярославлю и Костроме, я уточнял детали для Тихославля. Ярославль очень похорошел. Сегодня закончил последнюю главу «ЛЭП».
20.05.2014. Приплыли в Городец. Оттуда на автобусе в Нижний. Для Тихославля, пожалуй, подходит «биография» Городца. Не пью и живу «деловой, как телеграф».
28.05.2014. Встаю рано — в 7 часов. Пишу «ЛЭП». Если и этот роман замолчат, остается наскандалить на Красной площади. Может, тогда заметят. В обед встречался в «ACT» с Юрием Дейкало и Машей Сергеевой. Когда я им сообщил, что постараюсь к концу лета сдать роман «Любовь в эпоху перемен», они аж подпрыгнули и зацокали языками: «Какое классное название!» Ну да, это вам не «Внутренний волк», из которого унылая филология торчит, как запущенный геморрой из задницы. А что толку в названии? Все равно «ACT» пиарит только тех авторов, которых издает в редакции Елены Шубиной.
24.12.2014. Раздумывал над историческими фантазиями Колобкова, которым он посвятил жизнь, и совершенно счастлив. И вдруг подпрыгнул на стуле: да ведь в редакцию присылали же книжку, изданную крошечным тиражом, где автор доказывал, что библейский Потоп произошел в Нижегородской области, да и вся начальная история человечества началась там — в русской пра-империи со столицей, называвшейся Святоград. Я тогда еще сразу отдал ее в отдел для рецензии, а они только посмеялись: мол, полная чушь в духе альтернативной истории. Так мне ж того и надо! Полдня рылся в редакционных завалах и нашел-таки брошюрку нижегородского краеведа Д. Квашнина. Спасибо, далекий друг, сам бы я такого никогда не придумал!
26.02.2015. Придумал новую фамилию герою «ЛЭП» — Гена Замотин. В молодости я работал в МО СП вместе с Мариной Замотиной. «Нас иногда принимали за брата с сестрой: одинаковый фенотип». Фамилии для персонажей можно брать лишь от реальных людей, иначе появляется неуловимый привкус фальши или нарочитости. Можно брать еще с могильных плит. Тоже хорошо выходит. Так я нашел Валентина Трудовича.
28.02.2015. Вчера вечером по ТВ сообщили: в Москве на Каменном мосту застрелили Бориса Немцова, прогуливавшегося с модельной девушкой. Судя по всему, это так называемая «сакральная жертва», понадобившаяся «оппозиции» для наступления на Кремль. Даже странно вспоминать, что когда-то Ельцин объявлял его своим преемником, Борисом Вторым. Но какая-то мистика в этом была: Е. Б. Н. и Н. Б. Е. Я несколько раз пересекался с Б. Н. в эфире. Один раз посадил его в лужу, спросив, почему он, требуя от Путина контрактной армии, сам не ввел ее, будучи вторым лицом в государстве. Он в ответ забормотал что-то про объективные трудности. Производил впечатление напористого прохиндея, не лишенного обаяния. Впрочем, могли убить и за какое-нибудь ресторанное хамство. Фамилия «Замотин» разонравилась.
01.03.2015. Закончил четвертую редакцию «ЛЭП». Начинаю новую «проходку».
Ищу фамилию главному герою. М. б. Живунов?
23.03.2015. Вернулись из Суздаля, где были на анимационном фестивале. Брал с собой внуков. Работал над «ЛЭП». Гулял по Суздалю, примечая кое-что для Тихославля. Например, старинную монастырскую стену, подпертую силикатным контрфорсом.
04.04.2015. Закончил новую редакцию «ЛЭП». Еще одна — и отдам издателям. Никак не могу найти фамилию главному герою! Караул!
11.05.2015. Закончил шестую редакцию «ЛЭП» и отправил на чтение В. Попову, О. Яриковой, В. Куницыну и В. Еременко. Эх, Гена, Гена… Тебе понравилось бы! Кажется, получилось концентрированно и с выходом на ту жизненную «финифть», которую мне всегда хотелось передать. Во всяком случае, меня не оставляет — в отличие от «Чемоданчика» — ощущение, что я вышел на какой-то свой новый, возможно, последний, восходящий уровень. «Что-то крылья тяжелыми стали!» Вечером вещал на «Эхе Москвы». Ведущая все пыталась меня склонить к сомнению по поводу всенародности «Бессмертного полка». Я был тверд как гранит. Отчаявшись, она спросила, как я отношусь к немедленному увековечиванию памяти Б. Немцова в городской топонимике. Я ответил: «Отрицательно!» — «А через десять лет?» — «Даже не вспомнят, кто это такой!» От возмущения она даже забыла попрощаться со зрителями, сказав лишь: «Ну знаете…» Фамилии для главного героя нет как нет.
25.05.2015. Наконец выбрал фамилию для главного героя. Скорятин. Не хрестоматийная, но все-таки. Как обычно, это «живая» фамилия. Так звали одну даму, служившую в Союзе писателей, в секции прозы. Сначала эта фамилия зацепила меня на каком-то энергофонетическом уровне. Есть в ней судьба человека, потерявшего важную часть души. «Ско(тина)»! Потом заглянул в словарь языка IX–XII веков и ахнул: в старом русском языке «скорить» означало что-то среднее между «покорить» и «смирить». А ведь именно нечто подобное и произошло с моим героем. Решено: Скорятин. Если, разумеется, в последний момент на голову не упадет «Чичиков».
18.06.2015. Закончил переносить правку Яриковой и редактора «ACT» Толстикова в «ЛЭП». Неожиданно написалась, выросла из фразы про то, что Гена любил посольские приемы, целая глава «Кракелюры».
14.07.2015. Пришла верстка «ЛЭП». Неужели финиш? Сижу, читаю, выискиваю блох. Хорош или плох роман, понять уже не могу.
22.07.2015. Вечером отвез в издательство правленую верстку «ЛЭП». Увидев бесконечные вожжи и вставки, они пришли в ужас, ссылались на других авторов, которые даже верстку не читают. «Кто же будет читать писателя, который не читает собственной верстки?! — возразил я. — Не надо брать пример с тех, кто прикрывает редакторские просчеты премией «Большая книга». У вас таких возможностей нет. Вставляйте мою правку — и конец!» Потом обсуждали оформление, которое художник, профилонив три месяца, сделал кое-как. А точнее — никак. Его погнали. Новая художница решила поместить на обложку летающих над городом влюбленных. Ну что за напасть! Почему-то режиссеры так и норовят вставить в мой спектакль песенки Макаревича, которого я смолоду терпеть не могу. А оформители стараются засунуть какого-нибудь вечно летающего Шагала, ну, явно не моего любимого живописца. Как там у Вознесенского:
Синий Шагал, загадка Шагала — руль у Савеловского вокзала…01.08.2015. Всю неделю в «ACT» разбирались с моей правкой в «ЛЭП». В самый последний момент нашел еще две ошибки. Например, «Абрау-Дюрсо» я назвал крымским вином. А сколько ляпов осталось незамеченными… Страшно подумать! По поводу полной версии «Гипсового трубача» читатели меня на встречах до сих пор стыдят. Умудрились перепутать даже рисованную начальную буквицу главы… Экономят на корректуре, братья собакины!
03.09.2015. «ЛЭП» успели-таки выпустить к Московской книжной ярмарке. Представлял книгу с летающей парочкой на обложке прямо на обширном подиуме «ACT». Народу собралось прилично. Задавали вопросы. Отвечал. Спросили, буду ли выдвигать роман на «Букер» или «Большую книгу». Ответил, что в пионербол давно не играю. После меня презентовался молодой автор, сочиняющий фэнтези о «готах». На него публики навалило втрое больше: все в черном, а лица выкрашены чем-то вроде свинцовых белил. Как хорошо, что я уже пенсионер…
14.09.2015. Вчера вернулись с Н. И. из Оренбурга с премьеры «Грибного царя» в Питер, на фестиваль «Виват, комедия!». Днем встречался с читателями в «Буквоеде», народу пришло немного, но разговор вышел интересный. Проверил выкладку моих книг и обнаружил, в сущности, «антивыкладку». «Любовь в эпоху перемен» в новинках не выставлена. Остальные мои книги засунули так, что не найдешь. Зато редакция Елены Шубиной вся на виду, до последнего графомана. А в другом «Буквоеде» «ЛЭП» вообще на прилавке нет, хотя в «компе» у продавца имеется. Позвонил в «ACT», наябедничал, ответили: «Этого быть не может!» — «Значит, у меня галлюцинации? Вы меня с Пелевиным не путаете?» Но все равно «ЛЭП» — лидер продаж!»
* * *
Прежде чем выйти отдельным изданием, роман, как обычно для Полякова, печатался фрагментами в газетах и — с небольшими сокращениями — в журнале «Москва», в октябрьском и ноябрьском номерах 2015 года. Послесловие для журнала написал однокурсник Полякова прозаик Александр Трапезников.
Когда же роман вышел отдельной книгой, она очень скоро стала лидером продаж в своем жанре.
Дмитрий Каралис утверждает, что роман «Любовь в эпоху перемен» посвящен любви не столько к женщине, сколько к родине — в эпоху перемен. Это «вещь теплая, чувственная, местами горячая», — говорит он. «Давно заметил: все книги Полякова — борьба за Россию, — продолжает Каралис. — А все его тексты — классика, если понимать эту категорию как отстаивание вечных ценностей на современном этапе. И «Грибной царь», и «Гипсовый трубач» написаны в высокоградусной металогической манере, в тех романах наслаждение текстом носило самостоятельный характер, стиль очаровывал, на время затмевая поступки и размышления героев. Как написано, было важнее про что написано. И совсем другой стиль избрал Поляков в последнем романе! Роскошная образность отодвинулась, освободив место автологической простоте фразы, и чувства проступили, как симптоматические чернила в тайном донесении».
Это действительно так: тональность письма в этом романе изменилась. Словно автор перестал задаваться целью насмешить, развлечь, разоблачить, а захотел просто рассказать историю — историю грустную, потому что все главное в жизни у героя оказалось в прошлом. Ну и потому, что жизнь ему автор сохранить не смог. В «Трубаче» один из главных персонажей упокоился на кладбище в силу случайного стечения обстоятельств. В «Любви в эпоху перемен» герой сам ставит точку в своей недолгой жизни.
Сохранивший образность, чувственность, тонкий иронизм прежних вещей, новый роман Полякова демонстрирует некую онтологическую грусть даже в той главе, где речь идет о первой любви героя.
…………………..
Темноволосую Марину Ласскую Гена заметил на первой же лекции. У нее было тонкое восточное лицо, гордый нос, резко очерченные губы и большие туманные глаза. Ее фигура ошеломляла избытком женственности, заставляющей мужчин оглядываться, мечтательно цокая языками. Она играла маленькие роли в студенческом театре, который разместился в университетской церкви Святой Татианы: сцену сколотили как раз на месте алтаря. Услыхав от внука про такое безбожество, бабушка Марфуша в ужасе перекрестилась: «Кому храм, а кому срам». Но бедный влюбленный не пропускал ни одного спектакля с участием Ласской, хотел даже записаться в труппу, но режиссер посмотрел на него грустными глазами и покачал головой: не подходишь. А вот Лёшка Данишевский им подошел и прыгал чёртом в «Черевичках». Отец Алексей теперь в пресс-центре Патриархии служит.
При каждой возможности Гена старался сесть на занятиях поближе к Марине, перехватить ее взгляд, подсказать нерасслышанное слово преподавателя, поднять упавшую тетрадку — все бесполезно: они едва здоровались. Он сообразил, в чем дело, и отрастил на висках волосы, как у актера Боярского, чтобы прикрыть свои броские уши. Не помогло. Ласская продолжала смотреть сквозь него в какую-то тайную девичью даль. Тоскуя, Скорятин уходил после занятий на плац возле психфака и перед зеркалами, вспомнив «курс молодого бойца», лупил по асфальту строевым шагом, удивляя редких студентов и пугая ворон, гревшихся возле вентиляционной будки подземки. Отпускало. Иногда с Ренатом Касимовым они отдавались в опытные руки психологов и, получив по рублю за участие в научных экспериментах, покупали вина. Злоупотребляли тут же на плацу, схоронившись за «паровозом» — бесхозным компрессором на колесах. Это еще лучше помогало от безнадежной любви.
Марина явно принадлежала к той части однокурсников, которых теперь назвали бы мажорами, а тогда именовали блатняками. Они были веселы, надменны, беззаботны, одеты в недосягаемую «импорть», курили «Мальборо», в крайнем случае «Союз — Аполлон», после каникул возвращались на факультет загорелые и громко вспоминали, сколько бутылок киндзмараули выпили на Пицунде и сколько телок сняли в Ялте. А Гена все каникулы бегал курьером в «Московской правде»: деньги небольшие, зато заведующий редакцией Миша Танин, будущий банкир, обещал после университета взять в штат. Возможно, он сдержал бы слово, но, растратив кассу взаимопомощи, вылетел с работы.
На Гену, ходившего на занятия в единственных застиранных джинсах и свитере домашней вязки, блатняки взирали с сонным недоумением, им казалось, что человек, не одетый в настоящие «вранглеры» и замшевую куртку, не имеет никакого права учиться на журналиста. Он в долгу не оставался и смотрел на них с презрением, как Мартин Иден на глупых и алчных добытчиков. Выходило вроде бы неплохо: брови от природы у него были хмурые, а подбородок Скорятин для достоверности выдвигал вперед. Наблюдательный Ренат называл такое выражение лица — «Чингачгук перед казнью». Но ни блатняки, ни Ласская ничего не замечали.
Познакомиться с Мариной поближе было невозможно: после занятий она никогда не задерживалась, быстро выходила за факультетские ворота, поворачивала направо и спускалась в метро. Иногда в начале улицы Герцена ее ждала машина, всегда одна и та же — «семерка» кофейного цвета. Но сквозь затемненные стекла так и не удалось разглядеть, кто ее встречает. А кто девушку встречает, тот и провожает. Потом Марина на два месяца пропала. Говорили: болеет. Вернулась худая, бледная, отрешенная, но уже не убегала после занятий, а, наоборот, могла подолгу сидеть на лавочке у памятника и курить, неподвижно глядя на тлеющую сигарету. Однокурсники и парни с других факультетов к ней давно уже не подкатывали — отшить-то она умела. Одному, самому нахальному, при всех дала в глаз.
Почему Гена решился подойти — объяснить невозможно. Просто бывают дни сердечной отваги, когда жизнь подвластна желаниям, а судьба кажется пластилином, из которого можно вылепить все, что захочешь. В молодости такие дни не редкость, с возрастом их становится все меньше, а старость — это когда понимаешь: жизнь уже не может измениться, она может только закончиться.
Ласская сидела одна на лавочке и остановившимся взглядом смотрела на огонек сигареты. Гена долго прятался за колонной, собираясь с силами. Наконец коротко выдохнул, точно хотел выпить рюмку, подошел к однокурснице и сел рядом. Она чуть отодвинулась, словно не узнала.
— Как дела? — хрипло спросил он.
— Пока не родила.
Скорятин настолько опешил от такого ответа, что покраснел и взмок. Марина это заметила и снисходительно улыбнулась (наверное, от сознания своей власти над начинающими мужчинами), но снова нахмурилась и уставилась на сигарету. Серый столбик пепла был уже не менее сантиметра.
— A-а тебе… — после неловкого молчания начал студент.
— Нет, мне не скучно, — не дав договорить, ответила она. — Мне никак. Понимаешь, ни-как.
— Понимаю. Можно куда-нибудь сходить.
— Например?
— Не знаю. Можно — на Лазунова.
— Кто это? Композитор?
— Нет, художник. — Он кивнул на длинную очередь в Манеж, хорошо видную с горки.
— Разве он художник?
— А кто же? — снова оторопел Гена.
— Так себе. Ремесленник. — Она отвечала, не сводя глаз с пепла, который стал еще длиннее и все никак не падал.
— А кто же тогда художник?
— Целков, например.
— Целков? — переспросил Скорятин.
— Ты не знаешь Целкова? — Марина впервые глянула на однокурсника с интересом.
— Не знаю! — ответил он со злостью и встал, стыдясь пузырей на коленях, какие бывают только у самых дешевых, «паленых» джинсов.
Пепел наконец упал на асфальт. Ласская растерла его белоснежной кроссовкой, тряхнула головой, словно приняв важное решение, и сказала:
— Ладно. Пусть будет Лазунов. Пошли, Геннадий, уговорил! — Оказалось, она знала его по имени.
Они перебежали на красный свет запруженную машинами мостовую, и Марина повела растерянного однокурсника не в конец очереди, удавом обвивавшей Манеж, а в самое начало, показала милиционеру какое-то удостоверение, и через несколько минут они стояли перед огромной, во всю стену «Истерией XX века».
— Ну и как? — с иронией спросила она.
— Напоминает «Гернику», — солидно ответил Гена.
— Издательство «Плакат» это напоминает. Пошли лучше в «Космос».
— Но… стипендия послезавтра…
— Деньги у меня есть, не переживай.
Перед знаменитым кафе на улице Горького томился целый хвост, в основном молодежь, которой было все равно, где бездельничать. Но и тут Марина прошла без очереди, улыбнулась усатому швейцару, как добрая знакомая, и что-то вложила в его осторожную ладонь. Пока торопливо убирали столик, Ласская успела кивнуть нескольким знакомым, а с одним, длинноволосым, почеломкалась.
— «Огни Москвы», — сказала она снулому официанту. — И без лимонной кислоты.
— Понял! — кивнул тот и ожил, словно услышав долгожданный пароль.
На другой день, к изумлению всего курса, они сели на лекции рядом. Марина принимала неловкие ухаживания с благосклонным недоумением, точно не догадывалась, какую конечную цель преследует Гена, даря цветы, угощая мороженым, осторожно гладя руку в пестрой темноте кинозала и провожая домой. Она жила в Сивцевом Вражке, в старинном доме с эркерами. Но Скорятин, в отличие от других претендентов, ухаживал без всякой надежды, вкушая радость от одного ее присутствия, от приветливого взгляда, от тайной гордости, что с ним ходит такая девушка! Марина, конечно, все понимала, ее неприязнь к мужчинам, невесть откуда взявшаяся, сменилась насмешливым любопытством: ну когда же этот плохо одетый и глупо подстриженный мальчик хоть на что-то решится? Он никогда бы не решился, если бы Ласская, устав ждать, сама не попросила. А было так: они сидели в Нескучном саду и разглядывали чудо-диктофон величиной с пачку сигарет, привезенный ее отцом из Токио.
— А ты знаешь, что еще сто лет назад в Японии никто не целовался?
— Почему? — опешил Скорятин.
— Просто не умели, как и ты… — И она разрешающе улыбнулась.
— Я умею… — глупо ответил он.
— Неужели? Тогда постригись — у тебя такие замечательные уши!
Дальше события развивались стремительно. Через неделю Гена лежал с Мариной в постели, целовал ее большую распавшуюся грудь и трусливой рукой нащупывал скользкий путь к счастью.
— Не бойся, не бойся! — шептала она.
— Тебе же будет больно…
— Не будет.
— А тебе можно?
— Можно-можно, ни о чем не думай…
(«Любовь в эпоху перемен»)…………………..
«…Известно, что Юрий Поляков — признанный мастер сравнения, — писал автор «Вечерней Москвы». — И не только молодым, но и зрелым писателям есть чему у него поучиться. «Однако он не мог изменить Марине, хотя в редакционных поездках соблазны караулили его, как минные растяжки спецназовца». Или: «В молодости Гена любил жену без памяти, нетерпеливо вожделел и ревновал к каждому, кто бросал заинтересованный взор на ее стати. Будь он военным при оружии — обязательно пристрелил бы кого-нибудь, посмевшего коснуться проникающим взглядом его женщины! А теперь? А теперь такое чувство, что спишь в одном купе с похмельным, закусившим черт знает чем попутчиком, — и когда долгожданная конечная станция, никто не знает…» И еще: «Одна интеллигентная дама была обвешана связками туалетной бумаги, как революционный матрос пулеметными лентами». Кое-кто из писателей любит в своих текстах употребить ненормативную лексику, а ведь этого вполне можно избежать: «Хозяин выматерился с прилежной изобретательностью интеллигента в третьем поколении». Неожиданные сравнения буквально караулят читателя на каждой странице, автор дарит их щедро, не скупясь. Достаточно много в тексте и удачных метафор, и, что важно, они всегда употребляются по делу, а не для красивости и создания словесных завитушек. Метафора Полякова иронична, умна и точна: неожиданное сближение дает беспроигрышный результат. Особенно если это метафора эротическая: «Самой серьезной была связь с Ольгой Николаевной из бюро проверки «Московской правды». Номер подписали поздно, домой было по пути, а бедная женщина, отправив ребенка к матери в Ростов, мстила беглому мужу. К ней Гена ходил долго, искренне удивляясь, почему бросают таких жарких умелиц, превращающих скрипучую кровать в полигон взаимных восторгов». Надо сказать, что эротические сцены вообще писать трудно.
Трудно не скатиться в пошлость и не ляпнуть нечто банальное. Юрий Поляков пишет их филигранно и вдохновенно, одновременно чувственно и чуть иронично, дабы снять пафос происходящего. Эротоирония — так, пожалуй, можно назвать эту уникальную манеру. Вообще юмор, абсолютно, заметим, индивидуальный, как и стиль, — это воздух, дыхание прозы Полякова; это художественный инструмент, вскрывающий смыслы, обнажающий один за другим романные пласты, высвечивающий ту правду, сказать которую в лоб никак нельзя, — она потеряет обаяние художественности, а значит, и убедительность. Причем для автора нет тем, где юмор был бы неуместен: он всегда кстати, он метафизичен, ибо способен не только скрасить обыденную жизнь, но и бережно коснуться сакральных сторон бытия, таинства смерти: Гробы остались защитного цвета. Оборка темно-зеленая. Других нет! — мстительно объявила «харонша» и ушла в одуряющем мареве покойницких духов «Приезжая сюда раз в год, перед Пасхой, прибраться, Гена по-хозяйски оглядывал стесненную местность. Любовался липами, анютиными глазками, ревниво осматривал ближние ограды, кресты, плиты, имена, все плотнее обступавшие родительскую, а в будущем и его собственную могилу. И в душе появлялась коммунальная обида на кладбищенское уплотнение».
В романе «Любовь в эпоху перемен» есть и еще одна, смыслообразующая сюжетная линия, — любовь главного героя к библиотекарю из Тихославля Зое Мятлевой. И здесь автор использует уже совсем другие краски, не менее чувственные, но более лиричные, вовсе лишенные иронии, даже возвышенные, что для прозы Полякова в принципе не характерно. Кроме того, автору удалось органично вживить в остросоциальный сатирический роман трогательную щемящую историю любви, соединить не сочетаемое в принципе: «Они дошли до обрыва, сели в траву и долго глядели в черный провал русла, не видя, но чувствуя движение большой реки: казалось, их вместе с берегом медленно влечет вправо. Из затона тянуло затхлой прохладой (какая звукопись! — А. Е.) и живой рыбой, ходившей в глубине и нарушавшей воду всплесками. Мигали в ночи смуглые бакены, похожие на большие пешки. Вдоль потустороннего низкого берега, по невидимому шоссе пробирался крошечный, как жук, автомобиль, нащупывая путь длинными усиками света». Здесь же вторящий атмосфере счастливой влюбленности пейзаж, тоже редкий для авторского стиля, но воспринимаемый вполне гармонично: «Безоблачное теплое повечерье вступило в ту золотую пору, когда вся природа, от утомленного солнца до букашки, роющейся в свежей сирени, кажется великодушным даром усталого Бога суетливым и неблагодарным людям. Зеленые чешуйчатые купола за деревьями напоминали огромные сомкнутые бутоны. Оставалось гадать, какие дивные цветы они явят, раскрывшись на закате».
Главное — о чем бы ни писал Юрий Поляков, он всегда пишет о России, о своей любви к ней, потому что является подлинным патриотом своей Родины и не отделяет, просто не может отделить свою писательскую судьбу от судьбы своей страны. И страдает тогда, когда делают больно его стране…
…Время показало, что нет и не может быть крупного писателя, не дорожащего своей Родиной…»
Вот что сам Поляков рассказал о новом романе в интервью корреспонденту «Комсомолки» Александру Гамову:
«…Я хотел написать рассказ о странностях любви, а когда стал работать, пришлось описывать время, в котором происходят события. Вот мой герой приехал в городок Тихославль по тревожному письму. Помните такую популярную рубрику в советских газетах?
А. Г. Да-да, сами прежде всего искали в «Комсомолке» такие статьи.
Ю. П. Вот и мой герой-журналист отправился в такую командировку. Я отсчитал двадцать пять лет, именно столько девушке на снимке, и попал в 1988-й. Вдруг понял, что, оказывается, описываю самый разгар горбачевской перестройки. Но я же реалист, а не постмодернист, который все придумывает, я должен реконструировать эпоху. Люди говорили об определенных вещах, у них были мечты, они бредили, допустим, Явлинским…
Нам не объясняли, что любое серьезное изменение государственной структуры — это обязательно падение уровня жизни, рост преступности, межэтнические конфликты… Нам не рассказывали на уроках истории, что Гражданская война была на 30 процентов социальным конфликтом и на 70 процентов — межнациональной резней. Страна-то многонациональная. И много еще чего не рассказывали. Когда затевали перестройку, народу никто не объяснил: с началом реформ вы станете жить гораздо хуже. Ведь если бы нам в 1988 году сказали, что в 1991–1992 годах пенсия будет пять долларов, что будут закрываться заводы, многие останутся без работы, целые области станут депрессивными, шахтеры из самой высокооплачиваемой категории обернутся нищими… Перестройка закончилась бы на следующий день, а разорванные в клочки останки Горбачева так бы и не нашли…
А. Г. Юрий, а про нынешнее наше время не хотите написать роман?
Ю. П. Так ведь роман «Любовь в эпоху перемен» и о нашем времени. Газетой «Мир и мы», где разворачивается сюжет, владеет олигарх по фамилии Корчмарик, а по прозвищу «Кошмарик». Чувствую, что некоторые параллели не понравятся… Вы думаете, я романтизирую нынешнюю жизнь? Нет. Очень многое в сегодняшней жизни не устраивает. Но, по крайней мере, мы вернули суверенитет, сами стали определять, как нам жить дальше. Мы вернули Крым — огромную и непростительную утрату. И это отлично! Я не хочу жить в такой России, жизнь которой определяют какие-то «писаки» за океаном. Не хочу!
А. Г То есть это все-таки роман о двух эпохах перемен? Ю. П. Конечно. Я заставляю читателя сравнивать. Иногда эти сравнения в пользу того времени. Иногда в пользу этого. Но роман не трактат, где в правый столбик пишем плюсы социализма, в левый — капитализма, а внизу сухой остаток. Нет, проза дает более сложную картину мира.
А. Г. А человек сам лучше стал или хуже?
Ю. П. Человек со времен Библии, глиняных табличек Ашшурбанипала и папирусов один и тот же. Он не хуже и не лучше. Просто жизнь может обострять в нем отрицательные черты, а может выявлять, как было в годы Великой Отечественной войны, лучшие качества. Сейчас, я думаю, ситуация получше. 1990-е годы многому научили…»
* * *
В мае 2016-го в Большом зале ЦДЛ на показе фильма «Соврешь — умрешь» Алана Догузова по пьесе Полякова «Одноклассники» яблоку было негде упасть. После просмотра зрители наградили съемочную группу аплодисментами — но особые овации зала предназначались, конечно, автору. В последние несколько лет такие мероприятия случаются в жизни Юрия Полякова часто; премьерные показы фильмов и спектаклей по его произведениям, газета, общественная деятельность, выступления в телепрограммах заставляют его быть в постоянном движении… Между тем для главного дела жизни нужны тишина и сосредоточенность, покой и уют переделкинского дома. Всякое истинное творчество — великая тайна. И она содержится даже в предсказуемой очевидности каждодневной рутины. На письменном столе у Юрия Михайловича, в памяти компьютера, за который он ежедневно уже много лет садится по утрам, хранятся файлы с начатыми и еще неоконченными вещами. Полным ходом идет работа над новой комедией с условным названием «Золото партии». В центре головокружительной и очень смешной интриги девяностолетний старый коммунист Петр Лукич, которого сын-банкир из-за финансовых трудностей забирает из дома ветеранов и привозит в свой рублевский особняк. К чему это приведет, никто не мог даже вообразить…
В последние годы у писателя неожиданно вновь открылось поэтическое дыхание, и в его планах значится стихотворный сборник «Времена жизни». Назревает сюжет нового романа, своей чередой идет газетная работа, пишутся статьи. Наконец, уже написано несколько рассказов для давно задуманного сборника прозы о советском детстве. «Меня возмущает, — говорит Юрий Поляков, — как нечестно, даже подло изображают некоторые писатели свое советское детство, иногда выдумывая мрачную чепуху или переосмысливая то, что когда-то казалось им нормальным, в ином, негативном ключе. Чем в более высоких и благополучных слоях советского общества они родились, тем брюзгливее и брезгливее их отношение к ушедшей эпохе, будто наша страна виновата в том, что с возрастом они решили, будто с родиной им не повезло. А вот мне с Родиной повезло!»
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Только с возрастом понимаешь, что, вопреки устойчивому мнению, любить дальнего много проще, чем ближнего, недаром радетели за народное благо нередко в упор не замечают окружающих с их нуждами и тяготами. Прав был Конфуций: самое необходимое качество в каждом, независимо от рода деятельности и положения, — человечность. И каждый может добавить хотя бы одно крошечное звено в цепочку добра, соединяющую ныне живущих прочнее родственных уз. Пускай ты сделаешь добро не тому, от кого оно пришло к тебе — а чаще всего именно так и получается, — ты таким образом вернешь свой долг и, пусть на одну триллионную, приумножишь добра в ноосфере. Да и для собственной души это может оказаться спасением — той самой луковкой из притчи Достоевского…
По мере того как росли его возможности, рос круг людей, которым Юрий Поляков помогал, и это были не обязательно друзья-приятели, а очень часто — полузнакомые люди, от которых ни ответных благ, ни даже простой благодарности ожидать не приходилось. К счастью, он с юности понимал: человечество остается таким, каким было от века, и любить «черненьких», как призывал Гоголь, которые в человечестве явно преобладают, — тяжкий труд, — не говоря уже о том, чтобы помогать им.
С героем моей книги я познакомилась, когда по заданию нашего генерального директора Валентина Федоровича Юркина брала у него интервью для книги, посвященной 75-летнему юбилею «Молодой гвардии». В ней под одной обложкой были собраны рассказы о славной истории издательства и его знаменитых авторах. В их число, естественно, попал и Юрий Михайлович Поляков.
Это было жарким летом 1997 года. Поляковы жили тогда в писательском доме на Хорошевском шоссе, и у них был огромный ризеншнауцер, явный неврастеник, которого на всякий случай где-то заперли на время моего визита. Потом я узнала, что любящие животных Юра и Наташа непременно держат в доме собаку, а в Переделкине дом Поляковых обжили и кошки.
Мы, конечно, говорили тогда о его первом издательском договоре и первой книге, вышедшей в серии «Молодые голоса», — но и о причинах развала СССР: это было то, что больше всего занимало нас обоих, ровесников и во многом единомышленников.
И все же мы были едва знакомы, когда в 1999-м Юрий Михайлович принес в «Молодую гвардию» рукопись романа «Замыслил я побег…» и я стала его редактором. Вскоре в случайном разговоре я поделилась с ним свежими впечатлениями от очередного бесплодного визита в префектуру: моя мама была инвалидом Великой Отечественной, и наша маленькая семья — мама, я и мои дочь и сын, проживавшие в двухкомнатной «хрущевке» в предназначенном на снос доме, — стояла в льготной очереди на квартиру. Очередь наша, увы, не двигалась.
Пройденные нами коридоры и кабинеты лишь добавляли уныния: например, все сидевшие в очереди к зам-префекта имели на руках ордера на новую квартиру и были недовольны кто этажом, кто домом — хотели получить жилье в таком же, но через дорогу, — либо тем, куда выходили окна новой квартиры. Нам же отвечали стандартно: очередников слишком много, а возможности ограниченны. Ждите. Так же ответил и префект А. М. Брячихин, предложив моей 82-летней маме войти в его положение: ему надо было срочно расселять «трясунов» — людей, живших в домах, под которыми проходило метро. Кстати, те дома давно снесли, а на их месте вырос гигантский жилой массив. Короче, «трясунов» надо было срочно расселять, и квартир на всех не хватало.
Не помню, что именно я рассказала зашедшему на минутку в редакцию автору. Это теперь мне известно, с каким почтением относится он к фронтовикам. А тогда было невдомек, что его эта простая история заденет за живое. Все мы жили в ощущении, что никто никому в государстве не нужен и особенно тяжело приходится власти — с населением, которое мешает ей строить светлое демократическое завтра.
Мама моя в войну была летчицей звена связи. В бою под Шепетовкой ее По-2, в котором она летела с каким-то штабистом и секретным пакетом, был подбит, мама получила тяжелое ранение в ногу навылет, но смогла посадить самолет на нейтральной полосе и даже, теряя сознание, каким-то чудом выбрала верное направление и доползла до своих. Ей было 26 лет. Штабист оставил ее на полосе одну. На войне не было мужчин и женщин: штабисту необходимо было в срок доставить пакет, и он не мог не выполнить приказ. После ранения мама умудрилась вернуться в строй. У нее были две боевые награды: орден Отечественной войны и медаль «За отвагу», которой она немного хвастала перед моим отцом, летчиком-истребителем (за сбитые пять вражеских самолетов в самостоятельном полете и четыре — в группе у него было «всего» три ордена и несколько медалей, но медали «За отвагу» не было). Для мамы и ее боевых товарищей война закончилась в Праге, недели на две позже, чем для большинства воевавших, а медаль «За освобождение Праги» нашла ее уже через 40 лет после Победы. Я и теперь не сомневаюсь, что таких женщин, как она; в Москве в те годы были единицы. Но это никак не меняло отношения к нашей проблеме чиновников разного уровня.
Не помню, вдавалась ли я в подробности или разговор наш был совсем краток, но примерно через месяц Юрий Михайлович вдруг позвонил в редакцию и уточнил имя-отчество мамы. Я удивилась: зачем? Он сказал: так надо, потом все объясню. А через день-другой перезвонил и велел купить свежий номер «Московского комсомольца». Мол, я упомянул вашу маму в своей колонке. Посмотрите, что будет. Я грустно посмеялась. Разве кто-нибудь на моем месте смог бы поверить тогда в действенность печатного слова? Теперь-то я догадываюсь, что не всякое слово было действенным, но Поляковское — было.
В колонке, вышедшей 8 октября 1999 года в «МК», говорилось о «разномордой» политической элите, которая вспоминает о людях лишь тогда, когда ей требуются их голоса на выборах. И она, как гоголевская нечисть, окружив избирателя-бурсака, «вьется, гикает, машет перепончатыми крыльями, и вот-вот введут под руки Вия, уставшего от работы с документами…». Дерзость автора (и газеты) поражала, ведь об уходе Ельцина помышляли только избранные члены «семьи», и до его новогодней «загогулины» оставалось еще почти три месяца.
«Думаю, в эти дни в списки избирателей-ветеранов внесли и Екатерину Ивановну Ярикову, проживающую на Ярцевской улице в хрущобе с дочерью и взрослыми внуками и имеющую как инвалид войны все права на улучшение жилищных условий, — продолжал Поляков. — Но наши права, наверное, никогда не станут обязанностями чиновников. Знаете, что ей ответил зам-префекта Западного округа В. Т. Панкратов? Нет, не подумайте — ничего грубого. Он сказал: «Подождите, Екатерина Ивановна. Будет возможность — поможем». Когда мне, сравнительно бодрому 44-летнему мужчине говорят «подождите — поможем», у меня на душе начинают скрести экзистенциальные кошки. А что должна чувствовать 82-летняя летчица-фронтовичка, награжденная многими орденами и тяжело раненная в воздушном бою?.. Каково ей каждый День Победы получать письма от президента с заверениями, что он в целом и страна в частности перед ней, героиней войны, в долгу? Надеюсь, В. Т. Панкратов позвонит Екатерине Ивановне раньше, чем в его кабинете раздастся звонок мэра Лужкова — настоящего друга ветеранов», — не без ехидства завершал свой пассаж автор.
Моей непритязательной маме было чрезвычайно приятно прочесть о себе в газете. Но никаких последствий никто из нас, конечно, не ожидал: жили мы, как все, скудно и просто, некогда было мечтать о несбыточном. Тем не менее следующим вечером нам позвонили домой из префектуры! А через пару месяцев мы въехали в трехкомнатную квартиру в новом доме на Филевском бульваре.
Я до сих пор не могу уразуметь, как такое могло произойти, и часто надоедаю с этим рассказом своим друзьям и знакомым. Кстати, по удивительному совпадению, и префект, и его заместитель, на приеме у которых мы побывали, вскоре лишились своих должностей. Но мы, конечно, никак не связывали кадровые перестановки в префектуре с нашей простой историей, да и обеспечить жильем фронтовиков правительство обещает по сей день.
Чета Поляковых побывала на нашем тихом и скромном новоселье. Мама, которая оставалась с нами еще три года, любила рассказывать родичам и знакомым о том, что было после того, как Юрий Михайлович написал о ней в газете.
Все мы друг с другом связаны узами знакомств и общих воспоминаний. Мне помнится, как однажды, пополнив, по приглашению Полякова, ряды участников проходившей в ЦДЛ встречи с венгерскими писателями, я познакомилась со своим коллегой, издателем Миклошем Надем. Оказалось, Надь закончил тот же институт и факультет, что и я, только на несколько лет позже, а его любимым преподавателем тоже был Рудольф Федорович Додельцев, читавший у нас истмат и ведший соответствующий семинар в моей академической группе. Это был мой первый опыт общения с людьми, которые в одночасье шагнули из соцлагеря в НАТО. Никогда не забуду тоску в их глазах, когда они говорили об американских танках, занявших место советских.
Первые годы Юрия Михайловича в «Литературке», как мы уже знаем, отнюдь не были простыми и мирными. Ему приходилось не только выяснять отношения в редакции и с акционерами, не только отбиваться от негодующих либералов, но и заново выстраивать диалог с писателями-почвенниками. Легко сказать — вернуть их имена на страницы газеты. На деле это означало прежде всего сломать лед недоверия и даже порой неприязни, который образовался после писательского съезда, на котором Полякова так шумно «прокатили» в рабочие секретари. Ну а репутация у тогдашней «Литературки» среди членов Союза писателей России, где угнездились почвенники, была хуже некуда. Не стоит думать, что, когда новый главред пригласил почвенников к сотрудничеству, они бегом побежали в редакцию. Одного из них, Юрия Михайловича Лощица, автора прекрасных биографий Григория Сковороды, Дмитрия Донского, Ивана Гончарова и — уже в наше время — Кирилла и Мефодия, уговаривала пересмотреть свое отношение к «Литературке» я. Нас с Юрием Лощицем связывала не только «ЖЗЛ», но и «Товарищество русских художников» и участие в праздновании Дней славянской письменности и культуры, особенно в незабываемом 1988-м в Новгороде, а также на следующий год — в Киеве. Вот почему в посвященном Дням славянской письменности номере «ЛГ», на первой полосе, вышло именно мое с ним интервью.
Уже значительно позднее, в 2013-м, Поляков рассказал мне, как, будучи членом совета попечителей Патриаршей литературной премии, убедил коллег в том, что Лощиц заслуживает ее ничуть не менее, чем фавориты-соискатели Куняев и Варламов. Доводы подействовали: Лощиц стал лауреатом. Наверное, он очень удивился бы, узнав, что именно «не совсем свой» Поляков, горячо говоривший о книгах Лощица перед заполнением бюллетеней, повлиял на исход тайного голосования, по итогам которого Патриарх Кирилл принял решение вместо двух вручить три премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Литературный редактор — профессия реликтовая, фактически отживающая. В наше время гораздо выше — во всех смыслах — ценится так называемый «менеджер книги», который висит у автора на хвосте в ожидании нового романа, обеспечивает скорейшее прохождение рукописи через издательские кабинеты, вытрясает из дизайнера в срок обложку и заботится о правильной аннотации, которая обеспечит книге высокие продажи. Ничего удивительного: книжные издательства ориентируются в наши дни не на читателя, а на маркетологов, а нынешние книжные гиганты возникли в 1990-х; у них не было того бесценного обмена редакторским опытом, от человека к человеку, который рутинно происходил в советское время, они не знают, как много может дать книге хороший редактор. Сегодня прежние традиции утрачены безвозвратно, а сама фигура редактора, и без того невидная, стала почти символической и, возможно, необязательной. Многие даже убеждены, что редактор отвечает за запятые и опечатки в тексте. Это правда, за них — тоже. Но главная его задача в другом. Редактор помогает автору увидеть стилистические и смысловые огрехи, при этом он должен работать с текстом в интонации и стилистике автора, что удается отнюдь не всем и не всегда. Чем естественнее и органичнее его работа, тем она незаметнее, и только автор знает, какова доля участия редактора в книге. И хотя Юрий Поляков сам чрезвычайно дотошен в работе над словом и требователен к себе, — а может быть, именно поэтому, — он высоко ценит труд, который вкладывают редакторы в его произведения.
Вот почему было совершенно естественным с его стороны — и, конечно, лестным для меня — поместить в «Литературке», в связи с моим пятидесятилетием, интервью со мной. Честно признаюсь: я нечасто извлекаю этот сюжет из своей благодарной памяти — на фото я получилась просто страшилищем. Правда, так его восприняли, кажется, не все: мне передали письмо от читателя из Израиля, в котором с легкой матримониальной грустью он намекал на то, как много между нами общего. Не сомневаюсь: ведь мы родились и выросли в одной стране. С годами начинаешь особенно отчетливо понимать, как много это значит. И ценить тех, кто, вместо того чтобы клеймить «проклятый совок», с благодарностью вспоминает то хорошее, что наполняло тогда нашу жизнь.
Нам надо наконец полюбить наше прошлое — а его есть за что любить, — только тогда мы будем достойны будущего, о котором мечтаем. Все книги Юрия Полякова, вся его публицистика — об этом.
Работая над книгой, я прочла десятки, если не сотни интервью моего героя, и фрагменты некоторых из них вошли в окончательный вариант биографии. Мне показалось уместным воспользоваться такой возможностью и самой задать ему вопросы, ответы на которые станут еще одним эксклюзивом, написанным специально для нашей книги. Думаю, не надо объяснять читателю, что мы с ним давно на «ты».
— Что тебя отличает — точнее отличало — от писателей-почвенников? И что для тебя значит слово «почва»?
— От так называемых советских почвенников меня всегда отличали, пожалуй, две особенности и одно свойство. Первое. Будучи русским человеком «рязанского разлива», я никогда не считал русскость прямым следствием родовой генетики, или крови. В национально-культурном самоопределении человека все гораздо сложнее, причем именно для нас, русских, которые, занимая огромные территории, как бы обтекали живущие там народы и роднились ненавязчиво, а не уничтожали аборигенов, поголовно или за исключением дев, не познавших мужей. Для меня важнее «единоверие», чем «единокровие». Речь не столько о религиозном сознании, сколько о вере в особое предназначение Русской цивилизации, Русской Державы и Русского Слова. Во-вторых, я никогда не оценивал людей, их вклад в политику, общественную жизнь, культуру, литературу по принципу «свой» — «чужой», или, как говорят в народе: «Не по хорошу мил, а по милу хорош». Мне не понятен рецензент, который хвалит плохую книгу лишь потому, что у автора нос той же формы, что и у него, критика.
Именно такую практику я жестко пресек, едва возглавив «Литературную газету». На мой взгляд, это тупик, особенно для творческой личности, когда своему прощается бездарность, а чужому не прощается талант. К сожалению, этим грешат и почвенники, и «беспочвенники». Я никогда не сочту другого писателя бездарным, если мне не нравятся его политические взгляды. И наоборот: никакая идейная близость не заставит меня закрыть глаза на творческую беспомощность «единоверца». Впрочем, чисто теоретически такое отношение кажется естественным, даже единственно возможным, а вот на практике оно встречается очень редко. И наконец, Господь наделил меня особенным свойством — ироническим, улыбчивым восприятием жизни. Почему-то среди именно советских почвенников ирония и смешливость считались и считаются явной приметой инородца, что для нашей многоплеменной страны нелепо. Любопытно, что ни Гоголя, ни Салтыкова-Щедрина, ни Чехова за чувство юмора в инородцы не записывали. Это появилось после революции, в 1920-е годы, видимо, как реакция на роковые потери в тонком еще слое русской интеллигенции, прежде всего творческой и научной. Хотя на самом деле русский смех легко узнать: он, как правило, не агрессивен, и это чаще всего самоирония, в нем нет неприязни, он обращен на свои, родные, а не чуждые недостатки. Русским сатириком быть непросто: почвенникам чужд твой смех, как таковой, а «беспочвенникам» непонятна снисходительность твоего смеха, они любят погорячее…
— Как ты воспринимаешь сегодня семейные традиции? Менялся ли твой взгляд на семью? И считаешь ли ты возможным и необходимым, чтобы в наше время под одной крышей жили по меньшей мере три поколения?
— Я вырос в той среде, где нормальная, полная семья считалась делом само собой разумеющимся и отсутствие, скажем, у ребенка отца связывалось с трагедией: гибель на войне, ранняя смерть. Разводы и вторые браки в поисках личного счастья были еще редкостью, по крайней мере, в нашей рабочей среде. Семья была ячейкой выживания и союзом, конечно, полюбовным, для продолжения рода. С осудительным недоумением моя родня, собравшись по праздникам, обсуждала брачные эксперименты и скандальные разлады в семьях разных знаменитостей: «С жиру бесится!» О нетрадиционной ориентации вообще говорили как о чем-то невиданном, вроде союза русалки и дельфина. Однако эта патриархальность рушилась прямо на моих глазах. И чем выше я поднимался по социальной лестнице, тем естественнее выглядело то, что моя родня считала противоестественным. Но, повидав всякого, я в глубине души сохранил этот, может, простоватый, народный, но нормальный взгляд на семью и отношения полов. Меня совсем не радует, что муками сексуальной самоидентификации скоро заменят в искусстве главную тему прошлых веков — муки совести.
Что касается сосуществования большой семьи под одной крышей, это ушло вместе с традиционным обществом, лучшей, на мой взгляд, формой организации человеческого быта в скудных условиях. Изобилие, увы, — враг традиции. Даже неполное советское решение жилищной проблемы позволило разным поколениям одной семьи обзавестись сперва отдельными комнатами, потом квартирами. Это процесс естественный, ибо старики даже в России теперь живут дольше, остаются молодыми почти до самой смерти, стремление «пожить для себя» становится главным смыслом второй половины земного существования. Даже те, кто с годами начинает о душе заботиться, про тело тоже не забывают. Да и стандарты минимального комфорта с середины прошлого века, когда я «в этот мир пришел, чтоб видеть солнце», изменились фантастически. И попытки жить с семьей моей дочери в одном доме, пусть и просторном, закончились, к всеобщему облегчению, разъездом и гостевыми радостями. Но не будем забывать, что при всей сложности последних десятилетий, даже с учетом развала страны и разгрома советской социальной системы, мы не сталкивались с катастрофами, подобными революции, войне, массовому голоду. Уверяю вас, если, не дай бог, случится нечто подобное, родственный круг из «гедонистического семейного подряда» вновь и очень быстро превратится в боевую единицу выживания. Семью надо сохранять всеми силами, ибо в трудную минуту она сохранит тебя.
— Как тебе удается сохранять такую высокую работоспособность в твоем — уже официально пенсионном — возрасте? Есть ли у тебя какие-то свои секреты на этот счет?
— Писательство — это, по сути, не профессия, а способ жизни. Профессию люди себе выбирают, чтобы заработать на хлеб, иногда по призванию, чаще по расчету, и довольны, если расчет оказался верным. Когда рыночные условия меняются, мы наблюдаем исход из профессии. Нечто подобное произошло с литераторами в 1990-е. Союз писателей поредел, как толкучка фарцовщиков при крике «милиция!». К сожалению, на смену прагматикам, перешедшим на более тучные нивы, в литературу пришли в основном графоманы, сочиняющие не для заработка, а для своего удовольствия. Одна беда: это удовольствие от писателя к читателю не передается. Но иногда, очень редко, какой-то вид деятельности необходим человеку как воздух, как пища, как взаимная чувственность… Что это — дар или, как говорили во времена моей юности, «бзик», не знаю. Но он или есть, или его нет. Можно оснастить этот дар знаниями, навыками, например, в Литературном институте, но выучиться «на писателя» нельзя. Я, вероятно, по своей природе принадлежу к разновидности людей, которым словесный труд необходим. Если какое-то время по объективным или субъективным причинам я не могу заняться словосложением, то ощущаю бесприютность, раздражение, даже что-то вроде «ломки». Это не значит, что я ловлю кайф от писательства, что у меня нет мук творчества, они есть и связаны со стремлением максимально приблизить конечный текст к замыслу. Ты напрягаешься, мучишь себя и других, понимая, что полностью сделать текст равноценным замыслу невозможно. Главная претензия моих редакторов звучала всегда так: «Остановитесь! Хватит! Не надо больше улучшать! Вы уже портите написанное!» Чем не танталовы муки? Для графоманов, а большинство нынешних авторов принадлежат к данной почтенной категории, такой проблемы вообще не существует. Я же, в отличие от графоманов, радости от процесса сочинения не испытываю, возможно, за исключением самого последнего этапа «полировки» текста «нулевой шкуркой». Наоборот, литературная работа связана для меня с серьезными самоограничениями, отказом от многих радостей, подчинением всей жизни графику «бумагомарания», что понимают и принимают только настоящие писательские жены. Например, несколько лет назад я понял: с возрастом алкоголь стал мешать творчеству, и без колебаний, хоть и с грустью, исключил возлияния из моей жизни. Остается надеяться, что женская взаимность никогда не помешает моим литературным занятиям…
Основные даты жизни и творчества Ю. М. Полякова
1954, 12 (13) ноября — родился в Москве в рабочей семье. Отец Михаил Тимофеевич Поляков — электрик на заводе «Старт», мать Лидия Ильинична — технолог на Московском маргариновом заводе.
1957 — семья переезжает из коммунальной квартиры на Маросейке в заводское общежитие в Балакиревском переулке.
1962, 1 сентября — Юра Поляков идет в первый класс школы № 348 на углу Балакиревского и Переведеновского переулков. Лето проводит в деревне Селищи (близ Кимр) и пионерском лагере «Дружба» (станция Востряково).
1966–1971 — активно занимается самообразованием, посещает различные кружки при Доме пионеров Первомайского района, в том числе изостудию. Посещает Клуб юных искусствоведов при Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и Клуб юных архитекторов.
1967–1968 — начитает писать стихи.
1969 — избирается секретарем комсомольской организации школы № 348. Семья получает двухкомнатную квартиру на улице Менжинского в Бабушкинском районе, недалеко от станции Лосиноостровская.
1970–1971 — успешно выступает в школьной команде КВН в качестве капитана и автора стихотворных текстов. Посещает подготовительные курсы в Московском архитектурном институте.
1972 — оканчивает школу со средним баллом 4,7 и поступает в Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской на факультет русского языка и литературы. Занимается научной работой; пишет курсовую по поэзии Валерия Брюсова.
1973, лето — работает комиссаром в строительном студенческом отряде в Подмосковье. Начинает посещать Литературную студию при горкоме комсомола и Московской писательской организации, семинар Вадима Сикорского. Знакомится с будущей женой Натальей Посталюк — студенткой Московского экономико-статистического института, дочерью летчика-испытателя.
1974, март — первая поэтическая публикация в «Московском комсомольце».
Август — первый выезд за границу — в ЧССР — по студенческому обмену.
1975, 31 января — вступает в брак с Натальей Посталюк. Без отрыва от учебы преподает в школе № 348.
Лето — проходит педагогическую практику в пионерском лагере в городе Ступино на Оке. Публикует стихи в молодежной печати.
Ноябрь — молодая семья Поляковых переезжает в двухкомнатную кооперативную квартиру в Шипиловском проезде (Орехово-Борисово).
1976, лето — защищает дипломную работу «Брюсов и Октябрь», оканчивает институт с красным дипломом; ученый совет рекомендует его в аспирантуру. В газете «Московский комсомолец» выходит большая подборка стихов Юрия с предисловием Владимира Соколова.
С сентября — преподает русский язык и литературу в вечерней школе рабочей молодежи № 27 на Разгуляе.
Октябрь — участвует в семинаре творческой молодежи в Красной Пахре.
Ноябрь — призван в ряды Советской армии. Срочную службу проходит в Группе советских войск в Германии, где служит в артиллерийском полку заряжающим с грунта в расчете САУ (город Дальгов), а после выхода стихов в журналах «Молодая гвардия» и «Студенческий меридиан» — в дивизионной газете «Слава» (Олимпишес дорф).
1977, осень — после увольнения в запас возвращается в Москву. Числясь младшим редактором журнала «Вперед» Всероссийского общества слепых, работает инструктором школьного отдела Бауманского райкома комсомола.
1978, февраль — стихи Полякова печатаются в «Юности»; он становится участником IV Московского совещания молодых литераторов, где его стихи получают высокую оценку.
Прикрепляется к кафедре советской литературы МОПИ в качестве соискателя и сдает кандидатский минимум.
Октябрь — Юрия избирают секретарем комсомольской организации Московского отделения СП СССР.
Декабрь — начинает работать корреспондентом возобновленной газеты «Московский литератор».
1979, апрель — становится участником VII Всесоюзного совещания молодых литераторов, проводимого под эгидой ЦК ВЛКСМ и СП СССР. По результатам обсуждения ему вручают издательский договор на первую книгу стихов в серии «Молодые голоса» издательства «Молодая гвардия». Широко публикуется в центральной печати.
Октябрь — в «Литературной газете» выходит подборка стихов с предисловием Владимира Соколова. Избирается членом бюро Краснопресненского РК ВЛКСМ, который возглавляет Павел Гусев.
1980, февраль — в издательстве «Молодая гвардия» выходит первая поэтическая книга «Время прибытия» тиражом 30 тысяч экземпляров. Книга отмечена премией имени Горького «За лучшую первую книгу молодого автора». Подборка стихов в журнале «Знамя». За цикл стихов «Непережитое» Поляков получает премию имени Маяковского ЦК ЛКСМ и СП Грузии.
Март — становится кандидатом в члены КПСС. Пишет кандидатскую диссертацию.
Август — заканчивает работу над повестью «Сто дней до приказа» и предлагает ее в толстые журналы, но везде получает отказ. В ГлавПУРе, ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС с ним беседуют ответственные работники, убеждая, что публикация повести нанесет вред Советской армии.
26 сентября — в семье Поляковых рождается дочь Алина.
1981, март — становится членом КПСС.
Июнь — на кафедре советской литературы МОПИ им. Крупской защищает кандидатскую диссертацию «Творческий путь Г. Суворова. К истории фронтовой поэзии». В издательстве «Современник» выходит вторая поэтическая книга «Разговор с другом».
Июль — вступает в Союз писателей СССР как поэт. Пишет повесть «ЧП районного масштаба».
Сентябрь — назначен редактором «Московского литератора».
1982, февраль — заканчивает повесть «ЧП районного масштаба». Выступает в печати со стихами и критическими статьями, посвященными военно-патриотической теме в творчестве молодых поэтов. На радио в рамках передачи «Ровесники» ведет поэтический клуб «Березка», получая тысячи писем со всех уголков страны. Предлагает повесть «ЧП районного масштаба» в журналы и всюду получает отказ.
1983 — в библиотечке журнала «Молодая гвардия» выходит историко-публицистическое исследование «Между двумя морями. Книга о поэте» — о стихах и судьбе поэта-фронтовика Георгия Суворова. Становится лауреатом премии Московского комсомола. Ведет поэтическую студию в культурно-молодежном центре «Авангард» в Орехово-Борисове. По сигналу бдительного студийца вызван на беседу в Красногвардейский райком комсомола, где знакомится с первым секретарем Вячеславом Копьевым. Новый главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев публикует главу из повести «ЧП районного масштаба» «Собрание на Майонезном заводе».
1984 — после трехлетних хождений по инстанциям повесть «Сто дней до приказа» по настоянию генерала Дмитрия Волкогонова окончательно запрещена военной цензурой. Апрель — переходит из «Московского литератора» в журнал «Смена». Через полгода в результате конфликта с главным редактором Альбертом Лихановым уходит на «вольные хлеба». «Сто дней…» обсуждают в ЦК ВЛКСМ и Союзе писателей; в «Московском литераторе» публикуют фрагмент, озаглавленный «Призыв».
1985, январь — в связи с постановлением ЦК КПСС «О совершенствовании партийного руководства комсомолом» в январском номере «Юности», возглавляемой Андреем Дементьевым, выходит повесть «ЧП районного масштаба», и Поляков «просыпается знаменитым». По всей стране идут читательские конференции и комсомольские собрания, на которых обсуждают повесть.
31 мая — в газете «Московский комсомолец» напечатан фрагмент повести «Сто дней до приказа». В издательстве «Современник» выходит книга стихов «История любви». Лауреат премии имени Бориса Полевого за повесть «ЧП районного масштаба».
1986, сентябрь — в журнале «Юность» опубликована повесть «Работа над ошибками». Лауреат премии Ленинского комсомола за повесть «ЧП районного масштаба», которая выходит отдельной книгой в издательстве «Московский рабочий». Избирается секретарем правления Московской писательской организации и секретарем правления СП РСФСР, членом правления СП СССР.
1987, январь — семья Поляковых переезжает в полученную от Союза писателей трехкомнатную квартиру на Хорошевском шоссе.
Март — спектаклем «Кресло» («ЧП районного масштаба») открывается Театр-студия под руководством Олега-Табакова.
15 апреля — выступая на XX съезде ВЛКСМ, поднимает тему «дедовщины» в армии и получает обвинение в клевете. Избирается кандидатом в члены ЦК ВЛКСМ. «Советский писатель» выпускает четвертую книгу стихов «Личный опыт». В ленинградском ТЮЗе им. Брянцева премьера «Работы над ошибками» в постановке Станислава Митина.
Лето — на экраны выходит фильм «Работа над ошибками» (режиссер — Андрей Бенкендорф). Юрий Поляков в составе группы журналистов принимает участие в двухнедельной поездке по США.
Ноябрь — в «Юности», через семь лет после написания, выходит повесть «Сто дней до приказа». Публикация вызывает многочисленные отклики в прессе, и хвалебные и негативные.
1988, январь — в Театре драмы им. Пушкина (Александринке) после генерального прогона отменяют объявленную премьеру «ЧП районного масштаба». В издательстве «Детская литература» выходит повесть «За боем бой» о Гражданской войне.
Весна — в издательстве «Молодая гвардия» выходит сборник повестей «Сто дней до приказа», пользующийся ажиотажным спросом.
Лето — принимает участие в советско-американском саммите «Восходящих лидеров» в Чикаго. Руководит секцией творческой молодежи. В Московском дворце молодежи проходит творческий вечер Юрия Полякова, показанный по ТВ.
Зима — в Доме кино проходит премьера фильма «ЧП районного масштаба» (режиссер — Сергей Снежкин), но в прокат картину не выпускают.
1989, весна — лето — фильм «ЧП районного масштаба» после закрытых просмотров допущен на широкий экран.
Май — публикация в «Юности» повести «Апофегей», вызвавшая широкий резонанс; неологизм «апофегей» закрепляется в языке.
1990 — становится членом ПЕН-клуба. Пишет повесть «Парижская любовь Кости Гуманкова».
Ноябрь — в «пробном» номере газеты «День» публикует статью «Из клетки в клетку» («Право на одиночество»). Выходит на экраны фильм «Сто дней до приказа» (режиссер — Хусейн Эркенов). В Софии на болгарском языке выходит повесть «Работа над ошибками».
1991 — в летних номерах «Юности» публикуется повесть «Парижская любовь Кости Гуманкова». Тогда же в Париже автор участвует в презентации повести, выпущенной на французском языке в издательстве «Ашет».
Август — государственный переворот застает его в Коктебеле.
Октябрь — в журнале «Столица» выходит статья «И сова кричала и самовар гудел…», в которой автор называет военный путч «пуфом».
1992 — прекращает свое членство в ПЕН-клубе, убедившись в его антипатриотической направленности.
Декабрь — в «Комсомольской правде» появляется статья «От империи лжи — к республике вранья», где выражается отношение автора к реформам и «реформаторам». Публикуется в оппозиционной прессе: газетах «Гласность», «Правда», «День» и др., принимает участие в создании и сотрудничает в патриотической газете «Гражданин России», издаваемой В. Белоусовым.
1993 — активно выступает против ельцинского режима в прессе, участвует в акциях протеста Народного фронта и Верховного Совета.
Август — повесть «Демгородок: Выдуманная история» выходит в журнале «Смена», редактируемом Михаилом Кизиловым, незадолго до обострения кризиса, закончившегося расстрелом Верховного Совета. Вводит в обиход неологизмы «господарищ» и «демокрад», участвует в защите парламента. Публикует фрагмент «Демгородка» в последнем номере «Дня», закрытого президентом.
6 октября — в «Комсомольской правде» опубликована статья «Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция!», за которую власти временно закрывают газету.
Декабрь — в «Комсомольской правде» выходит статья «Россия накануне патриотического бума», главная мысль которой — без патриотизма невозможно сохранить государственность.
1994, весна — в издательстве «Инженер» Вячеслав Копьев выпускает «Демгородок» отдельной книгой. В издательстве «Республика» (бывший Политиздат) выходит сборник прозы и публицистики, куда включен «Демгородок». В издательстве «Художественная литература» выходит «Избранное» в двух томах с предисловием Владимира Куницына.
Осень — на «Семейном канале» начинает вести передачи, в том числе «Стихоборье». Входит в левоцентристское движение «Реалисты», возглавляемое Ю. Петровым.
1995 — выпускает литературный альманах «Реалист», призванный объединить писателей патриотического направления; всего выходит в свет три выпуска альманаха.
Апрель — май — с ошибочным диагнозом госпитализирован в онкоцентр.
Ноябрь — декабрь — в журнале «Смена» выходит роман «Козленок в молоке».
1996, февраль — в «Российской газете» опубликована статья «Словоблуждание» о негативной роли «четвертой власти». Роман «Козленок в молоке» выходит в частном издательстве Александра Гурвича «Ковчег».
1997 — со Станиславом Говорухиным и Александром Бородянским работает над сценарием фильма «Ворошиловский стрелок» по повести Виктора Пронина. В издательстве «Олма-пресс» выходит избранное в трех томах. Осень — начинает вести колонку «Наблюдатель» в «Собеседнике». Безуспешно баллотируется в депутаты Мосгордумы от движения «За новый социализм». Выходит сборник публицистики «От империи лжи — к республике вранья». Заканчивает первую оригинальную пьесу «Левая грудь Афродиты». Публикует в газете «Труд» статью «Десовестизация».
1998, лето — повесть «Небо падших» вышла в журнале «Смена» и отдельным изданием — в «Олма-пресс». Режиссер Александр Павловский снимает двухсерийный фильм «Левая грудь Афродиты». На экраны страны выходит фильм режиссера Ст. Говорухина «Ворошиловский стрелок».
1999 — баллотируется от движения «За новый социализм!» в депутаты Госдумы, и вновь безуспешно. Выпускает сборник публицистики «Порнократия». В четырех номерах журнала «Москва» выходит роман «Замыслил я побег…». В Театре им. Рубена Симонова проходит премьера «Козленка в молоке» в постановке Эдуарда Ливнева. Возглавляет сценарную группу первого отечественного мегасериала «Салон красоты».
2000, январь — становится доверенным лицом кандидата в президенты РФ Ст. С. Говорухина и участвует в предвыборной кампании. Пишет по заказу Михаила Ульянова пьесу «Смотрины» в соавторстве с Говорухиным для Театра им. Евг. Вахтангова. Роман «Замыслил я побег…» отдельной книгой выходит в издательстве «Молодая гвардия». По повести «Небо падших» режиссер Константин Олегов снимает фильм «Игра на вылет». По мотивам пьесы «Халам-бунду, или Заложники любви» режиссер Леонид Эйдлин ставит восьмисерийный телефильм «Поцелуй на морозе», показанный в первые дни нового года.
2001 — пьеса «Смотрины» отклонена Ульяновым как слишком острая. «Смотрины» принимает к постановке МХАТ им. М. Горького под руководством Татьяны Дорониной. В издательстве «Молодая гвардия» выходит четырехтомное собрание сочинений.
29 апреля — приступает к работе в качестве тридцать третьего главного редактора «Литературной газеты».
Июнь — МХАТ им. М. Горького выпускает спектакль «Контрольный выстрел» (по пьесе «Смотрины»), поставленный Ст. Говорухиным. В журнале «Смена» опубликована повесть «Возвращение блудного мужа». Лауреат премии имени Александра Невского «России верные сыны». Приз зрительских симпатий на фестивале «Литература и кино» в Гатчине за фильм «Игра на вылет».
2002 — по заказу Театра сатиры пишет комедию «Хомо эректус, или Свинг по-русски». В газете «Труд» печатается с продолжением повесть «Подземный художник»; повесть выходит также в ноябрьском номере журнала «Нева». В Перми выходит поэтический сборник «Тихая непогода: Избранные стихи». Презентация перевода романа «Козленок в молоке» на сербский язык в Белграде.
2003, 14 сентября — в семье дочери Алины рождается сын Егор. Получает в Пекине премию за лучший переводной роман года «Замыслил я побег…». Снят восьмисерийный фильм «Козленок в молоке» (режиссеры — Кирилл Мозгалевский и Владимир Нахабцев). Лауреат премии правительства Москвы в области литературы. «Человек года» в номинации «Культура» по версии Русского биографического института. Начиная с 2003-го пьесы драматурга Полякова все чаще ставятся на сценах страны, а также в СНГ и дальнем зарубежье. В последующие годы автор старается бывать на каждой премьере — много ездит по стране и за рубеж.
2004 — по инициативе Полякова на логотип «ЛГ» возвращен профиль М. Горького. В издательстве «Роемэн» к пятидесятилетию автора выходит юбилейное собрание сочинений в пяти томах и сборник публицистики «Порнократия». Лауреат сербской премии имени Стефана Любиша за роман «Козленок в молоке». Выходят фильм «Парижская любовь Кости Гуманкова» (режиссер — Константин Олегов) и восьмисерийный фильм «Замыслил я побег…» (режиссер — Мурад Ибрагимбеков). МХАТ им. М. Горького ставит спектакль «Халам-бунду, или Заложники любви» (режиссер — Сергей Кутасов). В Центральном доме литераторов проходит большой юбилейный вечер. Канал «Культура» к пятидесятилетию писателя показывает передачу «Линия жизни». В журнале «Наш современник» выходит роман «Грибной царь».
8 декабря — в семье дочери Алины рождается дочь Люба.
2005 — в издательстве «Росмэн» выходят роман «Грибной царь» и первый сборник пьес «Хомо эректус». В Санкт-Петербурге за книгу «Плотские повести» вручается премия имени Гоголя. Премия Правительства РФ за творческие и профессиональные достижения в области культуры. После трехлетних проволочек в Театре сатиры с успехом проходит премьера комедии «Хомо эректус» (режиссер — А. Житинкин).
Апрель — в Институте мировой литературы проходит научная конференция, посвященная творчеству Полякова. Выходит монография доктора филологических наук Аллы Большаковой «Феноменология литературного письма. О прозе Юрия Полякова». Лауреат премии «Хрустальная роза Виктора Розова». Становится членом Совета по культуре при Президенте РФ.
2006 — орден «Знак Почета» вручает в Кремле Президент РФ В. В. Путин.
2007 — в издательстве «Росмэн» выходит сборник афоризмов «Карманный цитатник от Юрия Полякова». Александр Ширвиндт ставит в Театре сатиры пьесу «Женщины без границ». Презентация перевода на азербайджанский язык романа «Козленок в молоке» в Баку.
2008 — в издательстве «АСТ» выходит первая часть романа «Гипсовый трубач» («Гипсовый трубач, или Конец фильма»). Получает Большую золотую медаль Бунинской премии. Премьера пьесы «Одноклассники» в Театре Российской армии (режиссер — Борис Морозов). Презентация перевода «Козленка в молоке» на армянский язык в Ереване и романа «Замыслил я побег…» на болгарский язык в Софии.
2009 — в издательстве «АСТ» в персональной серии «Геометрия любви» выходит сборник пьес «Одноклассники». Премия Правительства РФ в области печатных средств массовой информации в связи с юбилеем «ЛГ». Презентация перевода романа «Козленок в молоке» на словацкий язык в Братиславе. Вооруженное нападение на дом писателя в Переделкине.
2010 — в издательстве «АСТ» выходят вторая часть романа «Гипсовый трубач» («Гипсовый трубач, или Дубль два») и сборник пьес «Женщины без границ» в персональной серии «Геометрия любви». Орден Дружбы.
2010, октябрь — 2012, июнь — ведущий программы «Контекст» на телеканале «Культура».
2011 — презентация перевода на венгерский язык романа «Козленок в молоке» в Будапеште. Съемки шестисерийного фильма «Грибной царь» (продюсер — Юрий Мацук, режиссер — Михаил Мамедов).
2012, февраль — становится доверенным лицом кандидата в Президенты РФ В. В. Путина. В издательстве «АСТ» выходит третья часть романа «Гипсовый трубач» («Конец фильма, или Гипсовый трубач»). Там же выходит сборник «Убегающий от любви».
2013 — в издательстве «АСТ» выходит книга «Бахрома жизни: Афоризмы, мысли, извлечения для раздумий и для развлечения». Лауреат международной литературной премии Дружбы народов «Белые журавли России». Снят фильм «Апофегей» (режиссер — Станислав Митин). Целиком под одной обложкой выходит роман «Гипсовый трубач». Лауреат премии Межпарламентской ассамблеи СНГ имени Чингиза Айтматова. Премия имени Салтыкова-Щедрина за роман «Гипсовый трубач». Присвоено звание почетного профессора МГОУ (МОПИ). Заканчивает пьесу «Как боги», которую принимают к постановке несколько театров, в том числе МХАТ им. М. Горького. Продюсер Артем Щеголев и режиссер Валентин Донсков снимают фильм «Небо падших».
2014 — в издательстве «АСТ» выходят сборник публицистики «Лезгинка на Лобном месте» и первый том собрания сочинений в десяти томах. «Грибной царь» на венгерском языке. Получает в Будапеште государственную литературную премию Венгрии. С труппой МХАТа им. М. Горького представляет спектакль «Грибной царь» в Китае. Осень — полемика с Н. Д. Солженицыной и «Российской газетой». Канал «Культура» к шестидесятилетию Юрия Полякова демонстрирует четырехсерийный документальный фильм. В атриуме Музея А. С. Пушкина на Пречистенке и во МХАТе им. М. Горького проходят торжественные мероприятия, посвященные юбилею писателя. В МГОУ проходит научная конференция по творчеству Ю. М. Полякова. Выходит юбилейный сборник о нем «Моя Вселенная — Москва».
29 декабря — в Театре им. Рубена Симонова играют 536-й, последний спектакль «Козленок в молоке» в связи с ликвидацией театра. Становится членом Общественной палаты РФ.
2015, сентябрь — на Московской международной книжной выставке-ярмарке представлены новые издания: роман «Любовь в эпоху перемен», книга публицистики «Левиафан и Либерафан», издания «Юрий Поляков. От «А» до «Я»: Полная энциклопедия афоризмов, мыслей и цитат» и «Испытание реализмом» — сборник материалов научной конференции в МГОУ. Председатель жюри Первого международного фестиваля «Виват, комедия!» в Санкт-Петербурге. Премьера «Грибного царя» в Оренбурге.
Ноябрь — Первый фестиваль современной русской драмы «Смотрины». На фестивале представлены пьесы Полякова в постановке театров России, СНГ и дальнего зарубежья. Фестиваль открылся спектаклем «Как боги» МХАТа им. М. Горького, а закрылся в Театре сатиры спектаклем «Хомо эректус».
Декабрь — в Театре сатиры прошла премьера спектакля по новой пьесе «Чемоданчик». В театре «Модернъ» — премьера спектакля «Он, она, они» по пьесе «Женщины без границ». Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени.
2016, февраль — признан «Человеком года» (2015) в области культуры по версии Русского биографического института.
Апрель — премьера «Чемоданчика» в БАДТ им. Горького в Ростове-на-Дону.
Май — премьера фильма «Соврешь — умрешь» (по пьесе «Одноклассники», режиссер — Алан Догузов) в Москве.
Июнь — публикация первого рассказа из цикла «Совдетство» в «Литературной газете».
10 сентября — умерла Лидия Ильинична Полякова.
Биография продолжается…
ИЛЛЮСТРАЦИИ
1. Уже написан «Побег». 2001 г.
2. Отец и мать:
Лидия Ильинична и Михаил Тимофеевич Поляковы. Май 1954 г.
До рождения героя этой книги осталось семь месяцев.
3. Дедушка и бабушка:
Илья Васильевич и Марья Гурьевна Бурминовы. 1920-е гг.
4. Детский сад. Дача. Лето 1957 г.
5. А мог стать гармонистом. 1960 г.
6. Пикник в Измайлове. Бабушка Аня, дед Георгий, бабушка Маня. 1962 г.
7. С холодным оружием. 1961 г.
8. «Наш человек!» Слева — дядя Юрий Михайлович Батурин. Справа — дед Георгий. Балчуг. 1960 г.
9. С братом Сашей. 1969 г.
10. 10-й класс школы № 348. Май 1972 г.
В центре второго ряда: любимая учительница Ирина Анатольевна Осокина и директор школы Анна Марковна Ноткина
11. В стройотряде.
Лето 1973 г.
12. Первое чтение стихов на публике.
Рядом поэт и старший товарищ Станислав Золотцев
13. Всерьез и надолго. Грибоедовский загс. 31 января 1975 г.
14. А выбор был…
С однокурсницами, студентками МОПИ им. Крупской в Польше. Лето 1975 г.
15. С однополчанами москвичом Юрием Смирновым и уральцем Сергеем Диденко. Германия. 1977 г.
16. В увольнении. Германия. 1977 г.
17. Первый визит в журнал «Юность». 1978 г.
18. Перед выступлением в Доме литераторов. Рядом: друг-соратник поэт Сергей Мнацаканян и поэт-фронтовик Виктор Федотов. 1980 г.
19. Комсорг московских писателей. 1983 г.
20. На съезде комсомола. Слева — Вячеслав Кольев. 1988 г.
21. С дочерью Алиной. 1981 г.
22. Молодой поэт обивает пороги редакций. 1978 г.
23. Встреча с читателями в воинской части. 1984 г.
24. С творческими соратниками. Слева — режиссер Сергей Снежкин. Справа — поэт Анатолий Пшеничный. 1989 г.
25. С писателем Дмитрием Жуковым на Сахалине. 1986 г.
26. Председатель комиссии по работе с молодыми писателями Олег Попцов учит жизни. Владивосток. 1987 г.
27. С классиками: Андрей Дементьев и Давид Кугультинов. 1986 г.
28. Между Егором Исаевым и Робертом Рождественским. 1983 г.
29. Пишем «Апофегей».
30. На съемках мегасериала «Салон красоты». С актрисой Ольгой Кабо. 2000 г.
31–32. Среди благодарных читателей
33. Лучший друг Геннадий Игнатов. Первый читатель рукописей Ю. Полякова. 2007 г.
34. Редактор альманаха «Реалист». 1995 г..
35. Говорили: мы похожи… С Михаилом Евдокимовым. 1997 г.
36. Друзья детства: Михаил Петраков и Петр Коровяковский
37. На Байкале у Распутина. С женой Натальей. 2005 г.
38. На съезде писателей. Критик Феликс Кузнецов, драматург Николай Мирошниченко, поэт Константин Скворцов. 1986 г.
39. Никита Михалков в «ЛГ», в 206-й комнате. 2006 г.
40. Возвращение Горького. 2004 г.
41. Сергей Михалков: «Юра, ты последний советский писатель, но только не зазнавайся!»
42. Опять премьера! 2004 г.
43. Александр Ширвиндт: «Когда будет новая комедия?» 2014 г.
44. Награда из рук президента. 2006 г.
45. С критиками надо дружить: с Евгением Сидоровым и Владимиром Куницыным. 2012 г.
46. Презентация третьего тома романа «Гипсовый трубач». Верный редактор — Ольга Ярикова. Ведет вечер Андрей Дементьев. Музей А. С. Пушкина на Арбате. 2012 г.
47. Первый день съемок фильма «Апофегей». Режиссер Станислав Митин и автор через минуту разобьют эту тарелку. 2012 г.
48. Где-то за рубежом. 2012 г.
49. На комсомольском Олимпе. Оргкомитет празднования 90-летия ВЛКСМ. 2008 г.
50. Почетный профессор Московского государственного областного педагогического университета. 2014 г.
51. Все на планерку! 15 лет у руля «ЛГ». 2016 г.
52. Поздравления любимому автору «Молодой гвардии». Валентин Юркин и Андрей Петров на юбилейном торжестве в Музее А. С. Пушкина на Пречистенке. 2014 г.
53. «Когда же вырасти успела?!» Станислав Говорухин с соавтором «Ворошиловского стрелка», его женой Натальей и их внучкой Любой
54. Нарву цветов и подарю букет Ларисе Васильевой. 2015 г.
55. Автора на сцену! МХАТ им. М. Горького. 2014 г.
56. Любимый драматург режиссера, народной артистки СССР Татьяны Дорониной. 2014 г.
57. С художественным руководителем Русского театра в Ереване Александром Григоряном. После премьеры пьесы «Как боги». 2013 г.
58. С женой Натальей на Волге. 2010 г.
59. С женой Натальей, дочерью Алиной и ризеншнауцером Ричем в квартире на Хорошевке
60. Какая картина! Дед, внук Егор, внучка Люба и портрет кисти художника Д. Слепушкина. 2004 г.
61. В гостях у Василия Белова. Последняя встреча. Вологда. 2011 г.
62. Главный редактор «ЛГ» на фоне предшественников. 2010 г.
63. Портрет Ю. Полякова кисти художника Геннадия Животова. 2007 г.
знак информационной продукции 16+
Ярикова Ольга Ивановна
ЮРИЙ ПОЛЯКОВ:
ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Редактор Е. С. Писарева
Художественный редактор И. И. Суслов
Технический редактор В. В. Пилкова
Корректоры Т. И. Маляренко, Г. В. Платова
Сдано в набор 23.08.2016
Подписано в печать 20.09.2016
Формат 84х108/з2
Гарнитура «Newton»
Бумага офсетная № 1
Печать офсетная
Усл. печ. л. 55,44+1,68 вкл.
Тираж 5000 экз.
Заказ № 1617060
Издательство АО «Молодая гвардия»
Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21
Internet: . E-mail: dseL(S)gvardiya.ru
ARVATO BERTELSMANN
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ООО «Ярославский полиграфический комбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97
Романы и повести Юрия Полякова стали классикой, пьесы идут с аншлагом, а статьи вызывают бурные дискуссии. Но что нам известно о нем? И как игра воображения сочетается в его книгах с жизненным опытом? В биографии впервые подробно рассказано о его детстве и юности, об отношениях с собратьями по перу; о том, как он боролся за публикацию своих первых вещей, как стал «колебателем основ» и властителем дум не одного поколения соотечественников. Судьба писателя рассматривается в тесной связи с судьбой страны, исторической реальностью тех лет, ныне искаженной или оболганной.
Тайны личности и творчества Юрия Полякова помогают приоткрыть фрагменты еще не написанных книг, не публиковавшиеся стихи и страницы писательского дневника.
Примечания
1
Это не анекдот, а реальный факт. Копченым лещом, стоившим генсеку жизни, в августе 1983 года угостил Черненко министр внутренних дел Виталий Васильевич Федорчук, вопреки здравому смыслу и нынешним страшилкам про СССР, после этого оставшись при той же должности.
(обратно)2
Из-за ограниченности в возможностях оформления, отрывки из произведений выделены такими разделителями. — Примечание оцифровщика.
(обратно)3
Интересно, что в Китае в том же 1985-м были отправлены в отставку 10 членов политбюро и 64 члена ЦК КПК — чтобы освободить места для молодых руководителей.
(обратно)4
То же можно было сказать о структурах, относящихся к Министерству обороны, Министерству путей сообщения, профсоюзам (ВЦСПС), Министерству иностранных дел и пр., не говоря уже об инфраструктуре КПСС и Совета министров. Впрочем, были еще и крупные промышленные предприятия, у которых на балансе числились свои дома отдыха, санатории, пионерские лагеря, детские сады, поликлиники и жилые дома.
(обратно)5
Эта история была знаковой. За брошюру о приватизации страны пять «реформаторов» получили гонорар 450 тысяч долларов.
(обратно)6
После инцидента, в том же 1990 году, лидер этого ответвления «Памяти» Константин Смирнов-Осташвили был осужден (прежде окончания следствия) по статье 74 часть 2 «Нарушение равноправия граждан по признаку расы, национальности или отношения к религии» на четыре года в колонии усиленного режима, а весной 1991-го, за несколько дней до досрочного освобождения, Смирнов был найден повешенным на простыне в производственной зоне исправительно-трудовой колонии в Твери.
(обратно)7
Это был любимый аргумент либералов эпохи Горбачева. Только перед нами, как все мы помним, была не пропасть, а трясина, в которую страна и погрузилась в 1990-е.
(обратно)8
См.: Harrison Н. М. Driving the Soviets up the wall: Soviet-East German relations. 1953–1961. Princeton: Princeton University Press, 2003.
(обратно)9
Владимир Брониславович Муравьев (1928–2006?) — историк, биограф и краевед, председатель комиссии «Старая Москва»; Сергей Васильевич Шервинский (1892–1991) — поэт, переводчик, искусствовед; Виктор Максимович Жирмунский (1891–1971) — лингвист и литературовед, академик АН СССР, троюродный брат Юрия Николаевича Тынянова.
(обратно)10
Так Юрий шифрует род войск, в который он попал: 19 ноября — День ракетных войск и артиллерии.
(обратно)11
Статья была написана во время второй чеченской войны.
(обратно)12
О С В А Г (Осведомительное агентство) — информационно-пропагандистский орган Добровольческой армии, а в дальнейшем — Вооруженных сил Юга России во время Гражданской войны.
(обратно)13
«Тарусские страницы» вышли в 1961 году. Составителем значился писатель и драматург Николай Оттен, но фактически сборник подготовил Константин Паустовский. Ответственность за выход альманаха взял на себя секретарь местного обкома по идеологии Алексей Сургаков, который разрешил не пропускать тексты через московскую цензуру. Среди авторов стихов и прозы: Николай Заболоцкий, Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Евгений Винокуров, Аркадий Штейнберг, Булат Окуджава («Будь здоров, школяр!»), Борис Балтер («Трое из одного города» — в более поздней версии «До свидания, мальчики»), Константин Паустовский («Золотая роза»), Владимир Максимов («Мы обживаем землю»), Надежда Мандельштам, Юрий Казаков.
(обратно)14
Этот неологизм Полякова тут же стал частью современного русского языка, и те, кто его употребляет, не всегда имеют представление о том, что у слова есть автор.
(обратно)

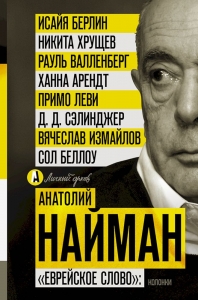
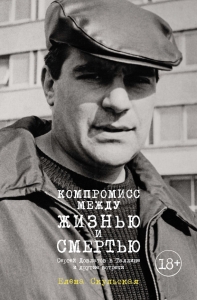

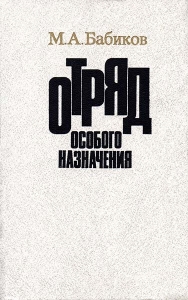
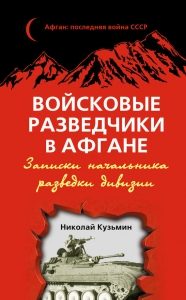

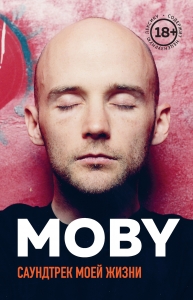
Комментарии к книге «Юрий Поляков. Последний советский писатель», Ольга Ивановна Ярикова
Всего 0 комментариев