Екатерина Александровна Скоробогачева Саврасов
Серия биографий
Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким
Выпуск 1869 (1669)
Большим ростом, сильной и мощной фигурой этот величайший артист с умным и добрым лицом производил впечатление отеческой искренности и доброты[1].
К. А. КоровинСаврасов старался отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу. С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле[2].
И. И. ЛевитанНадо у природы учиться. Видеть надо красоту, понять, любить… Природа вечно дышит, всегда поет, и песнь ее торжественна… Прославляйте жизнь. Художник — тот же поэт[3].
А. К. СаврасовГлава 1 Прелюдия творчества — годы детства и юности
Саврасов писал этюд весны. Она наступала как-то незаметно, воздух внезапно наполнился ее предчувствием. Алексей Саврасов, высокий застенчивый подросток, влюбленный в искусство, изображал на картоне тревожные облака с проблесками солнечного света, оставляющего на земле причудливые росчерки мгновений, ложившегося косыми полосами на темную после зимы почву. Временами, поднимая глаза от работы, вглядывался в даль, пытаясь различить в дымке детали пейзажа, а может быть, стремясь понять свой будущий жизненный путь, пока неясный, туманный, как прохладное весеннее московское утро.
Алексей Кондратьевич Саврасов — один из реформаторов отечественной пейзажной живописи середины — второй половины XIX века. Имя этого выдающегося художника неотделимо от истории искусства России, а его жизнь и творчество неразрывно соединены с Москвой, с Училищем живописи, ваяния и зодчества. В Первопрестольной он создавал свои первые рисунки, будучи ребенком, и последние картины, став немощным стариком. Именно здесь к нему впервые пришла заслуженная известность, он был приближен к императорскому дому, а годы спустя, под гнетом жизненных испытаний, стал нищим, без крова над головой. Здесь свершалась трагедия его жизни. Но с московскими образами было связано и особенно светлое, радостное для художника время — его молодые годы — учеба, начало творчества, создание семьи.
И в наши дни в Москве, в ее улицах, зданиях, собраниях музеев, многое напоминает о Саврасове: его полотна в Государственной Третьяковской галерее, Лаврушинский переулок, куда, в дом к П. М. Третьякову, нередко приходил художник. В приходе храма Великомученика Никиты на Швивой горке за Яузой он родился. Будучи ребенком, нередко убегал к Москве-реке. В приходе церкви Николы Заяицкого в Замоскворечье, в доме мещанина Белкина в Садовниках, семья Саврасовых жила, когда Алексей уже поступил в Училище живописи и ваяния, а его отец, достигнув некоторого финансового благополучия, торговал шерстяным товаром. И, конечно, напоминанием о том времени и последующих годах известности художника являются улица Мясницкая, близлежащие переулки и само здание Московского училища живописи и ваяния, где А. К. Саврасов учился и преподавал, спорил, отстаивая свои методы преподавания, давал советы ученикам. Ныне здесь находится Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, продолжающая традиции реализма, а на стене здания, что закономерно, помещена памятная доска, посвященная Алексею Кондратьевичу Саврасову.
Постепенно постигая великую историю златоглавой столицы, юный Алексей Саврасов запечатлевал в своей душе ее образы — Кремль, древний центр, шумные улицы и тихие переулки, величественные монастыри и старинные камерные храмы, Москву-реку и прихотливое течение извилистых троп на окраинах, сады и скверы, разнотравье лугов и тишину леса. Немного повзрослев, он стал неустанно бродить по Москве, открывая для себя все новые и новые ее уголки, изучая архитектуру, наблюдая за жителями, такими разными на центральных дворянских улицах и в пыльных окраинных районах. По-своему его привлекали гомон рынков и ярмарок, пестрота праздничных народных гуляний, а потом вдруг Алеше хотелось уйти от многоголосья неугомонных московских жителей. Он скрывался в тихие живописные переулки, входил в монастырские владения или уединялся на берегу Москвы-реки. Здесь он мог часами наблюдать за течением воды, размышлял о чем-то.
В детские и отроческие годы Алексею особенно запомнился облик Гончарной слободы, прихода церкви Великомученика Никиты у подножия Швивой (в стародавние времена Вшивой) горки, вблизи Таганки. Здесь, в доме с мезонином купца Пылаева в семье Кондратия Артемьевича Саврасова, мещанина, торговавшего глазетом, шнуром и кистями, 12 мая 1830 года родился мальчик[4], которого нарекли Алексеем, это имя и было занесено в метрическую книгу церквей Ивановского сорока. Ему суждено будет стать одним из самых молодых академиков отечественного искусства и возглавить пейзажную мастерскую в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве, стать не только выдающимся художником, но и талантливым педагогом, другом и наставником своих учеников.
Откуда приехали Саврасовы в Москву? Есть основание считать, что Саврасовы не были коренными москвичами и перебрались в столицу откуда-то с Волги или из северных губерний. К этой мысли невольно приходишь, отмечая, что как отец, так и сын (последний до середины 1850-х годов) писали свою фамилию через «о»: Соврасов. Для москвичей такая тенденция в произношении была бы немыслима.
Отец будущего художника, не имея родственных связей в Москве, мог рассчитывать только на себя. Семья, в которой было пятеро детей, два сына и три дочери, жила небогато. Кондратий Артемьевич был женат дважды. Первый раз на Прасковье Никифоровне, которая была матерью Алексея, его сестер и брата. После ее смерти вдовец женился на Татьяне Ивановне Виноградовой. Торговля Саврасова шла не лучшим образом, и все свои силы он прилагал к тому, чтобы не стать мелким торговцем всякой всячиной: яблочным квасом, баранками, медовыми пряниками, рыбой, серными спичками. Таких в столице было множество.
Неудивительно, что еще двенадцатилетним мальчиком Алеша пытался сам зарабатывать. Рано проявившиеся художественные наклонности и способности позволили ему избрать средством заработка рисование. «Двенадцатилетнего Алешу Саврасова мы уже находим в Москве, так сказать, „самостоятельным художником“; так или иначе, а рисовать он к этому времени научился сам, без всяких руководителей, настолько, что рисунки его, большей частью гуашные, торговцы на Ильинской и Никольской, продававшие под воротами дешевые картинки, брали очень охотно (конечно, по крайне дешевым ценам) и считали их „ходовым товаром“. Сколько было нарисовано таких рисунков, к каким техническим ухищрениям приходилось мальчугану прибегать, чтоб выполнить эти дешевые заказы (платили за подобные рисунки рублей по шесть за дюжину), сказать было бы так же трудно, как трудно определить, откуда у мальчика брался весь этот обильный материал „бурь на море“, „извержений Везувия“ и пр., разработанный им в то время»[5].
К концу 1830 года торговля Кондратия Артемьевича начала налаживаться, он стал купцом третьей гильдии и смог переехать с семьей в Замоскворечье, где поселился у дьякона в Якиманской части. Здесь и проходило детство будущего художника Алексея Саврасова. Сохранившиеся архивные фотографии позволяют представить облик этого довольно живописного района старой Москвы — узкие переулки и небольшие площади неправильной формы, тесно стоящие друг к другу сооружения — дощатые, бревенчатые, иногда из красного кирпича. Доминантой в местном ландшафте являлась церковь Святого Иоанна Воина на Якиманке, яркий образец петровского барокко, в котором отчасти проявились черты украинского зодчества. Золотые главки храмовой постройки и ее колокольни, пестрота куполов, окрашенных «в шашку», издалека привлекали внимание. Но пока Алешу занимали детские игры да забавы. Он рос подвижным любознательным ребенком — ему нравилось играть в мяч, бегать с соседскими ребятами в догонялки, а в зимнюю пору мальчик особенно любил кататься с ледяных гор, метать снежки, сооружать забавных снеговиков, нередко выше его, тогда еще небольшого роста.
Отец Алексея, Кондратий Артемьевич, беспокоясь о благосостоянии семьи, мечтал, чтобы дела и дальше шли в гору, надеялся приобрести собственный дом, пусть не каменный, хотя бы деревянный, желательно двухэтажный, резной, в каких жили многие московские купцы среднего достатка. Представлял себе, как вся его семья и гости в праздники будут собираться в столовой, подходить с молитвой к красному углу, а затем неспешно, чинно рассаживаться за нарядно убранным столом, хвалить радушных хозяев. Не напрасно московское купечество славится гостеприимством и радушием.
Он уже ясно видел эту картину: просторная светлая столовая, где льющийся из окон солнечный свет через тонкие занавески оставляет замысловатые золотистые узоры на стенах, сложенных из смолистых сосновых бревен. Поблескивают латунные накладки на массивных книжных шкафах и буфетах красного дерева, и отечественной работы, и производства европейских мастеров. Недаром ценится мебель француза Жоржа Жакоба, которой дорожат не только купцы, но даже, как говорят, в царских дворцах.
В красном углу он поставит иконы в богатых позолоченных окладах, на стены повесит две-три картины — натюрморты с изображением цветов и фруктов. Хотя в целом, по мнению Кондратия Артемьевича, никому не нужна эта забава, только лишние траты. Вечером хозяин будет разжигать керосиновую люстру, подбрасывать в печь березовые поленья. Под их веселое потрескивание комната наполнится умиротворяющим теплом и все соберутся вокруг фортепьяно. В подражание дворянской моде в последнее время многие его знакомые купцы приобрели для своих домов этот музыкальный инструмент, который постепенно вытесняет привычные балалайки и губные гармошки. Польется плавная музыка, зазвучат романсы, а потом всем вместе можно спеть и народные песни…
Бросив взгляд на Алешу, игравшего со своей младшей сестрой, Кондратий Саврасов представлял свадьбы своих выросших детей. Согласно купеческому обычаю из церкви первыми приедут гости. Чинно, парами будут входить в дом — наряженные купчихи в пестрых шалях и платках, их мужья в долгополых сюртуках, даже с медалями «За усердие», за ними — молодежь. Все выстроятся шеренгами и будут ждать молодых. Вот и они появятся, а рядом родители жениха и родители невесты. Лакеи внесут шампанское в бокалах тонкого стекла, последуют бесчисленные поздравления и тосты, а затем начнутся чаепитие, беседы, игра в карты, танцы.
Во многом замыслам Кондратия Саврасова суждено было сбыться. Но пока — это только мечты, а впереди купца ждали усердная работа, неизбежная бережливость, множество семейных и хозяйственных забот. Однако бытовая неустроенность, теснота, стесненность в средствах не разрушили душевного спокойствия семьи Саврасовых, которая жила тогда в добром согласии. С первых лет и на всю жизнь Алексею было дорого особое тепло их дома, атмосфера заботы и тихой радости, связанных прежде всего с его матерью и бабушкой. Мальчику глубоко врезались в память образ матери Прасковьи Никифоровны и бабушки — солдатской вдовы Екатерины Власьевны, готовившей на маленькой кухне нехитрые трапезы для всей семьи. Запомнилась сдержанность отца, по вечерам при свете сальной свечи сосредоточенно записывавшего гусиным пером торговые расчеты в тетрадь, казавшиеся мальчику бесконечными.
Облик преуспевающего теперь Кондратия Артемьевича вполне соответствовал его общественному положению. Как и подобает купцу, у него появились синяя шинель, новые сюртук и сапоги и, конечно, массивные серебряные часы, которыми хозяин особенно гордился. Он поднимался рано утром, не торопясь надевал сюртук, садился к столу, выпивал несколько чашек чая из пузатого, начищенного самовара.
Мать Алексея Саврасова Прасковья Никифоровна работала неустанно — целыми днями была занята домашними хлопотами: заботилась о маленькой дочке, присматривала за сыновьями, шила, штопала, наводила чистоту в доме, а краткое время отдыха посвящала рукоделию. По традиции, уходящей во времена Древней Руси, каждая девушка и женщина на Руси должны были уметь прясть, шить, вышивать, а желательно также и ткать, и кружева плести. Мастерицей была и Прасковья Никифоровна.
Бабушка будущего художника, Екатерина Власьевна, рассказывала внуку сказки, легенды, были и небылицы, говорила и об удивительной красоте праздника Пасхи. Еще задолго до полуночи толпы народа приходили на Кремлевскую площадь. Как только часы били двенадцать, на колокольне Ивана Великого раздавался первый удар пасхального благовеста, потом — второй, а ему вторили все бесчисленные колокола Москвы. Сколько величия и торжественности в этих звуках! Алексей внимательно слушал рассказ, представлял себе старую Москву, толпы людей, множество колоколен, поглощающий все вокруг звон колоколов, словно льющийся с неба.
Несмотря на строгость жизненного уклада, детство Алексея было наполнено радостью, играми и забавами. «Лет с семи или восьми началось учение в трехклассном городском училище. Его чувствительная натура тянулась к природе. А она была здесь, рядом. Из-за заборов поднимались молодые, посаженные после пожара 1812 года сады, слышался веселый посвист синиц и печальные флейты снегирей. Кое-где на уцелевших по пустырям старых березах, покрывая весной все другие звуки, поднимали веселый гомон грачи. По вечерам у церквей слышались мелодичные голоса галок. А днем в небе, сверкая белизной, носились стаи знаменитых московских голубей — предмет страсти купеческих сынков и приказчиков. Жарким полднем под облаками, лениво пошевеливая крыльями, плыл ястреб. Весенними холодными ночами в садах пели соловьи»[6].
Нередко Алеша бегал на улицу к соседской детворе, с ними всегда было нескучно: играли в бабки, мастерили кораблики, запускали бумажных змеев, а порой из старых садов любовались видами на Москву-реку. Зима привносила в мир его детства свое содержание: мчавшиеся с гор салазки, коньки, снежные городки-крепости, веселые мальчишеские потасовки, снежки… И снова пейзажи — белизна бескрайних равнин с зигзагами дорог, деревья-великаны, узор их ветвей, отороченных бахромой инея, сверкающие на солнце сугробы, глубокая синева морозного вечернего неба, вихри метелей. Как хотелось юному Алексею суметь передать свои впечатления на бумаге с помощью карандашей и красок!
Обычные детские забавы приобретали для него особый смысл, порой не столько понятый, сколько угаданный. Подросток любил спускаться к реке, смотрел на ее гладь и бесконечное движение, уже тогда начинал постигать образы, великий смысл, заложенный в природе, обаяние ее неброских видов, каждого дерева, цветка, и появлялось стремление запечатлеть облик родной земли, по-своему рассказать о ней языком искусства. Любил он бродить и по старым московским улочкам, переулкам, окраинам, вглядывался в облик каждого дома, всегда чем-то интересный, запоминающийся ему, то резным крыльцом, то необычными пропорциями окон, то ярким акцентом праздничных занавесок за стеклами, или вековым деревом, под сенью которого дом притаился, будто спрятался.
Воспринимая так сильно образы окружающего его мира, тонко чувствуя красоту пейзажей, Алеша рано начал рисовать, как правило, пейзажи, отдельные растения. Первыми пособиями по рисованию для будущего художника стали лубки, которые выставлялись на продажу в воротах на Никольской улице. Екатерина Власьевна восхищалась способностями внука, мать относилась к его занятиям сдержанно, отец, напротив, бурно выражал недовольство, поскольку хотел видеть сына помощником в своем торговом деле, своим преемником, а художества считал баловством, пустой тратой времени. Профессия художника казалась ему недостойной, подобной работе маляра. По одной из легенд, возможно только отчасти связанной с реальными событиями, родители разрывали рисунки Алексея, а отец запирал сына на чердаке, невзирая на осенний холод, чтобы отучить его от вредной привычки — рисования.
Алексею исполнилось 14 лет, он все так же увлеченно рисовал, но иногда отправлялся и в путешествия по Москве. Нередко путь Алеши лежал через Лубянскую площадь на Мясницкую улицу. Оказываясь среди ее шума, он словно вновь попадал в какой-то особенный мир. Перед ним столь разные образы сменяли друг друга — старообрядцы и православные священники, важные купцы и вечно куда-то спешившие почтовые служащие в испачканной чернилами одежде и множество приезжих, поскольку на Мясницкой находился Московский почтамт, а рядом с ним остановка дилижансов. Потому эта улица по праву считалась почтовой в столице.
Почтамт здесь разместился еще в XVIII веке (современный дом 26). Само название «почтамт» появилось в 1725 году, но еще долго это заведение москвичи привычно именовали почтовой конторой. Вплоть до наших дней Главный почтамт располагается на Мясницкой. Поэт С. Соловьев уже в начале XX века в стихотворении «Москва» посвятил знаменитой улице такие строки:
Но дальше, дальше в путь. Как душно и тепло! Вот и Мясницкая. Здесь каждый дом — поэма, Здесь все мне дорого: и эта надпись ПЛО, И царственный почтамт, и угол у Эйнема.Вливаясь в сутолоку улицы, Алексей также шел «дальше, дальше в путь», чувствовал себя причастным суетливому, куда-то постоянно спешащему миру центра столицы. Его привлекала усадебная архитектура Мясницкой. Усадьба Барышникова (современный дом 42) — выделялась своим архитектурным решением. Ее автор — прославленный зодчий Михаил Казаков — возвел величественный дом за 10 лет до начала войны с Наполеоном. К 1812 году особняк принадлежал участнику войны полковнику Степану Никитичу Бегичеву, при котором усадьба стала одним из культурных центров Москвы. Особенно восхищало Алексея то, что в этом доме бывали А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, писавший здесь «Горе от ума», А. Н. Верстовский — автор знаменитого тогда романса «Черная шаль». Сюда приходили В. Ф. Одоевский и В. К. Кюхельбекер. Одна из родственниц Бегичева писала: «Дядя С. Н. Бегичев при богатстве своей жены мог бы жить роскошно в Москве, но так как он, подобно другу своему Грибоедову, не любил светских удовольствий, то всю роскошь в его домашнем обиходе составляли гастрономические обеды и дорогие вина, которые так славились, что привлекали в дом его многих приятных собеседников»[7]. Алеше казалось, что тени великих людей, отсветы ушедших времен еще сохраняют стены этого здания, и подросток иначе начинал задумываться об ушедших эпохах и своей причастности к жизни Москвы.
Алексей «путешествовал» по Москве довольно часто, только маршруты выбирал разные. Как-то в погожий день конца мая, во время одной из таких прогулок, юный художник, возвращаясь от Ильинских ворот, оказался среди сутолоки Китай-города, среди домов, церквей и монастырей, гостиных дворов и лавок. Он долго восторженно смотрел на могучие древние стены. Вырвавшись из шума Китай-города, его многоречивой разноликой толпы, Алеша остановился у Москвы-реки, близ Проломных ворот. Он наблюдал за движущимися льдинами, присел у берега, задумался, но вдруг его кто-то окликнул. Обернувшись, подросток увидел стоящего рядом бедно одетого худощавого парня, которого заинтересовала папка с рисунками в руках Алексея. Они разговорились. Новым знакомым оказался Александр Воробьев — воспитанник Московского училища живописи и ваяния, а впоследствии друг и его первый наставник в художественном образовании. Несколько раз Александр приходил к Саврасовым в Замоскворечье, рассказывал Алеше об училище и преподавателях, советовал поступать сюда, просматривал и критиковал его рисунки.
Однажды новый друг принес Саврасову номер журнала «Москвитянин» за 1843 год, в котором было опубликовано выступление И. Г. Сенявина, члена Московского художественного общества, члена Совета по руководству Училищем живописи и ваяния. Сенявин писал о современном искусстве Москвы и художественном образовании. Алеша находился под сильнейшим впечатлением от прочитанного. «Предчувствия» господина Сенявина оказались верны, что уже через несколько лет ясно подтвердят пейзажи молодого художника Алексея Саврасова, тонко, с любовью, по-новому раскрывающие неповторимое очарование видов Москвы. Так появилась мечта у юноши — стать художником.
О юности Саврасова известно в основном из документально не подтвержденных воспоминаний Алексея Зыкова, основанных на словах его отца: «Начало его [Саврасова] художественного поприща было таково: к отцу моему, который в то время проживал на Сретенке в своем доме, зашел из Училища Живописи-Ваяния, после классов, покойный Сергей Иванович Грибков и передал отцу, что близ церкви Параскевы Пятницы, на Пятницкой, сзади ея, в доме, фамилию владельца которого я теперь уже забыл, проживает некто Г-н Саврасов, торговавший тогда… бусами, бисером и т. п. в бывшей „Ножевой линии“, и что у этого Саврасова есть сын, молодой человек, который проявляет необыкновенные художественные способности и что отец за это его преследует… И просил моего отца, тогда человека очень состоятельного, как-нибудь помочь молодому Саврасову выбиться на свойственный ему путь»[8]. Вероятно, эти слова действительно имели под собой некоторую реальную основу, но возможно, что Зыков несколько «сгущал краски», что свойственно многим рассказчикам во все времена.
Далее Зыков писал: «Отец мой горячо принял это к сердцу и, имея близкий доступ к тогдашнему преподавателю пейзажной живописи Карлу Ивановичу Рабусу, тотчас же вместе с С. И. Грибковым отправился к К. И. Рабусу в его дом и изложил вместе с г-ном Грибковым все обстоятельства, касающиеся молодого Саврасова. Карл Иванович, всегда отзывчивый на все, относящееся к искусству, дал моему отцу — А. М. Зыкову письмо к тогдашнему Московскому Обер-полицмейстеру и члену Совета Московского художественного общества — Ивану Дмитриевичу Лужину — с изложением всего ему сообщенного.
Иван Дмитриевич дал моему отцу нужные указания и командировал с ним на квартиру Саврасова полицейского чиновника. По прибытии их оказалось, что отец г-на Саврасова удалил его из квартиры за страсть к живописи на чердак, хотя время было довольно холодное — в октябре или ноябре — не помню. Цель была достигнута. Алексей Кондратьевич был из отцовской квартиры перемещен в дом моего отца и на другой же день начал посещение художественных классов»[9].
Далее в рассказе Зыкова следуют упоминания о уже известных из других источников фактах биографии Саврасова, относящихся ко времени обучения в Московском училище живописи.
Приведенные сведения отчасти имеют легендарный характер, но доподлинно известно, что Алексей Саврасов успешно продолжал свои художественные занятия, и его мастерски выполненные учебные, уже почти профессиональные работы привлекали все большее внимание знатоков и любителей искусств. Однажды он отправился на Никольскую улицу, где, как и на Ильинке, продавались лубки. Торопясь, замерзшими руками неловко вытащил рисунки из папки, краснея и путаясь в словах, предложил их для продажи. К удивлению подростка, торговец принял его рисунки, дал за них шесть рублей и к тому же попросил приносить еще. Таков был первый успех и первое признание художественных способностей Алексея Саврасова, а случай этот укрепил его веру в собственные силы и талант, в свою правоту, наперекор мнению близких.
С 1844 года жизнь Алексея Саврасова была неразрывно связана с искусством, прежде всего с Московским училищем живописи и ваяния. Он поступил учиться в крупнейшее художественное образовательное учреждение древней столицы, значение которого сравнимо с Санкт-Петербургской Императорской академией художеств, сразу вступил в пока малоизвестный ему мир искусства, учебных занятий, выставок, художественных событий, значимых не только в Москве, но и в масштабах всей России.
Направленность отечественного изобразительного искусства данной эпохи во многом определила эстетические приоритеты педагогов и воспитанников училища. 1830–1850-е годы отмечены в русском искусстве тенденциями поиска синтеза художественных манер, возвышения исторической живописи, что нашло выражение в творчестве Карла Брюллова, Федора Бруни, Александра Иванова. Лаконично и образно такие тенденции характеризует высказывание Н. В. Гоголя: «У Брюллова является человек для того, чтобы показать все верховное изящество своей природы». При этом сам Карл Павлович так определял задачу портретиста: «Удержать лучше лица и передать его на полотне»[10]. Подобные задачи и художественные методы присущи и пейзажной живописи, в которой то же «лицо», но лицо не человека, а природы, со своими особенностями, настроением, смыслом, субъективно воспринятыми художником.
Основание училища было связано с теми новшествами, которые наполняли культурную жизнь России середины XIX века. В недрах Санкт-Петербургской академии художеств пейзажный класс был реформирован М. Н. Воробьевым, который с 1830 года ввел обязательную работу с натуры, и под его руководством начинали творческий путь такие художники, как М. И. Лебедев, В. И. Штернберг, братья Н. Г. и Г. Г. Чернецовы. Но вместе с тем строгое построение композиций пейзажных картин господствовало над правдой жизни, что подтверждает одно из высказываний М. Н. Воробьева, записанное Н. А. Рамазановым: «Телесною красотою мы можем любоваться в природе, и потому в художественных произведениях будем искать прежде могущества ума и фантазии — создания!»[11]
К правде бытия природы обращались с начала XIX века отечественные писатели и поэты А. С. Пушкин, С. Т. Аксаков, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев; созданные ими образы нашли отражение в пейзажной живописи. Видопись, как тогда называли пейзажную живопись, успешно развивалась в России с первых лет XIX века. В 1820-е годы свое веское слово в пейзажном искусстве сказал С. Ф. Щедрин, добившийся широкой известности и в России, и за рубежом. В его произведениях видопись явно подверглась влиянию и романтического, и реалистического звучания. Несомненно, что новаторские достижения этого художника стали одной из ступеней для молодого Саврасова, поднимавшегося по лестнице мастерства. Также немаловажно, что в первой половине XIX столетия выделились две основные группы отечественных пейзажистов. Первые работали преимущественно в Италии (А. А. Иванов, С. Ф. Щедрин), вторые — в России (братья Г. Г. и Н. Г. Чернецовы, А. Г. Венецианов, Г. В. Сорока, А. В. Тыранов).
Кроме того, в 1830–1850-х годах сильно было направление романтического пейзажа, во главе которого стояли М. Н. Воробьев и еще молодой тогда И. К. Айвазовский. Произведения последнего как образец для себя расценивал начинающий А. К. Саврасов, что, бесспорно, обоснованно, поскольку эстетическим идеалам эпохи они соответствовали в наибольшей мере. Творчество Айвазовского поражало современников не только эффектами передачи морских волн, лунных дорожек и ярких закатов, но и достоверностью, точностью в трактовке состояний, настроений природы.
Под влиянием западноевропейских образцов в отечественном пейзаже все большее внимание уделялось работе с натуры. Основы такого новшества заложили барбизонцы. Группа французских пейзажистов работала с натуры у леса Фонтенбло в деревнях, одна из которых, Барбизон, дала название всему направлению. Именно эти художники — Камиль Коро, Теодор Руссо, Жюль Дюпре, Шарль Добинье, каждый являясь яркой творческой индивидуальностью, писали неприкрашенную сельскую природу, стремясь передать ее очарование через достоверность звучания.
Эпоха середины XIX столетия в культуре России стала периодом быстрого и многогранного развития. Отечественная пейзажная живопись постепенно приближалась к реалистичности трактовок. Именно в этот переломный период и происходило становление творчества Алексея Саврасова, которому было суждено сказать свое слово в отечественном искусстве, сказать его актуально, самобытно, глубоко. И именно благодаря Саврасову реализм в отечественной пейзажной живописи прозвучал в полную силу.
Отталкиваясь от манеры своих предшественников, Саврасов шел далее, собственным путем, что ему блестяще удавалось. Как писал И. И. Левитан, «…до Саврасова в русском пейзаже царствовало псевдоклассическое и романтическое направление; Воробьев, Штернберг, Лебедев, Щедрин — все это были люди большого таланта, но, так сказать, совершенно беспочвенные: они искали мотивов для своих картин вне России, их родной страны, и главным образом относились к пейзажу, как к красивому сочетанию линий и предметов. Саврасов радикально отказался от этого отношения к пейзажу…»[12].
В Московском училище имена прославленных авторов, бесспорно, чтили, во многом опирались на их достижения, но именно в недрах этого учебного заведения, в среде молодых, талантливых, всецело преданных искусству художников формировались несколько иные эстетические идеалы, творческие установки, особенности образного мышления. Как, под воздействием каких факторов осуществлялся этот процесс? Имел ли он эволюционный характер? Обратимся к истории училища, именам и воззрениям тех авторов, кто определял и его лицо, и отчасти художественную жизнь столицы, кто оставил свой след и в отечественном искусстве XIX столетия.
Училище живописи и ваяния было открыто на основе рисовальных классов в 1844 году. Но история его создания восходит к 1830-м годам, одному из ярких десятилетий в русской культуре XIX века, когда и возникла идея создания нового художественного центра в России. Инициаторами организации училища выступили художники, любители рисования, а покровительствовал им известный попечитель русской культуры князь Дмитрий Владимирович Голицын (1771–1844), генерал-губернатор Москвы. Его внимание к этому замыслу привлек Ф. Я. Скарятин, адъютант Д. В. Голицына, посещавший любительские рисовальные вечера. В результате в 1833 году было создано Московское художественное общество (МХО), под опекой которого существовал сначала Художественный класс, а затем Училище живописи и ваяния.
Ю. Ф. Виппер писал: «Училище живописи, ваяния и зодчества возникло из так называемого натурного класса, основание которому положено частной предприимчивостью. Любитель искусства Егор Иванович Маковский[13] и классный художник Александр Сергеевич Ястребилов, задумав устроить в Москве натурный класс, сообщили об этом Николаю Аполлоновичу Майкову[14], имевшему в то время литографское заведение на Тверской. Майков обещал дать в своей обширной квартире помещение для натурного класса… но по случаю больших потерь, понесенных им от литографии, устройство натурного класса у Майкова не состоялось…»[15]
Открытие класса, как вспоминает Ю. Ф. Виппер, произошло «зимою в начале 1832 года. Всех желавших работать собралось человек 12. Это были: Маковский, Ястребилов, Скарятин, классный художник Василий Степанович Добровольский и брат его учитель рисования Алексей Степанович, Иван Трофимович Дурнов, скульптор Иван Петрович Витали… В конце 1833 г. натурный класс переведен был с Ильинки в дом Камергера Шипова на Лубянскую площадь». И уже «31 декабря 1843 года, по совершении молебствия, последовало торжественное открытие Московского Художественного Общества, согласно Высочайше утвержденному Уставу, с переименованием бывшего Художественного класса в Училище живописи и ваяния»[16].
В 1840-е годы ознаменовался новый значимый этап, в частности, в истории московской художественной школы, в развитии которой новшества времени проявились особенно отчетливо. В 1842 году исключительно активной стала деятельность Совета Московского художественного общества. Его члены А. С. Хомяков и М. Д. Быковский разрабатывали проект Устава МХО и Училища живописи и ваяния, который был утвержден в 1843 году, а уже в следующем году Алексей Саврасов начал здесь заниматься в качестве ученика.
Первые впечатления юного Саврасова, связанные с училищем, остались в его памяти на всю жизнь. Архитектура здания произвела на подростка неизгладимое впечатление своим строгим величием, гармонией соотношения пропорций и деталей. Эркер с колоннами ионического ордера, завершенный куполом, строгие фасады, протянувшиеся по Мясницкой улице и Боброву переулку, сдержанные сочетания белых колонн и оконных наличников с неярким охристым цветом стен. Так, подобно храму классического искусства, перед начинающим художником предстало это здание — образец эпохи классицизма, ранее владение И. И. Юшкова.
Бывший особняк Ивана Ивановича Юшкова, президента Камер-коллегии, генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга и московского гражданского губернатора, был построен известным зодчим Василием Ивановичем Баженовым в 1780–1790-х годах, хотя авторство Баженова ставится под сомнение некоторыми исследователями. «Юшков умер, так и не воспользовавшись этой своей резиденцией, и до начала восьмидесятых годов девятнадцатого века домом владели его наследники»[17]. Переулок, проходивший у самого дома и соединявший улицу Мясницкую со Сретенкой, был назван его именем — Юшков переулок (ныне Бобров переулок. — Е. С.). Ничем не был он примечателен, разве что тем, что Владимир Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи» именовал его «несуразным»[18]. О строительстве этого особняка известно очень немного, поскольку в архивах почти не сохранилось соответствующих документов. Одна из возможных тому причин состоит в том, что и Иван Юшков, и Василий Баженов принадлежали к тайному масонскому братству. Кроме того, рядом с домом Юшкова по Мясницкой возвышался особняк известного масона Измайлова[19], который затем приобрели богачи Кусовниковы.
После смерти Ивана Юшкова дом принадлежал его сыну. Финансовые дела семьи пришли в упадок, что вынудило владельца в 1838 году часть помещений сдать в аренду Московскому художественному обществу под рисовальные классы. Итак, именно эта дата ознаменовала новый этап не только истории дома И. И. Юшкова, но и художественной жизни столицы. Первым председателем Московского художественного общества являлся князь Дмитрий Владимирович Голицын. Под его началом объединились государственные деятели, коллекционеры и филантропы, что помогло обеспечить высокий уровень преподавания.
С 1843 года в доме Юшкова располагались художественные мастерские, а уже в следующем году Училище живописи и ваяния — один из центров отечественной культуры второй половины XIX — начала XX века, с 1865 года, в связи с присоединением Дворцового архитектурного училища, получившее название Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВиЗ). В известном особняке впоследствии, вплоть до событий 1917 года, проходили яркие выставки, концерты, благотворительные вечера. Здесь представляли свои произведения передвижники, лекции по отечественной истории читал выдающийся ученый В. О. Ключевский, с концертами выступал великий Ф. И. Шаляпин.
Особняк Юшкова, один из немногих уцелевших на Мясницкой во времена пожара Москвы 1812 года, стал пристанищем молодых художников. В училище они жили одной дружной семьей, словно птенцы, уже почти оперившиеся, получившие навыки мастерства, но не успевшие вылететь из гнезда. Как известно, «школа — это крылья художника»[20]. Учебная программа училища во многом соответствовала академической, но немаловажны и существенные различия между ними. Так, в МУЖВиЗ все же большее, хотя и недостаточное, внимание в те годы уделялось работе с натуры, правде звучания, богатству цветовых решений, что составляло специфику московской школы живописи. Становление реализма в искусстве России второй половины XIX века во многом было связано с деятельностью училища. Многие из его преподавателей получили известность как члены Товарищества передвижных художественных выставок. Здесь могли обучаться представители разных сословий, сохранялась истинно творческая атмосфера, которая не могла не привлекать А. К. Саврасова.
Очевидно, что, по сравнению с Императорской академией художеств в Санкт-Петербурге, Московское училище живописи отличалось более демократичным характером, что сказывалось в специфике преподавания и в контингенте учеников, среди которых всегда было немало разночинцев, бедноты. Возможно, отчасти поэтому Училище живописи и ваяния оставило такой яркий след в истории отечественного искусства, несмотря на то, что права высшего учебного заведения, к тому же весьма ограниченные, оно получило только в 1905 году.
Демократизм училищных порядков сказывался, например, в том, что заниматься здесь могли крепостные, тогда как в академии это не дозволялось. Живописец В. А. Тропинин, крепостной крестьянин по происхождению, являлся «вольноприходящим», но не студентом Петербургской академии. Напротив, известно, что в московском Художественном классе, давшем основу училищу, занимался на общих началах И. П. Орлов, государственный крестьянин Тверской палаты государственных имуществ. В декабре 1839 года комитет московского Художественного класса подал в академию ходатайство о награждении Орлова. В документе, в частности, говорилось: «К сожалению, один из лучших учеников класса Иван Петров Орлов происходит из податного сословия крестьян… и, следовательно, по известным правилам Академии художеств, при всех успехах и при всем усердии, не может пользоваться никакою наградою»[21]. В 1830-х годах здесь же обучался талантливый художник из крепостных Кирилл Горбунов. О его освобождении помещицу Владыкину просили К. П. Брюллов и В. А. Жуковский, после чего в 1841 году Горбунов получил вольную.
К созданию в Первопрестольной такой же академии, как в Петербурге, стремился и член совета Московского художественного общества И. Г. Сенявин, в тот период гражданский губернатор Москвы. Однако император Николай I не дал на то своего согласия. «Когда И. Г. Сенявин в первом своем проекте представил на высочайшее утверждение основание не училища, но Академии художеств в Москве, государь отвечал, что двух академий в государстве быть не может. На замечание же Сенявина, что в таком обширном государстве, как Россия, со временем мало будет и двух академий, государь сказал: со временем — может быть, а теперь устрой училище!» Так рассказывал Н. Рамазанов со слов И. Сенявина[22]. В ответ на высочайшее повеление Сенявин приступил к организации Училища живописи и ваяния, одновременно был разработан устав Московского художественного общества.
Училище живописи и ваяния, где Алексей Саврасов провел в общей сложности более тридцати пяти лет, уже в период учебы являлось главным содержанием его жизни. Сколь важно было для него сознавать свою причастность к московской художественной школе, к новым веяниям в русском искусстве, во многом связанным с Московским училищем, где учились или преподавали многие прославленные художники, полотна которых и в наши дни занимают центральное место в экспозициях Государственной Третьяковской галереи: В. Г. Перов, И. И. Шишкин, В. Е. Маковский, В. В. Пукирев, Н. В. Неврев, Ап. М. Васнецов, братья С. А. и К. А. Коровины, И. И. Левитан, Н. А. Касаткин, А. П. Рябушкин, М. В. Нестеров, С. И. Светославский и, конечно, А. К. Саврасов.
Обычно, спеша утром в особняк на Мясницкой, Алексей Саврасов переходил через Устьинский мост и поднимался вверх по бульварам, входил по лестнице в парадный вестибюль-ротонду третьего этажа с двумя барельефами античных сюжетов на стенах (сохранившимися до настоящего времени), следовал в классы, где вскоре собирались и другие ученики, начинались занятия.
Согласно программе, он рисовал сначала гипсовые головы, фигуры, копировал оригиналы: картины и эстампы известных художников, писал самостоятельные эскизы и этюды. Особенно увлеченно юноша писал и рисовал с натуры в Сокольниках, Петровском парке, на Воробьевых горах, в Лужниках, куда ученики отправлялись пешком или на телеге. Пейзажи Алексея признавались одними из лучших. Занимаясь исключительно усердно, он проводил в училище все дни с раннего утра и до вечера, старательно выполнял обязательную учебную программу, которая была утверждена в 1844 году. Последовательность обучения, при всем обилии предметов, была строго, логично построена. Саврасов понимал необходимость поэтапного усложнения заданий по рисунку, живописи, композиции, тщательного изучения пластической анатомии (и теоретический, и практический курсы), перспективы, лекционных курсов по истории искусств, философии и эстетике.
Однако не прошло и года после поступления в училище Алексея, как он был вынужден временно отказаться от обучения из-за болезни матери. Прасковья Никифоровна страдала от чахотки, перестала вставать. Домашнее хозяйство вела теперь бабушка Екатерина Власьевна, а Алексей должен был оставаться рядом с матерью, которая скончалась в октябре 1846 года, а еще год спустя у Алеши, его брата и трех сестер появилась мачеха: Кондратий Артемьевич женился на Татьяне Ивановне Виноградовой, мещанке Сыромятной слободы, еще молодой женщине, спокойной, приветливой, рассудительной. Во многом благодаря ей жизнь семьи Саврасовых наладилась, да и торговля Кондратия Артемьевича шерстяным товаром в рядах за Красной площадью, между Никольскими и Спасскими воротами, шла успешно. Поэтому после довольно длительного перерыва Алексей в 1848 году смог вернуться в училище.
С радостным чувством долгожданного возвращения Саврасов возобновил художественные занятия. Он почти ежедневно бывал на Мясницкой. Дорога сюда стала для него привычным началом напряженных учебных дней. Алеша нередко останавливался перед древней, изящной, гармоничной по пропорциям церковью Флора и Лавра у Мясницких ворот. Этот храм, утраченный ныне, был построен в 1651–1657 годах, на средства прихожан Мясницкой слободы и славился по Москве. Сюда приходили святить коней со всей Первопрестольной, поскольку издавна в народе Флор и Лавр считались покровителями домашнего скота. Каждый год 18 августа, в День святых Флора и Лавра, здесь становилось особенно многолюдно — конюхи, извозчики, кучера из самых разных уголков Москвы спешили, чтобы окропить своих четвероногих помощников святой водой именно в этом храме. Так начинающий художник все более и более проникался духом старой Москвы, словно впитывал в свою восприимчивую душу ее неповторимые образы, постигал их суть.
За стенами училища, за пределами оживленной жизни златоглавой столицы, простирались раздолья полей и лугов, темные таинственные леса, бескрайние холмы над речными берегами, которые так манили Алексея. В них раскрывался для молодого живописца вневременной, извечный образ Руси. Понять его и передать в своих произведениях — именно такую цель он ставил перед собой со студенческих лет. Алеша с детства любил и как-то особенно тонко чувствовал подмосковные пейзажи, содержание их настроений, целыми днями мог бродить по лугам и перелескам, окраинам близлежащих селений и прислушиваться к жизни леса. Он начал открывать для себя неповторимое очарование в самых скромных, казалось бы, привычных мотивах — стволах вековых деревьев и тропах, петляющих по сосновому бору, среди огромных сугробов. Его восхищали весенние первоцветы, словно пронизанные радостью пробуждения жизни, бесчисленность оттенков летнего разнотравья, подобного нерукотворной мозаике, таинственно-темные воды прудов, отороченных желтой каймой кубышек. Он восхищенно зарисовывал орнаменты кустарника с дрожащим багрянцем последней листвы и причудливые изгибы ветвей, черные силуэты которых так контрастно выделялись на фоне застывших предзимних далей.
Его юной поэтичной душе несказанно дороги были такие образы, их мельчайшие детали, суть, настроения, которые он уже умел чувствовать, слушал с восхищением, словно прекрасную мелодию, музыку пейзажа. Но особенно близко ему оказалось в природе состояние весны, пробуждения, начала жизни и ее возрождения. И, конечно, мирочувствованию юного живописца так понятны были стихотворные строки его современника Ф. И. Тютчева. Подобные образы Алексей стремился передать языком живописи и в годы учебы, делая свои первые художественные шаги, и всю жизнь.
Сияет солнце, воды блещут, На всем улыбка, жизнь во всем, Деревья радостно трепещут, Купаясь в небе голубом. Поют деревья, блещут воды, Любовью воздух растворен, И мир, цветущий мир природы, Избытком жизни упоен.И. И. Шишкин, современник и соученик Саврасова по Московскому училищу, рассказывал о их юношеских годах, и его впечатления были близки Алексею: «А я, Саврасов и мои товарищи, еще когда мы учились в Москве, весной, как становилось тепло, всегда уходили куда-нибудь за город, часто в Сокольники, и там писали этюды с натуры. Любили писать коров.
Там-то, на природе, мы и учились по-настоящему. И как это было там интересно. И приятно же и полезно было работать на воздухе. Мы оживали там. Особенно мы испытывали это после длинных дней зимних занятий в классах.
На природе мы учились, а также отдыхали от гипсов. Уже тогда у нас определялись наши вкусы, и мы сильнее и сильнее отдавались тому, что влекло каждого из нас»[23].
В училище, начиная с первых дней, Алексей чувствовал себя вполне комфортно, чему способствовала свобода общения между преподавателями и их воспитанниками. Здесь готовили художников, профессиональный уровень которых был близок к уровню выпускников Императорской академии художеств Петербурга, аттестат Московского училища живописи приравнивали к академическому.
В. Г. Перов, так же как А. К. Саврасов, сначала ученик, а затем педагог училища, писал: «Интересно смотреть, как резвые, зоркие маленькие утята на громкий крик утки стремглав собираются к ней изо всех углов и закоулков заросшего травой лесного болота; как они словно бегут по зеркальной поверхности стоячей воды, неистово махая крохотными крылышками и оставляя по себе быстро исчезающий след. Точно такое же зрелище представляли некогда и мы, ученики, спеша, как утята, собираться в начале сентября под наш общий воспитательный кров в Училище живописи и ваяния. Все мы сходились, съезжались почти в один день не только из разных углов и закоулков Москвы, но, можно сказать без преувеличения, со всех концов великой и разноплеменной России. И откуда только у нас не было учеников!.. Были они из далекой и холодной Сибири, из теплого Крыма и Астрахани, из Польши, Дона, даже с Соловецких островов и Афона, а в заключение были и из Константинополя. Боже, какая, бывало, разнообразная, разнохарактерная толпа собиралась в стенах училища!.. Ни к кому больше не шел так стих Пушкина, как к нам, тогдашним ученикам:
Какая смесь одежд и лиц, Племен, наречий, состояний…»[24]Такой отзыв, бесспорно, соответствует исторической правде. Например, по данным 1856 года, среди учеников «14 детей военных и гражданских чиновников; 52 из штабс- и обер-офицерских семей; 8 — из духовного звания; 43 — из купеческих; 6 — иностранцев; 195 — из мещан; 23 — из цеховых; 8 — из воспитанников Московского воспитательного дома (то есть сирот); 15 — из экономических и государственных крестьян; 4 — из дворовых; 34 — из вольноотпущенных; 22 — из крепостных»[25].
Со всех уголков России собирались ученики, среди них оказывалось немало исключительно одаренных, и не затихала напряженная учебная жизнь в величественном особняке с белыми колоннами на Мясницкой, работали в головном, фигурном, натурном классах, слушали лекции по общеобразовательным предметам: Закону Божьему, истории, географии, анатомии. На формирование учебной программы не могли не влиять новые веяния, которые определяли специфику отечественного искусства, в том числе в отношении эволюции пейзажа — от некоторой условности решения ландшафтов в живописи Венецианова и Сороки, через глубину и одухотворенность реализма образов А. Иванова, через строгость построения ландшафтных видов Лебедева к пейзажу настроения, который будут создавать Саврасов, его друзья и ученики.
Восхищение Алексея московскими и подмосковными видами, стремление точно отразить их в своих работах, не мешало старательному выполнению им учебной программы. Система преподавания оставалась традиционной: натурщики позировали только в последнем, четвертом классе, первые же три класса полностью посвящались рисованию частей гипсовых фигур и затем целых гипсовых фигур. Сначала Алексей Саврасов не был чужд подражанию, что сказалось в первых исполненных им пейзажах и дало основание для высказываний критиков: «В его ранних произведениях можно заметить и тяготение к изображению природы в необычных состояниях, в разгуле ее стихий, и тенденцию к драматизации пейзажного образа контрастными сопоставлениями мрака и света»[26]. Но все же и «на первых порах Саврасов словно пытался показать, что поэзию можно найти не только в колыхании морских волн, но и в колыхании широких полноводий русских рек, и что старинные крыши русских городов не менее поэтичны, чем замки европейского средневековья»[27]. Он особенно увлекался передачей жизни природы, ее состояний, эмоциональностью звучания. Именно такой взгляд на пейзажное искусство позволил ему постепенно найти свой художественный язык, стать истинным мастером своего дела, во многом новатором.
Начинающий ученик Алеша Саврасов с приходом сентября спешил в училище. Как оживленно здесь было в это время! Ученики после четырехмесячных летних каникул съезжались в училище и первым делом радостно приветствовали друг друга, делились новостями, собравшись в швейцарской. Они были молоды, веселы, вполне счастливы, после продолжительного отдыха, набравшись сил, предвкушали начало долгожданных занятий. Радовался и был разговорчив в такие дни и обычно молчаливый Саврасов. По вкусу ему пришлась и обстановка мастерских училища. «В руках учеников — кисти, палитры, с густо размазанными красками и длинные палки с шарообразными наконечниками — муштабли. Одеты бедно, по большей части — в грязные от красок блузы, и производят впечатление людей совсем особой породы…
В классах пронзительно пахнет скипидаром, а в курильной комнате у буфета стоит невообразимый шум: споры, смех, крики… Художники уничтожают аппетитные пеклеванные хлебы, начиненные горячей колбасой. Другой еды не полагается»[28]. В столовой за стойкой возвышалась колоритная фигура буфетчика, который из огромной чаши-котла доставал вкуснейшие котлеты, горячую колбасу, разрезал пеклеванные хлебцы и внутрь их вкладывал эту колбасу, что называлось «до пятачка», потому что богатые ели на гривенник, бедные — на пятачок. На радость ученикам, в буфете всегда можно было отведать горячий чай с калачами, а потом — пора приниматься и за учебу.
«В головном классе, под ярко горящими лампами, стоит на возвышении гипсовая копия головы Афины Паллады. От нее полукругом поднимаются сиденья. Расположившись по ступеням амфитеатра и держа перед собой папки на коленях, ученики рисуют эту голову»[29]. Алексей Саврасов всецело посвящал себя занятиям, которые шли своим чередом. «Школа была прекрасная… С утра живопись с натуры — лицо старика или старухи, потом научные предметы до 3-х с половиной, а с 5-ти — вечерние классы с гипсовых голов»[30].
Алексей мог себе позволить сосредоточиться на учебе — в материальном плане, несмотря на очень скромный достаток, он был устроен весьма неплохо по сравнению с другими. Многим было негде жить, спасением в студенческой среде считалось общежитие братьев Ляпиных. Старший — Михаил Иллиодорович, полный и нерасторопный, младший — Николай Иллиодорович — энергичный, деятельный. Оба брата, не обремененные семьями и имевшие немалое состояние, тратили его на благотворительность, в том числе на благоустройство общежития для студентов, а сами занимали просторный особняк с зимним садом.
Многие студенты Училища живописи жили именно в «Ляпинке», только добиться получения места здесь довольно сложно — обычно все было занято студентами. «Много из „Ляпинки“ вышло знаменитых докторов, адвокатов и художников. Жил там некоторое время П. И. Постников, известный хирург; жил до своего назначения профессор Училища живописи художник Корин; жили Петровичев, Пырин. Многих „Ляпинка“ спасла от нужды и гибели». Некоторые, «вечные» ляпинцы, «обжились тут, обленились. Существовали разными способами: писали картинки для Сухаревки, малярничали, когда трезвые… Ляпины это знали, но не гнали: пускай живут, а то пропадут на Хитровке»[31].
Известно, что братья Ляпины были особенно расположены к художникам, почти никогда не отказывали от места студентам Училища живописи, а те почитали такое место за счастье. «В ляпинском общежитии было довольно грязно, в каждой комнате стояло по четыре кровати, зато на первом этаже находилась столовая, где хлеб и чай давали бесплатно, а мясные обеды тоже стоили дешево и включали два блюда — щи да кашу… Бывало нередко, что безквартирные студенты проводили ночи на бульварах…»[32] Саврасова миновала такая участь в молодости. Конечно, он сочувствовал обездоленным начинающим художникам, сам, почти не имея свободных средств, помогал товарищам, чем мог, как и годы спустя, уже став профессором, Саврасов с отеческой заботой относился к своим ученикам.
Среди многочисленных студентов педагоги выделяли Алексея, не только за постоянное прилежание и исключительно серьезное отношение ко всем без исключения предметам, но и за все более явно проявлявшийся талант, за индивидуальное, тонкое видение природы, что отражалось в решении натурных этюдов, композициях. Особенно удавались молодому художнику пейзажи. Их он писал с удовольствием, радуясь интересному заданию, увлекшему его мотиву, работал быстро, вдохновенно, казалось бы, совсем легко, и под его карандашом или кистью самые обычные, ничем не примечательные уголки природы, которых не замечали другие ученики, преображались, наполняясь чудесным цветом, настроением, неизъяснимой трогательностью.
Неизменно был доволен талантливым и работящим студентом Карл Иванович Рабус (1800–1857) — педагог училища, почитаемый студентами, наставник видописцев, один из образованнейших людей своего времени. На графическом портрете, исполненном А. В. Нотбеком, Рабус предстает еще довольно молодым человеком романтического облика, с приятными чертами тонкого лица, в пенсне, с удлиненными вьющимися волосами. Он отличался добрым нравом, исключительно широким кругозором, приобретенным в многочисленных путешествиях, был прекрасным рассказчиком.
Воспитанники училища особенно ценили общение с таким наставником, в его доме, одном из импровизированных художественных центров Москвы, нередко находили для себя приют. У Рабуса бывали художники, литераторы, артисты, музыканты. Здесь впервые выступал известный актер П. М. Садовский. Однажды у него гостил французский художник Орас Верне, вдохновенную, эмоциональную живопись которого высоко ценил хозяин дома. В своих воспоминаниях о пейзажисте писали Т. Пассек, П. П. Соколов. «Знаменитый наш Шебуев был особенно привязан к Рабусу», — замечал Н. А. Рамазанов[33]. В свою очередь Карл Иванович нередко посещал вечера поэта Ф. Н. Глинки. Об этом так рассказывал Н. В. Берг: «…Глинки… завели у себя литературные вечера по понедельникам… Из молодых… попал туда один лишь я и еще переводчик с разных языков Федор Богданович Миллер — через близкого своего приятеля, такого же немца, как и сам, старого забытого художника Карла Ивановича Рабуса, неизменного участника вечеров Глинки. Он, впрочем, имел и свои дни, четверги, и свой кружок, преимущественно артистический»[34].
В училище Рабус успешно вел практические занятия в классе перспективной и пейзажной живописи, а также читал лекции по эстетике и теории живописи, рассказывал ученикам о воззрениях Леонардо да Винчи, Рафаэля, Гёте. Педагог помогал ученикам осваивать особенности линейной и воздушной перспективы, призывал их как можно больше работать с натуры, нередко повторяя: «Наш великий учитель — природа». Несомненно, что именно Карл Рабус определил становление творчества Алексея Саврасова, и в дальнейшем разработанная Алексеем Кондратьевичем собственная педагогическая система во многом была основана на методах его учителя.
Рабус — не только талантливый педагог, но и достаточно известный художник того времени: тонкий рисовальщик и живописец. Карл Иванович был известен среди современников статьями по искусству и как коллекционер живописных произведений. Он происходил из обрусевших немцев, окончил Императорскую академию художеств по классу видовой живописи у М. М. Иванова, после чего много путешествовал по югу России и европейским странам.
Общественная позиция Рабуса была близка взглядам А. И. Герцена и его единомышленников. Именно Александр Герцен стал первым выразителем идей утопического социализма в отечественном общественном движении, тех тенденций, которые получили распространение в Западной Европе в 1830–1840-х годах. Он считал, что существование в России крестьянской общины является истоком социализма, исходя из чего разрабатывал теорию общинного социализма.
Разделяя такие политические взгляды, Рабус все же главным образом направлял свою неукротимую деятельность в русло искусства, неустанно стремился узнавать новое, любил передавать знания другим, постоянно жаждал творчества. С душевным горением, почти безвозмездно преподавал в Училище живописи, куда был приглашен декабристом М. Ф. Орловым, и к тому же помогал материально своим неимущим талантливым ученикам.
Рабус был дружен с великими современниками, одно время тесно общался с Александром Андреевичем Ивановым, посредством своих переводов знакомил его с оригиналами немецкой философии и эстетики. Карл Иванович разделял взгляды немецких романтиков и, кроме того, был прекрасно просвещен в области отечественной литературы. Личность этого человека ясно раскрывают лаконичные проникновенные слова Н. А. Рамазанова, написанные уже после кончины художника: «Не могу представить себе, что уже нет более этого умного, всегда любезного, доброго Рабуса, ребенка пылкостью и добродушием, но сильного умом и душою человека и художника»[35].
За картину «Вид Гурзуфа в Крыму» (1827) он был удостоен звания академика. В 1834 году Рабус переехал в Москву, где создал свои наиболее известные картины, воспевая красоту древней столицы: «Вид Новодевичьего монастыря» (1829), «Вид на Алексеевский монастырь» (1838), «Вид Коломенского» (1848), «Теремной дворец царя Алексея Михайловича» (1840-е), «Спасские ворота в Москве» (1854).
Его тщательно исполненные, детально проработанные произведения, посвященные не только Москве, но и видам Греции, Италии, Крыма, Малороссии, соответствовали традициям классики и в то же время отличались и романтическим звучанием, и жизненностью решений, то есть отвечали требованиям своего времени, ставшего в истории отечественного искусства периодом зарождения реалистического пейзажа. Действительно, с одной стороны, Карл Рабус понимал всю важность работы с натуры, к чему призывал своих учеников, но во многом сочинял пейзажи, пользовался в работе гравюрами как одной из основ в решении образа. Живя в Москве, он неоднократно обращался к ее истории, в 1840-х годах создал серию рисунков для издания «Достопамятности Московского Кремля» (М., 1843) и литографии Симонова монастыря.
Такой характер творчества и его фундаментальное образование позволили пейзажисту успешно заниматься преподавательской работой. В Училище живописи и ваяния он сразу же зарекомендовал себя как талантливый педагог. Им был открыт пейзажный класс, среди учеников которого особой известности достигли А. К. Саврасов и И. И. Шишкин, также у него занимались В. Ф. Аммон, К. К. Герц, И. Г. Давыдов, П. И. Моисеев, А. П. Попов-Московский, В. П. Рыбинский, В. О. Шервуд и др. «Наиболее успешно сложилась творческая судьба у Попова-Московского, Герца, Аммона. Давыдов рано порвал связь с Москвой, уехав в Петербург, а затем в Италию. Работы Моисеева почти неизвестны, о его манере мы можем судить по картине „Ильинские ворота в Москве“ (ГТГ), исполненной с суховатой документальностью. Рыбинский занимался в основном акварелью, а Шервуд позже работал как портретист»[36]. Можно заключить, что Рабус стоял у истоков московской пейзажной школы.
Его ученики, поощряемые наставником, организовали свой кружок, собирались вокруг И. И. Шишкина, племянница которого, А. Г. Комарова, воспоминала, что молодые художники «постоянно спорили друг с другом, отстаивая свои взгляды; читали и рисовали и опять спорили… все более или менее замечательное тотчас же доставалось и прочитывалось»[37].
О признании главы пейзажной мастерской современниками свидетельствует, в частности, то, что переписку с ним вел Александр Андреевич Иванов. Автор знаменитой картины «Явление Христа народу», будучи студентом, особенно ценил советы Карла Ивановича. Московский пейзажист был дружен и с литераторами, и со знаменитым портретистом В. А. Тропининым. По четвергам в доме Рабуса на Садовой собирались друзья и знакомые, в том числе ученики, нередко приходил и Алексей Саврасов. Такие посещения учителя словно продолжали его образование, давая дополнительные знания и художественный опыт.
В «Московских ведомостях» за 1857 год эти вечера характеризовали так: «Под скромным кровом радушного хозяина… прочтется бывало что-нибудь любопытное, завяжется спор, или примутся чертить карикатуры, на которые сам хозяин… был большой мастер; иногда вскроют рояль, во время сбора скромной закуски, приправленной аттической солью; и гости, простясь с любимым и уважаемым художником, гурьбой пробираются по домам, нарушая тишину Садовой улицы продолжением разговоров и рассказов; всякий возвращался домой с освеженными мыслями…»[38] В условиях изменившейся политической ситуации после европейских событий 1848 года такие частные кружки, подобия творческих объединений, приобретших немаловажное значение в отечественной художественной жизни, позволяли избежать гнета усилившейся цензуры.
Алексей очень внимательно относился к наставлениям всех без исключения преподавателей, хотя далеко не всегда был согласен с ними. Ведущим педагогом училища считался тогда Василий Степанович Добровольский, который преподавал в нем почти 20 лет, с 1832 по 1851 год. Окончив Петербургскую академию у Г. И. Угрюмова, он уехал в Москву, где служил в Оружейной палате. Во время Отечественной войны 1812 года сопровождал сокровища этого богатейшего собрания в Нижний Новгород. В 1830 году Добровольский начал преподавать, затем стал одним из особенно уважаемых педагогов, ратовал за как можно большую независимость училища от Академии художеств в отношении системы обучения и оценки воспитанников.
Среди педагогов Алексею Саврасову запомнились также Михаил Иванович Скотти, известный акварелист, автор картин на религиозные и жанровые сюжеты, преподававший историческую живопись. Он пришел в Московское училище живописи и ваяния в ноябре 1848 года. Вскоре после начала работы Скотти подал в Совет Московского художественного общества докладную записку, в которой перечислял выявленные им недостатки училища, как, например, то, что юные художники «не имеют никакого понятия о черчении и составе картин, отчего композиции всех учеников слабы и неуместно бойки»[39], а также порицал отсутствие картин и эстампов высокого уровня исполнения для копирования.
Воспитанники уважали Михаила Ивановича, прислушивались к его советам, многие стремились попасть именно в его мастерскую. Острую образную характеристику внешности Скотти, будто портрет, исполненный словом, и довольно строгую оценку его искусству оставил в воспоминаниях В. Г. Перов. «Преподаватель исторической живописи М. И. Скотти был совершенною противоположностью А. Н. Мокрицкому. Итальянец по крови, полный брюнет, высокого роста, гордый (по крайней мере, с виду), чрезвычайно красивый и солидный, всегда в черном бархатном пиджаке, безукоризненном белье, в мягких, точно без подошв, сапогах, он проходил по классу, как Юпитер-громовержец или по меньшей мере — римский император…»[40] В наши дни известен «Портрет неизвестного сановника» кисти Скотти, на котором облик изображенного господина вполне соответствует приведенному словесному описанию — внешности самого Михаила Скотти[41].
«Говорят, что он был весьма веселый и остроумный человек в обществе, но я должен прибавить — не учеников… Скотти действительно был хороший мастер, настоящий профессор, в общепринятом значении этого слова, но, к сожалению, его так же, как и Мокрицкого, нельзя назвать художником. Он прекрасно мог передавать внешние образы, внешние очертания, но эти образы были лишены жизненности; он, как говорится, не мог вложить в них душу, страсть, и потому-то „худому делу“ (отсюда — слово художник, по объяснению В. И. Даля), т. е. волшебству и чародейству в искусстве, он был совершенно не причастен…»[42]
Произведения А. Н. Мокрицкого, также небезызвестного педагога училища, В. Г. Перов характеризовал так: «…В продолжение всей своей художественной деятельности произвел на свет не более пяти или шести портретов. Многие из учеников, вероятно, помнят некоторые из этих портретов, но особенно должны быть памятны два из них. Первый изображал А. Г. Собацинского — директора училища по хозяйственной части. А. Г. Собацинский был изображен на портрете в белом галстуке, в шубе с откинутым громадным собольим воротником, с открытой головой и совсем посиневшим лицом. На втором была представлена донельзя худощавая молодая девица в белом платье, с цветами на голове, играющая на фортепиано. Художник посадил ее почти спиной к зрителю и неестественно заставил отвернуть голову от инструмента к смотрящей публике»[43]. Живые черты преподавателей училища, сохраненные в мемуарах и переписке, помогают понять отношение к ним юного Алексея Саврасова. Ему была очень дорога училищная художественная среда, образ строго-торжественного особняка на Мясницкой, общение с учителями и сверстниками.
Некоторые моменты жизни училища врезались в память учащихся, как, например, прощание в 1857 году с Михаилом Ивановичем Скотти, навсегда уезжавшим в Италию, чтобы там работать над монументальной картиной «Се человек, или Христос перед народом». Василий Перов рассказывал об этом: «В то время не было еще Николаевской железной дороги, а против Училища помещалась станция дилижансов с большим двором и аркой, из-под которой выезжали тяжелые кареты, запряженные чуть ли не в шесть или восемь лошадей, с великаном-кондуктором и бородатым ямщиком на козлах.
Мы все собрались на этом дворе. Вскоре из здания конторы вышел закутанный и обвязанный платками Михаил Иванович. Он, видимо, был тронут картиной прощания и на сей раз казался далеко не тем неприступным и надменным Скотти, которого мы привыкли видеть в классах. Он был не начальник, не преподаватель, а просто человек, и даже расчувствовавшийся человек…
Когда вышел на крыльцо подъезда чиновник и крикнул зычным голосом: „Господа, занимайте места! Дилижанс сейчас отправляется!“ — Михаил Иванович еще раз перецеловал всех сослуживцев и уселся в карету. Кондуктор поместился на козлах и затрубил. Дилижанс тронулся. Михаил Иванович еще раз сделал из окна прощальный привет и скрылся. Скрылся совсем, как для учеников, для Училища, так и вообще для искусства»[44].
Среди педагогов Московского училища, пользовавшихся среди учеников особым авторитетом, нельзя не назвать Василия Андреевича Тропинина. Он — друг К. И. Рабуса — постоянно посещал Художественный класс, до последних дней жизни, которая оборвалась в 1857 году, регулярно присутствовал на занятиях в Училище живописи и ваяния, был строг к ученикам, давал им дельные, конкретные советы, требуя тонкой работы с натуры. К ведущим педагогам тех лет следует отнести и Ф. С. Завьялова, сильного рисовальщика, ранее удостоенного большой золотой медали и звания художника 1-й степени Императорской академией художеств и посланного за казенный счет в Италию. Однако в училище Завьялова недолюбливали из-за склонности к рутине, к стремлению вводить свои порядки.
В 1840–1850-х годах в училище одну из мастерских возглавлял С. К. Зарянко. Как вспоминал Василий Перов, для того чтобы представить учеников новому преподавателю, всех их, человек двести, привели в зал училища. Через некоторое время дверь распахнулась, вошел сияющий, с гордо поднятой головой педагог Аполлон Николаевич Мокрицкий, за которым следовал еще не известный воспитанникам сурово-непроницаемый Сергей Константинович Зарянко, являвшийся в классы неизменно в профессорском мундире и даже со шляпой в руках.
«„Вот, Сергей Константинович, имею честь представить вам наших учеников. Прошу их любить и жаловать. Они прекрасные молодые люди и будут вполне ценить ваше к ним внимание и ласку; они люди вполне благодарные“.
Выслушав Мокрицкого, новый педагог долго молча стоял перед нами, все смотря вниз и все сильнее раздувая свои ноздри. Наружность Зарянко была далеко не привлекательная. Он был невысокого роста, рябой, со светлыми, словно совершенно белыми глазами, худой на лицо, худой в теле и чахоточный. Одна ноздря у него попорчена была оспой, поэтому и казалась точно надорванной; толстые губы имели бледно-фиолетовый цвет, прямые, белокурые волосы гладко были причесаны…
Зарянко медленно поднял голову, обвел нас мутным взором и, затем, закашлявшись, прикрыл рот ладонью. Когда прошел припадок кашля, он отчетливо, сильно, звучно, каким-то резким голосом, что нередко бывает у больных чахоткой, проговорил: „Господа, мне очень приятно с вами познакомиться…“»[45].
О характере этого человека ученики, в числе которых был и Алексей Саврасов, могли составить представление уже по первым словам, с которыми он к ним обратился. После продолжительного молчания Сергей Константинович Зарянко проговорил: «Итак, господа, я буду заниматься с вами, но заниматься только с теми из вас, кто своим прилежанием, а главное по-слу-ша-нием (он как бы подчеркнул это слово) будет того заслуживать… Я люблю в ученике труд, терпение, полное послушание и скажу откровенно, что ненавижу праздность, легкомыслие, туманные мечты в искусстве вообще, а в живописи в особенности… Я говорю, что вдохновение есть мечта, положительный вздор, нелепость… Повторяю вам, если кто ссылается на неудачи, это значит, что он не привел всех своих знаний к одному знаменателю, а еще вернее, просто-напросто не умеет работать…»[46] После окончания столь блистательной речи, произведшей на учеников неоднозначное впечатление, Мокрицкий вышел из зала уже с низко опущенной головой, всем обликом являя разительный контраст своему лучезарному настроению всего полчаса назад.
Согласно собственным воззрениям на искусство и методам преподавания, в ходе занятий Зарянко убеждал начинающих художников как можно чаще сравнивать написанные на их холстах портреты с натурой, отходя подальше от мольбертов, призывал смотреть на расстоянии, чтобы оценить работу в целом. Юные живописцы прислушивались к его советам, о чем свидетельствовало не только качество выполнения заданий, но и «тропинки», ими протоптанные на дубовом паркете мастерской. Конкретные практические советы Зарянко дополнял общими философско-теоретическими рассуждениями, которые высказывались тоном истины в последней инстанции, не терпящим возражений:
«Господа! Живопись, т. е. изображение видимого, достигаемое художниками через краски, или посредством наложения красок (я говорю это в буквальном значении), есть самая труднейшая, самая разнообразнейшая и самая интереснейшая сторона искусства. Самая трудная потому, что художник в момент писания копии с видимого образа, т. е. с модели, или натурщика, как бы делит, или разбивает мысль свою и внимание на множество разновидных и разнохарактерных сторон живописи, соединяя их в то же время в одно целое, гармоничное… Ни в одном из искусств не соединяется в одно время, в одни моменты столько разносторонних и разнообразных требований, как в живописи. Ввиду этого, живопись, по моему мнению, есть самое высшее искусство после слова; да и слово, если взять его с технической стороны, оно, бесспорно, далеко ниже живописи»[47].
При всей спорности подобных заключений, они давали ученикам пищу для размышлений, приучали к дисциплине и серьезному отношению к выбранной профессии. Не без иронии Василий Перов в своих воспоминаниях рассказывал, как ученики Зарянко с математической точностью измеряли пропорции лица и фигуры натурщика циркулем и переносили эти замеры на холст, как неимоверно долго трудились над заданием, четко следовали малейшим указаниям наставника, порой до последних сеансов не зная, что за сюжет они изображают.
Например, красками работали следующим образом — «бралось ничтожное количество белой, желтой и красной краски; все это смешивалось, т. е. составлялся, так сказать, тельный тон, который клался на лоб, нос, щеки и немедленно разбивался флейцом. За первым тоном составлялся следующий тон — сероватый, зеленоватый, лиловатый, или какой-либо другой, смотря по надобности. Он также накладывался, как и первый, и также разбивался флейцом. За вторым следовал третий и т. д. и т. д. Это постепенное накладывание — тон за тоном, цвет за цветом, конечно, большею частью по указаниям Зарянко, завершалось тем, что голова выходила настолько удовлетворительно, что за нее давали медаль…»[48].
Однако такое скрупулезное изучение живописной техники помимо плюсов таило в себе и определенные негативные результаты, поскольку «употребление слова „техника“ по отношению к живописи привычно для слуха, но небезопасно для понимания. Известные ассоциации могут породить представление, будто бы в процессе творчества наступает такой момент, когда реализация замысла приобретает чисто внешний характер, когда художник передоверяет ее послушному инструменту, и дальнейшее, как говорится, — „дело техники“. Подобное представление ошибочно по самому своему существу»[49]. Такое заключение всецело применимо к методам преподавания Сергея Зарянко и помогает задуматься о спорных моментах, с этими методами связанными.
В период обучения Алексея Саврасова в Московском училище живописи и ваяния здесь сложился сильный и достаточно цельный преподавательский состав. Наставники Саврасова, при всех особенностях своих педагогических предпочтений, художественного языка, личного темперамента, продолжали классические традиции отечественного и европейского искусства, сочетая их отчасти с романтическим звучанием, отчасти со стремлением к реалистичности трактовки, но неизменно уделяли исключительное внимание работе с натуры в достижении жизненности произведений. Каждый из них передавал знания ученикам в особой, именно этому педагогу присущей манере. Порой они спорили, подтрунивали друг над другом, но при этом делали одно дело, в которое верили, и не теряли дружеско-профессиональной атмосферы работы.
Василий Перов так, например, рассказывал о взаимоотношениях М. И. Скотти и А. Н. Мокрицкого. «Однажды Михаил Иванович не выдержал и под веселую руку рассказал о Мокрицком следующий анекдот:
— Как-то раз, это было давно, — начал басом Скотти, — столкнулся я на лестнице в Академии художеств с А. Н. Мокрицким. Взволнованный Мокрицкий стремительно спускался вниз, а я поднимался кверху.
— Куда это вы бежите, Аполлон Николаевич? — спросил я его. Мокрицкий, запыхавшись, остановился и, заикаясь, проговорил:
— Я, лю-лю-безнейший, был у-у великого! (так он звал Брюллова).
— Что же вы делали у него?
— По-по-казывал, любезнейший, портрет… вот этот, — он показал мне какой-то женский портрет, очень плохо написанный.
— Ну-с! Так что же вам сказал великий-с? — снова спросил я его.
— Что сказал ве-ве-ликий? … А великий посмотрел, зевнул, поморщился и сказал: „Ну, лю-лю-безнейший Мокрицкий, несмотря на то, что я пересмотрел много всякой всячины, но хуже этого ничего еще не видывал!..“
— Так куда же вы теперь спешите?
— Спешу, лю-лю-безнейший, оканчивать, — проговорил Мокрицкий и стремглав сбежал вниз по лестнице»[50].
Мокрицкий по части насмешек и иронии не отставал от Скотти, а может быть, и превосходил его — нередко говорил кому-нибудь из учеников: «Вы бы, мой лю-лю-безнейший, показали ваш этюдик Михаилу Ивановичу. Он бы помычал над ним, а вы бы, милейший, и уразумели бы из этого, сколь этюд ваш прекрасен»[51].
Характеристику Мокрицкого Перов с доброй иронией дополнял выразительным словесным портретом. «Вот этот-то портретист, г. Мокрицкий, и состоял в училище преподавателем портретной живописи. Он был невысокого роста, с усами и клочком темных волос под нижней губой, с длинными волосами и хохлом на лбу, словом — a la артист, или скорее a la Брюллов. Аполлон Николаевич считался, вероятно, очень красивым смолоду… Кроме того, он слыл за человека весьма образованного, развитого, окончившего курс в лицее, и считался товарищем Н. В. Гоголя»[52].
Специфика МУЖВ во многом определялась влиянием славянофилов, публицистическими материалами журнала «Москвитянин», а также тем романтическим звучанием произведений, которое проникало в училище прежде всего из Императорской академии художеств. В педагогических и художественных опытах Рабуса, например, была ярко выражена петербургская школа пейзажиста М. Н. Воробьева, но вместе с тем все большее внимание уделялось реалистической передаче особой образности московских мотивов, состояний природы, которые переживал художник, передавая на полотне свое отношение к ним, свои эмоции и идеи.
В области видописи именно Рабус способствовал сложению художественного почерка начинающего тогда Саврасова, перенимавшего взгляды и профессиональные предпочтения своего учителя. Но, пока продолжалась учеба, Алексей только приближался к идеям, методам своего будущего творчества, учась постигать красоту в незамысловатых мотивах родной природы. Особое время для него, как, пожалуй, для любого ученика или студента, составляла тревожная экзаменационная пора, к которой Саврасов прилежно готовился и получал заслуженно высокие оценки педагогов.
«Экзамен. Все рисунки висят на протянутых веревках. Этюды масляными красками стоят на мольбертах.
Двери класса заперты. Там — преподаватели. Большой толпой стоим мы, ожидая своей участи, в коридорах и в курилке. Ждем, что скажут нам, кто получит какой номер, кто переведен в следующий класс.
Натурщики, уборщики мастерских, швейцары при классах озабоченно проходят мимо. Переносят рисунки, убирают этюды, остающиеся до весны на большой экзамен. Ученики просят наперерыв посмотреть, какой у кого номер на экзамене. Уборщик выходит, возвращается, неохотно шепчет ученику:
— У вас номер тридцатый, — и получает гривенник»[53].
В такой атмосфере учился юный Саврасов, а иногда, устав от однообразия занятий, гомона учеников, толчеи училищных коридоров, он, взяв с собой картонки, уголь, краски, уходил на этюды за город, какая бы ни была погода. Его особенно волновала весна, но будущий пейзажист умел тонко чувствовать и находить особую прелесть в любом состоянии, в, казалось бы, ни чем не приметном долгом зимнем однообразии подмосковного пейзажа.
Свои впечатления от зимы в России с воодушевлением и с легкой иронией описывал Теофиль Готье: «Ночь была усеяна звездами, но к утру туманы поднялись с горизонта, и в белесоватом свете наступающего дня московская Аврора вставала бледная и с заспанными глазами. У нее, возможно, был красный нос, но эпитет „розовоперстая“, которым пользуется Гомер, говоря о греческой Авроре, совсем ей не подходил. Тем не менее, в ее тусклом свете уже можно было увидеть всю ширь угрюмого пейзажа, величаво разворачивающегося вокруг нас»[54].
Уж если французский писатель отметил величественность русской зимы, мог ли не восхищаться ею начинающий пейзажист? Юношеские этюды Саврасова, отражающие ширь зимних просторов, не сохранились, зато в его зрелом творчестве этот мотив будет варьироваться многократно. Один из примеров тому пейзаж «Зима» из собрания Самарского художественного музея — равнина, пасмурная, бесприютная, суровая, но все же, бесспорно, величественная и прекрасная в своих безоглядных, скрытых снежным покрывалом просторах.
В упорстве целенаправленных учебных занятий Алексея поддерживали близкие товарищи — Александр Воробьев и Константин Герц. Вместе они занимались в пейзажной мастерской, вместе ходили на этюды. Дружба с талантливым акварелистом Александром Воробьевым останется светлым и пронзительным, но таким коротким эпизодом в жизни Алексея Саврасова. Уже через шесть лет после окончания занятий в училище жизнь Александра Воробьева оборвется. Алексей и еще несколько художников проводят его в последний путь на Даниловское кладбище.
Напротив, с Константином Герцем Саврасова будут связывать долгие годы дружбы. Константин Карлович Герц — одаренный, довольно самобытный, хотя и не слишком известный пейзажист. В наши дни одна из его картин, «Московский дворик с церковью при вечернем освещении» (1850-е), принадлежит собранию Музея В. А. Тропинина и московских художников его времени. Среди студенческих штудий Герца в документах училища упоминается копия картины «Вид Камы», представленная на лотерею ученических работ в совет Общества поощрения художеств[55], а также ряд его уже самостоятельных произведений, принятых инспектором училища Зарянко на подобную лотерею в 1858 году. В своем отчете Сергей Константинович Зарянко пояснял: «Честь имею представить совету, что на экзамен, 29 сего ноября, для будущей лотереи мною приняты и оценены труды художника Герца следующие: „Вид из села Кунцева“, „Вид Кунцева“, „Вид Звенигорода“, „Вид из окрестностей Звенигорода“, а всего на 60 рублей»[56]. На ту же лотерею поступили произведения Алексея Саврасова: «Рыбаки», «Вид на Кронштадт с дачи принца Ольденбургского», его же копия «Швейцарский вид»[57].
О произведениях Константина Герца, которые хвалил его друг Алексей Саврасов, дает представление «Отчет о художественных занятиях в 1864 г.» К. К. Герца, направленный им в Комитет Общества любителей художеств. Художник так характеризовал свой труд: «По желанию Комитета знать о моих занятиях в 1864 году имею честь уведомить, что в начале года я докончил начатую мною картину: „Берег Москвы реки, вид от Кунцева“ и начал еще две небольшие картины: „Сельский вид при закате солнца“ и „Осень“. Кроме того, много работал этюды с натуры в окрестностях Москвы, а именно: в селе Алексеевском… Останкине и Медведкове и написал картину: „Вид Алексеевского“. В последнее время подготовил три картины мотивов, сделанных мною летом»[58]. Этот отчет, составленный 2 января 1865 года и отправленный в Общество любителей художеств, свидетельствует о том, что художник, продолжая традиции реалистического пейзажа, вполне следовал методике работы, освоенной им в Училище живописи.
Мотивы и образное звучание произведений Константина Герца во многом были близки Алексею Саврасову, как, например, пейзаж «Московский дворик с церковью при вечернем освещении». Данная живописная композиция, исполненная в 1850-е годы, полностью соответствует особенностям отечественной пейзажной школы того времени. Ее композиционное построение несколько условно, рисунок жесток, но через цвет все же верно и неравнодушно художником передано состояние природы — особенности закатного освещения, что так высоко ценил Алексей Саврасов.
Семья Герц происходила из Швеции, но себя Константин считал коренным москвичом — он родился и вырос в центре древней столицы, в доме, который принадлежал его отцу, неподалеку от церкви Архангела Гавриила в Архангельском переулке, Меншиковой башни, как называли ее в народе. И в наши дни эта нарядная постройка, яркий образец петровского барокко, по-прежнему выделяется среди разностильных сооружений столицы, всего в нескольких минутах ходьбы от Училища живописи.
Константин Герц, единственный, после смерти Александра Воробьева, близкий Саврасову молодой художник, часто отправлялся с ним на этюды и зарисовки. Однажды Герц предложил навестить его родных. Позднее Алексей стал довольно часто заходить к ним. В перерыве между занятиями или по окончании напряженного учебного дня он быстрым размашистым шагом пересекал Мясницкую улицу и вдоль бульвара устремлялся к знаменитой церкви, сворачивал в тихий переулок, столетиями сохраняющий в своих особняках и палисадниках ни с чем не сравнимое очарование старой Москвы. В одном из таких особняков жила семья его друга.
Алексея поражало изысканное убранство комнат, отражающее утонченные вкусы и интеллектуальные предпочтения хозяев: картины, среди которых он особенно отметил для себя портрет кисти Антониса Ван Дейка, гравюры, изображающие сражения Отечественной войны 1812 года, старинную мебель редких пород дерева, в том числе инкрустированную. Но прежде всего его привлекало общение с семьей Герц. Здесь, в доме в Архангельском переулке, он познакомился с сестрами своего друга, одна из которых, Софья, или София, позднее стала его супругой.
Однако в жизни Саврасова все большее значение приобретала пейзажная живопись, работа с натуры, и потому важной вехой на его пути живописца стала поездка в Малороссию. Отправиться путешествовать Саврасов решил во многом под влиянием совета Карла Ивановича Рабуса, который настаивал на том, чтобы летом ученики работали над этюдами не только в столице и в Подмосковье, но и на Русском Севере, на Украине, в Крыму.
Такие поездки, как правило, осуществлялись благодаря меценатам, хотя было их немного. Членам Совета Художественного общества приходилось преодолевать равнодушие многих весьма обеспеченных господ и к культуре в целом, и к судьбам молодых художников. В одном из отчетов Совета говорилось о прискорбном равнодушии к произведениям искусства «тех слоев общества, которые исключительно обладали материальными средствами к поддержанию и распространению его в России. За исключением… двух-трех лиц из купечества, остальные — как дворяне, так и купцы — мало интересовались художественными произведениями… Впрочем, если имущий класс и не выказывал особой любви к искусству, то нельзя того же сказать об обществе вообще, которое все более и более интересовалось успехом искусства у нас в России…»[59].
Напротив, среди покровителей училища немаловажна деятельность И. В. Лихачева, коллекционера, члена Совета Московского художественного общества. Из всех ученических работ он особенно выделял произведения Саврасова. Именно Лихачев предоставил средства для поездки молодого художника на юг России в 1852 году.
Другой меценат, которого особенно почитали воспитанники училища, — генерал Самсонов. В своих воспоминаниях Перов очень живо рассказывал о его приездах в училище, встречах со студентами, о том, как десятками покупал он их работы: «В пятидесятых годах в Москве, где-то на большой улице, кажется на Пречистенке, жил маститый, древний старик — генерал Самсонов. Это был такой бескорыстный любитель искусства, такой благодетель учащейся художеству молодежи, что едва ли когда еще будет ему подобный. Любовь его к живописи и юношеству, занимающемуся ею, можно сравнить разве только с любовью матери к своим детям, о которой так много писали и пели поэты всех веков и народов»[60].
Прибытие Самсонова становилось событием для преподавателей и учеников. Они остались в памяти и Алексея Саврасова. Позднее он рассказывал своим ученикам, как, обычно после полудня, у крыльца училища останавливалась огромная карета на крепких полозьях. Из нее выходил старый генерал, которого встречал на крыльце сторож училища — отставной солдат Иван Афанасьевич. Пока гость неспешно заходил в вестибюль, весть о его приезде облетала всех, и ученики толпой выходили встречать своего покровителя. Для них это был настоящий праздник. Его чествовали, словно архиерея, вели под руки по парадной лестнице, помогали снять тяжелую шубу, а затем торжественно усаживали в кресло, специально для него приготовленное.
Ученикам он казался воплощением доброты и вселенской справедливости, поскольку, доброжелательно поговорив с ними, кого-то похвалив, кому-то дав наставление, Самсонов неизменно покупал много ученических работ. Доставал неспешно деньги из своего знаменитого темно-зеленого сафьянового бумажника. Однажды один из учеников пожаловался генералу, что нынче краски сильно дорожают. Благодетель училища задумался, в результате согласился с молодым художником, вручил ему еще три рубля и с тех пор стал платить за каждую студенческую работу по 18 рублей.
Покупал же он подобных «шедевров» великое множество и довольно часто. Алексей точно запомнил, что в один из приездов генерала к его карете унесли 24 этюда, не только первоклассных, но и весьма посредственных, но почему-то особенно приглянувшихся важному господину. Позднее ученики узнали, что генерал Самсонов был весьма ограничен в средствах и значительную их часть тратил именно на «детей» — на воспитанников училища, покупку студенческих этюдов.
Когда его очередной визит подходил к концу, генерал с искренней грустью, которую разделяли и молодые художники, говорил им:
«— Ну, дети мои, прощайте! Мне уже пора домой ехать… Устал я, братцы!.. Ну. Прощайте! Старайтесь работать больше, как можно больше. Утешайте меня, старика, вашими успехами и прославьте нашу матушку Москву и ваш художественный класс… Я же скоро опять к вам приеду… А ты, братец, — обращался он вдруг к ученику, продавшему ему этюд без ног, — не пиши людей без ног. Зачем уродовать человека, венец творения Божия! Да и товарищу своему скажи, чтоб он не писал одни ноги, — говорит, улыбаясь, генерал. — Ну, что в них, в одних-то, хорошего? Посуди сам. Да и ноги-то нашел чьи писать! Какого-то мужика, да еще с мозолями… Ну, прощайте, прощайте, братцы! Бог с вами»[61].
Современник и друг Алексея Саврасова, также ученик, а затем преподаватель училища Василий Перов красочно описал эти запоминавшиеся визиты к ним мецената в одном из своих рассказов, который так и назвал «Генерал Самсонов». В заключение Перов сообщал, что, когда его работа над рассказом подходила к концу, он неожиданно для себя в газете «Русские ведомости», № 27 за 1881 год, прочел о том, что коллекция живописи некоего господина Самсонова завещана им Одесскому университету и Одесскому обществу изящных искусств. Эта небольшая статья вновь напомнила уже маститому художнику Перову о торжественной и радостной атмосфере встреч генерала и юных воспитанников училища 1850-х годов.
Пока, в конце 1840-х годов, еще только зарождались новаторские трактовки пейзажей, новые методы обучения этому искусству. Натурные штудии учеников становились основой для картин, детально написанных уже в мастерской. Среди лучших учеников Московского училища рубежа 1840–1850-х годов имя Алексея Саврасова справедливо назвать одним из первых, а также имена Н. В. Неврева, В. Г. Перова, В. В. Пукирева, И. И. Шишкина, П. М. Шмелькова. Рабус особенно выделял Саврасова, давал ему за этюды, как правило, первые номера, то есть высшие оценки.
Поездка Саврасова вместе с воспитанниками училища Александром Зыковым и Виктором Дубровиным на Украину летом 1849 года стала рубежом между ученичеством и творчеством молодого автора, началом его обращения к самобытно трактованным, жизненным образам природы, столь характерным для его искусства.
От станции на углу Мясницкой, напротив здания училища, Саврасов и его товарищи на дилижансе отправились в путь, который проходил через Орел. Несколько дней путешественники провели в Харькове, где Алексей писал этюды, делал зарисовки. Его восхищал необычный вид панорамы города: среди зелени волнуемых ветром деревьев возвышались златоглавая колокольня Успенского собора, Покровский собор, угадывались очертания домов. А затем по безоглядной степи они на перекладных добирались до Киева, проезжали через редкие хутора, безмолвные и таинственные древние могильники, над которыми, крича, кружили стаи птиц. Алексей без устали изучал изменчивую красоту степи, бесконечное богатство цветовых оттенков, изменение освещения. Уже тогда он задумал написать несколько картин. Он слушал грустно-задумчивые песни, вдыхал запахи чабреца и полыни, вспоминал «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя, и в представлении молодого художника складывались образы будущих полотен, крепла уверенность в своем таланте.
Среди обширного творческого наследия А. К. Саврасова от этой, такой важной для молодого живописца поездки сохранились только одна живописная работа «Украинский пейзаж» (1849) и небольшой графический эскиз Киево-Печерской лавры. Остальные произведения утрачены. Однако некоторые воспоминания современников и названия работ позволяют отчасти судить о впечатлениях Алексея: «Вид Харькова с Холодной горы», «Колодец на Гончаровке», «Мельница на Днепре в Кременчуге».
Молодые художники посетили города Николаев, Одессу. Выжженная золотистая степная гладь сменилась характерными одесскими пейзажами, а затем красотой Крыма, куда они отправились уже в завершении путешествия. Так, украинская поездка подводила итог периоду ученичества Алексея Саврасова, определяя начало самостоятельного профессионального творчества.
Глава 2 Первые картины и начало признания
Закончилось путешествие, и Алексей Саврасов вновь оказался на оживленных столичных улицах, к которым так привык, а затем в стенах училища, в такой ценимой им атмосфере учебы и творчества, где он мог чувствовать себя уже профессионалом. Впереди его ждала блестящая карьера. Но пока молодой художник думал о подготовке новых композиций по украинским этюдам. Работы, привезенные с Украины, были выставлены им осенью 1849 года в зале училища. Его картину «Вид Харькова с Холодной горы» приобрел московский обер-полицмейстер И. Д. Лужин — член Художественного совета училища, меценат, помогавший молодым живописцам. В отчете по ландшафтному и перспективному классу за 1851 год Карл Иванович Рабус писал: «Ученик Саврасов написал два небольшие вида с Воробьевых гор и копировал с Айвазовского, утро, ночь и вечер». О влиянии художественной манеры Айвазовского позволяет судить ряд пейзажей Саврасова 1850-х годов: «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду» (1851), «Вид Киева с Днепра на Печерскую лавру» (1852), «Чумаки» (1854), «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума» (1854).
За упорной художественной работой пролетел последний учебный год Алексея, и осенью 1850 года в Московском училище живописи и ваяния, в большом двусветном зале второго этажа ему, в числе других выпускников училища, был выдан аттестат. В отчете Рабуса за 1850 год говорится: «Саврасов писал с натуры для его пр-ва Ивана Дмитр. Лужина в его имении; для него же виды Московского Кремля при лунном свете, за которые получил звание художника»[62].
Алексей Саврасов представил комиссии три итоговые работы: «Вид Московского Кремля при лунном освещении» и два этюда, один из которых, «Камень в лесу у Разлива», особенно известен в наши дни. Именно эта работа была написана в подмосковном имении И. Д. Лужина, близ Спасо-Влахернского монастыря, и явилась прекрасным свидетельством профессионализма автора. Звучание пейзажа здесь еще несколько условно, но убедительно, точно переданы сумрак чащи, пробивающиеся сквозь листву солнечные лучи и стаффажные фигурки двух мальчиков, по сравнению с которыми еще более громадным выглядит древний валун.
Некоторой условностью в решении деталей, но бесспорным мастерством, умением передать особенности освещения отличается и «Вид в окрестностях Москвы с усадьбой», написанный А. К. Саврасовым в том же 1850 году.
Это наиболее ранние пейзажи, из сохранившихся в его творческом наследии. С одной стороны, они еще не отличаются остроиндивидуальным «почерком», ничем не выделяются из ряда образцов русской пейзажной живописи конца 1840-х–1850-х годов, отчасти еще скованны и несмелы в исполнении, что характерно для старательно выполненных ученических штудий. Но вместе с тем такие работы свидетельствуют о незаурядном таланте их автора, являются важной основой его будущих выдающихся произведений. Рабус высоко оценил итоговые работы своего ученика.
Следующий, 1851 год вновь прошел для Алексея Саврасова в напряженной творческой работе. Получив аттестат, он по-прежнему числился учеником К. И. Рабуса. Упорный художественный труд, так или иначе связанный с училищем, со времени учебы и до последних лет, стал одной из важнейших составляющих жизни А. К. Саврасова, а разрыв с училищем — трагедией для него.
Но пока только успехи сопутствовали молодому художнику. На выставку 1851 года он представил два пейзажа: «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду» (в нем еще явно сказывалось влияние М. Н. Воробьева, Рабуса, Айвазовского) и «Зимняя ночь в Москве».
Насколько радостно автору было узнать о первых положительных отзывах критики, например, рецензента Н. А. Рамазанова, одного из редакторов журнала «Москвитянин», многие годы преподававшего в Училище живописи и ваяния. Бесспорно, что произведения А. К. Саврасова отвечали и профессиональным требованиям, и общей направленности преподавания.
Уже его первые творческие произведения ясно свидетельствовали о незаурядном таланте и индивидуальности манеры, художественного видения, а их создание стало возможным благодаря мастерству автора, предельной требовательности к себе и умению понять эмоционально-содержательную суть окружающего. Картина «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду» является ясным подтверждением тому. Саврасову удалось передать раздолье равнинного пейзажа, бурное движение облаков, множество цветовых и тональных нюансов земли и неба, охваченных порывами ветра, сложный ритм в рисунке ветвей, травы, стаффажной фигуры на переднем плане, архитектуры Кремля вдали. Но, главное — художник создал цельное жизненное произведение, смог эмоционально передать тревогу перед бурей.
Летом 1852 года состоялась вторая поездка Алексея Саврасова на Украину, земли которой дали молодому живописцу великое разнообразие образов и мотивов. Накопленный профессиональный багаж позволил ему быть уже более свободным в выборе и раскрытии сюжетов. Он писал этюды на различные состояния природы (рассвет, полдень, закат, сумерки), отображал сценки народной жизни, быт кочующих чумаков, их ночевки в степи, где свет костра причудливо выхватывает из тьмы то фигуру человека, то голову вола, то край телеги.
Уже ясно представляя облик украинской земли, пейзажист искал конкретные живописные мотивы, а результатом его поездки стали картины «Степь днем», «Рассвет в степи», «Вид Киева с Днепра на Печерскую лавру», сохранившиеся до нашего времени, отличающиеся раскованной живописью профессионала, поэтичностью трактовки мотивов. В словно залитом светом полотне «Степь днем» присутствуют черты, которые в дальнейшем будут характерны для многих его известных произведений. В пейзаже «Рассвет в степи» художник еще близок своим более ранним произведениям: панорамная композиция, несколько нарочитое деление пространства на планы, трактовка холмов, дерева, архитектуры на дальнем плане напоминают «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду». Однако Алексею Саврасову удалось выразить иное настроение в пейзаже, успешно решить задачу отражения смены утреннего освещения в природе, тихой и умиротворенной, словно неспешно освобождающейся от ночной тьмы. Опираясь на советы, данные ему Рабусом, учитывая художественный опыт Штернберга, который писал украинские виды в 1830-х годах, Саврасов сумел показать именно свое восприятие украинских образов, придать им эпичность звучания.
Заслуженно высокую оценку картинам, созданным благодаря украинской поездке, вновь дал критик Н. А. Рамазанов. В журнале «Москвитянин» в 1853 году он писал: «Пейзажи г. Саврасова… дышат свежестью, разнообразием и той силою, которая усваивается кистью художника, вследствие теплого и, вместе с тем, разумного воззрения на природу. Саврасов в произведениях своих начинает достигать чувства меры, о котором мы говорили выше, и потому самобытность его таланта несомненна, — да и можно надеяться, что он не впадет ни в какие подражания, столь недостойные прямого дарования»[63]. Эти строки были посвящены работам молодого автора, которому еще не было и двадцати трех лет.
Индивидуальность и нарастающее мастерство все более и более ярко проявляются в последующих работах Саврасова, в пейзажах 1854 года: «Чумаки» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума». Композиция «Чумаки, или Степь с чумаками вечером» написана как воспоминание, спустя два года после второй поездки на Украину. Но все же художнику удалось сохранить живость восприятия, свое восхищение увиденным, передать освещение закатного неба, землю, объятую сумерками. Он показал и характерные детали степной жизни: крестьянскую семью, остановившуюся на ночлег. Подобный сюжет, композицию и цветовой строй возможно отметить в ряде работ других авторов 1850-х годов, как, например, в произведении И. К. Айвазовского «Овцы на пастбище» (1850-е, ГТГ). По сравнению с ним работа Саврасова не менее образна и поэтична, но более жизненна. Так воспитанник Училища живописи и ваяния в середине 1850-х годов стал и продолжателем традиций в отечественной пейзажной живописи, и новатором, выразителем уже не романтического, но реалистического отечественного пейзажа. Уже в этот период о Саврасове можно говорить как о родоначальнике реализма в пейзажной живописи России.
Итак, начало его творческого пути было безоблачным, как и многие его пейзажи, выражающие настрой души художника, с ясным весенним небом и привольной дорогой, теряющейся в неоглядных просторах родной земли. Первые, еще робкие шаги на этом пути он сделал, будучи подростком, работая над копиями репродукций из иллюстрированных журналов, которые поражали его воображение. Затем выполнял учебные задания в Училище живописи и ваяния, прежде всего под руководством любимого учителя и наставника Карла Ивановича Рабуса, считавшего Алексея своим лучшим воспитанником.
Заслужить внимание к себе преподавателей было далеко не просто, удавалось это лишь единицам. Часто, не имея средств даже на самое необходимое, они не оставляли училища, наперекор всему и всем упрямо продолжали заниматься, черпая силы в искусстве, в своей глубокой преданности ему. Многие из таких выпускников становились церковными художниками. Храмовая живопись обеспечивала средства к существованию. «До образования ли, до наук ли таким художникам было, когда нет ни квартиры, ни платья, когда из сапог пальцы смотрят, а штаны такие, что приходится задом к стене поворачиваться. Мог ли в таком костюме пойти художник в богатый дом писать портрет, хотя мог написать лучше другого… Разве не от таких условий погибли Жуков, Волгушев? А таких было сотни, погибавших без средств и всякой поддержки. Только немногим удавалось завоевать свое место в жизни»[64].
По сравнению с ними Саврасов жил в достаточно благополучной семье. Однако прокладывать свой путь в искусстве и ему было непросто. Благодаря исключительному трудолюбию, терпению, преданности искусству начинающий ученик смог стать мастеровитым художником. Уже в начале 1850-х годов его этюды, исполненные с натуры, вызывали восхищение сокурсников, педагогов, даже первых лиц государства, представителей императорской фамилии.
Ошеломляющим успехом для скромного выпускника училища Саврасова стала высокая оценка, которая была дана его работам великой княгиней Марией Николаевной, дочерью императора Николая I.
Май 1854 года — одна из важнейших вех в жизни Алексея Саврасова. Вместе со стремительностью весны, с ее ослепительным солнцем и бурными ливнями, в привычную атмосферу училища ворвалось исключительное по своему значению событие. Размеренный ритм будней нарушила весть о грядущем приезде великой княгини, президента Академии художеств Марии Николаевны, пожелавшей посетить известное учебное заведение, чтобы оценить работы молодых живописцев и скульпторов.
Алексей Саврасов входил в число наиболее одаренных. Его пейзажи были замечены на ученических выставках, проходивших в здании училища раз в год. По истечении нескольких десятилетий на подобных экспозициях будут блистать произведения учеников главы пейзажной мастерской Алексея Кондратьевича — Левитана, Коровина, Светославского, а пока скромный студент Саврасов с тревогой ждал оценки своих живописных и графических работ.
На училищных выставках воспитанники экспонировали свои этюды, сделанные, как правило, в летние месяцы. Привозили их с Кавказа, из Крыма, со всей России, иногда из зарубежных поездок. Подмосковные пейзажи выставляли обычно те, кому не на что было ехать. Таких студентов было немало, выставки давали им, ко всему прочему, необходимые средства к существованию, если удавалось продать несколько работ. Подобные вернисажи были любимы москвичами, многими посещались. Для коллекционеров особый интерес представляло попробовать угадать среди учеников будущих знаменитостей. Работы начинающих авторов продавались за гроши, не только на ежегодных выставках училища, но и у продавцов «под воротами», и на Сухаревке — знаменитом Сухаревском рынке. Он получил свое название от Сухаревской башни, одной из самых высоких построек Первопрестольной тех дней. Здесь, как считали москвичи, купить можно было все что угодно — от редчайших произведений искусства, антиквариата до самой дешевой одежды, обуви.
Итак, Училище живописи удостоила своим визитом великая княгиня Мария Николаевна. «Умная и образованная женщина», как писал о ней А. И. Герцен, снискала заслуженное уважение в художественных кругах. Довольно долго она жила в Италии, на вилле Анатолия Демидова, князя Сан-Донато. В декабре 1842 года посетила Александра Иванова, о чем тот писал: «…Была у меня в мастерской Великая Княгиня Мария Николаевна. Необыкновенная благосклонность ввела меня в смятение…»[65] Мария Николаевна тонко чувствовала живопись, изучала искусство, а также коллекционировала картины венецианской, флорентийской, фламандской, голландской, французской, немецкой школ. Ее собрание, включающее полотна Боттичелли, Кранаха Старшего, Греза, Тициана, Тьеполо, считалось одним из лучших в Европе.
Пронзительно ярким майским днем 1854 года, когда весна полностью вступила в свои права в Москве, одетой в ярко-зеленый убор еще нежной незапыленной листвы, и в теплом воздухе витали ароматы цветущих садов, черемухи и сирени, перед зданием училища остановилась карета великой княгини. На глазах собравшейся толпы Мария Николаевна с сопровождающими лицами, в числе которых присутствовал генерал-губернатор Москвы граф Арсений Андреевич Закревский, направилась к распахнутым дверям. У парадной мраморной лестницы ее встречали все преподаватели, в том числе Рабус, Рамазанов, Мокрицкий, во главе с инспектором классов Скотти.
Через торжественный вестибюль с белыми колоннами и рельефами античных сюжетов на стенах высокопоставленная гостья проследовала в экспозиционные залы, подробно знакомилась с произведениями как прославленных художников, так и начинающих авторов. На представленной ей выставке, где уже успели побывать тысячи москвичей, были показаны: последняя неоконченная картина Карла Брюллова «Вирсавия», полотно Павла Федотова «Вдовушка», пейзажи Ивана Айвазовского, Александра Калама, Льва Лагорио и многих других авторов. Мария Николаевна высоко оценила работы воспитанников училища, с неподдельным интересом слушала комментарии педагогов, выразила желание приобрести семь картин, наиболее запомнившиеся ей, среди которых «Степь с чумаками вечером» и «Пейзаж масляными красками на бумаге» А. К. Саврасова.
Радости Алексея Саврасова не было границ. Мог ли он хотя бы мечтать о подобном внимании и такой высокой оценке своих работ? Приобретение картин великой княгиней явилось лишь началом целой череды событий. Вскоре последовало приглашение дочери государя, а точнее, высочайший наказ: художнику Саврасову незамедлительно приехать в Петербург, на дачу княгини в Сергиевку. Распоряжение касалось исключительно Алексея Саврасова, из всех художников училища только он был удостоен и высокой чести, и огромной ответственности. Такой интерес к отечественной культуре членов императорской семьи и их покровительство, оказываемое людям искусства, были достаточно характерны для России.
В семье Саврасовых известие об успехе Алексея встретили с немалым волнением. Особенно безграничное удивление испытывал отец художника, никогда не одобрявший художественные занятия сына, рисование никому не нужных «картинок». Теперь же «пустые картинки» одобрила и приобрела для своей коллекции дочь самого императора! Даже Кондратий Артемьевич был вынужден признать — его сын поистине талантлив.
Закончив быстрые сборы, Алексей отправился в так волнующую его поездку. Казалось, мир открывается для него, все творческие вершины будут подвластны, и нужно только работать, много и усердно, служить любимому делу.
По железной дороге, вглядываясь в мелькавшие за окном пейзажи, он ехал в Петербург, с которым теперь были связаны его надежды. Этот неведомый пока город представлялся Алексею сокровищницей искусств: Эрмитаж и его коллекции, Императорская Академия художеств и академический музей. Но прежде всего Алексей Саврасов был сосредоточен на цели своего приезда в Санкт-Петербург. Миновав суету вокзала, толпу пассажиров, носильщиков, снующих повсюду, вереницу экипажей, Саврасов приблизился к Невскому проспекту — главной улице города, сразу же покорившей его своей гармоничной сдержанностью.
Он быстро шел по Невскому, и перед ним представали, словно чудесным образом возникая и прячась в утреннем тумане, памятники архитектуры — пышно-нарядный, несколько вычурный дворец Белосельских-Белозерских, монументальный Казанский собор, возведенный по образцу собора Святого Петра в Риме А. Н. Воронихиным, талантливым крепостным графа А. С. Строганова, рядом изысканный Строгановский дворец. Впереди сияла в лучах поднимающегося солнца Адмиралтейская игла, венчающая самую известную из построек А. Д. Захарова.
Алексей остановился ненадолго на мосту через Мойку. Глядя на спокойные воды и отражения в них зданий, он как-то особенно ясно проникался образом этого мистического города, Северной Венеции. Через арку Главного штаба и Дворцовую площадь, любуясь архитектурными шедеврами Росси и Растрелли, художник вышел к Неве. Словно символы Петербурга, всей империи перед ним возвышались Петропавловская крепость, а на Васильевском острове — здания Биржи, Кунсткамеры, Академии наук и Академии художеств.
Среди этих строгих, многозначительно молчащих зданий, жемчужно-серых улиц и каналов, близ простора Невы, как среди величественных декораций, свершались исторические события. Подобно сценам спектакля представали монументально-изысканные здания, с каждым из которых столько было связано в отечественной истории и культуре!
Этот удивительный город, построенный по европейским образцам и тем не менее не похожий ни на какой другой, поражал не только Саврасова, но едва ли не каждого, кто приезжал сюда впервые, и соотечественников, и иностранцев. Немецкий путешественник Иоганн Георг Коль, посетивший Россию в 1842 году, о городе на Неве писал: «В Лондоне, в Париже и в некоторых городах Германии существуют кварталы, которые кажутся настоящим пристанищем нищеты и голода… где дома выглядят такими же убогими и жалкими, как их обитатели. Такого вы не встретите в Петербурге…», особняки Северной Венеции он сравнивал с «хрустальными дворцами»[66].
Алексей Саврасов спешил и, постояв у Невы всего несколько минут, прервал свои раздумья. Пройдя через Исаакиевскую площадь, Саврасов с трепетом вступил в Мариинский дворец, возведенный по распоряжению императора Николая I для своей любимой дочери — великой княгини Марии Николаевны. В интерьерах дворца художник будто оказался в сказке, в диковинном, небывалом заморском лесу. Такое впечатление произвели на него редкие растения зимнего сада, расположенного во дворце. Именно здесь, по решению Марии Николаевны, Алексею предстояло начать работать с натуры. Получив такое распоряжение, художник сразу же представился служителю и, пройдя в зимний сад, приступил к рисованию, вооружившись небольшим планшетом, листами бумаги и тонко заточенными карандашами. Тщательно и искусно он передавал облик экзотических вечнозеленых растений, мхов и цветов. За каждой линией и штрихом, созданными его уверенной рукой, постепенно рождался художественный образ, а непритязательные наброски становились подлинными произведениями графического искусства.
Во время одного из перерывов в его напряженной работе служитель рассказал Алексею историю строительства дворца, открыл для него несколько красивейших парадных залов. В архитектуре классического сооружения архитектора А. И. Штакеншнейдера, автора проекта дворца, легкость и изящество гармонично соединялись с торжественностью и величием, вполне соответствуя духу эпохи, характеру стиля ампир — стиля великой империи. Дворец, построенный в краткий срок — всего лишь в течение пяти лет (1839–1844), — с 1845 года уже являлся официальной резиденцией князей Лейхтенбергских. Свое звучное название получил в честь дочери Николая I, великой княгини Марии Николаевны, встречи с которой с волнением ждал Алексей Саврасов.
Незаметно пролетело время. Непривычная для скромного художника изысканная обстановка императорского дворца постепенно стала меньше его смущать. Изо дня в день он приходил сюда, всегда был сосредоточен на работе, вспоминая свои многочисленные учебные задания в Московском училище, выполнял новые и новые зарисовки, поражающие красотой линий и легкостью исполнения, как, например, «Тропические растения. Древовидный папоротник».
Пребывание в Петербурге было недолгим. Пришло время его отъезда на дачу великой княгини в Сергиевку, находившуюся между Ораниенбаумом и Петергофом, на побережье Финского залива. Вновь он оказался в окружении природы, хотя и сильно отличающейся от привычных видов Москвы и окрестных селений. Здесь взгляд художника сразу же отметил основу будущих образов: сложный ритм стволов и ветвей вековых сосен, устремленных в мятущееся небо, могучие валуны у водной кромки, постоянно меняющиеся оттенки моря и светлую полосу песчаной косы.
Едва ли не каждая деталь природы в окрестностях Ораниенбаума представляла для него интерес и ценность как составляющие мотивов будущих живописных полотен. Алексей подолгу рисовал на берегу, открывая для себя неприметную красоту в сдержанной и неброской северной природе. Затем, чтобы побороть усталость, прогуливался по городу, изучал архитектуру дворца в Ораниенбауме, возвышающегося среди аллей тенистого тихого парка, где словно возникали миражи ушедших эпох. Художник стремился мысленно прикоснуться к пышной торжественности XVIII века, воссоздать образ ушедшего века, сокрытый в произведениях изобразительного искусства и архитектурных памятниках: в ансамблях Большого дворца, Петерштадта, собственной дачи с ее главными постройками — Китайским дворцом и павильоном Катальной горки.
Само звучание слова «Ораниенбаум», от немецкого Oranienbaum — «померанцевое, оранжевое, апельсиновое дерево», напоминало об истории создания дворцово-паркового ансамбля, о начале XVIII столетия, когда Петр I подарил эти земли на южном берегу Финского залива своему приближенному А. Д. Меншикову, и в 1711 году началось строительство Большого дворца. Вспоминая исторические факты и легенды, с особым чувством художник входил в тенистую тишину парковых аллей, хранящих память ушедших времен, где ничто не мешало его размышлениям. Он вспоминал и Москву, и училище, недавние события, так резко изменившие его жизнь, обдумывал предстоящее. Постепенно складывались замыслы будущих произведений.
В течение всего лишь трех месяцев работы в Сергиевке Саврасовым была исполнена серия рисунков с видами Финского залива, побережья, а также картины «Вид в окрестностях Ораниенбаума», «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума», которые и сегодня широко известны. Художник решил написать эти полотна в технике масляной живописи, в довольно монументальном формате. Работе на холсте, согласно требованиям классической школы, предшествовала длительная подготовка: десятки эскизов, набросков и этюдов с натуры. Только таким образом, по мнению Саврасова, по канонам художественного обучения, можно достичь убедительного звучания масштабной картины, четкого построения композиции с выделенным центром, ясного деления на пространственные планы, выразительностью деталей.
Освоив учебные программы Московского училища, Саврасов уже давно ставил перед собой гораздо более сложные творческие задачи. Он считал, что его живописные и графические работы должны отражать состояние природы, ее неуловимо меняющееся настроение и ту мысль, которую вкладывал в создаваемый образ художник. Несомненно, это ему удавалось уже в 1850-е годы, причем не только в живописных, тщательно проработанных картинах, но и в быстрых графических набросках, поражающих мастерством исполнения, как, например, в созданных на Финском побережье — «Берег моря. Сумерки» и «Старые сосны» — поэтичные образцы графического искусства.
Одной из вершин раннего творчества А. К. Саврасова стал живописный пейзаж «Вид в окрестностях Ораниенбаума», за который в том же 1854 году 24-летний художник был удостоен почетного звания академика — факт, имеющий немного аналогов в мировом искусстве. Однако, увлеченно работая над пейзажем, Алексей Саврасов менее всего думал о возможных наградах. Он писал любимую им природу России, а одной из самых высоких оценок его картины стал для художника тот факт, что его полотно в 1858 году приобрел П. М. Третьяков. По поводу этой покупки известного мецената художник Горавский в письме поздравлял его и замечал: «…из всех его (Саврасова. — Е. С.) произведений я лучше этой вещи не видал; к тому же приятно иметь такую вещь, за которую дано звание Академика»[67].
В 1850-х годах Павел Михайлович Третьяков, 26-летний сын замоскворецкого купца, только делал первые шаги как собиратель. Братья Павел и Сергей Третьяковы являлись потомственными купцами. Они, получив в наследство предприятие, успешно вели дела, смогли значительно увеличить свое состояние, при этом немало сил и средств отдавали на благотворительность. Молодой Павел Третьяков, несмотря на постоянную занятость, находил время для посещения музеев, букинистических развалов, выставок, художественных салонов, антикварных магазинов, даже Сухаревского рынка. Что-то он приобретал сразу, что-то через некоторое время, не спеша, взвешивая все «за» и «против». Изучение и собирательство произведений искусства, прежде всего современной живописи, сначала было увлечением, но постепенно переросло в страсть, привело к делу всей его жизни — созданию Третьяковской галереи.
Павел Третьяков покупал немало старинных книг, гравюр, но затем все более сосредоточивался на приобретении картин. Поездка в Санкт-Петербург в 1852 году укрепила его решение всерьез заняться коллекционированием живописных полотен. В Северной столице он восторгался экспозициями Императорской Академии художеств, Эрмитажа, изучил ряд частных коллекций. В конце 1850-х годов Третьяков дружил с еще немногими художниками, но уже тогда отличался исключительным художественным чутьем, проницательностью, прекрасным вкусом.
Американская исследовательница Сюзанна Масси писала о нем: «С самого начала деятельности передвижников им оказывал финансовую поддержку и во всем помогал Павел Третьяков, застенчивый человек, сын небогатого купца, содержавшего лавки в московских торговых рядах. Он дал хорошее образование сыновьям, Павлу и Сергею, которые увеличили семейный капитал, оснастив свои текстильные фабрики в Костроме современными западными станками, и открыли новые магазины в Москве… Павел решил выделить значительную часть своих средств на поддержку российского искусства»[68].
Именно приобретение картины «Вид в окрестностях Ораниенбаума» положило начало дружбе Павла Третьякова и Алексея Саврасова, продолжавшейся почти 40 лет, несмотря ни на какие жизненные перипетии и испытания.
В этом живописном полотне каждая деталь отражает суть могучей земли. Через замшелые валуны и вековечный дуб на переднем плане открывается простор побережья, Финского залива и неба, в котором облака, будто на глазах зрителя, меняют свои очертания. Образ закончен как самостоятельное произведение и важен как мотив, столь характерный для последующего творчества Алексея Саврасова, например, для таких работ второй половины 1850-х годов, как «Пейзаж с дорогой» (1855), «Летний день. Деревья на берегу реки» (1856), «Летний пейзаж с дубами» (середина 1850-х). Так, в окрестностях Ораниенбаума молодой художник, опираясь на навыки, полученные в Училище живописи и ваяния, со свойственной ему остротой восприятия смог передать характер местности, выразить суть северной земли, близкую его душевному складу и свойственную русской природе.
В сдержанности Севера он чувствовал особый строгий образ, глубокое содержание, которое заключалось в водной глади, в пустынности каменистой береговой полосы, в соснах и камышах, лаконично дополняющих пейзаж. Таким изобразил Финский залив Алексей Саврасов в другой композиции, «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума» (1854), где большую часть пространства занимают небо и спокойная гладь воды, словно обрамленная прихотливым изгибом берега, а как центр полотна представлены огромный валун и рыбацкие лодки. По переданному настроению и поэтичности звучания этот образ характерен для его творчества, в природе Балтики звучат отголоском мотивы, которые были наиболее близки молодому живописцу и на родных московских просторах.
Более месяца Алексей уже работал в Ораниенбауме, но лишь издали видел великую княгиню Марию Николаевну, еще не говорил с ней. Тому были веские причины. Привычный ход жизни императорского двора во многом изменили военные действия. Шла Крымская война: Россия противостояла объединенным силам трех держав — Англии, Франции и Турции. С побережья художник видел туманные бастионы Кронштадта, мачты кораблей эскадры адмирала Чарлза Джона Нейпира, временами доносились раскаты канонады.
Мария Николаевна находилась преимущественно в Петергофе, во дворце Александрии, вместе со своим отцом — государем Николаем I. Но однажды утром, когда Саврасов собирался отправиться на этюды, ему сообщили: великая княгиня прибыла в Сергиевку и ожидает его. Охваченный волнением, Алексей вступил в торжественный зал, не без напряжения и скованности пытаясь предугадать дальнейшее, мысленно готовясь к предстоящему разговору с дочерью императора, правнучкой Екатерины II.
Ее не напрасно считали красавицей, такой изображали ее и живописцы: В. Н. Бовин, П. Ф. Соколов, Т. А. Нефф, К. П. Брюллов, В. И. Гау, К. Робертсон, Ф. К. Винтергальтер и др. Астольф де Кюстин, присутствовавший на ее свадьбе, писал так: «Юная невеста полна грации и чистоты. Она белокура, с голубыми глазами, цвет лица нежный, сияющий всеми красками первой молодости».
Мария Николаевна, приветливо улыбаясь, вошла в зал. Тонкое бледное лицо отражало живой ум, наряд свидетельствовал о тонком вкусе, а манеры — об изысканном воспитании. Доброжелательность, женская мягкость интонаций и непринужденность в разговоре победили скованность Алексея Саврасова. Великая княгиня была внимательна к нему, высокому и нескладному, очень смущенному молодому человеку, попросила показать рисунки, сделанные в Петербурге и Сергиевке.
Когда речь зашла об искусстве, словно исчезла пропасть, разделявшая ее и художника, выходца из мещанского сословия. Дочь государя подробно расспрашивала его о впечатлениях от Северной столицы и Ораниенбаума. Отвечая на пожелания княгини, он показал ей также свои подготовительные работы к картинам, которыми Мария Николаевна осталась очень довольна и неожиданно для него спросила, где Саврасов хотел бы в дальнейшем жить и работать.
Этот вопрос вновь привел Алексея в сильнейшее замешательство. Возможно, он не был готов к принятию такого важного решения. Или, напротив, все обдумал заранее? Об этом можно только догадываться, но его немногословный ответ крайне удивил великую княгиню. Саврасов сказал, что хотел бы вернуться в Москву, следовательно, отказывался и от карьеры в Петербурге, и от высокого покровительства. Мария Николаевна спокойно приняла его слова, доброжелательно попрощалась. Тем и закончился их единственный продолжительный разговор.
Молодой художник не сомневался в своем выборе, стремился поскорее вернуться в родную Москву, где остались его родственники, друзья, любимый учитель Карл Иванович Рабус, Училище живописи и ваяния, ставшее вторым домом. Да и сам воздух, облик Москвы, живописные пейзажи ее окрестностей были намного ближе и дороже ему, чем Петербург, где он чувствовал себя гостем, не более.
Алексей Саврасов принял одно из важнейших в своей жизни решений. Насколько оно было верным — вряд ли удастся ответить. Возможно, оставшись в Северной столице, он смог бы избежать многих невзгод и разочарований, болезней, нищеты, одиночества. Однако, как известно, история не любит сослагательного наклонения, а биография художника — частица истории отечественного искусства и пейзажной живописи.
Без возвращения А. К. Саврасова в Москву не были бы написаны его знаменитые «Грачи» и «Проселок», десятки других шедевров. Не возникла бы особая атмосфера пейзажной мастерской в Училище живописи и ваяния, которую Алексей Кондратьевич возглавлял многие годы, из стен которой вышли многие самобытные живописцы. И, главное, мы не знали бы именно такого художника, со всеми грандиозными успехами и явными неудачами творчества, со светлой радостью и бесконечной, порой непреодолимой болью жизненных потерь, слитых воедино в его картинах с музыкой пейзажа, с образом Отечества, внесшего новую эмоционально-смысловую наполненность в пейзажный жанр.
Его произведения позволили сопоставлять на равных искусство России с современными ему произведениями Западной Европы. «Русский художник Саврасов, в стремлении освободиться в своей живописи от романтических преувеличений, от свойственной им переизбыточности эмоционального содержания образа, двигался в сторону, противоположную Курбе. Его работа над „зримыми“ и „осязаемыми“ предметными формами состояла в том, чтобы раскрыть в их оконченности неоконченность, способность к дальнейшему росту, развитию, чтобы сделать их плоть проницаемой и обнаружить в ней, кроме нее самой, еще и невидимую душу»[69]. Справедливо и то, что искусство Алексея Кондратьевича явилось ярким образцом достижений передвижников, которые «разработали особую форму раскрытия невидимых духовных процессов, тот „незаметный рельеф“, который выступает и в портретах Крамского, и в пейзажах Саврасова»[70]. Однако таким достижениям должны были предшествовать упорный труд, творческие искания, множество тревог и так нелегко дающихся побед.
Наступила осень 1854 года. Ничто не предвещало неудач и невзгод в жизни Алексея Саврасова. Молодой живописец вернулся в Москву, завершил два живописных пейзажа, над которыми работал еще на даче великой княгини, а в октябре представил их на годичной выставке в Академии художеств. Его картины привлекли всеобщее внимание, им была дана высокая оценка. Перед Саврасовым открывались новые перспективы, которые он сам избрал для себя: работа в Москве, создание новых картин, возвращение в Училище живописи и ваяния уже в качестве педагога.
Еще недавно ученик, а ныне академик, Алексей Кондратьевич Саврасов все так же всецело посвящал себя искусству, много работал с натуры в Москве и окрестностях, находя неповторимое очарование в скромных перелесках и небольших озерах, прихотливых изгибах берегов и оттенках безбрежных полей. Часто писал на Москве-реке, уезжал в Кунцево, Архангельское, находя все новые живописные мотивы. Особенно, как и в юности, он любил весеннюю пору, когда каждая проталина, распускающиеся клейкие листья, первая трава и подснежники в глазах художника утверждали возрождение земли, таинство обновления жизни.
Сколько этюдов и пейзажных композиций было создано тогда Саврасовым? Вряд ли возможно определить это точно. Многие из них безвозвратно утрачены: уничтожены в смуте событий или сокрыты в частных отечественных и зарубежных собраниях. Однако из обширного творческого наследия Алексея Кондратьевича все же сохранилось немало, и время от времени выставки открывают новые жемчужины его искусства — поэтичные образы русского пейзажа.
То время было далеко не простым для России, нарастали противоречивые процессы в политической, общественной жизни страны. Кончилась Крымская война, в которой Россия потерпела поражение, силы страны были значительно истощены. Эпоха царствования сына Николая I — императора Александра II — только начиналась. Характеризуя внешнюю политику России начала правления Александра II, М. Н. Покровский отмечал: «После того, как грандиозное предприятие императора Николая претерпело полное крушение, и Россия из единоличной вершительницы судеб Оттоманской империи — такова, как мы знаем, была иллюзия этого государя — превратилась в одну из наименее влиятельных на Балканском полуострове держав, ей нужны были союзники для того, чтобы удержать за собой хоть какую-нибудь долю влияния»[71]. Именно тогда, в первые годы правления нового императора, уже подготавливались реформы, проводимые в стране в следующие десятилетия, уже ясно проявился общий характер царствования императора Александра Николаевича. Столь значимые исторические события не могли не отразиться в художественной жизни страны, в том числе в искусстве.
Немалые изменения происходили в сфере отечественной культуры в целом. Заключения диссертации Н. Г. Чернышевского «Эстетическое отношение искусства к действительности» вполне приложимы к художественной ситуации России тех лет, к общественной, мировоззренческой позиции многих ведущих живописцев: «…В определенной идее действительно осуществляется до некоторой степени общая идея, а определенная идея осуществляется до некоторой степени в отдельном предмете. Этот скрывающий под собою истину призрак проявления идеи вполне в отдельном существе есть прекрасное (das Schöne). Область искусства не ограничивается областью прекрасного в эстетическом смысле слова… Часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни»[72]. «Объяснение жизни» — лаконичное словосочетание точно характеризует смысловую, идейную направленность реализма, творчества художников реалистической направленности, в том числе и Саврасова, с точки зрения передачи жизненной правды в жанре пейзажа.
Но пока, в 1850-х годах, молодой художник, со свойственной ему требовательностью к себе, по-прежнему был сосредоточен на пейзажном искусстве, продолжал трудиться, постигая новые вершины мастерства. Иногда, работая над натурными этюдами, продолжая свои мысленные рассуждения, он высказывал что-то вслух, как, например, однажды: «Воздух! Вот что главное. Без воздуха нет пейзажа». Так из скупых замечаний, сохраненных его друзьями и учениками, рождалась концепция его искусства, постепенно складывалась система преподавания.
В 1855–1856 годах размеренно и светло протекала его жизнь. Часто на этюды и зарисовки вместе с ним отправлялся Константин Герц. Именно Константин уговорил Алексея навестить своих сестер Софью и Эрнестину на даче, которую они снимали под Кунцевом. Эрнестина, со свойственными ей серьезностью и сдержанностью, во время одной из встреч рассказала художнику о происхождении их семьи. Высоко подняв голову, очень прямо, несколько напряженно сидя на краешке изящного стула, она негромко и с достоинством говорила гостю: «Наши предки были родом из Швеции и выселились в Восточную Пруссию. Отец наш родился в Познани и вместе со своим братом Фридрихом переселился в Россию… Здесь им посчастливилось, поэтому мы имеем свой собственный дом в Москве, в приходе Гавриила Архангела, у Меншиковой башни, на Мясницкой»[73].
Эрнестина также рассказала Алексею, что их мать хорошо рисует и в их доме даже представлена исполненная ею миниатюра. Об отце молодая женщина сказала: «Он — очень добрый и великодушный человек, любящий искусства и древности и умеющий ценить их. Отец наш, прожив 40 лет в России, не выучился хорошо говорить по-русски и сохранил свои иностранные обычаи. У него был пильный завод для красного дерева». Также она заметила, что ее брат Карл очень похож характером на отца.
Видя интерес и внимание собеседника, Эрнестина, несколько оживившись, с воодушевлением продолжала: «Наш дедушка, отец моей матери, был известный архитектор Даниил Федорович Гиерт, построивший в Лефортово Первый кадетский корпус и там же в окрестности мост, который невозможно было разрушить, когда его вздумали исправлять в недавнее время… Гиерт был одним из техников, поднимавших на Ивановскую колокольню большой Царь-Колокол после пожара и падения его. Вообще все члены нашего семейства — антиквары и любят искусство»[74].
Алексей прекрасно помнил их каменный дом с двумя флигелями, выходящими на улицу. Московские старожилы говорили, что когда-то этот особняк принадлежал то ли Меншикову, то ли Остерману. Здание горделиво возвышалось среди обширного двора и сада, в котором раскинулся огромный вяз. Эрнестина также рассказала Саврасову, что в ветвях этого вяза в 1812 году спасался от французов их дядя Федор Иванович Герц.
Дом, в котором жили Герцы, не сохранился до наших дней. На его месте ныне возвышается здание, возведенное в 1907 году (по другим сведениям — в 1913-м) по проекту знаменитого московского архитектора, мастера предреволюционной неоклассики, Б. М. Великовского, известное как «доходный дом А. Я. Меркеля». С конца XVIII века эта территория представляла собой единую усадьбу и принадлежала представителям военного служилого дворянства. В разное время в ней проживали Глебовы, Измайловы, Наумовы, Щепотьевы, Остергрен, а также Герц, Гиерт, Ахенбах. Позднее здесь размещалось правление Московского торгового банка. После того как владение перешло Роберту Борхарту, в 1910 году оно было разделено на четыре части, и в каждой из них в 1911–1913 годах построены многоквартирные дома.
Уклад жизни семьи Герц вполне соответствовал кругу обеспеченных интеллигентных семей, близких к знати. Все четверо детей получили хорошее образование, однако в научной сфере среди них отличился именно Карл, речь о котором зашла и в разговоре между Алексеем Саврасовым и Эрнестиной Герц, которая рассказывала о брате, которого очень рано отдали во французский аристократический пансион г-на Гораса Гэ (Horace Gay). Потом он перешел в Практическую коммерческую академию, которая тогда была на Солянке. Он всегда отличался необыкновенным прилежанием и памятью. Однажды прочел им самим переведенную речь перед публикой и тогдашним генерал-губернатором князем Голицыным. Он уже в детстве любил книги, выписывал «Живописное обозрение» и составлял себе библиотеку.
Алексей узнал, что по выходе из Практической академии Карл Герц пожелал продолжать свое ученое образование, поступил в 1840 году на историко-филологическое отделение философского факультета Московского университета, где тогда преподавали Т. Н. Грановский, друг Н. П. Огарева и А. И. Герцена, и Д. Л. Крюков. Почти в то же время университет посещали Ф. И. Буслаев, М. С. Соловьев, П. М. Леонтьев, граф А. С. Уваров. После окончания университета со званием кандидата Карл Карлович был приглашен в качестве домашнего учителя в семью графа В. А. Мусина-Пушкина в Финляндию и уехал в Гельсингфорс (современный Хельсинки. — Е. С.). Общался там с местной профессурой, например с профессором Нордстроеном, автором известной «Истории скандинавского права».
Вскоре Карл Герц стал воспитателем в доме Салтыковых в Петербурге, получил место наставника пятнадцатилетнего племянника графа Строганова — князя Н. И. Салтыкова. Его преподавание и общение с юным князем Николаем оказалось настолько успешным, что его мать, княгиня Салтыкова, назначила Герцу высокую пожизненную пенсию. Карлу тогда исполнилось только 29 лет. Вскоре он получил новое лестное предложение — стать воспитателем двоюродного брата князя П. П. Демидова (впоследствии князя Сан-Донато). Однако Карл Карлович отказался от нового места, приняв решение уехать за границу. Эта поездка дала ему ни с чем не сравнимые художественные впечатления и научные знания. Свои письма матери он тогда часто подписывал, лаконично выражая свое настроение — «Ваш счастливый сын К. Г.». Возвратившись из-за границы и поселившись в Москве в 1856 году, он «собрал всех близких и родных вокруг себя, трудился для них…»[75].
Карл Герц сразу же расположил к себе Алексея Саврасова сдержанностью манер и своим внешним обликом. Их общение будет продолжаться не одно десятилетие, и, несмотря на все жизненные перипетии, они смогут сохранить взаимную симпатию и уважение. Карл пять лет жил в Германии и Италии, изучая произведения искусства, памятники архитектуры, словно следуя традициям пенсионерских поездок Императорской Академии художеств. Его политические взгляды оставались умеренными, вопреки новым веяниям времени, и потому Белинского, например, Герц называл «страшным радикалом»[76].
Карл Карлович, с юных лет поражающий друзей глубиной знаний по истории искусства и археологии, стал впоследствии даровитым ученым и замечательным педагогом, доцентом Московского университета. Алексей заслушивался его рассказами о художниках, суждениями о культуре различных стран и эпох. Такие импровизированные лекции могли продолжаться часами. И через десятилетия они все так же общались, и Алексей Кондратьевич нередко приезжал к другу, который жил в Трехпрудном переулке, неподалеку от Тверской улицы, за Глазной больницей. Он любил находиться в его тихих комнатах, обстановка которых напоминала ему интерьеры особняка близ Меншиковой башни и его первые посещения этого гостеприимного дома. Привлекала Саврасова библиотека ученого. «Кто знал Карла Карловича, тот с удовольствием мог заметить, что сокровища его богатой библиотеки были всегда открыты для каждого и что он находил истинное удовольствие знакомить с ними всех желающих. У себя в доме он был гостеприимным, радушным хозяином… С каким восторгом говорил он… о новых раскопках в Олимпии и Танагре и в особенности о блестящих открытиях Шлимана, демонстрируя при этом богатую коллекцию своих фотографий и рисунков»[77].
Алексея Саврасова всегда интересовали научные исследования Карла Герца, темы которых подтверждают широту интересов этого человека. Среди его монографий — «О состоянии живописи в Северной Европе от Карла Великого до начала Романской эпохи»[78], «Исторический обзор археологических исследований и открытий на Таманском полуострове с конца XVIII столетия до 1859 года»[79]. Он писал вдохновенные, емкие статьи о титанах итальянского Ренессанса, как, например, «Происхождение рафаэлевских картонов, принадлежащих А. Д. Лухманову». В труде «Леонардо да Винчи»[80] ученый исследовал биографические факты, указывал на дискуссионность атрибуций ряда произведений прославленного автора, писал об утрате некоторых его центральных произведений[81]. В вводной части подробного и глубокого исследования жизни и творчества Леонардо, опубликованного в журнале «Атеней»[82], Карл Герц замечал: «В истории искусства, может быть, нет задачи более трудной и требующей более многосторонних сведений, как изложение жизни и оценка произведений великих художников. Эта задача становится еще труднее, когда гений, составляющий предмет изложения, вращается творчески не в одной какой-либо области, но обнимает все сферы искусства…»[83] Его высказывание, характеризующее Леонардо да Винчи, отчасти приложимо и к творческому пути его друга и родственника Алексея Саврасова, человека другой эпохи, другого масштаба деятельности, но, бесспорно, талантливого и многогранного.
Сестра Карла Карловича, Эрнестина Герц, спустя несколько десятилетий, в 1890 году, записала свои воспоминания об ушедшем из жизни брате, составленные подробно, обстоятельно, названные ею «Материалы для биографии Карла Карловича Герца, Императорского московского университета заслуженного ординарного профессора по кафедре классической археологии». Свои записи она начала так: «Карл Карлович не оставил, к сожалению, дневника, хотя его переписка заменяет этот недостаток в эпоху его пребывания за границей. В моих воспоминаниях мне не удалось воссоздать ясный образ моего покойного брата, но я буду счастлива, если этот дневник послужит верною путеводною нитью для его будущего биографа…»[84]
Эрнестина сообщала, что всю сохранившуюся переписку брата, как и научные рукописи, передала Государственному историческому музею, а также писала о том, что Карл Герц во время заграничной поездки слушал лекции и общался с учеными Берлина, Парижа, а вернувшись в Москву в 1856 году при содействии профессоров Леонтьева, Соловьева и Буслаева, в должности доцента Московского университета читал курс лекций по классической археологии и истории искусств, что привело к основанию первой кафедры археологии в Москве.
Очевидно, что в своих научных изысканиях Карл Герц был не менее воодушевлен и целеустремлен, чем Алексей Саврасов. В 1859 году Карл и Константин Герцы решили предпринять «археологическое» путешествие на юг — по Украине и землям Екатеринослава. Братья ехали на лошадях, в тарантасе, взяв с собой повара и погребец с посудой. Причиной такого предприятия стало поручение Карлу Карловичу Императорской археологической комиссией произвести раскопки на Таманском полуострове, тогда еще мало исследованном. В результате изучения греко-босфорских древностей К. К. Герц написал «Исторический обзор археологических исследований и открытий на Таманском полуострове» и «Археологическую топографию Таманского полуострова». Эти труды были представлены им в Московском университете на соискание научной степени доктора археологии.
Благодаря масштабному путешествию братья получили немало эстетических впечатлений. Карл Герц, например, сообщал сестре: «В письме моем из Харькова я писал тебе, что мы приехали благополучно в этот город… Харьков выстроен очень красиво: здания лучше, нежели в каких-либо из провинциальных, виданных нами городов, и при том сильная торговая деятельность. Здание Университета довольно красиво и импозантно. Самое положение города живописно, хотя говорят, что в этом отношении Киев красивее… В Екатеринославе мы застали в день свв. Петра и Павла ярмарку… При въезде в Таврическую губернию степь получает другой характер: трава вся выгорела, горизонт гораздо обширнее, и жители совершенно иные. Тут живут и кочуют уж ногайские татары…»[85] Эти впечатления, пожалуй, еще важнее были для пейзажиста Константина Герца. Его не могли не заинтересовать особенности местной природы: линий ландшафта, колорита, непривычных для северной и средней полосы России растений. Оба брата особенно восхищались видами Харьковской губернии.
Эрнестина Герц в своих воспоминаниях о брате не без оснований писала: «Его огромная эрудиция и его археологические труды доставили ему известность в ученом мире; он состоял почетным и действительным членом многих ученых обществ в Европе. В Университете он служил 28 лет. Всю жизнь составлял свою библиотеку, в которой особенно обширна была историческая часть…» После его смерти это собрание книг было приобретено Историческим музеем. Там же находится его портрет, изображающий ученого в 1860-е годы — «в лучшую пору его деятельности»[86]. Среди студентов Карл Карлович был известен, на его лекциях, хотя и факультативных сначала, всегда было много слушателей. Среди выдающихся учеников К. К. Герца следует назвать Н. П. Кондакова — историка византийского и древнерусского искусства, археолога, создателя иконографического метода изучения памятников искусства, академика Петербургской академии наук и Императорской Академии художеств, А. А. Котляревского — слависта, археолога и этнографа, члена-корреспондента Санкт-Петербургской академии наук, В. И. Сизова — археолога, ученого секретаря Исторического музея[87].
Карл Герц заинтересовал Саврасова и своими археологическими познаниями. В то время археология считалась занятием богачей, поскольку изучение древностей не приносило никаких материальных выгод, являлось роскошью. Карл Герц, к 1850-м годам общавшийся со многими крупными учеными Европы, изучал с равной увлеченностью и историю искусств, и археологию, что нашло отражение в ряде его публикаций конца 1850-х. Среди них — «Об основании Художественного музея в Москве», «История искусства в 1858 году в Германии», «Классическая археология», «История византийских эмалей»[88].
Но особенно дорого Алексею Саврасову стало общение с Софьей Герц. Первая встреча Алексея Саврасова с Софи, как ее называли в домашнем кругу, произошла несколько ранее, когда Константин впервые пригласил его в гости. Тогда Алексея Саврасова поразило богатое убранство особняка, где жила семья антикваров и коллекционеров. Софья Герц, приветливо разговаривая с ним, показывала комнаты, диковинную антикварную мебель, картины. Молодому художнику особенно запомнилась большая зала, стены которой украшало множество старинных гравюр, многие из них были посвящены событиям войны с Наполеоном 1812 года. В других комнатах его внимание привлекли портреты, написанные масляными красками, среди которых Софи с гордостью выделила портрет кисти самого Ван Дейка. В Училище живописи Алексею доводилось видеть лишь копии с оригиналов этого знаменитого портретиста, работавшего во Фландрии и Англии.
Мебель в интерьерах особняка была достойна музейных собраний, как, например, огромный шкаф из желтого папортового дерева, с зеркалами наверху. Только позднее Алексей узнал, что папортовое — это дерево черного тополя или осокоря, наросты на котором называют также папорть или папороть[89]. Раскрываясь, этот чудо-шкаф превращался в элегантный маленький салон, где могли поместиться столик и пара стульев. Привлекал внимание массивный стол, также папортового дерева, ножки которого заменяли крылатые сфинксы, окрашенные и отполированные под темную бронзу. По изяществу и богатству декора ему не уступали столы, кресла и стулья, выложенные перламутром, а также мебель для спальни зеленого дерева, декорированная позолотой[90].
Но главным украшением изысканных комнат Алексею казалась сама Софи. Она исполняла произведения Моцарта за роялем, и ее голос, казалось Алексею, звучал именно для него, так же светло, как музыка. Он был взволнован и рад новой встрече. Его поразила эта сдержанная миловидная девушка. Даже его обычная скованность куда-то почти исчезла, он оживленно и много говорил, рассуждал об искусстве, а Софья, мило улыбаясь, соглашалась с ним. Через несколько лет она станет его супругой.
Теофиль Готье красочно и подробно описывал традиции подобных семейств в 1850-е годы: «Разговор постоянно поддерживался на французском языке, особенно если в доме есть гость-иностранец. В определенной среде все очень легко говорят на нашем языке, вставляя в свою речь словечки современного разговорного языка, модные выражения, как если бы они его изучали на Итальянском бульваре. Здесь поняли бы даже французский Дювера и Лозанна, такой специфический, такой глубоко парижский, что многие наши провинциалы понимают его с трудом…
Манеры… — вежливые, спокойные, совершенно городские. Я удивился, что здесь были в курсе всех мельчайших подробностей нашей литературной жизни…
Женщины очень развиты. С легкостью… читают и говорят на разных языках. Многие читали в подлиннике Байрона, Гёте, Гейне, и, если их знакомят с писателем, они умеют удачно выбранной цитатой показать, что читали его произведения и помнят об этом. Что касается туалетов, то русские женщины очень элегантны и еще большие модницы, чем сама мода»[91].
В молодые годы Алексей Саврасов с семьей Герц общался особенно часто, но встречи с друзьями составляли все же лишь краткие паузы в жизни художника, а главным содержанием неизменно оставалось творчество. В 1855 году им была исполнена композиция «Дубы», с одной стороны, полностью соответствующая традициям отечественной пейзажной живописи, с другой — уже вполне индивидуальная, характерная по своему построению и идейному звучанию именно для Саврасова. Старые могучие дубы словно господствуют над всем вокруг на его полотне. Трактовка вековых деревьев убедительна, исполнена неравнодушно. Через точно найденные цветовые сочетания Саврасов передал фактуру коры и изменчивый свет, очерчивающий силуэты деревьев.
В целом этот пейзаж собирателен: решение дальнего плана с вьющейся речкой и туманными голубоватыми далями — удачно сочиненные автором детали. Композиционный ритм дополняют темные акценты листвы, легкий, тонкий рисунок ветвей, что обращает зрителя ко многим хорошо знакомым мотивам. Это обращение — жизнеутверждающее, напоенное летним теплом, расцветом природы, радостью молодости, приближение которых передано в ясности неба, в цвете ветвей, в буйности сочной травы, в интенсивности света. При жизненности решения, при ясно переданном настроении пейзажа, его идейное содержание может быть воспринято несколько по-разному. Это и поэтичный образ России, и могучий, вневременной ее лик, и выражение вечного обновления жизни, радостных мгновений в жизни каждого, мудрости возвращения на круги своя.
Саврасов много работал и на заказ, часто над эффектными пейзажами: подражая Айвазовскому, писал марины, копировал виды Альп — произведения швейцарца Александра Калама. Свидетельством его успешного труда стало регулярное участие в выставках Московского училища, где среди других работ он представил ныне широко известный пейзаж «Вид в селе Кунцево под Москвой», индивидуальный художественный язык которого очевиден при сопоставлениях с пейзажами других авторов, например с произведением А. П. Попова-Московского «Вид в Кунцеве» (1858). Об оценке творчества Саврасова критикой позволяет судить среди прочих отзыв неизвестного автора в «Русском вестнике», опубликованный в 1856 году, неравнодушные и искренние слова, с которыми трудно не согласиться: «Поверьте мне, такое верное чувство природы можно встретить не часто. Не говорю уже о глубоком изучении. Если художник пойдет вперед, все тою же дорогою, мы будем в нем иметь первоклассного пейзажиста». Автор отзыва не ошибся: Алексей Саврасов упорно и самозабвенно шел «все тою же дорогой».
Так начинался новый, не менее важный этап его жизненного пути, впоследствии потребовавший огромных душевных и творческих сил, наполненный падениями и взлетами, славой и забвением, жизненными бурями со светом радости и скорбью потерь. Критики и зрители в дальнейшем контрастно относились к творчеству Саврасова. В адрес его картин звучали отзывы и полные восторга, и явного неприятия. Только со временем стало очевидно, насколько правы одни, предвзяты в своих оценках другие. Его пейзажи все также жизненны и поэтичны, наполнены прозрачным воздухом и ветром весны, грустью опадающей последней осенней листвы и ликованием солнца, тем очарованием природы, которое, преломленное в чуткой душе художника и его творчестве, создает неповторимую музыку картин, близкую и нужную всегда. Во всех перипетиях его жизни неизменным с юношеских лет и до последних дней оставалось одно: безмерное восхищение родной природой — ликом России и преданное служение ей через искусство.
Глава З Саврасов-педагог — искусство и школа мастерства
Молодой академик, уже известный художник Алексей Кондратьевич Саврасов — преподаватель Московского училища живописи и ваяния. Сколько надежд и сомнений, радостей и тревог, взлетов и разочарований будет связано для него с этой деятельностью!
Для молодого пейзажиста было немалой честью и ответственностью вернуться в училище в новом качестве — педагога. Итак, Саврасов вновь на Мясницкой, но уже в ином статусе. Вновь он открывает тяжелую знакомую ему дверь училища, входит в вестибюль, поднимается по привычным ступеням. Он непривычен для самого себя — педагог Саврасов.
Вторая половина 1850-х годов — время перемен в жизни училища. 1857 год явился новым рубежом и в жизни Московского училища живописи и ваяния в целом. Готовилось принятие устава училища, а предвестием тому стали предложения преподавателя Зарянко, который обратился в Совет Московского художественного общества с требованием нововведений практического характера.
В своем «Мнении» от 26 августа 1857 года Зарянко писал: «Устав Училища изучение рисования совершенно отделяет от живописи и первое относит к приготовительному отделению, а последнее к художественному; для изучения рисования назначает три и даже более классов, для изучения живописи один. Вот в чем важный недостаток. Отделение рисования от живописи есть метод неестественный. В природе рисунок и освещение так слиты с иллюминацией, так много от нее зависят, получают от нее такое разнообразие оттенков, столько игры и переливов, что освещение не может быть вполне ни понято, ни выражено без иллюминации и не может быть натуральным… Чтобы исправить такое жалкое положение дела, очевидно, нужно избрать метод более близкий к природе, чем метод, которому следовали доселе»[92].
С данными замечаниями во многом Алексей Саврасов был согласен и, в свою очередь, не раз говорил и писал о необходимости перемен в системе образования, свои взгляды внедрял и на практике, прежде всего обучая юных пейзажистов училища. Кроме того, Саврасов ратовал за более углубленное изучение наук воспитанниками и потому всецело разделял предложения Мокрицкого, о чем рассказывает Рамазанов: «В отношении наук Мокрицкий был требовательней. Он считал первою необходимостью для художника научное образование и указывал на необходимость твердого изучения основных начал искусства»[93].
Алексеем Кондратьевичем в 1858 году был составлен «Ответ преподавателя ландшафтной живописи Академика А. К. Саврасова Господину Профессору Зарянко на рапорт, представленный им в Совет Московского Художественного Общества, касающийся распределения занятий преподавателями и улучшения общего руководства в Училище». Молодой педагог вносил свои предложения, писал довольно выспренно и длинно, в соответствии со стилем своего времени: «Почтенные члены Совета, удостаивая постоянно Училище наше своим благосклонным вниманием и ревностно заботясь о блестящих успехах учеников, конечно вправе требовать и от нас, как от преподавателей, пекущихся о полном развитии будущего поколения возложенной на нас обязанности, но и сочувствия к тем вопросам, которые касаются улучшения методов преподавания в нашем Училище…
Считаю нужным заметить, что Совет, исходатайствовав Высочайшее разрешение о введении в Училище нашем преподавания наук, уже сделал огромный шаг к улучшению будущих успехов учеников наших, как относительно их личного образования, так и в сфере искусства. Будущее преподавание необходимых для художников наук даст им возможность приобретать посредством развития умственных способностей и конечно уже образованного вкуса, личные убеждения, разовьет в них способность понимать общие идеи красоты, и, знакомя молодых людей с теорией и историей изящных искусств, научит прилагать эти познания практически в живописи»[94]. Таким образом, в целом А. Саврасов разделял взгляды С. Зарянко и считал прогрессивными нововведения в системе преподавания. Его заключения актуальны не только для своего времени, но и в наши дни, когда в художественных училищах, институтах, академиях практический курс занятий обязательно дополняет изучение наук — лекции по искусствоведению, истории, философии, эстетике и т. д. Такая система, ставшая ныне классической, основана на опыте западноевропейских академий, Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, Московского училища живописи и ваяния.
Интересно следующее заключение Алексея Саврасова, которое он приводит в том же документе: «…есть три источника, из которых мы извлекаем самое чистое понятие об искусстве: это суть — собственные убеждения каждого образованного художника, общие идеи красоты и, наконец, изучение великих произведений искусства прошлых веков или современного… художника, его века и духа народа, к которому он принадлежит. Итак, введение необходимых для истинного образования каждого художника наук в нашем Училище — лучшая основа для будущих успехов наших учеников. Нельзя не радоваться от всей души столь полезному нововведению, потому что даровитый ученик, получая от хороших художников-преподавателей прочные начала в деле искусства посредством научного образования, будет в состоянии серьезно изучать и понимать свое искусство»[95].
Но в то же время Алексей Кондратьевич не во всем был согласен с выводами Зарянко и, возражая ему, писал: «Что касается до введения двух новых живописных классов, то, уважая вполне мнение Господина Профессора Зарянко… полагаю, что полезно было бы обратить внимание на более глубокое изучение рисунка, который в настоящее время в Училище нашем уступил место изучению живописи. Строгое изучение рисунка есть основной камень живописи»[96]. Данное высказывание созвучно с заключениями корифеев мирового искусства — Микеланджело, Энгра, Брюллова — о значимости рисунка.
Алексей Кондратьевич стремился сохранить те основы художественной школы, которые, по его мнению, были особенно важны, как, например, крепкий рисунок. Ведущие педагоги училища, как и сам Саврасов, придавали грамотности рисунка исключительное значение. Евграф Семенович Сорокин, например, говорил своим ученикам: «Вы все срисовываете, а не рисуете. А Микеланджело рисовал». Константин Коровин характеризовал Саврасова так: «Это единственный рисовальщик-классик, оставшийся в традициях Академии, Брюллова, Бруни, Егорова и других рисовальщиков»[97]. Саврасов, почитавший школу мастерства, традиции, придавал немалое значение сохранению классической системы преподавания, восходящей к эпохе итальянского Возрождения. На занятиях он рассказывал об этом ученикам, открывая для них неведомый, таинственный и столь притягательный мир великого искусства.
Вопрос, который особенно занимал Алексея Саврасова, — это актуальность академических методов обучения. Алексей Саврасов полагал, что в искусстве, как мировом, так и отечественном, а также в индивидуальном творчестве конкретных авторов академизм может играть как положительную, так и отрицательную роль. Академические методы преподавания дают ученикам необходимую школу мастерства, но вместе с тем могут сковывать индивидуальность художника, развитие новых течений национального творчества, реалистичной трактовки действительности, требуя создания усредненных, отдаленных от жизни образов. В творческой практике специфика разных стилей — академизм, классицизм, романтизм — могла преобразовываться, как, например, в отечественном искусстве начала XIX века, во Франции — в живописи Ж.-О.-Д. Энгра и Ж.-Л. Давида. Часто академизм был связан с официальным искусством. Например, в Российской Императорской Академии художеств картины прежде всего оценивались за «благопристойность и приятность живописи» и только потом — «за верность эллинам». Высшими искусствами были объявлены — живопись, скульптура и архитектура, остальные — низшими, недостойными. В живописи истинно благородным и высоким был признан только один жанр — исторической картины на мифологический или библейский сюжет, обязательно с обнаженными или слегка задрапированными фигурами «под антики». Именно Болонская академия и творчество ее корифеев стали образцом для учреждения и системы преподавания многих европейских академий, в том числе и для Академии художеств в Петербурге, на достижения которой, не во всем принимая их, все же неизбежно ориентировалось Московское училище живописи и ваяния.
Алексей Саврасов возвращался к просмотру работ учеников, нередко сам вставал за мольберт и рядом с ними писал пейзажи. Постепенно он привыкал видеть себя в новом качестве: он — академик, глава мастерской, что не могло не льстить ему, но также налагало немалую ответственность, какую именно и какой груз взвалил Алексей Кондратьевич на свои плечи, тогда он еще не представлял в полной мере.
Качественная подготовка художников-профессионалов была затруднена во многом из-за низкого общеобразовательного уровня поступающих. В начале 1858 года, по инициативе А. А. Закревского, председателя Московского художественного общества (МХО), был решен вопрос о введении в училище общеобразовательных предметов. Большую роль в учебном процессе играли учебные пособия, книги, картины, гравюры для копирования, как правило, являвшиеся дарами меценатов. С 1850 года ежегодными стали выставки училища, ранее организовывавшиеся всего раз в три года. Ведущим классом училища являлся натурный, который возглавлял В. Г. Перов, ранее и учитель А. К. Саврасова, теперь же его товарищ и покровитель.
Отныне не только творчество занимало практически все время Алексея Саврасова, но и преподавательская работа. Официально он был определен преподавателем с чином титулярного советника. Ежедневно он стал приходить в класс: подтянутый, строго одетый, как правило, в темном сюртуке. Доброжелательно, спокойно, серьезно общался с учениками, не спеша, вдумчиво оценивал их работы, давал советы. Молодому художнику не составляло сложности найти с ними общий язык, поскольку совсем недавно он сам вышел из этой среды, так же, как они, постоянно трудился в мастерской, выполняя задания Карла Рабуса, а теперь продолжал его систему преподавания, однако все более акцентировал внимание на работе с натуры, написание этюдов. Его девизом как в преподавании, так и в творчестве стали слова Карла Рабуса: «Природа — лучший учитель». И насколько они созвучны высказываниям ведущих художников-реалистов следующих поколений, как, например, напутствию Нестерова: «Самозабвенно работайте и помните, что лучший учитель — жизнь»[98].
Алексею Саврасову, как и его ученикам, порой болезненно приходилось переживать удары мира окружающего, составлявшего разительный контраст возвышенному миру призрачно-реальных художественных образов. Знания и талант, индивидуальность и острота мировосприятия А. К. Саврасова помогали обрести профессионализм его ученикам. Алексей Кондратьевич после пленэрной живописи с учениками продолжал занятия уже в мастерской, где полученные на практике впечатления подтверждал теоретическими занятиями.
Среди завершенных произведений Саврасова конца 1850-х годов известен только пейзаж «Старый дуб у обрыва над рекой» (1857), над которым он работал долго, что объяснимо: в первое время насыщенной педагогической деятельности творчество художника не могло быть таким же активным. Бесспорного внимания заслуживают графические работы, созданные художником в 1850-е — начале 1860-х годов, в которых он развивает все те же дорогие для него мотивы: «Сосны (из Гусарева)», «Берег моря. Сумерки», «Пни», «Пейзаж с мельницей», отличающиеся проработанностью деталей, тонкостью исполнения, вдумчивым, неравнодушным отношением художника к изображаемым мотивам, а также подтверждают профессионализм и творческую индивидуальность их автора. Как справедливо писали исследователи, в его «картинах и рисунках… мы встретим и смелое преодоление этих традиций, и свободное решение возникшего замысла. Правда, современники отмечали в его некоторых ранних работах близость к живописи В. И. Штернберга, молодого художника, умершего в Италии в 1845 г. Не прошло бесследно для саврасовского искусства в тот период и влияние наследия М. И. Лебедева… Но ни в том, ни в другом случае это не носило характера подражания, что особенно ясно проявится в украинских степных пейзажах…»[99].
Преподавание, к которому Саврасов подходил исключительно серьезно, требовало немалой самоотдачи, сил и времени. К тому же Алексей Кондратьевич должен был утверждать свои методы создания реалистического пейзажа, поскольку далеко не все педагоги училища разделяли его точку зрения. Так, Сергей Константинович Зарянко, инспектор Училища живописи и ваяния, требовал от учеников математической точности копирования известных образцов. По его мнению, только так возможно было приблизиться к иллюзорному отображению природы. В воспоминаниях В. Г. Перов уважительно рассказывает о его наставлениях в области живописи, рисунка, анатомии, но иронизирует над методами построения им исторической картины, а о самом Зарянко отзывается как о «самобытном, даже замечательном человеке»[100]. Художники, продолжающие традиции романтизма, а также живописцы реалистического направления — В. Г. Перов, А. К. Саврасов — не могли с ним согласиться. Многие преподаватели не одобрили и намерение С. К. Зарянко: открыть класс «живописи с простых предметов» — класс натюрморта. Не было согласия также между «романтиками» и «реалистами». Если первые считали, что главная задача обучения заключается в постижении строения человека, вершины творения, и развития у студентов изящного вкуса, то вторые провозглашали, что главное в искусстве — это правда жизни.
Разногласия между художниками-педагогами нарастали, и Алексей Саврасов, так неравнодушно относящийся ко всей жизни училища, не мог остаться в стороне от этих споров. Потому на предложение Совета Московского художественного общества к педагогам училища: представить свои докладные записки для составления единой программы обучения — Алексей Кондратьевич откликнулся сразу же. К его мнению уже прислушивались.
Исключительно важным было для Саврасова четко сформулировать свою систему преподавания. Излагая свои педагогические принципы, он исходил из опыта своих наставников, заключал, что исключительно важно личное образование учеников. Об этом говорил еще Рабус, считая, что специальные предметы в училище должны быть дополнены общеобразовательными.
В докладной записке 1857 года Саврасов четко изложил принципы преподавания пейзажной живописи, которые реализовывал в своей дальнейшей работе. Они во многом определили становление и развитие реалистического пейзажа в России второй половины XIX века: «Будущее преподавание необходимых для художников наук даст им возможность приобретать посредством развития умственных способностей и, конечно, уже образованного вкуса, личные убеждения, разовьет в них способность понимать общие идеи красоты и, знакомя молодых людей с теориею и историею изящных искусств, научит прилагать эти познания практически в живописи»[101].
Со временем, во многом под влиянием нововведений А. К. Саврасова, в училище несколько уменьшилось значение копирования в пейзажной живописи, однако оно оставалось необходимой частью обучения, позволяющей ученикам понять технику и технологию создания произведений, особенности манеры того или иного художника. Насколько эффективными оказались методы А. К. Саврасова для своего времени, ясно подтверждает работа его класса, выпускники которого стали известными художниками: Л. Л. Каменев, К. А. Коровин, С. А. Коровин, И. И. Левитан, С. И. Светославский и многие другие, каждый из которых, отличаясь яркой индивидуальностью, оставался продолжателем традиций реалистического искусства. Из окон одной из мастерских училища С. И. Светославский написал известный и ныне пейзаж «Из окна Московского училища живописи», изобразив обычный и вместе с тем выразительный вид столицы. Именно по улицам такой Москвы спешил к своим студентам Алексей Кондратьевич, чтобы поделиться с ними такими важными для пейзажистов вестями, как, например: «Фиалки расцвели в Сокольниках». В ответ на его слова студенты с радостными возгласами, с ящиками для красок и картонками в руках спешили в Сокольники.
Его методы останутся почти неизменными и в XX столетии, и в наши дни, поскольку для пейзажистов реалистической школы искусство А. К. Саврасова по-прежнему является образцом, а его методы — основой работы. Саврасов писал: «В последнее время ландшафтная живопись, сделавшись предметом серьезного изучения художников новейших школ, достигла высокого развития. Я, как преподаватель ее, должен заметить, что относительно занятий моих учеников, нашел необходимым иметь отдельное помещение для ландшафтного класса, где ученики по сделанным этюдам с натуры могут исполнять картины под моим руководством и изучать рисунок и живопись, копируя с оригиналов лучших художников. Работая сам при учениках, я смогу постоянно следить за их работами и в то же время даю им возможность видеть ход моих собственных работ»[102]. Проводя занятия в училище, Алексей Кондратьевич четко выделил три основных положения, системообразующих в методике преподавания пейзажной живописи: первое и важнейшее — работа с натуры; второе — копирование оригиналов и третье — совместная работа педагога и учеников, их творческое общение и взаимовлияние.
1857 год — это и время перемен в личной жизни 27-летнего Алексея Саврасова. В то время художник жил в доме князя Шаховского, в приходе старинной церкви Трех Святителей у Красных Ворот. Она была известна в Москве, например, тем, что 11 октября 1814 года здесь крестили новорожденного Михаила Лермонтова, родившегося в доме напротив. В сентябре 1857 года здесь же состоялось венчание Алексея Кондратьевича Саврасова с Софьей Карловной Герц.
Софья с первых встреч привлекла внимание молодого художника, постепенно симпатия между ними возрастала. В 1857 году ей исполнилось 30 лет. Лютеранское вероисповедание не помешало молодой женщине стать супругой православного художника. К искусству она не имела прямого отношения, по образованию была домашней учительницей, но внимательно относилась к занятиям живописью мужа. Их свадьба не отличалась пышностью и многолюдством, но все же привлекла к себе внимание. Изящный белоснежный наряд невесты контрастировал со строгим темного тона сюртуком Алексея Саврасова, с его внушительным видом, который производили высокая фигура, красивое серьезное лицо в обрамлении бороды. Отец художника Кондратий Артемьевич присутствовал на свадьбе и не мог не радоваться за сына, который с каждым годом достигал все новых и новых успехов, свершений и в искусстве, и в личной жизни. Казалось бы, размеренно и светло должны протекать дни новобрачных, пока ничто не предвещало иных событий…
Женитьба почти не изменила распорядок дня пейзажиста: он все так же целеустремленно работал, нарастала и его заслуженная известность. В 1858 году состоялось знакомство Алексея Кондратьевича с П. М. Третьяковым. Пейзаж Саврасова «Вид в окрестностях Ораниенбаума» был приобретен Павлом Михайловичем. Меценат смог безошибочно определить исключительное дарование молодого пейзажиста, как и многих других мастеров русской живописи: В. И. Сурикова, И. Н. Крамского, И. Е. Репина, B. М. Васнецова, М. В. Нестерова. В наши дни об общении коллекционера и художника напоминают многочисленные, проникновенно написанные картины А. К. Саврасова в собрании Третьяковской галереи, и за каждым из таких пейзажей раскрываются страницы жизни художника, радостные и горестные события.
Первое мимолетное общение стало началом их многолетней дружбы. Павел Михайлович принадлежал к тем истинным ценителям искусства и меценатам, которые в Первопрестольной тогда были редкостью, которые, наверное, — всегда редкостны, независимо от стран, эпох и обстоятельств. По словам В. А. Гиляровского, «настоящих любителей, которые приняли бы участие в судьбе молодых художников, было в старой Москве мало. Они ограничивались самое большое покупкой картин для своих галерей и „галдарей“, выторговывая каждый грош. Настоящим меценатом, кроме П. М. Третьякова и К. Т. Солдатенкова, был C. И. Мамонтов… Беднота, гордая и неудачливая, иногда с презрением относилась к меценатам»[103].
Отныне пейзажист часто бывал в двухэтажном доме семьи Третьяковых в Толмачах. Павел Михайлович приобретал произведения Саврасова, поддерживал в период жизненных невзгод, когда он очень нуждался. Уже при первых встречах с Третьяковым на Алексея Кондратьевича произвела неизгладимое впечатление не только личность молодого собирателя, но и его дом, подобный музею, вместивший в себя исключительно яркое, бесконечно интересное, особенно для художника, собрание современной живописи. В кабинете Павла Михайловича изумленные посетители могли видеть картины Н. Г. Шильдера, В. Г. Худякова, И. П. Трутнева, первыми появившиеся в коллекции. Со временем собрание Третьякова дополнил целый ряд произведений Саврасова, над многими из которых он работал в мастерской училища на Мясницкой. Показывая свои этюды коллегам, он однажды сказал: «Воздух! Вот что главное. Без воздуха нет пейзажа», — и в его словах уже были ясно выражены те задачи, которые он перед собою ставил, те качества его работ, которые особенно ценил Павел Михайлович.
Насколько целеустремленно, вдохновенно работал молодой живописец, свидетельствует множество первоклассных работ, им создаваемых. В 1859 году им был написан тщательно проработанный и вместе с тем легкий, светлый по звучанию «Пейзаж с рекой и рыбаком», свойственный именно Саврасову, но и близкий работам его предшественников и современников: Г. В. Сороки, братьев Чернецовых, И. И. Шишкина.
Алексей Кондратьевич активно участвовал и в делах Московского общества любителей художеств (МОЛХ)[104]. Он, вместе с братьями С. М. и П. М. Третьяковыми, Д. П. Боткиным, К. Т. Солдатенковым, В. Г. Перовым, П. М. Шмельковым, В. Е. Маковским, являлся членом комитета МОЛХа, который смог добиться организации постоянных выставок произведений и современных авторов, и художников прошедших столетий.
Как происходили выборы в члены комитета, каков был стиль общения между художниками МОЛХа? Об этом дает представление среди прочих документов коллективное письмо членов Общества его главе. Оно гласит:
«Председателю Комитета Общества Любителей Художеств Николаю Васильевичу Исакову.
В годичное собрание 4-го февраля 1862 года: в котором были баллотированы: председатель, члены Комитета Любителей Художеств. Следуя параграфу 25-му; мы общей подачей голосов избрали Вас Милостливый Государь в председатели на деятельное сочувствие нашему обществу. Между прочим, мы не были так предупреждены к выбору вообще остальных членов Комитета, ибо мы знали, что по жребию должны выбыть из числа членов Комитета двое любителей и один художник. Но в настоящее время неожиданно выбыли художники Г. Шмельков и Г. Пукирев, которые были выбраны при открытии нашего общества и как доброжелательные деятели оправдали нашу доверенность и были бы полезными в настоящее время…»
Далее в письме идет речь о результатах состоявшихся выборов: «Мы имеем в Комитете двух пейзажистов и одного жанриста; один из них жанрист В. Перов по назначению Академии уезжает за границу; но как историческая живопись требует серьезного внимания и осмотрительности не одного и двух членов Комитета, со всею добросовестностью и полным знанием…»[105]
Содержание и стиль изложения другого письма членов Общества любителей художеств, подписанного также и А. К. Саврасовым, более резок. Название обращения говорит само за себя — «Коллективное заявление в Московское общество любителей художеств о взыскании Андрееву Александру Николаевичу за нетактичное поведение». В послании рассказывается о буднях и заботах Комитета Общества, на редкие заседания которого, по словам Перова, как правило, не являлась и одна десятая часть его членов: «Во время заседания Комитета, 22-го марта, член нашего Общества Александр Николаевич Андреев, оспаривая законность на счет лиц, участвовавших в этой баллотировке, что „многие были приведены с улицы“. Эти слова не могли касаться любителей, заплативших деньги за право быть членами, а относились к художникам, не успевшим еще представить на право членов свои работы. Такой отзыв незаслуженно обидный по тону и смыслу вынуждает нас обратиться в Комитет с покорнейшей просьбою: поставить Г-ну Андрееву на вид всю неприличность подобных выражений, согласно 23-го параграфа V Главы Высочайше утвержденного Устава Общества. Март 1862»[106]. Учитывая характер и склад мышления Саврасова, можно предположить, что ему не доставляло удовольствия участие в составлении подобных бумаг. Скорее он тяготился этим, но все же со свойственной ему ответственностью принимал участие в делах объединения.
В 1858 году из Италии в Петербург Александр Андреевич Иванов привез свою знаменитую картину «Явление Христа народу». Чуть ранее М. И. Скотти писал об этом Н. А. Рамазанову: «А. А. Иванов наконец уезжает из Рима со своей картиной, фотография с картины уже продается на Condotti, ты ее увидишь скоро в Москве, как и самую картину в Питере. Напиши мне, как она там показалась и каковы будут толки»[107]. В Северной Пальмире ее встретили неоднозначно, что вызвало немалые переживания автора. Многие официальные лица дали очень сдержанные отзывы, не одобрив реалистической трактовки евангельского сюжета. Однако по всей России интерес к полотну все более нарастал. Исключительно масштабное по своей сути, во многом новаторское по исполнению, оно не могло не вызывать как горячих откликов современников, так и противоречивых оценок.
Еще при жизни Александра Андреевича известно множество контрастных отзывов о его монументальном произведении. Сам автор в 1840 году писал об этом своему отцу, живописцу и педагогу Императорской Академии художеств Андрею Ивановичу Иванову: «Вы спрашиваете, какого мнения об моей картине Бруни — как же это я могу сказать? Мнение соперника никогда не принимается. Овербек моей картиной доволен, кроме некоторых фигур…»[108]
В отчете Общества поощрения художников за тот же год дано заключение, оказавшееся весьма объективным и провидческим: «Бывший пенсионер Общества академик Александр Иванов, в продолжение девяти лет пользовавшийся содержанием от Общества, употребил время пребывания в Италии к блестящему развитию своего таланта по части исторической живописи. Картина большого размера „Явление Мессии“, которою ныне занимается г. Иванов, по свидетельству просвещенных очевидцев, есть произведение, которое, судя по началу, будет изящным и важным произведением в сокровищницу искусств»[109].
Однако в адрес грандиозного творения Иванова звучали и гораздо менее лестные отзывы. К. А. Ухтомский, например, высказался следующим образом: «Скажу одно, что есть куски великолепные, мастерские, но общее не полюбилось мне; тон картины тот же, что у Моллера, овербековский, перемен много с 1843 года… Профанам — не художникам картина не нравится»[110]. Не только профаны, но и знатоки искусства давали полотну порой не самые высокие оценки. И. С. Тургенев писал о разрозненности частей композиции, о несовершенстве полотна Иванова, относящегося к переходному времени. Упомянутые мнения свидетельствуют, насколько много новаторского, сложного для восприятия содержала в себе монументальная композиция как с точки зрения решения художественной формы и пространства, так и с точки зрения их смысловой наполненности. К счастью, многие критики смогли по достоинству оценить новаторство художника. Неравнодушные, подробные статьи посвятили полотну москвичи А. Н. Мокрицкий и А. С. Хомяков. Каждый из них, при всей индивидуальности языка и заключений, характеризовал «Явление Христа народу» как уникальное, выдающееся произведение искусства.
Хомяков делал акцент на идейном звучании, художественном умозрении, воплощавшем определенные религиозные идеалы, ортодоксальные постулаты христианской веры. Мокрицкий подчеркивал гармонию художественной формы и содержания, писал о единстве «истинного» и «прекрасного», о точной передаче натуры и вместе с тем ее интерпретации, согласно религиозно-философскому, эстетико-этическому замыслу композиции, отображающей «высшее настроение духа». Его суждения подтверждены заключениями авторов наших дней. «Не гением компромисса во внешних приметах и формах, а гением синтеза классики с открытиями романтической эпохи выступает в русском искусстве Александр Иванов. Он стремился отыскать те моменты, где антитеза „классицизм — романтизм“ начала века могла бы быть снята в новой, объемлющей противоречия форме художественного единства, где они не отрицают и дискредитируют друг друга, а вступают в диалог»[111].
В Московском училище живописи данная статья педагога Мокрицкого была оценена как наставление воспитанникам, как подобие учебного пособия, издана отдельной брошюрой и послужила весомым аргументом в полемике с Зарянко относительно его педагогических методов. Автор ратовал за возрождение высоких жанров, масштабных, несколько идеализированных по трактовке исторических полотен, за превалирование академических канонов, при которых первостепенное значение уделяется рисунку, линейной пластике, ритму фигур, а колористические сочетания играют второстепенную роль.
Несомненно, что А. К. Саврасов исключительно высоко ценил шедевр А. А. Иванова, ставил его в пример своим ученикам. Один из них, Исаак Левитан, годы спустя и сам став педагогом, говорил ученикам, как некогда Саврасов: «Вспомните, как работал Александр Иванов над своим „Христом“, как он, чтобы написать его, „попутно“ открыл тайну пленэра раньше французов»[112].
В 1860 году, уже после смерти Александра Андреевича Иванова, Московское общество любителей художеств решило показать «Мессию» в Москве, на что было дано высочайшее соизволение императора Александра II (Александр II приобрел картину сразу после смерти А. И. Иванова). В 1861 году, во многом благодаря инициативе и посредничеству члена-любителя Общества Н. В. Исакова, было решено, что полотно могло экспонироваться в древней столице в течение трех месяцев, в интерьерах утонченно-величественного памятника классицизма, созданного В. И. Баженовым, — в доме Пашкова. Здесь размещалась Публичная библиотека МОЛХа, несколько залов предназначались для выставок, а вскоре в это же здание был переведен из Петербурга Румянцевский музей. Еще год спустя император даровал масштабное произведение этому музею.
И вновь разгорелись жаркие споры, в том числе между такими корифеями отечественного искусства, как А. Н. Бенуа и В. М. Васнецов. Александр Бенуа, ценя творчество Иванова, не признавал полностью удачной его картину, считая, что «она лишена объединяющей цельности, что она замучена, засушена, наконец, что Иванов, несмотря на все свои усилия, не сумел вложить в нее ту жизненность, которой он главным образом задавался… Имеется известное противоречие между Ивановым, сочинившим свои вдохновенные эскизы, и тем „пенсионером академии“, который затеял „Явление Христа“ и в течение нескольких лет мучился над ним, этим исполинским холстом»[113]. Виктор Васнецов, напротив, восхищавшийся произведением Александра Иванова, доказывал и отстаивал иную точку зрения — творческую удачу художника.
В январе 1861 года император разрешил привезти полотно в Первопрестольную, и именно Саврасов, член комитета МОЛХа, получил это ответственное поручение. Такой выбор, несомненно, был далеко не случаен. Сказались и известность молодого художника, и внимание к его творчеству великой княгини Марии Николаевны, и то, что А. К. Саврасов являлся учеником К. И. Рабуса, который состоял в переписке с А. А. Ивановым и ставил своим студентам в пример его творчество. Кроме того, его друг и родственник Саврасова Карл Карлович Герц был избран секретарем Общества любителей художеств, которое курировало ответственное мероприятие, и, несомненно, поддержал его кандидатуру.
Алексею Кондратьевичу направили официальное письмо, за подписью председателя и секретаря Общества, которое должно было способствовать выполнению ответственного поручения. В этой бумаге говорилось: «Комитет Общества Любителей Художеств, возложив на члена Комитета Академика А. К. Саврасова поручение перевезти по Высочайшему соизволению из С. Петербурга в Москву картину А. А. Иванова: Явление Христа народу, покорнейше просит всех начальствующих лиц оказать ему покровительство и всевозможное содействие при исполнении этого поручения»[114].
Алексей Саврасов с энтузиазмом принялся за дело. Он писал Карлу Герцу о своем посещении вице-президента академии князя Г. Г. Гагарина, которому художник передал официальное письмо, и тот доброжелательно отнесся к Московскому обществу. Встречался Саврасов и с реставратором Соколовым, которому было поручено упаковать полотно Иванова, раму и подрамник.
Это поручение Алексей Кондратьевич оценивал как высокую честь для себя — он должен был представить Москве выдающееся произведение, вызвавшее горячие споры и противоречивые оценки. В феврале 1861 года художник вновь приехал в Петербург в связи с предстоящей транспортировкой картины.
Новая встреча с величественным северным городом оказалась для него не менее запоминающейся, чем первое знакомство. Миновав толчею вокзала, пройдя по Невскому проспекту, он вышел к Неве и, окинув взглядом ее простор, отчасти мысленно вернулся в тревожную юность, когда только-только завершилось его обучение. Оправдывая высокую оценку работ великой княгиней, ему предстояло выдержать еще одно испытание, подобное сложнейшему экзамену — жить и работать над пейзажами на ее даче в Сергиевке под Петербургом. Сейчас перед ним вновь, словно вторя его раздумьям, простиралась красавица Нева, застывшая, как сказочная царевна в волшебном сне, до весенней поры, до прихода долгожданного северного тепла.
Быстрым шагом он шел вдоль Невы, над гладью которой поднимался вдали Зимний дворец и взмывал шпиль Петропавловской крепости, будто призывая художника к новым и новым свершениям. И вот, наконец, перед ним предстали скульптуры древних сфинксов, безмолвно застывших над тайнами столетий, и строго-лаконичное здание с надписью над входом: «Свободным художествам».
Сначала он решил посетить всех официальных лиц академии, которые несли ответственность за экспонирование и хранение полотна Иванова. С перевозкой грандиозной картины были связаны многие хлопоты и расходы, что нашло отражение в переписке пейзажиста. Сохранилось письмо руководства Общества любителей художеств, датированное 3 марта 1861 года: «Милостливый Государь Отто Иванович! Покорнейше прошу Вас выдать Члену Комитета А. К. Саврасову, для расходов по поставке Картины А. А. Иванова: Явление Христа народу, двадцать пять рублей серебром»[115]. Подобные письма подтверждали также выдачу художнику 100 рублей, затем 55 рублей «на поставку лесов» и, наконец, 50 рублей «на расходы по постановке картины Иванова»[116]. Несомненно, что исключительное произведение заслуживало подобных хлопот и затрат.
И вот Саврасов вошел в зал, где была представлена картина, поразившая его сложностью замысла и исключительной глубиной его раскрытия, величественным звучанием образов, упорством колоссального труда ее автора. Многих не оставило равнодушными знаменитое полотно. «Грандиозность замысла картины „Явление Мессии“ — главного труда Иванова — объясняется прежде всего масштабностью и широтой мышления художника. Согласно установленному в XIX веке делению художников на разряды, Александр Иванов был „исторический живописец“. К своему академическому званию он относился с чрезвычайной ответственностью — не просто как к некой специализации, но как к высочайшему призванию художника…»[117] Без преувеличения можно сказать, что «Явление Христа народу» явилось делом всей жизни художника. Еще шестнадцатилетним подростком он обратился к этой теме, изобразив Иоанна Крестителя в пустыне. К сожалению, этот рисунок не сохранился до наших дней. К тому же периоду относится и написание Александром Ивановым первых икон.
Словно не в силах отойти от картины, Алексей Саврасов вспоминал известные ему факты, касающиеся замысла и истории создания этой композиции. Изначально, уже приступив к работе над масштабным холстом, Александр Андреевич связывал его создание именно с древней столицей, предполагал писать на деньги, пожертвованные «для производства образа» («образа, составляющего сущность всего Евангелия») «купечеством московским, на тот конец, чтобы по выстройке церкви Спасителя в Москве поместить его там против Иконостаса»[118].
Известно также, что в 1842 году архитектор храма Христа Спасителя К. А. Тон просил А. А. Иванова сообщить ему точные размеры «Явления Мессии», чтобы возможно было разместить картину в строящемся храме. Однако уже в следующем году Иванов писал Тону, что его живописный замысел несколько изменился, по трактовке его картина довольно далека от церковных канонов, но приближена к исторической живописи. Все же художник не оставлял надежды увидеть свои произведения в храме Христа Спасителя и зимой 1844/45 года приступил к выполнению эскизов для монументального запрестольного образа «Воскресение Христово», что связывалось им с интерпретацией замысла его главного полотна. Сложилось так, что картина Александра Иванова все же экспонировалась в центре Москвы, хотя и не в храме Христа Спасителя, но неподалеку от него, в доме Пашкова, расположенном всего в нескольких минутах ходьбы от Кремля.
Алексею Кондратьевичу предстояло тщательно упаковать и доставить полотно без малейших повреждений в Москву. О выполнении поручения живописец подробно сообщал в отчетах, а направлял их Карлу Герцу, который к тому времени не только являлся секретарем Общества любителей художеств, но и одним из лидеров данного общества.
Немного позднее он сообщил точную дату прибытия картины в Москву, написал и о том, что для транспортировки картины по городу потребуются «2 извозчика с здоровыми лошадьми и человек 10 народу»[119].
Поездка в Петербург была важна для Алексея Кондратьевича и в профессиональном отношении. Несмотря на предельную занятость в течение недели, проведенной там, он находил время, чтобы посетить ряд выставок. В Академии художеств видел произведения зарубежных художников и особенно отметил для себя картины бельгийца X. Лейса, французов Э. Мейссонье, К. Тройона. Саврасову удалось встретиться с петербургскими художниками и в первую очередь с Иваном Константиновичем Айвазовским, который вновь приехал в Северную столицу из Феодосии, где жил постоянно в собственном доме — дворянском особняке на набережной, из окон которого открывались величественные виды на любимое художником море.
Эту встречу Саврасов с нетерпением ждал. Известность Айвазовского, тогда сорокалетнего художника, была исключительной. Он общался в кругу Пушкина, Крылова, Гоголя, Белинского, Глинки, его картины вызывали едва ли не всеобщий восторг, его выставки становились важным событием и собирали множество посетителей, в каком бы городе они ни проходили.
Знакомство двух выдающихся пейзажистов, уже широко известного Айвазовского и только начинающего Саврасова, состоялось на 13 лет ранее, когда в Московском училище живописи открылась персональная выставка знаменитого художника. Во время общения в Петербурге и Саврасов, и Айвазовский вспоминали торжественный ужин в Училище живописи в честь графика Иордана, устроенный в марте 1851 года. Особенно сильное впечатление производило на Алексея Саврасова полотно «Девятый вал». Молодой пейзажист не только восхищался творчеством знаменитого мариниста, но вдумчиво изучал его, копировал его произведения, постигая таким образом законы композиции, образной выразительности, техники и технологии живописи, учился внимательному отношению к деталям.
Общение с Айвазовским нашло отклик в творчестве Алексея Кондратьевича. После возвращения из Петербурга им с воодушевлением был исполнен пейзаж «Вид на Москву от Мазилова» (1861), ясно выражающий те принципы, которым он следовал в творчестве и преподавании. Его композиционные построения стали более четкими, манера исполнения более легкой, образы более выразительными. Художник изображал любимые им окрестности Москвы, в которых находил все новые мотивы для своих картин. Детали его ландшафта все так же просты, привычны для глаза: простор полей, с перелесками, крестьянка у колодца на переднем плане полотна, Кремль вдали, тревожные предгрозовые облака. При этом сложное, глубокое художественное звучание образа, переданное в неоглядной шири земли, ее силе и спокойствии, в тревоге предгрозового ветра, который волнует ветви, гонит облака к Москве, в пронзительности белых силуэтов колокольни Ивана Великого, кремлевских соборов, храма Христа Спасителя на фоне мятущихся облаков, отражавших словно движения души художника.
Итак, достаточно бурно развивались события в жизни Алексея Саврасова, фоном им служили значимые перемены в жизни страны. Лев Толстой в романе «Декабристы» характеризовал эту эпоху так: «Это было недавно, в царствование Александра II, в наше время — время цивилизации, прогресса, вопросов, возрождения России и т. д., и т. д.; в то время, когда победоносное русское войско возвращалось из сданного неприятелю Севастополя, когда вся Россия торжествовала уничтожение черноморского флота и белокаменная Москва встречала и поздравляла с этим счастливым событием остатки экипажей этого флота, подносила им добрую русскую чарку водки и, по доброму русскому обычаю, хлеб-соль и кланялась в ноги… Появились плеяды писателей, мыслителей, доказывавших, что наука бывает народна и не бывает народна и бывает ненародная и т. д., и плеяды писателей, художников, описывающих рощу и восход солнца, и грозу, и любовь русской девицы, и лень одного чиновника, и дурное поведение многих чиновников; в то время, когда со всех сторон появились вопросы (как называли в 56-м году все те стечения обстоятельств, в которых никто не мог добиться толку), явились вопросы кадетских корпусов, университетов, цензуры, изустного судопроизводства, финансовый, банковый, полицейский, эманципационный и много других; все старались отыскивать еще новые вопросы, все пытались разрешать их; писали, читали, говорили проекты, всё хотели исправить, уничтожить, переменить… Как тот француз, который говорил, что тот не жил вовсе, кто не жил в Великую французскую революцию, так и я смею сказать, что, кто не жил в пятьдесят шестом году в России, тот не знает, что такое жизнь»[120].
Главным политическим событием следующего десятилетия, переломным историческим этапом стала отмена крепостного права в 1861 году. 19 февраля 1861 года, после подписания Александром II манифеста и «Положений» Крестьянской реформы, великий князь Константин Николаевич отмечал: «С сегодняшнего дня, стало быть, начинается новая история, новая эпоха России. Дай Бог, чтоб это было к вящему ее величию»[121].
В первое десятилетие преподавания в училище помимо творчества и педагогической работы Алексей Кондратьевич занимался общественной деятельностью, которой также отдавал немало времени и сил. В училище он входил в совет преподавателей, что накладывало дополнительные служебные обязанности. В частности, в 1860 году был принят новый устав училища, согласно которому совет преподавателей мог получить право присуждать учащимся награды по образцу Императорской Академии художеств. Однако подготовленные для этого документы так и не были утверждены ни в 1864-м, ни в 1865 году, когда к Московскому училищу живописи и ваяния было присоединено Дворцовое архитектурное училище и в МУЖВЗ создано архитектурное отделение.
На очередной выставке в Московском училище живописи, получившей немалый резонанс, были представлены и произведения Алексея Кондратьевича. Однако они подверглись строгой критике, о чем известно благодаря письму Софьи Михайловны Третьяковой брату — Павлу Михайловичу. В частности, она сообщала: «О художественной выставке появились пока только две статьи в „Нашем времени“ известного тебе Андреева и в „Московских ведомостях“ какого-то г-на М-ва. Андреев похвалил безусловно из русских художников только Худякова, другим же преподавателям порядком досталось от него, а Саврасова за пейзаж раскритиковал и Неврева за все его вещи… Г-н же М-ва в своей статье находит, что все наши художники заботятся больше об эффекте, чем о правде… Впрочем этот М-ва очень строгий критик…»[122]
В 1866 году Алексей Кондратьевич исполнил четыре живописных произведения: «Озеро в горах Швейцарии», «Пейзаж с избушкой» и два сельских вида. Однако сложно сказать точно, о каком именно произведении, представленном на выставке Общества любителей художеств в Москве, говорилось в письме.
Саврасов писал все новые и новые пейзажи, которые вызывали живой интерес у зрителей, в том числе и у маститых художников. Так, в одном из писем за 1866 год И. И. Шишкин обращался к В. Г. Перову с вопросом: «…Напиши что как Саврасова картина, как нравится тебе…»[123] Выбор мотивов далеко не случаен для Саврасова. В 1860-е годы вместе с семьей Алексей Кондратьевич часто проводил летние месяцы в живописных окрестностях Мазилова.
Казалось бы, жизнь уже довольно широко известного художника вошла в определенное русло, вновь текла ровно и предсказуемо. Так все выглядело со стороны. Однако семейные сложности, разочарованность в некоторых из его коллег, отчасти в происходящих общественных процессах, приводили все к более частым проявлениям тревоги, замкнутости, пессимизму Алексея Саврасова. Он все чаще молчал, уединялся, замыкался в себе, словно стараясь защитить свою ранимую душу от внешнего зла, пытаясь сберечь то светлое, что в ней было, для творчества, созидания, для людей.
Все более нарастала неудовлетворенность художника собой, коллегами, окружающим в целом. Его бескомпромиссная, впечатлительная натура, требовательность к себе и другим, неприемлемость лжи, лицемерия, цинизма обостряли мрачные настроения. Предвзятость критиков, на которые он реагировал очень болезненно, также преследовала его повсюду. И. Н. Крамской о замысле своей картины «Хохот» и о собственных переживаниях написал однажды то, что переживали и переживают многие художники, в том числе и Саврасов: «Надо написать… толпу, которая хохочет во все горло, всеми силами своих громадных животных легких… Этот хохот вот уже столько лет меня преследует. Не то тяжело, что тяжело, а то тяжело, что смеются». Поясняя свою мысль, он добавлял: «Пока мы не всерьез болтаем о добре, о честности, мы со всеми в ладу, попробуйте серьезно проводить христианские идеи в жизнь, посмотрите, какой подымется хохот кругом. Этот хохот всюду меня преследует, куда я ни пойду, всюду я его слышу»[124].
Отзвуки душевных переживаний, созвучных словам Крамского, отразились в произведениях Алексея Кондратьевича второй половины 1860-х годов: «Пейзаж с избушкой», «Плоты», «Спуск к реке», «Лунная ночь в деревне. (Зимняя ночь)», «Пейзаж с болотом и лесистым островом» и др. Можно лишь предполагать, что повлияло на столь сильное, законченное их звучание. Стремление найти новые решения? Те настроения, которые охватили Москву и всю Россию в связи с отменой крепостной зависимости крестьян? Или личные трагедии художника и постоянная неудовлетворенность собой, что побуждало искать что-то новое? Бесспорно, что, перекликаясь с ранее написанными произведениями, явно исходя из них, ландшафты 1860-х годов отличаются большей жизненностью, остротой и поэтичностью звучания, позволяют судить о приближении Саврасова к вершинам его искусства.
Работа над этюдами и картинами прерывалась преподаванием, не тягостным, а, напротив, отрадным для Алексея Кондратьевича. Он чувствовал по-прежнему свою причастность к шумной и неугомонной студенческой жизни. В училище вокруг него все так же, как в период его учебы, галдела молодежь — весело, задорно, беззаботно. Раздались столь характерные для училища шаги старика-сторожа Землянкина, бывшего солдата времен николаевской России. Он деловито совершал обход здания, ворчал на учеников, открывал форточки в коридорах, где было сильно накурено. Землянкин, старообрядец, не переносил запах табака — дьявольской отравы. Этот человек всецело был предан училищу, которое, вероятно, ассоциировалось у него с крепостью былых времен, где он нес службу, потому, наверное, при виде преподавателей Землянкин вытягивался по стойке смирно. Среди студентов он был известен своей бдительностью, никому из неимущих воспитанников не позволял ночевать в училище и потому был прозван ими «Нечистой силой». Только Исааку Левитану, которому порой совершенно негде было ночевать, нечем платить за комнату, удавалось укрыться от бдительного сторожа. Однажды «Нечистая сила» все-таки поймал юного художника, услышав грохот упавшего мольберта в опустевшем поздним вечером здании, но на улицу Левитана не выгнал, а накормил и приютил на ночь в своей сторожке будущего великого пейзажиста России.
«Сколько дорогих имен славных мастеров русской живописи навсегда связаны с Московским Училищем! В сентябре 1873 года сюда поступает тринадцатилетний Левитан… Тогда же здесь преподает известный жанрист Константин Александрович Трутовский, открывший талант пятнадцатилетнего Нестерова… В 1877 году Нестеров поступил в Училище и попадает к своему первому учителю Павлу Алексеевичу Десятову, ученику Сергея Константиновича Зарянко… Как пронзительно и душевно вспоминают Константин Алексеевич Коровин и Михаил Васильевич Нестеров в своих записках дорогих учителей — Василия Григорьевича Перова, Василия Дмитриевича Поленова, Алексея Кондратьевича Саврасова!»[125]
Художников училища неизменно поддерживал Павел Третьяков. В 1860-е годы продолжалось общение с ним и Алексея Кондратьевича. Первое из сохранившихся писем, из адресованных Саврасовым Третьякову, датировано маем 1862 года. В нем Алексей Кондратьевич писал:
«Милостливый Государь Павел Михайлович!
Не найдете ли свободную минутку приехать ко мне в мастерскую сегодня или завтра, я Вам покажу несколько рисунков г-на Бочарова. Если пожелаете, можно приобресть из них недорого. Он уезжает совсем из Москвы.
Свидетельствуя свое почтение, к Вашим услугам
Ваш А. Саврасов»[126].Более поздние письма пейзажиста известному коллекционеру, как правило, были столь же лаконичны, посвящались вопросам искусства. В 1864 году он отправил такое письмо:
«Милостливый государь Павел Михайлович!
Меня просят узнать, желает ли кто приобрести портреты работы Брюллова, которые я оставил у Вас, о чем прошу уведомить меня.
Искренне преданный Ваш А. Саврасов»[127].Итак, в кратчайшие сроки недавний ученик стал педагогом, уже довольно опытным, уважаемым коллегами и воспитанниками училища. Вновь в его жизни словно открывались новые страницы. Это назначение принесло ему много радости и тревог, явилось для него и большой честью, и сложным испытанием, поскольку педагогическая работа вновь требовала отдачи сил, художественного мастерства, введения новых методов преподавания, что нередко встречало непонимание и отпор со стороны других педагогов. Отныне он почти жил в училище, отодвинув на дальний план все остальное — родственников, друзей, творчество, отдых, привычки, бытовые заботы, едва ли не себя самого. На первом плане должно быть одно — работа. И если бы только с учениками в мастерской или на пленэре. Ему предстояли неизбежные и бесконечные отчеты, о которых он и не подозревал сначала, общение с власть имущими и чиновниками, выстраивание непростых отношений с коллегами, лавирование между завистью и интригами, которые не могли не возникнуть к молодому и столь успешному талантливому академику, заслужившему исключительное расположение членов императорской семьи. Слишком удачно складывалась у него жизнь, слишком легко давались творческие победы, как казалось многим.
Глава 4 Время славы
Важной жизненной и творческой вехой для Алексея Саврасова стала зарубежная поездка, открывшая ему воочию образцы западноевропейского искусства, памятники истории и культуры, а решение о путешествии во многом было связано вновь с Училищем живописи и ваяния.
В 1861 году художнику и его семье была предоставлена казенная квартира во дворе училища, во флигеле, где этажом ниже жил преподаватель Аполлон Николаевич Мокрицкий, которого Саврасов иногда навещал. Между ними сложились дружеские отношения. Молодому пейзажисту был интересен этот самобытный человек, довольно долго живший в Италии. Он учился в гимназии в Нежине в те же годы, что и Н. В. Гоголь. В молодости занимался у известного живописца А. Г. Венецианова, о чем впоследствии увлекательно писал в своих воспоминаниях. По окончании гимназии Аполлон Мокрицкий успешно поступил в Петербургскую академию художеств, стал учеником К. П. Брюллова, после возвращения знаменитого живописца из-за рубежа учился у знаменитого мастера по классу исторической и портретной живописи и стал его преданным последователем. Оставив академию неклассным художником, на собственные средства отправился в Италию, «страну высоких вдохновений», как писал о ней А. С. Пушкин.
Алексей Саврасов нередко заходил к Мокрицкому и в его мастерскую в училище, где тот преподавал с 1851 года. Среди его учеников выделялись Перов, Шишкин и Прянишников. Выразительно и не без юмора рассказывал об Аполлоне Николаевиче Василий Григорьевич Перов: «Вообще Мокрицкий, по мнению многих, был человек умный и хороший, но имел два громадные недостатка. Первый, и самый важный, заключался в том, что, безумно любя искусство, он считал и самого себя весьма недюжинным художником; второй же недостаток был недостаток физический — он заикался, и заикался довольно сильно, особенно когда торопился что-либо сказать, или когда был взволнован.
„Вы, лю-лю-лю-безнейший!“ — начинал он так всегда свою речь и чем более увлекался, и чем более хотел говорить красноречивее, особенно о своем пребывании в несравненной Италии или о своем боготворимом учителе К. П. Брюллове, то „лю-лю-лю, мо-мо-мо, по-по-по“ унизывали речь его, цепляясь за каждое слово.
Я не помню Аполлона Николаевича иначе, как повествующим перед учениками о Брюллове и об Италии. Монте-Пинчио, Фраскати, Альбано не сходили у него с языка. О чем бы ни говорил, но кончал непременно своей незабвенной Италией и пленительной Венецией»[128].
Как правило, Саврасов неизменно заставал коллегу у мольберта. Таким он и запомнился Алексею Кондратьевичу — невысокого роста, с острым выразительным взглядом, тонкими чертами интеллигентного лица, обрамленного довольно длинными волосами, в очках с золотой оправой, в черной бархатной феске на голове и с палитрой в руке, выглядевшим весьма колоритно. Разносторонность интересов художника проявлялась в том, что его курс эстетики, читаемый в Училище живописи и Строгановском училище, пользовался популярностью в студенческой среде, а изданные воспоминания Мокрицкого о Брюллове, Венецианове и его школе, заслуженно известные при жизни автора, интересны и по сей день.
Саврасов и Мокрицкий оживленно беседовали, касаясь в основном вопросов искусства. Как всегда заикаясь, Аполлон Николаевич рассказывал, что, живя в Италии, он писал портреты и жанровые сцены, работал с натуры над пейзажами Фраскати, окрестностей Вероны, Дженцано. Его итальянские впечатления нашли отражение в полотнах: «Рим. Итальянки на террасе (Тарантелла)», «Итальянский пейзаж с античными руинами», «Девушка на карнавале (Мария Джиолли)». Вскоре после возвращения из Италии художник был удостоен звания академика в 1849 году за «Портрет преосвященного Никанора, митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского».
Во время одной из встреч Мокрицкий, на всю жизнь сохранивший восхищение перед Италией, считавшейся тогда «страной для художников», посоветовал Алексею Кондратьевичу поехать в Европу, прикоснуться к шедеврам культуры, и молодой преподаватель и окрыленный признанием художник, полный планов, жажды деятельности, загорелся этой идеей. Аполлон Николаевич еще довольно долго говорил ему, как важно для живописца путешествовать, какой неоценимый опыт, порой неожиданные встречи с произведениями искусства дают такие паломничества. Знаток итальянских шедевров настаивал также на необходимости изучения секретов старых мастеров, рассуждал о пользе копирования Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, о самобытном художественном языке Александра Иванова и Карла Брюллова. На тех же творческих и педагогических позициях Мокрицкий, как и в молодые годы, стоял до конца своих дней. Он преподавал в училище до самой смерти, хотя в последнее время уже не вел практических занятий, только читал курс лекций «Теория изящных искусств».
Поездки художников за рубеж, и прежде всего в Италию, центр мировой классики изобразительного искусства, сосредоточение шедевров эпохи Ренессанса, были характерны для России со времен Петра I. Именно Петр Великий, «прорубая окно в Европу», заботился и о реформировании искусства. Петровские пенсионеры, среди которых наиболее известны портретисты, «персонных дел мастера» Иван Никитин и Андрей Матвеев, постигали секреты мастерства в Европе, а жили на пенсион — средства, выделенные для них по высочайшему повелению из казны. Первыми пенсионерами Петра Великого стали братья Иван и Роман Никитины, Михаил Захаров и Федор Черкасов, отправившиеся в 1716 году в Италию. Андрей Матвеев, по особому распоряжению самодержца, уехал в Голландию, а оттуда во Фландрию — «Брабандию».
Саврасов знал, что в истории Императорской Академии художеств XVIII–XIX столетий пенсионерские поездки лучших выпускников в Западную Европу составили важную страницу летописи академической жизни. Из таких поездок художники привозили копии с всемирно известных оригиналов, которые затем выставляли в залах академии, и по ним учились следующие поколения студентов. Именно поэтому говорили об академии: «Здесь и стены учат…» Однако художественный опыт, приобретаемый за рубежом, пока оставался неведомым для Алексея Саврасова.
Начало 1860-х годов стало одним из самых счастливых, светлых периодов в его жизни. Казалось, ему все удавалось. Уже четыре года он был женат. В мае 1861 года у Софьи Карловны и Алексея Кондратьевича родилась дочь Вера, что дало безграничную радость, внесло новое глубокое содержание в их жизнь, сплотило семью. Алексей Саврасов по-прежнему самозабвенно работал над картинами, успешно преподавал в училище, его ценили преподаватели и ученики.
Некоторым Алексей Кондратьевич казался несколько суровым. Например, так отзывалась о нем в письмах сестра Софьи Карловны, Эрнестина Герц. Но кажущаяся излишней сдержанность художника скрывала стеснительность и ранимость его натуры, мягкость характера, обостренное, очень эмоциональное восприятие окружающего. Об этом хорошо знали его ученики, друзья, ближайшим из которых по-прежнему оставался Константин Герц. Алексей Саврасов также был рад общению с Аделаидой и Эрнестиной, сестрами своей жены. Аделаида, или Адель, как называли ее близкие, стала супругой талантливого художника Михаила Ильича Бочарова, поступившего в Училище живописи и ваяния примерно в то же время, что и А. К. Саврасов, особенно известного в дальнейшем как театральный декоратор.
Так, между работой в училище, семьей и общением с друзьями протекала жизнь Алексея Кондратьевича, но ее привычный ритм в 1862 году изменило известие о том, что Московское общество любителей художеств решило направить за рубеж одного или двух художников. Это решение, несомненно, напоминало о традиции Петербургской академии художеств. Московское училище из-за более скромного финансирования не имело такой возможности, но данное решение Общества стало исключением. Значение заграничной поездки для молодых московских художников сложно переоценить, тем более если учесть, что в Белокаменной еще не существовало музея, хотя бы отдаленно сопоставимого с Эрмитажем, не было обычных в наши дни репродукций, фотографий, слайдов. Следовательно, воспитанники Училища живописи и ваяния могли знакомиться с мировой живописью в основном только благодаря гравюрам, копиям и описаниям, а потому возможность видеть оригиналы в собраниях известнейших европейских музеев, экспонаты выставок и памятники зодчества была для них исключительно значима.
Зарубежная поездка представлялась особенно важной Алексею Саврасову, так как дала бы ему возможность более глубоко оценить те процессы, которые происходили в европейском искусстве, сравнить их с тенденциями отечественной живописи. С 1850-х годов пристальное внимание к национальным мотивам, исполненным с натуры, характерно для художников различных направлений, прежде всего представителей дюссельдорфской пейзажной школы во главе с ее ведущим автором Андреасом Ахенбахом. Они подчеркивали необходимость изображения конкретной местности и четкого обозначения в названии ее географического положения. Отчасти произведениям Ахенбаха созвучны пейзажи швейцарцев Франсуа Диде и Александра Калама. Последний из них во времена Саврасова был хорошо известен в России, в результате чего в артистической среде бытовал шутливый термин «окаламиться».
Многие отечественные художники посещали во время зарубежных поездок мастерские прославленных живописцев, о чем писали в отчетах, анализируя их картины. Так, в 1859 году Михаил Бочаров сообщал в одном из писем: «Что касается до меня, то я за лучшее считаю изучать направление и взгляд на природу с Андрея Ахенбаха, к которому намерен ехать в ближайшее время»[129]. Спустя несколько месяцев он рассказывал также в переписке, что «отправился в Женеву, чтобы воспользоваться замечаниями и советами г-на Калама»[130], а затем заключал: «При всем уважении… к знаменитому художнику не могу, чтобы не сделать своего взгляда на последние его произведения, все они повторение одних и тех же мотивов, но исполнение их слабее прежнего и менее верно к природе, в них заметна манерность и сухость. А также у г-на Диде картины слишком одинаковы и многие места пишутся условно»[131].
Средства на поездку Московское общество любителей художеств[132] смогло найти благодаря проведению лотерей, на которые представлялись картины молодых авторов, в том числе пейзажи Алексея Саврасова. Закономерно, что именно он, а также академик, скульптор Сергей Иванович Иванов получили возможность поехать в Европу. Кроме того, Общество нашло возможным выдать Саврасову 200 рублей, о чем свидетельствует официальное письмо, датированное 30 июля 1862 года[133].
Итак, молодому пейзажисту предстояло в июне 1862 года отправиться в Лондон на Всемирную выставку, где в европейском отделении экспонировались произведения живописи и скульптуры за 100 лет, с середины XVIII века, должны были быть представлены и полотна русских художников, в том числе Саврасова. Сведения об этом сохранились в переписке. Ф. И. Иордан писал П. М. Третьякову: «…Во всяком случае я Вам вполне отвечаю за сохранность картин, я буду с ними и в вояже как и на самой выставке… Картины же суть следующие:
1. „Портрет аббата Ланчи“ К. П. Брюллова
2. „Умирающий музыкант“ М. П. Клодта
3. „Хоровод“ К. Трутовского
4. „Продавец лимонов“ г. Якоби
5. „Пейзаж близ Ораниенбаума“ г. Саврасова».
И далее Иордан сообщал: «Ваш Брюллов, Клодт, Якоби — превосходны, посмотрю, что скажет Совет о Трутовском и Саврасове, мне же они все очень нравятся»[134]. Однако по решению Совета картины Брюллова и Саврасова были отклонены от участия в Лондонской выставке.
Художника не могло не обрадовать известие о предстоящем путешествии, тем более что поездка в Англию, Францию, Швейцарию и Германию, которая ему предстояла, должна была открыть новые или малоизвестные ему собрания музеев, имена, памятники архитектуры. Возможность профессионального совершенствования, расширения кругозора, получения новых знаний явилась для него главным стимулом поездки. Перед ее началом художник официально получил от Общества пространно изложенный «Наказ командированному на Лондонскую выставку». В частности, в нем говорилось: «Общество Любителей Художеств, желая осуществить одну из главнейших своих целей и задач, ему предстоящих — содействовать развитию талантливых русских художников, избрало Вас, как художника… для отправки, на счет Общества, на Лондонскую всемирную выставку 1862 года, чтобы Вы не только обозревали собранные там художественные произведения… современных народов»[135]. Саврасову было рекомендовано упрочить имеющиеся данные, составив отчет обо всем увиденном, дать подробную характеристику художественным школам разных стран и произведениям отдельных авторов. Взволнованный предстоящим, Саврасов, со всей обстоятельностью и серьезностью, ему свойственным, отнесся к поручению и сразу же приступил к сборам в дорогу.
Вместе с Алексеем Кондратьевичем в поездку решили отправиться его супруга Софья Карловна, оставив в Москве под присмотром родственников совсем маленькую дочку, и ее сестра Эрнестина. Итак, в июне они втроем выехали в Петербург на поезде, откуда на пароходе «Двина» путешественникам предстояло добраться до Лондона.
Наконец они на борту, берег оставался все дальше. Плавание оказалось нелегким, почти сразу начался шторм, не прекращавшийся три дня. Саврасов безболезненно переносил качку, много времени проводил на палубе даже в шторм, наблюдая волны, смену освещения, что представляло для живописца исключительный интерес. Алексей Кондратьевич сделал даже несколько зарисовок, а в письме Константину Герцу сообщал, что таким образом изучал морские мотивы. Только на шестые сутки пароход встал на рейде в Копенгагене на несколько часов, и Алексей Саврасов смог посетить здесь музей знаменитого датского скульптора Бертеля Торвальдсена, известного в основном работами на сюжеты античной мифологии. В экспозиции пейзажиста заинтересовали такие известные произведения, как «Приам, умоляющий отдать тело Гектора», «Ясон с золотым руном», «Ганимед, кормящий Зевсова орла».
Вскоре путешественников ждало продолжение плавания, вновь шторм в Северном море, преодолев который «Двина» на девятый день плавания приблизилась к берегам Англии, проследовала в порт Лондона. В столице Туманного Альбиона Алексей Саврасов, Софья и Эрнестина оставались десять дней. Лондон поразил их своим масштабом, архитектурой, оживленно-сосредоточенной жизнью города, но особенно сильное впечатление произвела на художника, конечно же, Всемирная выставка.
Именно она являлась главной целью его поездки. Экспозиция размещалась в предместье Лондона, в Южном Кенсингтоне. Здесь было представлено множество образцов промышленного производства и ремесленного труда того времени. Сама идея проведения такой масштабной выставки была, с одной стороны, новаторской, с другой — характерной для своей эпохи, то есть свидетельствовала о новых формах художественной организации, уже заявивших о себе. Типы прежних художественных обществ, известные со времен Средневековья, перестали отвечать требованиям времени. В прошлое уходили мастерские, боттеги (от итальянского la bottega — мастерская художника), ремесленные и строительные цехи, придворные производства. Академии художеств, во множестве существовавшие на Западе, все более приобретали характер не творческих, а учебных, к тому же предельно консервативных учреждений. Их во многом заменяли салоны и всемирные выставки, которые приобретали все большее значение.
На Всемирной выставке 1862 года для посетителей были показаны паровые машины и кареты, всевозможная мебель, разнообразные музыкальные инструменты, скульптуры, севрские сервизы, ювелирные произведения, гобелены и витражи, коллекции модельеров, продукция парфюмерных фабрик и бессчетное множество других предметов. Все увиденное ошеломило художника. Его впечатления соотносимы с высказыванием о Всемирной выставке выдающегося писателя Ф. М. Достоевского, также посетившего лондонскую экспозицию во время своей первой зарубежной поездки. В «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский отзывался так: «Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль, вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество… Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из апокалипсиса, воочию совершающееся»[136].
Оценив обширность выставки, А. К. Саврасов стремился увидеть художественные галереи. Экспозиция живописных произведений произвела на него противоречивое впечатление. Да и могло ли быть иначе, если художник сразу отметил, насколько неполно представлена живопись отдельных стран, акцентированы произведения одних авторов, не представлены центральные работы других. Например, среди полотен французской живописи экспонировалась только одна картина Энгра — «Источник» и один эскиз Делакруа — «Убийство льежского епископа», но было показано достаточно много произведений Мейссонье, — официального живописца Второй империи.
Также Алексей Кондратьевич отмечал, что «в отделе искусств было собрано до трех тысяч художественных картин, рисунков, статуй… По художественному значению и богатому собранию более привлекали знатоков искусства Британский, Бельгийский, Французский и Германский отделы…»[137]. Очень позитивное впечатление произвел на него раздел британской живописи, поразивший многообразием индивидуальных произведений. Наиболее значимыми картинами в английской экспозиции Саврасов признавал портреты и пейзажи Гейнсборо, а также произведения Хогарта, признаваемые ведущими художниками английской школы живописи и в наши дни. Также А. К. Саврасов выделил жанровые сцены Уилки и Фрита, портреты Лоуренса, произведения Вебстера, пейзажи Констебля.
Именно произведения Джона Констебля он изучал с особенным интересом. Они выделялись глубиной пространства, передачей сырого воздуха, сочетанием убедительности и поэтичности. Его картины были представлены на выставке во множестве: «Долина в Генмингельском парке», «Телега для сена», «Гемстедский берег», «Просека», «Ферма в долине». По сравнению с его работами несколько меркли композиции других живописцев — Гардинга (Хардинга), Линнеля, Мкалума, Бранвайта. Прославленный Уильям Тернер Саврасову был непонятен, он не разделял стремления английского художника к фантастическим эффектам, не видел в его работах отображения правды жизни и потому писал своему другу Карлу Герцу: «Знаменитые пейзажи Тернера, по моему мнению, весьма плохи»[138].
Был ли объективен Алексей Кондратьевич в своих суждениях о Всемирной выставке, учитывая относительность любого восприятия, а тем более субъективность пейзажиста, придерживающегося одного, четко определенного направления в искусстве? Объективность в его словах, несомненно, присутствовала, поскольку он излагал свои заключения логично и обоснованно, характеризуя произведения Хогарта, Лоуренса, Гейнсборо, Уотса, Вебера, Робертса и других авторов. Уже после возвращения из путешествия, в Москве, Саврасов писал в отчете о «глубине мысли, строгой наблюдательности, любви и серьезном понимании искусства» как об отличительном характере живописи британских художников. И продолжал: «Только при таком стремлении, при таком течении может эта отрасль стоять высоко в современном искусстве. Существует мнение, что ландшафтист может хорошо передать только ту природу, в которой он родился… Я думаю иначе — это скорее зависит от силы таланта и его воспитания»[139]. Следуя этой мысли, Алексей Саврасов и в своем творчестве несколько произведений посвятит швейцарской природе. Для себя Саврасов выделил и британские акварели Леви и Корбу, отметив, что «акварельная живопись британских художников… является у них серьезным искусством, как темами, которые они избирают для своих картин, так и колоритом, и строгим художественным исполнением. Произведения этих художников украшают лучшие картинные галереи Англии. Проследивши весь отдел живописи Британской школы, ни одно произведение не напоминает мелкой подражательности, и это самостоятельное стремление к истинному искусству поставило так высоко современное искусство Англии»[140].
Его мнение разделял писатель Д. В. Григорович, секретарь Петербургского общества поощрения художников, являющийся знатоком искусства, тонким художественным критиком. Он посетил Всемирную выставку почти одновременно с Саврасовым и вскоре, в 1863 году, в журнале «Русский вестник» опубликовал статью, в которой подробно излагал свои заключения, в частности, о картинах английских художников. «Первое впечатление при виде большого собрания картин английской живописи принадлежит уже само по себе к разряду совершенно новых, неожиданных впечатлений; колорит, письмо, оригинальность общего расположения, невиданная нигде прежде свобода и независимость приемов, типы, полнейшее отсутствие всего условного, — все отмечает здешние картины другими чертами и оттенками от произведений остальных школ Европы»[141].
Положительные оценки Алексея Кондратьевича заслужили также на выставке произведения Бельгии, Франции и Германии, хотя о них он писал уже с некоторыми замечаниями. «Отделы Бельгийской, Французской и Германской школ заключали в себе богатое собрание капитальных произведений первых их представителей…»[142], среди прочих художник выделил Мейссонье, Энгра, Тройона, Руссо, Добиньи. Достаточно жестко характеризовал пейзажную живопись французов. О Германии заметил: «У последней в произведениях Лессинга и Ле виден строгий рисунок и правдивый колорит». Не вдохновили Саврасова и пейзажисты Швейцарии, среди которых он нашел лишь одно исключение: «Ландшафты художников Швейцарии… мало передают характер природы Швейцарии, столь богатую разнообразием форм, климата и растительности. Только произведения Калама представляют совершенно другое»[143]. Не вызвали восторга у пейзажиста экспозиции ряда других европейских стран: «Художественные произведения Австрии, Голландии, Норвегии и Дании имеют свой самобытный характер, но не достигли еще степени развития выше упомянутых школ. Современное искусство Италии и Испании пережило время своего блестящего развития»[144].
Рассуждая о своем восприятии экспонируемых произведений пейзажной живописи, он также замечал: «Ландшафты Французской школы, хотя напоминают мотивы природы, но не имеют строгого исполнения и совершенно противоположны взгляду Германской школы»[145]. Его высказыванию созвучна оценка барона М. Клодта: «Новая французская живопись отличается от других силою и блеском красок, но рисунок слаб, и нет ни одной законченной детали, их, вернее, можно назвать хорошими эскизами, за исключением немногих…»[146]
Особенно печальное зрелище для Алексея Саврасова представлял раздел живописи России. Художник не мог счесть объективным отбор произведений для нее, не мог смириться с тем, что в Лондоне не были представлены вершины отечественной живописи — полотна В. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, О. А. Кипренского, К. П. Брюллова, П. А. Федотова. Своей картины «Вид в окрестностях Ораниенбаума», отобранной из собрания Третьякова для Всемирной выставки, Алексей Кондратьевич здесь также не увидел. Ее привезли лишь в Петербург, в Академию художеств, откуда вновь вернули в Москву.
Позднее в «Отчете о пребывании на Лондонской выставке 1862 г.», направленном в Общество любителей художеств, Саврасов лаконично писал: «Лондонская всемирная выставка 1862 г. дала полную возможность проследить замечательные произведения искусства за последние сто лет. Только при таком сравнительном обзоре можно составить себе более полное понятие о степени развития таланта и его значении в истории современного искусства». Не без разочарования он отмечал: «Русский отдел живописи был неполон, было много пробелов и можно сказать, что много замечательных произведений русского искусства не были на выставке, поэтому довольно трудно сделать сравнительный обзор.
Первыми представителями русской школы были Иванов и Бруни; о Брюллове нельзя было составить себе понятие по двум неоконченным портретам там находившимся. Кроме того, в произведениях нашей школы заметно было однообразие колорита, выбора сюжетов, а также подражание прославленным художникам.
В настоящее время, когда русские художники стали посещать не один Рим, но и другие европейские города, где современное искусство так процветает, является в их произведениях другое воззрение, другой колорит и более самобытный взгляд на искусство. Краткое мое пребывание за границей не позволило мне долее оставаться в Лондоне и говорить более подробно о выставке»[147].
Оценку Саврасовым живописи России на выставке разделял пламенный искусствовед, критик Владимир Васильевич Стасов, который выразил свое мнение в статье «Наша художественная провизия для Лондонской выставки», и даже название статьи отражало его позицию. В другой статье, «После всемирной выставки (1862)», Стасов, оценивая отзывы зарубежной критики о живописи России и не одобряя выбора представленных произведений русских художников, восклицал: «Говорили и писали, что нельзя, конечно, отрицать нашей художественной способности, что дарование у нас бесспорное, что, быть может, нам предстоит значительная своеобразная будущность, если судить по некоторым исключениям, и то — исключениям новейшего времени!»[148]
Подобные мысли чуть ранее высказывал и пейзажист Михаил Клодт: «Кто не знает Швейцарии, если не по путешествиям, то по картинам Калама и других художников; в этой стране, так же, как и в других, как-то: Италия, Германия, — ничего уже не остается нетронутого и непереданного на полотне, тогда как Россия продолжает по-прежнему быть неизвестною, ее красоты природы, ее роскошная растительность остаются незнакомыми даже самим художникам… Какие сокровища она скрывает, которые мы, русские художники, должны во что бы то ни стало сделать известными и представить на суд наших ценителей искусства и познакомить наших соотечественников с нашим Отечеством»[149].
Во время пребывания в Лондоне Алексей Саврасов также посетил Британский музей, что составляло его давнюю мечту. Это собрание, с которым он был заочно знаком во многом благодаря общению с Карлом Карловичем Герцем, восхитило его, особенно искусство Древнего мира. Не остался он равнодушен также к новому зданию музея, возведенному в классическом стиле, как напоминание о постройках Античности. Карлу Герцу он писал с воодушевлением: «Британский музей поразил меня. Я удивлялся, смотря на древние памятники искусства, и часто вспоминал тебя»[150]. Разнообразие экспонатов казалось художнику бесконечным: древности Египта, Ассирии, Вавилона, античные памятники Греции и Рима, образцы средневековых рукописей и миниатюр, статуи, старинные рисунки, гравюры, монеты. Не разочаровала Саврасова и картинная галерея Академии художеств, которая для него оказалась «удивительно хороша»: полотна Рафаэля, Рембрандта, Ван Дейка, Мурильо.
Таким образом, живопись, представленная на Всемирной выставке, собрания Британского музея и картинной галереи Академии художеств, как и Лондон в целом, дали Алексею Саврасову множество впечатлений, бесценный опыт, возможность оценить несколько по-новому картины отечественных живописцев и, шире, культуру России, сравнить ведущие европейские школы, сделать свои заключения обо всем увиденном. О чуткости восприятия Алексея Кондратьевича, объективности данных оценок свидетельствуют высказывания пейзажиста, которые были важны в дальнейшем развитии его искусства.
Итак, пришло время покинуть Англию. Алексей Саврасов, Софья и Эрнестина переправились на пароходе через Ла-Манш и уже через шесть часов оказались в Париже. Художник с нетерпением ожидал знакомства со столицей Франции, но не столько с самой атмосферой города, отличавшегося неповторимым, ярким характерным обликом, не столько с его изысканной архитектурой, сколько с шедеврами искусства. В Париже, который уже в 1860-е годы являлся одним из ведущих центров мировой культуры, Алексея Кондратьевича особенно интересовали собрания музеев. Он с огромным интересом посещал Лувр, Люксембургский музей, галерею Гупиль, которые давали ему источники знаний и восхищения, заключенных в искусстве. Именно так он оценивал, например, шедевры Лувра: Венеру Милосскую, скульптуры рабов работы Микеланджело, «Джоконду» и «Мадонну в гроте» Леонардо да Винчи, многие и многие произведения авторов ведущих художественных школ Европы.
По Лувру он был готов ходить сутками, но, не имея достаточно времени, чтобы осматривать не торопясь все шедевры всемирно известного собрания, он все же успел познакомиться с основными отделами музея. Вдумчиво изучал, сравнивал полотна великих живописцев: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Корреджо, Джорджоне, Тициана и его знаменитых учеников — Веронезе и Тинторетто. Исключительное впечатление на него произвели полотна испанских мастеров — Эль Греко, Риберы, Мурильо. Он отметил виртуозную технику Рубенса, сложность многослойного письма Рембрандта, оценивал достоинства живописи старых французских мастеров — братьев Ленен, Латура, Пуссена, Ватто, Шардена.
Саврасов особенно высоко ставил классические произведения, признанные вершины мирового искусства, но значительно более сдержанно он отнесся к работам барбизонцев — художников новаторского направления, заря известности которых тогда едва забрезжила в Париже. Согласно суждению Алексея Саврасова, их пейзажи не отличались должной строгостью и завершенностью исполнения, слишком не соответствовали принятым канонам, были далеки от академических традиций. В этом художник, бесспорно, был прав. Но также следует вспомнить, что название «барбизонская школа» — весьма условно, поскольку так именовали произведения группы художников, писавших с натуры в сельской местности Франции, в том числе в деревушке Барбизон в лесу Фонтенбло, где довольно долго жили живописцы Филипп и Теодор Руссо, чьи пейзажи так высоко ценил И. С. Тургенев, и Милле. В своем искусстве они отталкивались от традиций классических пейзажей голландских, французских авторов: Рейсдаля, ван Гойена, Хоббемы, Пуссена, Лоррена, а также Делакруа, Курбе, но при этом усиливали этюдность звучания, сознательно подчеркивали эффекты письма а-ля-прима, стремились к точности передачи натурных состояний природы.
Спустя всего пять лет, во время своей следующей поездки в Париж, Саврасов уже иначе оценит произведения барбизонцев, признает их несомненные достоинства в письме с натуры, что подтверждает постоянное профессиональное развитие самого художника, эволюцию его взглядов и творчества, а также свидетельствует о тех стилистических изменениях, которые происходили в мировом искусстве, в частности, в пейзажной живописи. И потому закономерно, что ряд произведений Алексея Саврасова сопоставим по выбору мотивов и их трактовке с образцами барбизонской школы 1850–1860-х годов, прежде всего Ш.-Ф. Добиньи, Ж. Дюпре, Ж.-Ф. Милле.
Из всех произведений Саврасова «Сельский вид» (1867) наиболее близок и сюжетом, и настроением пейзажам вышеперечисленных авторов, а отчасти и этюдам импрессионистов. В данном контексте особенно интересно заключение знаменитого педагога Петербургской академии художеств П. П. Чистякова, высказанное им в 1878 году: «По-моему, Добиньи, что на постоянной выставке, курьез сравнительно с картиной Саврасова…»[151]
А пока, в 1862 году, продолжалась европейская поездка А. К. Саврасова. Промелькнули четыре дня, проведенные в Париже, и теперь путешественникам предстояло отправиться через Дижон в Швейцарию. Ее величественная природа, разительно отличающаяся от природы России, не могла не затронуть чуткой души художника. Описывая свои впечатления, он восторгался местными ландшафтами, особенно видами от Невшателя, небольшого городка, расположенного на берегу озера, до Берна и Интерлакена.
В Невшателе путешественники провели только один день, а оттуда через Берн отправились в Интерлакен — центр Бернского Оберланда. Прибыв в Швейцарию, Эрнестина Герц, не разделявшая интересов художника, решила продолжить путешествие одна, а Алексей и Софья поселились в Интерлакене. Этот маленький курортный город, протянувшийся вдоль речки, был наполнен какой-то особой умиротворенной атмосферой размеренной жизни. Его дома окружала обильная зелень, по стенам вился плющ, рядом были разбиты сады и виноградники, а вдали виднелись заснеженные горные вершины, из которых самая высокая получила название Юнгфрау, что в переводе с немецкого означает «Молодая дама».
Сразу же по приезде сюда Саврасов продолжил свои путевые записки, точно и эмоционально сдержанно: «Я поспешил оставить Париж, чтобы воспользоваться хорошей погодой для занятий. От Дижона до Невшателя природа очень хороша, но от Невшателя до Интерлакена и дальше это чудо красоты. Вот где может истинный талант серьезно развиться. А до сего времени удивляюсь, что ни один художник не передал этой природы, исключая знаменитого английского живописца Гардинга. Я имею средства прожить в Интерлакене более 6 недель и заняться этюдами…»[152]
Они с женой жили скромно, спокойно, словно подчинившись неспешному ритму маленького городка. Трижды в день сюда прибывал пароход, и Саврасовы из дома, где остановились, неподалеку от пристани, отчетливо слышали его гудки, звуки лопастей колеса по воде. Алексей Кондратьевич и Софья Карловна часто прогуливались по тихому Интерлакену, в сущности, по одной протяженной улице, из которой и состоял город. Художник был одет неизменно строго, аккуратно, предпочитал костюмы темных тонов. Софья нередко надевала сиреневое платье, шляпу, украшенную нежными цветами, брала в руки зонтик, просто необходимый при столь изменчивой здесь погоде. Они восхищались пейзажами окрестностей, которые всегда радовали глаз, особенно глаз художника: и в ясные дни, когда все вокруг было залито солнцем, и в период ненастья, когда внезапно серая пелена дождя окутывала город, а вершины гор будто исчезали, таяли за струями воды и ветром, за тучами, опускавшимися ниже горных вершин.
Любуясь улочками Интерлакена и его предместьями, пейзажист обдумывал композиции этюдов и мотивы еще не написанных картин. Он увлеченно работал: нередко уходил с этюдником куда-то на природу, долго писал с натуры. Тогда Софья Карловна оставалась одна — вновь прогуливалась или писала письма тетушке Элизе, рассказывала о их путешествии, о том, например, что собирается купить в Интерлакене чай, а чаще всего вспоминала маленькую дочь Верочку, задавала о крошке бесконечную череду вопросов: как питается, начала ли ползать, говорит ли «мама» и «папа»? Ей приятно было узнавать все мельчайшие новости из жизни дочки, порадовало и то, что отец и мачеха Алексея навещают внучку.
Между тем работа Саврасова продвигалась. Художник, отдохнувший в путешествии, увлеченный новыми замыслами, много работал с натуры. Уже вернувшись в Россию, словно подводя итог швейцарской поездке, он отмечал: «Посетив живописную часть Швейцарии, Бернский Оберланд, я сделал… шесть этюдов этой местности»[153]. Данные пейзажи были им представлены на суд Общества любителей художеств, о чем сам автор писал: «Эти труды, позвольте, Милостливые Государи, представить Вашему вниманию. Не знаю, насколько оправдал лестный для меня выбор, сделанный Обществом любителей художеств»[154].
В наши дни из шести швейцарских этюдов Саврасова известен только один — «Вид в Швейцарских Альпах из Интерлакена», в котором при трактовке столь непривычной для него природы, ущелья, фактуры гор, художник все же смог сохранить особенности своего «почерка» — выбор мотива, характер рисунка, особенности колорита и живописную манеру. Вместе с тем швейцарская природа привнесла немало нового в звучание его произведения — это и динамичная композиция, построенная на заостренном, обрывистом рисунке скал, и ритм их силуэтов, и несколько холодно отстраненная эпичность звучания, присущая заснеженным горным вершинам.
Завершая зарубежную поездку, Саврасовы побывали в Женеве, где посетили художника Александра Калама, почитаемого в Европе не менее, чем в России, живописца и литографа. Его называли на родине «певцом Альп», «мастером альпийского пейзажа». Наиболее характерные для него мотивы — это скалистые альпийские дали. Среди его многочисленных заказчиков были и члены императорской семьи. Алексей Кондратьевич неоднократно копировал произведения Калама, что в Московском училище живописи и ваяния считалось полезным в процессе обучения, а также писал самостоятельные пейзажи в его стиле.
Однако знакомство Алексея Кондратьевича с Александром Каламом лично, как и с его произведениями, несколько охладило его отношение к подобному искусству — в нем не хватало жизненности мотивов и разнообразия звучания. Но все же Алексей Кондратьевич отмечал в своих записях: «Посетив его (Калама. — Е. С.) мастерскую, я убедился, с какою любовью этот художник стремился передать природу. Богатое собрание рисунков, этюдов ясно раскрывает его взгляды и постижение искусства… Лучшие произведения Калама находятся в Лейпциге, в картинной галерее городского музея. Говоря о Каламе, я должен, к сожалению, упомянуть, как много молодых талантов сделались жертвою подражания этого художника»[155].
Покинув Интерлакен, они с женой ненадолго остановились в Гриндельвальде, поселились в квартире местного доктора, решив снять у него комнату дней на десять. Из их окна были видны горы, совсем близко, величественные и, как казалось, неприступные. Софья Карловна писала, что горы здесь — совсем близко и они «страшно высоки». Гриндельвальд был известен своими глетчерами, и однажды Алексей и Софи отважились подняться на самые вершины, к ледникам, видели высеченный во льду грот. Тогда стояли ясные и еще довольно теплые дни сентября, и, продолжая напряженно работать, Саврасов спешил окончить этюды. В одном из писем Константину Герцу, отправленном уже из Мюнхена, он заключал: «…Я расстался с грандиозной красотой этого уголка Швейцарии, и могу положительно сказать, как мало понята эта природа пейзажистами»[156].
Итак, Саврасовым пришло время прощаться с Европой и отправляться в обратный путь: они возвращались в Россию через Германию. В Мюнхене он посетил знаменитую Пинакотеку, где были представлены выдающиеся картины европейских школ, в том числе богатая коллекция полотен Рубенса. Не менее важным здесь оказалось личное знакомство Алексея Саврасова с прославленным историческим живописцем Вильгельмом фон Каульбахом, который высоко оценил его пейзажи, написанные в Швейцарии, назвав их «сокровищами». Такой похвале был рад и сам автор, и не менее его Софья Карловна, которая гордилась тем, что пейзажами ее мужа восхищался сам Каульбах. Алексей Саврасов писал о своем общении с прославленным живописцем: «В мастерской Каульбаха я видел большую, но неоконченную картину, Сражение при Соломоне и картон (Нерон и первые христианские мученики). При втором посещении его мастерской я имел случай воспользоваться советами этого знаменитого художника относительно исполнения картин со своих этюдов»[157].
Вильгельм фон Каульбах заслуженно был знаменит. Да и сейчас по праву считается одним из ярких представителей немецкой исторической живописи. Он родился в местечке Арользен в 1805 году, уже в 16 лет поступил в Дюссельдорфскую академию художеств, где получал профессиональные навыки в мастерской Петера фон Корнелиуса, позднее учился и в Мюнхенской академии, после чего отправился в поездку по Италии. По возвращении в Германию, начав работать над фресками на сюжеты древнегреческой мифологии, художник не переставал мечтать о создании исторических полотен. Среди его картин центральной признана «Битва гуннов», но, бесспорно, внимания заслуживают и другие композиции, выполненные в духе академизма, под влиянием уроков итальянских мастеров Ренессанса: «Разрушение Иерусалима», «Битва при Саламине», «Нерон», а также полные юмора иллюстрации к «Рейнеке-Лису» Гёте.
Покинув мастерскую Каульбаха и гостеприимный Мюнхен, Саврасовы ненадолго останавливались в Лейпциге, Дрездене, Берлине, везде посещая музейные собрания. В Дрездене Алексей Кондратьевич был поражен не только местной архитектурой, не только шедеврами всемирно известной Дрезденской галереи, логичностью и последовательностью построения ее экспозиций, свидетельствовавшей об обширных исторических и культурных связях с Италией, Россией, Чехией. Возникновение картинной галереи в Дрездене связано с именем Августа II Сильного — курфюрста Саксонии, короля Польши, князя Литовского, отличавшегося необыкновенной физической силой. Крестным отцом был король Франции Людовик XIV. Курфюрст дружил с императором России Петром I. Как другие европейские монархи, Август II вел активное строительство, в утонченно-величественных архитектурных сооружениях, создавая памятник своего времени. При нем строительные работы в центре Дрездена возглавил придворный архитектор Маттеус Даниэль Пеппельман. В 1711–1728 годах, под влиянием выдающегося итальянского зодчего эпохи барокко Джованни Лоренцо Бернини, он возвел Цвингер[158] — один из красивейших архитектурных ансамблей города. Здесь, в здании, построенном уже в XIX веке архитектором Готфридом Земпером также по итальянским образцам, и ныне располагается Дрезденская картинная галерея.
Еще в молодости Август II, много путешествуя по Франции, Испании, Чехии, начал составлять свое собрание, в которое наряду с драгоценностями входили произведения изобразительного искусства. В 1720 году, по предложению лейб-медика Гейхера, он перенес часть коллекции в Цвингер, но смерть курфюрста Саксонии в 1733 году прервала это начинание. Единственным законным наследником Августа II Сильного стал его сын Август III, безвольный человек, унаследовавший от отца только одну страсть — собирательство картин. Он не жалел средств на их приобретение в Венеции, Болонье, Праге. Коллекция живописи продолжала пополняться, и 25 сентября 1855 года Дрезденская картинная галерея стала общедоступной для посещений, а шедевры ее собрания получили широкое мировое признание.
Особенно неизгладимое впечатление на Алексея Саврасова произвела знаменитая «Сикстинская мадонна» Рафаэля Санти, ныне одна из самых известных картин мировой живописи. Однако широкую известность она получила лишь в XVIII веке, а истинное признание только в XIX столетии, более чем через 300 лет после ее создания.
Долго Алексей Кондратьевич неотрывно смотрел на шедевр Рафаэля, оценивал и восхищался мастерством исполнения, тонкостью трактовки и силой звучания образа, а также вспоминал историю создания прославленного произведения, недавно рассказанную ему Карлом Герцем. В 1512 году Рафаэлю Санти был дан заказ: написать алтарный образ для бенедиктинского[159] монастыря Святого Сикста, в Пьяченце. Название полотна было связано также с тем, что главный алтарь монастырской церкви посвятили святым Сиксту и Варваре, которых изобразил художник в картине по сторонам от Девы Марии. Это поручение Рафаэль получил от папы Юлия II, для которого ранее, в 1508 году, выполнил свои знаменитые росписи станц[160] Ватиканского дворца.
Итак, окончилось знакомство художника с Дрезденской галереей — с уроками «старых мастеров», загадками их произведений, столь поучительными для него. Карлу Герцу он как всегда лаконично писал: «В Дрездене я посетил картинную галерею и удивлялся великим произведениям Рафаэля, Гольбейна, Мурильо, Рембрандта…»
А далее — дорога в Берлин на поезде. Под мерный ритм колес мелькали равнины, деревушки, небольшие города, на которые не уставал смотреть художник. В Берлине его поразил «прусский порядок», повсюду — военные, предельная четкость во всем, безукоризненно прямые улицы. Саврасовы остановились в меблированных комнатах Кунитце и Куде и сразу же отправились осматривать город, прошли по мосту через Шпрее, украшенному бронзовой скульптурой курфюрста Фридриха, видели грозный королевский замок, и, конечно же, Алексей Кондратьевич не мог не посетить выставку в Академии художеств. Здесь были представлены произведения современных немецких художников, что особенно заинтересовало пейзажиста. Он снова писал послания в Россию. Одно из них — срочное, просьба к Карлу Герцу выслать в Берлин 100 рублей, без которых Саврасовы не смогут вернуться на родину. Однако Карла Карловича тогда не было в Москве, и на письмо ответил его брат Константин. Он же выслал необходимую сумму, получив ее в Обществе любителей художеств.
Спустя три месяца после начала поездки, побывав в Англии, Франции, Швейцарии и Германии, через Петербург Саврасовы прибыли наконец в Москву. В итоговом отчете, составленном Алексеем Кондратьевичем для Общества любителей художеств, он кратко замечал: «Посетил в Лондоне Британский музей, Национальную галерею, постоянную выставку акварельных живописцев и кристальный дворец. В Копенгагене музей Торвальдсена. В Берлине старый и новый музей, выставку Академии Художеств и выставку Сакса[161]. В Дрездене Дрезденскую Картинную галерею. В Лейпциге городской музей и Художественное общество. В Париже все отделения Лувра, Люксембургскую галерею… В Мюнхене Глиптотеку, старую и новую Пинакотеку… выставку картин Каульбаха (времена реформации), назначенную для Берлинского музея»[162]. В частном письме Карлу Герцу Алексей Саврасов был все же более эмоционален и, отчасти шутя, замечал: «…мне очень интересно знать, не раскаивается ли общество, что послало за границу такого ненасытного художника. Если и так, то меня утешает мысль, что именно теперь я могу быть полезен обществу»[163].
Возвращение в Россию, встреча с маленькой дочерью Верочкой, родными и друзьями, самой Москвой доставили Алексею Кондратьевичу и Софье Карловне не меньше радости, чем все путешествие, ценность которого оказалась исключительной для дальнейшего творчества пейзажиста. Итак, он вернулся к привычной московской жизни, а значит, к написанию картин и преподаванию в училище. По-прежнему вся жизнь художника была связана с этим зданием — творчество, работа педагога, общение с коллегами. Да и жили Саврасовы в двух шагах от бывшего особняка Юшкова, в невзрачном двухэтажном флигеле, без водопровода и канализации, с поленницами, аккуратно уложенными на лестничных площадках к зиме. Флигель находился во дворе училища, местами мощенном, местами поросшем чахлой, вытоптанной травой летом и неизбежными грязными лужицами в течение большей части года. Здесь же располагались квартиры других преподавателей, поблизости жили ученики, натурщики. Двор был достаточно тихим, а совсем неподалеку кипела жизнь столицы. Сюда едва доносились звуки Мясницкой улицы: цокот копыт, крики извозчиков, смех прогуливающейся молодежи, а изредка и предупреждающий свист полицейского. Скромное жалованье не позволяло Алексею Кондратьевичу нанять горничную или бонну, но прислуживала им русская женщина Матрена, верная их семье, с радостью выполнявшая и хозяйственные работы, и занимавшаяся с маленькой Верой, которой на всю жизнь запомнилось, как захватывающе рассказывала Матрена сказки то о Мальчике-с-пальчике, то о Бабе-яге, то о ковре-самолете.
Софья Карловна пока готова была мириться с трудностями и отсутствием привычной для нее по родительскому дому роскоши. Как могла, она старалась скрасить их быт, привнести уют в казенную квартиру, что во многом ей удавалось. У Саврасовых всегда было чисто прибрано, даже нарядно. Софи любила разводить комнатные растения и во множестве расставляла их в кашпо по подоконникам, а большие фикусы в кадках на полу возле окон, которые, в соответствии с модой, обрамляли светлые портьеры. В их квартире не было дорогих вещей — ни антиквариата, ни зеркал, ни изысканной мебели. Детали убранства составляли немногочисленные безделушки, покрывала, салфетки, скатерти, игрушки Веры. Вкус хозяев и многочисленные картины Алексея Кондратьевича позволяли придать дому самобытную атмосферу, приятную, теплую, как для самой семьи, так и для любого гостя.
Художник, глава семейства, казалось бы, вообще не замечал бытовых трудностей, не интересовался ими, поскольку был поглощен столь любимой им работой, неравнодушно следил за событиями внутренней политики и новшествами культуры. Быстро мелькали дни и месяцы. В 1863 году в искусстве России произошло одно из важнейших событий, определившее развитие отечественной живописи на многие десятилетия, за которым с волнением следил Алексей Кондратьевич, — «Бунт 14-ти».
«Его превосходительству господину ректору императорской Академии художеств Федору Антоновичу Бруни Конкурентов на первую золотую медальПрошение.
8-го октября мы имели честь подать в Совет Академии прошение о дозволении нам свободного выбора сюжетов к предстоящему конкурсу; но в просьбе нашей нам отказали… Мы и ныне просим покорнейше оставить за нами эти права; тем более, что некоторые из нас, конкурируя в последний раз в нынешнем году и оканчивая свое академическое образование, желают исполнить картину самостоятельно, не стесняясь конкурсными задачами»[164]. Завершали прошения подписи авторов-бунтарей: «А. Морозов, Ф. Журавлев, М. Песков, И. Крамской, Б. Вениг, П. Заболотский, Н. Дмитриев, Н. Шустов, А. Литовченко, А. Корзухин, А. Григорьев, К. Лемох, Н. Петров». К ним примкнул также К. Маковский, а П. Заболотский, уже подписав прошение, просил освободить его от конкурса по семейным обстоятельствам, но к молодым живописцам сразу же присоединился скульптор В. Крейтан.
Таково документальное свидетельство «Бунта 14-ти» 9 ноября 1863 года. Событие, известное и в истории Императорской Академии художеств, и в истории отечественного искусства в целом, подготавливалось, словно вызревало, постепенно в недрах прославленного храма искусств. Его истоками стали многие объективные и субъективные события в жизни России, Санкт-Петербурга, академической среды. Это и общий исторический фон — поражение России в Крымской войне, начало царствования нового императора, сына Николая Павловича Александра II, это и нарастание революционных настроений в обществе, прежде всего в студенческой среде, это и холодно-отстраненные штампы академических требований. Таковы объективные причины «Бунта 14-ти». К субъективным следует отнести назначение темы конкурсной работы на большую золотую медаль, исключительно далекую от действительности, не отвечающую интересам учеников, а также сплоченность, единство воззрений, готовность к выражению протеста, к действиям молодых художников академии.
Кем же они были? Как возник их тесный дружеский круг? Под влиянием каких конкретных первоисточников формировались взгляды? Почему им сочувствовали Алексей Саврасов и многие ведущие художники того времени? Говоря об этом, нельзя не уделить внимания личности Ивана Николаевича Крамского — одного из центральных представителей, главного идеолога назревавшего «бунта». Все начиналось еще в 1858 году, когда Крамской, удостоенный второй серебряной медали за рисунок с натуры, чтобы отметить заметное событие, пригласил друзей не в трактир «Золотой якорь», как было принято в академической традиции, а к себе в съемную квартиру, на 8-й линии Васильевского острова. После этой первой встречи друзей у Ивана Крамского их сборы стали почти ежедневными по окончании вечерних академических классов. В течение таких вечеров художники рисовали, много читали вслух из лучших образцов современной литературы, спорили об искусстве. Так вырабатывался новый философский и эстетический взгляд на современное творчество, его цели, темы, специфику решения образов. В изобразительном искусстве они хотели выражать идеи, созвучные новым произведениям литературы, публицистики, новым политическим воззрениям.
И потому закономерно, что лучшие ученики академии, претендующие на получение большой золотой медали, не смогли согласиться с решением академического Совета — писать картину на сюжет из скандинавской мифологии «Пир в Валгалле». Претенденты на золотую медаль, и историки, и жанристы, назвавшись историческими живописцами, вошли в конференц-зал академии, где Ф. Ф. Львов огласил им сюжет — «Пир в Валгалле». На картине должно было быть представлено изображение сражающихся рыцарей под предводительством бога Одина, на плечах которого сидят два ворона, а у ног два волка. В небесах, между колоннами, следовало показать месяц, гонимый чудовищем в виде волка. После этого к конкурсантам подошел ректор Ф. А. Бруни, чтобы, согласно принятому порядку, дать пояснения.
Но именно в этот момент, нарушая установленную церемонию, Иван Крамской, встав, произнес: «Просим позволения перед лицом Совета сказать несколько слов. Мы два раза подавали прошение, но Совет не нашел возможным исполнить нашу просьбу; мы, не считая себя в праве больше настаивать и не смея думать об изменении академических постановлений, просим покорнейше освободить нас от участия в конкурсе и выдать нам дипломы на звание художников»[165]. Последовало молчание, после чего двое из членов Совета, Г. Г. Гагарин и К. А. Тон, спросили «бунтарей»: «Всё?» Последовал утвердительный ответ, конкурсанты покинули заседание. Недавним ученикам академии было предписано освободить мастерские незамедлительно. Они остались без официальной поддержки, без перспектив и без средств к существованию.
Обращаясь к этим, казалось бы, широко известным событиям 1863 года, все же возникают вопросы: как и почему молодые художники смогли решиться на столь рискованный шаг? Что предшествовало «Бунту 14-ти» в академической жизни? Насколько его участники предвидели возможные последствия? Обращаясь к предыстории «грозового» события, следует упомянуть, что еще 22 сентября 1862 года Совет академии принял решение, что при присуждении большой золотой медали не будут учитываться различия между родами живописи, будет утверждаться не конкретная программа, а самая общая тема, как, например, «Война», «Грусть», «Радость». Такое нововведение соответствовало взглядам эпохи, приветствовалось учениками академии.
Всего год спустя академический Совет, противореча своим же решениям, задал историческим живописцам-конкурсантам узкую тему — «Пир в Валгалле». Справедливости ради, нельзя не сказать о том, что жанристы получили другое задание. Их тема звучала как «Освобождение крепостных крестьян», была обращена к недавним исключительным, переломным событиям в истории всей России — к реформе императора Александра II. Однако молодые художники-жанристы решили примкнуть к историкам и вместе с ними выступили с протестом.
Нельзя не отметить, что подобные настроения были весьма характерны для «бунтарского» времени 1860-х годов. Элементы обличения звучали интенсивной нотой в творчестве Перова, Неврева, Соломаткина — наиболее типичных представителей московской школы, лишь дебютировавших тогда в столице. Петербург же, центр дворянской культуры, не знал столь резких и новаторских выступлений со стороны художников, сформировавшихся в его среде[166]. И, конечно же, ведущие представители московской школы, а в их числе и Саврасов, с немалым волнением ожидали развития событий.
Итак, «бунт» свершился и имел огромный общественный резонанс по всей России, в наибольшей степени в Петербурге и Москве. Каждый из художников той поры так или иначе откликнулся в своих произведениях на произошедшее.
Алексей Кондратьевич во многом был согласен с «бунтарями», однако свои задачи в искусстве он видел несколько иначе — передача правды жизни через пейзажный мотив и его настроение. Из европейской поездки он привез немало этюдов, которые надо было использовать в написании картин. Для этого художник выполнял целые серии эскизов и набросков, менял колористические сочетания, ракурсы, масштаб изображений. Кропотливая работа потребовала нескольких лет. Теперь именно альпийские образы заняли одно из главных мест в его творчестве. На основе привезенных этюдов — видов Интерлакена, Гриндельвальда, Бернского Оберланда — художник начал работу над рядом картин. На несколько лет изменилось содержание сюжетов в творчестве живописца: теперь он воспевал природу Швейцарии.
Саврасов обычно все дни напролет проводил в училище: вел утренние и вечерние занятия, работал с учениками на натуре, считая себя не столько их педагогом, сколько старшим товарищем, который работает рядом с ними. С наступлением весны молодые художники во главе с взволнованным наставником спешили за город, чтобы видеть, отобразить в этюдах пробуждение природы — первую траву, фиалки, расцветшие дубы…
В 1863 году Алексея Кондратьевича удостоили высокой награды — ордена Святого Станислава 3-й степени. Художник пользовался заслуженным признанием. Его этюды, исполненные во время заграничной поездки, произвели немалое впечатление на московских художников, не только профессионализмом исполнения, но, главное, правдой звучания, контрастом с однообразием несколько декоративных пейзажей Александра Калама.
В 1860–1865 годах деятельность Алексея Кондратьевича была связана и с административными реформами, касающимися устава училища, и с достаточно напряженной творческой работой, о чем позволяет судить письмо Саврасова руководству Общества любителей художеств, в котором он отчитывается о сделанном. Художник писал: «…Сообщаю Вам сведения о моей деятельности 1863 года. Из путешествия по Швейцарии исполнено мною две картины, из русской природы три [картины], из которых одна „Осень“ удостоена С.П.О.П.Х. (Санкт-Петербургским обществом поощрения художеств. — Е. С.) второстепенной премии. Кроме того мною нарисовано несколько рисунков карандашом для Г[осподина] члена Общества Любителей Художеств Борисовского. Примите уверение в истинном к Вам уважении. Академик А. Саврасов. 1864. 26 января»[167].
1864 год нельзя назвать исключительно удачным для Алексея Кондратьевича. Критика не столь благосклонно воспринимала новое направление его творчества: например, картине «Веттергорн» были даны и негативные оценки в журнале «Развлечение». Автор статьи, назвавшийся псевдонимом «Новый человек», обрушился на художника с довольно резкой критикой, к тому же не только сюжета композиции, но и непомерно высокой, на его взгляд, цены. Вряд ли пейзажист, учитывая, какой длительный и напряженный труд был вложен им в картину, мог согласиться с таким мнением. Нарастали и бытовые сложности, увеличивались расходы, а художнику при всем желании не удавалось обеспечивать семью так, как желала Софья Карловна. В годы детства и юности она привыкла к достатку, хотела покупать дорогие модные платья на Кузнецком Мосту, новую мебель, посещать театры и балы, что требовало весьма немалых затрат. Таких средств в семье Саврасовых не было, и Софи с годами устала ограничивать себя, раздражалась все чаще.
Вероятно, из-за постоянной усталости и предельного напряжения сил Алексей Кондратьевич тяжело заболел, не мог работать над заказами, что еще более ухудшило материальное положение их семьи. Пейзажист был вынужден обратиться в Общество любителей художеств с просьбой о ссуде. В дальнейшем такие просьбы будут повторяться многократно, свидетельствуя о все более и более тяжелом и материальном, и психологическом состоянии Саврасова, об ухудшении его здоровья и тающих надеждах на позитивные перемены. 14 мая 1864 года Алексей Кондратьевич писал: «Имею честь представить в Комитет Общества Любителей Художеств написанную мною картину Вид Тунского озера, которую прошу покорно Комитет принять, по оценке означенною комиссией в уплату на мне лежащего Обществу долга в 200 руб. Академик А. Саврасов»[168].
Общество имело возможность предоставлять ссуды. Совсем немаловажно, особенно для молодых художников, было то, что лучшим картинам присуждались денежные премии, а многие покупались благосклонными посетителями. В зимнее время здесь устраивались так называемые «пятницы», на которые по вечерам приходили маститые живописцы и богатые меценаты. Ставилась натура, и все увлеченно рисовали, лишь изредка обмениваясь короткими репликами. Посещал такие собрания и Алексей Саврасов, чувствовал себя на них несколько неловко, зато с удовольствием слушал музыку. Иногда кто-нибудь во время сеансов рисунка играл на рояле, кроме того, пели — исполняли арии, романсы, читали стихи. Вечера оканчивались скромной закуской, и вновь Саврасову было не по себе. Алексей Кондратьевич, скромный и замкнутый по своей природе, присутствовал на «заседаниях» скорее по необходимости, тяготясь подобным времяпрепровождением.
Скучными такие собрания, куда не допускались молодые художники, казались не только ему, но и художнику-любителю К. С. Шиловскому, впоследствии актеру Малого театра Лошивскому, человеку живому, талантливому, высокообразованному, как характеризовал его В. А. Гиляровский. Тяготясь «пятницами» Общества, он решил организовать «субботы» в своей квартире в Пименовском переулке. Здесь царила совсем другая атмосфера — приходило много молодежи, все то рисовали, то собирались за большим чайным столом, непринужденно беседовали и шутили. Позднее известность приобрели и «среды» В. Е. Шмаровина, где в основном занимались акварелью. Именно здесь однажды ученик Саврасова Левитан нарисовал акварельный пейзаж, характерный для него по настроению, тогда же французский баталист Дик де Лонлей изобразил боевую сцену, кто-то — карикатуру, а кто-то — натюрморт.
Наступил 1865 год. Полоса неудач в жизни Саврасова сменилась долгожданным успехом. Он получил интересный и престижный заказ. Председатель Московского общества любителей художеств, известный ученый-археолог граф Алексей Сергеевич Уваров поручил ему, а также ряду других художников, в том числе Ивану Соколову и Владимиру Маковскому, исполнить серию картин с изображением видов различных местностей России и других стран. Этот проект осуществлялся для Благородного собрания, ко времени устройства новогоднего праздника. А. К. Саврасов должен был написать шесть декоративных панно с видами Греции, Кавказа, Крыма, Малороссии и Великороссии. Для него эта работа не только ответственна, но очень интересна как проба сил в новом направлении — в творчестве декоратора. Работал он увлеченно, и написанные панно были оценены и заказчиком, и зрителями по достоинству. Да и сам автор остался доволен, когда посетил вместе с супругой Благородное собрание в дни новогодних праздников 1866 года и увидел в нескольких залах свои композиции, удачно дополнившие изысканные интерьеры.
Тогда Новый год Москва праздновала особенно раздольно, будто наперекор всем политическим катаклизмам и экономическим сложностям. Какие только забавы и развлечения не были приготовлены для москвичей! Карусели, фейерверки, катание на нарядных санях, уличные представления, ледяные горы. В студеном, заснеженном городе вечерами множеством огней светился дом генерал-губернатора, особенно ярко выделявшийся маяками окон в иссиня-черной зимней ночи. До пяти часов утра здесь не останавливались танцы — вальс сменял мазурку, а потом наступал черед быстрой польки, кружились дамы, не уставая демонстрировать богатые наряды и ювелирные украшения, прически и всевозможные аксессуары: шляпки, шпильки, булавки, кружево и тесьму, веера, перчатки, ридикюли (ретиюоли), карнэ — записные книжки дам для бала. В здании Благородного собрания одна мелодия сменяла другую, вспыхивали бенгальские огни. Здесь можно было видеть немало маскарадных костюмов. Гостей обслуживали нарядные украинки, грузинки, черкешенки, русские крестьянки, итальянки. Сколько напитков предлагалось присутствующим — целебный нарзан, душистый чай, ароматный апельсиновый сок, фруктовые воды. Алексей и Софья Саврасовы веселились со всеми от души — играли в лотерею, пили шампанское, смотрели на кружащиеся пары и, конечно, любовались панно, написанными известными художниками, которые в свете хрустальных люстр оставляли несколько иное, еще более сильное впечатление.
Чета Саврасовых привлекала к себе взгляды в пестрой толпе — Софья Карловна светлым пышным нарядом, который особенно шел ей, Алексей Кондратьевич — высокой статной фигурой, облаченной в темный строгий костюм, с золотым крестиком в петлице, орденом Святого Станислава. Софи этот праздник запомнился надолго, такие вечера случались в ее жизни нечасто. Тем не менее она была довольна судьбой, радовалась семейным хлопотам, гордилась мужем. Как казалось ей тогда, он все более и более прочно встает на ноги. Молодая женщина и предположить не могла, какие перемены, болезненные, сложные, ждут их в совсем недалеком будущем. Будто пронизывающий ветер беспощадным холодом ворвется в цветущий сад, губя и ломая все вокруг. Но пока ничто не предвещало бедственных перемен — Софи беззаботно веселилась на балу, то и дело что-то говорила своему мужу, который согласно кивал ей и сдержанно улыбался. После новогодних праздников вновь привычно и размеренно текла их жизнь. Художнику хотелось верить, что такое неизменное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне останутся надолго.
В середине 1860-х годов его избирали присяжным заседателем. Саврасов аккуратно в назначенные часы появлялся в зале суда. Иногда сюда приходил полюбоваться на сына и его отец — сильно постаревший, но еще бодрый старик Кондратий Артемьевич, облик которого стал со временем еще более респектабельным, характерным для представителя купеческого сословия. Он гордился сыном, часто думал о том, как сложилась его жизнь. Вспоминал, что был против его занятий рисованием, квартируя по углам, снимая комнаты у купцов и мещан. Разве могли они с женой, покойной Прасковьей, предположить, каких высот достигнет их сын, да еще на таком зыбком художественном поприще? Жизнь, однако, скупая на подарки, как был убежден Кондратий Саврасов, преподносит порой и приятные сюрпризы. Искренне и горячо он желал теперь счастья сыну, глубоко переживая вместе с ним все удачи и разочарования.
По настоянию Софи семья художника регулярно отправлялась на прогулки. Алексей Кондратьевич нередко выбирал маршрутом для таких «путешествий» Мясницкую улицу и центр города. Они неспешно проходили мимо дома Юшкова — Московского училища живописи и ваяния, шли по другой стороне улицы до Лубянского проезда. Иногда заглядывали в обширный торговый двор, здесь расположенный, застроенный лавками, где торговали сезонным товаром: весной, летом, осенью — ягодами, овощами, зеленью, зимой — мороженой рыбой, а круглый год — живыми раками с Волги, Оки, Дона, которых продавали из огромных плетеных корзин. Здесь товар покупали обыватели, а особенно активно разносчики, которые с пудовыми лотками на голове отправлялись по всей Москве, чтобы доставить заказ своим постоянным покупателям. От Мясницкой улицы иногда Саврасовы направлялись сразу же на Лубянскую площадь, где можно было увидеть диковинных животных в зверинце, в том числе огромного слона.
Они всей семьей бывали в Зоологическом саду, парках, однажды слушали концерт Генриха Венявского в экзерциргаузе, смотрели представление известного конькобежца Джаксона Гайнса на катке в популярном у москвичей Зоологическом саду. Алексей и Софья даже решили посетить скачки. Бега на Ходынке славились с середины XIX века. Они разыгрывались, как правило, по трем дорожкам: каждая лошадь бежала по своей. «В первое время билеты были только рублевые, лошади скакали по две, по три, редко по пять. Игра не шла потому, что увлекающий азарт отсутствовал. В каждой скачке была известная всем лучшая лошадь, которая и обходила легко соперников, а потому и выдавали выигравшим не больше гривенника на рубль»[169]. Среди посетителей скачек преобладали знатоки этого спорта, знавшие массу всевозможных тонкостей и нюансов, заядлые игроки, но приходили также новички, праздные зеваки, а иногда появлялись здесь и представители интеллигенции, как, например, Саврасовы.
Конечно же, особенно они интересовались периодическими выставками Общества любителей художеств, которые проходили на Тверском бульваре в доме Дубовицкой. В одной из таких экспозиций были представлены преимущественно произведения иностранных живописцев: Вальдмюллера, Мейссонье, Ахенбаха, Калама. После сосредоточенного внимания, которого требовал осмотр экспозиций, Алексею Кондратьевичу и его супруге было приятно пройтись по улицам оживленной, праздничной, нарядной Первопрестольной. Они заглядывали в магазины, где бойко шла торговля, порой заходили в ресторан, чтобы отведать что-нибудь из всего изобилия предлагаемых блюд: экзотические ликеры или старинную боярскую романею, аллаш или ром с букетом ананаса, или запеканку с душистой киевской наливкой.
Саврасовы любили также принимать гостей в своей уже ставшей уютной квартире, да и сами наносили визиты. Друзья, коллеги художника собирались, как было принято говорить, на чашку чаю, рассаживались вокруг самовара, угощались бутербродами, выпечкой, сладостями, вели оживленные беседы исключительно в мужском кругу. Софи, проводя большую часть времени дома, также в определенные дни принимала знакомых дам, согласно обычаям того времени, или сама посещала их, отвечая на приглашения.
У Саврасовых нередко бывали известные художники, как, например, Василий Владимирович Пукирев. Среди собравшихся его внешность сразу же привлекала к себе взгляды присутствующих изяществом, аристократизмом, сдержанностью. Часто заходил Василий Григорьевич Перов, друг и покровитель Алексея Кондратьевича. Выглядел он очень серьезным, строгим, вдумчивым. Славились и в Москве, да и по всей России его композиции «Приезд станового на следствие», «Сцена на могиле», «Крестный ход в Курской губернии», «Чаепитие в Мытищах», «Дилетант», «Сватовство» и, конечно, «Тройка» с незабываемыми лицами обездоленных детей.
Изредка бывал профессор Николай Александрович Рамазанов, признанный тогда критик, однажды весьма неоднозначно высказавшийся в печати, что художник, имея в виду Алексея Кондратьевича, «омоет свои кисти от всякой грязи и подарит публику в будущем чем-либо истинно прекрасным…»[170]. У Саврасовых можно было встретить напоминающего крестьянина многогранно одаренного Сергея Андреевича Юрьева — математика, астронома, переводчика, философа, драматурга, а также его друга Николая Александровича Чаева — знатока и ценителя русской старины, директора Оружейной палаты Московского Кремля, известного литератора. Заходили в гости пейзажист Лев Каменев, скульптор Сергей Иванов, живописец Евграф Сорокин, коллекционер А. А. Борисовский, который приобрел ряд ландшафтов Саврасова, известную картину Пукирева «Неравный брак». Столь разные люди, яркие индивидуальности, которые вместе с тем имели немало общего — любили искусство и служили ему — составляли круг общения Алексея Кондратьевича.
Они рассуждали о выставках, текущих событиях в училище, своих учениках. На одной из таких встреч поздравляли Сергея Ивановича Иванова со вступлением в должность преподавателя училища, что было немалым достижением для каждого художника, а тем более для выходца из крестьянского сословия, как С. И. Иванов. Заговорили о его скульптурных произведениях, с одобрением вспоминали выразительные образы мальчика с шайкой в бане, композицию «Материнская любовь». Именно о ней поэт Афанасий Фет написал, что эта статуя «как бы вся вышла из глубокого и задушевного изучения антиков…», однако в ней автору несомненно удалось передать образ именно России, жизненный, убедительный, вневременной в своем решении. Молодая крестьянка поднимает на руках сына — здорового, жизнерадостного младенца и смотрит на него с бесконечной любовью.
Собравшиеся хвалили скульптора за исключительно простой, но наполненный глубинным содержанием образ, а Алексей Кондратьевич заметил, что во многом подобным образом следует решать задачи пейзажной картины. Его полностью поддержал ученик и коллега Лев Каменев, согласно кивал Василий Перов, а Сергей Юрьев, воодушевившись беседой, провозгласил своим густым басом: «Просвещение народа — это наш самый главный долг…» В такой несколько выспренной фразе раскрывалась личность Юрьева и суть его убеждений. Он принадлежал к поколению 1840-х годов, стоя на позициях идеализма, свято верил в правоту своих убеждений. О них зачастую долго пространно говорил, рассуждая о том, что только в искусстве заключено истинное воплощение добра и красоты, что только в единении с другими людьми, в служении одному делу формируются нравственные личности, что только в преданности окружающим может проявиться дух народности.
Так во время дружеских встреч и чаепитий затрагивались злободневные вопросы, обсуждались важнейшие в искусстве, в отечественной культуре темы. Так складывались творческие принципы, оттачивались взгляды и методы. Подобные вечера во многом дали основу становления одному из важнейших направлений искусства России — реализму, что нашло подтверждение в творчестве лучших живописцев и графиков, прикладников и скульпторов, архитекторов и критиков своего времени, среди которых одно из центральных мест заняли по праву произведения Алексея Саврасова.
Отступили вьюги, и в жизнь художника вместе с весной пришли новые события. В апреле, на открывшейся в Москве постоянной выставке любителей художеств, произошла смена картин и зрителям были представлены произведения В. Г. Перова, А. П. Боголюбова, А. К. Саврасова, Н. В. Неврева и многих других. Но для Алексея Кондратьевича открытие этой экспозиции стало не столько радостным, сколько тревожным событием. Критики давали нелестные оценки его швейцарским произведениям. Например, Н. А. Рамазанов, восхищенно писавший о ранних картинах Алексея Кондратьевича, теперь так характеризовал его новые работы: «Прогуливаясь взором по швейцарским горам г. Саврасова, мы опять сожалеем, что этот художник не вводит нас в леса родного севера, как он делал это прежде. Лес, прибрежья, долины, писанные им не далее как в окрестностях Москвы, были так привлекательны! Предоставим же Швейцарию Каламу и вспомним, что Сильвестр Щедрин овладел в совершенстве итальянской природой лишь в двенадцатилетнее знакомство с нею»[171].
Обоснованны ли такие суждения? Как в наши дни следует оценить швейцарские пейзажи живописца? Известны его произведения: «Швейцарский вид» (1862), «Вид в швейцарских Альпах (гора Малый Рухен)» (1862), «Озеро в горах Швейцарии» (1866), «Швейцарский пейзаж с лошадьми» (не позже 1867). При всех несомненных достоинствах этих картин они дают и основу для подобных критических высказываний, поскольку отличаются некоторой холодностью исполнения, отстраненностью художника от изображенной природы. Отсюда происходит однообразие композиционных и цветовых решений, живописной манеры, отсутствие выразительных деталей. Эти пейзажи не вызывают в зрителе сопереживания, как более ранние произведения Алексея Саврасова или известнейшие его картины, посвященные видам России. Однако ценность создания художником швейцарских пейзажей бесспорна. Ему удалось достоверно отразить характерные для данной страны виды, в них продолжить развитие реалистической пейзажной живописи. Но глубины трактовок, теплоты, особой жизненности, присущих отечественным пейзажам в его исполнении, в этих видах не было. Саврасов понимал, что работа над темой европейских видов для него в основном исчерпана, а суровая критика отчасти справедлива.
В 1866 году немаловажное событие произошло и в жизни училища. 22 мая был высочайше утвержден его новый устав, в разработке которого активно участвовал Алексей Кондратьевич. В частности, в уставе говорилось, что училищу дано новое название. «Оно именуется Училищем живописи, ваяния и зодчества при даровании ему права награждать своих воспитанников званиями учителя в гимназиях, большою и малою серебряными медалями с сопряженными с ними званиями неклассного и классного художников, как равно и другими преимуществами…»[172] Преподавание здесь и творческая работа Алексея Кондратьевича успешно продолжались.
В том же году он представил на конкурс Московского общества любителей художеств новую картину — «Зима». Согласно конкурсному проекту, определенному комиссией 1866 года, «1. Из сумм Общества предполагается употребить для премий 800 р. с. (рублей серебром. — Е. С.).
2. Предполагается распределить эту сумму следующим образом:
I. на две премии для жанровых картин, написанных масляными красками, первую в 150 р., вторую в 100 р. с.
II. на две премии для пейзажей, написанных масляными красками, первую в 150 р., вторую в 100 р. с.
III. на две премии для жанровых акварельных рисунков, первую в 100 р., вторую в 50 р. с.
3. В конкурсе могут участвовать только Члены-Художники Общества.
4. Члены-Художники не могут быть избираемы для присуждения премий…»[173] Участие в подобных конкурсах и лотереях представляло интерес для Алексея Саврасова, давало ему дополнительный творческий стимул, а также дополнительный заработок, о котором вынужден был думать художник.
В 1860-е годы Алексей Кондратьевич развивал новую для себя художественную сферу — театральное искусство. Такое увлечение вполне закономерно, поскольку многие преподаватели и даже ученики Училища живописи были знакомы с московскими актерами, прежде всего Малого театра, где с блеском проходили постановки пьес А. Н. Островского: «В чужом пиру похмелье», «Гроза», «Свои люди — сочтемся», «Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты» и др. Алексей Кондратьевич, не имевший возможности посещать Малый театр в детские и юношеские годы, теперь с огромным удовольствием, с волнением следил за театральными премьерами. Его привлекали таинственная, самобытная, почти волшебная атмосфера театра, строгий облик здания, возведенного в центре столицы в классицистическом стиле, сдержанная красота зрительного зала, яркий свет газовых рожков, врывавшийся в полумрак, и, конечно же, сам спектакль — иная реальность, многозначная, философская, но и неотрывная от окружающей жизни.
«Здесь „великие“ закулисного мира смотрят на мелкоту, как на младших товарищей по сцене, потому что и те, и другие — люди театра. Ни безденежье, ни нужда, ни хождение пешком из города в город не затуманивали убежденного сознания людей театра, что они люди особенные. И смотрели они с высоты своего призрачного величия на сытых обывателей, как на людей ниже себя»[174]. Художник любовался игрой знаменитого актера Прова Михайловича Садовского, видел множество ролей в его исполнении: Тита Титыча и Дикого, Подхалюзина и Юсова, а также Нила Федосеевича Мамаева — барина, статского советника, родственника честолюбца Глумова в пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты», премьера которой состоялась в ноябре 1868 года в Малом театре и пользовалась огромным успехом, билеты на спектакли купить было почти невозможно.
В 1866 году у них с Софьей Карловной было уже трое детей: пятилетняя Вера, совсем маленькая Надя и младенец Анатолий. Летом мальчик, родившийся слабым, ушел из жизни, а в начале следующего года не стало и Нади. Алексей Кондратьевич очень тяжело переживал эти утраты, вспоминал и о потере их первого ребенка: девочка, родившаяся через год после свадьбы, в 1858 году, вскоре умерла.
Но на смену этой боли в семью Саврасовых пришло, наконец, и радостное событие. 2 ноября 1867 года у них родилась здоровая девочка, которой дали имя Евгения, а в семье стали ласково называть Женни. Сохранилось ее свидетельство о рождении, в котором говорится: «По указу Императорского Величества из Московской духовной консистории выдано в том, что в метрической книге московской Флоролаврской церкви 1867 года № 10 писано: ноября 2 числа родилась Евгения, крещеная 1 декабря. Родители ее надворный Советник А. К. Саврасов православного исповедания и законная его жена София Карловна, лютеранского исповедания. Восприемницей была московского купца Артемия Кондратьевича Саврасова дочь, девица Елизавета Кондратьевна. Крестил священник Николай Ромодановский…»[175]
Пройдет время, и она, решив приобрести педагогическое образование, в 1884 году получит свидетельство на звание домашней учительницы. Евгения станет супругой достаточно известного в то время в Москве фотографа Павлова. 20 мая 1888 года у нее родится сын, которому будет дана фамилия отца. Известно, что Б. П. Павлов окончит Московское реальное училище, где будет заниматься с 1897 по 1905 год.
В этот период Саврасов — признанный художник, академик, его почитали ученики, некоторые из которых, как, например, Лев Каменев, уже стали самостоятельными и достаточно известными живописцами. Все более прочным становилось и общественное положение Алексея Кондратьевича: с 1862 года он — коллежский асессор, через три года — надворный советник. Помимо ордена Святого Станислава, в 1868 году был удостоен орденом Святой Анны 3-й степени. Его избрали присяжным заседателем.
Летние месяцы в середине 1860-х годов семья обычно проводила на даче, в Мазилове или в Архангельском, неподалеку от дворца Юсуповых. Старшую дочку Алексей Кондратьевич нередко брал с собой на прогулки, вместе они любовались природой, и в его творчество вновь все более прочно входили русские мотивы. Одним из подтверждений тому является картина «Пейзаж с избушкой» (1866), где непритязательный мотив трогателен, наполнен искренним чувством. Подобное звучание характерно и для других произведений пейзажиста: для этюда «Кутузовская изба в Филях» (1860-е), к одной из самых светлых и музыкальных его картин — «Сельский вид» (1867).
Именно Мазилово и окрестности селения подарили ему много художественных замыслов и впечатлений. Он любовался непритязательным обликом деревенских домов, его не оставлял равнодушным крестьянский быт. Планировка крестьянского дома, его внутреннее убранство, детали интерьера могли немало «рассказать» о духовных устоях, вере и верованиях народа. Элементы крестьянской архитектуры, особенно богато украшенные резьбой и росписью, ворота, наличники окон, крыльца свидетельствовали о сохранении древних народных традиций. Вместе с отцом маленькая Вера любовалась диковинными оконными наличниками, украшенными изображениями львов, фантастических симарглов, невиданных цветов и трав.
В крестьянских селениях художник находил отзвуки героической эпохи 1812 года. Не раз Алексей Кондратьевич ходил из Мазилова в Фили. По дороге любовался цветением лугового разнотравья. Вдали чуть покачивались вершины корабельных сосен, склонялись в задумчивости ветлы, на обочинах ярко блестели земляничные листья, и дорога уходила вдаль, будто приглашая идти вперед, дальше и дальше по дороге жизни, ничего не боясь.
В воздухе пахло свежескошенной травой, аромат которой, разогретый в летнем зное, Саврасов любил с детства. И вот перед ним на краю ржаного поля показалась изба крестьянина Фролова, ставшая исторической достопримечательностью, где в грозном 1812 году фельдмаршал Кутузов, собрав военный совет, принял решение оставить Москву. С особым чувством художник с дочкой зашли в избу. Когда глаза привыкали к царящему вокруг полумраку, Алексей Кондратьевич стал жадно вглядываться в сохранившийся массивный дубовый стол, на котором стояла чернильница, в грубую по фактуре сосновую скамью, мерцающие при свете лампады оклады икон, в портреты генералов на стенах, тех, кто участвовал в военном совете. Саврасов исполнил «Пейзаж с избушкой», показав скромную, ничем внешне не примечательную постройку среди золота ржи, и именно такая трактовка содержала особенное историко-философское содержание — за обычностью, обыденностью облика раскрывались ход времени, жизнь народа, его вневременные духовные устои, с детских лет близкие художнику.
Неподалеку от Мазилова он нашел мотив для одного из своих самых лирических пейзажей — «Сельский вид», словно наполненный негромкой нежной мелодией весны. Такое состояние природы было ему особенно дорого — появляются первые ростки, яркие, задорные, рвущиеся к солнцу, только-только начинают раскрываться почки, деревья неспешно расправляют ветви после зимних бурь, пробуждаются запахи проснувшихся полей и перелесков, окутанных прозрачной прохладой, звенящими переливами птичьих трелей. Для него по-своему интересен, содержателен каждый мотив, даже самый простой и привычный. Так, в картине «Лунная ночь. Болото» живописец смог тонко передать особенности цвета, освещения, преобразившие ничем не примечательный пейзаж в запоминающийся образ.
И вновь пришло время немаловажных событий в жизни художника. В 1867 году Алексей Саврасов отправился в зарубежную поездку — на этот раз в Париж, на Всемирную выставку. Для участия в ней он завершил ряд картин: «Вечер в степи», «Русская деревня», «Лес зимою»[176]. Новая встреча со столицей Франции не могла не обрадовать пейзажиста. Он снова спешил посетить Лувр, осматривал зал за залом. Облик Алексея Саврасова несколько изменился за прошедшие годы. Ему уже 37 лет — пришла пора зрелости. Он серьезен, сдержан. Все в нем выдает интеллигента, труженика, мыслящего и тонко чувствующего талантливого человека. Таков типичный разночинец 1860-х годов, представитель отечественного искусства своей эпохи.
В залах Всемирной выставки Алексей Кондратьевич особенно выделил на этот раз пейзажи барбизонцев. Идеи их искусства оказались не только понятны, но и очень близки Саврасову, однако он стремился не к подражанию им, а к созданию своих, индивидуальных образов, к воспроизведению национальной красоты России.
Именно такие задачи он успешно решил в картине «Лосиный остров в Сокольниках», получившей первую премию «по части ландшафтной живописи» на конкурсе Московского общества любителей художеств. Данный пейзаж — одна из его ярких творческих удач, где на основании самого непритязательного мотива создана картина, найдены образ, настроение, идейное звучание. Сокольники тогда представляли собой дачную местность, ничем не примечательную для обывателя. Алексей же еще со студенческой поры часто бывал здесь, нередко приходил и с этюдником, работал над пейзажами. В 1869 году он избрал для композиции вид на опушке Лосиного острова за Сокольничьей рощей. Золотится небо, приближается закат. Среди жемчужной дымки поднимаются к небу корабельные сосны, пасется стадо коров, и уходит вдаль дорога с рытвинами, кочками да примятой травой по обочинам. Через отточенность рисунка, колорит, каждую деталь автору удалось передать и правду жизни, и поэзию пейзажа.
О направленности его работы, изучении современной живописи Франции позволяют судить и другие произведения конца 1860-х — начала 1870-х годов, в которых он утверждал ценность каждого, даже самого незатейливого на первый взгляд мотива: «У колодца», «Лунная ночь в деревне (Зимняя ночь)», «Лунная ночь. Болото», «Вечер», «Пейзаж с болотом и лесистым островом».
После возвращения из Парижа Алексей Кондратьевич вновь плодотворно работал, с новыми впечатлениями и силами, реализуя множество замыслов.
В начале лета 1870 года он решил уехать под Нижний Новгород, чтобы работать с натуры над этюдами для картины «Печерский монастырь под Нижним Новгородом». По дороге, любуясь волжскими просторами, пейзажист с нетерпением ждал, когда же перед ним откроется панорама древнего города с его церквями и монастырями, могучим кремлем и старинными особняками. И вот, наконец, он стоял перед кремлевскими стенами, поднимающимися уступами по Дятловым горам, будто впитывал в себя их образ, складывавшийся веками, вспоминал историю крепости-града, раскинувшейся при слиянии двух полноводных рек-красавиц — Волги и Оки.
Перед глазами художника вставали «картины», неотрывно связанные с народной жизнью, — конечно же, образы знаменитых Нижегородских торговых рядов. С начала XIX столетия сюда была переведена Макарьевская ярмарка, принесшая городу славу на всю Россию. Как писал о ней А. С. Пушкин: «Сюда жемчуг привез индеец, / Поддельны вина европеец». Чем здесь только не торговали! Приезжал народ на ярмарку из далеких городов, городков и деревень, а немало из Москвы, Петербурга, да и иностранцев во время работы ярмарки в Нижнем можно было видеть повсюду.
Эта ярмарка, проводившаяся каждое лето, славилась как крупнейшая не только в России, но и во всей Европе. Товары сюда было удобно доставлять водным путем, привозили их также по железной дороге, а с востока старыми торговыми путями — на баржах и караванами. В летние месяцы город преображался — население увеличивалось с 40 до 200 тысяч человек. «Нижегородская ярмарка была одной из самых впечатляющих достопримечательностей дореволюционной России, головокружительным калейдоскопом зрелищ, звуков и человеческих типов, который Мусоргский изобразил в своем фортепьянном цикле „Ярмарка в Нижнем“»[177]. Причалы Оки, тянувшиеся вдаль от города, были до предела заполнены тюками с хлопком, ящиками с чаем, на реке стояло множество судов и суденышек. Вспоминая исторические свидетельства, колорит местной жизни, Алексей Кондратьевич решил нанять извозчика и в пролетке объехать этот гостеприимный Нижний, чтобы создать о нем еще более цельное, законченное впечатление. После череды улиц с выделяющимися красивыми особняками перед ним предстал образ, подобный тому, о котором красочно рассказывал Теофиль Готье: «По обеим сторонам моста через Оку, вымощенного, как палуба парохода, брусьями, тянулись дощатые тротуары. Здесь текли толпы людей, а по проезжей части неслись повозки со скоростью, которая в России ничем не сдерживается. Но благодаря удивительной ловкости кучеров и удивительному послушанию пешеходов несчастных случаев не происходило. Река исчезла под огромным скоплением судов, в запутанном хаосе снастей. Поверх дрожек, телег, всякого рода повозок и пешеходов сразу бросались в глаза длинные казачьи пики. На казаков были возложены обязанности ярмарочной полиции, и они важно проезжали, сидя в высоких седлах на низкорослых лошадях. Шум стоял в общем сносный. В любом другом месте от такого стечения народа исходил бы невообразимый гомон, похожий на грохот морского прибоя. Обычно над таким огромным сборищем людей стоит словно туман шума, но толпа русских молчалива…
Лавчонки грубых безделиц, мелкой галантереи, дешевеньких образов, пряников и зеленых яблок, кислого молока, пива и кваса тянулись справа и слева вдоль дощатой дороги. Сзади из них торчали балки, которые, видимо, забыли отпилить, что придавало им вид корзин, бока которых еще не были заплетены корзинщиком»[178].
Неожиданно уже к концу этого небольшого путешествия, в Фабричной слободе, Алексея Кондратьевича особенно привлекла панорама волжских далей. В самой слободе в бедных хибарках жили рабочие со своими семьями, а вдали белела обитель с шатровой колокольней, храмом, монастырскими постройками, к которым примыкал посад. Именно этот образ был положен в основу решения картины Саврасова «Печерский монастырь под Нижним Новгородом». Это должен быть образ не только обители, но емкое выражение сути Волги, ее городов и селений в целом, образ-символ, раскрытый языком живописи.
После знакомства с городом пришло время подумать и о ночлеге. Художник остановился на окраине, в бревенчатом, видавшем виды доме у пожилой радушной хозяйки. Надев цветастый передник, туго затянув платок на голове, она с раннего утра и до темноты без устали хлопотала по хозяйству. Старушка убирала дом, топила печь, готовила нехитрую, но такую аппетитную еду, ухаживала за скотом, следила за садом и огородом, вовремя пропалывая грядки и собирая первый урожай — непонятно когда и как, но успевала делать все и вовремя, как большинство простых женщин-тружениц.
Алексею Кондратьевичу не терпелось вновь встретиться с Волгой, со старым другом, рядом с которым светло и спокойно. Встав еще засветло, он заспешил по немощеным извилистым улочкам, спускающимся к реке, пробрался по краю темного оврага, заросшего бурьяном, по тропе, идущей в зарослях трав и луговых цветов выше человеческого роста, и, наконец, вышел к дороге, уходившей прямо к реке. Волгу еще не было видно, но художник почувствовал ее приближение — с наслаждением вдыхал речную свежесть, доносимую легким бодрящим ветром, именно волжский воздух, несравнимый ни с каким другим, всегда разный.
Наконец в орнаментах густой листвы блеснула вдали полоска воды, искрящаяся солнечными отблесками. Волга-матушка… Сколько песен о ней сложено, сколько сказов и преданий! Сколько исторических событий и великих судеб видели ее воды: пугачевская вольница и восстания Степана Разина, непоколебимость в вере «ревнителей древнего благочестия» и пожары старообрядческих скитов.
Он остановился на взгорье над необъятной водной гладью, разложил этюдник. Налетал порывами прохладный ветер, напоенный волжской свежестью, играл в волосах, загибал листы альбома, норовил опрокинуть этюдник. Саврасову вдруг стало весело, свободно, еще больше захотелось писать и писать. Недаром просторы этой земли и реки выковывали людей особого склада — вольных, сильных духом, идущих вперед, к свершениям — одним словом, волжан.
С кручи открывался завораживающий вид — панорама древнего города, безоглядные просторы. Временами набегали тучи, шелестели о чем-то волны у песчаного берега. Саврасов, быстро работая над пейзажем, накладывал мазки масляных красок, предварительно смешивая их на палитре. Подбирая колеры, в то же время думал о какой-то до конца непостижимой связи природы и людей, об отражении этой раздольной земли и могучей реки в человеческих темпераментах, характерах, судьбах. Вновь и вновь вспоминал народные песни о матушке-Волге, распеваемые крестьянами порой так, что у них самих «в ушах дрожжанить начинало», вспоминал народные вольницы, уходивших наперекор властям в заволжские леса, дивную красоту «сказочной» крестьянской резьбы, росписи, вышивки.
Здесь, на крутом волжском берегу, художник как-то особенно остро, пронзительно почувствовал, что это — его земля, его народ, его безмерная вера, его порой трагическая, порой героическая память истории, такое близкое и понятное ему светло-юное народное искусство, глубинно-мудрое в своей лаконичной простоте, как душа России.
У самой воды поднимались ввысь вековые деревья, причудливыми узорами сплетались их корни над песком, подмытые весенним половодьем, шелестели говором листвы, словно соглашаясь с думами художника, уносили его из современности к временам далекой истории города. На его холсте все более и более четко проступали детали картины, силуэты построек — дома слободки и монастырь вдали, хранившие предания столетий.
Почитали на Руси нижегородский Печерский монастырь. Будто и о нем писал Сергей Есенин:
За горами, за желтыми долами Протянулась толпа деревень. Вижу лес и вечернее полымя, И обвитый крапивой плетень. Там с утра над церковными главами Голубеет небесный песок, И звенит придорожными травами От озер водяной ветерок. Не за песни весны над равниною Дорога мне зеленая ширь — Полюбил я тоской журавлиною На высокой горе монастырь…В полотне «Печерский монастырь под Нижним Новгородом», самой первой и самой монументальной из композиций Саврасова, посвященных Волге, художник смог объединить топографически точную трактовку пейзажа с эпическим звучанием, с личностной эмоциональной окраской, что явилось новаторским достижением в отечественной ландшафтной живописи. Ему удалось проникновенно отразить образ города, стародавней обители, простора, Отечества, а через них и духа народного. Философ Иван Александрович Ильин в своем труде «Путь духовного обновления» писал: «Тот, кто говорит о родине, разумеет духовное единство своего народа. Он разумеет нечто такое, что остается сущим и объективным, несмотря на гибель единичных субъектов и на смену поколений… Но для того, чтобы найти свою родину и слиться с нею чувством и волею, и жизнью, необходимо жить духом и беречь его в себе и, далее, необходимо осуществить в себе патриотическое самосознание или хотя бы верно „почувствовать“ себя и свой народ в духе»[179].
Несколько позднее к панорамным видам Нижнего Новгорода обратится в своем творчестве А. П. Боголюбов — «Нижний Новгород. Нижний базар», «Нижний Новгород. Стрелка ярмарки». Однако по силе художественного воздействия, остроте найденных образов они все же уступают полотну Саврасова.
Композиционный центр его картины — мужской Вознесенский Печерский монастырь, основанный в 1328–1330 годах святителем Дионисием Суздальским. По другим, менее распространенным данным, обитель была заложена более чем на сто лет ранее, в 1219 году, святым благоверным Георгием Всеволодовичем. Все же принято считать, что именно монах Киево-Печерского монастыря Дионисий искал пещеру поблизости от Нижнего Новгорода, поселился здесь в «полугоре», где вскоре основал монастырь с церковью Вознесения Господня.
По смысловому звучанию произведение во многом подобно выдающимся картинам современников Алексея Саврасова. Такие же задачи ставили перед собой молодые живописцы Илья Репин, Федор Васильев, Евгений Макаров, отправившиеся в свое путешествие по Волге летом 1870 года, о чем подробно рассказывал Репин в книге «Далекое близкое». Приобретение картины «Печерский монастырь под Нижним Новгородом» Павлом Третьяковым для его галереи без лишних слов ясно подтверждало ее художественное качество, как и другой, достаточно необычный факт.
В письме П. М. Третьякову от 6 января 1874 года И. Н. Крамской обращался с таким вопросом: «Многоуважаемый Павел Михайлович! Якобий присылал ко мне с просьбой, чтобы я спросил у Саврасова позволения скопировать его пейзаж „Печерский монастырь“, Саврасов позволил, но с оговоркою, что, так как эта картина принадлежит Вам, то нужно еще Ваше дозволение… Уважающий Вас глубоко И. Крамской»[180]. На это письмо сразу же, уже 9 января Третьяков отвечал: «Многоуважаемый Иван Николаевич. Вчера получил Ваш запрос насчет копии с „Печерского монастыря“ Саврасова. Против копирования этой картины я ничего не имею и уже написал П. Ф. Исееву, чтобы выдать Вам, если потребуется… Ваш преданнейший П. Третьяков»[181].
В то время полотно Саврасова находилось в Петербурге, куда было послано Третьяковым для экспонирования затем на Венской Всемирной выставке 1873 года. Картина была доставлена среди прочих в Академию художеств, где находилась в ведении конференц-секретаря П. Ф. Исеева. Помимо полотна Саврасова, основатель картинной галереи отобрал для выставки в Вене еще 17 произведений А. Боголюбова, Ф. Васильева, Н. Ге, А. Куинджи, А. Корзухина, И. Крамского, В. Маковского, В. Максимова, А. Морозова, Г. Мясоедова, В. Перова, И. Прянишникова, Н. Рачкова, П. Чистякова, И. Шишкина. Перечисление имен, громких при жизни и широко известных в наши дни, вновь подтверждает, насколько тонким художественным чувством обладал Павел Третьяков и, в частности, насколько объективно высоки были его оценки творчества Алексея Саврасова.
Да и такие маститые авторы, как Иван Крамской, нечасто обращались к копированию произведений своих современников, да еще к тому же в пейзажном жанре, который в 1870-е годы, как отчасти и ныне, не принадлежал к центральным жанрам живописи. Следовательно, Крамской, не только один из выдающихся художников своего времени, но и тонкий знаток, критик искусства, исключительно высоко оценил картину Саврасова. О неравнодушии Ивана Николаевича к пейзажному жанру в целом позволяют судить и некоторые другие факты его биографии, высказывания. Однажды летом, отдыхая с семьей под Петербургом, он так много, увлеченно писал с натуры пейзажные этюды, что полушутя-полусерьезно сказал о себе: «Кажется, пора мне становиться пейзажистом…»
Во время поездки на Волгу Алексей Саврасов успел задумать и поработать над этюдами также к другим полотнам. Посетил село Городец, богатое, колоритное, издавна известное хлебной торговлей, да и славившееся как старообрядческий центр, со своей культурой, несколько иным укладом жизни. Здесь художником был написан этюд «Волга близ Городца» — река с парусником среди водной глади, село на холме. Алексей Кондратьевич задумал использовать этот этюд как подготовительный для эскиза картины «Бурлаки на Волге», над которой работал уже позже, в Ярославле.
Однако вряд ли можно утверждать, что это полотно ему полностью удалось, особенно в отношении трактовки фигур: и молодых парней, и сгорбленного седого старца. Пейзажист все же не имел достаточного опыта в написании жанровых, исторических произведений, хотя подобный опыт с его стороны, несомненно, заслуживает внимания, свидетельствует о том, что художник неустанно продолжал учиться, стремился познавать новое, приобретать иные профессиональные навыки. Работа над этим эскизом оказалась ненапрасной также и потому, что подобное решение, стаффажные фигуры, Саврасов использовал в композиции «Вид Волги под Юрьевцем», показав бурлаков идущими по воде у берега, навстречу зрителю.
Еще будучи на Волге, художник мысленно возвращался в родную Москву, строил планы совместной работы в мастерской со своими учениками. И вот, наконец, возвращение, он вновь в кругу семьи, друзей, учеников. Однако 1870 год принес художнику и немало тревог. Серьезно заболел его друг и родственник Карл Герц. В тот период ученый особенно много работал не только в Московском университете, но и читал частные лекции. Директор Румянцевского музея В. А. Дашков, желая глубже познакомиться с историей искусств, пригласил Герца поработать лектором у него на дому. После окончания очередного занятия Карл Карлович, как рассказывала Алексею Саврасову Эрнестина Герц, «поехал в симфонический концерт Рубинштейна и, вероятно, простудившись на дороге, получил легкий удар паралича, от которого у него перекосилось лицо, что было замечено его знакомыми на вечере»[182]. Последовало продолжительное лечение, в том числе с помощью электричества. Для окончательного выздоровления Карл Карлович в сопровождении незамужней Эрнестины отправился в длительную зарубежную поездку. Они уехали осенью 1871 года в Италию, затем направились на Сицилию, лето провели уже в Австрии и осенью 1872 года вернулись в Москву. О деталях этой поездки художник узнавал в основном от жены. Софи, беспокоясь о брате, довольно часто переписывалась с ним.
Алексей Саврасов, встретившись с Карлом Карловичем уже в Москве, подробно расспрашивал его о впечатлениях от Европы, особенно интересовался памятниками архитектуры, музеями, современным европейским искусством. Карл Герц иллюстрировал свои красочные рассказы фотографиями, поскольку во время вояжа он составил целую коллекцию — повсюду фотографировал оригиналы. Наверное, художник и сам был бы не прочь отправиться в подобное путешествие, но из-за материальных трудностей не мог себе этого позволить. Средств в их семье не хватало порой на самое необходимое, хотя Алексей Кондратьевич не только преподавал в училище, но и брался за любые заказы и частные уроки.
К 1870-м годам четко сложилась его педагогическая система, методы преподавания, о чем позволяют судить ежегодные отчеты руководству училища, в которых он писал, согласно принятой официальной форме, как, например, в отчете за 1874/75 учебный год: «Под руководством Академика А. К. Саврасова ученики младших классов занимались рисованием с оригиналов. В пейзажном классе ученики: Волков, Коровин, Артемьев, Неслер и Левитан исполняли картины с этюдов. Комаровский, Янышев и Болонин копировали с оригиналов. Собственные занятия Саврасова — исполнены кроме этюдов две картины: „Ледоход на Волге“ и „Осень“»[183].
О подобных заданиях и методике говорится и в отчете 1877 года: «Под руководством Академика А. К. Саврасова ученики пейзажной живописи занимались рисованием и копированием с оригиналов, а с этюдов своих исполняли картины. А. К. Саврасов написал три картины: „Иней“, „Осень“ и „Зимняя ночь“»[184]. В другом документе говорится об исполнении художником также в мастерской училища полотен «Устье Оки», «Могила А. С. Пушкина». В 1880 году он составил подобный отчет: «Под руководством Академика А. К. Саврасова ученики младших классов занимались рисованием с оригиналов. Ученики пейзажной живописи исполняли картины со своих этюдов. Академик А. К. Саврасов был занят исполнением рисунков для издания „Школы рисования“»[185].
В начале 1870-х годов Алексей Саврасов был полон творческих сил, планов на будущее. Однако тучи над его головой уже начинали сгущаться. Накапливались усталость, разочарования. В училище Саврасова постепенно словно отодвигали на дальний план, а все больший авторитет приобретал Перов, автор знаменитой картины «Тройка». Нестеров, будучи его учеником, рассказывал: «В Московской школе живописи, где когда-то учился Перов, а потом был профессором в натурном классе, все жило Перовым, дышало им, носило отпечаток его мысли, слов, деяний. За редким исключением все мы были преданными, восторженными его учениками»[186]. При этом взгляды на искусство и преподавание двух именитых наставников, Перова и Саврасова, далеко не всегда совпадали, да и их лучшие ученики Нестеров и Коровин не только не дружили между собой, но относились и к учебным работам друг друга весьма настороженно. Коровин, например, писал о том, что воспитанник Перова являлся к живописцам таким серьезным, «что жуть брала». Нестеров, в свою очередь, замечал о Коровине, что тот — школьный баловень, в характере которого хорошее сочеталось с «так себе».
На выставках появлялось все больше произведений молодых талантливых художников, о них же много писали критики, о Саврасове нередко забывали. Так, например, все большую популярность получало творчество И. Е. Репина, успех его картины «Бурлаки на Волге» был без преувеличения колоссальным, в отличие от одноименного произведения Алексея Кондратьевича. В центре внимания искусствоведов и журналистов часто оказывались произведения Шишкина, Клодта, ряда других пейзажистов, а на долю Саврасова доставалось все больше негативных отзывов. Конечно же, он глубоко переживал подобные ситуации, но молчал, замыкался в себе и только работал и работал, целеустремленно, упорно, не жалея себя.
Глава 5 Время тревог
Ряд произведений конца 1860-х — начала 1870-х годов ясно свидетельствует о расцвете творчества выдающегося пейзажиста, но в то же время является вдохновенной прелюдией к его исключительной, заслуженно знаменитой картине «Грачи прилетели», созданной в 1871 году. Эта дата явилась важным рубежом и в творчестве художника, и в истории пейзажной живописи России. Так он вступал в период творческой зрелости — Алексею Саврасову исполнилось 40 лет.
История написания «Грачей» — это и история жизни художника, в которой музыкой звучат светлая радость и тоска, переплетаются ликование и отчаяние. Проникновенные строки об этом произведении оставил И. И. Левитан: «Какой ее сюжет? Окраина захолустного городка, старая церковь, покосившийся забор, поле, тающий снег и на первом плане несколько березок, на которые уселись прилетевшие грачи, — и только. Какая простота! Но за этой простотой вы чувствуете мягкую, хорошую душу художника, которому все это дорого и близко его сердцу…»[187]
Как часто и насколько по-разному Саврасов обращался именно к весенним мотивам! Начиная с ученических работ и до последних лет жизни юные, переменчивые настроения весны оставались для него наиболее близкими, трогательными, глубокими в своем эмоционально-философском содержании, находили особый отклик в тревожно-восприимчивой душе художника. Его восхищение началом пробуждения природы отразилось в целом ряде произведений 1850–1890-х годов, многие из которых широко известны, другие полузабыты ныне, но объединяет их одно — исключительно неравнодушное исполнение и мастерство автора: «Дворик. Весна» (1853), «Сельский вид» (1867), «Ранняя весна. Половодье» (1868), «Разлив Волги под Ярославлем» (1871), «Пейзаж с церковью и колокольней» (начало 1870-х), «Весна. Этюд» (две работы 1874 и 1870-е),), «Вид на Московский Кремль. Весна» (1873), «Весенний день» (1873), «Скоро весна» (1874), «Оттепель. Ярославль» (1874), «Домик в провинции. Весна» (1878), «Весна» (три варианта 1874, конца 1870-х — начала 1880-х, 1883), «Весна. На большой реке» (1880-е), «Ранняя весна. Оттепель (К весне)» (1880-е), «Ранняя весна» (1880-е), «Оттепель» (1887), «Пейзаж. Село Волынское» (1887), «Ранняя весна» (1888), «Весна. Огороды» (1893), «Распутица» (1894), «Весенний пейзаж с избой» (1890-е), «Весенний пейзаж. Ростепель» (1880–1890-е), «Весенний пейзаж» (1880–1890-е), «Ранней весной» (1880–1890-е), «Весна. Провинциальный дворик» (1880–1890-е), «Ранняя весна» (два варианта 1880–1890-е и 1890-е), «Весна» (1880–1890-е), «Ранняя весна. Березы у ручья» (1893), «Вид на село Покровское-Фили» (1893), «Повеяло весной» (1890-е) и др. Однако главная картина Саврасова, посвященная весне, что совершенно бесспорно — это его «Грачи», созданию которых предшествовали тяжелые события, глубоко ранившие душу художника.
В течение 1860-х годов в пейзажном классе, возглавляемом Саврасовым, оставалось все меньше и меньше учеников, что объяснялось несколькими причинами. Алексей Кондратьевич должен был заниматься помимо преподавания творческой работой, кроме того, состоялись две длительные поездки художника: в Лондон на Всемирную выставку (1862) и в Париж на Всемирную выставку (1867). Опыт непосредственного изучения зарубежного современного искусства оказался исключительно важным для него. Он особенно выделил для себя выразительность и верность натуре в произведениях английских пейзажистов, сделал вывод о первостепенном значении работы с натуры, свободном эмоциональном выражении восприятия природы художником. Однако та вольность, которую он предоставлял ученикам своей мастерской, призывая их работать с натуры, учиться у природы, имела и негативные последствия — утрачивались четкая система обучения, последовательность выполнения ряда заданий, вклад педагога в профессиональный рост его воспитанников. В 1864 году Алексей Саврасов длительно и тяжело болел, а год спустя вновь не мог уделять преподаванию достаточно времени, поскольку был занят ответственным заказом графа А. С. Уварова. За бесконечной чередой творческих планов, повседневных дел, бытовых сложностей, семейных неурядиц преподавание по-прежнему оставалось исключительно значимым в жизни Алексея Кондратьевича.
В августе 1870 года совершенно неожиданно его пригласил к себе секретарь Совета Московского художественного общества господин Собоцинский и объявил решение Совета: Саврасов должен освободить квартиру при училище по причине малого количества учеников в его мастерской уже на протяжении нескольких лет. Это было сильным ударом: он лишался не только привычного домашнего очага, материального благополучия, но и круга общения, поскольку в «Большом доме», как называли его в училище, жили художники и их семьи, а его словно исключали из этой дружеской профессиональной среды.
Потрясенный произошедшим, Алексей Саврасов принял непростое для себя решение: уехать путешествовать на полгода, временно оставить училище, а руководство юными пейзажистами он доверил своему другу, преподавателю училища живописи — Льву Каменеву. Еще когда тот занимался в пейзажной мастерской, Алексей Кондратьевич не раз поддерживал его, рекомендовал его работы к участию в студенческих лотереях, которые проводило Общество поощрения художеств.
Инспектор Училища живописи и ваяния профессор Зарянко в 1856 году в своем рапорте в Совет Общества докладывал: «Честь имею донести Совету, что на экзамен, 12 числа сего апреля мною принят для будущей лотереи пейзаж — группа дерев — ученика Каменева за десять рублей серебром, о выдаче которых и покорнейше прошу Совет Общества»[188]. Для подобных лотерей отбирались работы и других молодых художников училища: Перова, Неврева, Гусева, Колесова, Павлова, Попова, Севрюгина… Однако произведения Каменева отбирались чаще остальных, почти для каждой лотереи 1856–1857 годов, как, например, «Утро», «Вид Волги», «Удят рыбу на лодке».
Каменев занимался в училище с 1854 по 1857 год, сначала у К. И. Рабуса, затем у А. К. Саврасова. В Москву он приехал из провинции, из города Рыльска Курской губернии, смог пробиться только благодаря своему таланту и целеустремленности. Учился прилежно, самозабвенно работал над пейзажами, постигая мастерство рисунка, технику, технологию живописи, секреты колорита, досконально прорабатывая детали своих картин. Со студенческих лет и в пору творческой зрелости он особенно любил изображать сельские виды — раздолье равнин, монастырские главы за купами деревьев в лучах робкого солнца, живописные деревенские окрестности, полускрытые дымкой утреннего тумана или заснеженные, словно застывшие на морозе как в волшебном царстве, поля и перелески.
Несомненно, что наставник пейзажной мастерской оказал на своего ученика немалое влияние, о чем, в частности, дают возможность судить пейзажи Каменева «Весна» (1866), «Зимняя дорога» (1866), «Туман. Красный пруд в Москве осенью» (1871), в которых угадываются отголоски произведений Саврасова. Покровительство наставника Льву Каменеву как способному, старательному ученику, при этом постоянно нуждающемуся, было вполне обоснованно. В рапорте 1857 года руководитель пейзажной мастерской сообщал: «В совет Московского Училища живописи и ваяния преподавателя пейзажной и перспективной живописи академика Алексея Саврасова прошение: ученики сего Училища Попов и Каменев оказали большие успехи в пейзажной живописи, но не имеют никаких средств для продолжения учения живописи. Имею честь просить совет Училища живописи и ваяния о денежном пособии Попову и Каменеву по 25 рублей. 16 мая 1857 г.»[189].
Спустя 13 лет после упоминаемых событий уже не Саврасов Каменеву, а бывший ученик своему наставнику оказывал помощь в весьма неоднозначной жизненной ситуации. Теперь, оставляя мастерскую, ее глава мог быть спокоен. Решение Алексея Кондратьевича об отъезде отчасти было связано с выполнением частного заказа — написанием зимнего волжского пейзажа, но в первую очередь, уехав, он стремился преодолеть боль и растерянность, вызванные последними событиями, собраться с мыслями, принять взвешенное, верное решение. Хотел попытаться со стороны посмотреть на все произошедшее.
В начале декабря художник с женой и двумя дочерьми, девяти и трех лет, уехал в Ярославль. Они отправились по недавно открытой Московско-Ярославской железной дороге. Неброские, но выразительные пейзажи России завершали деревянные храмы и колокольни, словно свечки поднимающиеся над снежными равнинами да холмами, а вокруг живописно рассыпались деревенские избы, изгороди, мельницы. Вероятно, уже тогда у художника складывался замысел картины «Грачи прилетели». Он жадно, воодушевленно всматривался в эти ландшафты, настолько знакомые ему, но и открывающие по-новому исконную красоту родной земли. Взгляд Софьи Карловны, напротив, все чаще туманила тревога. Что им предстоит? Каково ее будущее и участь ее семьи? Ей уже 44 года, она снова ждет ребенка. К недомоганию присоединялась боязнь за мужа — как преодолеет он неприятности, перестанет ли замыкаться в себе и становиться все более и более раздраженным, угрюмым и молчаливым?
В живописном Ярославле, старинном торговом городе на Волге, они сняли квартиру на Дворянской улице, жили тихо, однообразно, к чему располагал и неспешный ритм провинциального города, скромное умиротворяющее очарование его строений, узких переулков, волжских привольных пейзажей, неширокой речки Которосли, притока Волги. Здесь им предстояло провести долгую зиму, с начала декабря, и часть весны.
Временами Алексей и Софья отправлялись на прогулки по улочкам и переулкам старинного города, где едва ли не каждое здание имело свою историю, неразрывно связанную с купеческим сословием. Каждая деталь дополняла цельный облик патриархального, просвещенного города и соответствовала ему. Вывески сообщали: «Виноторговля Зазыкиной», «Устюжское пиво», «Лавки Пастуховых», а также «Гостиница Кокуева» — известного владельца домов и магазинов. По улицам сновали стайками студенты, часто можно было увидеть и степенных профессоров, и скромных преподавателей. Немалой известностью в Ярославле пользовалась библиотека Общественного собрания. Дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, издавалась газета «Ярославские губернские ведомости». Редактором ее неофициальной части являлся в то время Леонид Николаевич Трефолев — поэт, последователь Н. А. Некрасова, историк, знаток русского языка.
Когда Софи уставала или была занята домашними хлопотами, Алексей Саврасов отправлялся странствовать по городу один. Его не останавливал ни снегопад, ни сильный мороз. Он выбирал такие маршруты, которые были интересны ему как художнику. Неспешно прогуливаясь по улицам и переулкам, он словно искал мотивы для своих пейзажей, продумывал композиционные построения, отмечал выразительные детали, особенно колоритные постройки. Доминантами в городской структуре являлись старинные церкви. Их много было в Ярославле, особенно вблизи набережной, на месте старого города. Это и церковь Михаила Архангела, считавшаяся знатоками одной из главных в «ожерелье» ярославских храмов, и Спаса на Городу, расположенная на месте так называемого Медвежьего угла, где, по преданию, находилось в далекую старину языческое селище, давшее начало городу. Необычными пропорциями и пронзительной белизной привлекала живописца церковь Николы Рубленый город, название которой также было связано с историческим прошлым. Возвели ее в самом конце XVII века, в 1695 году, на границе Ярославского кремля, что дало церкви такое необычное название, освятили в честь Николая Чудотворца.
Часто, завершая прогулку, Саврасов подолгу стоял на Стрелке — высоком мысе у слияния рек Волги и Которосли, смотрел вдаль, оборачивался на город, вновь пытался представить свою будущую картину. Он решил написать храм, небольшой, старинный, каких много было в Ярославле, но все-таки хотел изобразить его в окружении природы, а не городской суеты. Желаемый мотив пока не находился.
С отроческих лет Алексей Кондратьевич был неравнодушен к тиши, какой-то ни с чем не сравнимой духовной атмосфере монастырской жизни. И потому из центра старого Ярославля, от оживления его улиц иногда отправлялся дальше, вдоль набережной реки Которосли, к древнему Спасо-Преображенскому мужскому монастырю. Наполненный новыми впечатлениями и замыслами, художник заканчивал прогулку и возвращался к семье, где его уже с нетерпением ждали к чаю.
К январю Софья Карловна немного успокоилась, отдохнула от московских тревог и забот, привыкла к городу, его атмосфере, сильно отличавшейся от столичной. При солнечной погоде она стала чаще гулять с детьми, что было необходимо для ее здоровья. В одном из писем брату Софи сообщала: «Мы все здоровы и веселы, несмотря на то, что ведем жизнь чрезвычайно однообразную и тихую. Примерно читаем газеты, которые получаем аккуратно ежедневно, много говорим о войне и немало интересуемся новостями, касающимися Москвы. Алексей прилежно работает над своей Волгой и в половине февраля сам привезет ее в Москву»[190]. Саврасов в то время работал над зимним пейзажем: «Вид Волги под Юрьевцем», сюжет которого им был задуман еще полгода назад во время его первой поездки на Волгу, был неотрывно связан со стародавними традициями, народными обычаями, повседневностью. Один из древних городов Руси, основанный в 1125 году владимирским князем Юрием II на месте явления ему иконы святого Георгия Победоносца, город получил название Юрьев-Повольский. В 1237 году, как тысячи селений Руси, был стерт с лица земли полчищами Батыя, но возродился после избавления от татаро-монгольского ига. Завершая полотно, Алексей Кондратьевич прорабатывал последние детали, чтобы придать образу как можно больше достоверности, и собирался сам привезти картину в Москву.
По вечерам художник, надев очки в тонкой золотой оправе, садился за чтение, Софья устраивалась рядом. Газеты читали почти ежедневно, особенно часто «Ярославские губернские ведомости», узнавая обо всех местных новостях — объявления о продаже имений, о кредиторах, должниках, вызовах наследников, сообщения об утерянных документах, о лицах, подлежащих рекрутской повинности. Печатались списки присяжных заседателей. Алексей и Софи просматривали постоянные рубрики: «По судебному делу», «По земскому делу», «По крестьянскому делу», благодаря которым можно было получить довольно полные сведения о жизни города.
По газетам Саврасовы следили за событиями в Европе, прежде всего во Франции, где в последнее время было неспокойно. Сообщения касательно продолжающейся Франко-прусской войны не радовали, три месяца длилась осада Парижа. Немцы, окружив столицу Франции, не прекращали бомбардировки. Художник, прекрасно помнивший и полюбивший Париж, во время своих поездок, не мог оставаться равнодушным к подобным репортажам. Он представлял себе, как неузнаваемо изменился город, совсем недавно изысканный, гостеприимный, где казалось, что радость жизни и утонченность вкусов царят повсюду. Алексей Кондратьевич узнавал, что на город постоянно падают бомбы, повсюду виднеются руины, в фойе театров размещены госпитали, в Тюильрийском саду — походные палатки, артиллерийские орудия. Художника потрясли статьи о начавшемся в Париже голоде. Из мяса на прилавках осталась только конина, но вскоре и она исчезла. В Зоологическом саду торговали мясом буйволов, а на рынках уже продавали кошек, крыс, собак. Трагические события, происходящие в республике, возникшей на обломках некогда блестящей империи Наполеона III, не могли оставить его равнодушным.
Для обзора новостей Алексей Кондратьевич предпочитал оставлять вечера, а утром и днем, как правило, напряженно работал либо над этюдами, либо в мастерской продолжал писать «Вид Волги под Юрьевцем», намереваясь представить его на конкурс Общества поощрения художников в Петербурге уже в феврале 1871 года.
«Поскольку пейзаж воспринимался Саврасовым в связи и отчасти по аналогии с народной жизнью, он приобретал в известном смысле жанровый характер. Природа изображалась так, как если бы это была жизнь людей. Саврасов… вводил в пейзаж человеческие фигурки, этим бытовым моментом усиливая сюжетное начало. Иногда он вводил даже целые сцены, например, из жизни бурлаков… или деревенские обряды и хороводы»[191].
Алексей Кондратьевич, близко не касаясь политических вопросов, все же не мог быть полностью чужд им. Новые настроения в обществе, ярко выраженные в творчестве Перова, Репина, В. Маковского и других авторов, прозвучали отголоском и в произведениях Саврасова, прежде всего в его образах бурлаков, что отмечалось исследователями. «Любопытно, что почти одновременно с Репиным Волга вдохновила Саврасова на написание бурлаков. Пейзажист, крайне редко включавший человеческие фигуры в свои произведения, неожиданно изменил этим установкам. Эскиз „Бурлаки на Волге“ (1871) показывает героев вблизи, почти параллельно плоскости холста. Видимо, даже Саврасов, посвятивший себя исключительно пейзажу, не смог избежать влияния жанровой живописи, игравшей ведущую роль в искусстве 1860-х годов и сохранявшей свою значимость в 1870-х годах»[192].
В 1871 году из Ярославля, где тогда протекала жизнь художника и его семьи, в которую вторглись непредвиденные и гнетущие перемены, Саврасов сообщал в письме П. М. Третьякову: «…В настоящее время моя жена очень заболела вследствие простуды и на днях должна разрешиться от беременности. В таком положении мой отъезд из Ярославля невозможен, и я осмеливаюсь Вас беспокоить моею просьбою: не примите ли на себя труд послать Печерский монастырь на Петербургский конкурс. Если Вы будете так добры исполнить мою просьбу, то я прилагаю письмо для „монограммы“. Я просил письмом Сергея Ивановича Грибкова в случае Вашего согласия покрыть некоторые места картины белком, и если еще что найдете нужным, поручить ему. Картину Волгу почти окончил, но я не желаю ее отослать на конкурс, не бывши сам в Петербурге.
Искренне преданный Вам А. Саврасов»[193].
Третьяков как всегда с пониманием отнесся к письму художника, но все же советовал ему вернуться в Москву, на что Алексей Кондратьевич отвечал: «Сердечно благодарю, Павел Михайлович, за Ваш добрый совет — едва ли мне будет возможно приехать в Москву через 8–10 дней. Здоровье моей жены в настоящие минуты вне опасности, третий день после преждевременных родов проходит благополучно, но ребенок так слаб, что, по предположению доктора, едва ли неделю проживет»[194].
Вскоре семью Саврасовых постигла новая утрата. Их новорожденная дочка прожила всего несколько дней. Ее в маленьком гробике, обитом серебристым глазетом, похоронили на косогоре над Волгой, и Алексей Кондратьевич сделал быстрый набросок прерывистыми штрихами — изобразил одинокую могилку дочери, словно стремился оставить на бумаге хотя бы часть своей душевной боли. Так появился его рисунок — крест-голубец на старом погосте и надпись на листе: «Могила моей дочери».
Горе захлестнуло художника, а вокруг, повинуясь вечным законам, оживала земля, что воспринималось им сначала как невозможный, недопустимый, чудовищный контраст с произошедшим. Весна вступала в свои права, наполняя все солнцем, радостью, настойчиво противореча его переживаниям. Чуткая душа живописца не могла не откликнуться на музыку возрождающейся природы. Утешение он искал в работе, в сопереживании весеннему обновлению. Решив ненадолго остаться один, Саврасов уехал из Ярославля на север Костромской губернии, в окрестности города Буя. Алексей Кондратьевич объяснял выздоравливавшей жене: «Не хочу упустить весну, уеду всего на несколько дней». В Ярославле он нанял извозчика, который по дороге все интересовался, куда и зачем едет барин, по служебной надобности или по своей прихоти, а узнав, что Саврасов едет писать картину — весну, никак не мог понять, зачем же это надо — все и так знают, как весна наступает, каждый год видят.
Зато сам художник прекрасно понимал, как и для чего ему нужно писать весеннюю пору. Его талант к этому времени настолько окреп, настолько сформировались его взгляды на искусство, что он совершенно ясно понимал свои задачи. Во многом благодаря самобытному видению непритязательной красоты обычного для России мотива его картина приобретет широкую известность.
Добравшись до Костромы, Алексей Кондратьевич продолжил путь, поскольку город Буй находился в верстах восьмидесяти от губернского города. Вновь перед ним простирались еще заснеженные поля с первыми проталинами, со слегка осевшими сугробами, а над ними — бесконечность сурового свинцового неба. Художник остановился в селе Молвитине, бродил по окрестностям, с трепетом замечая повсюду признаки пробуждения земли. Его изумляла тишина, безлюдье этих мест, откуда, по преданию, происходил Иван Сусанин.
В один из весенних дней, когда солнце сменялось мятежными облаками, а ветви трепетали от тревожного ветра, Алексей Саврасов отправился на этюды по новому для себя маршруту, выбрав его наугад. Он неспешно поднимался на взгорья, спускался с них по извилистым тропкам. Дорога словно следовала изгибам его жизненного пути, бессчетным взлетам, падениям. Он шел и шел, будто пытаясь уйти от своего горя, от самого себя, время от времени бережно прикасался к стволам старых деревьев, делясь с ними своей душевной болью. Наконец остановился на холме. Впереди, за селением, расстилалась равнина с купами деревьев, пробивалось солнце сквозь серебристую дымку, слышалась капель, и грачи кричали над гнездами, нарушая уже привычную ему тишину. Вот они — весенние вестники, радостные, непоседливые, суетливые, словно повторявшие без устали: «Весна наступает! Жизнь идет вперед! Пробудитесь!» Вместе с ними и удрученный художник взглянул на мир иными глазами.
Его вдруг поразил открывшийся вид: простой и завораживающий, привычный и вместе с тем остро пронзительный. Он сразу же принялся за этюд. Наметил окраину села, храм — Воскресенскую церковь XVIII века, перед ней приютившиеся отсыревшие избы и заборы в обрамлениях талого снега. Быстро, чтобы сохранить впечатление, изобразил тянущиеся ввысь, к небу ветви берез, над которыми кружили у гнезд неугомонные грачи. Саврасов глубоко воспринял, почувствовал суть увиденного — образ Отечества, глубины его духовной жизни, в которой трагедиям сопутствует ощущение весны, света, пронизывающее все вокруг. Сейчас то же ощущение весны словно лечило его израненную душу. Он работал с натуры над этюдом, а чуть позже была создана картина «Грачи прилетели» — шедевр художника.
Пока, стоя на талом снегу, он писал этюдный пейзаж, быстро, вдохновенно. Работа была окончена. Неспешно и величественно садилось солнце. Звенящей прозрачностью художника постепенно окутывали сумерки, будто своим покрывалом бережно охраняя его, пряча все горести в глубинах памяти. На фоне сиренево-серых далей четкостью чеканных силуэтов выделялись темные стволы и окраинные деревенские дома. Саврасов долго шел по бездорожью, перекладывал из руки в руку этюдник, время от времени останавливался и глубоко вдыхал воздух, полный живительным приближением весны. На душе становилось легче, когда он повторял про себя: «Грачи прилетели… И снова весна… Продолжается жизнь, несмотря ни на что продолжается…»
Он вернулся к семье в Ярославль словно другим человеком — глаза лучились радостью, он вновь был полон творческих планов. Окрепшая после болезни супруга поддерживала его, радовалась вместе с ним. Закрываясь в мастерской, Саврасов вновь много работал. Разрабатывал композиционные эскизы картины с грачами, писал и другие пейзажи, как, например, ледоход на Волге.
Та весна в верховьях могучей реки выдалась исключительно полноводной. Ждали сильного паводка, и ожидания оправдались. Подобного половодья не помнили даже старожилы. Вода начала стремительно прибывать с 13 апреля, затопила Тверицкую слободу и другие селения, жители которых спасались на лодках. В одном из слободских домов случился пожар. Уже через три дня была открыта навигация, но и здесь не обошлось без происшествий. Еще очень сильное течение унесло один из пароходов далеко в сторону от намеченного курса. Запертый льдинами, он получил немалые повреждения. Впечатления художника от увиденного нашли отражение в полотне «Разлив Волги под Ярославлем», где достоверно показаны и ширь разлившейся реки, и деревья, стоящие в воде, и затопленная слобода, и дым пожара.
Но, главное, он вдохновенно работал над «Грачами», быстро завершил их. Знаменитая картина Саврасова вскоре получила заслуженное широкое признание. О ней писали художники, критики, публицисты, ей даже посвящали стихотворные строки, как, например, известное лишь в рукописи стихотворение А. В. Каменского-Липецкого «Саврасов»:
Его «Грачи» большого ль ранга птицы, — Но шум весны багет свой перерос. Академические нос закрыли жрицы: — Ужасно! Вместо амбре вдруг навоз! И вологодской пряхи сарафаном Тунику можно ль заменить харит? На мхи сменять Флоренцию иль Крит? А мастер над торфяником туманным Предзорьем утра нашего горит…[195]Замысел Саврасова осуществился. Во второй половине XIX века возросший интерес к истории и культуре окраинных земель стал свидетельством необходимости самопознания, вживания в национальную историю и культуру, что было исключительно важно по ряду причин. Стала очевидной необходимость обретения самобытного национального художественного языка, образного строя произведений, их идейного звучания, поскольку для этого имелся и нужный уровень профессиональной подготовки, и художественный опыт. Выражение патриотического мировоззрения посредством изобразительного искусства приобретало все большую актуальность, что подтверждают общественные процессы эпохи Александра II. Нарастали процессы международного художественного общения, взаимовлияния стилей разных эпох, искусства ряда стран Европы, Азии.
Учитывая общую ситуацию в мировом искусстве, особенно значимыми являлись выработка и укрепление основ отечественного творчества, что во многом было достигнуто отечественными художниками через обращение к духовно-культурному ареалу Руси как сосредоточению исконных самобытных традиций. Начинания художников в данном русле, в том числе и Саврасова, находили отклик в кругах ученых, деятелей культуры, были поддержаны историками, публицистами, философами, писателями, искусствоведами.
Славянофилы, «неославянофилы», «почвенники» говорили о связи современности и традиционности, рассматривали народное искусство и православие как основы национальной реалистической школы. М. П. Погодин, выступая в Московском училище живописи, ваяния и зодчества в 1867 году, говорил о необходимости развивать исконное религиозное искусство. Но представители «официальной народности»: Н. Я. Данилевский, А. С. Хомяков, С. П. Шевырев связывали народное творчество только с Москвой и Киевом, не уделяя внимания провинции. В. В. Стасов возражал им, писал, что «к искусству принадлежит и все то, что создает фантазия бедного поселянина в глуши его избы при свете дымной лучины». То же отмечали Ф. И. Буслаев, И. Е. Забелин, В. О. Ключевский.
В последней трети XIX — начале XX века в живописи России вместо строгих рамок академизма и прагматизма позднего передвижничества утвердилось художественное творчество, обращенное к национальным истокам, к мотивам Древней Руси. Образы северного края и его пограничья вдохновляли многих авторов на создание пейзажных, исторических, историко-религиозных композиций, этюдов, панно, в которых репрезентирован вневременной образ-лик России. Национальные корни художники искали нередко именно на северных землях, так как именно здесь в XIX — начале XX века сохранялись древние традиции. Замкнутость жизни северян не исключала заимствований, которые дополняли искусство Руси, обогащая его образный строй и философско-религиозное содержание. К исконным мотивам, самобытным и неприкрашенным образам северной России обратился столь неравнодушно и тонко и Алексей Саврасов в «Грачах».
Многие современники давали новой картине Алексея Кондратьевича восторженные отзывы: Павел Третьяков, решивший приобрести ее для галереи, А. Н. Бенуа, И. Н. Крамской, С. К. Маковский, В. В. Стасов и многие другие. Но для понимания центрального произведения в творчестве Саврасова особенно стоит выделить слова Константина Коровина, который замечал, что в пейзаже должна быть «история души художника». Такую историю своей души, также и историю души России, создал Алексей Саврасов в прославленном пейзаже. Интересно отметить, что и образный строй, и его эмоциональное звучание находят отклик и в поэтических отечественных произведениях, как, например, в пронзительных строках Бориса Пастернака, написанных в 1912 году, казалось бы, не только как отражение, продолжение личных переживаний автора, но и пейзажа Саврасова:
Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд, Пока грохочущая слякоть Весною черною горит. Достать пролетку. За шесть гривен Чрез благовест, чрез клик колес, Перенестись туда, где ливень Еще слышней чернил и слез. Где, как обугленные груши, С деревьев тысячи грачей Сорвутся в лужи и обрушат Сухую грусть на дно очей…Такие параллели между творчеством Саврасова и искусством более позднего времени закономерны, поскольку новаторское художественное звучание его картин явилось словно прелюдией для произведений рубежа XIX–XX столетий. Это во многом новое художественное решение возникло не сразу, не спонтанно, долго подготавливалось, вызревало в творчестве живописца, в том числе и в те пять месяцев, которые художник провел в Ярославле.
В масштабах создания монументальных картин полгода — довольно краткий срок, но насколько много успел за это время сделать Алексей Кондратьевич! Помимо этюдов, эскизов и графических набросков, завершил картины «Вид Волги под Юрьевцем», «Разлив Волги под Ярославлем» и, конечно же, главное произведение в своем творчестве — «Грачи прилетели», полотно, которое в одном из первых вариантов, предложенных автором, называлось «Вот и прилетели грачи», хотя вскоре он остановился на более лаконичном звучании — «Грачи прилетели».
В мае 1871 года Саврасовы вернулись в Москву. Признание новая картина Алексея Кондратьевича получила тогда же и в Петербурге. В стенах Академии художеств была показана первая экспозиция Товарищества передвижных художественных выставок, созданного примерно за год до этого. Выставка явилась масштабным событием в художественной жизни всей России. В залах экспонировалось 46 произведений, среди которых: «Грачи прилетели» А. К. Саврасова, «Охотники на привале» В. Г. Перова, «Сцена из Майской ночи» и портреты И. Н. Крамского, «Петр I допрашивает цесаревича Алексея Петровича» Н. Н. Ге и другие полотна, вошедшие в историю отечественного искусства. Однако особенно высокие оценки были даны пейзажу Саврасова.
Крамской, с характерной для него ответственностью и горячностью, работавший над длительной и непростой подготовкой экспозиции, остался доволен результатом. Он писал в Крым пейзажисту Ф. А. Васильеву, с которым был дружен: «Мы открыли выставку с 28 ноября, и она имеет успех, по крайней мере, Петербург говорит весь об этом. Это самая крупная городская новость, если верить газетам»[196]. Небольшая по количеству представленных произведений, сорок шесть номеров, первая передвижная выставка стала исключительно заметным событием в художественной жизни Санкт-Петербурга, всей России, в истории отечественного искусства. В строгой Северной столице, несмотря на ее сдержанность и европеизм, полотна передвижников вызвали живой отклик, неподдельный интерес, бесспорное одобрение. Данная экспозиция привнесла немало нового касательно пейзажа, «показала, что русское демократическое искусство, не проявлявшее раньше особого интереса к пейзажному жанру, изменило теперь свое отношение к нему»[197].
Действительно, среди исторических, жанровых композиций, портретов преобладала ландшафтная живопись, ряд произведений которой стали центральными на выставке. Кроме того, в пейзаже наметилось две линии развития, которые Крамским были определены как «объективная и субъективная». Эти направления в отечественной пейзажной школе развивались в одну и ту же эпоху, нисколько не препятствуя, не противореча друг другу.
Если «объективное» пейзажное искусство нашло наиболее яркое выражение в творчестве Шишкина, то образом «субъективной» линии, бесспорно, стали произведения Саврасова. Однако оба направления оставались едиными и в реалистической трактовке ландшафтов, и в осмысленности, духовно-философской наполненности изображаемых мотивов, о чем Крамской справедливо замечал, будто беседуя с неведомым оппонентом: «Вы говорите, что являются уже образчики, где талант соединяется с головой. Дай Бог, чтобы так было, потому что этого не миновать, это на очереди, это ближайшая историческая задача искусства, и если этого химического соединения не произойдет, — искусство вредно и бесполезно, пустая забава и больше ничего»[198].
Первая выставка передвижников ознаменовала утверждение новой идейно-философской тенденции, иного стиля — реализма, лучшие образцы которого во многом определили и определяют ныне развитие изобразительного искусства России, объединяя в себе мастерство исполнения, приобретаемое усвоением уроков профессиональной школы, отображение правды жизни, философскую глубину содержания, многоплановость восприятия и эстетическую гармонию.
Подобные характеристики присущи и произведениям, которые были представлены на Первой передвижной выставке и потрясли петербуржцев. Многочисленны положительные отзывы о ней, звучавшие в прессе, рецензиях, оценках посетителей. Верными оказались восторженные слова пламенного Владимира Васильевича Стасова, назвавшего это событие «особенным и небывалым» и в дальнейшем многократно выступавшего в защиту Товарищества передвижников. Стасов характеризовал яркую экспозицию выставки как «изумительное собрание превосходных произведений, в числе которых блещет несколько звезд первоклассной величины, — все это неслыханно и невиданно, все это новизна поразительная»[199].
Иван Крамской, радуясь такому успеху экспозиции, своих товарищей-художников, вместе с тем оценивал их работы достаточно строго: «Пейзаж Саврасова „Грачи прилетели“ есть лучший, и он действительно прекрасный… душа есть только в „Грачах“. Грустно! Это именно заметно на такой выставке, где резко выражается индивидуальность, где каждая картина должна выражать нечто живое и искреннее… Все (картины. — Е. С.) хорошие, но выделяющихся пять, шесть, и это, согласитесь, много, особенно принимая в соображение выставки академические»[200].
Такой отзыв Крамского, доброжелательный, емкий, далеко не случаен. Сам Иван Николаевич во многом был новатором в идейной направленности своего искусства. Отчасти его художественные искания близки живописной концепции Саврасова, например, в ряде пейзажных этюдов, а также в полотне «Майская ночь» или «Русалки». Для сбора подготовительного материала к картине Иван Николаевич уехал в украинское село Хотень Черниговской губернии, писал там с натуры пейзажные мотивы, а особенно стремился отразить сложность ночного освещения, чтобы через его необычные эффекты передать фантастическую, утонченную атмосферу произведения, и рассказывал об этом: «Все стараюсь в настоящее время поймать луну… Трудная штука луна…» Критикой картина была встречена неоднозначно, но получила все же немало положительных оценок: «Так уже приелись нам все эти серые мужички, неуклюжие деревенские бабы, испитые чиновники и выломанные вконец чиновницы, что появление произведения, подобного „Майской ночи“, должно произвести на публику самое приятное, освежающее впечатление»[201].
Восторженные слова в адрес «Грачей» звучали со всех сторон. Константин Коровин писал: «Но вот что внушало мне восторг — „Весна“ Васильева и „Грачи прилетели“ Саврасова! Сколько жизни на этих картинах, как хороши их краски! И рано понял я, что главное в картине не что написано, а как написано. А когда я писал сам, всегдашним моим горем было, что другие, когда смотрели на мои работы, говорили: „А зачем это? Ни к чему, идеи нет…“»[202]. Его словам словно вторила А. П. Боткина, дочь П. М. Третьякова: «Саврасовские „Грачи прилетели“ произвели необыкновенно приятное впечатление на всех, видевших их, своей правдой и большой поэзией»[203].
На выставке к Алексею Кондратьевичу подошел худощавый, как всегда элегантно и строго одетый Павел Михайлович Третьяков и поздравил художника, сказав ему: «Первоклассная вещь! Буду рад приобрести ее для галереи и могу предложить вам 600 рублей. Как, согласны ли?» Художник был польщен такой оценкой со стороны коллекционера и, не раздумывая, согласился: «Конечно же, Павел Михайлович. Совсем недавно Вы приобрели у меня „Печерский монастырь“, а теперь и „Грачей“. Конечно!»
Итак, выдающийся пейзаж отныне принадлежал Третьякову и уже осенью 1871 года был показан в Москве на выставке Общества любителей художеств на Малой Дмитровке. И здесь новое произведение Саврасова не осталось без внимания, хотя критика звучала весьма неоднозначно. Один из рецензентов, писавший под псевдонимом «В. В.», отметил в экспозиции две картины — «Вот грачи прилетели» А. К. Саврасова и «Оттепель» Ф. А. Васильева. При этом первенство он отдавал второму пейзажу, а полотно с изображением грачей воспринял как мрачное: «Несколько обнаженных деревьев со стаями предвестников весны, напрасно ищущих убежища на голых ветвях, высящаяся колокольня церкви с маленьким окошком, очень мрачным, тоже передают мысль художника об исчезающей зиме. Хорошенький вид уже чернотой краски дает чувствовать влажность только что сброшенной зимней одежды. Вы как будто чувствуете всю сырость и бесплодность минувшей зимы, но, несмотря на прилетевших грачей, нет живительного предчувствия наступающей весны, кроме одного внешнего признака…»[204] Вряд ли можно разделить такую оценку и признать ее объективной. Саврасова не могли не расстроить подобные слова, беспокоило его и то, что другие зрители могли также воспринять столь значимое для него полотно, в которое он вложил свои сокровенные переживания и надежды и был почти уверен, что все задуманное удалось воплотить.
Но все же, насколько более многочисленны позитивные оценки! Хвалебные отзывы о новой картине Алексея Саврасова были вполне заслуженны им, закономерны, отвечали духу времени, специфике отечественного искусства 1870-х годов, когда определенную эволюцию прошел каждый из ведущих жанров искусства. В бытовых композициях стали преобладать достаточно монументальные форматы, горизонтальные ритмы, панорамные решения (произведения В. Максимова). Сверхзадачей искусства, которая решалась в историческом, историко-религиозном, портретном жанрах, по словам В. В. Стасова, стало создание «хоровой картины» (полотна И. Е. Репина, В. В. Верещагина, Н. Н. Ге).
И все же, чем так разительно отличается эта картина от других произведений Саврасова? Что в ней особенного — рисунок, живопись, композиция? Вряд ли, поскольку подобные композиционные решения, близкие по рисунку мотивы, да и сходную колористическую гамму Алексей Саврасов использовал многократно. Например, обратимся к его полотну «Весенний день» 1873 года, где использовано подобное композиционное построение, только не в вертикальном, а в горизонтальном формате, та же сдержанная цветовая гамма с преобладанием коричневатых, охристых, жемчужно-серых тонов, та же тонкая проработка деталей. Но все же «Грачей» отличает исключительное настроение, переданное художником — ясное, светлое, наполненное предчувствием прихода весеннего возрождения, ее живительным легким ветром, которое непостижимым образом сильно и так убедительно звучит во всей картине.
Новаторская трактовка в рамках пейзажного жанра, актуальная для своего времени, была найдена именно Саврасовым. Отныне в своих лучших произведениях он достигал синтеза отображения правды жизни и лирического звучания. Художественный язык при этом, основанный на соблюдении классических канонов, выражал реалистическое видение, эмоциональное отношение художника к натуре.
Знаменитое ныне полотно полностью отвечало требованиям своей эпохи, новаторским тенденциям изобразительного искусства, в частности, направленности передвижных выставок, у истоков организации которых стоял и Алексей Саврасов. Еще в 1869 году московские художники В. Маковский, Перов, Прянишников, Саврасов обратились к своим петербургским коллегам с предложением о создании Товарищества передвижных художественных выставок. Эта идея, выдвинутая москвичом Г. Г. Мясоедовым, сразу же была поддержана петербуржцем Крамским. Они оба, родоначальники передвижничества, разрабатывали концепцию Общества и его устав, который подписали Ге, Каменев, Крамской, Мясоедов, Перов, Прянишников, Саврасов, Шишкин и ряд других живописцев. Устав был утвержден Министерством внутренних дел в ноябре 1870 года. В частности, в нем говорилось: «Товарищество имеет целью: устройство, с надлежащего разрешения, передвижных художественных выставок, в видах: а) доставления возможности желающим знакомиться с русским искусством и следить за его успехами; б) развития любви к искусству в обществе; и в) облегчения для художников сбыта их произведений». Уже Первая передвижная выставка показала, что значение создания объединения намного превзошло решение определенных в уставе задач. Одно из подтверждений тому — картина Алексея Саврасова.
В истории создания Товарищества передвижников его имя упоминается среди выдающихся художников, лидеров этого объединения: «В 1868 г. Г. Г. Мясоедов в письме к К. В. Лемоху впервые подал мысль об основании Общества передвижных выставок, но Артель забраковала вначале это предложение, и оно осуществилось только в 1869 г., когда к Мясоедову присоединились москвичи Перов, В. Е. Маковский, Саврасов и др., а в Петербург вернулся из-за границы Ге и вместе с Крамским начали пропагандировать между товарищами мысль о самостоятельном обществе с целью распространения в русской провинциальной публике хороших картин»[205].
Своим творчеством Саврасов доказывал, что пейзаж не является одним из «низших» жанров, а по глубине раскрытия идеи может не уступать исторической картине или портрету, приобретая вневременное звучание. Пейзажи Саврасова получали признание современников. В 1868 году Обществом поощрения художников ему была присуждена вторая премия за пейзаж «Осенний вид из окрестностей Москвы». Первой премии тогда удостоили картину молодого автора Александра Васильева «Возвращение стада в деревню», талантом которого восхищался Крамской.
Помимо «Грачей» Алексей Кондратьевич показал на Первой передвижной и еще одну работу — «Дорога в лесу». В целом пейзажный жанр в экспозиции был достаточно широко представлен, занимал все более прочное место и в отечественном искусстве. Это были произведения новаторского звучания для своей эпохи — тонкие по передаче состояния природы, убедительные, эмоционально наполненные. Именно так воспринимал Саврасов реалистичное пейзажное творчество, через скромные мотивы умел раскрыть всеобъемлющий образ России, музыку ее земли.
Помимо Алексея Кондратьевича на такой заметной выставке были показаны произведения пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина. Однако сравнения Крамским картин Саврасова и Шишкина оказалось не в пользу последнего, лидерство он все же отдавал достижениям в пейзаже Алексея Кондратьевича. Иван Крамской, со свойственной ему обстоятельностью и последовательностью, делал такие заключения о Шишкине, с которым его связывали многолетние дружеские отношения: «Я думаю, что это единственный у нас человек, который знает у нас пейзаж ученым образом, в лучшем смысле, и только знает. Но у него нет тех душевных нервов, которые так чутки к шуму и музыке в природе и которые особенно деятельны не тогда, когда заняты формой, а напротив, когда живой природы нет уже перед глазами, а остался в душе общий смысл предметов, их разговор между собой и их действительное значение в духовной жизни человека, и когда настоящий художник, под впечатлением природы, обобщает свои инстинкты, думает пятнами и тонами и доводит их до того ясновидения, что стоит только формулировать, чтобы его понять. Конечно, и Шишкина понимают: он очень ясно выражается и производит впечатление неотразимое, но что бы это было, если бы у него была еще струнка, которая могла бы обращаться в песню»[206].
Мотив картины «Грачи прилетели» был продолжен Алексеем Саврасовым в графике, как в быстрых этюдах: «Старый погост на берегу Волги» (1874), «Проталина. Начало марта» (1880-е), в более длительных зарисовках «Ранняя весна» (1880-е), «Сильно тает» (1894). Парадоксально, но прославившийся художник не переставал испытывать материальные трудности, что даже вынудило его вновь обратиться в Общество любителей художеств: «Покорнейше прошу Комитет Общества заимообразно выдать мне 300 рублей серебром. Обеспечить Обществу эту сумму в настоящее время я не могу другими оконченными картинами кроме двух, „Осень“ и „Ночь“, находящихся на выставке Общества. А. Саврасов. 1871 года 16 ноября»[207].
Порой он едва сводил концы с концами, все чаще выслушивал упреки от жены по поводу безденежья, мучительно пытался найти дополнительные заказы и частные уроки, но все же находил в себе силы для обдумывания и воплощения новых творческих замыслов. Один из них — «Сухарева башня», завершенный, точный и вместе с тем очень тонко эмоционально и колористически решенный пейзаж. Образный строй ведуты, городского ландшафта, довольно необычного для творчества Саврасова, представлен в этой композиции. Хотя картина создавалась к двухсотлетию со дня рождения Петра I, к 1872 году, она не отличается помпезностью трактовки и торжественностью звучания, но, напротив, показывает повседневную жизнь города, в которой известный памятник архитектуры гармонично воспринимается среди обычных построек. Замысел полотна был связан и с тем, что предполагалось проведение конкурса, в котором должны были принять участие московские художники.
Тогда Саврасовы снимали квартиру в двухэтажном доме в Александровском переулке. Добираясь в пролетке отсюда до училища, Алексей Кондратьевич ежедневно проезжал мимо башни и, как подобает истинному художнику, наблюдал, запоминал все нюансы освещения, цвета, тона, изменения своего восприятия образа в зависимости от состояния природы, времени года и суток. Он решил изобразить эту довольно необычную трехъярусную постройку архитектора и художника М. И. Чоглокова, который возвел в Москве также здание Арсенала, перестроил палаты Аверкия Кириллова. Пейзажист намеревался показать башню не хмурым ноябрьским днем, незаметно переходящим в сумерки, а уже зимой, когда только-только ляжет первый снег и все вокруг сменит надоевшую серую унылость на светлый, будто праздничный облик.
Сидя в пролетке, Алексей Саврасов задумался. Насколько все преображает снег, особенно в глазах художника! Исчезает придорожная грязь, тучи кружащего воронья, сердитые дворники с огромными метлами в руках, давящая серость вокруг, когда хмурым, однообразным выглядит все — дома и деревья, экипажи и люди под таким же серым, нависшим небом, и даже с лиц прохожих не сходит все то же пасмурно-унылое выражение. И вдруг снег — подобный чуду, велению Господа. Все преображается, наполняясь иным настроением, новым смыслом! С детства и всю жизнь, помимо долгожданной радости весны, Алексей Кондратьевич особенно любил зиму, приход зимы, неспешный, торжественный, почти волшебный.
Недаром среди его пейзажей так много зимних видов, особенно начиная с 1870-х годов. Часто он изображал обледеневшие дороги, занесенные поля, избы среди сугробов, оттепели, деревья-великаны в снежных уборах, посеребренные инеем перелески. Его ландшафты так тонки по исполнению, музыкальны, поэтичны, как картины столь дорогой ему природы, оживающие в стихотворениях Ф. И. Тютчева:
Чародейкою Зимою Околдован, лес стоит — И под снежной бахромою, Неподвижною, немою, Чудной жизнью он блестит. И стоит он, околдован, — Не мертвец и не живой — Сном волшебным очарован, Весь опутан, весь окован Легкой цепью пуховой…В 1872 году Алексей Саврасов, задумав написать этот довольно необычный для себя мотив — «Сухаревскую башню», стремился отобразить и жизнь этого района. Для него поставленная задача — нова, но тем интереснее пробовать свои силы, находить иные трактовки. Сухаревка — купеческий район столицы, где стояли невысокие и деревянные, и каменные дома в окружении садов, палисадников, а как доминанты среди них выделялись Сухарева башня и ближайшие храмы XVII века: Троицкий Московского подворья Троице-Сергиевой лавры и Троицы Живоначальной в Листах.
Облик Сухаревки напоминал Алексею Кондратьевичу пору его тревожного, но по-своему счастливого отрочества. Гуляя по старой Москве, подросток приходил и сюда. Далеко была видна башня, ее огромные часы. Алексей знал, что внутри башни был установлен резервуар для воды, поступавшей по Мытищинскому водопроводу. Свое название получила она от фамилии полковника Лаврентия Сухарева, командовавшего стрельцами, охранявшими Сретенские ворота. Именно этот полк оставался верен молодому царю Петру I. В знак благодарности Петр повелел возвести новые ворота с шатровой башней. В ней располагалась Школа математических и навигацких наук — первое высшее учебное заведение в России.
С башней было связано немало легенд. Здесь якобы проходили тайные заседания масонских лож, ставил свои опыты Я. В. Брюс, один из ближайших сподвижников Петра I, заведовавший книгопечатанием в России, согласно народной молве, первый в России масон, «колдун». Саврасова привлекала гармоничная архитектура башни, да и живописность находившегося у ее подножия рынка. Издали был слышан гомон пестрой толпы продавцов и покупателей. Особенно старались бывалые громогласные торговцы, расхваливавшие свой товар. Москвичи говорили, что на Сухаревке купить можно все что угодно — от редчайших произведений искусства до самой дешевой одежды, обуви, посуды, снеди. Верность народной молвы сразу же подтверждали колоритные фигуры опытных торговцев, державших свой товар на голове, на больших подносах, чтобы издали он был лучше заметен — так привлекали внимание, а значит, и торговля шла успешнее. Это было в определенном смысле истинное искусство — долгие часы суметь удерживать на голове тяжелый поднос с кувшином лимонада, выпечкой и россыпями сладостей или с громоздкими корзинами да кузовами.
Сухаревский рынок — знаменитую Сухаревку — в народе называли дочерью войны. Она обязана своим возникновением распоряжению генерал-губернатора Москвы Ф. В. Ростопчина по окончании войны 1812 года. После ухода французов москвичи начали постепенно возвращаться в свои разграбленные дома, пытались найти хоть что-то из прежнего имущества, а другие, напротив, мечтали да опасались продать попавшее к ним разными путями добро. Граф Ростопчин «издал столь своевременный указ „все вещи, откуда бы они взяты ни были, являются неотъемлемой собственностью того, кто в данный момент ими владеет, и что всякий владелец может их продавать, но только один раз в неделю, в воскресенье, в одном только месте, а именно на площади против Сухаревой башни“. И в первое же воскресенье горы награбленного имущества запрудили огромную площадь, и хлынула Москва на невиданный рынок. Это было торжественное открытие вековой Сухаревки»[208].
Сухаревка, занимавшая действительно огромное пространство, около пяти тысяч квадратных метров, стала чем-то вроде места народных гуляний. Вокруг торговых рядов и развалов, вокруг народной «толкучки», размещалось множество магазинов, лавок, трактиров, пивных. Сюда спешили празднично одетые москвичи — купцы, мещане, разночинцы, даже столичные богачи, приезжали крестьяне из десятков окрестных деревень, приходили заезжие провинциалы, вор под полой нес награбленное, чтобы быстрее сбыть с рук, жуликам тоже было раздольно. Как писал Владимир Гиляровский, Сухаревка жила случаем: сюда одних приводила нужда, других — жажда наживы, третьих — азарт. Ее девиз был прост и всем понятен: «На грош пятаков!» Только власти предержащие обходили рынок стороной, за исключением, как поговаривали, московского полицмейстера Н. И. Огарева, который появлялся здесь нечасто по воскресеньям в поисках настенных часов, которые собирал.
Образ знаменитого рынка ясно представлял себе Алексей Саврасов. Знал он также правдивые анекдоты о жизни Сухаревки. Один из них гласил, что некий художник-реставратор, возвращаясь с дачи, зашел на рынок и приобрел здесь старинную вазу тонкой работы, точь-в-точь такую же, которая уже имелась у него, парную ей. Но, когда вернулся домой, встревоженный слуга сообщил ему, что накануне их ограбили — художник купил на рынке собственную вазу.
Однако рядом с этим колоритным местом селились добропорядочные, степенные купцы, мещане. Многие из них перебирались в город из деревни. Переезжая, не спешили менять свои обычаи, сохраняли патриархальный жизненный уклад. Среда купцов и мещан — это, как правило, среда глубоко верующих, воцерковленных людей, в том числе старообрядцев, особенно почитавших древние традиции. Потому в каждом купеческом доме обязательно находился красный угол с намоленными образами: иконами, крестами, складнями.
Вспоминая впечатления своей юности, Алексей Саврасов словно вновь видел, как в праздничные дни на Сухаревке, у башни и в извилистых узких переулках поблизости чинно шли купчихи под руку со своими супругами в поистине неповторимых нарядах. В праздник купчиха могла надеть русский народный костюм, богато украшенный вышивкой, и кружевную блузу под названием «рукава». Такое название объясняется тем, что именно рукава избыточно декорировались кружевом. Наряд дополняли жемчужное ожерелье, цветастая шаль с кистями — так, что обладательница такого небывалого костюма напоминала диковинную жар-птицу. Но они были по-своему самобытны, даже красивы. Став известным художником, Саврасов не только наблюдал жизнь города, но отображал ее в тонких, пронизанных душевной теплотой, живописных и графических образах, одним из которых и явилась композиция «Сухарева башня».
Помимо творчества Саврасов должен был вновь преподавать. После Ярославля он вернулся в училище, где состоялась его новая встреча с друзьями, коллегами, учениками. Наконец-то все возвращалось на круги своя. После лишения его казенной квартиры, о чем он узнал от господина Собоцинского, Алексею Кондратьевичу сначала казалось, что земля уходит у него из-под ног. Но постепенно он успокоился, оправился, и все же его не покидало ощущение, что в училище он больше не нужен, что ему словно дали пощечину, словно указали на дверь. Насколько психологически сложно было возвращаться сюда!
Однако он смог себя заставить, смог преодолеть все негативные воспоминания — и вот художник вновь в родных для него стенах, в пейзажной мастерской. Как все здесь привычно, спокойно, как все располагает к работе! Сквозь большие окна льется ровный свет в просторное помещение, на стене мерно тикают старые часы, к которым он так привык, в ряд выстроены мольберты, испачканные всеми цветами радуги учениками в упоении работы. На них к приходу Алексея Кондратьевича расставлены студенческие этюды, многие — еще сырые, еще так упоительно пахнущие масляными красками и «тройником» — смесью льняного или подсолнечного масла, лака и растворителя, на котором писали, разводили краски наиболее прилежные молодые художники, следуя технологии живописи. Радушно, весело, непринужденно встретили его воспитанники, и так же легко и радостно отвечал на их приветствия Саврасов.
В тот памятный день возвращения все новости училищной жизни он воспринимал очень трепетно и остро, а особенно радовался за своего друга, известного художника, преподавателя Василия Григорьевича Перова, который к тому времени стал профессором Училища живописи, ваяния и зодчества.
Алексей Кондратьевич зашел поздравить друга в его мастерскую. Они разговорились — немало событий произошло за время отсутствия Саврасова. По характеру, темпераменту, содержанию творчества да и по внешности — это были совершенно разные на первый взгляд люди. Но все же их объединяло многое — искусство прежде всего, искреннее, до конца преданное, бескомпромиссное служение ему. Потому они были друг другу всегда интересны, потому понимали друг друга с полуслова. Нередко вместе друзья заходили в один из трактиров неподалеку от училища, угощались расстегаями, иногда выпивали. Однажды, прогуливаясь в саду «Эрмитаж», Перов много говорил — ему было просто необходимо поделиться с другом своими мыслями, впечатлениями. В его душе словно всегда оставалась боль за народ, за обездоленных, которых так много, так хотелось им хоть чем-то помочь.
«Разве могу я не отражать правду народной жизни в картинах? Как же может художник молчать об этом? Как можно не сочувствовать? Не пытаться изменить такую несправедливость?» — вопрошал Василий Григорьевич. Мирочувствование Перова, а следовательно, звучание, смысловая наполненность его произведений во многом близки идеям великого писателя и философа России, их современника Ф. М. Достоевского, в то время уже завершившего свои центральные произведения: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы». Все творчество Достоевского, по заключению ряда критиков, обращено к человеку, к его духовному миру. Развитие одной из своих центральных идей — идеи всемирной отзывчивости, очень близкой и В. Г. Перову, — он прослеживает в характеристике различных, во многом контрастных персонажей, то есть выявляет божескую, а не демоническую сторону людей. В понимании Достоевского человек — это всегда образ и подобие Божие, как бы ни было сложно увидеть это подобие. Способность человека к всемирной отзывчивости позволяет оценить его близость к духовным идеалам, к тому духовному свету, к которому так мучительно стремятся многие герои произведений Достоевского. Идея всемирной отзывчивости во многом определяет основные положения философских заключений писателя, но впервые провозглашена им в речи на открытии памятника А. С. Пушкину в Москве в 1880 году. Говоря о значении Пушкина для России, он утверждал «способность к всемирной отзывчивости»[209] русского народа и его гения — Пушкина. «Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим…»[210] Всемирная отзывчивость — идеал духовной красоты для Достоевского. «Если… не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии… Христос в себе и в слове своем нес идеал красоты…»[211]
Во время того же разговора Перов поделился с Саврасовым историей создания своей картины «Тройка», о чем мало с кем говорил. Василий Григорьевич поведал другу, что однажды после Пасхи он прогуливался по Москве, искал натуру, заходил в отдаленные переулки, окраинные тупики. У Тверской заставы встретил богомольцев, среди которых заприметил пожилую крестьянку с мальчиком лет двенадцати. Оказалось, что вся семья — муж и другие ее дети умерли, остался только сын Василий, и они вместе шли из деревни Рязанской губернии в Троице-Сергиеву лавру на поклон к святому Сергию Радонежскому. Перов по памяти написал портрет ее сына, изобразил его в своей картине «Тройка».
Примерно через год эта крестьянская женщина, Марья, пришла к художнику, опечаленная, постаревшая. Ее рассказ о смерти сына Васеньки от оспы глубоко тронул Василия Перова. Марья, накопив денег, решила купить картину, на которой был изображен ее сын. Вместе с художником они пришли в дом к Павлу Третьякову, и среди множества картин, которыми сплошь были завешаны стены комнат, крестьянская женщина сразу же отыскала портрет своего Васеньки с выбитым зубом. Василий Перов обещал написать отдельный портрет сына и послать ей в деревню. Теперь ему предстояло приступить к этой работе, и он не мог не поделиться с другом своими переживаниями. Алексей Кондратьевич, вспоминая свои недавние, столь болезненные для него семейные горести, утрату близких, смерть детей, всецело поддержал его. Конечно, такой портрет станет утешением для матери.
Доверительное общение обоих выдающихся художников продолжалось и в дальнейшем. В 1878 году В. Г. Перов написал портрет А. К. Саврасова, в котором передал не только портретное сходство, но и выразительный облик незаурядного человека, его великого духа. В то же время образ полон тревоги. Такое художественное решение служит напоминанием о многих, нередко скорбных событиях в жизни Алексея Кондратьевича, словно позволяет предугадывать и последующую трагедию его жизни. Но пока Саврасов все так же вдохновенно работал, много преподавал, продолжал писать «Сухареву башню», с трудом находя для этого время, занимался и общественной работой. Его произведения звучали сильно, самобытно, актуально.
Последняя треть XIX столетия — эпоха расцвета реалистического искусства России. В жанре пейзажа работали тогда выдающиеся мастера, современники А. К. Саврасова: Ф. А. Васильев, Л. Л. Каменев, М. К. Клодт, К. А. Коровин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. Д. Поленов, И. И. Шишкин. Каждый из них, при следовании одной традиции, смог сказать свое слово языком живописи и графики, смог привнести иной оттенок звучания в музыку отечественного пейзажа. О расцвете данного жанра свидетельствует и то, что портретисты, художники исторического и религиозного направлений обращались к пейзажным решениям (И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, М. В. Нестеров и др.). Их «эксперименты» оказывались не только удачными, но и немаловажными в эволюции творчества, как, например, для Виктора Васнецова. Его полотна, новаторские для художественного «почерка» автора, для своего времени в целом, как, например, «Три царевны подземного царства» (1879) и «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), являются таковыми во многом из-за колористического строя пейзажа. Это все тот же пейзаж настроения Алексея Саврасова, в котором реалистическая трактовка гармонично сочетается с самобытностью видения, эмоциональным переживанием, идейным замыслом автора. Таковы веяния времени, укоренявшиеся как в творчестве отдельных живописцев, так и в деятельности художественных объединений. Одно из них — Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
В эти годы Алексей Кондратьевич вновь почти постоянно находился в училище, работал с молодыми художниками. МУЖВиЗ в 1870-е годы пользовалось заслуженной известностью и в столице, и по всей России, поскольку здесь учились или преподавали многие ведущие художники отечественной школы. Каким видели тогда училище его педагоги и ученики? С. Д. Милорадович, воспитанник Училища живописи в 1874–1878 годах, вспоминал свое первое посещение особняка на Мясницкой: «Поднявшись во второй этаж по красивой лестнице в переднюю комнату, я вошел в следующую… Эта комната была учительской, в глубине ее на диване и стульях сидели и вели беседу профессора-художники… Фигурный класс по своему простору и обстановке был один из лучших и красиво обставленных в школе. Вдоль стен против света и по бокам стояли прекрасные образцы античных фигур. В свободные часы можно было всегда с них рисовать. Поверх гипсов, на стене висели картины лучших мастеров… Да, этот класс походил на храм искусства. Впоследствии… в этом классе нередко собирались по вечерам передвижники»[212], среди них и Алексей Кондратьевич Саврасов.
Художник продолжал напряженно работать, участвовал в передвижных выставках. В 1872 году, так же как Крамской, Перов, Прянишников, Мясоедов, Ге, он был избран в правление Товарищества передвижных художественных выставок. Очень плодотворно для него прошло лето 1872 года, когда художник, благодаря предпринятой им поездке по Волге, помимо «Вида Нижнего Новгорода», написал многочисленные этюды с натуры и ряд картин: «Керженский перекат», «Рыбаки на Волге», «Развалины столицы Болгарского царства»[213].
Казалось бы, вновь более насыщенной становилась его общественная деятельность. С 1872 года в залах училища устраивались независимые передвижные выставки. В 1873 году А. К. Саврасов стал кассиром-распорядителем Московского отделения товарищества. Он аккуратно вел дела: организовывал выставки, занимался перепиской, участвовал в заседаниях, в продаже картин передвижников, что подтверждают его письма, протоколы общих собраний товарищества. Так, в письме В. Г. Перова и И. М. Прянишникова в Петербургское отделение правления Товарищества передвижных выставок в 1873 году говорится о том, что «устройство выставки поручается А. К. Саврасову, который и принял на себя этот труд»[214]. Третья выставка передвижников в Москве в апреле — мае 1874 года оказалась менее многолюдной, что отмечалось в газете «Русские ведомости». Об экспозиции в публикации сообщалось, что она «была настолько хороша, что могла бы рассчитывать на большее внимание со стороны москвичей. Она соединила в себе произведения всех наших лучших художников — гг. Перова, Ге, Крамского, Мясоедова, Саврасова, Каменева, прекрасного пейзажиста Шишкина…»[215].
Однако постепенно Алексей Кондратьевич стал все более отходить от дел. Накапливались его разочарования, нарастали разногласия с администрацией училища. Жалованье все никак не повышали — по-прежнему 600 рублей серебром в год, хотя он преподавал уже давно, да и должность оставалась той же — младший преподаватель. Но он руководит мастерской, весьма успешно, и учеников немало — неужели не заслуживает большего? Недоброжелательное отношение ряда коллег было очевидно, что не могло не ранить. Не зря, например, его ученик К. А. Коровин замечал, что многие преподаватели косо смотрели на мастерскую Саврасова, не понимали его методов, говорили, что ученики там пишут слишком вольно, занимаются ерундой, отсебятиной. Алексей Кондратьевич садился, складывал как-то робко на коленях большие руки и начинал говорить, словно оправдываясь, часто невпопад, а потом исчезал из училища чуть ли не на месяц, выпивал, молча переживал произошедшее. Не радовало его и общение с Комитетом Общества любителей художеств, например, то, что под залог картин «Осень» и «Ночь» по его просьбе было выдано не 300, а только 200 рублей.
Его семья постоянно испытывала стесненность в средствах, все более напряженными становились отношения с Софьей, что не могло не отражаться и на детях. Жизненные сложности обострялись, словно уничтожая его планы и надежды. Алексей Кондратьевич пытался противопоставлять им творчество, по-прежнему активно работал: написал картину «После метели», этюд «Ивы у пруда», который по композиционному, образному строю характерен для художника, тогда как «После метели» — во многом необычное для него решение, не столько пейзажное, сколько жанровое. Крестьянский обоз едва движется по заснеженному полю во власти вьюги, и кажется, слышно, как завывает ветер, как тяжело дышат лошади, как люди из последних сил пытаются двигаться вперед. Пейзаж воспринимается не только как выразительный художественный образ, характерный для России, но как символ, как емкое вневременное иносказание о жизненном пути, о лишениях и невзгодах и воле людей к их преодолению.
Это полотно, показанное на передвижной московской выставке в феврале 1872 года, было замечено зрителями, получило положительные отзывы знатоков. Все чаще в прессе Саврасова именовали «знаменитым», «широко известным». Критик Г. Урусов, например, писал в журнале «Беседа»: «На картине представляется раннее, морозное, румяное зимнее утро. В предшествовавшую бурную снежную ночь несколько крестьян, ехавших с возами, потеряв дорогу, сбились в сторону». Далее автор излагал целый литературный рассказ, который домыслил на основе сюжета картины, а в завершение замечал: «Особенность таланта г. Саврасова заключается, между прочим, и в том чутье души художника, которое, прилепясь к родной природе раздольной Руси, дарит художественному миру в своих картинах и бесконечную, захватывающую дух мелодию, и могучий, широкий, обхватывающий душу и сердце аккорд, сноп родных, знакомых звуков…»[216] Подобные литературные сочинения, написанные на основе произведений изобразительного искусства, были вполне характерны для эпохи второй половины XIX века, о чем свидетельствуют рассказы В. М. Гаршина и Г. И. Успенского, отчасти и критические статьи В. В. Стасова.
В том же 1872 году Саврасов исполнил достаточно необычный для себя заказ — акварельные рисунки «Виды Туркестана», которые были представлены в павильоне Туркестана на Политехнической выставке в Москве, открытой 30 мая во временных павильонах. Шумно и многолюдно было тогда у Кремля. Наконец-то дождавшись теплой, уже почти летней погоды, радуясь бурному цветению и еще сочной, не запыленной зелени, москвичи отправлялись на прогулку в центр древней столицы. Многие с живым интересом осматривали выставку, проведение которой было приурочено к 200-летнему юбилею Петра I. Помимо всего прочего, об этом напоминал ботик первого императора России, спущенный на воду около Воспитательного дома и отбуксированный к стоянке у Софийской набережной. Экспонаты были показаны в павильонах, сооруженных в трех кремлевских садах, на набережной, вблизи Каменного и Москворецкого мостов, в Манеже, а также на Разводной площади в Кремле. На случай пожара у Каменного моста была установлена привезенная из Америки паровая пожарная труба Госби.
Выставка вызвала огромный интерес, о ней немало писали в газетах, и отзывы звучали, как правило, положительные, поскольку главная задача была явно решена — продемонстрирован научно-технический прогресс. Об этом говорили разделы экспозиции: технической, прикладной физики, почты и телеграфа, гидравлический и многие другие. На Моховой улице немалое удивление зрителей вызывали локомобили, которые приводили в движение машины технического отдела.
Не остались не замечены и представленные на выставке произведения Алексея Саврасова. Не спеша осматривал экспозиции и Алексей Кондратьевич, невольно сравнивая их с двумя Всемирными выставками, которые ему довелось увидеть за рубежом. Когда он подошел к павильону Шир-Дор, где располагался туркестанский выставочный отдел, его окликнули — рядом с ним стояла его бывшая ученица Армфельд-Федченко с мужем, по просьбе которой художник и исполнил тот заказ. Ольга Александровна Армфельд-Федченко не только серьезно изучала под его руководством пейзажную живопись, но также ботанику, зоологию, антропологию. Ее супруг, известный путешественник, исследователь Средней Азии, географ и натуралист Алексей Павлович Федченко также учтиво раскланялся с художником, выразил восхищение его рисунками Горного Туркестана, подготовленными для выставки. Саврасов, в свою очередь, расспрашивал их о путешествиях и искренне порадовался за свою бывшую ученицу. Она достигла немалых успехов — три года жила в Средней Азии, вместе с мужем исследовала истоки и долину Зеравшана, видела и древние здания Самарканда. Туркестанский павильон выставки был построен по образцу самаркандского медресе Шир-Дор, сооруженного в XVII столетии Абдуллой Джаббаром. Внутри выставочного павильона располагались дворик с пестрым базаром, лавки, цветы, чучела животных, манекены в национальных одеждах, словно замершие заколдованные люди, остановленные чьей-то неведомой рукой во время повседневных дел. Алексей Кондратьевич во время осмотра этих необычных экспонатов вспоминал натурные зарисовки Ольги Федченко, сделанные в Туркестане. Они так гармонировали со всем увиденным ими на выставке — мощно взмывающие ввысь горы и ледники, озера и пески Кызылкума, быстрые узкие реки среди овеянных знойными ветрами равнин. Именно такие зарисовки Федченко стали основой для акварельных произведений Саврасова, исполненных по ее просьбе.
Над этим заказом Саврасов работал легко, был им искренне увлечен, да и теплые дружеские отношения с бывшей ученицей тому способствовали. Вскоре и в ее жизнь вторглось несчастье. Менее чем через полтора года после открытия этой выставки, в сентябре 1873 года, погиб ее муж Алексей Павлович Федченко, сын разорившегося сибирского золотопромышленника, выпускник Московского университета, автор выдающихся, широко признанных географических открытий. Он замерз в Альпах во время бурана при восхождении на один из ледников. Алексей Кондратьевич поддерживал свою бывшую ученицу, помогая пережить трагедию. Позднее они вновь сотрудничали — в Петербурге в 1875 году был издан альбом «Виды русского Туркестана», который украсили рисунки Саврасова, исполненные в технике литографии. Также художник работал над иллюстрациями к книге А. П. Федченко «Путешествие в Туркестан», в которой рассказывалось об экспедиции, длившейся более двух месяцев — в Кокандское ханство, на Алай, к горам Памира. В памяти Алексея Кондратьевича навсегда остался образ этой хрупкой, но настолько сильной духом женщины, решимостью и самоотверженностью во многом похожей на свою сестру Наталью Армфельд, которая, вступив в ряды народовольцев, была сослана на каторгу и погибла в 1887 году от чахотки на реке Каре в Якутии.
Работа над туркестанской серией усилила стремление художника отправиться в новое путешествие. Странствия всегда давали ему душевное отдохновение, бытовые сложности отступали на дальний план, мелочи забывались, даже серьезные проблемы воспринимались не так остро. Алексей Кондратьевич искал новые мотивы для картин. Летом 1873 года ему представилась возможность отправиться в поездку на Волгу, под Казань, где находились села волжских булгар. Он тепло простился с близкими, расцеловал дочек на прощание и отправился в поездку. Вновь его ждала встреча с волжскими просторами, к которым неравнодушен, наверное, ни один художник.
Он работал над этюдами с натуры, делал и быстрые зарисовки, словно создавая дневник языком живописи и графики. Одна из центральных картин Саврасова, написанная во время поездки, — «Село Болгары. Руины Малого минарета и Белой палаты», в которой художник решал несколько иные задачи: создал архитектурный пейзаж, через настоящее обратился к ушедшим дням, отзвуки которых отражены в старинных постройках. Это путешествие продолжалось довольно долго, поскольку еще в середине сентября он в Москву не вернулся. И. И. Шишкин в письме И. Н. Крамскому сообщал, что ему не удалось застать известного пейзажиста в Москве.
В 1873 году Алексей Кондратьевич завершил пейзаж «Весна. Вид на Кремль» и свое выдающееся произведение — «Проселок», которое по достоверности переданного состояния природы, силе восприятия, совершенству художественного решения не уступает знаменитым «Грачам». Однако «Проселок» широким кругам зрителей стал известен только через 20 лет. Удивителен тот факт, что автор не отправил завершенную картину на очередную выставку передвижников, а, едва закончив пейзаж, подарил его своему другу художнику И. М. Прянишникову. Только в 1893 году «Проселок» впервые был представлен в экспозиции произведений из частных коллекций и был замечен многими — оценен исключительно высоко благодаря новаторскому и вместе с тем исключительно точному художественному звучанию.
Один из восторженных отзывов по этому поводу был опубликован в журнале «Артист». Посвященные его произведению слова растрогали уже престарелого больного художника: «…В первый раз мы видим… прекрасный эскиз г. Саврасова „Проселок“, написанный в лучшую пору его художественного расцвета. Воздух с густыми массами облаков, расходящихся после ливня на солнечном небе и отражающихся в широких лужах проселка, представляет образец чуть ли не высшей точки в силе поэтической трактовки воздуха у г. Саврасова…»[217] Как близки методам искусства Алексея Кондратьевича слова его друга и покровителя Павла Третьякова: «Дайте мне хоть лужу грязную, да чтобы в ней правда была, поэзия, а поэзия во всем может быть, это дело художника». Таким художником, умевшим найти поэзию едва ли не во всем, и являлся Алексей Саврасов, и это удивительное свое качество, свою трепетную, глубоко и тонко чувствующую душу он сохранил с отроческих лет до последних дней жизни. В период расцвета творчества его мирочувствование, восхищение природой, любовь к Отчизне звучали всегда по-разному, но всегда проникновенно.
В начале 1870-х годов Алексей Кондратьевич много и плодотворно работал, создавая пейзажи, занявшие заметное место в отечественном искусстве. Он находил время и для преподавания, и для общественной работы, а также для выполнения заказов, для частных уроков. Жизнь художника в какой-то момент становилась исключительно насыщенной и весьма успешной, по крайней мере так казалось со стороны.
Однако вслед за светлым, приподнятым по звучанию образом «Проселка» Саврасов написал картину «Могила на Волге. Окрестности Ярославля», в которой нашли отражение многие переживания художника, боль утрат. Но при минорном решении ландшафта вдали над волжской далью все же пробивается полоска солнечного света, непогода отступает, остается место надежде. «Могила на Волге. Окрестности Ярославля» впервые была показана на Третьей передвижной выставке (1874) сначала в Петербурге, позднее в Москве, Казани, Воронеже, Харькове, Одессе, Киеве, Риге. Исаак Левитан писал об этом полотне: «Широкая, уходящая вдаль могучая река с нависшей над нею тучею; впереди одинокий крест и облетевшая березка — вот и все; но в этой простоте целый мир высокой поэзии»[218]. Без сомнения, такой отзыв был заслужен. Для самого Левитана данная композиция его учителя отчасти послужила образцом при создании композиции «Над вечным покоем», а по своему настроению созвучна целому ряду его произведений.
Критик Г. Урусов очень подробно делился с читателями своим восприятием новой картины Алексея Кондратьевича: «Необычайною силою как исполнения, так и выражения отличается и вид из окрестностей Ярославля, „На Волге“, Саврасова же. На переднем плане рисуется склон берега к реке, составляющий часть кладбища, поросший прутняком и жесткою, уже отжившею травой. Сияющее, осеннее солнце спряталось за массивным темным облаком, бросившим густую тень на берег первого плана, чтобы показать ярко золоченую солнцем даль, песчаные отмели и сверкающую воду. Резко выделяется берег своим силуэтом на светлой, воздушной глубине, пересекаемой лишь надмогильным деревянным крестом. Снизу, с реки, вздымая песок, нагибая кусты и стеля траву, мчится крутящийся песчаный вихрь. Дальнозоркий, белый рыбак тревожно летит, подымаясь над вихрем и рассекая своими острыми крыльями неспокойный воздух. Это пейзаж-поэма: тут выражена целая жизнь, — и туча как горе; тепло и свет как радость и надежда; вихрь как страсть; склоняющийся к вечеру день как приближение старости и венец всему — могильный крест! Слетит пустая улыбка с губ праздного зрителя при взгляде на него; из глубины душевной подымутся строгие думы и отразятся на лице»[219].
Итак, исходя из самого обычного, непритязательного мотива, Алексею Кондратьевичу удалось добиться глубокого драматического звучания, исключительно верно переданного состояния природы, когда, словно в улыбке тихой радости, все преображается вокруг первыми солнечными лучами после сильного дождя. Возвращается свет на землю и в людские души, и в жизнь каждого. Но в жизни художника этих радостных мгновений становилось все меньше, и, наверное, поэтому так контрастны, часто тревожны настроения его пейзажей.
Это время плодотворно в творчестве пейзажиста. Кроме композиции «Могила на Волге» на той же передвижной выставке были представлены еще три его произведения: «Вид Нижнего Новгорода», «Хоровод», «Волга», также положительно встреченные публикой и критиками. Он написал и ряд композиций: «Скоро весна», «Пейзаж. Берег Волги», «Оттепель. Ярославль». Его картины имели безоговорочный успех, получали признание критиков. Художника стали именовать «великим мастером», «самобытным и могучим».
На той же Третьей передвижной выставке Иван Шишкин представил полотно «Лесная глушь», по уровню мастерства и жизненности образов ничем не уступавшее пейзажам Алексея Саврасова. Сильное, ярко выраженное эпическое начало главенствовало в его образах, что дало начало вновь иному звучанию русского пейзажа. Бесспорно, что и до Шишкина, и после него многие поколения художников обращались к подобным мотивам, однако каждый привносил свое, особенное настроение в их решение. Пейзаж каждого автора словно был наполнен своей музыкой. В 1870-е годы создавались многие значительные произведения отечественной пейзажной школы: «Мокрый луг» Васильева, «На пашне» Клодта, «Красный пруд в Москве» Каменева. Тогда свои первые пейзажи, еще не самые характерные, не во всем виртуозно исполненные, писали К. Коровин, И. Левитан. Однако эпическое начало, свойственное отечественной природе, наиболее сильно прозвучало в творчестве Шишкина, ее лиричность — в полотнах Саврасова.
Успех окрылил Алексея Кондратьевича. Он вновь был полон замыслов, завершал картины, начинал писать новые полотна, работал неустанно. Так в труде и семейных заботах быстро неслось время, вновь приближалось лето. В мае 1875 года Саврасовы решили, что Софья Карловна с детьми переселится на дачу близ Сергиева Посада, а как только закончится учебный год, к ним присоединится Алексей Кондратьевич. Вещи предварительно отправили на поезде, что было удобнее, чем везти их на телеге ломового извозчика. Остановились в Штатной слободе, в доме мещанина Ивана Никулина. Художник жил вместе с семьей, лишь изредка по делам отлучался в Москву, имел возможность, не отвлекаясь, работать над картинами и в мастерской, немало писал на пленэре.
Эти живописные места, овеянные исторической памятью нашего народа, славными событиями эпохи Древней Руси, не могли не вдохновлять его, а прежде всего воскрешали в памяти художника духовный облик преподобного Сергия Радонежского. В лесах под Радонежем по дороге на Север Сергий поставил деревянную Троицкую церковь, положившую начало Троице-Сергиевой лавре. Писатель-агиограф Епифаний Премудрый говорил в похвальном слове о Сергии: «Дарова нам (Бог) видети такова мужа свята и велика старца и бысть в дни наша»[220].
От Сергиева Посада уходит дорога на Ярославль и дальше — на Русский Север. Художник любил бродить по окрестностям лавры, любовался умиротворяющей неброской красотой пейзажей. Безоглядные дали и задумчивые аллеи, пышное разноцветье лета — картины природы, наполненные символичным, глубоким для него смыслом, к которому он вновь и вновь по-разному обращался всю жизнь.
Для Алексея Саврасова образ родной земли постепенно приобретал обобщенный духовный, философский смысл, близкий понятиям «исконная Русь», «вневременные традиции». Этот образ для него исключительно целен, ибо связан с сутью духовного пространства России. Так рождались замыслы его картин, преломленные через мировоззрение автора, философское осмысление окружающего. Как писал Н. Н. Страхов: «Если мы принимаемся мыслить, рассуждать, наблюдать, то оказывается, что мы заранее признаем понятие познания, заранее предполагаем существование истины, достигнуть которой и стараемся… Принимаемся ценить существующее, какие бы то ни было вещи и явления, не в них самих, а в известном отношении их к нам, как наше благо и зло…»[221]
Живя на даче близ Сергиева Посада, Алексей Кондратьевич с несказанным удовольствием посещал окрестные монастыри, усадьбы, селения. Каждый уголок этой земли, хранивший наши древности, национальные традиции, был ему безмерно дорог. Он побывал и в Радонеже, и в Хотькове. Отсюда недалеко и до имения Ф. И. Тютчева Мураново, и до старинного города Переславля-Залесского, основанного Юрием Долгоруким. Однажды Алексей Саврасов добрался до притаившейся в лесах у речки Вори усадьбы «Абрамцево», которая с 1870 года принадлежала Мамонтовым. Пройдет совсем немного времени, и уже в конце 1870-х — начале 1880-х годов именно эта усадьба станет известным художественным центром, где в гостях у мецената Саввы Ивановича Мамонтова и его семьи бывали выдающиеся художники — М. М. Антокольский, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Н. В. Неврев, М. В. Нестеров, В. Д. и Е. Д. Поленовы, И. Е. Репин, В. А. Серов и многие другие. В разные годы в усадьбе гостили: Н. В. Гоголь, П. В. Киреевский, А. В. и Н. А. Праховы, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. С. Хомяков.
В середине 1870-х годов в абрамцевской усадьбе еще многое напоминало о прежних владельцах — Аксаковых. Виды усадьбы и ее окрестностей отражены в произведениях Виктора и Аполлинария Васнецовых, Киселева, Константина Коровина, Левитана, Нестерова, Остроухова, Поленова, Серова, Сурикова. Каждый из образов по-своему правдив и поэтичен, свойствен времени. Господский дом здесь напоминал об эпохе первой половины — середины XIX века, о прежнем хозяине — известном писателе и общественном деятеле Сергее Тимофеевиче Аксакове и его произведениях: трилогии «Семейная хроника», ее наиболее известной части «Детские годы Багрова внука», «Записки об уженье рыбы», сказке «Аленький цветочек». Философ и публицист И. А. Ильин в одной из своих лекций говорил: «Чтобы почувствовать и узнать Россию, необходимо обратиться к русской литературе»[222]. Справедливость его слов подтверждают сочинения С. Т. Аксакова, многие из которых написаны в Абрамцеве.
Сохраняя образ усадьбы, Мамонтовы сразу же начали расширять старый дом, который не мог вместить их большую семью и многочисленных гостей. Вскоре, к 1873 году, появились и другие постройки: мастерская и баня в неорусском стиле, лечебница, немного позднее, по замыслу Елизаветы Григорьевны Мамонтовой, была построена школа для крестьянских детей. Н. В. Поленова, частый гость усадьбы, так характеризовала жизнь в Абрамцеве 1870–1880-х годов: «Основавшись на развалинах старой помещичьей жизни, Мамонтовы с глубоким уважением к прошлому, связанному с именем Аксакова, взяли из него любовь к деревне, к русской природе, всю его духовную сторону и поэзию, известную патриархальность… Шестидесятые годы воодушевили их к активной работе на пользу народа. Ко всему этому они присоединили красоту и художественную одухотворенность, которые животворным началом прошли через всю их жизнь и дали Абрамцеву почетное место в истории развития русского искусства»[223].
Так протекали летние дни Саврасова. Наконец-то он был относительно спокоен, много работал, новые впечатления лишь радовали его. Но вдруг этой идиллии пришел конец — в Сергиевом Посаде вспыхнула холера. Никто из Саврасовых не заболел этим страшным недугом, и к началу осенних занятий они смогли благополучно вернуться в Москву. Круговерть московской жизни, рабочих событий и творческих планов вновь закружила художника. Славянский базар славился своими музыкальными вечерами, и Софья Карловна, соскучившаяся по светским развлечениям, непременно и как можно быстрее хотела их посетить. В «Орфеуме» у Мясницких Ворот регулярно устраивались танцы. В модном магазине француженки Луизы Бари проходила выставка дамских шляп, что не могло не заинтересовать и супругу, и дочерей художника. Кроме того, газеты пестрели сообщениями о совсем диковинных новостях — у Москворецкого моста продавались дикие австралийские соловьи; на Никольской, в доме Алексеева, в галерее, давала представления великанша из Саксонии, приехавшая в Москву с Венской Всемирной выставки. В Зоологическом саду во время гулянья состоялся полет на воздушном шаре воздухоплавателя Шперлинга.
Однако всем развлечениям шумной осенней столицы Алексей Кондратьевич предпочитал свои художественные занятия. Открывалась очередная, уже Четвертая передвижная выставка, на которой Саврасов решил экспонировать два произведения — «Вечер. Перелет птиц» и «Сжатое поле». Однако положительных отзывов эти картины не нашли ни у обывателей, ни у московских знатоков, ни у петербургских передвижников. Многим оставался неясен выбор таких мотивов, те идеи и настроения, которые автор стремился донести до зрителя через свои работы. Тоскливыми, слишком серыми многим казались его пейзажи — летящие птицы на фоне тревожного закатного неба, атмосфера поздней осени, словно пронизанная тоской и одиночеством. Критики почти не писали о новых работах Саврасова, только в «Петербургском листке» появился следующий отзыв: «Пейзажей выставлено более 20 и из них мало которые замечательны, если не выделить отсюда пейзажа Боголюбова „По реке Суре“, в котором, однако, зритель не увидит прежнего Боголюбова, „Вечера“ Саврасова да „Сосновых лесов“ И. И. Шишкина, в которых зритель узнает, однако, прежнего Шишкина…»[224] Такой отзыв, явно недосказанный, обрывочный, по профессионализму изложения и по эмоциональной, смысловой характеристике произведений не мог не вызвать серьезных вопросов художника.
В 1875 году Саврасов завершил также произведения «Радуга после грозы» и «Волга», которые не получили широкой известности, хотя их значимость была очевидной для ценителей искусства. Так, например, о картине «Радуга после грозы», скромной, но исключительно светлой, достоверной по своему звучанию, П. П. Чистяков писал В. Д. Поленову: «Слышал я, что Саврасов шуточку свою, впрочем, даровитую, продал за пятьсот рублей. Радуюсь. Есть знатоки, стало быть. По-моему, Добиньи, что на постоянной выставке, курьез сравнительно с картинкой Саврасова…»[225] «Знатоками», о которых говорил П. П. Чистяков, оказались И. Е. Репин и Д. В. Стасов: пейзаж «Радуга после грозы» был приобретен И. Е. Репиным для архитектора Д. В. Стасова, брата критика.
Высокая оценка этюдного пейзажа была вполне заслуженна. Действительно, выполненный с исключительным профессионализмом, этюд соответствовал требованиям и отечественной, и европейской живописи, в том числе барбизонской школы, к которой принадлежал упомянутый Чистяковым Шарль Франсуа Добиньи, но, вместе с тем, отличался ярко выраженным национальным звучанием, был характерен именно для России. Невысокий пригорок, поросший яркой, напоенной влагой травой, а на нем показана несколько покосившаяся, старая, но настолько живописная в глазах художника изба. На дальнем плане перемежаются холмы и перелески, по которым так любил бродить Саврасов, а за ними в еще неспокойном после дождя небе встает светлая радуга, как символ радости, утверждения жизни. Недаром в старину в народе говорили: «Радуга — знак победы жизни над смертью, знак благоволения Господня».
Полотно «Волга» отличается иным художественным решением — эпическим, монументальным. Чутко передан волжский простор, реалистично трактованы выразительные облака, плывущие над водной гладью. Особое настроение картине придают стаффажные фигуры бурлачек в пестрых сарафанах на берегу, готовящихся тянуть плоскодонную расшиву с мачтой.
Достаточно необычен для творчества Саврасова пейзаж «У ворот монастыря» (1875), который, как следует предположить, написан под влиянием душевной усталости, тоски, тревоги, связанных с постоянными разногласиями с коллегами в училище, с семейными неурядицами. Словно не находя должного отклика и понимания среди окружающих, Алексей Саврасов «заговорил» языком живописи, находя в природе созвучия своим переживаниям. Он решил показать на полотне собирательный образ, напоминающий соловецкие храмы, прежде всего церковь Вознесения Господня на горе Секирной.
Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1429 году. История обители связана со многими историческими потрясениями, сложнейшими событиями нашей истории. С конца XVI столетия монастырские постройки служили местом ссылки, известно восстание здесь старообрядцев в 1668–1676 годах, так называемое «соловецкое сидение». На протяжении следующих столетий обитель пользовалась уважением и почитанием. И, конечно, далеко не случайным стало обращение Алексея Кондратьевича к такому образу.
Немаловажно, что в небольших пейзажах 1870-х годов Саврасов постепенно осваивал специфику пленэрной живописи, что не проявилось в его творчестве так явно, как у французских импрессионистов (Мане, Моне, Сислей, Писсарро, Ренуар, Моризо и др.), не нашло такого экспрессивного выражения, как в живописи его ученика, «русского импрессиониста» К. А. Коровина, но все же получило яркое и значимое художественное выражение.
1870-е годы стали рубежным периодом в творчестве Алексея Саврасова, что во многом было связано с жизненными трудностями, с далеко не всегда гармоничной атмосферой и на службе, и в семье художника. С одной стороны, это время создания его шедевров, в которые он вводил пленэрную живопись: «Грачи прилетели», «Проселок», «Радуга», «Зимний пейзаж. Иней», «Домик в провинции. Весна». Эти полотна полны тонким лиризмом, передачей множества оттенков не только цвета, но состояний, музыки природы, неотрывно соединенных с настроениями и переживаниями автора.
С другой стороны, 1870-е годы — период творческих неудач известного пейзажиста — написания работ по шаблону, на продажу, явно не соответствующих его уровню дарования. Насколько сам художник понимал, что предает свой талант? Отчасти, конечно, понимал, но, вероятно, находил для себя немало оправданий: и то, что он работает на заказ, и то, что устал повторять одно и то же, и, главное, что это необходимо для заработка, для содержания его семьи. В следующие десятилетия «проходных», «низкосортных» произведений, выходящих из-под кисти пожилого автора, становилось все больше. Однако в то же самое время, находясь все в таком же бедственном положении, ведя полунищенский образ жизни, он находил в себе силы, чтобы вновь и вновь создавать высококлассные образцы пейзажной живописи. На всю жизнь Саврасов сумел сохранить и свой талант, и бесконечную преданность искусству, и восхищения Божьим миром, и именно эти качества давали ему силы, чтобы жить дальше, несмотря ни на что.
«Семидесятые годы оказались одновременно вершиной и последним десятилетием активного участия Саврасова в общем развитии реалистического искусства. Это важнейшее обстоятельство придает саврасовским картинам семидесятых годов особое актуальное, эпохальное значение, поскольку в них наиболее ярко отразились не только дарование художника и его повышенное чувство современности, но и та определявшая развитие пейзажной живописи общая проблематика и пафос утверждения положительного начала, благодаря которым во второй половине XIX века пейзаж стал, по верному выражению В. В. Стасова, „одной из слав русского искусства“»[226].
Исключительный талант Алексея Кондратьевича был несомненен для современников, но признание сочеталось порой с негативной критикой, которую все труднее переносил художник, болезненно переживая непонимание, отчужденность, недоброжелательность. Резко отрицательные оценки были даны его полотнам «Вечер. Перелет птиц» и «Жатва»: «Самый несчастный экспонент — это г. А. К. Соврасов. Им выставлен „Вечер“, на котором изображен какой-то пожар с отлетающими стадами не то грачей, не то галок… Грачи ли или галки отлетели, мы этого не разобрали, а что талант г. Соврасова отлетел — это верно! Интересно знать, почему другая его же картина названа „Жатвою“? Ни одной фигуры, а только две копны ржи — вот и весь сюжет!»[227] Так, с явной, намеренной грубостью, если не с издевкой, писал рецензент «Петербургской газеты», оценивая произведения Алексея Кондратьевича на Четвертой передвижной художественной выставке в Петербурге. Разве мог художник остаться равнодушным к подобным словам? Однако время все расставило на свои места, и в середине XX столетия те же произведения получили совершенно иные оценки: «В ряде пейзажей семидесятых годов можно найти и черты романтики, специфически поэтического, возвышенного показа природы. Таков… пейзаж „Могила на Волге“ (1874) и в особенности датированная тем же годом картина „Вечер. Перелет птиц“… Она интересна своим необычным мотивом и большим разворотом пространства. В изображении равнинной дали и высокого неба с вереницами перелетных птиц Саврасов достигает большой выразительности и романтичности переживания природы. Эти картины являются его откликом на те тенденции, которые были не в меньшей мере, нежели повествовательность и лирика обыденного, характерны для пейзажной живописи семидесятых годов»[228].
Продолжалась педагогическая работа Алексея Кондратьевича, но во внутренней жизни училища его очень многое не устраивало. Не мог он согласиться, например, с тем, что в 1874 году училищное руководство отказало известному меценату и другу Саврасова П. Третьякову, когда тот предложил заведению в дар в качестве образца для молодых живописцев собрание полотен В. В. Верещагина.
Один из ведущих педагогов училища Перов писал Стасову: «Третьяков, купивши коллекцию картин Верещагина, предложил ее в подарок Училищу, но с условием, чтобы Училище сделало пристройку с верхним освещением, где бы и могла помещаться вся коллекция картин, и дал свободу сделать это через год и даже через два, а покуда картины могут поместить в Училище на стенах… Что же, Вы думаете, сделали члены Совета, т. е. начальственные лица Училища? Конечно, обрадовались, пришли в восторг, благодарили Третьякова — ничуть не бывало, они как будто огорчились: никто не выразил никакого участия к этому делу и начали толковать, что у них нет таких денег (по смете оказалось, что для этого нужно 15 т.)… Даже не послали и поблагодарить Третьякова… Нужно вам сказать, что в Совете сидели Солдатенков, Аланов, Станкевич и председатель Дашков, у каждого есть не один миллион, а несколько»[229].
Стоит ли комментировать такие события и характеризовать личности членом Совета? Вряд ли, поскольку факты говорят сами за себя, как и высказывания современников. И. С. Тургенев в романе «Новь» так представил Солдатенкова в образе купца Голушкина: «Это был человек лет сорока, довольно тучный и некрасивый, рябой, с небольшими свиными глазками; говорил он очень поспешно и, как бы путаясь в словах; размахивал руками, ногами семенил, похохатывал… вообще производил впечатление парня дурковатого, избалованного и крайне самолюбивого. Сам он почитал себя человеком образованным, потому что одевался по-немецки и жил хотя и грязненько, да открыто, знался с людьми богатыми — и в театр ездил, и протежировал каскадных актрис, с которыми изъяснялся на каком-то необычайном, якобы французском языке… И все сходило ему с рук; потому, говорил он, у меня всякое, где следует, начальство закуплено, всякая прореха зашита, все рты заткнуты, все уши завешаны». Ситуации и личности XIX века, но как актуальны, точнее сказать, злободневны!
Известно, что Совет все-таки собрался по тому же вопросу второй раз и принял новое решение — предложить, чтобы Третьяков сам, то есть за свой счет сделал нужную пристройку. Члены Совета рассуждали, вероятно, таким образом: если Третьяков уже потратил на полотна Верещагина 92 тысячи рублей, то почему бы ему не потратить еще 15 на строительство помещения для них? В ответ на это Павел Михайлович отказался от своего дара училищу. Перов вновь в письме Стасову дал следующий комментарий: «Вы думаете, что, Владимир Васильевич, произошел шум, сожаление, желание возвратить потерянное — ничуть не бывало, все как будто обрадовались, ну и пусть так будет, и тут же, как бы издеваясь над Третьяковым и полезным делом, начали рассуждать о том, что нужно заложить Училище за 200 т. и выстроить доходный дом… Я многого Вам не писал, боясь утомить… если бы я стал описывать Вам все курьезы, половина которых смешна, а половина грустна до бесконечности»[230].
Алексей Кондратьевич все более и более болезненно реагировал на положение в Училище живописи, творческие неудачи, нападки критиков, безденежье, раздражение жены. Он начал выпивать, находя в вине временное забвение, а вскоре уже не мог долго обходиться без спиртного. Так незаметно пришла беда, началась болезнь, которой художник уже не находил сил противостоять, не смог с ней справиться и годы спустя, оставаясь в ее власти до конца жизни. Его душевное состояние оказалось еще тяжелее из-за того, что ни в семье, ни среди былых друзей он не находил ни сочувствия, ни поддержки.
Как это произошло? Еще несколько лет назад Алексей Кондратьевич был совершенно равнодушен к вину. Потом начал немного выпивать при удобном случае — угощали коллеги, отмечались праздники и юбилеи, потчевали родители учеников, которым он давал частные уроки. Однако эта склонность не беспокоила самого художника, не вызывала до поры до времени волнения и у Софьи Карловны. Слишком долго она не противоречила в этом мужу, не пыталась повлиять на него, а когда осознала, что случилось с ним, то было уже поздно что-либо менять.
Положение в семье Саврасовых становилось все более безрадостным. Все чаще разыгрывались неприятные сцены. Взаимные обвинения перерастали в шумные ссоры, скандалы, крик. Дети, по-своему воспринимая все происходящее, тяжело переживали и замыкались в себе, взрослели не по годам. Раздражение между супругами все более нарастало, Софья Карловна была постоянно недовольна безденежьем, ей надоедало экономить, отказывать себе в чем-то, ведь она с юности привыкла жить «на широкую ногу», обвиняла мужа, на нем старалась выместить накопившиеся обиды, нервозность, разочарованность.
На какое-то время все, казалось, налаживалось. Алексей Кондратьевич переставал выпивать, еще искренне верил, что сможет преодолеть свой недуг, давал туманные обещания супруге. Он возвращался к регулярной работе, аккуратно посещал занятия в училище, общался с молодыми художниками, вечерами, как и раньше, спешил к семье. Но все же что-то безвозвратно было сломано в их хрупком семейном мире, супруга смотрела настороженно, дочери все более отдалялись от отца, и тот никак не мог изменить создавшееся положение, молчал, не находил себе места дома, вновь начинал выпивать.
Из-за постоянного недостатка средств уже подросшая Вера Саврасова, ей исполнилось 12 лет, была вынуждена постоянно менять частные школы. Она начинала учиться в одной, только-только успевала привыкнуть, но нечем было заплатить ни за полгода, ни за следующий месяц обучения, и девочку забирали из школы. Через некоторое время все повторялось. Переживала и Верочка, переживали и ее родители. Наконец эта ситуация, казалось бы, несколько исправилась. Преподавательница одного из московских институтов, дочери которой Саврасов давал уроки живописи, изъявила желание устроить Веру на обучение в данное заведение за казенный счет, где эта дама состояла воспитательницей девиц. Однако в последний момент Софья Карловна вдруг решила, что ее дочери не нужно институтское образование. Вера смогла проявить характер и настоять на своем, вопреки противоречивым желаниям родителей, — она хочет учиться в гимназии.
В этот период Саврасовы снимали квартиру в доме Сохацкого, рядом с канцелярией судебного следователя Орловского на 3-й Мещанской улице близ Сухаревой башни, между Малой Сухаревской площадью и Сущевским Валом. Этот район, вполне респектабельный, не слишком удаленный от центра города, их вполне устраивал. Да и квартира, хотя небольшая, была удобна, а главное, плату за нее — 240 рублей в год — семья могла себе позволить. До этого они снимали квартиру в доме князя Друцкого, в Тупом переулке, против Яузской части, у Таганки, как раз недалеко от тех мест, где проходили детские годы Алексея Кондратьевича. Внезапно скончалась единственная дочь князя, подруга младшей дочки Саврасова Женни. Пораженные смертью ребенка, родители сразу же покинули этот дом, вынуждены были уехать и Саврасовы.
Новое местожительство, в доме Сохацкого, радовало детей — Веру и Евгению. Около дома был расположен сад, где девочки, быстро подружившиеся с детьми генерала Цитенгаузена, играли вместе. Софья Карловна время от времени прогуливалась с детьми в Ботаническом саду. Наступил очередной день рождения Верочки. Каждый из родных поздравлял ее по-своему. Бабушка Елизавета Даниловна подарила пышный букет цветов. Мать поехала вместе с дочерью на гулянье по Тверской и Кузнецкому Мосту. Сама Вера выбрала себе в подарок нарядный чайный прибор, а отец преподнес ей куклу. Однако Софи вновь осталась недовольна таким подарком. Дочь — почти барышня, зачем ей игрушки? Утешило ее только то, что эта трата не оказалась напрасной — кукла достанется младшей дочке Женни. Софья Карловна с годами становилась все более расчетлива, бережлива, но себе при этом не любила отказывать ни в чем. Однажды она заказала портнихе модный бурнус. Часто посещала на Кузнецком Мосту самые популярные французские магазины Ревеля и Матье, где приобретала для себя дорогие полубатистовые платья. Софи следила за своей внешностью, сохраняла стройную фигуру, горделивую осанку. Броская шатенка со строгим выражением лица, с золотыми кольцами-серьгами, тщательно одетая по последней моде, по-прежнему привлекала к себе внимание.
Ни взаимного согласия, ни дружной атмосферы в семье Саврасовых уже не было, а значит, не было и не могло быть ни душевного тепла, ни взаимной поддержки, ни счастья. Алексей Кондратьевич теперь не спешил возвращаться домой, все чаще задерживался в богатых домах, где давал уроки, обедал там, много выпивал, быстро хмелел и в таком состоянии тоже не торопился к семье, приходил только к ночи, и, как правило, вечер заканчивался взаимными упреками и скандалами.
Только к летним месяцам в их дом вновь пришло временное спокойствие. Лето, по настоянию Софьи Карловны, семья, как правило, проводила на даче, часто в Архангельском. Эти живописные подмосковные места им особенно памятны, к тому же Софи была уверена, что свежий воздух ей полезен, успокаивал нервы, помогал отвлечься от тревог, а их становилось все больше.
В добром здравии пребывали ее сестры Аделаида и Эрнестина, с которыми она довольно часто переписывалась, а здоровье братьев, напротив, вызывало опасения. Еще в 1870 году со старшим братом Карлом Карловичем, преподававшим в Московском университете, случился удар — его лицо осталось с тех пор несколько перекошенным, только долгое лечение электричеством позволило ликвидировать следы паралича. Вскоре тяжелая болезнь, горловая чахотка, постигла младшего брата Софи Константина. У него открылся сильный кашель, и врачи настаивали на лечении в теплом климате. Вновь Эрнестина Герц вызвалась сопровождать его в поездке. Софья и Адель, занятые семейными заботами, не могли себе позволить такое путешествие, которое состоялось в 1874 году — Италия, Испания, Австрия. Однако состояние больного не улучшилось, недуг все также преследовал его. Через несколько лет Константин Герц скончался.
К переживаниям Саврасовых за родственников добавлялись жилищные сложности. К осени, после летнего дачного отдыха, они были вынуждены искать новую съемную квартиру из-за не оставлявших семью денежных проблем. Софью Карловну раздражали регулярные сборы вещей, неизбежные ремонты квартир, поломка мебели, бытовая неустроенность. Свое раздражение все чаще выплескивала на мужа, считая его неспособным содержать семью должным образом. По хозяйству Софи помогала Матрена, которая уже многие годы постоянно сопровождала их семью, нянчила девочек, занималась с ними. Это была простая одинокая женщина, даже родственников она почти не имела, за исключением кума — артельщика, тихого, всегда трезвого человека, который изредка навещал ее, и они подолгу разговаривали на кухне.
Алексей Кондратьевич старался не падать духом, по-прежнему надеялся, что удастся вернуть казенную квартиру, без устали вновь и вновь обращался с заявлениями об этом в различные инстанции. 1 ноября 1875 года им было подано прошение в Совет Московского художественного общества. Он писал о том, что после 1870 года был лишен квартиры из-за малого количества учеников в его мастерской. Однако с тех пор количество студентов мастерской пейзажа значительно возросло, многие из них получали высшие награды. И потому Саврасов задавал вопрос членам Совета: может ли он, так же как другие преподаватели училища, получить в пользование казенную квартиру? Ответ был дан отрицательный.
Все более в семье художника нарастали материальные трудности, в связи с чем 19 ноября 1875 года Алексей Кондратьевич решился на отправку следующего письма: «Прошу Комитет Общества Любителей Художеств выдать мне заимообразно 200 рублей, в обеспечение чего предлагаю картину „Радуга“, находящуюся на выставке Общества. Член Общества А. Саврасов»[231]. Такая подпись соответствовала статусу Саврасова — он уже не являлся членом комитета этого объединения. В дальнейшем подобные письма Алексей Кондратьевич будет вынужден посылать через каждые два-три года. Но насколько непросто давалось их написание художнику, заставляло его с новой силой ощутить свою ненужность, несостоятельность, выброшенность из жизни.
В марте 1876 года он предпринял новую попытку — обратился с докладной запиской к председателю Московского художественного общества В. А. Дашкову: «Я в настоящее время считаю себя вправе ходатайствовать об отводе мне квартиры как специальному преподавателю, имеющему в классе более 15 учеников, почему честь имею покорнейше просить ваше превосходительство обратить Ваше просвещенное внимание на все вышеперечисленные обстоятельства». Но вновь Алексея Кондратьевича постигла неудача — положительного решения не последовало. Вряд ли такие отказы Совета Московского художественного общества можно счесть объективными, как и отказы руководства училища. Ища дополнительный заработок, необходимый ему, А. К. Саврасов просил разрешить преподавать ему пейзажную живопись акварелью и также получил отказ.
Последние события переполнили чашу терпения Софьи Карловны, и в начале апреля 1876 года она вместе с дочерьми уехала гостить к своей сестре Аделаиде в Санкт-Петербург, где сестры вместе встретили Пасху. Аделаида Герц, в замужестве Бочарова, жила безбедно. Ее супруг академик декоративной живописи Михаил Ильич Бочаров всегда имел немало частных заказов, весной 1876 года писал декорации для частного театра в Павловске. Да и его жалованье, две тысячи рублей в год, намного превосходило жалованье Саврасова. У Бочаровых было трое детей — дочери Лиза и Соня и сын Биша, к тому времени ростом выше отца.
Софью Карловну не покидала тревога за мужа, она не могла не поделиться с сестрой своими переживаниями. Адель ей искренне сочувствовала. Зато дочери Саврасовых — пятнадцатилетняя Вера и девятилетняя Женни — были рады этой поездке, с удовольствием прогуливались по центральным проспектам и улицам Петербурга, любовались Невой, любили заходить в Летний сад и скверы у Невского проспекта. Они оживленно болтали с детьми Бочаровых, постоянно затевали новые игры, казалось бы, совершенно забыв о семейных горестях и надоевшей им Москве.
В гостях у сестры Софья Карловна с удивлением узнала, что и в их семье не все так безоблачно, как казалось ей. Аделаида вышла замуж за Бочарова не по любви. Благодаря этому браку молодой тогда художник Михаил Бочаров значительно упрочил свое положение. Адель, так же как и Софи, была на несколько лет старше своего мужа, при этом не отличалась привлекательной внешностью, зато имела солидное приданое в пять тысяч рублей. После зарубежной поездки по направлению Императорской Академии художеств Михаил Ильич поселился вместе с женой в Петербурге, приобрел нужные связи, регулярно получал престижные заказы и вскоре стал достаточно известен. Супруга не разделяла его интересы, не увлекалась искусством, а посвятила себя воспитанию детей и управлению хозяйством. Постепенно в ее характере все более четко обозначались скупость, холодность, рассудительность. Отчужденность между супругами усиливалась с каждым днем.
Софья Карловна после некоторых колебаний решила задержаться в Петербурге и потому отправила мужу в Москву письмо с просьбой выслать ей «бумагу для прожития», которая была необходима для внесения ее данных в домовую книгу. И только в этом случае она могла получать денежные переводы из Москвы от своего заботливого брата Карла Герца. Алексей Кондратьевич долго не высылал бумагу, и наконец, после неоднократных просьб жены, этот документ Софи все же получила, но без письма. Алексей Кондратьевич не написал ей ни строчки. Возрастали и ее петербургские расходы. Адель взяла с нее за питание 25 рублей, что казалось чрезмерной суммой, учитывая ее стесненное положение и, напротив, достаток в семье Аделаиды.
Однако на смену мелким неприятностям в жизнь жены и дочерей Алексея Саврасова ненадолго пришла радость, такая же изменчивая, как петербургское весеннее солнце. Хотя бы недолгое время они могли отвлечься от жизненных невзгод, жить беззаботно, радоваться весеннему теплу, ездить на дачу Бочаровых в деревню Ушаково. Но и здесь не обошлось без сложностей. Адель жаловалась, что им тесно на даче. Ее сын-подросток Биша потребовал, чтобы ему отвели отдельную комнату. Михаил Бочаров старался появляться дома нечасто, недовольно ворча при этом. К тому же Софья Карловна, как все дачницы, должна была участвовать в совместных прогулках, увеселениях, а у нее не имелось для этого соответствующих туалетов и не на что было их купить, что она, светская дама, переживала весьма болезненно.
В Ушакове Софи наконец-то получила долгожданное письмо от мужа, которое снова ее сильно огорчило. Саврасов сообщал, что решил какое-то время пожить у своего приятеля — художника Колесова. Зная дурную репутацию этого человека, Софи сильно встревожилась, начиная предчувствовать склонность мужа к скитальческой жизни и неизбежность семейного разрыва. К тому же на письмо дочерей с просьбой прислать им денег на новые башмаки и на дачную жизнь, скорее всего, написанное под влиянием матери, Саврасов был вынужден ответить отказом, объяснив: «за неимением ни копейки». Немало переживаний стоило Алексею Кондратьевичу отправление таких писем семье, гнет неудач и бытовых проблем становился для него все более невыносимым.
Только в кругу своих воспитанников, в училище, художнику удавалось хотя бы немного сбросить с себя груз забот. Как педагог Саврасов по-прежнему вдохновенно работал вместе с учениками. Их дружный круг был подобен для него особому миру, где он получал душевное отдохновение, чувствовал себя востребованным и счастливым. В Москве между тем было неспокойно. Повсюду, в том числе в художественных кругах, в училище, обсуждали события в Боснии и Герцеговине, возможные итоги начавшегося восстания — протеста балканских народов против турецкого владычества. Алексей Саврасов, поглощенный личными заботами и творческими неудачами, оставался в стороне от горячих политических споров. С пониманием к художнику и к его искусству относились теперь, пожалуй, только несколько друзей.
Наконец Софи с детьми вернулась в Москву, семейная жизнь, а точнее, видимость благополучной семьи, на некоторое время была восстановлена. Казалось бы, вновь воцарилось спокойствие. Алексей Кондратьевич смог какое-то время не поддаваться своей слабости к спиртному, много работал, писал новые пейзажи. Летом 1877 года Софья Карловна, устав от домашних забот и однообразия жизни, вновь решила уехать с детьми из пыльно-жаркой Москвы в Сергиев Посад, а осенью ей удалось найти более дешевую квартиру в Москве — в доме Наумова, в Палашевском переулке. Все текло своим чередом, бури семейных неурядиц сменялись отдыхом душевного затишья, но, как бы то ни было, материальные трудности не оставляли Саврасовых, постоянно нарушая хрупкое равновесие их жизни.
В 1878 году художником было составлено очередное послание руководству Общества любителей художеств: «Милостливый Государь Дмитрий Петрович! Имею честь просить Вас ссудить мне сумму Общества 100 р., под залог картины „Иней“ 600 р. С глубоким уважением имею честь быть Вашим покорным слугой А. Саврасов. 13 апреля 1878 г.»[232] В том же году, в апреле, находясь, наверное, на грани отчаяния от своей беспомощности, он решился на безрассудный шаг — снял для себя и своей семьи просторную квартиру из шести комнат на втором этаже дома Московского художественного общества во дворе училища, примерно там, где жил ранее, еще будучи на вершине признания, пользуясь авторитетом у руководства и преподавателей. Респектабельные апартаменты, к тому же с погребом и погребицей, стоили слишком дорого для несчастного художника — 700 рублей серебром в год! Тем не менее Саврасов упрямо не отступал от своего решения, снял их на три года вперед: с апреля 1878 года по апрель 1881-го.
На что он надеялся, как предполагал оплачивать квартиру? Вероятно, просто радовался появлению хотя бы каких-то денег, возможности внести задаток и пусть временно, но избавить семью от бытовых неудобств. Алексей Кондратьевич, словно хватаясь за соломинку, строил призрачные планы.
Тогда уже скончался его отец, бережливый, практичный, рассудительный. Уже некому было посоветовать художнику, предостеречь от безудержных трат. Ему не хватало отца, как и многих уже скончавшихся друзей, не хватало больше, чем он мог это предполагать, даже несмотря на то, что в детстве и юности у них были довольно «натянутые» отношения. В последние несколько десятилетий отец и сын сблизились, хотя и нечасто, но тепло общались. Со смертью Кондратия Артемьевича не стало прочной опоры, разорвалось какое-то очень важное звено, связывающее теперешнюю смутно-тоскливую жизнь его сына с радостями детства, тревогами юности, первыми профессиональными победами молодого живописца и призрачной стабильностью, пришедшей с известностью пейзажиста. Все разногласия и обиды сразу ушли куда-то, исчезли, будто и не было их вовсе, и Алексею Саврасову оставалось только сожалеть, что многое не успел сказать отцу, многое не сделал для него, он горевал и заливал горе водкой, что стало для него уже привычным «рецептом» от всех бед.
К началу 1880-х годов умерла одна из сестер Алексея Саврасова, Анна, а две другие сестры, Елизавета и Любовь, имели собственные семьи и все более отдалялись от брата. Он сохранял отношения только с мачехой Татьяной Ивановной, которая оставалась все так же добра и ласкова с ним. Из-за преклонного возраста она, некогда искусная рукодельница, перестала заниматься шитьем и хлопотала о своем устройстве в мещанскую богадельню. Пока вопрос не был решен, остановилась у пасынка, в его новой огромной квартире. Однако здесь всем Саврасовым суждено было пожить совсем недолго. Уже в августе 1878 года художник направил письмо в Совет Художественного общества, в котором извещал, что его супруга нуждается в серьезном лечении и должна жить в более теплых помещениях. Очевидно, что истинная причина отказа от квартиры состояла в невозможности заплатить за нее.
Алексей Кондратьевич вновь и вновь погружался в свои невеселые размышления. Слишком многое его не устраивало в педагогической работе, в общении с коллегами, да и повышенная эмоциональная восприимчивость, свойственная большинству художников, давала о себе знать. Он все чаще был недоволен своими произведениями, относясь к ним по-прежнему предельно строго. Далеко не всегда звучали хвалебные или хотя бы нейтральные отзывы критики в его адрес, на что Саврасов болезненно реагировал.
Однако ученики все так же с нетерпением ждали в мастерской прихода своего наставника, его отзывов и советов. А он приходил все реже. Порой не в силах был совладать с гнетущими мыслями и полной апатией ко всему. Иногда все же заставлял себя не выпивать, выйти на улицу, прийти в училище. В середине 1880-х годов в Москве стояли необычные бесснежные зимы. Бредущий по улице Алексей Кондратьевич как-то особенно нестерпимо чувствовал холод, который, возможно из-за отсутствия снега, казался ему пронизывающим до костей. Он направлялся в училище. Мимо него по Мясницкой неслись сани, стуча полозьями по гранитной мостовой, на которой почти не осталось соломы, громыхали нагруженные телеги. Из-за сильной оттепели повсюду стояли лужи, рядом с которыми уже весело чирикали воробьи, но от их веселого щебетания на душе художника становилось лишь тяжелее. Саврасов шел, не видя прохожих, не разбирая дороги, тяжело ступая, заставляя себя думать не о ближайшем трактире, а о своей мастерской. Ему казалось, что жизнь проносится мимо него, как те сани по Мясницкой, но пока он еще старался не отстать, не оказаться на обочине, а потому спешил к ученикам, юным и жизнерадостным, как он когда-то.
Глава 6 Учитель и ученики
Оценка Алексеем Кондратьевичем таланта своих воспитанников, их еще во многом несовершенных тогда работ всегда была объективна. Ученики платили ему искренним расположением и благодарностью, и, наверное, во многом именно поэтому в мастерской пейзажа царила какая-то особая атмосфера, сильно отличающая ее от других мастерских училища, создаваемая прежде всего руководителем юных пейзажистов.
Насколько важно для Алексея Саврасова преподавание и насколько тепло, по-отечески относился он к своим ученикам! Но тем не менее в училище, вне стен пейзажной мастерской, Алексей Кондратьевич был сосредоточен и замкнут, говорил мало, взвешивая каждое слово. Он внимательно наблюдал, острым взглядом художника подмечая все детали вокруг себя — реплики, мимику, жесты. Его открытой, прямой натуре были чужды психологические сложности и театральная игра, притворство и вынужденное лицемерие, как и груз административной рутины. Лишь иногда он доверительно делился с учениками своими переживаниями, говорил о том, что люди словно глохнут — не видят, не понимают, не чувствуют ни искусство, ни музыку, ни живопись. Есть и другие, но глухих и вечно слепых больше, которые и думают иначе, и живут по другим законам, и стремятся к каким-то своим непонятным для него целям. Как быть? Их больше…
Со временем гнет этого непонимания, зависти, равнодушия художник переносил все труднее, держался в училище довольно обособленно. Часто приходил в канцелярию, где собирались преподаватели, но чувствовал себя и здесь не слишком комфортно, скованно. «Сидит Алексей Кондратьевич, такой большой, похож на доброго доктора — такие бывают. Сидит, сложив как-то робко, неуклюже свои огромные руки, и молчит, а если и скажет что-то — все как-то не про то — про фиалки, которые уже распустились, про то, что вот уже голуби из Москвы в Сокольники летают. А придет к нам в мастерскую редко, говорит: „Ступайте писать — ведь весна, уж лужи, воробьи чирикают — хорошо. Ступайте писать, пишите этюды, изучайте, главное — чувствуйте“»[233].
Саврасов стремился привить любовь к родной земле, понимание ее сути, неуловимого содержания и самобытности скромного облика. Алексей Кондратьевич учил своих подопечных не только рисовать и писать красками, даже не только находить композиционные решения и придавать особое толкование непритязательным мотивам, он учил их понимать, чувствовать природу как великое сокровище, как живое существо, как радость и утешение. И потому столь органичны слова его ученика Левитана: «А мне противно, когда рубят дерево… Они такие же живые, как и мы, и на них поют птицы… Они — птицы — лучше нас… Я пишу и не думаю, что это дрова… Это я не могу думать…»[234]
Для него красота подмосковной природы была особенно очевидна с приходом ранней весны. С искренним волнением Алексей Кондратьевич обращался к ученикам, словно стесняясь, говоря негромко: «Да, да. Уже в Сокольниках фиалки цветут. Да, да. Стволы дубов в Останкине высохли. Весна. Какой мох! Уж распустился дуб. Ступайте в природу… — Там красота неизъяснимая…» Его слова, сохраненные через столетие, раскрывают склад мышления, тонкость чувствований, саму ранимо-восприимчивую душу художника и мягкого, доброжелательного человека.
Константин Коровин вспоминал об одной из прогулок в Сокольниках вместе с учителем: «Лес был таинственно прекрасен. В лучах весеннего солнца верхушки сосен красноватыми огнями сверкали на глубоком темно-синем небе. Без умолку свистели дрозды, и кукушки вдали таинственно отсчитывали, сколько кому осталось лет жизни на этой нашей темной земле. Студенты, с пледами на плечах, тоже оживились и запели…»[235]
От зари до зари, Лишь зажгут фонари, Вереницы студентов Шатаются…И художник, словно подводя итог своим студенческим воспоминаниям, тем далеким дням, рассказывал: «Мы были молоды, и горе еще не коснулось нас… Весной, после долгой московской зимы, мы любили „пошататься“ в предместьях Москвы…»[236]
Саврасов же всю жизнь особенно любил весну, а, быть может, еще более любил ее предчувствие, когда средь, казалось бы, бесконечного зимнего холода раздаются первые трели птиц. Тогда солнце становится ослепительным, небо приобретает лазурную прозрачность, синие тени чертят на осевших сугробах загадочные письмена, появляются проталины и неповторимой красотой преображаются деревья — оживают их стволы, становясь синеватых, лилово-коричневых, зеленоватых оттенков, задорно топорщатся маленькие веточки, раскрываются первые почки, светло-зеленые, радостные, пахнущие весной. На каждую деталь в жизни природы Алексей Кондратьевич смотрел как на явленное чудо и жил уже иначе — умиротворенной, неспешной, подвластной только извечным законам бытия жизнью.
Саврасов вместе с учениками отправлялся на природу, словно в паломничество, чтобы писать натурные этюды, живые, непосредственные, а главное, чтобы научить молодых художников видеть и чувствовать природу, чтобы открыть им великую радость приобщения к ее мудрому миру, чему и сам учился всю жизнь. И эта, казалось бы, на первый взгляд малозначительная деталь исключительно важна не только с точки зрения введения пейзажистом новой методики преподавания, нового отношения к искусству вообще и к натурной живописи в частности, но и для постижения особенностей характера Саврасова. Он действительно, без всякого преувеличения учился постоянно — у природы, искусства, жизни, учился и у своих юных воспитанников пейзажной мастерской и их призывал к тому же. Учиться постигать природу и через нее вневременную суть жизни — главное философское содержание личности Алексея Кондратьевича — художника, педагога, человека. Именно Человека с заглавной буквы, со всеми чертами его характера: добротой, открытостью людям, сопереживанием им и стремлением помочь, с его ранимостью и трудолюбием. Но все же в истории отечественного искусства и воспоминаниях современников Алексей Саврасов остался прежде всего самобытной личностью, чутким другом и вдохновенным художником.
Ярким талантом и индивидуальностью отличались многие из учеников А. К. Саврасова, но одним из самых одаренных признавался Исаак Левитан. Он происходил из очень бедной еврейской семьи, рано остался сиротой, в 1875 году ушла из жизни его мать, а в 1877 году он и отец заболели брюшным тифом, попали в разные больницы. Когда Исаак, наконец, оправился, то узнал, что в больнице скончался его отец. «Вскоре, — по словам Шпицера, — семья распалась. Дочери поступили на службу. Старший Левитан (Адольф. — Е. С.) терпел страшную нужду, а младший тоже голодал и совершенно не имел приюта»[237]. Оставшись совсем один, Исаак сам выбирает свою жизненную дорогу. В 1873 году, двенадцати лет от роду, он от своего имени написал заявление с просьбой принять его в ученики Училища живописи и ваяния. Его просьба была удовлетворена.
Итак, подросток, которому только-только исполнилось 13 лет, поступил в Московское училище живописи, где уже занимался его старший брат Адольф. Исаак очень нуждался, но не бросал учебу. Зная о его бедственном материальном положении, многие поддерживали Левитана, как, например, студент училища Василий Часовников, в дальнейшем также достигший немалой известности (получив сан архимандрита, стал представителем Русской духовной миссии в Пекине). Неизвестно, кто еще помогал Исааку в эти сложнейшие первые годы занятий здесь, кто вносил за него плату за обучение. Вероятно, это были люди, имевшие и не имевшие отношение к художественным кругам, но каждый из них все же внес свою лепту в становление и поддержку будущего пейзажиста.
Он часто не мог себе позволить снимать комнату и ночевал или в училище на столах и реквизите, или в квартире у братьев Коровиных.
Лишь немногие архивные материалы проливают свет на время его учебы. Сохранились документы, свидетельствующие о том, что Левитан подал прошение в Совет Московского художественного общества о приеме его в Училище живописи, о том, что он был принят в первый «оригинальный» класс, о внесении платы за право учения в сумме 15 рублей. Также благодаря архивным данным известно, что в 1874 году он был переведен во второй «головной» класс училища, где рисовал с античных гипсов и с живой натуры. В 1875 году Исаака перевели уже в третий «фигурный» класс, где он вновь успешно выполнял учебную программу. Согласно отчетам училища, в «головном» классе Левитан получал «первые номера по художественным занятиям», то есть исполнял уже почти профессиональные работы, не допуская серьезных ошибок в рисунке, демонстрируя знания пластической анатомии, световоздушной моделировки и передачи пространственной среды — за них и давались первые номера. Если ученик получал номер «1», это являлось высшей похвалой.
Удостоиться оценок «2», «5» или «8» тоже было неплохо. Если же кому-то давали номера «37» или «44», стоило задуматься, следует ли такому автору заниматься художествами и пытаться связать свою жизнь с искусством. Талантливому Исааку такие оценки не грозили, уже с первых лет обучения в знак поощрения от художественной комиссии он, напротив, получал то ящик с красками, то денежные пособия.
Друзья и сокурсники описывали Исаака Левитана в то время как очень молодого человека, на редкость красивого, изящного, черноволосого, с большими черными глазами. Его образ был отражен на сохранившемся до наших дней небольшом этюде, написанном маслом Адольфом Левитаном.
Однажды Исаак едва не был отчислен из училища из-за невнесення платы за обучение, но вскоре и он, и его брат Адольф были официально освобождены от этих платежей «ввиду крайней бедности», а позднее Исаак Левитан получал от училища не раз и материальную поддержку, чему способствовал и А. К. Саврасов.
Одна из первых встреч учителя и ученика состоялась, когда юный художник занимался в мастерской Перова, хотя вероятно, что и ранее Алексей Кондратьевич видел работы Исаака и давал ему советы. Однажды, в обычный учебный день, дверь мастерской стремительно распахнулась, и на пороге показался высокий и довольно грузный человек с ветками вербы в руках. Он был одет достаточно неряшливо — стоптанная обувь, старое пальто, одна из пуговиц едва держалась на белой нитке, несвежий шарф, испачканный красками, небрежно обматывает шею, всклоченные волосы, словно только что были разметаны весенним ветром. Взволнованным громким голосом он обратился к Василию Перову:
— Верба уже распустилась! — Его лицо осветилось радостью, так не вязавшейся с его понурым обликом.
— Неужели уже распустилась? Рано еще, — отвечал ему спокойно, с сомнением в голосе и легкой иронией Перов.
— Да, да, — продолжал Саврасов, словно «заражая» юного Левитана своим энтузиазмом. — Я только что приехал из Останкина и нашел там превосходное место для работы, изумительный вид! Какой аромат у вербы, он наполняет всю мастерскую! Неужели не чувствуете, Василий Григорьевич?
Удивляясь такому равнодушию друга, Саврасов поднес веточки вербы и к лицу Левитана, спросил:
— Вы, молодой человек, неужели тоже не чувствуете, как пахнет верба?
— Чувствую, — взволнованно отвечал Левитан. — Она уже третьего дня распустилась на окраинах Москвы.
— То-то! — воскликнул удовлетворенно Саврасов, так, будто случилось какое-то важнейшее событие.
Поговорив еще немного с Василием Перовым, Алексей Саврасов приступил к обстоятельному просмотру работ присутствующих учеников и сразу выделил этюд Левитана, да и внешний вид этого тонкого, артистичного юноши привлек его внимание.
Долго стоял известный пейзажист за спиной Исаака, все разглядывал его этюд. От волнения молодой художник заторопился, стал накладывать неверные мазки, смущался от этого еще сильнее и делал новые ошибки. Тем не менее Алексей Кондратьевич похвалил его, сказав, что тот умеет писать с душой. Такое внимание было исключительно лестно, отрадно для начинающего живописца. В его жизни, полной душевной боли от потери близких, тревоги за обездоленного брата и сестер, постоянной нужды и унижений от неизбежности бесконечных просьб и прошений, связанных с материальными затруднениями, радости бывали нечасто. Одной из таких вспышек, навсегда запомнившейся ему, стала встреча с Алексеем Кондратьевичем.
Отойдя к окну, Перов и Саврасов вновь оживленно заговорили, заспорили. Василий Григорьевич все никак не соглашался — Алексей Кондратьевич просил у него отпуск недели на три и наконец получил разрешение. Ученики понимали, что подверженный тяге к спиртному, известный пейзажист снова не сможет избежать этого пагубного влечения и исчезнет из жизни училища на какое-то время.
Однако Саврасов вернулся раньше, чем ожидали. Он пришел в мастерскую осунувшимся, с серовато-желтым цветом лица, с потухшим, ушедшим в себя взглядом. Сгорбленные плечи и подрагивающие кисти рук не менее ясно свидетельствовали о самочувствии художника. Но все же, превозмогая свое состояние, Алексей Кондратьевич направился к мольбертам, хотя и не совсем твердой походкой, занимался с учениками и в тот же день переговорил с Василием Григорьевичем о Левитане.
По просьбе Алексея Кондратьевича Перов предложил Исааку перейти учиться в пейзажную мастерскую, сказав:
— Ваши работы понравились Саврасову. Он просил меня разрешить перевести Вас к пейзажистам. Я согласен, считаю, что Вам просто необходимо серьезно заняться пейзажной живописью.
Исаак Левитан с радостью согласился, об этом он и мечтал. С сентября 1876 года он уже официально учился в мастерской пейзажа. Здесь Исаак сразу же написал замечательный осенний этюд. Как свидетельствуют отчетные документы Училища живописи и ваяния, в 1875/76 учебном году Левитан под руководством Саврасова писал картину на основе натурных этюдов, а также получил награду за эскиз[238]. Под руководством Алексея Кондратьевича им был выполнен тогда же этюд масляными красками, за который он получил малую серебряную медаль.
Среди учеников пейзажной мастерской в те годы наставник выделял троих: Левитана и братьев Коровиных.
Появившийся несколько позже остальных учеников в пейзажной мастерской Исаак Левитан сразу оказался в числе лидеров. Ему легко давалось освоение новых профессиональных навыков, рисунок становился все более уверенным, линия все более пластичной, а цветопередача, быть может не настолько богатая и «звонкая», как у Кости Коровина, все же отличалась точностью и особым, только ему свойственным настроением. По силе и разнообразию эмоционального восприятия пейзажей и отображению этого восприятия в живописных произведениях Левитан не знал себе равных.
Живо, эмоционально о том времени и молодых талантах училища рассказывал М. В. Нестеров, также окончивший Московское училище живописи: «Путь наш шел одной дорогой, но разными тропами. Была весна нашей жизни, мне было шестнадцать, Левитану семнадцать лет. Московская школа живописи переживала лучшую свою пору. Яркая, страстная личность Перова налагала свой резкий отпечаток на жизнь нашей школы, ее пульс бился ускоренно… В фигурном классе был Прянишников, в пейзажной мастерской — Саврасов… Я узнал Левитана юношей, каким тогда был и сам. На редкость красивый, изящный мальчик был похож на тех мальчиков итальянцев, кои, бывало, с алым цветком в кудрявых волосах встречали „форестьери“ на старой Санта Лючия Неаполя…»[239] Чуткая натура юноши, который с тринадцати лет, по воспоминаниям родных, мог часами стоять у окна и любоваться закатом, сказывалась во внешнем облике. Его преклонение перед искусством, стремление стать истинным мастером своего дела не могли сломить ни нужда, ни лишения.
Нестеров также вспоминал о нем: «Левитан обращал на себя внимание и тем, что тогда уже слыл в школе за талант. До чрезвычайности скромно одетый, как сейчас помню, в клетчатый пиджачок, он терпеливо ожидал, когда более счастливые товарищи его, насытившись у старика „Моисеича“, расходились по классам. Тогда и Левитан застенчиво подходил к Моисеичу, чтобы попросить его потерпеть прежний долг (39 коп.) и дать ему „вновь два пятачка“. Это было для него в то время и завтрак, и обед, и ужин»[240]. Именно к тому времени относятся фотографии Левитана среди юных художников Московского училища, участников первых ученических выставок 1878–1880-х годов.
Моисеич заведовал небольшой студенческой столовой, расположенной во дворе училища, во флигеле. Вести хозяйство ему помогали престарелая супруга — Моисеевна, как называли ее ученики, и их дочь, именовавшаяся за глаза молодой Моисеевной. Левитан, который в первые годы в училище не мог рассчитывать на регулярные обеды и ужины, нередко жил впроголодь, все же всегда получал хотя бы скудную еду именно здесь, в студенческой столовой. Иногда в самые трудные дни он потихоньку брал в столовой хлеб, краснея и мучаясь от безвыходности своего положения, выходил на улицу и здесь уже открыто мог съесть «добычу», будто заканчивая таким образом обед. Моисеичи, которые пользовались среди учеников неизменным уважением, всегда прощали ему долг, были доброжелательны ко всем, а к нему особенно. И такая помощь, казалось бы, ничего не значащая для многих, позволила Исааку продолжать обучение. Годы спустя, имея уже определенный достаток, он вновь однажды пришел в столовую во флигеле и сполна отдал ее радушным хозяевам, сразу же его узнавшим, свой студенческий долг.
Это время было очень непростым, но и знаковым в истории России — время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, закончившейся победой России и освобождением Болгарии от многовекового турецкого ига. Как заключают ряд историков, современников тех событий, итог войны был определен уже при ее начале огромным численным превосходством русской армии и слабостью союзников Турции. Победы России вызвали в обществе немалый патриотический подъем. Так, Федор Достоевский в связи с военными событиями опубликовал в своем «Дневнике писателя» за март 1877 года статью под заголовком, говорящим сам за себя — «Константинополь должен быть наш». Обсуждалась возможность военного похода на Константинополь. При этом, как заключал М. Н. Покровский, «в публике было очень распространено убеждение, что русские военные сферы отнеслись к этому вопросу очень легкомысленно. На поход к Константинополю смотрели, будто бы, как на увеселительную прогулку. Турок, как противника, не ставили ни во что — и поэтому назначили для похода в Болгарию несоответственно малые силы»[241].
Военные события горячо обсуждались в кругу художников Училища живописи. Юные пейзажисты не могли остаться в стороне. Среди них, эмоциональных, часто резких в своих суждениях и высказываниях, что, как правило, свойственно молодежи, выделялся именно Исаак Левитан — сдержанный, молчаливый, углубленный в свой внутренний мир.
Алексей Кондратьевич неизменно поддерживал, в том числе и материально, своего талантливого ученика, учившегося «на медные деньги», а тот сохранил благодарность учителю на всю жизнь. Уважение воспитанников Саврасовым было заслуженно сполна. Их наставник прекрасно понимал, насколько непросто для многих дается обучение из-за материальных трудностей. Творческий взлет в молодые годы оказался уделом лишь немногих выпускников училища, среди которых — И. И. Левитан, А. М. Корин, А. С. Степанов. В. А. Гиляровский так писал о них: «Счастьем было для Левитана с юных дней попасть в кружок Антона Чехова. И. И. Левитан был беден, но старался по возможности прилично одеваться, чтобы быть в чеховском кружке, также в то время бедном, но талантливом и веселом. В дальнейшем через знакомых оказала поддержку талантливому юноше богатая старуха Морозова, которая его даже в лицо не видела. Отвела ему уютный, прекрасно меблированный дом, где он и написал свои лучшие вещи. Выбился в люди А. М. Корин, но он недолго прожил — прежняя ляпинская жизнь надорвала его здоровье. Его любили в училище как бывшего ляпинца, выбившегося из таких же, как они сами, теплой любовью любили его. Преклонялись перед корифеями, а его любили так же, как любили и А. С. Степанова»[242].
Несмотря ни на какие жизненные трудности, благодаря своему таланту и упорству, поддержке друзей, среди которых был и его учитель, молодой художник шел вперед. Этюды Исаака Левитана, так же как работы его друга Константина Коровина, являлись событием в жизни Училища, примером для сверстников и педагогов[243].
Подобен рассказ о нем Константина Паустовского. Читая его, обратимся к сопоставлению жизненных путей Саврасова и Левитана. Оба узнали крайнюю бедность, но если Левитану суждено было встретиться с ней в юности, то его наставнику — значительно позже, и как знать, что глубже ранило восприимчивые души художников — обездоленность на заре или на закате жизни? Вероятно, в юности, полной надежд, сил и стремлений идти вперед и только вперед, наперекор всему и всем, такие удары переносить все же проще. Сцена из жизни Левитана, описанная Паустовским, во многом применима к горьким деталям биографии Алексея Кондратьевича Саврасова:
«Перемешивая снег с водой, шли около подвод и бранились ломовые извозчики. На бульварах хлопья снега цеплялись за голые сучья деревьев. Из трактиров, как из прачечных, било в лицо паром. Левитан нашел в кармане 30 копеек — подарок товарищей по Училищу живописи и ваяния, изредка собиравших ему на бедность, — и вошел в трактир. Машина звенела колокольцами и играла „На старой Калужской дороге“. Мятый половой, пробегая мимо стойки, оскалился и громко сказал хозяину:
— Еврейчику порцию колбасы с ситным.
Левитан — нищий и голодный мальчик, внук раввина из местечка Кибарты Ковенской губернии — сидел, сгорбившись, за столом в московском трактире и вспоминал картины Коро. Замызганные люди шумели вокруг, ныли слезные песни, дымили едкой махоркой и со свистом тянули желтый кипяток с обсосанных блюдец. Мокрый снег налипал на черные стекла, и нехотя перезванивали колокола…
Жить в Москве было трудно, одиноко, особенно ему, еврею.
— Еврейчику еще порцию ситного, — сказал хозяину половой с болтающимися, как у петушка, ногами, — видать, ихний бог его плохо кормит.
Левитан низко наклонил голову. Ему хотелось плакать и спать»[244].
Но все же жизненные трудности для Алексея Кондратьевича и его одаренных учеников были несопоставимы с радостью работы, особенно с натуры весной. Они всей гурьбой уходили писать на пленэре, и учитель не отставал от них. Повесив на плечо этюдник с красками и кистями, взяв в руку белый загрунтованный холст, туго натянутый на подрамник, он широко шагал через овражки и перелески, неутомимо поднимался на холмы, останавливался изредка на обочинах, оглядывал окрестности, ища нужные ему виды и интересные ракурсы.
Они работали и в Сокольниках, и в Останкине, иногда в центре Москвы, увидев живописный дворик, раскидистый куст цветущей сирени или столетние могучие дубы. Однажды такие дубы писали вместе Алексей Саврасов и Исаак Левитан. Ученик если и не превзошел учителя, то ни в чем не уступал ему, избрав несколько иную композицию пейзажа, немного по-другому расположив ветви и придав работе свое собственное настроение. И уже наставник спрашивал его мнение о своем этюде:
— Посмотри, Исаак, шумит у меня дуб или не шумит? Достоверно ли написано?
— Шумит, Алексей Кондратьевич. Мне нетрудно это себе представить, — задумчиво посмотрев на холст, отвечал тот.
Оставшись доволен их дружной работой, Саврасов продолжал писать и негромко напевал одну из своих любимых песен:
Среди долины ровныя, На гладкой высоте, Растет, цветет высокий дуб В могучей красоте…Его песню подхватывал ученик, они смеялись, снова пели и писали этюды, словно наперегонки, словно соревнуясь друг с другом. Нередко Левитан читал стихотворения наизусть, которые знал во множестве, особенно посвященные русской природе — Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Фета, Баратынского, Майкова.
Во время работы над пейзажем он мог внезапно отложить кисти и начинал довольно громко декламировать:
Как солнце золотит прощальными лучами И избы за рекой, и пашни, и леса, А теплый ветерок меж тем, шумя листами, Едва-едва мои взвивает волоса. И ласково лицо мое целует ива, Нагнув ко мне свои сребристые листы…Постепенно к юному Исааку Левитану стала приходить известность. Вместе со старшим братом Адольфом (Авелем) они поселились у Яузских ворот. Время от времени он выполнял работы на заказ, а на полученные деньги мог даже пригласить товарищей в трактир, как это было принято в ученической среде. Неподалеку от училища располагались тогда два таких заведения, где регулярно собирались художники. На углу Уланского переулка и Сретенского бульвара известностью пользовался извозчичий трактир «Низок», а немного выше, на Сретенке, другой — «Колокола». Алексей Саврасов в последнее время появлялся в них все чаще, сидел долго, выпивал, а на улицу выходил, уже сильно пошатываясь, уже не думая ни об училище, ни о своей мастерской.
Юные пейзажисты с нетерпением ждали своего наставника, а тот посещал их все реже. Как-то раз он пришел пьяным, раздосадованным, сел на подоконник и нечаянно резким движением руки выбил оконное стекло, поранился. Просмотрел ученические этюды, пришел в раздражение и в сердцах почти прокричал, вытирая грязным носовым платком кровь с руки: «Что пишете? Табачный дым? Навоз? Серую кашу?» Не говоря больше ни слова, даже не взглянув на ошарашенных студентов, Саврасов быстрыми тяжелыми шагами вышел из мастерской и снова исчез на несколько недель. По училищу ходили слухи, что он живет в какой-то нищей комнатенке, пьет водку, закусывает ее клюквой, а больше почти ничего не ест. Однако Алексей Кондратьевич все же еще находил в себе силы, чтобы преодолеть это состояние, приводил себя в порядок, вновь возвращался на Мясницкую, вновь под его руководством молодые художники создавали не робкие ученические штудии, но уже и самостоятельные, завершенные, неравнодушно написанные пейзажи.
Саврасов хвалил их, давал лаконичные советы, а потом вновь исчезал — уходил в тяжелый запой. Константин Коровин вспоминал об одном из его последних приходов в мастерскую: «Он похудел и поседел, и нас поразила странность его костюма…» Однажды, появившись в училище нетрезвым, он пробыл в мастерской совсем недолго и позвал Исаака пойти вместе с ним к знакомому поэту. Юный художник не посмел отказаться, тем более что Саврасов вряд ли был в состоянии добраться куда бы то ни было сам. Они пришли к Ивану Кузьмичу Кондратьеву, поэту Никольского рынка, который жил в крохотной комнатке на мансарде. Кондратьев читал стихи и потчевал гостей спиртом. Левитан незаметно выливал содержимое своих рюмок, а Саврасов «пировал» с поэтом всю ночь и уснул, сидя за столом. Юный Исаак, не разделяя этой пагубной страсти, все более беспокоился за своего учителя.
Пройдет время, и Левитан, как некогда его учитель Саврасов, вернется в родное училище в качестве педагога и возглавит пейзажную мастерскую. Жить он будет неподалеку от Мясницкой, в Трехсвятительском переулке. Это произойдет уже в последние годы жизни Исаака Ильича. И тогда, продолжая дело наставника и осторожно относясь к преклонению перед западными влияниями, Исаак Ильич говорил юным живописцам, в том числе одному из своих наиболее одаренных учеников П. И. Петровичеву: «Вы знаете, мы с вами русские художники, давайте писать по-русски… Картина, это что такое? Это кусок природы, профильтрованный через темперамент художника, а если этого нет, то это пустое место»[245].
О том, какие традиции явились прочным фундаментом и мастерства Левитана, и его работы педагога, лаконично напишет «левитановец» Б. Н. Липкин: «Левитан очень ценил Александра Иванова как пейзажиста, Васильева и своих учителей Саврасова и Поленова»[246]. Также Липкин эмоционально делился в своих воспоминаниях теми деталями общения Исаака Левитана с учениками, которые были очень близки манере Саврасова: «В пейзажную пришел с опозданием. Исаак Ильич уже был там, по-весеннему веселый, что-то рассказывал, смеялся. „Вижу, господа, что вам сегодня не работается. Саврасов, бывало, в такие дни гнал нас за город на этюды. А что, в самом деле, не поехать ли нам куда-нибудь за город, ну хоть в Сокольники, что ли?“»[247].
Созвучно высказывание другого ученика Алексея Кондратьевича — В. Н. Бакшеева: «Левитан являлся продолжателем того направления русского пейзажа, во главе которого стояли Васильев и Саврасов». И далее: «Близость Левитана к этим пейзажистам подтверждается и той любовью, которую он к ним питал. С ними его объединяло стремление создать пейзаж одухотворенный, передать самую жизнь природы. Левитан стремился воплотить в природе те чувства и мысли, которые пробуждал у художника тот или иной пейзажный мотив»[248]. Те же слова можно справедливо применить к характеристике искусства Саврасова. Несомненно, что в преподавании пейзажного искусства Левитан всецело продолжал систему своего учителя. Его указания и советы всегда оставались такими же точными, он неизменно придерживался реалистического метода, все «приучало к внимательному и четкому письму и наблюдению»[249].
Заслуженной известности достигли и другие воспитанники мастерской Алексея Кондратьевича. Среди них — братья Коровины. Первым в пейзажной мастерской начал заниматься старший из братьев Коровиных — Сергей. Ему многие пророчили блестящее будущее на художественном поприще, да и глава мастерской выделял молодого человека за его качества, столь важные для художника — пылкость, восторженность, наивно-трепетное отношение к окружающему.
Вскоре конкуренцию ему составил младший брат Константин, отличавшийся необыкновенным видением цвета, самобытной и вместе с тем точной, раскованной, эмоциональной манерой письма с натуры, исключительной способностью передавать тональные и цветовые соотношения даже в быстрых, мимолетных этюдах а-ля прима.
Константин Коровин рассказывал о своих первых впечатлениях, связанных с Училищем живописи, и о своем будущем наставнике: «Пришел брат Сережа. Он жил отдельно с художником Святославским (Светославским. — Е. С.), в большом каком-то сарае. Называлось — мастерская. Там было хорошо. Святославский писал большую картину — Днепр, а брат мой делал иллюстрации, на которых изображалась мчавшаяся на лошадях кавалерия, разрываются снаряды, ядра, — война. Шла война с турками.
— Послезавтра экзамен, — сказал мне брат. — Ты боишься?
— Нет, — говорю, — ничего.
— Твои этюды видел Алексей Кондратьевич Саврасов и очень тебя похвалил. А Левитан сказал, что ты особенный и ни на кого не похож из нас. Но боится — поступишь ли ты? Ты ведь никогда не рисовал с гипса, а это экзамен.
Я подумал: „С гипса, что это значит? Гипсовые головы, как это скучно“»[250].
Когда Костя Коровин впервые оказался в здании училища на Мясницкой, его ощущения и мысли были противоречивы, о чем он рассказывал: «Утром я пошел на Мясницкую в Училище живописи, ваяния и зодчества. Было много учеников. Мимо меня проходили в классы. Несли свернутую бумагу, озабоченные, напуганные. Почему-то все с большими волосами. И я заметил, как они все угрюмы, и подумал: они, должно быть, не охотники. Лица бледные. Мне казалось, что будто бы их где-то сначала мочили, в каком-то рассоле, а потом сушили. Почему-то мне не очень нравились они». Наконец экзамены для Кости Коровина остались позади, в том числе один из самых сложных для него — Закон Божий, по которому священник поставил ему «3». Константину достался вопрос — «Патриарх Никон», довольно легкий для него, как считал юноша, читавший «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина. Однако все оказалось не так просто.
Он вспоминал: «И начал отвечать, что вот Никон был очень образованный человек, он знал и западную литературу, и религиозные стремления Европы, и старался ввести многие изменения в рутине веры.
Батюшка смотрел на меня пристально.
— Вероятнее всего, что Никон думал о соединении христианской религии, — продолжал я.
— Да ты постой, — сказал мне священник, посмотрев сердито, — да ты что ересь-то несешь, а? Это где ты набрался так, а? Выучи сначала программу нашу, — говорил он сердито, — а тогда приходи.
— Постойте, — сказал Трутовский.
— Ну, говори, третий Вселенский собор.
Я рассказал, робея, про Вселенский собор.
Священник задумался и что-то писал в тетрадку, и я видел, как он перечеркивал ноль и поставил мне тройку»[251].
Сразу же после экзаменационных испытаний изменилось отношение молодого художника к атмосфере училища, словно гора упала с его плеч, что ясно по лаконичным строкам: «Экзамены прошли хорошо. По другим предметам я получил хорошие отметки, особенно по истории искусств. Рисуя с гипсовой головы, выходило плохо, и, вероятно, мне помогли выставленные мной летние работы пейзажей. Я был принят в Школу»[252]. Так, уже на вступительных экзаменах определилось основное направление его творчества — пейзажная живопись.
Она, по его мнению, была окружена особой таинственностью, там «священнодействовали», там уже писали картины, о чем шла глухая молва среди непосвященных. Юный Костя Коровин восторгался: «И вот я в мастерской Школы живописи в Москве. Сам Саврасов, живой, стоит передо мной. Он огромного роста, у него большие руки, и лицо его, как у Бога…»[253]
Когда Константин блестяще сдал экзамены в училище, то получил не только похвалу педагогов, но и право выбора мастерской, своего будущего наставника. Вопреки пожеланиям родителей, он решил посвятить себя изучению не архитектуры, а пейзажной живописи, его выбор был четко определен — хотел поступить к Саврасову, с которым тогда еще не был знаком, только видел несколько раз и отметил, какие добрые у него глаза. Юного живописца восхищало полотно «Грачи прилетели» — так и был определен его выбор.
На следующее утро, собрав свои натурные этюды, скрутив их в трубочку, Костя Коровин пришел в величественный особняк на Мясницкой. Сразу же поднялся на верхний этаж, где находилась пейзажная мастерская. Несмотря на ранний час, из-за двери доносилась игра на гитаре. Константин вошел «и увидел освещенную комнату с большими окнами, у которых стояли картины на мольбертах, а слева в углу высоко наставлены березовые дрова. Около них сидел на полу С. И. Светославский — художник, ученик Саврасова. В руках у него была гитара. Против, на полу, лежал юноша с большими кудрями — И. И. Левитан. Поодаль, на железной печке, сторож мастерской солдат Плаксин кипятил в железном чайнике чай… Светославский взял с печки завернутую в бумагу колбасу, нарезал ее, положил ломтиками на пеклеванный хлеб, дал Левитану, а также и мне, сказав: „Ешь“.
Левитан спросил:
— Костя, ты тоже сюда хочешь в мастерскую поступить?
— Да, — ответил я.
— И не боишься?
Я не понял и спросил:
— А что?
— А то, что мы никому не нужны. Вот что.
И, обернувшись к Светославскому, сказал:
— Я видел этюды его. Он совсем другой, ни на кого не похож»[254].
Отворилась дверь, в мастерскую вошел Саврасов в башлыке, с палкой. «Алексей Кондратьевич был… богатырского сложения. Большое лицо его носило следы оспы. Карие глаза выражали беспредельную доброту и ум. Человек он был совершенно особенной кротости. Никогда не сердился и не спорил. Он жил в каком-то другом мире и говорил застенчиво и робко, как-то не сразу, чмокая, стесняясь»[255].
Он вытирал заиндевевшие усы и бороду, смотрел добрыми глазами на учеников и сразу же, с порога, заговорил с ними: «Зима… Как сады покрылись инеем! У меня в Печатниках — там из окна видно забор и около бузина, тоже в инее мороза, колодец заледенел, какие формы! Гм, гм! Надо смотреть, наблюдать: кто влюблен в природу — будет художник»[256].
Алексей Кондратьевич посмотрел на незнакомого ему юношу.
— Так ты брат Сергея? — Саврасов сразу же обратил внимание на Константина, о котором ему уже говорил его коллега Михаил Илларионович Прянишников как о брате талантливого молодого художника, воспитанника училища Сергея Коровина. Костя, робея, стал раскладывать перед руководителем мастерской свои этюды — написанные на холсте и на бумаге ветви деревьев, конюшню, старые заборы, сирени. Ему казалось, что это все — не то, не так, как надо, написано.
Учитель для начала спросил о мнении других молодых художников.
«— Весело, — сказал Левитан.
— Композиции нет, картины нет, — заметил Несслер.
— Что за охота писать заборы? — грустно вставил Поярков. — Это не пейзаж.
— Ну, отчего? Если он хочет. Только забор очень трудно написать, — смеясь, сказал Левитан. — Но тон у него есть. Правда — в цвете…
— Какое веселье в заборах? — удивлялся Поярков.
— Не в заборах, а в красках веселье, — сказал Саврасов»[257].
Алексей Кондратьевич похвалил этюды и принял начинающего пейзажиста в свою мастерскую. Нестеров писал о пейзажной мастерской: «Там работал ряд даровитых учеников. Их объединял умный, даровитый, позднее погибший от несчастной своей страсти к вину Алексей Кондратьевич Саврасов, автор прославленной картины „Грачи прилетели“. Тогда чаяния всего Училища были связаны с учениками Алексея Кондратьевича: с пылким, немного „Дон Кихотом“ Сергеем Коровиным, его младшим братом Костей Коровиным, которого, по контрасту с Сергеем по внешнему облику и характеру, называли „Дон Жуаном“ и с его другом — юным Исааком Левитаном». Так и проходили учебно-творческие занятия дружного сообщества неравнодушных к родной природе художников-пейзажистов. Период, проведенный ими в пейзажной мастерской училища, общение с Саврасовым запомнились как одна из ярчайших страниц юности, становления их таланта.
Казалось, что Костю Коровина любили все в училище, каких только прозвищ у него не было — «Цапка», «Дон Жуан», «Демон из Докучаева переулка». К тому же и баловали его все. Педагоги всегда были к нему снисходительны и явно завышали оценки, как преподаватель русской истории и археологии Побойнов, а также педагог по анатомии, считавшийся красавцем доктор медицины Тихомиров, законоучитель священник Романовский, осанистый, с крупным умным лицом, всегда спокойный и важный. Также и сокурсники души не чаяли в всегда веселом и доброжелательном Костеньке. Особенно всеобщий любимец пользовался расположением барышень. В мастерской Алексея Кондратьевича их почти не было, хотя известно об Ольге Армфельд. А позднее появилась еще и Эмма Августовна, молодая блондинка, которая слегка картавила и любила хорошие духи.
Однажды Константин написал этюд из окна своей комнаты, да так удачно, что вызвал множество похвал и восторгов, а Саврасов, увидев новую работу своего воспитанника, сказал ему лаконично: «Поставь это на экзамен». Коровин так и сделал и получил на экзамене первый номер, то есть высший балл.
Во многом противоположностью Косте являлся его старший брат Сергей. Его называли «Дон Кихотом» и весьма метко — высокий, худощавый, часто мечтательно-задумчивый или грустный, молчаливый и отстраненный, он долго вынашивал свои творческие замыслы, годами мог работать над одной картиной, бесконечно переделывал ее, никогда не торопился менять детали, освещение, все стремился досконально продумать. Неугомонный Константин нередко «подлетал» к мольберту брата, смотрел на его начатую постановку или пейзаж и с легким упреком восклицал: «Ты опять начинаешь писать с кишок!» Возразить на это Сергею, как правило, было нечего. Его усердная работа часто не приводила к желаемому результату, пейзажи оставались серыми и равнодушными, постановки и эскизы — неоконченными.
В училище Сергей Коровин сдружился с Сергеем Светославским, с которым у них была даже общая мастерская. Сюда они спешили после окончания занятий на Мясницкой, быстро шли по бульварам, с наслаждением вдыхая уже морозный осенний воздух. Придя в мастерскую, торопились затопить печь, спасавшую их от сырости и холода, быстро ужинали и снова рисовали допоздна, чтобы наутро вновь идти в училище. Придя в пейзажную мастерскую рано утром, пока не собрались еще все ученики, часто и при Саврасове, Светославский пел украинские песни, пел с чувством, хорошо поставленным голосом и аккомпанировал себе на гитаре, которую хранил здесь же, в классе. «Да вже третий вечир, як дивчину бачив. Хожу коло хати, ей не видаты». Алексей Кондратьевич любил послушать малороссийские песни.
Начинались занятия, и два товарища, поставив рядом мольберты, работали каждый над своим пейзажем. Однажды Светославский написал «Днепровские пороги». Сергей Коровин как обычно сосредоточенно и неспешно выписывал «Зимний серый день», стараясь передать все характерные особенности московской зимы.
Не всем ученикам пейзажной мастерской были близки да и понятны требования Саврасова. Некоторые из них начинали за спиной учителя подсмеиваться над ним и над его пристрастием к спиртному, постепенно переходившему в болезнь. Иногда кто-нибудь из молодых живописцев задавал вопросы, на которые у пейзажиста не было, да и не могло быть определенных ответов. Константин Коровин вспоминал, что однажды Мельников спросил наставника:
«— А как, Алексей Кондратьевич, нужна в пейзаже даль — деревья большие и воды?
— Не знаю, — ответил Саврасов. — Не надо, а может быть, и надо. Я не знаю. Можно просто написать, что хочется — хорошо только написать. Нужна романтика. Мотив. Романтика бессмертна. Настроение нужно. Природа вечно дышит. Всегда поет, и песнь ее торжественна. Нет выше наслаждения созерцания природы. Земля ведь — рай, и жизнь — тайна, прекрасная тайна. Да, тайна. Прославляйте жизнь. Художник — тот же поэт.
— А как же писать, с чего начинать, — спрашивают его ученики.
— Не знаю, — опустив глаза, говорил Алексей Кондратьевич. — Нужно любить. Форму, любить краски. Понять. Нужно чувство. Без чувства нет произведения. Надо быть влюбленным в природу, — тогда можно писать.
— А если я влюблен в музыку, — говорит ученик, — то все же, не умея, не сыграешь на гитаре.
— Да, да, — ответил Саврасов. — Верно. Но если он влюблен в музыку, то выучится и будет музыкант, а если нет, то трудно, ничего не будет.
Константин Коровин, особенно тонко воспринимавший наставления учителя, рассказывал далее:
— Мы слушали Алексея Кондратьевича и были в восхищении. Шли в природу и писали с натуры этюды, и говорили друг другу, указывая — „это не прочувствовано“ и „мало чувства“, „надо чувствовать“, — все говорили про чувства»[258].
Другой ученик, выслушав Саврасова, интересовался, как наставник оценивает пейзажи Швейцарии. На что Алексей Кондратьевич с легкой улыбкой, в своей застенчивой манере негромко отвечал: «Да, в Швейцарии я был, был и в Италии. Прекрасно. Но кому что. А мне, конечно, в России нравится. В России природа поет, разнообразие, весна какая, и осень, и зима. Поет, все поет. Только небо прекрасно в Италии. А пейзаж в Швейцарии. А у нас нет разве неба, гор нет? Как быть? Да, плохо, нет озер… Да… А там Женевское озеро».
Ученики слушали его со вниманием, каждый понимал по-своему, каждый делал свои выводы, каждый шел в искусстве своей дорогой. Знаменитый педагог Петербургской академии художеств П. П. Чистяков, не без свойственной ему жесткой иронии, метко сравнивал учеников со щенками, брошенными в воду, — многие утонут, а кто выплывет, живучими будут. Так происходило и с молодыми художниками Училища живописи и ваяния. Но все же многие из них «выплывали». На то был целый ряд причин: и требования столицы, и разумность наставников, но немаловажным фактором следует назвать атмосферу самого здания в центре Москвы, имевшего свою историю, традиции, память о великих людях, связанных с ним.
Константин Коровин и Исаак Левитан, уже в период учебы обладавшие индивидуальной творческой манерой, очень по-разному воспринимали одни и те же пейзажи. Контраст их мироощущения и темперамента прекрасно передают высказывания современников. А. Н. Бенуа писал о Коровине как об «очаровательном врале… с душой нараспашку. О Левитане друзья говорили, что он „был всегда грустным“»[259], называли его задумчивым, погруженным в себя. Однако оба они безгранично ценили человеческие качества и талант своего учителя Алексея Кондратьевича. Следуя заветам учителя, молодые пейзажисты каждый по-своему восторгались неповторимыми образами родной природы. Но если у Коровина это восхищение выражалось в экспрессивных, мажорных по звучанию живописных этюдах, то совсем иной была реакция Левитана. Константин Коровин вспоминал, что его друг мог заплакать от красоты закатного неба или при виде куста цветущего шиповника. «Довольно реветь, — говорил я ему. — Константин, я не реву, я рыдаю, — отвечал он, сердясь на меня»[260].
Показателен такой краткий диалог. Исаак Левитан однажды подвел Константина Коровина к своей еще не завершенной картине и, поясняя ее суть, произнес:
«— Последний луч. Что делается в лесу, какая печаль! Этот мотив очень трудно передать. Пойдем со мною сегодня в Сокольники. Там увидишь, как хороши последние лучи».
«— Пойдемте… Только вот в Мытищах лучше лес — „Лосиный остров“. Пойдемте туда»[261].
По воспоминаниям Коровина, Левитан, следуя наставлениям Саврасова, всегда искал в пейзаже мотив и настроение. Летом он нередко лежал в траве, смотрел ввысь и восклицал: «Как странно все это и страшно… и как хорошо небо, и никто не смотрит. Какая тайна мира — земля и небо. Нет конца, никто никогда не поймет этой тайны, как не поймут и смерть. А искусство — в нем есть что-то небесное — музыка»[262]. Коровин понимал как никто другой своего замкнутого, нелюдимого друга, во многом разделял его переживания, но часто и не соглашался с ним.
Однажды друзья увидели на пригорке около ручья расцветший куст шиповника, который поразил их своей ликующей весенней красотой. И уже не Левитан, а Коровин, не сдержав эмоций, полушутя-полусерьезно предложил: «Исаак, смотри, шиповник, давай поклонимся ему, помолимся». Оба юных художника, встав на колени, начали славить сказочной красоты куст и в результате запутались в импровизациях. Однако даже эта их шутка ясно показывает, насколько чутки были они к образам природы и ее настроениям, насколько внимательно, неравнодушно относились к советам учителя и были способны не только отображать, но переживать, переосмысливать пейзажные мотивы.
Как рассказывал Константин Коровин, «с первыми днями пробуждения весны Саврасов, Левитан, брат и я отправлялись за город на этюды. В рваных сапогах, продрогшие, а подчас и голодные, мы с увлечением писали оживающие под солнцем деревья, талый снег на дорогах, по-весеннему голубое небо и счастливые, гордые своими работами, возвращались домой»[263].
Коровин однажды исполнил такой рисунок — изобразил могучий ствол и на нем обозначил крупную надпись «Саврасов», а из ствола по сторонам растут два побега. Побег-Коровин, напористый и упрямый, неудержимо и радостно рвался вверх. Побег-Левитан являл ему полную противоположность — грустный, тонкий, скорбно склоняющийся при малейшем порыве ветра. И все же каждый из этих «побегов» сказал свое слово в искусстве, продолжив дело Учителя.
Такая иносказательная характеристика самого себя Коровиным оказалась исключительно верной, что подтверждают его звонкие, жизнерадостные пейзажи, многие высказывания, в которых он обозначал свое кредо, как, например, лаконичные и верные слова: «Задача искусства — выражать отрадное», или «юное сердце мое не принимало горя», и о годах в училище, несмотря на бедность и лишения: «Эта жизнь наша была праздником»[264].
Любовь к родной природе, к непосредственному общению с ней ученики пейзажной мастерской пронесли через всю жизнь каждый по-своему. Так, например, эта любовь лишь крепла с годами у Константина Коровина. «Надо было видеть Коровина сидящим в березовом лесу на полянке, с этюдным ящиком на коленях, чтобы почувствовать, как он был крепко связан с русской природой. „Мы, Коровины, — говорил он, — мужики, владимирцы, нас крепко держит земля“»[265]. И в эмиграции, в Париже, сильно нуждаясь и лишившись былого признания, он тосковал по России, по ее завораживающей природе, о которой писал с такой же проникновенностью и теплотой в изданных им «Охотничьих рассказах», письмах, воспоминаниях.
Каждый из учеников пейзажной мастерской по-своему понимал и отображал в искусстве жизнь и облик родной стороны. Ее образы стали для них художественным языком, выразившим содержание искусства. В монографии С. К. Маковского «Силуэты русских художников» отмечается «импрессионистическая солнечность в ранних произведениях К. Коровина»[266]. М. М. Алленов в книге «Русское искусство XVIII — начала XX века» о его искусстве говорит, подобно Маковскому, как о «наиболее ярко выраженном варианте русского импрессионизма», и далее: «…живопись для него — это по преимуществу пиршество глаза»[267].
Однако с данным определением можно согласиться лишь отчасти, поскольку художественный язык Коровина, основанный на навыках, преподанных ему Саврасовым, гораздо более сложен и многообразен, что особенно ясно проявилось при обращении художника к отечественным мотивам. Кроме того, новаторские приемы, найденные Коровиным в станковой живописи, были в дальнейшем развиты им в области монументалистики, архитектуры, декоративно-прикладного искусства.
Алексей Кондратьевич всеми силами поддерживал своих учеников, искренне переживал за них. 25 декабря 1878 года он обратился с прошением в Совет Московского художественного общества с просьбой разрешить проведение выставки воспитанников училища: «Последнее решение господ преподавателей о запрещении открыть выставку ставит учеников в затруднительное положение и некоторых даже в безвыходное. Имея в виду их нужду, я беру на себя смелость ходатайствовать пред Советом и его членов просить… как о средстве помощи разрешить участие на этой выставке… Ходатайствуя пред Советом о разрешении открыть выставку, я имею в виду не одну только материальную пользу, но как средство вызвать их (учеников. — Е. С.) к еще большей деятельности и успехам»[268].
Его хлопоты не были напрасными. Алексей Кондратьевич не ошибся в оценке таланта И. Левитана, как и К. Коровина. Именно они наиболее чутко и вдумчиво прислушивались к его советам, словно впитывали в себя не только знания наставника, но и его энтузиазм к работе, неравнодушное отношение к природе. Преподавая, он ставил им в пример и отечественных авторов, и зарубежных художников, прежде всего пейзажистов барбизонской школы. Их творческие методы были близки Саврасову, поскольку барбизонцы провозглашали значимость незамысловатых мотивов, необходимость работы с натуры и отражения определенного природного состояния. Произведения барбизонской школы в то время уже были широко известны в России среди художников и собирателей. Их пейзажи можно было видеть в собрании П. Третьякова. Известно, что Левитан копировал их произведения, особенно восхищался пейзажами Коро.
Влияние барбизонской школы отчасти могло сказаться в пейзаже Левитана «Ветряные мельницы. Поздние сумерки» (1876–1879), как в выборе мотива, так и в его трактовке. Однако его ранние работы еще несколько жестки, скованны по рисунку, кое-где по-ученически слишком старательны в передаче деталей. Однако уже к концу 1870-х годов профессиональная, самобытная, сильная трактовка образов характерна едва ли не для каждого из его произведений.
О студенческой поре будущего известного пейзажиста позволяют судить лишь несколько этюдов. Его рисунки с гипсовых образцов, с «оригиналов», постановки в натурном классе, натюрморты не сохранились до нашего времени, остались лишь два пейзажа — «Солнечный день. Весна» и «Вечер», показанные в ученическом отделе Пятой передвижной выставки 1877 года. Ранние этюды Исаака Левитана ясно свидетельствуют, насколько близки ему были картины Саврасова — духовная суть их мотивов, настроения, во многом новаторская методика работы.
Вряд ли можно полностью согласиться со следующим суждением об ученических этюдах Левитана и влиянии на него живописи Саврасова: «Несомненно, Левитан складывался под влиянием царившего реализма и в первых своих „засушенных“ работах старался быть точным копировщиком природы, наверно, тоже преклоняясь перед Шишкинской строгостью и точностью. В этом отношении так характерны, напр., были появившиеся на посмертной выставке „Солнечный день“ (самая первая его картина) и „Зима“, а также его ранние этюды. За деталями здесь еще не чувствуется широкой формы, понимания рисунка масс; местами Шишкинский рисунок понимается как бы еще только в смысле деталирования, местами коричневатая, как бы унаследованная у Саврасова, живопись, несмотря на знакомство с поленовским колоритом. По-видимому, и у Левитана, как у очень многих крупных художников, был период, когда ему казалось, что самый правильный путь к „достижению“, точнейшее фотографическое копирование природы, не мудрствуя, не следуя никаким традициям, стараясь передать буквально все, что видишь. Путь утомительный, тяжелый, но может быть дающий очень прочный фундамент для будущего свободного рисунка…»[269] В приведенном суждении искажается сама методика преподавания автора «Грачей», суть реалистического творчества, в том числе и в отношении понимания его в стенах Московского училища живописи и ваяния, а также передвижниками. Кроме того, явно необъективно трактуется специфика живописи А. К. Саврасова, не акцентируется его влияние на формирование творческой личности его ученика, которое было очень значительно.
Первая выставка, в которой принял участие шестнадцатилетний Левитан, уже подтверждает это, и для юного автора она не прошла незамеченной. Его работы выделил критик Н. Александров, писавший: «Пейзажист г. Левитан выставил две вещи — одну „Осень“ и другую — „Заросший дворик“ с березками и какими-то деревянными строениями, освещенными ярким солнышком, пробивающимся сквозь березовую листву. Солнечный свет, деревья, зелень и строения — все это написано просто мастерски, во всем проглядывает чувство художника, его бесспорно жизненное впечатление от природы; судя по этим двум картинам, нет сомнения, что задатки г. Левитана весьма недюжинного характера»[270].
В том же 1877 году Левитаном были исполнены пейзажи: «Летний день. Пчельник», «Осень. Дорога в деревне», также близкие художественному языку учителя. Не сохранился его пейзаж «Вид Симонова монастыря». Он был показан на ученической выставке зимой 1878/79 года и вызвал восторг многих зрителей. Нестеров отмечал: «Его неоконченный „Симонов монастырь“, взятый с противоположного берега Москвы-реки, приняли как некое откровение. Тихий покой летнего вечера был передан молодым собратом нашим прекрасно». Характеризуя выставку в целом, Г. Урусов писал, что «„Вид Симонова монастыря“, картина 16-летнего художника г. Левитана, положительно поражает силой выражения»[271].
Выработав индивидуальную художественную манеру, пейзажист все же по-прежнему обращался к опыту и урокам своего наставника при выборе мотивов, как в пейзажах «Костер» (1878), «Вечер после дождя» (1879), «Болото вечером» (1882), в этюде «Ствол распускающегося дуба». При некоторой своей юношеской наивности, которая еще сказывалась тогда в его в трактовке отдельных деталей, осмыслении мотивов, они уже достаточно самостоятельны и позволяют предвидеть автора будущих знаменитых полотен, как «Весна. Большая вода», «Вечерний звон», «Плес после дождя», «Над вечным покоем», «Золотая осень» и многих других. Через годы, а именно осенью 1898 года, Исаак Левитан вернется в стены училища, уже став академиком живописи, чтобы преподавать по образцу своего наставника.
Среди воспитанников Алексея Кондратьевича выделялся и Сергей Светославский, написавший в 1878 году пейзаж «Из окна Московского училища живописи, ваяния и зодчества». Мастерская пейзажистов располагалась на четвертом этаже здания, была просторной, светлой, с высоким потолком, большими окнами. Из ее окон открывался прекрасный московский вид — совсем рядом золоченые главы церкви Святых Флора и Лавра, вереницы московских крыш, а у самого горизонта в ясную погоду можно было разглядеть даже лес в Сокольниках.
Пейзаж Светославского был написан ясным морозным днем. На переднем плане так реалистично предстают заснеженные колокольня и главы церкви Святых Флора и Лавра, а за ней простирается море крыш, светлые, искрящиеся на морозном воздухе, да заиндевевшие перелески вдали. Такой видели Москву студенты училища, на подобный вид многократно взирал в задумчивости глава пейзажной мастерской. По такой златоглавой столице спешили в особняк на Мясницкой ученики, пробираясь по лабиринту улочек и улиц, тупиков, переулков и проездов, площадей, скверов, набережных, а потом уходили на неведомые для них дороги жизни, к далеким рубежам, целям, свершениям и препятствиям.
Среди менее известных воспитанников Саврасова можно упомянуть художника польско-итальянского происхождения Михала Эльвиро Андриолли (1836–1893), учившегося также у Зарянко, оставившего свой след не только на ученических выставках, но и в искусстве России, в религиозной монументальной, станковой портретной живописи. Так, например, им был расписан кафедральный собор в Вятке, а также создан ряд портретных образов современников, в том числе священнослужителей. Мало сведений осталось о пейзажисте Волкове, также занимавшемся в пейзажной мастерской. В ученический период однажды он принялся писать пейзаж «После дождя», перекликавшийся по настроению с одним из произведений учителя, и все спрашивал у Саврасова, как ему писать, как накладывать краски. Алексей Кондратьевич только пожимал плечами в ответ: «Надо писать с душой… Почувствовать надо…»
Судьба учеников пейзажной мастерской складывалась по-разному. О некоторых, как, например, о Несслере и Пояркове, почти ничего не известно. Другие нашли позднее свое призвание в других сферах деятельности. Мельников, сын известного писателя, посвятил себя после окончания училища занятиям в области истории, этнографии Поволжья и служил чиновником по особым поручениям при нижегородском губернаторе. Михаил Ордынский и близкий друг Левитана Николай Комаровский стали учителями рисования в гимназии. Однако, как бы ни складывалась их жизнь, общение с Алексеем Кондратьевичем осталось в ней яркой, памятной страницей, как и личность их наставника. Под его влиянием ученики занимались воодушевленно и целенаправленно, пейзажная мастерская приковывала внимание всего училища, и немало удачных ландшафтов было представлено на выставках, немало открыто громких имен!
Юные воспитанники воспринимали художественный опыт руководителя мастерской, «загорались» стремлением творить, постигать уроки мастерства. «Саврасов умел воодушевлять своих учеников и, охваченные восторженным поклонением природе, они, сплотившись в дружный кружок, работали, не покладая рук, в мастерской, и дома, и на натуре. С первыми весенними днями вся мастерская спешила вон из города и среди тающих снегов любовалась красотою пробуждающейся жизни… Общее одушевление не давало заснуть ни одному из учеников мастерской, и все Училище смотрело на эту мастерскую какими-то особенными глазами»[272].
Выставки Училища живописи, в которых участвовали воспитанники Саврасова, проходили в Москве с начала 1870-х годов и сразу же были замечены публикой. Они проводились один раз в год, обычно с 25 декабря по 7 января. С начала 1880-х годов их частыми участниками стали ученики Саврасова: Левитан, Коровин, Светославский, а также Архипов, Матвеев, Лебедев, Николай Чехов — брат писателя. Ученические экспозиции, как правило, были многолюдны, критики не обходили их вниманием. Работы молодых авторов приобретали галереи и частные покупатели, как знатоки искусства, так и любители, а также и те, кто случайно забрел в зал и вдохновился каким-нибудь пейзажем или не остался равнодушен к жанровой сценке.
Объективна ли, обоснованна ли такая известность училищных выставок? Конечно, объективна, обоснованна — стоит только обратиться к историческим фактам. «Когда ведущие художники-реалисты Петербурга и Москвы объединились в Товарищество передвижных художественных выставок, то московские вернисажи традиционно устраивались в стенах Училища, причем их всегда органично дополняли выставки учеников»[273].
Именно в этот период происходило бурное развитие пейзажного жанра в отечественном искусстве, о чем Алексей Кондратьевич говорил своим ученикам так: «Классический, романтический пейзаж уходит, умирает — Пуссен, Калам… Может быть, будет другой… Гм, гм, да, да — неоромантика… Художники и певцы будут всегда воспевать красоту природы. Вот Исаак Левитан, он любит тайную печаль, настроение…»[274] Так Алексей Кондратьевич верно определял общие тенденции в искусстве, объективно выделял своего талантливого ученика, всего несколькими емкими словами определял направленность его творчества.
Младший современник Алексея Саврасова, Михаил Нестеров, писал об истоках своего искусства, «с особой, ни с чем не сравнимой признательностью называл главной питательницей своего творчества, воспитательницей своего искусства Природу. Он и писал, и произносил это слово всегда с большой буквы. У Нестерова, еще ребенка, было сильное влечение к природе, были чуткость к ее красоте, восприимчивость к ее великому языку»[275]. Это заключение писателя Сергея Дурылина, первого биографа Нестерова и его друга, бесспорно, верно, а также всецело применимо к творчеству и мироощущению Саврасова и его талантливых учеников. Во многом сопоставимо тернистое начало их творческого пути, а также современных им отечественных художников (В. Васнецова, И. Крамского, И. Левитана, И. Репина, В. Сурикова), о чем Нестеров уже на склоне жизни заключал: «Нам всего самим приходилось добиваться. Это нелегко. Я больше чую, чем знаю. Чутьем до всего доходил, до „своего“»[276]. И потому закономерно и вновь так близко Саврасову высказывание Нестерова о сути творчества — наставление одному из его учеников: «Самозабвенно работайте и помните, что лучший учитель — жизнь».
Иногда начинающие живописцы заслуживали со стороны Алексея Кондратьевича справедливую критику.
«— Солнце гоните на холсте — кричал Саврасов, а в дверь уже неодобрительно поглядывал старый сторож — „Нечистая сила“. — Весеннюю теплынь прозевали! Снег таял, бежал по оврагам холодной водой, — почему не видел я этого на ваших этюдах? Липы распускались, дожди были такие, будто не вода, а серебро лилось с неба, — где все это на ваших холстах? Срам и чепуха!»[277]
Шло время — взрослели ученики, менялись и их учителя. Все чаще Алексей Кондратьевич появлялся в мастерской не совсем трезвым, в мрачном расположении духа, в неряшливой старой одежде. Но грозным глава пейзажистов только казался, а на самом деле был по-прежнему исключительно добр к ученикам, беспокоился о них. Он особенно переживал из-за Левитана, который по причине постоянной нужды пропускал занятия. Однажды сильно заболел Константин Коровин, и его учитель, узнав об этом, придя к нему домой, проникновенно говорил: «Ты не печалься — все пройдет, знай, что главное есть созерцание, чувство мотива природы. Искусство и ландшафты не нужны, где нет чувства. Молодость счастлива потому, что она молодость. Если молодость не счастлива, значит, нет души, значит, старая молодость, значит, ничего не будет и в живописи — только холод и машина, одна ненужная теория. Нужда в молодости нужна, без нужды трудно трудиться, художником трудно сделаться; надо быть всегда влюбленным, если то дано — хорошо, нет — что делать, душа вынута». Вспоминая об этом, Константин Алексеевич писал: «Я так любил слушать его удивительную искреннюю лиру, наполненную непосредственной волей… И когда он уходил, я увидал его спину, рваное пальто и худые сапоги — слезы душили меня»[278].
Часами Алексей Кондратьевич мог говорить с начинающими художниками, давал много советов, внимательно просматривал этюды, наброски, эскизы, копии своих подопечных, а нередко, как прежде с энтузиазмом, принимался работать рядом с ними, увлеченно объясняя таким образом принципы построения композиций, или писал что-нибудь с натуры. Преподавал Саврасов так же талантливо и по-своему, как писал свои лучшие пейзажи. И именно такие педагоги были необходимы для продолжения и совершенствования школы мастерства, развития пейзажной школы, утверждения национального искусства. Однако широко признанный и бесспорно талантливый наставник молодых пейзажистов будет вынужден покинуть училище.
Глава 7 Последние аккорды — трагедия жизни художника
В 1880-е годы Алексей Саврасов еще был известен, его живопись по-прежнему заслуженно ценилась. Но все чаще он писал наряду с первоклассными и неудачные пейзажи, явно не соответствующие уровню его мастерства. Вероятно, так сказывалась душевная усталость художника, та боль утрат, обид, разочарований, которая не проходила, а лишь обострялась со временем.
«Жизнь подобна огромному, во все стороны бесконечному потоку, который обрушивается на нас и несет нас с собою. Нельзя жить всем, что он несет; нельзя отдаваться этому крутящемуся хаосу содержаний. Кто попытается это сделать, тот растратит и погубит себя: из него ничего не выйдет, ибо он погибнет во всесмешении. Надо выбирать: отказываться от очень многого ради сравнительно немногого; это немногое надо привлекать, беречь, ценить, копить, растить и совершенствовать. И этим строить свою личность. Выбирающая же сила есть любовь…» — писал философ И. А. Ильин, и его высказывание, глубокое и емкое, всецело применимо к пути Саврасова, который, навсегда сохранив безграничную любовь к искусству, не смог противостоять обрушившимся на него жизненным невзгодам.
Осенью 1881 года воспитанники Саврасова как обычно собрались в мастерской после каникул. Они показывали друг другу сделанные за лето этюды, когда неожиданно вошел Алексей Кондратьевич, он, как и раньше, стал заниматься с учениками, смотрел их летние работы, многое хвалил, указывал на недостатки. Но первая радость учеников от встречи с ним сменилась удивлением, сочувствием, тревогой.
Об этом писал Константин Коровин: «Осенью, по приезде в Москву из Останкина, перед окончанием Училища, когда мне было двадцать лет, А. К. Саврасов все реже и реже стал посещать свою мастерскую в Училище. Мы, ученики его — Мельников, Поярков, Ордынский, Левитан, Несслер, Святославский, Волков и я, — с нетерпением ожидали, когда он придет опять. В Училище говорили, что Саврасов болен. Когда мы собрались в мастерской, приехав из разных мест, то стали показывать друг другу свои летние работы, этюды. Неожиданно, к радости нашей, в мастерскую вошел Саврасов, но мы все были удивлены: он очень изменился, в лице было что-то тревожное и горькое… Одет он был крайне бедно: на ногах его были видны серые шерстяные чулки и опорки вроде каких-то грязных туфель: черная блуза повязана ремнем, на шее выглядывала синяя рубашка, на спине был плед, шея повязана красным бантом. Шляпа с большими полями, грязная и рваная».
Саврасов действительно был болен, что сознавал и сам, уже не находил в себе сил противостоять болезни, да и помощи не видел ни от родных, ни от коллег. В училище он уже давно не чувствовал себя комфортно, свободно. Алексей Кондратьевич, как, наверное, каждый истинный художник, был человеком с глубокой, трепетной, очень ранимой душой. Все радости и невзгоды, успехи и потери переживал в десятки раз сильнее обычных людей. Он очень остро чувствовал те негативные качества, которых не было в нем, но которые он так часто подмечал в окружающих, в том числе в чиновниках, преподавателях училища, — жадность, зависть, лицемерие. Художнику словно становилось стыдно за коллег, неловко, он отдалялся от них, замыкался в себе и все чаще отдалялся от жизни дома на Мясницкой, смотрел на нее со стороны, словно спектакль. На ум ему в последнее время нередко приходили бессмертные строки Уильяма Шекспира: «Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актеры. У них свои есть выходы, уходы. И каждый не одну играет роль».
Однако пейзажист таким «представлениям» предпочитал величественные и вечные действа природы. Их он смотрел с упоением, сопереживал и участвовал в них с кистями в руках, вторя в натурных этюдах «сказам» природы, у которой разыгрывались свои спектакли, с кулисами, декорациями и «персонажами» первого плана. Так, налетал порыв ветра, гнал тучи по небу, и сразу же менялись окрестности Москвы, а потом, минут через пять, наступала кульминация спектакля — гнев бури, тоска дождя сменялись победой радости — сквозь тучи прорывался первый, еще робкий солнечный луч и оставлял свои отсветы — росчерки надежды — на всем вокруг, преображая луга и перелески, уподобляя сказочному граду у горизонта башни и храмы златоглавой столицы. Подобные видения представали перед мысленным взором художника, и, сидя в углу накуренной учительской, он снова терял нить разговора с коллегами, брал лист бумаги, карандаш, делал наброски пейзажей, а потом молча и незаметно исчезал куда-то.
Однажды после долгого отсутствия художник все-таки нашел в себе силы прийти к молодым пейзажистам своей мастерской. Помолчав, Алексей Кондратьевич сказал им: «А я долго не был, хворал несколько. Да… Я приду, а вы свободно подумайте, почувствуйте и пишите. Прекрасна природа, возвышайтесь чувством. Велико искусство…»[279] И вскоре ушел. Так окончилось его преподавание в училище, что стало сильнейшим ударом для Саврасова: словно оборванной, уничтоженной оказалась одна из важнейших составляющих его жизни. Тогда же произошел разрыв с семьей. Супруга вместе с дочерьми Верой и Евгенией ушла от него окончательно. Саврасов, одинокий, больной, с растущей зависимостью от алкоголя, вынужден был вести жизнь скитальца.
Еще один сильный душевный удар он вынес 9 мая 1882 года — умер Василий Григорьевич Перов, его давний близкий друг, которого он глубоко уважал как человека, чтил как исключительно одаренного художника. Перов ушел из жизни после долгой и изнуряющей болезни — чахотки. Саврасов видел, как Василий Григорьевич изменился в последнее время, стал совсем худым, молчаливым, заострились и еще больше посуровели черты лица. Он выглядел теперь совсем пожилым, хотя ему не было еще и пятидесяти лет. Материальные затруднения также подтачивали его здоровье. Перов, прославленный, всеми любимый и признанный живописец, брал мизерные гонорары за свои картины, полученных сумм вместе с училищным жалованьем едва хватало на жизнь, и в последние годы бедность не оставляла его. Сказались испытания прошлого: переживания детства, лишения юности, личные драмы, сверхусердный труд художника, напряжение педагогической работы.
Саврасов горько переживал эту утрату, понимая, что по-настоящему преданных, близких ему людей остается все меньше и он уже никогда и никем не сможет их заменить. Еще одна нить, связывавшая его с Училищем живописи, была безвозвратно порвана.
Всего через десять дней после смерти Перова Саврасов получил официальное письмо следующего содержания: «По распоряжению Совета, имею честь уведомить, что 22 мая с/г Советом Общества Вы уволены от ныне занимаемой должности. Секретарь Совета: Лев Жемчужников»[280].
Той опорой, которая помогала Алексею Саврасову среди жизненных бурь, долгое время оставалось Училище живописи, ваяния и зодчества, где художник провел около тридцати пяти лет, прошел путь от начинающего ученика до профессионального известного художника и педагога. Вынужденный уход из училища для больного Саврасова стал невосполнимой потерей. Он лишился встреч с коллегами, учениками, столь необходимой для него творческой среды. Ему было сложно не только смириться, но даже поверить в произошедшее. Узнав официальную формулировку своего увольнения — жесткую, краткую, неумолимую, он словно услышал приговор, быть может, наихудший для себя, приговор своей жизни, которая вдруг показалась ненужной, нескладной, ошибочной.
В тот страшный для него день Алексей Кондратьевич не находил себе места. Сначала вернулся в мастерскую, не замечая вокруг себя учеников, сел на стул, смотря в никуда ничего не выражающим взглядом. Медленно надел поношенный плащ, небрежно обмотал видавший виды шарф и ушел, не прощаясь, с трудом понимая, куда и зачем уходит, но предельно остро чувствуя, что уходит навсегда. Художник брел по знакомой ему до мельчайших деталей, дорогой с юности улице Мясницкой, не замечая ни порывов ветра, ни куда-то спешащих людей. Он тяжело ступал, и каждый шаг словно ударом отдавался в голове: «Конец, конец, конец…», сворачивал в тихие переулки без цели, и перед его глазами проносилась жизнь, беспорядочно открывались и исчезали ее страницы, светлые, мрачные, смятенные: первый приход в училище, педагоги, выставки, получение звания академика, занятия с учениками, первые весенние этюды, принесенные ими для него… А теперь книга его жизни художника, педагога, наставника молодых живописцев словно захлопнута кем-то, бесцеремонно, нагло, с издевкой, безвозвратно.
Вставали в памяти и другие, предельно контрастные картины — люди-нелюди, бездушные улыбки-оскалы, злобные лица-маски. Это — чиновники от искусства, которых приходилось встречать ему. Словно гиены, почуяв момент, они, трусливо озираясь, выползали из своих нор и щелей к легкой добыче. Не имея ни интеллекта, ни таланта, ни нравственных принципов, рвались только к деньгам и жили ради денег, а дорвавшись, не знали пределов в своей омерзительной алчности. Наказанные Господом, они были лишены не только разума, но и самого дорогого, что дается человеку, — совести и любви, отзвука Божьей воли в душе. Они пытались казаться сведущими и важными, им нравилось унижать и хамски отдавать приказы, что не столько оскорбляло Саврасова, сколько поражало своей нелепостью. Как возможно такое, тем более в храмах искусства?
Ему запомнились их отталкивающая внешность, безвкусные пошлые наряды, циничные выражения, визгливые голоса, пронизанные завистью и остервенением, словно истеричный лай: «Вы здесь культурку делаете!», «Окультуриваетесь, господа!», «Господин Саврасов, какие еще научные дисциплины в Училище? Какие практические занятия? Глупостей-то не говорите!» В который раз художник сравнивал таких «особ» — неучей и лодырей, паразитирующих на искусстве, на России, с персонажами Гоголя, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, но даже отталкивающие литературные герои приобретали рядом с ними некоторую привлекательность и подобие благородства.
Налетевший порыв ветра прервал его мысли, унося прочь грязь сплетен и наветов. Алексей Кондратьевич поднял голову — сквозь прорывы мятущихся облаков забрезжило солнце, и его луч словно коснулся его души. Надо было идти вперед и жить дальше, наперекор всем ненастьям. Горе и болезни окончательно захлестнули его жизнь. Его тонкая и ранимая натура, отзывчивая к красоте мира, была сломлена, но искусство по-прежнему давало радость и утешение. Беря в руки уголь или кисть, вдыхая резкий запах масляных красок, он вновь чувствовал себя молодым, полным сил и даже по-настоящему счастливым, бесконечно счастливым, освободившимся от ненужного бремени суеты и быта.
Прошло менее года после увольнения из училища на Мясницкой, и художник узнал о еще одной потере — кончине своего друга и родственника, профессора Карла Карловича Герца, с которым он тепло общался со времен молодости. В феврале 1883 года с ним случился третий удар, ставший смертельным. Свое имущество он оставил сестре Эрнестине, так же как и обширную библиотеку и собрание гравюр.
Вскоре после увольнения Алексея Кондратьевича из училища молодые художники пейзажной мастерской один за другим решают покинуть эти стены. В октябре 1882 года Исаак Левитан, не считавший нужным для себя продолжать училищные занятия у других педагогов, подал прошение о разрешении ему сдать экзамены по наукам за 5-й класс. 1 января 1883 года он собирался поступать в Академию художеств. Примерно в то же время перейти в Петербургскую академию решили Константин Коровин, Сергей Светославский. Однако Левитан и Коровин, быстро разочаровавшиеся в академической системе преподавания, все же остались в училище, узнав, что пейзажную мастерскую возглавит В. Д. Поленов.
Поленов был на 14 лет моложе Саврасова, ему еще не было и сорока. Происходил Поленов из дворянской обеспеченной семьи, рано проявил блестящие способности в нескольких сферах знаний, окончил Академию художеств, юридический факультет Петербургского университета, даже имел научную степень — кандидат прав. Будучи истинным интеллигентом, Василий Дмитриевич отличался целеустремленностью, преданностью делу. Его облик русского-европейца вполне соответствовал такой характеристике — высокий лоб, внимательно-глубокий взгляд темных глаз, аккуратно зачесанные волосы и бородка, всегда элегантный костюм, внешность, отчасти напоминающая писателя И. С. Тургенева.
О его редкой энергии свидетельствовало, например, то, что, учась на историко-филологическом факультете Петербургского университета, он находил силы и время для обучения живописи в Императорской Академии художеств, занимался вместе с Репиным. Они даже программную работу писали на одну и ту же тему — «Воскрешение Христом дочери Иаира». В художественном решении Репина при сохранении реалистической трактовки эта тема получила оттенок религиозно-мистического звучания, Поленов же придал ей более жанровую окраску. Оба справились блестяще, были награждены зарубежными поездками. В наши дни их монументальные дипломные полотна находятся в экспозициях центральных музеев страны — картина Репина — в Государственном Русском музее, Поленова — в Научно-исследовательском музее Российской академии художеств.
Василий Поленов всецело был предан искусству, реалистическим традициям. О времени обучения в академии он говорил: «Вот моя духовная родина — лучшее место на планете… Там я провел лучшие годы моей жизни». Такую же атмосферу художник стремился создать в пейзажной мастерской Московского училища, давал ученикам творческую свободу.
К середине 1870-х годов Василий Дмитриевич был уже достаточно широко известен, о чем свидетельствует, например, тот факт, что во время Русско-турецкой войны в 1877 году он являлся официальным художником при штабе наследника на болгарском фронте военных действий. В следующем году он вернулся в Москву. Большой известностью пользовалась его картина «Московский дворик», выполненная в духе не только русской реалистической живописи, но и вполне в русле искусства Саврасова.
Воспитанники пейзажной мастерской с нетерпением ждали появления преподавателя. Они уже знали творчество своего нового наставника, поскольку незадолго до того на Московской передвижной выставке был представлен его пейзаж, изображающий летний день — солнечный, яркий. Автор этого произведения предпочитал работать звучными, чистыми красками, изображал синие тени, что особенно оценили и Коровин, и Левитан, так как подобная манера — отражение непосредственного впечатления от природы, точная передача цвета на пленэре — была им особенно близка.
Поленов очень деликатно и бережно отнесся к преподаванию в мастерской, ни в чем не разрушая принципов и методов преподавания прежнего ее главы. Его ученики все так же много писали и рисовали с натуры, всецело следовали руслу реалистического искусства. Однако, как любой самобытный художник и успешный педагог, в руководство пейзажной мастерской Поленов привнес новые черты — это внимание к современной западноевропейской живописи и длительность работы над пейзажной картиной. При этом он нередко повторял юным пейзажистам: «Представьте, что именно сейчас вы пишете самую главную лучшую свою картину, и работайте соответственно».
Когда пришло время первой встречи учеников с новым наставником, все собрались в натурном классе, расставили мольберты, заняли места. Вошел Василий Дмитриевич, из принесенного с собой свертка достал восточную ткань и череп лошади, из которых составил натюрморт, дал задание — написать этот натюрморт после работы над живой моделью. Многие из юных художников недоумевали, а, например, для Константина Коровина поставленная задача, напротив, оказалась интересной и понятной.
Недаром уже в период учебы его взгляды на искусство во многом пересекались с взглядами и Саврасова, и Поленова, а новаторский творческий метод, прослеживающийся уже в его ранних работах, дал впоследствии исток стилистическому направлению — русскому импрессионизму. Коровин вспоминал об этом, описывая работу над одним этюдом и свой разговор с художником Евграфом Сорокиным, пригласившим Константина на свою дачу. Тогда Сорокин попросил его помочь закончить пейзаж, который писал с натуры. Коровин вспоминал, что, посмотрев на его работу, сказал:
— Не так. Сухо, мертво…
— Правду говоришь. Не вижу я, что ль. Третье лето пишу. В чем дело, не понимаю. Не выходит. Никогда пейзажа не писал. И вот, не выходит. Ты попробуй, поправь.
Я смутился. Но согласился.
— Не испортить бы, — сказал я ему.
— Ну, ничего, не бойся, вот краски.
Я искал в ящике краски. Вижу — «терр де сьенн», охры, «кость» и синяя прусская, а где же кадмиум?
— Что? — спросил он.
— Кадмиум, краплак, индийская, кобальт.
— Этих красок у меня нет, — говорит Сорокин. — Вот синяя берлинская лазурь — я этим пишу.
— Нет, — говорю я, — это не годится. Тут краски говорят в природе. Охрой это не сделать…
— Вот ты какой, — говорил Евграф Семенович, улыбаясь. — Вот что ты, — продолжал Сорокин, — совсем другой. Тебя все бранят. Но тело ты пишешь хорошо. А пейзажист. Удивляюсь я. Бранят тебя, говорят, что пишешь ты по-другому. Вроде как нарочно. А я думаю — нет, не нарочно. А так уж в тебе это есть что-то.
— Что же есть, — говорю я. — Просто повернее хочу отношения взять — контрасты, пятна…[281]
Этот разговор между художниками разных поколений, разных эпох, во многом разных взглядов на искусство ясно свидетельствует о развитии отечественной живописи, о смене художественных ориентиров, задач, методики работы при сохранении языка реализма. Однако творчество Константина Коровина в стенах училища — далеко не единственное тому подтверждение. Во второй половине 1880-х годов у Поленова в пейзажной мастерской занимался даровитый Александр Головин, позднее примкнувший к сообществу «Мир искусства». Коровин так рассказывал об этом: «В Москве, в Училище живописи, ваяния и зодчества, в 1886 году появился у нас ученик и в классе Поленова писал натюрморты (как сейчас помню, один из них — череп лошади). И писал он очень хорошо. Внешний вид, манера держать себя сразу же обратили на него особое внимание всех учеников, да и преподавателей. Это был А. Я. Головин.
Красавец-юноша, блондин, с расчесанным пробором вьющейся шевелюры — с пробором, тщательно приглаженным даже на затылке, — он удивил лохматых учеников нашей Школы. Фигура, прекрасный рост, изящное платье, изысканные манеры (он был лицеистом), конечно, составляли резкий контраст с бедно одетыми учениками Школы. И к тому еще на мизинце А. Я. Головина было кольцо — кольцо с бриллиантом!»[282] Шло время и диктовало свои новшества, появление младших поколений студентов постепенно меняло художественную суть самого училища.
Молодые художники пейзажной мастерской по достоинству оценили и нового наставника. Он вызывал у них неподдельный интерес — прекрасно говорил, увлеченно рассказывал о своих путешествиях, ставил необычные для них натюрморты и тематические постановки. К тому же доброжелательно относился ко всем ученикам, сочувственно к Алексею Кондратьевичу, зная о его болезнях и одиночестве.
В 1880–1890-е годы в стенах училища, как и на передвижных выставках, не стихали жаркие споры. В училище отношение к Поленову, как прежде к Саврасову, оставалось настороженным, порой и враждебным. Жанристы из класса В. Г. Перова и В. Е. Маковского у него не учились, называли пейзаж вздором, говорили, что рисунка и точности в нем нет — ветку дерева, например, можно расположить как угодно, а колорит вообще не важен, поскольку и одной черной краской можно создать шедевр. Картины Василия Поленова, ныне составляющие классику отечественной живописи: «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Старая мельница», «Зима», — обходили молчанием на передвижных выставках. Здесь всегда ждали новых полотен Ильи Репина — он был ближе и понятнее многим. К сожалению, слишком распространенным оставалось тогда мнение о том, что пейзаж не является «серьезным искусством», а скорее развлечением, не требующим ни мастерства, ни усилий, ни замысла.
Однако именно тому поколению художников, во главе которых стоял Алексей Саврасов (его произведения дали толчок развитию новаторской пейзажной живописи), удалось изменить отношение к пейзажному жанру.
Руководство Училища живописи, неоднократно так необъективно поступавшее с известным пейзажистом, не было благосклонно и к его воспитанникам. В 1884 году Левитан, получивший две малые серебряные медали и сдав все экзамены по наукам, считал себя окончившим учебный курс. Но Совет училища прислал ему бумагу о его увольнении 23 апреля 1884 года из-за «непосещения классов». Ему было предложено получить диплом неклассного художника, на основе которого он мог быть учителем рисования, и только. Несмотря на представленные письменные объяснения, он был лишен права писать картину на большую серебряную медаль и получил диплом неклассного художника.
Подобные факты свидетельствуют скорее не о личном неприятии Алексея Кондратьевича и его учеников, но об изменении направленности преподавания в училище, где неприемлемы оказывались новаторские течения в пейзажной живописи, а постепенно нежелательным стало и исполнение картин в духе передвижников, особенно после смерти Перова. Показателен, например, факт, что отчисление Левитана из училища произошло уже после того, как его пейзаж «Вечер на пашне» (1883) с успехом экспонировался на Двенадцатой передвижной выставке.
Непонимание со стороны руководства училища и большинства преподавателей методов обучения Саврасова, новаторского видения его воспитанников и взглядов на живопись их нового наставника омрачило последние месяцы пребывания молодых пейзажистов в училище. Константин Коровин писал:
«…Мы все — Левитан, Святославский, Головин и я — окончили школу со званием неклассных художников. Поленов мне сказал однажды:
— Трудно и странно, что нет у нас понимания свободного художества…
И Поленов ушел из Училища в отставку»[283].
В своих воспоминаниях, что-то сочиняя, что-то приукрашивая, словно подтверждая характеристику, данную А. Н. Бенуа, — «очаровательный враль», Коровин рассказывал о том, как ему вместе с Левитаном вручали свидетельства об окончании училища и конверты, в которых оба выпускника обнаружили новенькие купюры по 100 рублей. Однако этот рассказ следует отнести скорее к фантазиям «Костеньки Коровина», как его называли чуть ли не до сорока лет — сначала в училище, позднее в круге мецената С. И. Мамонтова. На самом деле Левитан окончил Училище живописи значительно позже Коровина, и диплом ему высылали по почте, поскольку он тогда уехал из Москвы.
Любимые ученики Саврасова завершали занятия в училище уже без своего наставника, «этого милого, самого дорогого нашего человека», дарившего молодежи даль «чего-то неведомого, как райское блаженство».
Через некоторое время после прощания Алексея Кондратьевича с «птенцами» пейзажной мастерской Константин Коровин случайно встретил его на одной из московских улиц — его вдруг кто-то окликнул: «Костенька!» «Перед ним стоял Саврасов, тот и не тот — теперь исхудавший, понурый богатырь, тревожно-неопределенный взгляд, бледное лицо, бросающаяся в глаза нищета одежды — рваная шляпа, грязная блуза с ярко-красным бантом с оборками на шее, старый плед на плечах, опорки. Болезнь художника, переросшая в регулярные тяжелые запои, все сильнее давала о себе знать.
Это было в марте, в первые весенние дни 1882 г., когда во всем чувствовалось приближение любимой Алексеем Кондратьевичем весны. И сразу же его бывший ученик отметил: что-то мрачное появилось во всем его облике. И все же учитель ласково, с улыбкой спросил его:
— Что, с вечерового домой идешь? Вот что, Костенька, пойдем. Пойдем — я тебя расстегаем угощу, да, да… Деньги получил. Пойдем…»[284]
Саврасов пригласил его в трактир, угощал, сам много выпивал, а потом сказал ученику: «Прощай, Костенька, не сердись… Не сердись — болен я. Я приду к вам, когда поправлюсь. Вот довели меня, довели…»[285]
Коровин писал об Алексее Кондратьевиче, воскрешая его образ в памяти: «…все, что он говорит, как от Бога. До чего я любил его!»[286]
Теперь Саврасов стал завсегдатаем не художественных салонов и выставок, а трактиров и питейных заведений. В Москве их было множество. Саврасов предпочитал те, что поскромнее, например, такие, где останавливались непритязательные извозчики. Подавали здесь водку, чай да требуху с огурцами, а вся трапеза стоила копеек 16, не больше. В центре города среди подобных трактиров известностью пользовались «Лондон» в Охотном Ряду, «Коломна» на Неглинной, а также трактиры в Брюсовском переулке, в Большом Кисельном, а самый востребованный — в Столешниках, где еще в середине XIX века можно было видеть не респектабельную публику и монументальные особняки, а «стада кур» да колоритного уличного пса у ворот, самозабвенно охранявшего вход во двор от бродяг.
В трактире людно, много пьяных, между которыми с тяжелыми кипящими чайниками на огромных подносах лавировали половые, совершая чудеса эквилибристики. Причем «чаевые» за свое искусство они, как правило, не получали. «Чаевые» нужно было еще заслужить за особые услуги, да и то две, максимум три копейки. Кто-нибудь из постоянных клиентов мог крикнуть: «Малой, смотайся ко мне на фатеру да скажи самой, что я обедать не буду, в город еду…»[287], и услужливый половой в любую погоду, через распутицу или по трескучему морозу, даже не накинув верхней одежды, мчался по указанному адресу, дорожа не столько двумя копейками, сколько своим местом в трактире. Такой стала новая действительность жизни Саврасова.
Для него позади остался период, связанный с училищем, остались только скупые строки «Формулярного списка о службе бывшего преподавателя пейзажной живописи УЖВиЗ Московского Художественного Общества Надвратного Советника Академика Алексея Кондратьевича Саврасова». Этот формулярный список, составленный в 1886 году, сухо и безучастно гласил: «…состоял в должности VIII класса… удостоен орденами Св. Анны 3 степени и Св. Станислава 3 степени. Жалование получал 600 р. Окончил образование в Императорской Академии художеств и был удостоен звания академика. Согласно прошению, поступил на службу Преподавателем УЖВиЗ…»[288] Безвозвратно пронеслось это время, надо было перелистнуть страницу и жить дальше, но горечь расставания с училищем все не отпускала Саврасова.
Он больше и больше пил, избавляясь в пьяном угаре от гнета неудач и видя миражи своего благосостояния, потом снова пытался вернуться к нормальной жизни, все еще пытался поправить свое материальное положение, но также оказывался во власти тяжкой болезни — во власти спиртного. Вновь и вновь просил о ссудах Общество любителей художеств в 1880, 1884, 1889, 1892, 1894 годах, ему случалось получать отказы, далеко не всегда выдавалась сумма, на которую художник рассчитывал. Так, 8 мая 1880 года он писал: «…На основании устава Общества Любителей Художеств имею честь покорнейше просить Г. Г. членов Комитета выдать мне под залог моей картины „Полночь“ 200 руб. Член Общества А. К. Саврасов». На письме была сделана пометка: «Картина продана до выдачи ссуды. Выдать сто рублей»[289]. Разве могла такая сумма исправить что-либо в жизни художника или его семьи, отдалившейся от него?
Вера и Евгения тяжело переживали разрыв родителей, но со свойственным юности оптимизмом предпочитали смотреть вперед и строить планы о своем счастливом будущем. Поскольку семья художника постоянно нуждалась, его дочери рано начали задумываться о необходимости зарабатывать и создать собственные семьи. Жизнь старшей из них — Веры — складывалась далеко не безоблачно. Однажды, вспоминая начало 1880-х годов, она, особенно нежно привязанная к Алексею Кондратьевичу, написала: «Мы стыдились своей бедности и поступков отца»[290].
Позднее Вера Алексеевна задавала сама себе уже другой вопрос: почему, если отец не мог достаточно заработать, не работала мать — зная три иностранных языка, она вполне могла преподавать, давать частные уроки? К тому же до замужества Софи успешно работала учительницей в частном пансионе. Брат Карл помогал ей материально, ежемесячно давал 50 рублей, но этого было недостаточно для решения финансовых проблем семьи. Может быть, если бы мать также заботилась о материальном достатке, удалось бы избежать крайней бедности, сохранить их семью, удержать отца от пагубной привычки, переросшей в неизлечимую болезнь? Вопросы оставались лишь вопросами.
С разрешения матери Вера уехала в Петербург пожить у своей тетки Аделаиды Карловны Бочаровой и попытаться поступить учиться на женские врачебные курсы при Военно-медицинской академии. В Петербурге выяснилось, что эти курсы уже закрыты, прием не ведется. Такова была реакция на усиление терроризма в России, прежде всего реакция на убийство императора Александра II, потрясшее общество. Вера Алексеевна после недолгих раздумий решила осваивать профессию акушерки, успешно начала учиться.
Она продолжала жить у Бочаровых, помогала по хозяйству тете, вместе с Михаилом Ильичом делала ажурные детали для макета очередной театральной постановки, которую он оформлял. К тому времени отношения в семье Бочаровых стали еще более сложными, чем прежде. Дети выросли, а отчужденность между супругами нарастала с каждым днем. Михаил Ильич постоянно был подавлен, замкнут, закрывшись в комнате, работал над эскизами. Вера, также чувствуя себя ненужной в семье родственников, с радостью стала помогать ему. Возникшая между ними взаимная симпатия переросла в глубокое чувство. Устав от бурных семейных сцен, Михаил Ильич ушел из семьи, поселился отдельно, а вскоре к нему перебралась Вера. Он предлагал ей уехать за границу и там обвенчаться, но молодая женщина не согласилась на это. Они остались жить в Петербурге, и в их семье воцарилась спокойная, доброжелательная атмосфера, которой уже давно так не хватало обоим.
Вера все так же посещала акушерские курсы, вела их скромное хозяйство, а в свободное время дома вырезала бумажные цветы, мастерила детали для макетов Бочарова. Пожилой художник словно помолодел лет на двадцать, вновь поверил в возможность семейного тепла, тихих радостей жизни, особенно когда у них с Верой родился мальчик. Но Вера Саврасова за новыми семейными хлопотами не забывала и о родителях, все чаще вспоминала отца, горевала о нем, и уже на собственном опыте лучше стала понимать ошибки матери, которая не смогла уберечь Алексея Кондратьевича от его болезни. Быстро текли дни, месяцы, годы. Счастье Веры и Михаила Ильича не было долгим, после тяжелой болезни, рака слепой кишки, М. И. Бочаров скончался в 1895 году, и его последняя заветная мечта не исполнилась — он не успел увидеть сына взрослым.
Вера Алексеевна, глубоко переживавшая новую утрату — к тому времени уже ушел из жизни ее отец, вняв уговорам сестры, наконец вернулась в Москву. Она должна была содержать и себя, и ребенка, ждать помощи было не от кого, и потому молодая еще женщина, не жалея себя, работала с утра до ночи. Пенсию, которая была назначена после кончины М. И. Бочарова, получала его законная жена, хотя вместе они не жили уже более десяти лет. Вера вновь очень остро чувствовала одиночество, вспоминала отца, понимая теперь по-новому, что пришлось ему пережить в последние годы после разрыва с семьей.
В своих рукописных воспоминаниях В. А. Саврасова так рассказывала о нем: «Отец не хотел учить меня рисовать, или лепить, находя, что художники обречены на полуголодное существование, даже имея талант. Этот взгляд оправдался на нем самом. В борьбе за существование он прямо изнемог, и, не имея со стороны семьи крепкой моральной поддержки, стараясь забываться от жизненных невзгод, он начал пить, погубил этим себя, свой талант, разрушил семью»[291]. Эти строки написаны ею не с гневной и осуждающей, скорее с жалостливой, сочувствующей интонацией к Алексею Кондратьевичу.
Вера Алексеевна вырастила единственного сына. В своем завещании она писала: «…Завещаю после моей смерти незаконнорожденному сыну моему Георгию Михайлову по крестному отцу Бочарову все деньги, каковые окажутся у меня в день моей смерти… Завещаю моему дорогому Юрочке более 500 рисунков, эскизов и этюдов красками, подаренных мне его отцом Михаилом Бочаровым на его воспитание. Если я умру, не успев дать сыну образование, то прошу в память его отца, сделать за меня то, что я не успела сама, доктора медицины Александра Павловича Куренкова и доктора медицины Ивана Александровича Чурилова… Сестру Евгению Алексеевну Павлову прошу позаботиться о воспитании ребенка…»[292]
Евгения, младшая дочь Алексея Кондратьевича, будучи еще совсем молодой дамой, успешно смогла выдержать экзамен на звание домашней учительницы, о чем гласило выданное ей свидетельство. «Дано сие девице Евгении Алексеевне Саврасовой в том, что она, как из представленных документов видно, подданная Российской Империи, дочь Надвратного Советника, родилась 2 ноября 1867 г., и крещена в веру христианскую Православного исповедания; образование получила домашнее. Вследствие поданного ею, Саврасовой, прошения о желании вступить в домашние учительницы и по рассмотрению представленных ею удостоверительных свидетельств, которые найдены удовлетворительными, допущена была к испытанию в Испытательном Комитете Московского Учебного Округа и оказала в русском языке хорошие сведения и, сверх его, в присутствии испытателей с успехом дала пробный урок: „Разбор отрывка из текста Остромирова Евангелия“. А потому ей, Саврасовой, дозволено принять на себя звание домашней учительницы с правом преподавать вышеупомянутый предмет…»[293]
Жизнь Евгении постепенно налаживалась, во многом благодаря ее терпению, трудолюбию, упорству, скромности. Она вышла замуж за олонецкого крестьянина, с которым прожила всю жизнь, сохранив доверие и уважительные отношения. В своем завещании Евгения Алексеевна оставляла все свое имущество мужу. 20 мая 1888 года у них родился сын Борис. В свидетельстве о его рождении говорится: «По указу Его Императорского Величества из Московской Духовной Консистории выдано сие в том, что в метрической книге Московской Ермолаевской, что на Садовой улице, церкви 1888 г… писано: мая 20 числа родился Борис, крещен 29-го числа, родители его: Олонецкой губернии Петрозаводского уезда… деревни Федоровской Государственный крестьянин Петр Петров Павлов и законная жена его Евгения Алексеевна, оба православного вероисповедания, восприемниками были: Коллежский Секретарь Димитрий Павлов Ищенко и дочь Надворного Советника девица Вера Алексеевна Саврасова, крестил протоиерей Сергий Модестов с причтом»[294].
В круговерти событий быстро пронесется время, и повзрослевший Борис успешно выдержит выпускные экзамены в реальном училище Воскресенского. Сохранился аттестат, выданный «крестьянину Борису Петровичу Павлову… в том, что он вступил в частное реальное училище Воскресенского в августе 1899 г., при отличном поведении, обучался и 2 июня 1905 г. кончил полный курс по основному отделению…»[295]. Это случится, когда его деда, знаменитого художника Саврасова, уже не будет в живых.
Вернемся в середину 1880-х годов. Алексея Кондратьевича Саврасова, постаревшего, оборванного, нередко теперь можно было видеть праздно идущим по Москве. Так шел он однажды морозным зимним утром по центру столицы. Древние кремлевские стены и золотые главы величественных соборов остались уже довольно далеко за его спиной, и, задумавшись, незаметно для себя художник оказался в хорошо знакомом ему Лаврушинском переулке. В этот ранний утренний час здесь было особенно тихо, безлюдно. Ночью выпал снег и теперь на морозце переливался кристаллами, весело скрипел под ногами, издали извещая о приближении человека. На стенах домов, мостовой, сугробах радостно играло солнце, как-то особенно нарядно посверкивали окна особняков.
Фигура престарелого художника являла разительный контраст этой картине. Саврасов едва шел, с усилиями переставляя, почти волоча ноги в старых полуразорванных ботах. На его плечах неровно свисал старый плед, шея была обмотана грязным шарфом. Художник низко склонял нечесаную седую голову, будто не мог выдержать бремя болезней, несчастий, унижений. Он посмотрел на дом Третьякова. О чем думал тогда? Наверное, о том, что давно пора платить за маленькую комнатенку, которую снимал последние месяцы, а платить снова нечем, о том, что обещал Павлу Михайловичу во время их прошлой встречи завершить очередной пейзаж, да так и не завершил — мешали недомогания, резко ухудшавшееся зрение, а главное, его пристрастие к спиртному. А как было бы хорошо все-таки завершить картину, удачно, свежо, как умел он это раньше, принести ее Третьякову и получить обещанный гонорар — полтораста рублей, зажить безбедно, в тепле, есть досыта, купить новые боты и теплое пальто, полечиться…
Но это — только мечты, а действительность его жизни контрастно отличалась от них. Он постоял напротив дома Третьякова в раздумьях, но так и не решился зайти. Зачем? Снова просить? Снова видеть обращенные к нему удивленно-жалостливые взгляды или неприкрытое порицание? Постояв несколько минут у порога, Саврасов ушел прочь, сгорбившись еще сильнее.
Часто престарелый художник шел по московским улицам куда глаза глядят, словно не видел или не хотел видеть окружающих, никого и ничего вокруг. Его замечали на Грачевке, Хитровке, Арженовке, Хапиловке и на Цветном бульваре — в очагах трущобного мира. Заходил он и в уголки старой Москвы. Иногда спускался на Самотеку, сливался с толпой. Здесь он однажды вновь встретил Костю Коровина, пригласил его в трактир, угостил, сам выпил. По мере продолжения разговора и возраставшего количества выпитого Алексей Кондратьевич впадал во все более мрачное настроение. В сердцах он сказал наконец бывшему ученику: «Всем чужие мы, и своим я чужой. Дочерям чужой… Куда? Куда уйти от этой ярмарки? Кругом подвал, темный, страшный подвал, и я там хожу…» Они вышли из трактира уже затемно, на углу блекло светил фонарь, и в его свете Константин Коровин еще раз увидел лицо учителя, искаженное то ли неровным ночным светом, то ли безысходностью горя. Через несколько минут понурая фигура Саврасова исчезла в темноте улицы.
На смену тьме пришел ясный воскресный день, и художник, не в силах оставаться на месте в жалкой комнатенке, которую снимал, вновь вышел на улицу, чтобы побыть немного рядом с людьми. Народ толпился повсюду. Шли с Сухаревки, многие — с приобретениями: самоваром или старой лампой, поношенной одеждой или изящными вазами. Один из оборванцев, тащивший тяжеленный мешок, толкнул старика-художника, но Алексей Кондратьевич даже и не заметил этого. Он свернул направо, на Цветной бульвар. Вновь остановился, чтобы перевести дух, и невольно залюбовался на деревья. В их еще пышной листве появлялось первое золото. Осень начинала ткать свой орнамент, будто напоминая ему о быстротечности времени и осени его жизни, надвигавшейся неумолимо, неизбежно, стремительно.
Появлялся Саврасов и в самом центре Москвы, словно пытался возвращаться туда, куда вернуться ему было не суждено. Уже со стороны бесстрастно смотрел на богатые особняки, на скульптуры, лепнину, позолоту, гранитные тротуары. Приходил неприкаянный художник на Дмитровку, одну из центральных дворянских улиц, издавна называвшуюся Клубной улицей, поскольку здесь располагались три клуба: Английский, Приказчичий и Купеческий. Здесь жили Долгоруковы, Долгорукие, Голицыны, Урусовы, Горчаковы, Салтыковы, Шаховские, Щербатовы, Мятлевы. Постепенно к ним присоединялось все больше купеческих фамилий: Солодовниковы, Голофтеевы, Цылаковы, Шелапутины, Хлудовы, Обидины, Ляпины. Купеческие сыновья любили шумные гулянья, становились завсегдатаями клубов, а после их посещений нередко неслись на лихих тройках по ухабам Тверской улицы с громким свистом и разудалыми песнями. Особенно «славился» своими буйными празднествами молодой купец Михаил Хлудов, образ которого писатель Островский отразил в пьесе «Горячее сердце». Однако никто из обитателей этих респектабельных домов не интересовал старика.
Оборванный художник забредал на Театральную площадь, в двух шагах от Дмитровки. Совсем рядом таинственно возвышался в пелене тумана Московский Кремль, рядом с которым всегда было оживленно, ярко горели фонари. Напротив, Театральная площадь, с величественным зданием Большого театра, оставалась тихой, поразительно безлюдной. Здание театра, восстановленное в течение трех лет после пожара 1853 года, поражало величавой гармонией и благородной простотой.
Но сама площадь являла разительный контраст торжеству здания театра. С четырех сторон она была огорожена пестрыми казенными столбами, сквозь которые был протянут канат. Таково было решение командующего войсками Московского военного округа, которое с рвением исполнялось. Гиляровский не без иронии замечал: «Удивительная площадь! Кусок занесенной неведомой силой мертвой тундры с нетронутым целинным снегом, огороженной казенными столбами и веревкой! Тундра во всей целомудренной неприкосновенности. И это в то время, когда кругом кипела жизнь, гудел всегда полный народа Охотный ряд, калейдоскопом пестрел широкий Китайский проезд, и парами, и одиночками, и гружеными возами, которые спускались от Лубянской площади, упирались в канат и поворачивали в сторону, то к Большому театру, то к Китайской стене, чтобы узким проездом протолкнуться к Охотному ряду и дальше»[296].
Также вместе с толпой и обозами продвигался Алексей Кондратьевич. Он шел и шел, не разбирая дороги, бесцельно, иногда падал, поднимался, снова устремлялся вперед нетвердой походкой и в полуденное время, и под опускавшийся занавес ночи. Время от времени, очнувшись от горьких дум, мутным взором обводил все вокруг, прислонялся к дереву, чтобы передохнуть, и неспешно шел дальше, в туман, в темноту, в горе, в никуда, будто пытаясь уйти от боли обид и разочарований. Они все не отпускали, настигали его, с неимоверной силой ранили душу, наваливались неподъемной ношей на плечи. Саврасов продолжал идти…
Постепенно стихала, словно таяла, многоголосая толпа. Алексей Кондратьевич снова становился свидетелем погружения древней столицы в сон. В праздничные вечера Москва особенно долго не затихала, волновалась и шумела среди прочих Трубная площадь. «Разгулявшаяся толпа еще долго волновалась, как глубокое море после стихнувшей бури. Удалые песни неслись далеко, далеко, раздаваясь по городу вместе с грохотом барабанов и пронзительным свистом полковых дудок. Но надвигалась ночь, и площадь начала редеть, затихал и шум. Только в походном ресторане под отрывочное трыньканье балалайки и нескладную игру на гармонике слышалась разудалая песня…
Наконец и совсем стемнело… Пьяных было много. Иные плясали на ходу, других же, совсем ослабевших, вели товарищи. Петрушка с цыганом, квартальным и доктором валялись на земле, как будто отдыхали, утомленные трудами дня, а хозяин их сидел на ящике, освещенный сальным огарком, и считал медную выручку…
Наступила ночь. Все стихло. По опустелой площади рыскали голодные собаки, набежавшие со всех сторон, да бродили какие-то тени: то были полицейские, стаскивающие в кучу упившихся до зела…»[297]
Иногда он стремился уйти от уличной суеты, побыть наедине с любимой им с детства природой. Нередко направлялся в Сокольники, не как раньше — воодушевленно, с красками и картонками для этюдов в окружении учеников, но понуро, одиноко, будто крадучись. Наконец он оказывался среди тихих аллей парка. Над ним шатром смыкались ветви старых деревьев, шептали осенней листвой, словно успокаивая, утешая художника. Он все шел и шел, сворачивал на извилистые тропинки, не замечал луж под ногами. Всей грудью вдыхал влажный воздух, упоительно насыщенный запахом листвы и прелой сосновой хвои, прикасался к шероховатым стволам, будто с деревьями делился своими горестями, и ему казалось, что становится легче на душе, что сама земля вбирает часть его горестей и болезней.
Он начинал смотреть вокруг прежними глазами — глазами истинного живописца, поражался насыщенности разноцветной сентябрьской листвы, отмечал сложно-витиеватый ритм ветвей и восхищался зыбкостью отражений в лужах. Дождей прошло столько, что вода стояла даже на земле, образуя в низинах подобия небольших прудов. На их глади трепетали отражения стволов, разноцветных листьев, плывущих по небу облаков. Они казались художнику призрачно-реальными, словно сказочная быль и небыль, словно поэтичные сказания народных легенд, словно мерцающий за пеленой столетий образ града Китежа. Ему хотелось, как прежде, взять холст, краски, любимые кисти. Хотелось не спеша поработать над этюдами — наметить рисунок едва заметными линиями, быстро, размашисто сделать подмалевок, а потом внимательно, вдумчиво, неравнодушно писать и писать — лепить форму, передать пространство, проработать каждую деталь: фактуру коры, изгибы тропок, рисунок травы. Он хотел написать так, чтобы каждый зритель вместе с ним мог почувствовать все необъяснимое очарование родной природы. И ему действительно удавалось это сделать, пусть нечасто и с немалыми усилиями, но все же удавалось даже в поздних работах, несмотря на душевную боль, усталость, резко падающее зрение.
Пожилой художник предпочитал отныне оставаться не только вне толпы, вне суеты, вне будней и праздников, но уже часто и вне людских стремлений, надежд, дерзаний. Приближались сумерки его жизни — холодные, безрадостные, одинокие. История Саврасова, во многом трагическая, не являлась исключением, но, скорее — характерным, щемящим примером судеб художников, испокон веков и поныне. Легко ли складывался творческий путь, особенно в последние годы, у А. А. Иванова, Н. В. Неврева, В. В. Пукирева, В. Э. Борисова-Мусатова, Л. И. Соломаткина и тысяч других, менее известных авторов?
В бедности и одиночестве завершалась жизнь друга, коллеги Саврасова Каменева, о котором К. Коровин писал с сочувствием, как о седом, понуром старике, который ходил с трудом, а из его глаз не исчезало выражение тоски и душевной боли. Он, как и Алексей Кондратьевич, стал нелюдимым, старался избегать общения, жил один да и не хотел ничего уже менять в своей жизни, хотя Константину Коровину всегда был рад и от души делился с ним своей скромной трапезой — ватрушками с чаем. Однажды они заговорили о Саврасове, и Каменев, сетуя на бездушие публики и предвзятость знатоков, с досадой произнес: «Какие же им картины нужны? Саврасов написал „Грачи прилетели“. Ведь это молитва святая. Они смотрят, что ль? Да что ты, Костя, никому не нужно…»[298]
Словно именно такую жизнь и творческую судьбу, во многом созвучную судьбе Саврасова, напророчил будущему пейзажисту еще в детстве дед Константина Михаил Емельянович Коровин. Каменев работал у него в конторе, увидев его талантливо написанные натурные пейзажи, убедившись в неподдельной страсти подростка к искусству, Михаил Емельянович дал ему пять тысяч рублей для поступления в Санкт-Петербургскую Императорскую Академию художеств и напутствовал. Его слова могли быть адресованы многим и многим молодым живописцам, в том числе и Саврасову: «…Учись, но знай — путь твой будет тяжел и одинок. Знай… много горя хватишь ты. Мало кто поймет и мало кому нужно художество. Горя будет досыта. Но что делать. И жалко мне тебя, но судьба, значит, такая пришла. Ступай»[299].
Прав был Михаил Емельянович, и не только по отношению к судьбе Каменева, не только в оценке своего поколения и господствующих нравов, но, как показывают многие примеры, в отношении художников в целом, разных народов, разных эпох. Сполна хлебнул этой горькой доли Алексей Саврасов.
Проходя по московским переулкам, как-то раз, в уже ставшем привычном для него нетрезвом состоянии, он едва не столкнулся с Исааком Левитаном. Измученное лицо Алексея Кондратьевича засветилось радостью. Они зашли в ближайший трактир, посидели молча. Эту встречу и слова несчастного своего учителя молодой художник запомнил на всю жизнь, так же как его уроки. Обоснованно сопоставление их живописи с пейзажными картинами в русской литературе той эпохи: образов Саврасова и Тургенева, Левитана и Чехова. Тургеневу принадлежат такие стихотворные строки:
Поля просторные, немые Блестят, облитые росой… Молчит и млеет лес высокий, Зеленый, темный лес молчит.В «Записках охотника» он создает не менее убедительный и сильный образ начала грозы уже в прозе: «Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями». Следующее высказывание Чехова было бы близко и Саврасову, и Левитану: «Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать…» Антон Чехов, друг Исаака Левитана, так же как он переживал пейзаж, окрашивал его своими эмоциями и думами, создавая в своем творчестве образцы живописи словом, как, например, в строках рассказа «Мужики»: «На зеленых кустах, которые смотрелись в воду, сверкала роса. Повеяло теплотой, стало отрадно. Какое прекрасное утро! И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, от которой нигде не спрячешься».
В конце 1880-х годов Саврасов по-прежнему писал пейзажи, по-прежнему часто бывал в центре Москвы. Однажды недалеко от Училища живописи он вновь повстречал Константина Коровина. Они разговорились. Константин искренне сочувствовал наставнику, а потом и сам стал жаловаться ему, что многие не признают, не понимают его этюдов, его раскованной живописной манеры пастозными мазками, передающей образ, настроение. Горячо, сбивчиво молодой художник говорил, словно оправдываясь, защищаясь от суровой критики: «А я доныне доброе имел спеть людям — песню о природе красоты»[300].
«Все тогда были против нашей, вольной, живописи. Опечаленный я встретил Саврасова. Он сказал с горечью: „Что делать?“ И когда после, спустя несколько месяцев, я был болен, он пришел навестить меня. Стояла зима, а на нем было летнее пальто и плед на плечах. Огромная фигура его и большие руки вылезали из короткого пальто. Он был грустен и подавлен. „У тебя есть гривенник?“ — спросил он меня. „Есть“. — „Дай, я пойду за водкой“. Он принес бутылку водки, хлеб, соленые огурцы и, выпивая, говорил мне: „Костя, пей… Трудно… Ведь так мало кому нужен художник…“»[301].
В 1880-е годы Алексей Кондратьевич пытался работать по-прежнему много, но болезнь все сильнее порабощала его. Летом и осенью до середины октября 1882 года Саврасов один жил в деревне Давыдково, в крестьянской полузаброшенной избе. В старом доме было холодно и сыро, не было дров, крыша протекала. Он решился обратиться к П. М. Третьякову, с которым его связывали долгие годы дружбы. Алексей Кондратьевич знал — Третьяков не откажет. Собравшись с духом, 13 октября он написал, обращаясь к своему покровителю: «Вам многое известно из моей жизни, и я, может быть, в последний раз утруждаю этим письмом Вас…» Далее Саврасов сообщал, что приготовил к Передвижной выставке семь картин, но должен их закончить, и пояснял: «…я не имею средств устроить мастерскую в Москве и живу в деревне в холодной избе… Не можете ли Вы мне помочь в этом, мне для этого достаточно будет 200 р… Павел Михайлович! Вы неоднократно делали мне одолжения, не откажите мне в моем последнем желании, я пишу это письмо, находясь в самом крайнем денежном положении, и подательница этого письма уполномочена мною лично объяснить»[302].
К подобным прошениям художнику приходилось прибегать далеко не один раз, не могло такое прошение стать последним при установившемся образе жизни.
Однако Саврасов не утратил способности восхищаться природой. Как и в молодости, ему было необходимо «общаться» с лесом, лугами, травами, он мог бродить и бродить бесконечно по подмосковным холмам и лесам. И та же природа была подобна крепости, пристанищу, словно защищая от горестей и напастей, утешая, возвращая желание жить, работать.
Летом 1882 года Алексей Саврасов часто приходил на закате к берегу Москвы-реки у деревни Строгино. Однажды он встретился здесь и разговорился с подростком, в будущем известным гравером Иваном Николаевичем Павловым, который навсегда запомнил эту встречу с пейзажистом, показавшимся ему немощным стариком, хотя на самом деле Саврасову было 52 года.
Павлов впоследствии писал об этом: «В Строгине у меня произошло интересное „знакомство“. Вечерами на высоком берегу Москвы-реки я часто видел лежащим некоего старика в длинной серой блузе, с седой бородой. У заворота русла, неподалеку прилетала цапля и подолгу стояла на одной ноге. Меня сильно занимал этот старик, и я как-то спросил его:
— Что же ты тут, дедушка, делаешь?
— Я, милый, — отвечал он, — наблюдаю природу… Природу… понимаешь ты? После я напишу картину…
— А кто же ты будешь? — все любопытствовал я.
— Я художник Саврасов… Учись и ты наблюдать природу… Подрастешь, нарисуй картину таким же способом, как и я…» Вероятно, во многом благодаря этой встрече Павлов увлекся искусством.
Кончилось лето, подходила к концу и осень. Саврасов вернулся в Москву, ютился по углам, скитался и сильно тосковал о потере семьи. Особенно тяжело переживал он разлуку с дочерьми, которых всегда сильно любил, тревожился о их судьбе и корил себя, что уже ничем не может им помочь, стыдился самого себя, а потому виделся с ними редко и кратко. Время от времени он навещал Софью Карловну, приносил ей кое-какие подарки, когда мог это себе позволить. Однажды пришел, держа небольшую вазу в руках. Бывшая жена приняла подарок, но как-то недоуменно посмотрела — зачем ей эта ваза? Да и к чему вообще подарки, когда все уже перечеркнуто в их совместной жизни?
10 марта 1884 года он уже далеко не в первый раз обращался в Комитет Общества любителей художеств, членом которого по-прежнему состоял, с просьбой о ссуде в 200 рублей. Сохранилось одно из таких прошений, написанное на небольшом неряшливом листке бумаги будто обрывающимся почерком, неровный ритм которого отражал ритм его жизни и душевные переживания.
Левитан, не раз навещавший своего учителя, однажды после перерыва пришел в дом, где снимал комнату Саврасов, и увидел, что вместо привычной таблички у входной двери «Академик Алексей Кондратьевич Саврасов» криво висит на одном гвозде засаленный обрывок картона, на котором нетвердой рукой выведено «Алешка Саврасов». Сердце Левитана сжалось — он узнал почерк наставника. Все-таки решился постучать. Ему открыла хозяйка квартиры, сказала, что Саврасов уже несколько дней не появлялся, неизвестно, где бродит, а искать его следует в окрестных трактирах, где всегда полно художников. Дверь с грохотом захлопнулась, а Исаак Левитан в растерянности все продолжал стоять на пороге.
Однажды он встретился с Алексеем Кондратьевичем в гостях у художника Сергея Ивановича Грибкова. Левитан пришел сюда не случайно, хотел представить на суд учителя свою завершенную картину «Сжатое поле». Ее смотрели и Саврасов, и хозяин дома, оба дали высокую оценку, а Грибков даже воскликнул: «Ученик превзошел своего учителя!» Настроение полотна действительно было созвучно ряду произведений Алексея Кондратьевича, характерно для его пейзажной мастерской в училище и уже наполнено тем индивидуальным звучанием, которое найдет продолжение в зрелом творчестве Исаака Левитана. В стихотворении, ему посвященном, о подобном настроении его картин поэт А. В. Каменский-Липецкий писал:
Золотые березки, осины, Безымянная тропка, изба, Сквозь бревенчатые морщины Глядящая, как раба; За околицей титла-вереи Кто разумник, по ним прочтет, — Почему небо скуки серее, Оборвал ветер полы ворот.Получив одобрение наставника, Левитан без тени сомнений выставил завершенный пейзаж на конкурс, но понимания комиссии не нашел. При следующей встрече с учителем, также в доме Грибкова, у которого Саврасов жил какое-то время, Исааку пришлось рассказать о неудаче. Наставник стал расспрашивать своего бывшего ученика, как приняла комиссия его итоговую работу, а узнав, что полотно «Сжатое поле», задуманное под его руководством, отклонено, автор «Грачей» сразу замолчал, нахмурился. Узнав о неудаче ученика, посидев молча какое-то время и обдумав произошедшее, Саврасов обратился к Грибкову с требовательной просьбой: «Налей-ка мне водки!» Изгнанный пейзажист понимал, что в училище так выразили протест прежде всего против него, против его, «саврасовских», методов работы, его системы преподавания, его взглядов на задачи отечественной пейзажной живописи. А дороги обратно уже не было, и помочь ученику он был не в состоянии. Академик Алексей Саврасов, некогда известный и авторитетный, теперь был изгнан, полузабыт, его слово уже ничего не решало, да и показываться в училище на Мясницкой не было никакого смысла — только получать новую порцию косых взглядов, унижений, только еще больше растравлять себе душу. И выход, и забвение он для себя видел отныне в одном:
— Налей водки! Сейчас же налей! — снова властно, требовательно почти крикнул он Грибкову.
Другого утешения художник для себя не находил. Подобные случаи происходили с ним все чаще. Он пребывал в трактирах, скитался. Сначала снимал отдельные комнаты в центре столицы, потом — ближе к окраинам, позже перебрался в мансарды да на чердаки. Сменился круг общения старика. Все реже он напоминал о себе прежним знакомым, стыдился себя, но, как казалось ему тогда, уже ничего не стоило менять. Для кого, для чего менять? Подводило здоровье. Особенно беспокоило Алексея Кондратьевича стремительно ухудшающееся зрение. Что может быть страшнее для художника, чем надвигающаяся слепота, беспощадная и неотступная, словно смертный приговор?
Душевную боль и разочарования заглушало только спиртное, и то на короткое время. Саврасов нередко уходил в подмосковные рощи, леса, любил проводить время в одиночестве на берегах извилистых речек да смотреть в спокойные луговые дали и в небо. Часто, когда было еще не слишком холодно, так и оставался ночевать на берегу или на опушке леса, или на стоге свежескошенного сена, и тогда наедине с природой еще острее ощущая свою тоску. Но постепенно она переходила в созерцание, отрешенность, успокоение не в земной жизни, близящейся к закату, но в Боге, которого он познавал через одухотворенность природы, через величие мироздания.
В рассказе Н. Д. Телешова «Домой» речь идет о бездомном мальчике Семке, который однажды повстречал такого же, как Саврасов в последний период жизни, никому не нужного, неизвестного старика. Вместе с ним мальчуган разжигал костер, грелся у огня и здесь же уснул. «Было раннее серое утро, когда он открыл глаза. По небу тянулись тучи, холодный ветер налетал порывами на потухший костер и, выхватив кучку золы, со свистом разносил ее по полю… Неизвестный, свернувшись в комок, лежал на земле… Ветер свистел, раздувал золу; по черным головешкам шуршали обгорелые ветки, и все поле, казалось, шуршит и стонет. Становилось жутко.
— Дедушка! — крикнул Семка, но голос его против воли отнесло ветром в другую сторону».
Через пейзаж очень сильно и тонко, подобно тому как Саврасов красками, писатель передает ощущение бесприютности, одиночества, безнадежности, которое почти постоянно сопутствовало теперь жизни Алексея Кондратьевича.
Саврасов пока еще писал на заказ, поспешно, без былой взыскательности, нередко трясущимися руками, неверно накладывая мазки, не попадая в тон и цвет, не прорабатывая детали. Он писал небольшие холсты по несколько штук, словно штамповал их, торопился — побыстрее бы да побольше продать. Такие работы он часто относил на Сухаревский рынок знакомым букинистам и торговцам картинами.
— Подпишите картинки-то. Покупатель нынче взыскательный пошел, анонимов не берут.
Саврасов морщился, но покорно выводил две буквы — «А. С.» и комментировал в сердцах: «Сухаревский товар иначе не подписываю!» — отворачивался от всех, низко опускал голову, словно прятался, и поспешно уходил.
Однажды в один из беспросветных своих периодов, сквозь моросящий дождь и слякоть талого снега Саврасов добрел до одного из торговцев, чтобы предложить ему новую партию товара.
— Не надобно, прежние еще не проданы.
— Но хотя бы немного возьми. У меня сегодня моря, — просил престарелый пейзажист.
— Плохи ваши моря, Алексей Кондратьевич — не продаются.
— Тогда дай полтинник, — не унимался художник.
— Никак не могу.
— Дай хотя бы пять копеек, в трактир же идти совсем не с чем, в долг уже не дадут!
— Возьмите и уходите быстрей! Не задерживайте!
Алексей Кондратьевич копейки взял, не нашелся, что ответить, только рукой махнул и неверной походкой заковылял прочь, едва не теряя грязные опорки. Такие сцены становились для него все более привычными, неизбежными. Потому и стали называть несчастного художника за глаза «копеечным Саврасовым».
Но иногда, в какие-то недолгие светлые свои дни, на время забыв о пагубном пристрастии, Алексей Саврасов, как прежде, создавал поистине высокохудожественные произведения, которые в наши дни имеют заслуженное признание: «Рожь» (1881), «Ночка» (1883), «Весна» (1883), «Пейзаж с церковью» (1885), «Зимний пейзаж» (1880–1890-е), «Новодевичий монастырь» (1890).
Как правило, критики не жаловали вниманием эти произведения, поскольку на них, как и на всем позднем творчестве Саврасова, лежал, по их мнению, штамп заката таланта, безвкусия, ширпотреба. Так ли это? Во многом — нет, и лучшим тому подтверждением являются тонкие, проникновенные, то светлые, то щемящие грустью последние пейзажи Саврасова, созданные за три-четыре года до кончины: «Весна. Огороды» (1893) и «Распутица» (1894). Эти две работы по своему состоянию, цветовому строю, композиционным акцентам контрастны, как периоды, события его жизни, где светлые полосы радостной весны порой неумолимо и жестоко сменялись бурями, трагедиями, отчаянием жизненной распутицей, из которой так сложно было выбраться художнику, невозможно было найти твердую почву под ногами, опору в семье, друзьях или учениках.
По уровню исполнения живописным произведениям Саврасова часто не уступают и его графические работы. Ныне эти произведения, принадлежащие многим российским музеям и частным собраниям, позволяют более объективно оценить его творчество позднего периода — 1880–1890-х годов — и сказать о том, что, несмотря на все беды, Саврасов оставался истинным художником, вдохновенным, искренним творцом, певцом природы. «В круг поздних работ вошли живопись в ее лучших и типичных для этого периода образцах, и рисунок, более доступный тогда художнику и, может быть, не менее, чем живопись, выразительный. Причем и то и другое при всем их своеобразии позволяет говорить не только о чем-то утраченном художником, но и о том, что пришло на смену и образует теперь, в свою очередь, поэтическую ткань создаваемых Саврасовым пейзажей, часто воспроизводящих возникшие в воображении мотивы, подобные картине „Ночка“ (1883) или рисунку „Лунная ночь над озером“ (1885)»[303].
Алексей Кондратьевич сильно изменился: отставной надворный советник, некогда преуспевающий художник, а ныне сгорбленный старик в нищенских одеждах продолжал писать картины до последних месяцев. Он постоянно бедствовал, часто безуспешно пытался найти заработок. В 1885–1886 годах сотрудничал с журналами «Радуга» и «Эпоха». А. П. Ланговой писал, что в его собрании находились три рисунка Саврасова, выполненные на papier pelle для журнала «Радуга», издававшегося Метцелем[304].
Алексей Кондратьевич продолжал скитаться, бесконечно ходил по московским улицам и как-то особенно остро стал воспринимать их различия, всю «мозаичность» Москвы. Кипела жизнь в ресторанах «Яр» и «Стрельна», веселились завсегдатаи в окружении цыганского табора. На углах маячили темные фигуры городовых, от которых старый оборванный художник старался держаться подальше.
По вечерам в московских сумерках раздавались протяжные гудки заводов и фабрик — это была уже совсем иная Москва, трудовая, усталая, бедная. Серый людской поток тек к заводским воротам, тек изо дня в день и из ночи в ночь, сумрачно, однообразно, обреченно. Какой контраст представляли эти образы с респектабельным центром столицы, с улицами, заполненными изысканными экипажами, богатыми особняками потомков древних дворянских родов и преуспевающих банкиров, адвокатов, чиновников!
И снова разительный контраст — Хитровка, ее особый мир, для которого законы не писаны, точнее, здесь не признавались официальные законы, а жизнь хитровцев подчинялась правилам воровского, уголовного, бродяжьего сообщества. Была известна Саврасову не по рассказам и Москва притонов, грязных ночлежек, зловонных трущоб, мрачных переулков, но от такой жизни он пытался бежать, спасаться, старался всеми последними оставшимися у него еще силами не увязнуть окончательно в ее «трясине». И снова, как всю жизнь, начиная с отроческих лет, помогало ему в этом искусство, его желание и умение служить ему.
В 1887 году Саврасова приютила поклонница его таланта Вера Ивановна Киндякова, проживавшая в Большом Николаевском переулке на Арбате. Здесь он имел возможность спокойно работать, на какое-то время, как прежде, посвятить себя творчеству. Так продолжалось несколько месяцев. В новой мастерской после значительного перерыва он написал две значительные картины: «На реке. Вечер» и «Вид на Москву из Волынского». Саврасов искренне радовался, что смог вырваться из трущобной жизни. Оказалось, что Вера Ивановна, давно его знавшая, не переставала помнить о художнике, старалась что-то узнать о нем, разыскать, но сделать это было крайне сложно, поскольку Саврасов часто менял адреса, а порой, бродяжничая, не имел никакого адреса.
Наконец один из знакомых Киндяковой смог по ее просьбе разыскать Алексея Кондратьевича и передал ему просьбу прийти к Вере Ивановне на Арбат. Художник не заставил себя просить дважды и уже через несколько дней благодаря своей покровительнице имел теплую и светлую комнату, новую одежду, хороший стол и возможность заниматься живописью. В тот период Саврасов писал с редким воодушевлением, на какой-то миг почувствовал себя прежним — талантливым, плодовитым пейзажистом, и созданные картины вполне подтверждали такую самооценку. Например, в лестных словах о них отзывался критик В. Сизов в статье, посвященной поздним картинам Алексея Саврасова.
Но светлые дни являлись скорее исключением для Саврасова. Он снова и снова погружался в болезненное состояние, покидал временные пристанища, проводил время в кабаках за бутылкой водки, которую любил закусывать клюквой. Опять оставался без средств. Дельцы заказывали ему пейзажи или росписи, которые он делал за гроши, и это только усугубляло болезнь — полученные скудные средства он оставлял в трактирах. Справедливо замечание одного из его современников: «…Этот маститый художник не кончил бы так печально, если бы меценаты спасли его от необходимости пить и многие из них не пользовались тем, что у пьяного (больного) и бесприютного человека можно купить вещь за гроши»[305].
Все чаще его именовали — «грошовый, копеечный Саврасов». То, что он писал, нередко и не стоило большего. Сохранились его этюды небрежно, непрофессионально выполненные. На них едва переданы, только намечены несколькими неряшливыми ударами по холсту торцом кисти одной и той же темно-зеленой краской сосны или ели, а фигуры людей исполнены силуэтами чистыми белилами, но в то же время создавал он и совсем другие произведения — профессиональные, многодельные, глубоко пережитые, неоднозначные в своих трактовках.
Работая по памяти, он возвращался к весенним мотивам, предшествующим им состоянием оттепели в конце зимы.
На его пейзажах варьируется мотив дороги, воспринимающийся символично, как, вероятно, воспринимался этот мотив и самим автором.
Бесцельно бредущий куда-то шаркающей походкой Саврасов вдруг останавливался, оглядывался вокруг. Небо над ним становилось все сумрачнее. Он стоял на какой-то тихо-невзрачной улочке окраинной Москвы, толком и не помнил, как и зачем забрел сюда. Вокруг — смятенно-тревожный пейзаж, зыбкий, тающий образ оттепели конца февраля, с плачущим небом, сугробами, доживающими последние дни, коричневатыми лужами и дрожащими в них отражениями старых домов. Над ними — стаи ворон да пронизывающие порывы ветра, бесприютной сыростью окутывающие душу художника. «Февраль — достать чернил и плакать…» — через полвека напишет Пастернак. Но разве это и не о Саврасове тогда, в последние годы жизни? И разве не о многих и многих других? Алексей Кондратьевич вздрогнул, будто только сейчас почувствовав холод, запахнул легкое, до предела изношенное пальто и неверной походкой снова пошел — искать свой кров, душевное отдохновение, радость утраченной весны… Но можно ли их найти?
Ему помогали тогда многие, не только друзья, но нередко и едва знакомые люди. Одним из них оказался Владимир Алексеевич Гиляровский, который всего несколько раз встречался с Саврасовым, но эти встречи произвели на писателя исключительно сильное впечатление, о чем он рассказывал в очерке «Грачи прилетели», посвятив его Алексею Кондратьевичу.
Гиляровский писал о том, как однажды, рядом с Румянцевским музеем, он столкнулся с художником Н. В. Невревым, который предложил ему зайти к Саврасову, жившему здесь же, неподалеку, вместе с ним позавтракать в «Петергофе». Писатель не был тогда знаком с Алексеем Кондратьевичем, «но преклонялся перед его талантом. Слышал, что он пьет запоем и продает по трешнице свои произведения подворотным букинистам или украшает за водку и обед стены отдельных кабинетов в трактирах». Неврев рассказал Гиляровскому, что «друзья приодели Саврасова, сняли ему номер, и вот он уже неделю не пьет, а работает на магазины этюды…»[306].
Когда В. А. Гиляровский и Н. В. Неврев вошли в комнату, где не оказалось хозяина, Владимир Алексеевич в восторге замер перед мольбертом, на котором стоял еще не оконченный, но уже чарующий тонкостью исполнения и достоверностью пейзаж. Писатель вспоминал о том впечатлении: «Свежими, яркими красками заря румянила снежную крышу, что была передо мною за окном, исчерченную сетью голых ветвей берез с темными пятнами грачиных гнезд, около которых хлопочут черные белоносые птицы, как живые на голубом и розовом фоне картины»[307].
Неврев также восхищался картиной, но рассказать об этом автору им не удалось. Алексей Кондратьевич спал, и не представлялось возможным разбудить его. Гиляровский увидел за перегородкой, где сильно пахло винным перегаром, лежащего на кровати человека высокого роста, с седыми волосами и бородой, что напомнило ему облик библейских пророков. На столе стоял характерный натюрморт — две пустые бутылки из-под водки, чайный стакан, беспорядочно разбросанные бусины яркой клюквы, словно россыпь его потерь и горестей. Неврев грустно добавил: «Делать нечего. Вдребезги. Видишь, клюквой закусывает, значит, надолго запил… Уж я знаю, ничего не ест, только водка да клюква». Он вынул из кошелька и положил на стол два двугривенных, пояснив: «Чтобы опохмелиться было на что, а то и пальто пропьет»[308]. Таков был недуг художника, которым страдали и страдают многие в России. Вбирая в свою чуткую душу лик, жизнь Отечества, Саврасов словно не мог не пережить и эту боль, и этот разгул народа, и это страдание. Его душе близки были тогда настроения Сергея Есенина, пронзительность его строк: «Что ж вы ругаетесь, дьяволы? / Иль я не сын страны? / Каждый из нас закладывал / За рюмку свои штаны…»[309]
Многие, в том числе и П. М. Третьяков, и художник Грибков, старались помочь Саврасову — давали кров, одежду и обувь, но тот, проводя какое-то время в гостеприимном доме, вновь уходил в свою неприкаянность, одиночество, болезнь, словно не только не мог, но и не хотел вырваться из нищеты и подвластности алкоголю. Грибков, касимовский мещанин, выпускник Училища живописи, расписывал храмы, имел в Москве просторную мастерскую, где в его учениках состояли всегда несколько подростков. Он, полузабытый в наши дни художник, помогал многим, являлся в своем роде меценатом и пользовался широкой известностью в определенных кругах.
Его обширный двухэтажный дом населяла беднота — прачки, мастеровые, провинциальные живописцы. С них Грибков не взимал никакой платы, к тому же квартиры сам ремонтировал, его ученики белили потолки и красили стены. Он устраивал популярные вечеринки для молодежи, на которых много танцевали, звучали гитара и гармонь, не допускались спиртные напитки, зато чая, пряников и орехов всегда было вдоволь. Иногда на вечера к Грибкову заходили его друзья-художники: Неврев, Пукирев, Шмельков, а Саврасов мог жить у него месяцами. Такое отношение к обездоленным друзьям присуще Сергею Грибкову, жизнь которого дает редкий образец сострадания и самоотверженности.
Известно, что он помогал Невреву, Шмелькову, каждому по-своему. Поддерживал Пукирева, когда того разбил паралич: Грибков посылал ему каждый месяц 50 рублей. Известный художник, автор картины «Неравный брак», жил тогда в скромной квартирке на Пречистенке. Общаясь с другом, вспоминая его знаменитое полотно, Грибков не мог не вспоминать о трагедии его жизни, отображенной в картине, где Пукирев изобразил свою невесту, выходящую замуж за старика, и свой автопортрет — образ господина справа со скрещенными на груди руками. Сколько человеческих драм и трагедий находили отклик в душе гостеприимного художника!
Саврасов появлялся в доме Грибкова всегда внезапно, оборванным, порой в рубище. Входил нерешительно, покачиваясь. Но хозяин сразу же приглашал друга к себе в кабинет, а потом кто-нибудь из учеников сопровождал его в баню у Крымского моста, откуда Саврасов возвращался чистым, постриженным, одетым в костюм хозяина. По вечерам зачастую к ним приходили и другие живописцы. Все пили чай со сладостями, много говорили, смеялись.
Саврасов иногда оставался жить у Грибкова на несколько месяцев. В таком кругу Алексей Кондратьевич чувствовал себя среди своих, спокойно и отрадно становилось у него на душе. Он любил подолгу неподвижно сидеть в глубоком кресле в углу гостиной. Задумчиво смотрел в окно, думая о чем-то, словно пребывая только в своем мире, которым не хотел делиться с окружающими. Пейзажисту нравилось понаблюдать за гостями, особенно отрадно ему было видеть веселящуюся и танцующую молодежь — учеников Грибкова, которые напоминали старому художнику о своих учениках пейзажной мастерской.
Спокойно и отрадно для пожилого пейзажиста проходили месяцы в доме друга, пока он вновь неожиданно не исчезал, не в силах отказаться от спиртного, вновь жил в притонах, рисовал для трактиров за водку с закуской, а Грибков тревожился о нем и всегда был рад принять вновь. Он был по-своему уникален, прежде всего своей отзывчивостью, расположенностью к обездоленным людям. Пример его общения с Саврасовым далеко не единичен. Когда Сергей Иванович скончался, хоронили его друзья — в доме Грибкова не удалось найти ни гроша.
Подобные факты рассказывал и владелец эстампного магазина «Ницца». Там В. А. Гиляровский однажды увидел знакомый этюд, когда-то поразивший его в номере на Моховой. Отвечая на его расспросы, хозяин «Ниццы» многословно объяснил, что это — авторское повторение первого произведения — «Грачей». «Та картина давно продана, но Алексей Кондратьевич делает повторения. Да это уж далеко не то. Совсем старик спился… Жаль беднягу. Оденешь его — опять пропьет все. Квартиру предлагал я ему нанять — а он свое: „Никаких!“ — рассердится и уйдет. Как раз вчера писал у меня. Есть еще такие повторения, и неплохие. В прошлом году с какой-то пьяной компанией на „Балканах“ сдружился. Я его разыскивал, так и не нашел… Иногда заходит оборванный, пьяный или с похмелья. Но всегда милый, ласковый, стесняющийся. Опохмелю его, иногда позадержу у себя дня на два, приодену — напишет что-нибудь. Попрошу повторить „Грачи прилетели“ или „Радугу“. А потом все-таки сбежит. Ему предлагаешь остаться, а он свое: „Никаких!..“»[310].
Скитаясь, Саврасов нигде подолгу, как правило, не задерживался. В 1889 году он жил в одном из домов на Плющихе. Словно крик о помощи звучит его письмо от 17 октября 1889 года, найденное на чердаке этого дома в 1903 году. В начале письма художник написал слово «Просьба» и поставил многоточие. «В Комитет Общества Любителей Художеств от Академика Саврасова Просьба… Милостливые Государи! На основании Устава Общества я имею случай обратиться в Комитет Общества и просить Комитет выдать мне денежное пособие на лечение из фонда престарелых художников. Я в настоящее время не вижу по часу форму предмета (эти слова, наверное, как особенно непереносимые для себя, Саврасов подчеркнул в письме. — Е. С.); в этом состоянии я не могу нарисовать или написать что-либо. По совету моего доктора я должен на некоторое время дать отдых зрению. Это одна из причин заслуживающая Вашего просвещенного внимания. Почтительно прошу Комитет Общества удостоить меня своим ответом»[311].
В то же время он никогда не забывал об искусстве, верил в него, сохранял все ту же глубокую юношескую любовь к нему, упрямо держался за него в жизненных ненастьях. Н. А. Прахов как-то сказал о последних годах жизни М. А. Врубеля, что если как человек он был тяжело болен, то как художник всегда оставался здоров. Это высказывание справедливо также в отношении Саврасова.
Теперь Саврасов выглядел немощным стариком, как на своей последней фотографии, сделанной Петром Петровичем Павловым, его зятем, мужем дочери Евгении. Ранее Павлов работал в фирме «Шере и Набгольц», даже учился искусству фотографии в Вене. Ему удалось купить фотографическое заведение в Москве, что приносило неплохой доход. Алексей Кондратьевич был рад за Евгению — в семье младшей дочери царили покой и согласие. В фотоателье Павлова Саврасов изредка виделся с Женни, молодой, привлекательной женщиной, в которой с трудом узнавал свою маленькую неугомонную дочь, радовался встрече с внуками и с болью думал о том, как несется время, что никогда он уже не будет так счастлив, как в то далекое время, когда он был еще довольно преуспевающим главой семейства, известным художником, окруженным родственниками, друзьями, коллегами и учениками.
И отец, и мать были довольны тем, как сложилась личная жизнь Женни, но Софья Карловна продолжала тревожиться за старшую дочь, жившую в Петербурге в качестве гражданской жены Бочарова. Софи по-прежнему оставалась привержена строгой морали и не поощряла поступка Веры. После смерти Михаила Ильича старшая дочь с сыном вернулись в Москву и стали жить с Софьей Карловной, которая наконец успокоилась — Вера, как Женни, снова рядом, внуки подрастают. О бывшем муже Софи предпочитала не вспоминать, его судьба теперь ее совершенно не касалась. Она не хотела ничего знать о нем. Иногда до нее долетали все-таки какие-то известия, что живет он в трущобах с молодой гражданской женой, что у них родилось двое детей. Эти новости уже не были интересны для госпожи Саврасовой. Ее жизнь сосредоточилась на дочерях и внуках, текла спокойно и оборвалась в 1900 году. Софья Карловна на три с лишним года пережила своего мужа.
В последний период жизни Алексей Кондратьевич заходил в фотографию Павлова чаще, чем прежде, и как-то раз попросил себя сфотографировать. Снимок пожилого художника, сделанный 11 декабря 1897 года, сохранился до наших дней. Саврасов тогда был подавлен, плохо себя чувствовал — мучила боль в правой ноге, надвигающаяся слепота. И все же настоял на снимке, может быть, предчувствуя свой скорый уход, хотел оставить память о себе близким. В жестком деревянном кресле сидит высокий старик, оборванный, осунувшийся, с суровым взглядом глубоких глаз. Лицо человека, измученного жизнью, небрежная прическа, длинная борода, неряшливый шарф, темная рубаха. На первый взгляд нищий и жалкий, а на самом деле величественный в своей нищете. Трагический и сильный образ незаурядного погибающего художника, соединение немощи и силы, безысходности и упорства.
Эта фотография, а также воспоминания современников сохраняют щемящее свидетельство трагедии его жизни и вместе с тем образ одухотворенности, внутренней силы, исключительного таланта. Неудивительно и закономерно, что пожилого художника современники иногда сравнивали с библейским пророком, поскольку он, несмотря на нищенское одеяние, сохранил величаво-гордый облик и глубокий взгляд, смотрящий часто сквозь толпу, над ней, устремленный куда-то к туманным далям и иным эпохам. Таким он остался в воспоминаниях Павла Третьякова. Одна из их последних встреч состоялась, когда Алексей Саврасов пришел в дом в Лаврушинском переулке, чтобы просить у мецената аванс за неоконченную картину с изображением оврага и поросли молодых елей, которую Третьяков собирался приобрести.
Отряхнув на пороге снег со старых бот, Саврасов с трудом решился войти. Встретившись взглядом с сидевшим за конторкой служащим, спросил у него, может ли он видеть Павла Михайловича. Юноша несколько удивился — его смутил неопрятный вид этого рослого старика, но вежливо ответил, что сейчас доложит Третьякову о визите.
— Кто вы?
— Я — художник Саврасов, по личному делу.
Через несколько минут к Алексею Кондратьевичу вышел хозяин дома, и пейзажист, вновь смешавшись, сбивчиво стал говорить ему:
— Павел Михайлович, вы уже видели мою новую картину и остались довольны ей — ельник. Овраг. Я начал писать ее прошлым летом.
— Конечно, Алексей Кондратьевич, помню. Обязательно куплю ее у вас, когда завершите.
Художник засмущался еще больше, но все же продолжил:
— Вы бы не могли уже сейчас дать мне за нее немного денег, хотя бы полтораста рублей. Я очень нуждаюсь.
По лицу мецената промелькнула тень раздражения, колебания, и после некоторой паузы он все же прежним ровным голосом ответил Саврасову:
— Да, подождите, я дам вам аванс.
Третьяков отлучился на несколько минут, чтобы принести деньги, но когда вернулся в комнату, Алексей Кондратьевич уже ушел, не дождавшись его, хотя действительно очень нуждался, часто не мог себе позволить даже обед в трактире. Но сильнее голода оказались стыд, душевная боль и горечь, которые вновь захлестнули душу художника и уже почти не оставляли до конца жизни.
Саврасов быстро шагал, почти бежал по переулку, от дома Третьякова. Обида и гнев, то ли на себя самого, то ли на такую жизнь, поднялись в его душе темной волной. Сколько лет они знакомы с Павлом Михайловичем? Сколько раз он хвалил его пейзажи? Сколько они вместе говорили об искусстве, спорили? Конечно, Третьяков не хотел обидеть престарелого художника, но все же обидел. Может быть, он и был прав, когда собирался отказать в просьбе, но каким же болезненным ударом стали его сомнения для Алексея Саврасова!
Тревога и уныние постоянно преследовали пейзажиста. Все больше его беспокоила болезнь глаз, проявившаяся впервые еще в 1876 году. При работе Саврасов теперь постоянно вынужден был надевать очки, но тем не менее зрение быстро ухудшалось. Иногда он в смятении думал: что, если глаза совсем ослабнут? Он не сможет писать? Что может быть хуже? Он лишится и последней возможности зарабатывать? Не увидит больше детей, природу, не сможет полюбоваться на весенние фиалки в Сокольниках? Ему казалось, что у него кто-то отбирает последнюю радость жизни, последнюю надежду.
Однажды В. А. Гиляровский увидел старого художника, ехавшего от Лубянской площади по Мясницкой. Саврасов был сильно пьян. Кузьмич держал его, чтобы художник не выпал из саней. «Кузьмичем звали И. К. Кондратьева — старого писателя, работавшего в журналах и писавшего романы для издателей с Никольской. Жил он всегда на „Балканах“ в Живорезном переулке, куда, видимо, и вез Саврасова, приютившегося у него. Они часто общались, хотя эта дружба явно не шла на пользу пожилому пейзажисту. Кондратьев — довольно успешный поэт, драматург, автор небезызвестных поэм, стихотворений, повестей, исторических романов из жизни древних славян, а также старообрядцев. Сочинял он и водевили, и шутки. Некоторое время писатель обитал в доме Могеровского в конце Каланчевской улицы, около вокзалов. В свое пристанище, которое трудно было назвать квартирой, нередко приводил шумные компании приятелей, среди них и Саврасова.
Поэт, прозаик, переводчик Иван Алексеевич Белоусов вспоминал, что эта „квартира“ находилась на чердаке — комнаты с низкими потолками, самая необходимая обшарпанная мебель, а на стенах во множестве развешаны графические эскизы и наброски Саврасова. В этом отдаленном подобии парижских мансард, где во Франции обитали непризнанные художники, проводили время представители московской богемы, значительно отличавшейся от французской. Например, Кузьмич являлся одним из характерных ее представителей, довольно пожилых, ведущих беспорядочный образ жизни, уставших от бесконечной цепи горестей. Именно здесь сочинял он свои произведения: романы „Великий разгром“ об эпохе кровавых потрясений и „Церковная крамольница“ о старообрядческих мятежах, драмы — „Волчий лог“, „Пир Стеньки Разина“, историческую повесть „Салтычиха“, поэму „Альманзор“. Кроме Алексея Кондратьевича Саврасова завсегдатаем таких сборищ стал писатель Николай Васильевич Успенский — красивый седой старик в облике нищего.
Иван Кузьмич, как мог, старался помочь пейзажисту, например, подыскивал покупателей его произведений. Одно из писем с подобным предложением было отправлено им Антону Павловичу Чехову с предложением купить одно из новых полотен Саврасова и копию „Грачи прилетели“: „Величина картины 1½ аршина вышины и 1 аршин ширины. Картина весьма эффектна и написана, что называется, сочно. Сюжет ее чисто поэтический и составит в любой гостиной украшение… Копия с „Грачей“ тоже возможна… В случае согласия хорошо бы это устроить на днях. Жду ответа И. Кондратьев“. Чехов дал положительный ответ: „Иметь картину г. Саврасова я почитаю для себя большой честью, но дело вот в чем. Хочется мне иметь „Грачей“. Если я куплю другую картину, тогда придется расстаться с мечтою о „Грачах“, так как я весьма безденежен“»[312].
Нередко Алексей Саврасов и Кузьмич коротали время в трактире Сазонова, где собирались творческие обездоленные люди. Однажды они застали здесь Успенского, который писал прошение для кого-то из крестьян, приехавших в город, за что получил подношение. Сидя в трактире, Саврасов, как правило, что-то рисовал карандашом или пером, часто расплачивался рисунками за обед или ужин или продавал их за бесценок посетителям заведения.
У завсегдатаев здесь немало общего, горя большинство из них хлебнули сполна, как, например, Николай Успенский. Казалось бы, совсем недавно, в 1872 году, были изданы три тома его очерков и рассказов «Картины русской жизни», навсегда оставшиеся в истории отечественной литературы, но спустя чуть более десяти лет писатель бедствовал и, чтобы заработать на кусок хлеба, устраивал представления в трактирах: играл на гармошке, пел, читал прибаутки, а его совсем еще маленькая дочь Оля, в два года лишившаяся матери, бедно одетая, в стоптанных башмаках, плясала под музыку. Потом ребенок, держа шапку в руках, обходил всех присутствующих, в шапку сыпали медяки. Отец не мог содержать ее, но вскоре, к счастью для девочки, ее забрали родители матери. Успенский тосковал по дочурке, но опускался все ниже и ниже, понимал, что ничего не сможет ей дать.
Его жизнь оборвалась трагически. 21 октября 1889 года в Хамовниках был найден умерший оборванный старик. В кармане его пальто обнаружили паспорт на имя Николая Васильевича Успенского. Похоронили писателя на Ваганьковском кладбище. Подобная участь постигла и Кондратьева — его избили, после чего он скончался в одной из больниц. Это случилось, когда и А. К. Саврасова уже не было в живых. А пока приятели еще шли по дороге жизни, спотыкаясь, падая, стараясь поддерживать друг друга, мечтая осилить все напасти и горести.
Как-то весной дядя Гиляй, как с любовью называли москвичи Гиляровского, встретил Саврасова в Столешниковом переулке, у ворот в трактир. Здесь стояла огромная по тем временам гостиница «Англия» с трактиром, который некогда считался барским, а потом превратился в заведение для посетителей попроще, в основном извозчиков, стал второстепенным. У ворот, ведущих во двор, где находился вход в заведение, писатель заметил «огромную фигуру, в коротком летнем пальтишке, в серых обтрепанных брюках, не закрывавших разорванные резиновые ботики, из которых торчали мокрые тряпки. На голове была изношенная широкополая шляпа, в каких актеры провинциальных театров изображают итальянских бандитов. Ветер раздувал косматую гриву поседелых волос и всклоченную бороду… Я узнал Саврасова, когда-то любимого профессора Училища живописи, автора прославивших его картин „Грачи прилетели“ и „Разлив Волги под Ярославлем“»[313]. Теперь, дрожа, он считал копейки, чтобы опохмелиться, тщетно пытался найти в кармане медяки, провалившиеся за подкладку. Правой рукой он все шарил и шарил в кармане, выкладывал монеты на левую ладонь, пересчитывал, сбиваясь.
«— Алексей Кондратьевич, здравствуйте.
— Погоди… четыре… пять… — считал он медяки.
— Здравствуйте, Алексей Кондратьевич!
— Ну? — уставился он на меня усталыми покрасневшими глазами.
— Я — Гиляровский. Мы с вами в „Москве“ в „Волне“ работали.
— А, здравствуйте! У Кланга?
— Да, у Ивана Ивановича Кланга.
— Хороший он человек… Ну вот…
А сам дрожал, лицо было зеленое…»[314]
Гиляровский пригласил Саврасова к себе, писатель жил неподалеку. Алексей Кондратьевич направился к указанному дому, но вдруг остановился. Его согбенная фигура выпрямилась, глаза оживились, словно помолодев, он засмотрелся на ворону на крыше церкви. Та что-то долбила клювом и вдруг вспорхнула, спасаясь от едва не обрушившегося на нее подтаявшего сугроба, сползавшего по крыше. Как истинный художник Саврасов наблюдал эту картину и воскликнул радостно: «Какая прелесть!»[315] Снег, искрясь на солнце, упал, закончилось это видение, для художника подобное явленному чуду, и его взгляд снова потух. Так, даже будучи тяжелобольным, он по-прежнему, как в юности, умел радоваться солнцу, капели, оттенкам рассветного неба, богатству зелени, до последних дней жизни оставался истинным пейзажистом, влюбленным в Россию.
Они приблизились к дому Владимира Гиляровского. И вдруг Алексей Кондратьевич остановился, отказался идти — ему стало стыдно за свой внешний вид: нечесаные волосы, щетину на лице, оборванную грязную одежду. Писатель все же уговорил его, усадил за стол, угостил водкой и вкусной закуской — «трезвиловкой»: на ломтик хлеба выложил натертую с сыром селедку в уксусе с зеленым луком. Старик оживился, оценил угощение, у него и аппетит проснулся. К ним вышла супруга Гиляровского. Радушно поздоровавшись с гостем, принесла ему биточки и чай с домашней наливкой, вместо пива, которое попросил Саврасов. От наливки он также пришел в восторг, разговорился и попросил альбом и карандаш, объяснив: «Привык рисовать, когда говорю…»
Просидев у Гиляровских несколько часов, засобирался и даже согласился принять в подарок на прощание и сразу же надеть теплые вещи хозяина: длинный охотничий пиджак из бобрика и обшитые кожей валенки. В карман старому художнику Гиляровский незаметно насыпал серебра и просил его заходить в гости, когда захочет. Но Саврасов больше не пришел. Они расстались, теперь уже навсегда, а в альбоме Гиляровского остался быстро сделанный рисунок — весна. Владимир Алексеевич писал: «Я его видел только три раза и все три раза в конце марта, когда грачи прилетают и гнезда вьют… В моем альбоме он нарисовал весну… избушку… лужу… и грачей… И вспоминаю я этого большого художника и милого моему сердцу человека каждую весну — когда грачи прилетают»[316].
И, конечно, стоит согласиться с теми, кто, как Гиляровский, оценивал Алексея Кондратьевича как глубокого, чуткого, ранимого художника. Писатель О. М. Добровольский отмечал: «А душа его была чистой и доброй. Как только не ломала, не крутила его жизнь, в какие бездны не бросала, а ведь Саврасов внутренне не изменился: остался, как и прежде, человеком духовным, глубоко, сильно и тонко чувствующим, не утратившим способности радоваться жизни и восхищаться ею»[317].
В это закатное время в жизни пейзажиста появилось утешение — новая семья. Его гражданской женой стала простая тридцатилетняя женщина Евдокия Матвеевна Моргунова. Она пыталась заботиться о больном художнике и их общих детях: сыне Алексее и дочери Надежде. Их семья не могла быть прочной из-за болезни ее главы. Он уже не был способен к прежней оседлой семейной жизни. Все так же много выпивал, исчезал из дома, иногда и на несколько недель, потом снова возвращался на какое-то время. Дети подрастали, начинали учиться. Когда Саврасова уже не будет в живых, они окончат Строгановское училище, унаследовав способности к искусству от отца. Надежда станет учительницей рисования.
Пройдет немало времени, и в феврале 1917 года состарившаяся Евдокия Моргунова, жившая тогда в приюте братьев Третьяковых в Лаврушинском переулке, обратится с письменным прошением в Совет Училища живописи, ваяния и зодчества о предоставлении ей пожизненной пенсии. Годом ранее, также в ответ на ее просьбу, Императорской академией художеств ей было назначено пособие, но предельно малое — всего 10 рублей в месяц. Сын, ранее помогавший матери, был призван на военную службу. Дочь за уроки рисования получала в месяц 35 рублей и лишь незначительно могла материально поддерживать Евдокию Матвеевну. Однако новое прошение «вдовы гражданского брака» господина Саврасова было подано совсем не вовремя. Страна оказалась накануне политических потрясений…
В последние годы жизни, словно чувствуя приближение конца, Алексей Кондратьевич отказался от своей злосчастной привычки, он уже почти не видел, ослаб настолько, что не мог работать, не мог заниматься живописью, получал мизерное месячное пособие в 25 рублей, на которое жил со своей второй женой Евдокией Моргуновой и двумя детьми, в нищенской обстановке. Невозможно равнодушно читать его письма — мольбы о помощи. «…После постигшего меня несчастья… я нахожусь в крайне стесненном положении — получаемого пособия от Комитета Общества не достает для уплаты за занимаемую мною квартиру. При слабых глазах и здоровье в этом положении я обращаюсь в Комитет Общества с почтительной просьбой оказать мне помощь. Академик А. Саврасов. 1892 14 сентября»[318].
Его последнее письмо в Общество любителей художеств датировано 18 мая 1894 года: «Милостивый Государь Константин Михайлович. По совету доктора я должен на летние месяцы уехать из города в деревню дать отдых глазам. Это положение меня заставило обратиться к Вам Г. Председатель с просьбой о выдаче мне 50 руб. под залог представленной картины „Весенний мотив. Огороды“… Прошу почтительно передать ответ посланному. К услугам Вашим А. Саврасов»[319]. Безденежье и долги теперь сопутствовали ему постоянно. С просьбой о помощи он обращался ко многим. Одно из свидетельств тому — письмо художника Кирилла Викентьевича Лемоха, с 1870 года учредителя Товарищества передвижных художественных выставок, в котором тот сообщал: «За покрытие долга Алексея Кондратьевича Саврасова у меня в товарищеской кассе находится 197 р. 50 к.»[320].
Но в то же самое время, в 1894 году, радость вновь, и уже в последний раз, осветила жизнь умирающего художника. К 50-летию творческой деятельности Саврасова в Киеве был издан альбом его рисунков. Опубликовали и те работы, которые художник сделал незадолго перед смертью, но так же профессионально, с тем же вкусом, как и его лучшие произведения. Среди работ Алексея Кондратьевича, отобранных в этот альбом, изданный Е. В. Кульженко, находились и его центральные произведения, и по-своему интересные образы, восходящие по трактовке к литературным произведениям, как, например, лист «Белеет парус одинокий…».
Всего в большеформатный альбом вошли 20 литографий с рисунков Саврасова. Здесь помещался и биографический очерк, написанный А. Солмоновым (А. С. Размадзе) на русском и французском языках. Автор очерка отметил излюбленную технику художника графитным и литографским карандашом Лемерсье на гипсовой тонированной бумаге, требующую особых профессиональных навыков. В частности, критик писал: «Но так велико мастерство нашего художника, что доныне, когда ему уже 64 года, он, по-прежнему твердой рукой и с тем же верным глазом, создает мастерские вещи в виде рисунков из „папье-пеле“: „Ночь в южной степи“, „У Крымского берега“, „Водопад в Швейцарии“, „Сокольники“, „Раннее утро на Волге“, „На Волге в ясный день“, „Грачи прилетели“, „Сильно тает“, „Сосны у болота“, „Порыв ветра“, „Белеет парус одинокий…“»[321].
Действительно, полвека назад, в 1844 году, свои первые, еще ученические, не совсем уверенно выполненные произведения гуашью четырнадцатилетний подросток Алексей Саврасов предлагал торговцам на Никольской улице и у Ильинских ворот. Алексей Кондратьевич один из экземпляров альбома послал в подарок в Императорскую академию художеств вместе с благодарственным письмом за оказанную ему академией помощь в размере 100 рублей. Однако эта вспышка радости оказалась очень краткой, угасла, чтобы больше не разгореться.
Престарелый пейзажист вынужден был по-прежнему влачить полунищенское существование. В отношении позднего творчества пейзажиста необходимо отметить, что им создавалось «немало работ посредственных, лишь отдаленно напоминающих об особой душевности саврасовского искусства, все же вычеркнуть из наследия художника лучшие его последние картины и рисунки нельзя, как нельзя забыть, в каких беспросветных условиях жизни художника они создавались, помогая ему до конца оставаться самим собой. Оказавшись при жизни почти забытым, доживающим последние годы в страшнейшей бедности, он и в это время оставался в душе все тем же художником-поэтом, безгранично влюбленным в родную природу»[322].
Непревзойденно тонкими по исполнению и эмоциональному строю, напоенные глубинным смыслом, оставались его графические пейзажи! Пожалуй, в отношении ландшафтной графики Алексей Кондратьевич также не знал себе равных. Каким звуковым богатством, словно музыкой земли, наполнены его композиции на протяжении всего творческого пути: «Старые сосны» (1854), «Вечер. Перелет птиц» (1874), «Сумерки. Пейзаж» (1880-е), «Лунная ночь над озером» (1885) и многие другие. Важно отметить, что современные исследователи иначе оценивают ранее недостаточно известное графическое наследие художника. Е. Нестерова пишет о «прекрасных образцах техники папье-пелле»[323] среди работ Саврасова, о том, что «в графике художник чувствует себя еще более свободным, раскованным, чем в живописи…»[324], и заключает: «Графика И. И. Шишкина — современника, коллеги и, можно сказать, внутреннего оппонента Саврасова, — которая включает рисунки, офорты и литографии, пользуется заслуженной популярностью… Но работы Саврасова не уступают им и даже превосходят по глубине образной трактовки и разнообразию используемых приемов»[325].
Рисовать престарелый художник продолжал до последних дней жизни. Хотя его манера довольно сильно изменилась, все же узнавались почерк прежнего Саврасова и неравнодушие истинного мастера. Интересен тот факт, что примерно через 20 лет С. Ю. Судейкин, увидев поздние рисунки уже тяжелобольного М. А. Врубеля, сравнил их с последними работами Алексея Кондратьевича. Судейкин писал о графике Врубеля: «Черным итальянским карандашом крыши в снегу, оголенные березы, на которых сидят галки. Два варианта, тождественных, нарисованных с натуры, из окна. Рисунки сделаны грубо и мало похожи на Врубеля. Странно, они походили на рисунки Саврасова в последний его период „в опорках“, когда он продавал на Сухаревке свои „Грачи прилетели“»[326].
В 1894 году произведениям Саврасова дал оценку архитектор А. Н. Померанцев, известный прежде всего строительством Верхних торговых рядов в Москве. Последние работы пейзажиста произвели на него неизгладимое впечатление, и, желая помочь нуждавшемуся художнику, Померанцев подал докладную записку вице-президенту Академии художеств И. И. Толстому. «В бытность мою в Москве мне случайно пришлось познакомиться с тем бедственным положением, в котором находится один из выдающихся русских художников Алексей Кондратьевич Саврасов. Достигнув преклонного возраста (А. К. Саврасову за шестьдесят), этот больной человек вынужден жить с женой и двумя малолетними детьми в обстановке столь жалкой, которая едва ли бы удовлетворила самого непритязательного ремесленника, вынужден подвергаться самым крупным лишениям; при всем том, ознакомившись с последними работами А. К. Саврасова, напр., с его картиной „Огороды“, виденной мною в числе других его вещей у одного из моих знакомых и написанной в прошлом, 93-м, году, я не могу не выразить уверенность в том, что художник даже за эти последние, бедственные для него годы не утратил своей способности и мастерства по части пейзажной живописи; то же должен сказать и о виденных мною его рисунках. Насколько я мог убедиться из личного наблюдения, бедственное положение художника зависит главным образом от того, что, будучи очень нетребовательным и непритязательным в материальном отношении, он за последние годы попал в руки некоего эксплуатирующего его талант торговца, который, продавая его картины по дорогой цене, сам оплачивает их грошами, постоянно держа художника в состоянии задолженности и невозможности сквитаться; из наведенных справок оказалось, напр., что картины А. К. Саврасова, проданные за несколько сот рублей, были оплачены ему несколькими десятками рублей, что известно и самому художнику и на что он даже и не жалуется, по-видимому, почти примирившись со своей тяжелой долей»[327]. Далее Померанцев обращался с просьбой к вице-президенту оказать возможную помощь пейзажисту, желательно в форме пенсии. Однако только через год руководство академии послало художнику разово 100 рублей, словно подаяние.
Подобное письмо П. М. Третьякову было отправлено господином А. С. Размадзе (автором очерка о Саврасове в каталоге 1894 и 1895 годов), примерно за год до кончины художника: «…Старик Алексей Кондратьевич Саврасов в настоящее время доживает свой печальный век в такой бедности, в таком бедственном положении, на которое невозможно смотреть равнодушно. Последнее время он работал по мере сил и мог еще кое-как перебиваться, но вот уже около года так ослаб, что работать почти не может; теперешняя жизнь его похожа на медленное умирание. Он получает от Общества месячное пособие в 25 рублей, но можно ли существовать на эти деньги вчетвером, имея двух малолетних детей?
Конечно, если обратиться к прошлому, то нельзя не признать, что в теперешнем своем бедственном положении художник виноват сам, что причиной всему послужила его несчастная слабость; но, с другой стороны: какой же горькой бедою пришлось ему искупать свою вину! Теперь, когда к концу дней своих ему удалось победить эту слабость, на него поистине жаль смотреть — так ужасно его положение.
Если не к Вам, рука которого всегда щедро открыта для художников, то к кому же обратиться в настоящем случае? Я и делаю это, но делаю без ведома Алексея Кондратьевича, который, быть может, и не решился бы сам беспокоить Вас»[328]. Также автор послания сообщал точный адрес, где тогда проживал художник со своей семьей — между церковью Смоленской иконы Божьей Матери и Бородинским мостом, во 2-м Тишинском переулке, дом Разживиной, квартира 7. Павел Третьяков не мог не откликнуться на эту просьбу и отправил Саврасову и его семье значительную сумму.
Теперь Саврасов был вынужден почти все время проводить дома, в своей нищенской комнате. Он подолгу неподвижно сидел на старой проржавевшей кровати, небрежно накрытой выношенным одеялом. Сказывалась многолетняя усталость, напряженная работа, особенно в течение последних пятнадцати лет. Алексей Кондратьевич, вспоминая прошедшее, глубоко задумывался, многое хотел бы изменить, исправить. В последнее время он полностью отказался от спиртного, но здоровье все же день ото дня покидало его, догорало как свеча. У его ног играли дети, то смеялись, то ссорились, отбирая друг у друга единственную, уже порванную ими тряпичную куклу. С кухни доносились перезвон посуды и запах щей — жена готовила нехитрый обед. Саврасов то смотрел на детей, то прислушивался к звукам Москвы за окном. Часто он был уже не в силах подняться, заняться чем-то, выйти на улицу. Его взгляд становился неподвижным, устремленным в одну точку, к каким-то никому не ведомым кроме него далям. Наверное, он задумывался о неизбежности близкой смерти, о многом сожалел, многого страшился, тревожился за жену и малолетних детей, раскаивался, что многого не смог дать уже взрослым дочерям Вере и Евгении и их детям, своим внукам. Несмотря на накопившуюся жизненную усталость и пройденный нелегкий путь, не хотел, чтобы этот путь оборвался, не хотел расставаться с жизнью, какой бы горькой она ни была.
Но еще больше, чем страх перед смертью, Алексея Саврасова угнетало бездействие. Теперь его руки, безвольно лежащие на коленях, с вздувшимися старческими венами, казались навеки поникшими, огромными, как крылья смертельно раненной птицы. Но порой старый художник все же собирался с силами, заставлял себя встать, найти картон, выдавить краски на палитру. И начинал работать, намечал углем рисунок, стирал, намечал снова плохо слушающимися его, подрагивающими руками, а потом писал, иногда с упоением, как в юности, на какое-то время забывая о старости, недугах, всех страданиях, нависшей над ним смерти.
Жизнь покидала Алексея Кондратьевича постепенно, уходила почти незаметно, как тающий солнечный свет ясным вечером, который так часто он передавал в своих пейзажах. Алексей Кондратьевич Саврасов уже не в силах был выйти даже в Тишинский переулок, где жил. С началом осенних холодов 1897 года Саврасов был помещен во 2-ю городскую больницу на Калужской улице, которая считалась учреждением для бедных, «чернорабочей». 26 сентября 1897 года Алексей Кондратьевич Саврасов скончался на 68-м году жизни, в больнице. В свидетельстве о смерти сообщалось: «Контора больницы уведомляет, что находившийся на излечении в больнице отставной надворный советник Алексей Кондратьевич Саврасов умер 26 числа сентября месяца с/г.». Именно это свидетельство было отослано в Совет Московского художественного общества. Тогда же и в Училище живописи узнали о кончине изгнанного педагога, бывшего главы пейзажной мастерской.
Он был похоронен на Ваганьковском кладбище 29 сентября. Его смерть не осталась не замеченной в столице, во многих газетах были опубликованы некрологи, отразившие силу таланта Саврасова и его вклад в отечественное искусство. В Училище живописи, ваяния и зодчества в тот день были отменены занятия. 30 сентября, перед началом панихиды, директор училища князь А. Е. Львов произнес речь, отмечая незаурядные способности академика Алексея Кондратьевича Саврасова как художника и учителя, вышедшего «из того же рассадника русского искусства», который дал так много громких имен. Н. А. Касаткин писал И. С. Остроухову: «Саврасову будет возложен венок от Товарищества на могилу… будет отслужена панихида в церкви св. Фрола и Лавра что на Мясницкой, 30 сентября в 1 час дня. Публикация будет сдана завтра в Московские и Русские ведомости»[329].
Также в «Русских ведомостях» 4 октября 1897 года напечатали заметку И. И. Левитана об ушедшем из жизни учителе. Многие художники тяжело переживали эту утрату. «Поздней осенью, в хмурый и дождливый день, хоронили Саврасова. Публики не было, да ее и не ждали. Собрались только художники да зеленая молодежь художественных школ. Во дворе городской больницы, на Калужской улице, у маленькой церковки, группа людей стояла у входа в ожидании панихиды. Одним из последних приехал И. И. Левитан. Он был печален, его неподдельная грусть резко проявлялась в среде оживленных художников. После первых приветствий он отошел в сторону от всех, привлеченный далекой панорамой Воробьевых гор, дивным пейзажем тоскливых равнин и красотой шумящего города с трубами фабрик и лентой Москвы-реки»[330], того города, мотивы которого так любил изображать Алексей Кондратьевич. Пришли несколько художников — педагогов училища, несколько студентов да старик Плаксин, бывший сторож пейзажной мастерской, а позже швейцар училища.
В некрологе, написанном Исааком Левитаном, который и сам тогда уже был неизлечимо болен, были найдены точные проникновенные слова: «Саврасов старался отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу. С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле… Саврасов создал русский пейзаж, и эта его заслуга никогда не будет забыта в области русского художества»[331].
Широко известны и такие его слова об Алексее Саврасове: «Не стало одного из самых глубоких русских пейзажистов, большого художественного явления, но осталась и останется в русском и мировом пейзажном искусстве картина „Грачи прилетели“, в простоте которой чувствуется „мягкая, хорошая душа художника, целый мир поэзии“, которая вместе с другими саврасовскими произведениями внесла „лирику в живопись пейзажа и безграничную любовь к своей родной земле“»[332]. Некролог был напечатан 4 октября 1897 года в «Русских ведомостях». М. В. Нестеров в письме А. Н. Бенуа кратко сообщал: «В Москве недавно кончил земное свое странствие автор картины „Грачи прилетели“ — Саврасов»[333]. Странствие — пожалуй, именно это слово, точно найденное Нестеровым, может характеризовать жизненный путь Алексея Кондратьевича, странствие с этюдником в руках в изучении пейзажей родной земли, а во время заката уже иное странствие — бесприютное, горькое, часто одинокое и безнадежное.
Друзья, бывшие коллеги, ученики, почитатели его таланта провожали художника в последний путь под мелодию моросящего дождя на Ваганьковское кладбище, расположенное к северо-западу от центра столицы, в районе Краснопресненской заставы. После заупокойной литургии гроб вынесли из церкви, поставили на катафалк. Вороные лошади под мокрыми попонами, с траурными султанами, тронулись в неблизкий путь, цокая по булыжнику. Необходимый церемониал был соблюден — хоронили академика и надворного советника. Выехав за ворота больницы, свернули налево, по Калужской улице добрались до Большой Садовой, через мост к Кудринской площади, оттуда прибыли, наконец, в Ваганьково.
Похоронная процессия проследовала по короткой улице, ведущей к кладбищенским воротам. Уже отсюда была видна церковь Вознесения с высокой колокольней, построенная в 1822 году по проекту известного московского архитектора А. Г. Григорьева. Ее стены, окрашенные в светло-желтый цвет, контрастно выделялись на фоне серого однообразия неба. От ворот перед собравшимися предстало само кладбище с четкой системой аллей, делящих всю территорию на участки правильной геометрической формы: квадраты, прямоугольники, трапеции, треугольники. Такая регулярная планировка характерна для времени первых захоронений здесь в конце XVIII века. На протяжении всего XIX — начала XX столетия привилегированными в Москве считались Новодевичье, Донское, Немецкое кладбища, а загородное Ваганьковское являлось местом последнего упокоения для «бедного городского населения, мелких чиновников, представителей интеллигенции (художников, писателей, артистов, ученых), а также для обитателей ночлежек Москвы, часто умиравших прямо на московских улицах. Пышных купеческих памятников, саркофагов и склепов на кладбище почти не было»[334]. Немного ранее Саврасова или уже после его смерти на Ваганьковском кладбище были погребены скульпторы, архитекторы, художники. Среди них — А. Е. Архипов, А. В. Лентулов, В. Д. Милиоти, П. И. Петровичев, В. В. Пукирев, В. И. Суриков, В. А. Тропинин и многие другие.
Алексея Кондратьевича похоронили в самом начале аллеи, ныне названной Саврасовской. 29 сентября 1897 года, в день похорон художника, аллея была тиха и пустынна, пока на ней не появилась малочисленная процессия провожавших известного пейзажиста в последний путь. Остановились у заранее приготовленной могилы, у разверстой и темной от дождя земли. Опустили гроб, быстро над ним вырос холмик, а над ним — простой деревянный крест. Молча постояв, люди начали расходиться. И вновь воцарилась тишина, на кладбище какая-то особая, наполненная неведомым смыслом, глубокая и постоянная, как вечность. Все так же неслись по небу свинцовые тучи, едва шелестя, кружили разноцветные осенние листья, падали редкие капли дождя, словно посылая настрадавшемуся художнику свое прощание и успокоение от столь преданно любимой им природы.
Ныне над его могилой возвышается черный обелиск, на котором уже издали четко выделяются светлые буквы надписи «Алексей Кондратьевич Саврасов», ниже начертаны слова И. И. Левитана о глубоко чтимом им учителе. И деревья, любимые Саврасовым всю жизнь, так чутко и трепетно переданные в его пейзажах, обступают могилу, украшая ее узором ветвей — заботливых рук, слагая над ней песню движением листвы, охраняя вечный сон художника, тревожная душа которого всегда была наполнена неиссякаемой любовью к России, ее лику, природе, людям.
Традиции искусства Саврасова, идейно-смысловую наполненность его пейзажей смогли особенно тонко и глубоко понять, продолжить, внести свои новаторские звучания его ученики: Коровин, Левитан, Светославский. Справедливо заключение о Левитане А. А. Федорова-Давыдова: «Это он придал поэтически-художественное выражение идее связи русской жизни, не только современной, но и прошлой, с русской природой. И тут он развил, обогатил то, что начал Саврасов в картинах „Печерский монастырь“ и „Грачи прилетели“»[335].
Жизнь Алексея Саврасова оборвалась более столетия назад, но его пейзажи современны, близки нам сегодня — те простые, скромные, каждому в России знакомые мотивы, которые наполнены философским содержанием и тонкой поэзией, то радостью весны, то осенней тоской, предчувствием летнего тепла и сна зимы. Они соединены с музыкой его души, которая и сейчас слышна в его проникновенных пейзажах. Его первая посмертная персональная выставка, открытая в Государственной Третьяковской галерее лишь в 1948 году, ясно соответствовала той оценке, которую дал Левитан, определяя вклад своего учителя в отечественное искусство. Закономерно и то, что для современных пейзажистов реалистического направления произведения Саврасова являются бесспорным ориентиром в их учебном, а нередко и творческом пути.
Глава 8 Суждения о личности и творчестве А. К. Саврасова
Оценивая значение личности художника, следует прежде всего обратиться к его произведениям. Но также важно учесть высказывания его современников, многие из которых знали художника, события его жизни, творческие замыслы, победы и неудачи, могли оценить, какой отпечаток время, характер эпохи накладывали на его творчество.
Алексей Кондратьевич Саврасов — один из ведущих художников России второй половины XIX века: живописец, и станковых, и монументальных произведений, график, педагог, общественный деятель. Уже его первые самостоятельные работы, исполненные учеником Училища живописи и ваяния, получали высокие оценки критиков. Как, например, еще в 1853 году, когда ему было всего 23 года, Н. А. Рамазанов восторженно писал в журнале «Москвитянин». Писатель В. А. Гиляровский высказывался так: «Я… преклонялся перед его талантом»[336]. И. И. Левитан всегда лаконично говорил о себе: «Я — ученик Алексея Кондратьевича».
Высокую оценку знаменитому произведению «Грачи прилетели» давал известный художественный критик Стасов: «„Грачи прилетели“ — наверное лучшая и оригинальнейшая картина г. Саврасова… Как все это чудесно, как тут зиму слышишь, свежее ее дыхание»[337]. Значение этого выдающегося полотна и в целом творчества Саврасова в истории живописи России четко определил А. Н. Бенуа, когда писал, что картина «Грачи прилетели» сделала ее автора «истинным основателем всей новой русской школы пейзажистов». С несомненным восхищением он давал и такую характеристику: «…В 1871 году картина Саврасова была прелестной новинкой, целым откровением, настолько неожиданным, странным, что тогда, несмотря на успех, не нашлось ей ни одного подражателя», и далее: «Действительно, с картины Саврасова не появилось у нас произведений с более ясно выраженным поэтическим намерением»[338]. Его словам не противоречит высказывание критика С. К. Маковского, который, оценивая развитие реалистической пейзажной живописи России, также особенно выделял знаменитый пейзаж А. К. Саврасова.
В каталогах выставок и критических статьях 1880-х годов еще можно найти довольно частые упоминания и подробные отзывы о произведениях пейзажиста, как, например, в «Иллюстрированном каталоге художественного отдела Всероссийской выставки в Москве, 1882 г.», составленном Н. П. Собко, приведены живописные полотна Саврасова: «Лес» (1868, собственность К. Т. Солдатенкова), «Близ Сухаревой башни, в Москве» (собств. И. П. Боткина), «Зима» (1873, собств. С. М. Третьякова)[339], именно о последнем из перечисленных пейзаже, когда он впервые был представлен на выставке в 1873 году, И. Н. Крамской писал, характеризуя экспозицию: «Саврасов — будто бы „Зима“, но недурно…»[340]
Однако после кончины художника и в первой половине XX столетия ситуация меняется. В художественных хрониках, например, журнала «Аполлон» творчество Саврасова не освещается, хотя довольно часто речь идет о произведениях его учеников — Левитана и Коровина. В монографии Рихарда Мутера «Русская живопись в XIX веке», вышедшей из печати в 1900 году, лишь мимолетно упоминается о «нежных необыкновенно поэтических весенних ландшафтах»[341] Алексея Саврасова.
Критики были далеко не всегда справедливы к нему. Вслед за первым признанием его ранних работ, в том числе и в кругу императорской семьи, вслед за нашумевшим успехом полотна «Грачи прилетели» последовали гораздо более прохладные и редкие критические отзывы. В конце жизненного пути, в 1880–1890-е годы, как и в начале XX века, искусство Саврасова за редким исключением оставалось полузабытым, о нем предпочитали молчать или упоминать вскользь. Так, например, в монографии Ростиславова, посвященной Исааку Левитану, только очень кратко несколько раз упоминается об Алексее Саврасове, к тому же в неоднозначном ключе в отношении художественного качества его произведений, но при этом акцентируется роль Перова и Поленова в становлении юного художника Левитана. На рубеже XIX–XX столетий лишь в нескольких журнальных публикациях и каталогах выставок можно найти скупые упоминания об Алексее Саврасове.
Дискуссионны суждения об искусстве знаменитого пейзажиста, которые даны Евгением Жураковским, некогда лектором по эстетике в Московской консерватории, автором труда «Краткий курс истории русской живописи XIX века», изданного в 1911 году. В частности, он именовал Саврасова «первым художником-импрессионистом, передающим кистью от сердца к сердцу настроение взволнованной души», а далее заключал, что «вся его художественная деятельность протекла в Москве. Вообще Саврасов работал мало и ничем не отличался от пейзажистов среднего уровня до появления картины „Грачи прилетели“…»[342]. Вряд ли можно согласиться с последним высказыванием, которое свидетельствует лишь о том, что ни произведения, ни жизненный путь Алексея Саврасова не были достаточно известны в начале XX столетия и не подвергались серьезному исследованию.
Негативные отзывы о его искусстве, во многом обоснованные, относятся, как правило, к периоду 1880–1890-х годов, когда Алексей Кондратьевич под влиянием болезни отчасти утратил былую требовательность к себе, профессионализм. Он повторял множество раз один и тот же ранее найденный сюжет, писал копии своих известных картин, нередко уже не вкладывая в них того же чувства и мастерства. С другой стороны, вряд ли объективна резко отрицательная оценка А. Н. Бенуа раннего периода творчества Саврасова, а также всех произведений, последовавших за его знаменитым пейзажем: «Вся его деятельность до 1871 года, до появления картины „Грачи прилетели“, прошла бледной, жалкой и ненужной. Уже это одно — довольно странный пример в истории искусства, но еще более странно, что, дав эту замечательную и многозначительную картину, он снова ушел в тень…»[343]
С чем же связан этот уход в тень художника? Возможно, в наши дни трудно однозначно судить об этом, и только сам Саврасов знал истинные причины произошедшего. Известны его слова, произнесенные в разговоре с Коровиным: «Пойми, я полюбил, полюбил горе… Пойми — полюбил унижение…»[344] Слишком непосильным бременем оказались для художника многочисленные испытания, слишком сильный контраст представлял окружающий его мир со светлым, тонким содержанием его внутреннего мира, его искусства.
Очень спорно рассуждение А. Н. Бенуа и о знаменитых «Грачах» Алексея Кондратьевича: «Может быть, потому и сам Саврасов ничего уже больше не сделал подобного, что картина была выше своего времени и его личного таланта, что и для него создание ее было неожиданностью, плодом какой-то игры вдохновения!»[345] Скорее следует заключить, что знаменитая картина была высшей степенью проявления таланта живописца, а ее создание стало возможным благодаря упорному труду художника в течение многих лет, его увлеченности своим делом, глубине понимания им живописи, а также сугубо личным переживаниям. Кроме того, Бенуа, с присущей ему остротой характеристик и субъективностью суждений, не признавал заслуг в отечественном искусстве учеников Саврасова — пейзажистов Л. Каменева и С. Амосова.
Подобная точка зрения была присуща и ряду авторов уже советской эпохи. Так, исследователь В. Никольский писал в 1904 году в монографии «История русского искусства», изданной в Берлине значительно позже — в 1923 году: «Но самый крупный из русских пейзажистов вышел все-таки из Москвы и ее школы, потому что Москва всегда стояла ближе к чисто живописным традициям, чем Петербург. В 1871 г., одновременно с Васильевской „Оттепелью“, появился другой весенний пейзаж „Грачи прилетели“. Саврасов был уже не новичок в пейзажной живописи, но до сих пор он мало чем отличался от многих других современных ему русских пейзажистов. „Грачи прилетели“ были совершенным откровением, яркой, почти революционной манифестацией новой таинственно зарождающейся школы русского пейзажа»[346]. Вряд ли Саврасов не выделялся из ряда современных ему художников пейзажного жанра, скорее наоборот, его произведения, начиная с учебных работ в Училище живописи, уже отличались несколько иным отношением к натуре, более внимательной ее трактовкой, своим образным строем и особым настроением.
И потому в критических исследованиях рубежа XIX–XX веков все же сложилось вполне верное, объективное мнение о Саврасове как об одном из ведущих художников-новаторов, родоначальников лирического пейзажа в искусстве России. В данном вопросе мнения критиков расходились только в отношении того, следует ли считать одного Алексея Кондратьевича родоначальником русского реалистического пейзажа в живописи, или все же называть его имя среди ряда других художников.
Его современники — выдающиеся пейзажисты Шишкин и Васильев, но именно Саврасов в своем творчестве определил новое видение отечественного пейзажа, поэтичность звучания которого сопоставима с образами произведений Ф. И. Тютчева, А. А. Блока, И. А. Бунина. Этой важнейшей образно-смысловой наполненности творчества он был верен до конца своих дней, в том числе в графических работах позднего периода: «В станковых саврасовских рисунках восьмидесятых годов можно встретить и заново интерпретированные мотивы его прежних работ, и, наконец, очень содержательные пейзажи, по-новому раскрывающие реальные впечатления жизни»[347].
Только к середине XX столетия о творчестве Саврасова складывается устойчивое мнение, его заслуженно называют «одним из родоначальников реалистически-жанрового пейзажа в России», «родоначальником интимно-лирического пейзажа», одним из основоположников «реалистического пейзажа в русском искусстве». Именно такие оценки его искусству дают Н. А. Дмитриева, Ф. С. Мальцева, А. А. Федоров-Давыдов, коллектив авторов Малой советской энциклопедии.
В наши дни творчеству Алексея Кондратьевича посвящаются статьи, его произведения включены в экспозиции многочисленных постоянных экспозиций, в том числе ведущих отечественных музеев, периодических выставок. Однако и у современных авторов встречаются не вполне корректные суждения о художнике. Нельзя не назвать спорным, например, такое высказывание: «Увы, Саврасову не удалось выбраться из дыры, в которую его столкнули обстоятельства (умерли дети, а затем ушла жена) и слабость собственного характера. Хотя, кто знает — если бы не слабость и не инфантильность (подумать только — красный бант с оборками!), не было бы в „Третьяковке“ знаменитых грачей, а сам Саврасов служил бы всю жизнь в банке или в конторе купца…»[348] Определения художественной специфики пейзажей Алексея Саврасова современными исследователями также несколько различаются. Сложно согласиться, например, с трактовкой его произведений как жанровых. Однако важно, что исследователи единодушны в главном: именно Саврасов является основоположником отечественного реалистического пейзажа.
Что означает реализм его искусства? Из каких составляющих он складывается? Прежде всего — из профессионализма и самоотверженного труда художника, благодаря которым он работал исключительно много, плодотворно, в жанре пейзажа воспроизводил многообразные мотивы, композиции, использовал различные материалы, технические приемы. Вследствие высоких профессиональных навыков и тонкости восприятия ему удавалось создавать поэтичные по звучанию образы. Кроме того, Саврасова возможно назвать и художником-мыслителем, художником-философом. В своих произведениях он выразил не свою эпоху, но вневременной образ России, Божьего мира, явленного во всем, что вокруг нас, в самых обычных, скромных пейзажах, в незамысловатых деталях. И также важно, что мотивы его картин не отстраненны, но знакомы каждому, характерны, жизненны, подобны выражению настроений и переживаний человека.
Не меньшая заслуга Алексея Кондратьевича, сопоставимая с исполнением «Грачей», — это создание школы мастерства, определенных, столь значимых и в наши дни традиций в пейзажной мастерской Московского училища живописи, ваяния и зодчества, традиций, хранимых поколениями пейзажистов. «В Училище бережно и последовательно передавали из рук в руки факел реалистической художественной школы. В начале 1900-х сюда приходит Аполлинарий Михайлович Васнецов, младший из братьев выдающейся русской артистической фамилии… След в след за Серовым приходят преподавать Исаак Ильич Левитан и Константин Алексеевич Коровин. В начале века во дворе дома Юшкова появляется роскошный выставочный зал с верхним светом. Сюда, на выставки учеников и маститых, приезжают царственные особы, здесь собирается цвет общества, звучит неповторимый голос Федора Ивановича Шаляпина… В окнах Училища гуляет зарево пожара первой революции… Колотит и сотрясает всех: трясет правительство, входит разлад в ряды преподавателей, порохом взрывает горячие сердца студентов Училища…»[349] Но все же и в потрясениях XX столетия крепкий фундамент реалистических традиций отечественного искусства, заложенный в том числе и Саврасовым, был сохранен. Это тот крепкий фундамент, на котором строили и строят здание своего творчества реалисты — живописцы и графики, архитекторы и скульпторы.
Все же в первой половине XX века имя Алексея Саврасова и его произведения были несколько забыты. Его творчество подробно не изучалось исследователями, монографии о нем не издавались, очень нечасто упоминали о нем и в периодике. Так, в подробной статье «Русская художественная летопись — 1911 г.», опубликованной в журнале «Аполлон», о его картинах не говорится ни слова, хотя к творчеству его ученика Левитана авторы обращаются неоднократно. Имя Саврасова, как правило, не звучит и в публикациях того времени при перечислении ведущих отечественных художников второй половины XIX века. Если его картины репродуцируются, то эпизодически, что связано с рассмотрением тех или иных художественных вопросов, как, например, при обзоре состава собрания И. С. Остроухова[350].
Для своего времени Алексей Кондратьевич Саврасов во многом являлся новатором, с чем во многом была связана сложность восприятия его искусства, ныне он — классик отечественной культуры. Можно ли не признать верным такое заключение: «Как известно, жизнь каждого яркого дарования делится обычно на три периода. Сначала его осыпают насмешками и бранью, всячески угнетают и преследуют. Потом открывается счастливое время признания, за которым следуют дни восторженного поклонения. Наконец, так же неминуемо наступает охлаждение, сопровождающееся нередко резкими выпадами по адресу недавнего любимца и властителя дум. Этой трафаретной схемы избежали немногие даровитые люди, и единственный вариант, вносимый в нее жизнью, сводится к тому, что одни умирают в расцвете славы, а другим суждено ее пережить, изведать к концу жизни всю горечь забвения. Исключения почти не встречаются»[351].
То же пришлось испытать и Саврасову, и его даровитым ученикам, таково оказалось отношение и к их искусству. Равнодушно-пренебрежительные оценки творчества Алексея Кондратьевича постепенно стали меняться в середине XX столетия, когда картинами пейзажиста заинтересовались исследователи, его произведения все чаще экспонировались. Подтверждением тому могут служить, в частности, хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства письма.
В одном из писем, датированном 1890-ми годами, Е. Д. Поленова сообщает В. В. Переплетчикову: «На счет Саврасова я говорила о Вас… обещали дать что-нибудь». Вероятно, речь идет о включении пейзажа Саврасова в экспозицию выставки[352]. В 1900 году одно из писем направлено М. Б. Гребешком из уездного города Бирска Уфимской губернии в правление Третьяковской галереи: «Имея три картины-пейзажа покойного Саврасова и имея таковые продать, покорнейше прошу… не согласится ли Правление приобрести эти картины и в случае согласия должен ли я выслать картины или фотографические снимки таковых…»[353] Другой документ не менее интересен — записка Е. Моргуновой, датированная 1911 годом, к известному искусствоведу, профессору, директору Румянцевского музея Николаю Ильичу Романову. «Милостливый Государь! Охотно сообщаю Вам год и место рождения академика Алексея Кондратьевича Саврасова. Родился он в г. Москве 1830 года мая 12 дня»[354].
Уже после событий 1917 года интерес к произведениям Саврасова постепенно начинает нарастать. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что его «Зимний пейзаж» (х., м. 74×58), происходящий из неизвестного собрания, поступил в Центральное хранилище государственного музейного фонда в период 1919–1924 годов. Художник Н. Корин в письме 1940 года С. А. Первухиной делает заключение об истоках творчества пейзажиста К. К. Первухина — традициях отечественного искусства второй половины XIX века, о его «пути художника-реалиста, достойного продолжателя лучших традиций Саврасова…»[355].
Искусствовед Алексей Федорович Коростин, один из крупнейших знатоков отечественной графики, более двадцати лет, до своей кончины в 1957 году, составлял «Словарь отечественных художников», в том числе им были собраны достаточно обширные материалы о Саврасове: хвалебные рецензии на его произведения из журнала «Москвитянин» за 1853–1854 годы, некролог в «Русских ведомостях» 1897 года, заметки «Погибший человек — памяти Саврасова» в «Русском архиве» за 1905 год и в «Известиях общества преподавателей изящных искусств» 1907 года, цитаты из книги М. М. Ковалевского «Саврасов»[356].
И, наконец, к 50-летию со дня кончины А. К. Саврасова в Государственной Третьяковской галерее состоялась персональная выставка его произведений. В пригласительном билете на экспозицию значилось: «Комиссия по делам искусств при Совете Министров СССР и Государственная Третьяковская Галерея приглашают Вас в 5 часов дня 25 июля 1947 года на открытие выставки произведений выдающегося русского пейзажиста А. К. Саврасова. Адрес: Лаврушинский переулок, дом № 10»[357], а 8 октября того же года в галерее, основатель которой несколько десятилетий был другом покойного и покровителем его семьи, состоялся «Вечер памяти» пейзажиста, где с докладами выступали Федоров-Давыдов, Мальцева, своими воспоминаниями о встрече с Алексеем Кондратьевичем в классах Училища живописи делился К. Ф. Юон.
Уже через несколько лет, а если точнее, 13 февраля 1951 года, в газете «Советское искусство» была опубликована статья А. Лебедева «Крупнейший русский пейзажист», посвященная автору картины «Грачи прилетели». В ней, в частности, говорилось: «Творчество А. К. Саврасова — крупнейшее явление русской художественной культуры… Талантливый живописец Саврасов по праву вошел в историю русского искусства как художник тонкого поэтического дарования, влюбленный в красоту русской природы, как патриот и гражданин, посвятивший свое творчество прославлению родной земли…»[358] В той же газете уже в следующем году была помещена статья Г. Маркова «Возрождение „Кутузовской избы“», посвященная истории реставрации известного полотна Алексея Кондратьевича из экспозиции Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве[359].
С конца 1950-х годов все чаще в монографиях, очерках, статьях о нем стали писать как о талантливейшем отечественном художнике, родоначальнике лирического пейзажа в России, учителе плеяды самобытных пейзажистов. И. В. Евдокимов в повести о Левитане, в частности, писал о «Грачах»: «Будучи событием в художественной жизни России, картина имела еще большее значение для национальной русской школы живописи. Реалистическое искусство обогатилось подлинным шедевром. Алексей Кондратьевич Саврасов выдвинулся в первые ряды художников, в его пейзажную мастерскую в Школе живописи, ваяния и зодчества мечтал попасть каждый ученик»[360]. И уже достаточно недавно, как, например, в 1980 и 2006 годах, в Государственной Третьяковской галерее состоялись масштабные юбилейные выставки произведений А. К. Саврасова, вызвавшие немалый общественный резонанс.
Бесспорно, что такое внимание заслуженно. Оценки произведений могут меняться, но несомненны идеи, направленность творчества художника. Он служил искусству, создав через пейзаж живой, проникновенный, вневременной образ России. Его размышления явлены в картинах: в линии, тоне и цвете, подобны песне, которая то радостна, то тревожна, то щемяще тосклива, но чаще спокойно мудра, наполнена тихой и светлой грустью, которая присуща нашей земле, пейзажу России. А. К. Саврасову свойственно исключительно тонкое чувство природы, отзывчивость к ней. До последних дней жизни он оставался все тем же художником-поэтом, который своими произведениями, высказываниями, работой педагога утверждал значение пейзажной реалистической школы, а отношением к людям укреплял в них добро, сострадание, чуткость и стремление созидать…
Многоточие — емкий знак препинания. В нем заключены конец и возможность продолжения, начало чего-то нового, зарождающегося благодаря окончанию, как в саврасовской ранней весне, еще наполненной зимним холодом, но и пробуждением жизни. Бесспорно, каждый по-своему воспринимает его искусство и события жизни. Писать о нем мне просто и сложно одновременно, наверное, потому, что ценю его картины с детства, потому, что копировала его «Зиму», когда делала свои первые шаги в искусстве, потому, что мотивы его пейзажей — это моя родная земля, и потому, что облик, слова, судьба Алексея Кондратьевича Саврасова напоминают о некоторых близких мне людях, уже ушедших из жизни.
В наши дни на фасаде бывшего Московского училища живописи, а ныне Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, находится мемориальная доска, посвященная Алексею Саврасову, что обоснованно, заслуженно, необходимо. Он словно вернулся в тот дом, который так важен был для него почти всю жизнь, несмотря на все ее взлеты и падения. Как должное воспринимается, что в академическом музее в качестве образца для студентов представлена копия «Грачей». И не вызвало удивления, когда один из знакомых художников однажды сказал с неподдельным волнением: «Для меня Саврасов — святой человек».
Писать о нем просто и сложно одновременно…
Послесловие
Снова наступала весна, воздух наполнился ее предчувствием, которое он так тонко и глубоко воспринимал всегда, которого так ждал, и дождался снова, теперь уже в последний раз. Оживали почки на трепетных ветвях, упрямо и настойчиво пробивалась трава сквозь оковы замерзшей земли, появились первые, трогательные ростки фиалок. Обновленная жизнь вступала в свои права, наперекор ненастьям зимы и людским бедам.
Весенняя пора словно вернула его к жизни, появились новые замыслы и надежды, а главное, вновь возникло стремление к живописи, к отображению чарующей красоты родных пейзажей, что сопутствовало Саврасову всегда. И именно за работой перед холстом, с кистью в руках, он был по-настоящему и безмерно счастлив: сколько живописных мотивов вокруг, сколько дел у него еще остается, сколько пока ненаписанных картин! И ведь есть семья, дети, и близкие, и друзья, и ученики, которые уже делают серьезные успехи! Только бы хватило сил.
Ясным вечером, перед самым закатом, он расположился с этюдником в окрестностях Москвы. Сил оставалось немного. Присев на замшелый поваленный ствол, рядом с которым уже поднималась молодая поросль, замер, сгорбившись, скорбно опустив усталые руки. А потом, словно преодолев горькие мысли, поднял голову — в звенящем воздухе слышался радостный гомон птиц, над ним плыли белоснежные облака, напоенные ласковым солнцем, простиралась лучезарная и вечная бесконечность неба. Сколько в нем красоты и содержания — глубинно-мудрого, великого, светлого! Саврасов писал этюд весны…
Список сокращений
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
Л. — Ленинград
М. — Москва
МОЛХ — Московское общество любителей художеств
ОР ГТГ — Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи
ТПХВ — Товарищество передвижных художественных выставок
X., м. — холст, масло.
Основные даты жизни и творчества А. К. Саврасова
1830 — рождение 12 (24) мая в Москве, в семье мещанина Кондратия Артемьевича Саврасова. Крещен в приходе церкви Великомученика Никиты, у Швивой горки, близ Таганки.
1842 — утвержден устав Московского художественного общества, в котором говорилось и о создании Школы художеств, позднее переименованной в Московское училище живописи и ваяния.
1843, 5 декабря — основание Московского училища живописи и ваяния, утверждение его устава. В № 12 журнала «Москвитятин» опубликовано выступление И. Г. Сенявина о необходимости и перспективах развития самобытного отечественного искусства, в том числе пейзажной живописи.
1844 — Алексей Саврасов поступает в Московское училище живописи и ваяния.
1845 — вынужден уйти из училища из-за болезни матери.
1846 — смерть Прасковьи Никифоровны Саврасовой.
1848 — Саврасов вновь принят в Московское училище живописи и ваяния, в головной класс. Продолжает обучение у К. И. Рабуса.
1849 — поездка Саврасова на юг России (в Харьков, Киев, Одессу, Крым) для исполнения «видов с натуры».
1850 — А. К. Саврасов окончил Московское училище живописи и ваяния со званием неклассного художника за картины «Вид Московского Кремля при лунном освещении» и «Камень в лесу у Разлива». Оставлен при училище для совершенствования в мастерстве «на правах свободного художника».
1851 — первое участие в ученической выставке Московского училища живописи и ваяния.
1852 — вторая поездка в южные губернии России.
1854 — поездка в С.-Петербург по приглашению президента Академии художеств великой княгини Марии Николаевны. В течение нескольких месяцев работал в окрестностях С.-Петербурга, в том числе в Сергиевке — на даче Марии Николаевны. За картины «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума» удостоен звания академика.
1854–1857 — работал в окрестностях Москвы: в Кунцеве, Архангельском, Мазилове.
1857 — после смерти К. И. Рабуса возглавил пейзажный класс в Московском училище живописи и ваяния. Женился на Софье Карловне Герц, сестре своего друга по училищу Константина Герца и искусствоведа Карла Герца — первого преподавателя истории искусства в Московском университете.
1858 — П. М. Третьяков приобрел у А. К. Саврасова его картину «Вид в окрестностях Ораниенбаума» (1854).
1860 — организация в Москве Общества любителей художеств.
1861 — Саврасов избран в состав Комитета Московского общества любителей художеств; участие в первой выставке Общества. По поручению Общества руководил перевозкой из С.-Петербурга в Москву картины А. А. Иванова «Явление Христа народу».
1862 — поездка на Всемирную выставку в Лондоне, посещение Франции, Дании, Швейцарии и Германии. Получил звание коллежского асессора.
1863 — награжден орденом Святого Станислава 3-й степени.
1865 — создание шести декоративных панно с видами Греции, Кавказа, Крыма, Малороссии и Великороссии для новогоднего праздника в здании Благородного собрания, по заказу председателя МОЛХа графа А. С. Уварова.
1866 — получил звание надворного советника. За картину «Зима», представленную на постоянной выставке МОЛХа, удостоен второй премии.
1867 — поездка на Всемирную выставку в Париже. Посетил Швейцарию.
1868 — награжден орденом Святой Анны 3-й степени, Обществом поощрения художников присуждена вторая премия за пейзаж «Осенний вид из окрестностей Москвы».
1869 — участвовал в создании Товарищества передвижных художественных выставок. Совместно с В. В. Пукиревым издал альбом «Курс рисования» (автор пейзажного раздела). Написал картину «Печерский монастырь под Нижним Новгородом».
1870 — получил первую премию на конкурсе МОЛХа за картину «Лосиный остров в Сокольниках» (1869). Участвовал в подписании устава ТПХВ. В конце года взял длительный отпуск и вместе с семьей на полгода уехал в Ярославль.
1870–1875 — регулярно пишет с натуры на волжских берегах, создавая этюды и эскизы многих известных картин, видов городов Ярославля и Юрьевца Костромской губернии, Нижнего Новгорода, сел Городец, Болгары под Казанью.
1871 — поездка в село Молвитино Буйского уезда Костромской губернии, где написал этюд к картине «Грачи прилетели». За картину «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода» получил вторую премию на конкурсе Общества поощрения художеств в С.-Петербурге. За картину «Волга под Юрьевцем» получил первую премию МОЛХа. На Первой выставке ТПХВ экспонировал картины «Грачи прилетели» и «Дорога в лесу».
1872 — избран в правление ТПХВ вместе с В. Г. Перовым, И. М. Прянишниковым, Г. Г. Мясоедовым, Н. Н. Ге и И. Н. Крамским. Путешествие по Волге в летние месяцы.
1873 — избран кассиром и распорядителем Московского отделения ТПХВ.
1876 — начинает развиваться болезнь глаз.
1877 — в мастерскую пейзажа, возглавляемую А. К. Саврасовым, поступил И. И. Левитан.
1881 — в последний раз участвовал в выставке ТПХВ (Девятая выставка, Москва), начинает отдаляться от МУЖВиЗ, все реже посещает своих учеников пейзажной мастерской.
1882 — уволен из Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Окончательный разрыв с семьей. Начало периода бедствий и проживания во временных пристанищах.
1885–1886 — работал над рисунками для журналов «Радуга» и «Эпоха».
Начало 1890-х — вступил в гражданский брак с московской мещанкой Е. М. Моргуновой. Неоднократно обращался в Комитет Общества поощрения художников с просьбой о предоставлении материальной помощи.
1894 — выход в свет издания «А. К. Саврасов. Художественный альбом рисунков».
1897 — помещен во 2-ю Московскую городскую больницу, в отделение для бедных, где умер 26 сентября (8 октября). Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Краткая библиография
Алленов М. М. Русское искусство XVIII — начала XX века. М.: Трилистник, 2000.
Анненков Н. И. Ботанический словарь.
Аполлон. 1911. № 11–20.
Артамонов М. Д. Ваганьково. М., 1981. РГАЛИ. Ф. 1345. Оп. 7. Д. 2. Л. 217.
Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. М.: Республика, 1999.
Бенуа А. Н. Русская школа живописи. М.: Арт-Родник, 1997.
Бенуа А. Н. Мой дневник. 1916–1917–1918. М.: Русский путь, 2003.
Боткина А. В. Павел Михайлович Третьяков в жизни и в искусстве. М.: ГТГ, 1951.
Васнецов В. М. Письма. Дневники. Воспоминания. Документы. Суждения современников. М.: Искусство, 1987.
Вельфлин Г. Классическое искусство. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1912.
Википедия. [Электронный ресурс] URL: (дата обращения: 09.02.2016).
Виппер Ю. Р. История училища живописи, ваяния и зодчества. Рукопись в собрании ОР ГТГ. 4/89.
Врангель Н. Н. Собрание И. С. Остроухова в Москве / Аполлон. 1911. № 10.
Георгиевский Г. П. Праздничные службы и церковные торжества в старой Москве. М.: Международный издательский центр православной литературы, 1995.
Гиляровский В. А. Москва и москвичи. Друзья и встречи. Люди театра. М.: Эксмо, 2008.
Глаголь С. С., Грабарь И. Э. Исаак Ильич Левитан. М.: Издание И. Кнебель, 1913.
Горелов М. И. Алексей Кондратьевич Саврасов. Основоположник русской реалистической пейзажной школы (1850-е годы). М.: Московские учебники, 2002.
Готье Т. Путешествие в Россию. М.: Мысль, 1988.
Даниэль С. М. Европейский классицизм. СПб.: Азбука-классика, 2003.
Дмитриева Н. А. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. М.: Искусство, 1951.
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001.
Домитиева В. М. Константин Коровин. М.: Терра-Книжный клуб, 2007.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. СПб.: Азбука-классика, 2005.
Достоевский Ф. М. Зимние записки о летних впечатлениях. Полное собрание сочинений. Т. 4. М.: Воскресенье, 2004.
Дурылин С. Н. Нестеров в жизни и творчестве. М.: Молодая гвардия, 2004.
Евдокимов И. В. Левитан. М.: Советский писатель, 1959.
Евстратова Е. Я. Виктор Васнецов. М.: Терра-Книжный клуб, 2004.
Жураковский Е. Краткий курс истории русской живописи XIX века. М.: Издание В. М. Саблина, 1911.
Иллюстрированный каталог художественного отдела Всероссийской выставки в Москве, 1882 г./ Сост. Н. П. Собко. СПб.: Издание М. П. Боткина, 1882.
Ильин И. А. Духовный смысл сказки // Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе. М.: Лепта, 2003.
Ильин И. А. Путь духовного обновления. [Электронный ресурс] URL: -ship.ru/load/proekt_rossija/put_dukhovnogo_obnovlenija_ilin_i_a/133-1-0-1085 (дата обращения: 16.09.2016).
Исаак Ильич Левитан. Документы, материалы, библиография. М.: Искусство, 1966.
История Отечества: люди, идеи, решения / Сост. С. В. Мироненко. М.: Изд-во политической литературы, 1991.
История России в XIX веке. Т. 6, отд. 2: Эпоха реакции / Сост.: Е. В. Аничков, С. М. Блеклов, М. М. Богословский, И. Н. Бороздин и др. СПб.: Гранат, 1907–1911.
Киплик Д. И. Техника живописи. М.: Сварог и К, 2002.
Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М.: Астрель, 2003.
Комаровская Н. И. О Константине Коровине. Л.: Художник РСФСР, 1961.
Корнилов А. Курс истории России XIX века. Ч. II. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1912.
Коровин К. А. Жизнь и творчество. Письма. Документы. Воспоминания / Сост. Н. М. Молева. М.: Изд-во АХ СССР, 1963.
Коровин К. А. Воспоминания. Минск: Современный литератор, 1999.
Крамской И. Н. Переписка. Т. 1. М.: Искусство, 1953.
Крамской об искусстве. М.: Изобразительное искусство, 1988.
Левитан И. И. Воспоминания. Письма. М.: Искусство, 1950.
Левитан И. И. Летучая энциклопедия. М.: Издание И. А. Маевского, 1913.
Левитан И. И. Письма. Документы. Воспоминания. М.: Искусство, 1956.
Маковский С. К. Силуэты русских художников. М.: Республика, 1999.
Мальцева Ф. С. Мастера русского пейзажа второй половины XIX в. М.: Искусство, 2001.
Мальцева Ф. С. Саврасов А. К. Л.: Художник РСФСР, 1984.
Масси С. Земля Жар-птицы. СПб.: Лики России, 2000.
Мастера искусства об искусстве. М.: Искусство, 1966.
Материалы выставки «Европейское путешествие П. М. Третьякова». М.: ГТГ, 2016.
Материалы ОР ГТГ.
Материалы РГАЛИ.
Милорадович С. Д. Из моей автобиографии. Три года в училище живописи. 1874–1878. Рукопись в собрании ОР ГТГ.
Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Л.: Художник РСФСР, 1963.
Митрофанов А. Г. Прогулки по старой Москве. Мясницкая. М.: Ключ-С, 2010.
Муратов П. П. Образы Италии. М.: Республика, 1994.
Мутер Р. Русская живопись в XIX веке. М.: Издание книжного магазина Гросман и Кнебель, 1900.
Нестеров М. В. Давние дни. М.: Русская книга, 2005.
Нестеров М. В. Письма. Л.: Искусство, 1988.
Никольский В. История русского искусства. Берлин, 1923.
Новоуспенский Н. Н. Алексей Кондратьевич Саврасов. [Электронный ресурс] URL: -history.ru/books/novouspenskiy-savrasov.html (дата обращения: 21.09.2016).
Паустовский К. Г. Исаак Левитан. [Электронный ресурс] URL: (дата обращения: 24.08.2016).
Перов В. Г. Рассказы художника. М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1960.
Петров В. А. Саврасов. М.: Белый город, 2007.
Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. 1856–1869 / Сост.: Н. Г. Галкина, М. Н. Григорьева. М.: Искусство, 1960.
Порудоминский В. И. Крамской. М.: Искусство, 1974.
Репин И. Е. Далекое близкое. Воспоминания. М.: Захаров, 2002.
Ростиславов А. А. Левитан. СПб.: Издание Н. И. Бутковской, 1911.
Русские художники. [Электронный ресурс] URL: (дата обращения: 16.09.2014).
Русские художники от А до Я. М.: Слово, 2005.
Саврасов А. К. Каталог выставки ГТГ. М.: Сканрус, 2005.
Сахарова Е. В. Поленов В. Д. Письма, дневники, воспоминания. М.-Л.: Искусство, 1950.
Стасов В. В. Избранные сочинения. Т. 1. М.: Искусство, 1952.
Степанова С. С. Московское училище живописи и ваяния. СПб.: Искусство—СПб, 2005.
Страхов Н. Н. Письма о философии. [Электронный ресурс] URL: / (дата обращения: 16.09.2014).
Федоров-Давыдов А. А. Исаак Ильич Левитан. М.: Искусство, 1966.
Федоров-Давыдов А. А. Русский пейзаж конца XIX — начала XX века. М.: Искусство, 1974.
Федоров-Давыдов А. А. Саврасов. М.: Искусство, 1957.
Шаньков М. Ю. Записки художника. М.: Амарант, 2002.
Шишкин И. И. Переписка. Дневники. Современники о художнике. Л.: Искусство, 1984.
Шмелев И. С. Лето Господне. Человек из ресторана. М.: Вече, Дрофа, 2003.
Яковлева Н. А. Иван Николаевич Крамской. Л.: Художник РСФСР, 1990.
Яровой М. М. Автобиографический очерк и мои воспоминания. 1932. Рукопись в собрании ОР ГТГ. 4/215.
Pevsner N. Academies of Art in Past and Present. C., 1940; L’Accademia Nazionale di San Luca / Crocetti V. ecc. R., 1974.
Иллюстрации
В. Г. Перов. Портрет художника А. К. Саврасова. 1878 г.
А. В. Нотбек. Портрет Карла Ивановича Рабуса. 1850-е гг.
Карл Карлович Герц. 1860–1870-е гг.
Императорский почтамт. Литография А. Ш. Мюллера. 1840-е гг.
Софья Карловна Саврасова, урожденная Герц. 1860-е гг.
Константин Карлович Герц. 1860–1870-е гг.
И. Н. Крамской. Автопортрет. 1867 г.
Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Фотография. 1896 г.
В. Г. Перов. Автопортрет. 1870 г.
Выставочный зал Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Фотография. 1900-х гг.
Н. И. Подключников. Живописная мастерская в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. 1830-е гг.
И. Н. Крамской. Портрет И. И. Шишкина. 1880 г.
С. И. Светославский. Вид из окна Московского училища живописи, ваяния и зодчества. 1878 г.
И. Е. Репин. Портрет П. М. Третьякова. 1883 г.
Группа членов Товарищества передвижных художественных выставок. 1886 г. Сидят (слева направо): С. Н. Аммосов, А. А. Киселёв, Н. В. Неврев, В. Е. Маковский, А. Д. Литовченко, И. М. Прянишников, К. В. Лемох, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, Иванов (служащий в правлении товарищества), Н. Е. Маковский. Стоят (слева направо): Г. Г. Мясоедов, К. А. Савицкий, В. Д. Поленов, Е. Е. Волков, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, Н. А. Ярошенко, П. А. Брюллов, А. К. Беггров
В. А. Гиляровский
Уличная торговля. Москва. 1890-е гг.
Н. Е. Маковский, В. Д. Поленов, В. Е. Маковский, К. А. Савицкий. Середина 1880-х гг.
А. Н. Мокрицкий. Автопортрет. 1840 г.
А. М. Колесов. Портрет С. К. Зарянко
И. М. Прянишников. В мастерской художника. 1890 г.
И. И. Левитан
А. М. Корин. Больной художник. 1892 г.
С. А. Коровин
А. М. Корин. Автопортрет. 1915 г.
А. К. Саврасов. 1870-е гг.
А. К. Саврасов. Летний пейзаж с дубами. Середина 1850-х гг.
А. К. Саврасов. Украинский пейзаж. 1849 г.
А. К. Саврасов. Камень в лесу. 1850 г.
А. К. Саврасов. Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду. 1851 г.
А. К. Саврасов. Степь днем. 1852 г.
А. К. Саврасов. Озеро в горах Швейцарии. 1866 г.
А. К. Саврасов. Сельский вид. 1867 г.
А. К. Саврасов. Лосиный остров в Сокольниках. 1869 г.
А. К. Саврасов. Лунная ночь. Болото. 1870 г.
А. К. Саврасов. Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода. 1871 г.
А. К. Саврасов. Рыбаки на Волге. 1872 г.
А. К. Саврасов. Вечер. Конец 1860-х — начало 1870-х гг.
А. К. Саврасов. Грачи прилетели. Авторское повторение. 1872 г.
А. К. Саврасов. Весенний день. 1873 г.
А. К. Саврасов. Сухарева башня. 1872 г.
А. К. Саврасов. Ипатьевский монастырь в зимнюю ночь. 1870-е гг.
А. К. Саврасов. Зимний пейзаж. 1880–1890-е гг.
А. К. Саврасов. Весна. Огороды. 1893 г.
А. К. Саврасов. Распутица. 1894 г.
А. К. Саврасов. Весна. 1881 г.
А. К. Саврасов. Ранняя весна. Дали. 1870-е гг.
А. К. Саврасов. Пейзаж с рекой. 1880-е гг.
А. К. Саврасов. Ранняя весна. 1880-е гг.
А. К. Саврасов. Село Волынское. 1887 г.
А. К. Саврасов. Спасский затон на Волге. 1893 г.
А. К. Саврасов. Старые сосны. 1854 г.
А. К. Саврасов. Грачи прилетели. 1871 г.
Содержание
Глава 1. Прелюдия творчества — годы детства и юности … 6
Глава 2. Первые картины и начало признания … 47
Глава 3. Саврасов-педагог — искусство и школа мастерства … 73
Глава 4. Время славы … 96
Глава 5. Время тревог … 143
Глава 6. Учитель и ученики … 196
Глава 7. Последние аккорды — трагедия жизни художника … 225
Глава 8. Суждения о личности и творчестве А. К. Саврасова … 276
Послесловие … 286
Примечания … 287
Список сокращений … 301
Основные даты жизни и творчества А. К. Саврасова … 302
Краткая библиография … 305
Примечания
1
Коровин К. А. Воспоминания. Минск: Современный литератор, 1999. С. 89.
(обратно)2
Левитан И. И. Письма. Документы. Воспоминания. М.: Искусство, 1956. С. 108.
(обратно)3
Коровин К. А. Воспоминания. Минск: Современный литератор, 1999. С. 118.
(обратно)4
Фамилия Соврасовы писалась через «о». В некоторых документах XIX века в отношении А. К. Саврасова также сохраняется написание через «о», хотя сам Алексей Кондратьевич писал свою фамилию как «Саврасов», что подтверждают его автографы.
(обратно)5
Новоуспенский Н. Н. Алексей Кондратьевич Саврасов. [Электронный ресурс] URL: -history.ru/books/novouspenskiy-savrasov.html (дата обращения: 21.09.2016).
(обратно)6
Там же.
(обратно)7
Митрофанов А. Г. Прогулки по старой Москве. Мясницкая. М.: Ключ-С, 2010. С. 200.
(обратно)8
РГАЛИ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 465. Л. 1. При цитировании данного документа здесь и далее используется авторская пунктуация.
(обратно)9
Там же.
(обратно)10
Алленов М. М. Русское искусство XVIII — начала XX века. М.: Трилистник, 2000. С. 190.
(обратно)11
Мальцева Ф. С. Саврасов А. К. Л.: Художник РСФСР, 1984. С. 8.
(обратно)12
Левитан И. И. Письма. Документы. Воспоминания. М.: Искусство, 1956. С. 108.
(обратно)13
Егор (Георгий) Иванович Маковский (1800–1886) — художник-любитель, коллекционер и художественный деятель. Портрет Е. И. Маковского, созданный В. Е. Маковским (1880), принадлежит собранию ГТГ.
(обратно)14
Николай Аполлонович Майков (1794–1873) — художник, отец поэта Аполлона Николаевича Майкова.
(обратно)15
ОР ГТГ. Виппер Ю. Ф. История Училища живописи, ваяния и зодчества. Рукопись. 4/89.
(обратно)16
Там же.
(обратно)17
Шаньков М. Ю. Записки художника. М.: Амарант, 2002. С. 387.
(обратно)18
Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М.: Эксмо, 2008. С. 318.
(обратно)19
На месте этого дома в 1896 году архитекторами К. Гиппеусом и Р. Клейном было возведено здание чайного магазина С. Перлова.
(обратно)20
Высказывание И. С. Глазунова.
(обратно)21
Материалы Центрального государственного литературного архива. Цит. по: Дмитриева Н. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. М.: Искусство, 1951. С. 24.
(обратно)22
Рамазанов Н. Материалы для истории художеств в России. М., 1863. Цит. по: Дмитриева Н. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. М.: Искусство, 1951. С. 26.
(обратно)23
Шишкин И. И. Переписка. Дневники. Современники о художнике. Л.: Искусство, 1984. С. 339.
(обратно)24
Перов В. Г. Записки художника. М.: АХ СССР, 1960. С. 110.
(обратно)25
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 26.
(обратно)26
Коваленская Т. М. Передвижники и художественный прогресс // Передвижники. Сборник статей. М.: Искусство, 1977. С. 32.
(обратно)27
Там же.
(обратно)28
Коровин К. А. То было давно… там… В России… Книга 1. М.: Русский путь, 2011. С. 222.
(обратно)29
Там же.
(обратно)30
Там же. С. 54.
(обратно)31
Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М.: Эксмо, 2008. С. 104.
(обратно)32
Там же.
(обратно)33
Степанова С. С. Московское училище живописи и ваяния. СПб.: Искусство—СПб, 2005. С. 75.
(обратно)34
Там же. С. 78.
(обратно)35
Рамазанов Н. А. Материалы для истории художеств в России. Кн. 1. М., 1863. С. 91.
(обратно)36
Степанова С. С. Московское училище живописи и ваяния. СПб.: Искусство—СПб, 2005. С. 100.
(обратно)37
Шишкин И. И. Переписка. Дневники. Современники о художнике. Л.: Искусство, 1984. С. 301.
(обратно)38
Московские ведомости. 1857. 7 ноября. Раздел «Художественная летопись. Биографический очерк». Цит. по: Степанова С. С. Московское училище живописи и ваяния. СПб.: Искусство—СПб, 2005. С. 75.
(обратно)39
Дмитриева Н. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. М.: Искусство, 1951. С. 38.
(обратно)40
Перов В. Г. Записки художника. М.: АХ СССР, 1960. С. 99.
(обратно)41
Московские ведомости. 1857. 7 ноября. Раздел «Художественная летопись. Биографический очерк». Цит. по: Степанова С. С. Московское училище живописи и ваяния. СПб.: Искусство—СПб, 2005. С. 75.
(обратно)42
Там же.
(обратно)43
Перов В. Г. Записки художника. М.: АХ СССР, 1960. С. 98.
(обратно)44
Там же. С. 108.
(обратно)45
Там же С. 118.
(обратно)46
Там же. С. 118–119.
(обратно)47
Там же. С. 120–121.
(обратно)48
Там же. С. 131–132.
(обратно)49
Даниэль С. М. Европейский классицизм. СПб.: Азбука-классика, 2003. С. 129.
(обратно)50
Перов В. Г. Записки художника. М.: АХ СССР, 1960. С. 102.
(обратно)51
Там же. С. 103.
(обратно)52
Там же. С. 98.
(обратно)53
Коровин К. А. То было давно… там… В России… Книга 1. М.: Русский путь, 2011. С. 226.
(обратно)54
Готье Т. Путешествие в Россию. М.: Мысль, 1988. С. 266.
(обратно)55
РГАЛИ. Ф. 680 «Училище живописи, ваяния и зодчества». Оп. 1. Д. 154. «Дело об отборе работ учащихся для лотерей». Л. 46.
(обратно)56
Там же. Л. 50.
(обратно)57
Там же. Л. 54.
(обратно)58
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 128. Л. 1.
(обратно)59
Виппер Ю. Р. История училища живописи, ваяния и зодчества. Рукопись в собрании ОР ГТГ. 4/89.
(обратно)60
Перов В. Г. Рассказы художника. М.: Академия художеств СССР, 1960. С. 86.
(обратно)61
Там же.
(обратно)62
Дмитриева Н. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. М.: Искусство, 1951. С. 50.
(обратно)63
Цит. по: Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 65.
(обратно)64
Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М.: Эксмо, 2008. С. 116–117.
(обратно)65
Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях / Сост. И. А. Виноградов. М.: XXI век — согласие, 2001. С. 279.
(обратно)66
Масси С. Земля Жар-птицы. СПб.: Лики России, 2000. С. 266.
(обратно)67
Боткина А. В. Павел Михайлович Третьяков в жизни и в искусстве. М.: ГТГ, 1951. С. 42.
(обратно)68
Масси С. Земля Жар-птицы. СПб.: Лики России, 2000. С. 353.
(обратно)69
Коваленская Т. М. Передвижники и художественный прогресс // Передвижники. Сборник статей. М.: Искусство, 1977. С. 33.
(обратно)70
Там же.
(обратно)71
История России в XIX веке. Т. 6, отд. 2: Эпоха реакции / Сост.: Е. В. Аничков, С. М. Блеклов, М. М. Богословский, И. Н. Бороздин и др. СПб.: Гранат, 1907–1911. С. 2–3.
(обратно)72
Порудоминский В. И. Крамской. М.: Искусство, 1974. С. 14.
(обратно)73
РГАЛИ. Ф. 732. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 3.
(обратно)74
Там же.
(обратно)75
Там же. Л. 4–9.
(обратно)76
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 88.
(обратно)77
РГАЛИ. Ф. 732. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 44.
(обратно)78
О состоянии живописи в Северной Европе от Карла Великого до начала Романской эпохи. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1859. С. 48.
(обратно)79
Исторический обзор археологических исследований и открытий на Таманском полуострове с конца XVIII столетия до 1859 года. М.: Синодальная типография, 1876. С. 118.
(обратно)80
РГАЛИ. Ф. 191. Оп. 1. Ед. хр. 2063. Л. 1–42.
(обратно)81
Там же. Ф. 450. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 93.
(обратно)82
Журнал «Атеней» издавался ежемесячно в Москве с 1 января 1858 года по 1 мая 1859 года под редакцией Евгения Корша. Публиковались труды лучших отечественных ученых и журналистов того времени.
(обратно)83
РГАЛИ. Ф. 191. Оп. 1. Ед. хр. 2063. С. 562–563.
(обратно)84
Там же. Ф. 732. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 2.
(обратно)85
Там же. Л. 22.
(обратно)86
Там же. Л. 19.
(обратно)87
Там же.
(обратно)88
Там же. Л. 9.
(обратно)89
Анненков Н. И. Ботанический словарь.
(обратно)90
РГАЛИ. Ф. 732. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 5.
(обратно)91
Готье Т. Путешествие в Россию. М.: Мысль, 1988. С. 110–112.
(обратно)92
Виппер Ю. Р. История училища живописи, ваяния и зодчества. Рукопись в собрании ОР ГТГ. 4/89.
(обратно)93
Там же.
(обратно)94
РГАЛИ. Ф. 680 «Училище живописи, ваяния и зодчества». Оп. 1. Д. 173. «Мнения преподавателей Е. Я. Васильева, П. А. Десятова, С. К. Зарянко, А. Н. Мокрицкого, А. К. Саврасова об улучшении учебного процесса, методов преподавания и др.». Л. 27.
(обратно)95
Там же.
(обратно)96
Там же. Ф. 680 «Училище живописи, ваяния и зодчества». Оп. 1. Д. 173. «Дело об отборе работ учащихся для лотерей». Л. 28.
(обратно)97
Коровин К. А. Воспоминания. Минск: Современный литератор, 1999. С. 56.
(обратно)98
Нестеров М. В. Из неопубликованной переписки. СПб., части. собр.
(обратно)99
Мальцева Ф. С. Саврасов А. К. Л.: Художник РСФСР, 1984. С. 13–14.
(обратно)100
Перов В. Г. Рассказы художника. М.: АХ СССР, 1960. С. 10.
(обратно)101
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 85.
(обратно)102
Там же.
(обратно)103
Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М.: Эксмо, 2008. С. 113.
(обратно)104
Московское общество любителей художеств — объединение художников и любителей искусств, существовавшее с 1860 по 1918 год. Деятельность общества заключалась в помощи художникам, организации выставок, проведении конкурсов, аукционов, вечеров, где зачитывались доклады по различным вопросам искусств. Некоторые авторы имели возможность поехать за рубеж на средства общества. В 1894 году членами Общества был организован первый в Москве съезд художников и любителей художеств.
(обратно)105
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 1221. Л. 1–2. В письме сохранены орфография и пунктуация оригинала.
(обратно)106
Там же.
(обратно)107
Степанова С. С. Московское училище живописи и ваяния. СПб.: Искусство—СПб, 2005. С. 140.
(обратно)108
Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях / Сост. И. А. Виноградов. М.: XXI век — согласие, 2001. С. 217.
(обратно)109
Там же. С. 218.
(обратно)110
Степанова С. С. Московское училище живописи и ваяния. СПб.: Искусство—СПб, 2005. С. 140.
(обратно)111
Алленов М. М. Русское искусство XVIII — начала XX века. М.: Трилистник, 2000. С. 191.
(обратно)112
Левитан И. И. Воспоминания. Письма. М.: Искусство, 1950. С. 29.
(обратно)113
Евстратова Е. Н. Виктор Васнецов. М.: Терра-Книжный клуб, 2004. С. 237.
(обратно)114
РГАЛИ. Ф. 660. Оп. 1. Л. 1.
(обратно)115
Там же.
(обратно)116
Там же. Л. 3–6.
(обратно)117
Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях / Сост. И. А. Виноградов. М.: XXI век — согласие, 2001. С. 5.
(обратно)118
Там же. С. 6.
(обратно)119
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 90–92.
(обратно)120
Толстой Л. Н. Декабристы. (дата обращения: 12.02.2015).
(обратно)121
История Отечества: люди, идеи, решения / Сост. С. В. Мироненко. М., 1991. С. 324–325.
(обратно)122
Боткина А. В. Павел Михайлович Третьяков в жизни и в искусстве. М.: ГТГ, 1951. С. 31.
(обратно)123
Шишкин И. И. Переписка. Дневник. Современники о художнике. Л.: Искусство, 1984. С. 121.
(обратно)124
Порудоминский В. И. Крамской. М.: Искусство, 1974. С. 82.
(обратно)125
Шаньков М. Ю. Записки художника. М.: Амарант, 2002. С. 388.
(обратно)126
Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. 1856–1869 / Сост.: Н. Г. Галкина, М. Н. Григорьева. М.: Искусство, 1960. С. 122.
(обратно)127
Там же. С. 152.
(обратно)128
Перов В. Г. Рассказы художника. М.: АХ СССР, 1960. С. 98.
(обратно)129
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 789. Оп. 2. Ед. хр. 11. Л. 22.
(обратно)130
Там же. Оп. 3, 1860. Ед. хр. 13. Ч. 1. Л. 37 об.
(обратно)131
Там же. Оп. 3, 1861. Ед. хр. 3. Л. 13.
(обратно)132
См. примечание 104.
(обратно)133
РГАЛИ. Ф. 660. Оп. 1. Л. 7.
(обратно)134
Боткина А. В. Павел Михайлович Третьяков в жизни и в искусстве. М.: ГТГ, 1951. С. 46–47.
(обратно)135
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 1295. Д. 2. Л. 6.
(обратно)136
Достоевский Ф. М. Зимние заметки о летних впечатлениях. Полное собрание сочинений. Т. 4. М.: Воскресенье, 2004. С. 332.
(обратно)137
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 1295. Л. 1. При цитировании сохранены орфография и пунктуация оригинала.
(обратно)138
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 120.
(обратно)139
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 1295. Л. 1–2. При цитировании сохранены орфография и пунктуация оригинала.
(обратно)140
Там же. Л. 2. При цитировании сохранены орфография и пунктуация оригинала.
(обратно)141
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 117.
(обратно)142
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 1295. Л. 2. При цитировании сохранены орфография и пунктуация оригинала.
(обратно)143
Там же.
(обратно)144
Там же.
(обратно)145
Цит. по: Нестерова Е. Алексей Саврасов. СПб.: Аврора, 2002. С. 20.
(обратно)146
Из донесения барона М. Клодта. РГИА. Ф. 789. Оп. 2. Ед. хр. 11. Л. 22.
(обратно)147
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 1295. Л. 3–4. При цитировании сохранены орфография и пунктуация оригинала.
(обратно)148
Стасов В. В. После всемирной выставки (1862) / Стасов В. В. Избранные сочинения. Т. 1. М.: Искусство, 1952. С. 66.
(обратно)149
Из донесения барона М. Клодта 1-го от 20 октября 1860 г. РГИА. Ф. 789. Оп. 3. Ед. хр. 13. Ч. 1, 1860. Л. 63.
(обратно)150
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 121.
(обратно)151
Чистяков П. П. Поленову В. Д. и Левицкому Р. С. из Петербурга. Май 1878 г. // Сахарова Е. В., Поленов В. Д., Поленова Е. Д. Хроника семьи художников. М., 1964. С. 267.
(обратно)152
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 124.
(обратно)153
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 1295. Л. 5. При цитировании сохранены орфография и пунктуация оригинала.
(обратно)154
Там же.
(обратно)155
Там же. Л. 3.
(обратно)156
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 129.
(обратно)157
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 1295. Л. 5. При цитировании сохранены орфография и пунктуация оригинала.
(обратно)158
Цвингер (нем. Zwinger) — в дословном переводе: клетка, ловушка, западня, в Средневековье цвингер — часть крепости между наружной и внутренней крепостными стенами.
(обратно)159
Бенедиктинцы — старейший католический монашеский орден, основанный в Субиако и Монтекассино святым Бенедиктом Нурсийским в VI веке. Во многом благодаря тому, что в уставе ордена разумно распределялось время между молитвой и физическим трудом монахов, орден стал наиболее многочисленным в Европе.
(обратно)160
Станца — ит. stanza — комната.
(обратно)161
Адольф (Антуан Жозеф) Сакс (фр. Antoine-Joseph (Adolphe) Sax; 6 ноября 1814, Динан, Бельгия — 4 февраля 1894[3], Париж), бельгийский изобретатель музыкальных инструментов, наиболее известный изобретением саксофона и саксгорнов.
(обратно)162
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 1295. Л. 4. При цитировании сохранены орфография и пунктуация оригинала.
(обратно)163
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 134.
(обратно)164
Порудоминский В. И. Крамской. М.: Искусство, 1974. С. 43–44.
(обратно)165
Там же.
(обратно)166
РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 16. Ед. хр. 177. Л. 8–9.
(обратно)167
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 935. Л. 9.
(обратно)168
Там же. Л. 8.
(обратно)169
Гиляровский В. А. Друзья и встречи. М.: Эксмо, 2008. С. 404.
(обратно)170
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 147.
(обратно)171
Там же. С. 142.
(обратно)172
Виппер Ю. Р. История училища живописи, ваяния и зодчества. Рукопись в собрании ОР ГТГ. 4/89. С. 106.
(обратно)173
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 1310. Л. 1.
(обратно)174
Гиляровский В. А. Люди театра. М.: Эксмо, 2008. С. 493.
(обратно)175
РГАЛИ. Ф. 2426 «Собрание материалов о Саврасове А. К.». Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1.
(обратно)176
ОР ГТГ. Объявление А. К. Саврасова для участия на Всемирной выставке. 1866. 79/39. С. 1.
(обратно)177
Масси С. Земля Жар-птицы. СПб.: Лики России, 2000. С. 318.
(обратно)178
Готье Т. Путешествие в Россию. М.: Мысль, 1988. С. 387.
(обратно)179
Ильин И. А. Путь духовного обновления. [Электронный ресурс] URL: -ship.ru/load/proekt_rossija/put_dukhovnogo_obnovlenija_ilin_i_a/133-1-0-1085 (дата обращения: 16.09.2016).
(обратно)180
Крамской И. Н. Переписка. Т. 1. М.: Искусство, 1953. С. 75–76.
(обратно)181
Там же. С. 78.
(обратно)182
РГАЛИ. Ф. 732. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 39.
(обратно)183
Там же. Ф. 680 «Собрание материалов о Саврасове А. К.». Оп. 301 (1). Ед. хр. 1149. Л. 25.
(обратно)184
Там же. Л. 6.
(обратно)185
Там же. Оп. 301 (2). Ед. хр. 74. Л. 136.
(обратно)186
Нестеров М. В. Письма. Л.: Искусство, 1988. С. 5.
(обратно)187
Левитан И. И. Воспоминания. Письма. М.: Искусство, 1950. С. 122.
(обратно)188
РГАЛИ. Ф. 680 «Училище живописи, ваяния и зодчества». Оп. 1. Д. 154 «Дело об отборе работ учащихся для лотерей». Л. 6.
(обратно)189
Там же. Л. 22.
(обратно)190
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 169.
(обратно)191
Федоров-Давыдов А. А. Саврасов. М.: Искусство, 1957. С. 19.
(обратно)192
Нестерова Е. Алексей Саврасов. СПб.: Аврора, 2002. С. 87.
(обратно)193
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 178.
(обратно)194
Там же.
(обратно)195
РГАЛИ. Ф. 1346. Оп. 1. Ед. хр. 160. Л. 22.
(обратно)196
Репин И. Е. Далекое близкое. Воспоминания. М.: Захаров, 2002. С. 171.
(обратно)197
Коваленская Т. М. Передвижники и художественный прогресс // Передвижники. Сборник статей. М.: Искусство, 1977. С. 27.
(обратно)198
Крамской об искусстве. М: Изобразительное искусство, 1988. С. 67–68.
(обратно)199
Яковлева Н. А. Иван Николаевич Крамской. Л.: Художник РСФСР, 1990. С. 31.
(обратно)200
Порудоминский В. И. Крамской. М.: Искусство, 1974. С. 93.
(обратно)201
Там же. С. 63.
(обратно)202
Коровин К. А. То было давно… там… В России… М.: Русский путь, 2011. С. 212.
(обратно)203
Боткина А. В. Павел Михайлович Третьяков в жизни и в искусстве. М.: ГТГ, 1951. С. 83.
(обратно)204
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 186.
(обратно)205
Шишкин И. И. Переписка. Дневники. Современники о художнике. Л.: Искусство, 1984. С. 310.
(обратно)206
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 192.
(обратно)207
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 935. Л. 10.
(обратно)208
Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М.: Эксмо, 2008. С. 41.
(обратно)209
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. СПб.: Азбука-классика, 2005. С. 433.
(обратно)210
Там же.
(обратно)211
Из письма Ф. М. Достоевского В. А. Алексееву от 7 июня 1876 года. В кн.: Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. М.: Дрофа, Вече, 2003.
(обратно)212
ОР ГТГ. С. Д. Милорадович. Из моей автобиографии. Три года в училище живописи. 1874–78. С. 1–5.
(обратно)213
РГАЛИ. Ф. 680 «Отчеты о занятиях преподавателей». Оп. 1. Ед. хр. 238. Л. 66.
(обратно)214
ОР ГТГ. Письмо В. Г. Перова и И. М. Прянишникова в Петербургское отделение правления Товарищества Передвижных выставок. 10 декабря. 1873.69/75.
(обратно)215
Русские ведомости. 1874. 2 июня. № 117.
(обратно)216
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 209–210.
(обратно)217
Там же. С. 219.
(обратно)218
Левитан И. И. Воспоминания. Письма. М.: Искусство, 1950. С. 123.
(обратно)219
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 221.
(обратно)220
Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М.: Астрель, 2003. С. 94.
(обратно)221
Страхов Н. Н. Письма о философии. [Электронный ресурс] URL: / (дата обращения: 16.09.2014).
(обратно)222
Ильин И. А. Духовный смысл сказки // Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе. М.: Лепта, 2003. С. 14.
(обратно)223
Поленова Н. В. Абрамцево. Воспоминания. М.: Музей-заповедник «Абрамцево», 2013. С. 18.
(обратно)224
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 224.
(обратно)225
Поленов В. Д. Письма. Дневники. Воспоминания / Сост. Е. В. Сахарова. М.-Л.: Искусство, 1950. С. 163.
(обратно)226
Мальцева Ф. С. Саврасов А. К. Л.: Художник РСФСР, 1984. С. 44.
(обратно)227
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 224–225.
(обратно)228
Федоров-Давыдов А. А. Саврасов. М.: Искусство, 1957. С. 27–28.
(обратно)229
Митрофанов А. Г. Прогулки по старой Москве. Мясницкая. М.: Ключ-С, 2010. С. 151–152.
(обратно)230
Там же. С. 152.
(обратно)231
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 935. Л. 12.
(обратно)232
Там же. Л. 13.
(обратно)233
Коровин К. А. Воспоминания. Минск: Современный литератор, 1999. С. 89.
(обратно)234
Коровин К. А. То было давно… там… В России… М.: Русский путь, 2011. С. 91.
(обратно)235
Там же.
(обратно)236
Там же. С. 115.
(обратно)237
Федоров-Давыдов А. А. Исаак Ильич Левитан. М.: Искусство, 1966. С. 9.
(обратно)238
Исаак Ильич Левитан. Документы, материалы, библиография. М.: Искусство, 1966. С. 29.
(обратно)239
Левитан И. И. Воспоминания. Письма. М.: Искусство, 1950. С. 22.
(обратно)240
Левитан И. И. Летучая энциклопедия. М.: Издание И. А. Маевского, 1913. С. 8.
(обратно)241
История Отечества: люди, идеи, решения / Сост. С. В. Мироненко. М.: Изд-во политической литературы, 1991. С. 41.
(обратно)242
Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М.: Эксмо, 2008. С. 117.
(обратно)243
Дмитриева Н. А. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. М.: Искусство, 1951. С. 28.
(обратно)244
Паустовский К. Г. Исаак Левитан. [Электронный ресурс] URL:
(обратно)245
Левитан И. И. Воспоминания. Письма. М.: Искусство, 1950. С. 24.
(обратно)246
Там же. С. 37.
(обратно)247
Левитан И. И. Письма. Документы. Воспоминания. М.: Искусство, 1956. С. 210.
(обратно)248
Там же. С. 146.
(обратно)249
Там же. С. 14.
(обратно)250
Коровин К. А. То было давно… там… В России… Книга 1. М.: Русский путь, 2011. С. 53.
(обратно)251
Коровин К. А. Воспоминания. Минск: Современный литератор, 1999. С. 53.
(обратно)252
Коровин К. А. То было давно… там… В России… Книга 1. М.: Русский путь, 2011. С. 54.
(обратно)253
Там же. С. 212.
(обратно)254
Коровин К. А. Воспоминания. Минск: Современный литератор, 1999. С. 133–134.
(обратно)255
Там же. С. 117.
(обратно)256
Там же. С. 135.
(обратно)257
Там же.
(обратно)258
РГАЛИ. Ф. 1447. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 16–17.
(обратно)259
Коровин К. А. Воспоминания. Минск: Современный литератор, 1999. С. 134.
(обратно)260
Там же. С. 133.
(обратно)261
Там же. С. 134.
(обратно)262
Там же. С. 139.
(обратно)263
Комаровская Н. И. О Константине Коровине. Л.: Художник РСФСР, 1961. С. 13.
(обратно)264
Домитиева В. М. Константин Коровин. М.: Терра-Книжный клуб, 2007. С. 35.
(обратно)265
Комаровская Н. И. О Константине Коровине. Л.: Художник РСФСР, 1961. С. 22.
(обратно)266
Маковский С. К. Силуэты русских художников. М.: Республика, 1999. С. 52.
(обратно)267
Алленов М. М. Русское искусство XVIII — начала XX века. М.: Трилистник, 2000. С. 247.
(обратно)268
РГАЛИ. Ф. 680 1 325 (1) Н—1149 УЖВиЗ «Документы об организации выставок студенческих работ. 1877–1907». Л. 10.
(обратно)269
Ростиславов А. А. Левитан. СПб.: Издание Н. И. Бутковской, 1911. С. 21–22.
(обратно)270
Федоров-Давыдов А. А. Исаак Ильич Левитан. М.: Искусство, 1966. С. 20–21.
(обратно)271
Там же. С. 21.
(обратно)272
Там же. С. 12–13.
(обратно)273
Шаньков М. Ю. Записки художника. М.: Амарант, 2002. С. 388.
(обратно)274
Коровин К. А. Воспоминания. Минск: Современный литератор, 1999. С. 135.
(обратно)275
Дурылин С. Н. Нестеров в жизни и творчестве. М.: Молодая гвардия, 2004. С. 30.
(обратно)276
Там же. С. 31.
(обратно)277
Паустовский К. Г. Исаак Левитан. [Электронный ресурс] URL: (дата обращения: 24.08.2016).
(обратно)278
Коровин К. А. Воспоминания. Минск: Современный литератор, 1999. С. 90.
(обратно)279
Там же. С. 77–78.
(обратно)280
ЦГАЛИ. Ф. 680. Оп. 1. Ед. хр. 661. Л. 41.
(обратно)281
Коровин К. А. Воспоминания. Минск: Современный литератор, 1999. С. 58.
(обратно)282
Коровин К. А. То было давно… там… В России… М.: Русский путь, 2011. С. 102.
(обратно)283
РГАЛИ. Ф. 1447. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 32.
(обратно)284
Коровин К. А. Воспоминания. Минск: Современный литератор, 1999. С. 79.
(обратно)285
Там же. С. 82.
(обратно)286
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 248.
(обратно)287
Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М.: Эксмо, 2008. С. 273.
(обратно)288
РГАЛИ. Ф. 2426 «Собрание материалов о Саврасове Алексее Кондратьевиче». Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
(обратно)289
Там же. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 935. Л. 14.
(обратно)290
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 240.
(обратно)291
Там же. С. 263.
(обратно)292
РГАЛИ. Ф. 2426 «Собрание материалов о Саврасове А. К.». Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 2.
(обратно)293
Там же. Ед. хр. 4. Л. 1.
(обратно)294
Там же. Ед. хр. 7. Л. 1.
(обратно)295
Там же.
(обратно)296
Гиляровский В. А. Люди театра. М.: Эксмо, 2008. С. 543.
(обратно)297
Там же.
(обратно)298
Коровин К. А. Воспоминания. Минск: Современный литератор, 1999. С. 116.
(обратно)299
Там же.
(обратно)300
Коровин К. А. Жизнь и творчество. Письма. Документы. Воспоминания / Сост. Н. М. Молева. М.: Изд-во АХ СССР, 1963. С. 103.
(обратно)301
Коровин К. А. То было давно… там… В России… М.: Русский путь, 2011. С. 214.
(обратно)302
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 257.
(обратно)303
Там же. С. 248.
(обратно)304
Левитан И. И. Письма. Документы. Воспоминания. М.: Искусство, 1956. С. 183.
(обратно)305
ОР ГТГ. М. М. Яровой. Автобиографический очерк и мои воспоминания. 1932 г. 4/215. С. 5.
(обратно)306
Гиляровский В. А. Друзья и встречи. М.: Эксмо, 2008. С. 375.
(обратно)307
Там же.
(обратно)308
Там же. С. 376.
(обратно)309
Есенин С. А. «Грубым дается радость…», http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e74/e74-186-.htm
(обратно)310
Гиляровский В. А. Друзья и встречи. М.: Эксмо, 2008. С. 376.
(обратно)311
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 935. Л. 16–17. При цитировании сохранены орфография и пунктуация оригинала.
(обратно)312
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб. С. 277.
(обратно)313
Гиляровский В. А. Друзья и встречи. М.: Эксмо, 2008. С. 378.
(обратно)314
Там же. С. 379.
(обратно)315
Там же.
(обратно)316
Там же. С. 381.
(обратно)317
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб. С. 281.
(обратно)318
РГАЛИ. Ф. 660 «Московское общество любителей художеств». Оп. 1. Ед. хр. 935. Л. 18.
(обратно)319
Там же. Л. 19.
(обратно)320
Там же. Ф. 2426. «Собрание материалов о Саврасове Алексее Кондратьевиче». Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1.
(обратно)321
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 291.
(обратно)322
Мальцева Ф. С. Саврасов А. К. Л.: Художник РСФСР, 1984. С. 64.
(обратно)323
Нестерова Е. Алексей Саврасов. СПб.: Аврора, 2002. С. 130.
(обратно)324
Там же. С. 133.
(обратно)325
Там же. С. 129.
(обратно)326
Врубель М. А. Переписка. Воспоминания о художнике. Л.: Искусство, 1976. С. 293.
(обратно)327
Добровольский О. М. Саврасов. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 282–283.
(обратно)328
Там же. С. 284.
(обратно)329
ОР ГТГ. Письмо Н. А. Касаткина И. С. Остроухову. 10/3065.
(обратно)330
Левитан И. И. Письма. Документы. Воспоминания. М.: Искусство, 1956. С. 227.
(обратно)331
Там же. С. 108–109.
(обратно)332
Там же. С. 123.
(обратно)333
Нестеров М. В. Письма. Л.: Искусство, 1988. С. 163.
(обратно)334
Артамонов М. Д. Ваганьково. М., 1981. РГАЛИ. Ф. 1345. Оп. 7. Д. 2. Л. 5.
(обратно)335
Федоров-Давыдов А. А. Исаак Ильич Левитан. М.: Искусство, 1966. С. 354.
(обратно)336
Гиляровский В. А. Друзья и встречи. В кн.: Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М.: Эксмо, 2008. С. 375.
(обратно)337
Стасов В. В. Передвижная выставка 1871 года. В кн.: Стасов В. В. Избранные сочинения. Т. 1. М.: Искусство, 1952. С. 215.
(обратно)338
Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. М.: Республика, 1999. С. 304, 321, 323.
(обратно)339
Иллюстрированный каталог художественного отдела Всероссийской выставки в Москве, 1882 г. / Сост. Н. П. Собко. СПб.: Издание М. П. Боткина, 1882. С. 31.
(обратно)340
Переписка И. Н. Крамского. М.: Искусство, 1954. С. 193.
(обратно)341
Мутер Р. Русская живопись в XIX веке. М.: Издание книжного магазина Гросман и Кнебель, 1900. С. 48.
(обратно)342
Жураковский Е. Краткий курс истории русской живописи XIX века. М.: Издание В. М. Саблина, 1911. С. 51–52.
(обратно)343
Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. М.: Республика, 1999. С. 319.
(обратно)344
Коровин К. А. Воспоминания. Минск: Современный литератор, 1999. С. 82.
(обратно)345
Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. М.: Республика, 1999. С. 321.
(обратно)346
Никольский В. История русского искусства. Берлин, 1923. Цит. по: Горелов М. И. Алексей Кондратьевич Саврасов. М.: Московские учебники, 2002. С. 5.
(обратно)347
Мальцева Ф. С. Саврасов А. К. Л.: Художник РСФСР, 1984. С. 60.
(обратно)348
Митрофанов А. Г. Прогулки по старой Москве. Мясницкая. М.: Ключ-С, 2010. С. 144–145.
(обратно)349
Шаньков М. Ю. Записки художника. М.: Амарант, 2002. С. 389.
(обратно)350
Врангель Н. Н. Собрание И. С. Остроухова в Москве / Аполлон. 1911. № 10. С. 5–14.
(обратно)351
Глаголь С. С., Грабарь И. Э. Исаак Ильич Левитан. М.: Издание И. Кнебель, 1913. С. 5.
(обратно)352
РГАЛИ. Ф. 827. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 1.
(обратно)353
Там же. Ед. хр. 48. Л. 9.
(обратно)354
Там же. Ед. хр. 13. Л. 1.
(обратно)355
Там же. Ед. хр. 67. Л. 2.
(обратно)356
Там же. Ед. хр. 417. Л. 8–25.
(обратно)357
Там же. Л. 19.
(обратно)358
Там же. Л. 23.
(обратно)359
Там же. Л. 25.
(обратно)360
Евдокимов И. В. Левитан. М.: Советский писатель, 1959. С. 32.
(обратно)
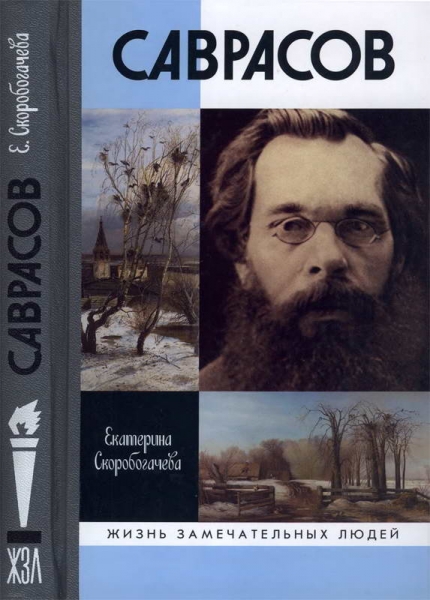



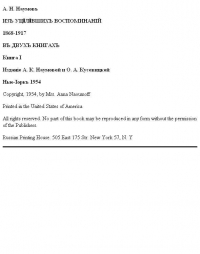


Комментарии к книге «Саврасов», Екатерина Александровна Скоробогачева
Всего 0 комментариев