Владимир Емельянов ГИЛЬГАМЕШ Биография легенды
*
© Емельянов В. В., 2015
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2015
Светлой памяти
Игоря Степановича Мальского
Еще бы биографию Гильгамеша выпустили.
Сайт Лаборатория фа нтастики«Ась?» — тотчас отозвался на это безобразное предложение Фагот.
М. Булгаков. Мастер и МаргаритаПРЕДИСЛОВИЕ
В серии «ЖЗЛ» с недавних пор стали выходить биографии персонажей, реальное существование которых нуждается в серьезных доказательствах. Переиздана книга А. Ф. Лосева о Гомере, вышли в свет биографии Моисея, короля Артура, Робин Гуда, Андрея Первозванного и даже придуманного тремя авторами Козьмы Пруткова. Герои этих книг находятся на стыке истории и литературной фантазии, а Прутков и вовсе принадлежит одной лишь фантазии. Появление таких псевдобиографий свидетельствует о некотором смещении акцентов в понимании самой истории. Раньше читателя интересовало социально-историческое бытие человека, жизнь которого не подлежит сомнению и хорошо документирована. Теперь же он уделяет свое внимание не столько реально жившим людям, сколько символическим персонажам культуры, и интересуется их жизнью не столько в социальной истории, сколько в истории культурных традиций, в восприятии множества людей самых разных национальностей и поколений.
Предлагаемая вниманию читателя книга о Гильгамеше[1] находится в русле этого современного интереса, но ее персонаж имеет одну уникальную особенность. Гильгамеш — самый первый в истории замечательный человек, отделившийся от сонма богов и легендарных героев. Если выстраивать серию «ЖЗЛ» по хронологии, то книга о Гильгамеше должна значиться в ней под первым номером. Ранее Гильгамеша в истории просто нет знаменитых людей. За два столетия до него жил великий египетский архитектор и врач Имхотеп, но его работа находилась в русле деятельности фараона Джосера, и о нем самом как о личности ничего не известно. Но жизнь Гильгамеша, в отличие от жизни первых фараонов и Имхотепа, породила такой могучий отклик всей последующей традиции, что посмертное его существование стало многократно длиннее исторического. Если Б. Пастернак назвал Библию «записной тетрадью человечества», то записанные в течение двадцати веков предания о Гильгамеше, составленные на шумерском, аккадском, хеттском, хурритском, эламском, древнееврейском, сирийском, арабском языках, с полным правом можно назвать «записной книжкой» ближневосточной культуры, ее самым ярким добиблейским и внебиблейским высказыванием. Следы сказаний о Гильгамеше можно видеть и в памятниках античной культуры, и в произведениях европейских авторов XIX–XX веков. Объем рецепции текстов, связанных с Гильгамешем, постепенно приближается к объему толкований на библейские тексты.
В самом деле, герой этой книги всюду, во всех начинаниях человечества является первым. Первый политический лидер. Первый герой военных сражений. Первый строитель. Первый человек, захотевший преодолеть судьбу и избежать участи всех смертных. Первый культурный герой, оставивший рассказ о своем жизненном пути в назидание потомкам. Но Гильгамеш лидирует не только в созидании, но и в нарушении и разрушении основ бытия. Он отказывается подчиниться требованиям общинного уклада, не хочет вступать в священный брак с богиней, обязательный для каждого правителя древней Месопотамии, разоряет гнездо птицы, определяющей судьбы людей, убивает в кедровых горах стража, поставленного богами, и рубит кедры по своей прихоти. Наконец, он нарушитель еще и потому, что пытается избегнуть участи всех людей и отрицает мировой порядок, который поддерживается богами.
Можно говорить о типологии Гильгамеша в истории литературы. Трудно отрицать сходство Гильгамеша и Одиссея — юных воинов, покинувших дом и родных и отправившихся на войну, а в конце жизни вернувшихся на родину мудрецами. Правда, Гильгамеш покидает только родительский дом, своей семьи у него нет, а Одиссей не оставляет никаких записок о своих странствиях. Несомненно сходство Гильгамеша и Геракла — жизнь этих полубогов и героев укладывается в 12 эпизодов. Гильгамеш чем-то напоминает Дон Кихота: так же отрицает ход времени, так же пытается вознестись над законами и обстоятельствами, так же предпочитает месту и традиции путь и поиск и так же, как Рыцарь печального образа, терпит поражение и смиряется перед ликом смерти, становясь мудрецом. Мудрецом — но не добрым человеком. Отличие между ними в том, что Гильгамеш хочет преодолеть судьбу и время ради себя самого, а рыцарь из Ламанчи желает сделать это для спасения других. Но тогда, на выходе из первобытности, эгоизм был для культуры таким же новаторством, каким стал альтруизм в эпоху, предшествующую христианству. Поэтому можно сказать, что Дон Кихот был Гильгамешем эпохи Возрождения.
На новом витке развития культуры Гильгамеш воплощается в образе Фауста — северного эгоиста, мечтателя и искателя, прошедшего долгий путь жизненного опыта и умершего под стук лопат, которыми созидалось новое общество. Но, в отличие от Гильгамеша, Фауст захотел стать молодым только на склоне лет, а до того вел себя как мудрец и старец. Кроме того, Фауст не терял своего Мефистофеля и не тосковал о нем. Однако, несмотря на все эти различия, данные историей, можно уверенно сказать, что литературный тип героя-мудреца ведет свое родословие именно от Гильгамеша[2].
Писать о Гильгамеше непросто: следует различать реального политического деятеля, объект культового поклонения и героя эпических сказаний. Без хронологии тоже не обойтись, поэтому необходимо отдельно изучать Гильгамеша в шумерской и в ассиро-вавилонской традициях. Однако эти традиции тоже неоднородны. Нужно различать старошумерскую литературу и памятники позднешумерской культуры, старовавилонские, средневавилонские и новоассирийские версии эпоса о Гильгамеше. Изучая каждую из эпох, оставивших свое мнение в записной тетради традиции Гильгамеша, необходимо понимать те политические и идеологические ситуации, в которых был необходим именно этот, а не иной образ Гильгамеша. А это означает, что Гильгамеш отражается в многочисленных зеркалах своего потомства — в зеркалах древнейших правителей Ура и Лагаша — Гудеа, Утухенгаля, Ур-Намму, Шульги, Ишби-Эрры, Ишме-Дагана, Саргона II, Ашшурбанапала, — а также еврейских, греческих, сирийских и арабских мудрецов. У каждого царя, у каждой эпохи свой Гильгамеш, и каждая эпоха добавляет что-то свое, совершенно особенное, к его облику и к оценке его деяний.
Эта книга основана на новейших изданиях текстов о Гильгамеше, появившихся через четверть века после классических переводов И. М. Дьяконова и В. К. Афанасьевой. Поэтому не стоит удивляться тому, что многие привычные сюжеты исчезают, а вместо них появляются совершенно иные идеи и мотивации героев. Это связано с развитием филологической науки, позволившей в ряде случаев отвергнуть устаревшие чтения и обнаружить доселе неведомое в давно, казалось бы, известной традиции.
В каждой части книги Гильгамеш называется тем именем, которое фигурирует в текстах определенной эпохи. Все новые переводы с шумерского и аккадского языков выполнены автором книги. Цитирование текстов в переводах предшественников всегда оговаривается особо.
Сердечная благодарность кандидату филологических наук Алексею Кирилловичу Булыгину, кандидату исторических наук Александру Аркадьевичу Немировскому, профессорам Цви Абушу (Брандайз, США), Гебхарду Зельцу (Вена), Симо Парполе (Хельсинки) и Штефану Маулю (Гейдельберг), а также доктору Клаусу Амбосу (Гейдельберг) и магистру Венского университета Эдгару Лейтану (Вена — Дрезден), с которыми обсуждались новые публикации шумерских источников и многие идеи этой книги. Эта работа не состоялась бы без библиографической помощи профессоров Бендта Альстера (Копенгаген) и Вальтера Заллабергера (Мюнхен), кандидата исторических наук Ивана Андреевича Ладынина, сотрудника Университета им. Фридриха Шиллера Ильи Хаита (Йена) и без многолетней драгоценной помощи преподавателя Гарвардского университета Натальи Янчевской, копировавшей статьи из университетской библиотеки. Фрагмент Элиана любезно перевел по моей просьбе кандидат исторических наук Дмитрий Вадимович Панченко. Посылаю всем моим волшебным помощникам благодарность и низкий поклон.
Идею книги четверть века назад подсказал автору Игорь Степанович Мальский — известный петербургский журналист, переводчик, публикатор архивных текстов по истории русской литературы. Его светлой памяти она и посвящена.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ БИЛЬГАМЕС, ЭН УНУГА
… Самостоянье человека, Залог величия его.
А. С. ПушкинГлава первая УНУГ — МАСТЕРСКАЯ БОГОВ
Давайте сразу договоримся: мы будем называть людей и города так, как они назывались в определенную эпоху и на конкретном языке. В шумерских текстах нашего героя звали Бильгамес, а название города, которым он правил, по-шумерски звучало как Унуг. В аккадском языке героя зовут Гильгамеш, а город — Урук. В древнееврейском, греческом, сирийском, арабском языках героя могли называть по-разному: Гильгамос, Гелемгос, Булукия. А город сперва назывался по-библейски Эрех, а затем, уже по-арабски, — Варка. Точно так же, Варкой, называют доисторические поселения, располагавшиеся на территории Унуга, современные археологи. Это несложное правило позволит нам различать языки и эпохи, сквозь которые проходил легендарный образ Гильгамеша.
Итак, Унуг. «Унуг — мастерская богов», — говорит шумерский текст о Бильгамесе и Агге. «Урук — овчарня», — читаем мы в Прологе к аккадскому эпосу о Гильгамеше. Первый эпитет говорит о том, что с Унуга боги начали строить весь остальной мир. Второй эпитет намекает на безопасность города, расположившегося за городскими стенами и недоступного для вторжения противника. В самом деле, современная историческая наука признает Унуг первым крупным поселением, окруженным высокой стеной, а следовательно — первым городом на Ближнем Востоке. Но история Унуга начинается задолго до того, как была возведена эта знаменитая стена.
Современное поселение Варка расположено в 300 километрах южнее Багдада и в 35 километрах от Евфрата{1}. Но в конце V тысячелетия до н. э., когда оно возникло под неизвестным нам именем, Евфрат подходил к Варке совсем близко, и на южной окраине она имела пристань. Географически Варка попадает в четвертую климатическую зону Ирака — это аллювиальная низменность. Земля в этом районе покрыта толстым слоем плодородного ила, выходящего на поверхность во время ежегодных наводнений Тигра и Евфрата, и потому она дает сказочно богатый урожай. Неудивительно, что именно эта, самая южная зона Месопотамского региона стала колыбелью зародившейся здесь великой цивилизации. Несмотря на множество неблагоприятных обстоятельств, древние земледельцы, однажды поселившись на этой территории, так и не смогли ее покинуть. Стремление насытить хлебом и рыбой свои семьи, скопить большие запасы продовольствия и выгодно обменивать их на необходимые товары возобладало как над прямой угрозой жизни (непредсказуемые наводнения зимой и сильная жара летом, обилие ядовитых змей, скорпионов и иной смертоносной фауны), так и над недостатком сырья (полезных ископаемых и леса), за которым нужно было ходить за тридевять земель.
Сперва на юге Месопотамии появляется поселковое объединение культуры Убейд (начало V тысячелетия до н. э.), состоявшее из множества поселков, расположенных вдоль рек и притоков. Интересно, что жители этого поселения уже начали отводить от Евфрата каналы, но пока небольшие, около пяти километров в длину. Там же, в убейдских поселениях, археологи нашли первые следы городской жизни: большие постройки площадью до 200 квадратных метров, которые могли быть святилищами известных в то время божеств; печати и оттиски печатей, свидетельствующие о социальной иерархии и об отношениях собственности; разнообразную керамику, выполненную в индивидуальном стиле; кладбища с вытянутым положением погребенных. К концу убейдского периода жители поселков начали освоение сопредельных территорий. Убейдские сосуды и печати обнаружены и на севере Месопотамии, и на юго-востоке Малой Азии. К сожалению, мы не знаем, кем были убейдцы и на каких языках они говорили, поскольку им не посчастливилось изобрести письменность.
Культура Варка наследовала Убейду. Поначалу ее тоже можно назвать объединением поселков. Но ко второй половине IV тысячелетия до н. э. количество поселков резко увеличивается, причем среди них возникают и очень крупные селения, которые уже можно назвать протогородами (по 50 гектаров и больше). Дальше начинается интересный и до конца не понятый период, известный в археологии под названием «экспансии Урука». В Варке появляется массовое производство керамики, связанное с использованием только что изобретенного гончарного круга. Рисунок стандартизируется, но самих произведенных вещей становится очень много, и появляется острая потребность в рынках сбыта. Тогда же жители Варки постепенно переходят от каменных орудий к медным и преуспевают в производстве медного оружия, что позволяет им не только вести мирные переговоры с потенциальными покупателями посуды, но и периодически вторгаться на сопредельные территории. Когда население возрастает до сорока тысяч человек, Варка уже не в состоянии прокормить всех своих обитателей, и начинается активная колонизация не только соседних поселений, но и весьма отдаленных районов — Северной Сирии, Малой Азии и юго-запада Ирана.
Тысячи мигрантов из Варки в короткие сроки (примерно за 150–200 лет) заполонили Ближний Восток, принеся туда свои печати, свою посуду, свое оружие. Было ли это завоеванием? Археология дает в целом отрицательный ответ. Конечно, могли иметь место какие-то локальные стычки мигрантов с местным населением, но в целом переселение жителей Варки проходило мирно. Они давили местных жителей своим числом, привлекали их (в основном охотников и рыболовов) новыми технологиями, предлагали свои товары. В результате образовалась целая сеть поселков культуры Варка на территории от современной Турции до современного Ирана. Значительно возрос объем торговли, что привело к необходимости фиксации сделок. Следствием этих процессов стала информационная революция, сутью которой была замена объемного предметного письма на письмо плоскостное и рисуночное.
На всем пространстве, которое в IV тысячелетии находилось под контролем Варки, были обнаружены глиняные и каменные значки-фишки разной формы. Эти значки датируются началом VII тысячелетия до н. э. Они делятся на простые и сложные. Простые фигурки служили для обозначения мер, количества или веса продукта. Сложные обозначали сами продукты — хлеб, сосуды с маслом, мотки ткани. Население Ближнего Востока использовало такие значки как для информирования торговых партнеров о номенклатуре сделок, так и для учета продукции собственных хозяйств. В начале IV тысячелетия значки стали вкладывать в глиняные «конверты». До периода экспансии Урука такой способ информирования вполне устраивал жителей региона. Но во второй половине тысячелетия становится необходимо учитывать не только объем информации по сделкам, но и имена работников, которые в сделках участвуют, поскольку резко увеличивается число социальных связей и всякая работа нуждается в материальном вознаграждении. Как это сделать? Сперва некоторые значки, помещенные в глиняный конверт, начинают изображать тростниковой палочкой на поверхности. А потом какой-то гений древности догадывается, что можно просто писать все знаки на конверте — и счетные, и предметные, а от объемных значков можно отказаться. Третий шаг делают уже работники главного храма Варки. Они рисунками изображают на глиняной табличке количество продуктов, сами продукты и имена работников, связанных с этими продуктами.
Итак, около 3200 года в результате колонизации части Ближнего Востока жителями Варки в самой Варке появляется первая в мире письменность — клинописная пиктография, то есть рисуночное письмо, состоящее из знаков, оттиснутых на глиняной табличке. Каждый такой знак имел треугольное углубление на конце, напоминающее клин, и поэтому англичанин Т. Хайд в 1700 году назвал месопотамскую письменность клинописью. Какому же народу принадлежит честь изобретения клинописи? Ответа на этот вопрос, как ни странно, мы до сих пор не знаем. Во многих книгах и справочниках можно прочесть, что клинопись изобрели шумеры. Действительно, начиная с XXVII века мы можем читать рисуночные знаки фонетическим образом — то есть как слоги. И это, несомненно, слоги шумерского языка. Но на каком языке были составлены первые рисуночные тексты, остается для нас загадкой. Население Варки было пестрым. В его состав входили и шумеры, и восточные семиты, и пришельцы из Юго-Западного Ирана, где впоследствии образовалось государство Элам. Поскольку же пиктографическое письмо прочесть нельзя, то следует пока записать вопрос об изобретателях клинописи в загадки. Ясно только то, что самые первые рисуночные тексты, без сомнения, были созданы на территории Варки.
Экспансия Варки сошла на нет к концу IV тысячелетия — примерно тогда же, когда появляется рисуночное письмо. Что стало причиной этого? Одни специалисты считают, что колонизаторы не выдержали противостояния с семитскими племенами, продвигавшимися в Северную Месопотамию. Другие полагают, что все дело в ослаблении связей с центром и в укреплении местных военно-политических элит. Точно пока сказать нельзя. Но период активного распространения своей продукции и своих технологий сменяется постепенным уходом в изоляцию, под защиту родных стен и храмов.
С начала III тысячелетия начинается письменная история Варки, которую в это время можно уже называть ее шумерским именем Унуг. Культовым центром Унуга был храмовый комплекс Эанна, «Дом Неба», посвященный богу небесного свода Ану и планете Венера, почитавшейся под именем Инанна, «госпожа Неба». На территории Эанны были расположены древнейшие культовые строения — Белый храм, Красный храм и Известняковый храм. Строились они из известняка, а стены их были покрыты штукатуркой различных цветов. Внутренние помещения храмов состояли из длинного центрального зала с рядами комнат по обе стороны от него. Ступенчатый храм, посвященный Ану, стоял на высокой платформе, имел высоту 13 метров и назывался зиккуратом[3]. Город делился на кварталы. Главным кварталом Унуга был Кулаб — священное место, в котором совершался брак богини и правителя, считавшийся браком Инанны и бога плодородия Думузи.
О культовой жизни Эанны повествует нам алебастровый сосуд из Унуга, изготовленный в начале III тысячелетия до н. э.{2} Сосуд разделен поперечными полосами на три регистра, и «рассказ», изображенный на нем, нужно читать по регистрам снизу вверх. В самом нижнем регистре — как бы обозначение места действия: река, изображенная условными волнистыми линиями, и растущие из нее колосья, листья и пальмы. Следующий ряд — шествие домашних животных (длинношерстных баранов и овец) и затем ряд обнаженных мужских фигур с сосудами, чашами, блюдами, наполненными фруктами. Верхний регистр изображает сложение даров перед алтарем, рядом мы видим символы богини Инанны, жрицу Инанны, которая в длинном одеянии встречает процессию, и направляющегося к ней жреца в одежде с длинным шлейфом, который поддерживает следующий за ним человек в короткой юбочке.
Кем были основаны город Унуг и храм Эанна — неизвестно. Считается, что Унуг стал городом после обнесения его стеной. Но созидатель этой стены длиной девять километров, выложенной из сырцового кирпича, тоже остается для нас загадкой. «Царские списки»[4] говорят, что Эанна существовала еще до самого Унуга и жреческие функции в ней исполнял сын бога солнца Уту по имени Мескианггашер. Этот Мескианггашер почему-то «вошел в море и ушел в горы». Значит ли это, что он утонул и попал в Подземный мир, называвшийся у шумеров словом киr, «гора»? Сам же город Унуг был основан его сыном Энмеркаром. Что касается стены Унуга, то честь ее основания традиция относит ко времени правления Бильгамеса. Однако традиция эта весьма поздняя, восходящая только к началу Старовавилонского периода (XIX век), для которого характерно усиление культа Бильгамеса. Что было до этого — неизвестно.
Впрочем, мы слишком увлеклись Унугом. Он был хотя и первым, но только одним из множества городов, развивавшихся в рамках единого сюжета региональной истории. Поэтому необходимо представить себе картину развития Месопотамии в целом.
Историческая действительность, в которой проходила жизнь унугского эна Бильгамеса, реконструируется с большим трудом, поскольку тексты той эпохи наполовину записаны рисунками, а изображений почти не сохранилось. Итак, что же мы можем сказать об этой действительности и заодно о предшественниках Бильгамеса — первых энах Унуга? Из самых ранних пиктографических текстов, дошедших из храма в городе Унуге, мы узнаем о древнейшем шумерском хозяйстве. В этом нам помогают сами знаки письма, которые в это время еще ничем не отличаются от рисунков. В большом количестве встречаются изображения ячменя, полбы, пшеницы, овец и овечьей шерсти, финиковой пальмы, коров, ослов, коз, свиней, собак, разного рода рыб, газелей, оленей, туров и львов. Понятно, что растения культивировали, а из животных одних разводили, а на других охотились. Из предметов быта особенно часты изображения сосудов для молока, пива, благовоний и для сыпучих тел. Были также специальные сосуды для жертвенных возлияний. Рисуночное письмо сохранило для нас изображения металлических орудий и горна, прялок, лопат и мотыг с деревянными рукоятями, плуга, саней для перетаскивания груза по заболоченным местам, четырехколесных повозок, канатов, рулонов ткани, тростниковых ладей с высоко загнутыми носами, тростниковых загонов и хлевов для скота, тростниковых эмблем богов-предков и многого другого. Существуют в это раннее время и обозначение правителя, и знаки для жреческих должностей, и специальный знак для обозначения раба{3}.
Правителем шумерского города в начальный период истории Шумера был эн (в переводе «господин, обладатель») или энси. Он сочетал в себе функции жреца, военного вождя, градоначальника и председателя парламента. В число его обязанностей входили:
руководство общинным культом, особенно участие в обряде священного брака;
руководство строительными работами, в первую очередь возведением храмов и ирригационных сооружений;
предводительство войском из лиц, зависевших от храмов и от него лично;
председательство в народном собрании, особенно в совете старейшин общины.
Эн и его люди по традиции должны были спрашивать разрешения на свои действия у народного собрания, состоявшего из «юношей города» и «старцев города». Впоследствии же, по мере концентрации власти в руках одной политической группировки, роль народного собрания постепенно уменьшалась. Несмотря на это, до самого конца месопотамской цивилизации народное собрание сдерживало неуемных энов в их военных авантюрах и в стремлении к самообожествлению.
Кроме должности градоправителя известен из шумерских текстов и титул «лугаль» (< lu2 + gal) «большой человек», в разных случаях переводимый или как «царь», или как «хозяин». Титул этот впервые появляется в надписях правителей Ура и Киша, откуда он, вполне возможно, и пошел. Первоначально это был титул военного вождя, который выбирался из числа энов верховными богами Шумера в священном Ниппуре (или в своем городе при участии ниппурских богов) и временно объявлялся гегемоном Шумера с полномочиями диктатора. Впоследствии царями становились не по выбору, а по наследству, хотя при интронизации все еще следовали старому ниппурскому обряду. Таким образом, один и тот же человек мог одновременно быть и эном какого-то города, и лугалем страны, поэтому борьба за титул лугаля шла во все времена истории Шумера. Правда, довольно скоро стала очевидной разница между лугальским и энским титулом. Во время захвата Шумера кутиями ни один энси не имел права носить титул лугаля, поскольку лугалями называли себя вожди оккупантов. А ко времени III династии Ура энси были всего лишь главами городских администраций, всецело подчинявшимися воле лугаля.
Документы из архивов города Шуруппака (XXVI век) показывают, что в этом городе люди правили по очереди, причем правитель менялся ежегодно. Каждая очередь, по-видимому, падала по жребию не только на то или иное лицо, но и на определенный территориальный участок или храм. Это указывает на существование некоего коллегиального органа управления, члены которого по очереди занимали должность старейшины-эпонима. Кроме того, известны свидетельства мифологических текстов об очередности в правлении богов. Наконец, и сам термин для срока правления лугаля bala буквально переводится как «очередь». Это означает, что во всех городах, кроме Ура и Киша, постоянного верховного правления сперва не существовало, а шумерские города, составлявшие союз, могли править по очереди.
Итак, что же представлял собой шумерский союз городов? Определяющей для истории страны явилась организация сети магистральных каналов, которая просуществовала без коренных изменений до середины II тысячелетия до н. э. В своем исследовании «Цивилизация и великие исторические реки» Л. И. Мечников разделяет историю человечества на три основных этапа — речной, морской и океанический. В частности, для речного этапа характерна особая солидарность коллектива при организации ирригационных систем, бывших основой хозяйствования в это время. Именно такая солидарность, предельная сплоченность людей различного происхождения, говорящих на разных языках, вокруг одного общего дела способствовала их дальнейшему культурному симбиозу. Результатом этого процесса стало общее самоназвание, которое все народы Двуречья воспринимали как знак своей этно-территориальной идентификации.
Согласно И. М. Дьяконову, с сетью каналов были связаны и основные центры образования государств — города. Они вырастали на месте первоначальных групп земледельческих поселений, которые концентрировались на отдельных осушенных и орошенных площадях, отвоеванных у болот и пустынь еще в предшествующие тысячелетия. Города образовывались путем стягивания жителей покидаемых деревень в центр. Однако до полного переселения всей округи в один город дело чаще всего не доходило, так как жители такого города не могли бы обрабатывать поля в радиусе более чем 15 километров, и уже освоенную землю, лежащую за этими пределами, пришлось бы бросать. Поэтому в одной округе обычно возникало три-четыре или более связанных между собой города, но один из них всегда был главным: здесь располагались центр общих культов и администрация всей округи. Каждую такую округу И. М. Дьяконов, по примеру египтологов, предложил называть «номом». По-шумерски она называлась ки, что означает «земля, место». Сам же город, бывший центром округи, носил название уру, что мы обычно переводим как «город». Однако в аккадском языке этому слову соответствует алу «община», поэтому можно предположить тот же первоначальный смысл и для шумерского термина. Традиция закрепила статус первого огражденного поселения (то есть собственно города) за Унугом, что вполне вероятно, поскольку археологами найдены фрагменты окружавшей это поселение высокой стены.
Каждый ном еще до концентрации населения в городах создавал собственный магистральный канал. И каждый ном существовал как экономическая или политическая единица до тех пор, пока этот канал поддерживался. Уже к началу III тысячелетия до н. э. в Двуречье существовали следующие номы:
1. Ном в долине реки Диялы с центром в городе Эшнунна и с храмом бога Тишпака.
2. Ном Сиппар на Евфрате с храмом солнечного бога Уту.
3. Ном Куту с храмом бога загробного мира Нер-гала.
4. Ном Киш на Евфрате с храмом бога-воителя Забабы.
5. Ном с центром в городе, шумерское имя которого до нас не дошло (араб. Абу-Салябих).
6. Ном Ниппур на Евфрате с храмом в честь Энлиля.
7. Ном Шуруппак (совр. Фара) с храмом в честь бога Шуруппака — также на Евфрате.
8. Ном Унуг с храмом в честь Ана и Инанны.
9. Ном Ур в дельте Евфрата с храмом в честь лунного бога Нанны. В этот же ном, вероятно, входил и город Эреду (Эриду) с храмом в честь Энки. Уже к началу III тысячелетии до н. э. Эреду был покинут своими жителями, перебравшимися в соседние города Унуг и Ур. Причиной миграции послужило заболачивание и заиливание устья рек после отступления вод Персидского залива, в результате чего стало невозможно земледелие.
10. Ном Адаб с храмом в честь богини-матери Дингирмах.
11. Ном Умма с храмом в честь бога Шары.
12. Ном Ларак на русле канала между Тигром и И-нина-геной с храмом в честь бога-воителя Пабильсага.
13. Ном Лагаш на канале И-нина-гена, с четырьмя городами и главным храмом в честь бога-воителя Нингирсу.
Центром каждого шумерского города был храм главного городского божества. Верховный жрец храма — эн или энси — стоял и во главе администрации нома, и во главе ирригационных работ. Храмы имели обширное земледельческое, скотоводческое и ремесленное хозяйство, которое позволяло создавать большие запасы хлеба, шерсти, тканей, каменных и металлических изделий, что постоянно дополнялось приносимыми богу жертвами. Ценности, которые скапливались на храмовых складах, служили, во-первых, запасным фондом для всей общины на случай неурожая или войны; во-вторых, обменным фондом для международной торговли; в-третьих, для жертвоприношений; в-четвертых, для содержания служебного и рабочего персонала храма. В храмах впервые появляется письменность, создание которой было вызвано нуждами хозяйственного учета и учета жертв. Месопотамский ном, город и храм являются теми основными структурно-территориальными подразделениями, которые впоследствии явятся, так сказать, действующими лицами политической истории Шумера{4}.
Теперь вернемся к Унугу. Запершись под защитой городских стен, его жители вскоре ощутили недостаток строительного леса и камня. С начала III тысячелетия для них стали традиционными походы на восток — в горы Загроса и в Аратту (предположительно, находившуюся в Иране или Пакистане). Начало политической истории Шумера открывается для нас данными эпоса о трех энах Унуга — Энмеркаре, Лугальбанде и Бильгамесе. Эпический канон Унуга включает девять больших поэм. У этих поэм есть общая сюжетная линия — в них рассказано о походах энов в землю Аратты, откуда в Шумер поступали строительный лес и некоторые драгоценные камни (например, лазурит). В эпических песнях об Энмеркаре речь идет об интеллектуальном соревновании между царем Унуга и правителем Аратты. В одном из текстов цари задают друг другу загадки, и одна из них оказывается настолько длинной и трудной, что гонец не может повторить ее. И тогда Энмеркар изобретает… письменность. В другом происходит соревнование магов, в котором побеждает колдунья из Унуга{5}. Тексты о Лугальбанде рисуют образ физически слабого царевича, который, однако, обладает прекрасными качествами уважения к старшим и почтительности к традиции. Именно эти качества помогают Лугальбанде в пещере, где он приносит жертвы богам и взамен удостаивается святости{6}, и в горах, где обитает львиноголовый орел Анзуд — птица, определяющая судьбы богов и людей. Украсив ее гнездо и воздав почести птенцам, Лугальбанда добивается расположения самой птицы, которая в награду наделяет его способностями скорохода и указывает ему путь к войску, от которого царевич отстал по болезни{7}.
Итак, Энмеркар решает свои проблемы при помощи хитроумия, а Лугальбанда с помощью благочестия. Оба они преследуют в эпосе одну и ту же политическую цель — захват восточных гор и подчинение Унугу их народов и их богатств. Энмеркар и Лугальбанда живут в городах ниппурского культового союза, где города и боги правят по очереди, где судьбы решает народное собрание, а не воля одного лидера, где старшими и младшими, господами и подчиненными граждане становятся только на время. При коллективном управлении ум ценится так же высоко, как и благочестие, поскольку следование традиции тесно связано с уважением к старшим как ее носителям.
Но совершенно иначе решает проблемы Бильгамес. И теперь нам пора увидеть своего героя.
Глава вторая БИЛЬГАМЕС В ИСТОРИИ
Древняя Месопотамия оставила нам сотни царских надписей на глине, диорите, базальте, алебастре и лазурите. Но среди них нет ни одной надписи, составленной по приказу Бильгамеса. Первые надписи появились уже после его смерти, на рубеже XXVI–XXV веков. Они были очень короткими: «Мебараси, лугаль Киша». Только имя, титул и место правления. Поэтому нам приходится черпать сведения не из текстов самого Бильгамеса, а из упоминаний о нем.
Впервые его имя встречается в самых старых архивах глиняных табличек, созданных в конце XXVII — начале XXVI века до н. э. в Уре и Шуруппаке. Знаки того времени еще мало отличались от рисунков, писались они не в том порядке, в каком нужно было их читать, да и грамматика присутствует в них весьма условно. Среди имен собственных в тексте из архаического Ура (конец XXVII века) встречаем Пабильга-мес-уту-пада{8}, а в списке богов из Шуруппака вслед за именем Лугальбанды идет Бильгамес. Что означает это имя? Pabilga значит либо «отец, предок мужского рода», либо, напротив, «плод, отпрыск кого-то». Впоследствии это слово произносят и пишут просто Bilga. Mes означает «юноша, герой»{9}. Таким образом, всё имя бога переведется как «предок-герой» либо как «отпрыск героя», что в принципе одно и то же. Это означает, что основатель рода, к которому принадлежит данный человек, был юношей и совершил героическое деяние. Имена такого типа были распространены в Месопотамии. В текстах из Шуруппака встречаются имена собственные Бильга-ду (Bilga-du — «хороший предок»), Бильга-Анзу («предок-Анзу» либо «отпрыск Анзу»). Сохранились имена подобного рода и в старовавилонской Месопотамии. Например, Хаммурапи (Hammu-rapi) означает в переводе с аккадского или аморейского «дядя-целитель». Впрочем, со временем имя Бильгамес могло приобрести и символическое значение. Его могли понимать как «старик-юноша», имея в виду путь ежегодно умирающего и возрождающегося солнца (гипотеза А. Фалькенштейна){10}. Значение имени Бильгамес впоследствии нашло отражение в названии цветка бессмертия из XI таблицы аккадского эпоса — «Шибу иццахир амелу», что в переводе с аккадского означает «старый человек помолодел».
Что же до имени собственного, которое носил мужчина из Ура в конце XXVII века, то оно содержит формулу, хорошо известную из царских надписей, и означает «Пабильга-мес, названный (богом солнца) Уту». «Названный богом» означает «избранный», так именуются избранные оракулом того или иного божества лугали — военные вожди, которые впоследствии стали передавать должность по наследству и тем самым основывать царские династии. Имя мужчины из Ура свидетельствует о том, что Пабильга-мес был избран лугалем по воле жрецов солнечного бога. Это довольно странная история, если учесть, что главными богами Унуга были Ан и Инанна, а центрами солнечного культа считались Сиппар и Ларса. Как получилось, что первые правители Унуга были связаны с богом солнца Уту — это мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Можно предположить, что в самом начале III тысячелетия до н. э. в Унуге почитали всех небесных богов (не случайно же унугский храм называется Эанна, что в переводе означает «Дом Неба»), которые состояли в родстве друг с другом. В некоторых текстах начала II тысячелетия Уту считается братом Инанны, а в гимне о победе Инанны над небесным богом Аном рассказывается о том, что наследство Ана должны поделить между собой его дети — Уту и Инанна{11}. Иногда Уту выступает в роли советчика Инанны — например, в споре земледельца и скотовода он настоятельно требует, чтобы сестра вышла замуж за скотовода Думузи.
Можно сказать, что Бильгамес жил и правил не позднее XXVII века. Из списка богов, составленного в Шуруппаке, мы знаем, что в XXVI веке он вместе с Лугальбандой был уже обожествлен{12} и вряд ли это обожествление состоялось сразу после смерти. Кроме того, отсутствие надписей Бильгамеса при наличии надписей кишского Мебараси указывает на то, что они разминулись во времени примерно на тот срок, когда лугали начинают записывать свои имена и титулы на камне.
В следующий раз мы встречаем имя нашего героя уже в усеченной форме Бильгамес. Надпись на навершии булавы, составленная в XXIV веке до н. э. в Унуге, гласит:
«Бильгамесу, лугалю юношей{13}, могучему сыну Нинсун, Ур-Нингирима, сын Лугальдугани, пастырь, эту изготовленную булаву из алебастра ради своей жизни и ради жизни своей жены и своих детей посвятил».
Надпись весьма информативна. Из нее, во-первых, следует, что Бильгамес считался сыном богини Нинсун, а быть сыном богини означало родиться в священном браке{14}. Во-вторых, довольно странный титул «лугаль юношей» свидетельствует о том, что статус лугаля за Бильгамесом признавали преимущественно юноши, уделом которых в Шумере были военные походы.
Забегая вперед скажем, что уже самые ранние свидетельства о Бильгамесе частично подтверждают информацию более поздних «Царских списков» и шумерских эпических сказаний. В списках говорится, что первая династия правителей Унуга была основана богом солнца Уту и находилась под его покровительством. А в песни о Бильгамесе и Агге сказано, что только юноши признали своим лугалем Бильгамеса и согласились пойти с ним на войну с соседом.
Итак, уже из самых ранних источников мы узнаем, что мать Бильгамеса была богиней. Имя Нинсун (либо Нинсумун) означает «госпожа дикая корова». Считалось, что Нинсун рождает только сильных и властных отпрысков. Происходящими от Нинсун считали себя все великие правители Шумера — от Гудеа до последних царей Ура. С отцом героя дело обстоит куда сложнее. Шумеровавилонская традиция, начиная с Ур-Намму и Шульги, считает его отцом Лугальбанду — эна, правившего до Бильгамеса. Лугальбанда, чье имя означает «маленький лугаль», хорошо известен как герой эпоса, в котором рассказано о его болезни, видениях в пещере и последующей святости, полученной от Инанны и Уту за благочестивое отношение к ним. В корпусе старошумерских текстов из Абу-Салябиха (XXV век) сохранился мифологический фрагмент, в котором речь идет о брачных отношениях Лугальбанды и Нинсун. В этом фрагменте Нинсун названа духом-хранителем (ламассу) Лугальбанды, которого он приводит к своему эну и к матери с дальних гор и с которым хочет вступить в брак (предварительно совокупившись до своего возвращения). К сожалению, продолжение истории до нас не дошло. Но из фрагмента видно, что Лугальбанда и Нинсун не равны друг другу по своему статусу: Нинсун с самого начала имеет божественное происхождение и должность хранителя Лугальбанды, а сам Лугальбанда в этом отрывке еще мал и подчиняется воле старшего правителя{15}.
Во фрагменте из Абу-Салябиха не говорится, что плодом связи богини и юного лугаля стало рождение Бильгамеса. Но поздняя традиция акцентирует именно такую версию. Урские цари считали себя отпрысками брака Лугальбанды и Нинсун, а своим старшим братом — Бильгамеса. Следовательно, можно сказать, что доминирующей версией рождения Бильгамеса является именно происхождение от священного брака унугского эна Лугальбанды и богини плодородия Нинсун. Однако это не единственная версия. Как мы увидим далее, «Царские списки» утверждают, что отцом Бильгамеса был некий лилъ, что можно перевести как «дух, при-зрак». Тогда получается, что Нинсун зачала Бильгамеса от некоего духа или демона, будучи одержима им{16}.
Старошумерские и староаккадские хозяйственные тексты хранят несколько упоминаний о культовых местах и праздниках, связанных с почитанием Бильгамеса{17}. В Лагаше существовало специальное место, называвшееся «берег Бильгамеса». Во время осеннего праздника, посвященного богине Бау, супруге главного городского бога Нингирсу, там приносились жертвы умершим правителям, почитавшимся в Лагаше. В частности, Бильгамес получал от граждан Лагаша козлят, рыбу, зерно и зелень. А в городе Адабе такое же поминальное место называлось «холм Бильгамеса». Весьма возможно, что речь идет о кладбищах и поминальных местах, располагавшихся на другом берегу реки. Нам хорошо известно о существовании ворот, через которые проносили покойников к берегам каналов, отведенных от Тигра или Евфрата. В воротах этих стояли молодцы, получавшие плату за доставку тел на противоположный берег — исторические предтечи греческого Харона. Так вот, даже ворота, через которые тела доставлялись на берег, в Лагаше имели название «врата Бильгамеса». Жертвы умершим тоже доставлялись через эти ворота, а часть города, примыкавшая к берегу реки, и вовсе называлась «внешний город Бильгамеса». Этим она отличалась от внутреннего города, окруженного стеной.
Таким образом, в хозяйственных и административных документах досаргоновского времени имя Бильгамеса было связано исключительно с культом умерших, поминальными местами и (возможно) кладбищами, а празднества с его участием справлялись осенью (месяц богини Бау приходился в Лагаше на октябрь — ноябрь). Можно предположить, что с точки зрения культа Бильгамес в это время — обобщенное название живого человека, которого постигла смерть, но который при этом достоин памяти потомков. В двух хозяйственных текстах из Лагаша сохранилось также мужское имя собственное Ур-Бильгамес «раб Бильгамеса». По какому случаю так могли назвать человека — неясно. Вполне возможно, что «раб Бильгамеса» это просто «смертный».
В царских надписях старошумерского периода и в надписях династии Аккада Бильгамес не упоминается. Из этого можно сделать вполне определенный вывод о второстепенности его культа в пору их составления (XXV–XXIII века). Божество, связанное с могилами и кладбищами, вряд ли могло обеспечить военную мощь царей I династии Лагаша. Оно вполне годилось для того, чтобы вдохновлять солдат на победу или на героическую гибель в сражении (о чем и свидетельствуют надписи этого времени на навершиях булав), но вряд ли было способно сделать правителя «царем четырех стран света». Кроме того, из надписи основателя аккадской династии Саргона следует, что он разрушил стену Унуга и нанес поражение его лугалю, а затем восстановил разрушенный Киш{18}. Вряд ли завоеватель города, в котором правил Бильгамес, стал бы поддерживать его культ. К тому же, если верить надписи, Саргон произвел действие, обратное тому, что некогда совершил Бильгамес: он вернул царственность из Унуга в Киш.
Новую жизнь культ Бильгамеса обретает только во время правления энси второй династии Лагаша Гудеа (конец XXII века). Карьера этого даровитого хозяйственника и покровителя искусств находилась в прямой зависимости от его происхождения. Своей матерью он считал богиню Гатумдуг, об отце не упоминал. Это означает, что он был отпрыском священного брака. Став зятем энси Ур-Бау (также рожденного в результате священного брака), Гудеа через некоторое время сменил его на лагашском престоле и добился расположения кутийского вождя, носившего титул лугаля после оккупации Южной Месопотамии племенами кутиев. Вследствие своего возвышения Гудеа получил право использования на строительных работах не только жителей Лагаша, но и граждан соседних городов (включая даже отдаленные районы Элама). За время его двадцатилетнего правления (ок. 2143–2123) в Лагаше были построены монументальные культовые сооружения, в каждом из которых воздвигались статуи самого правителя, сопровождаемые пространными надписями о его хозяйственных заслугах. А в гимне, записанном на двух глиняных цилиндрах, автор надписи называет энси Гудеа «богом своего города» и «сыном Нинсун», в чем-то уподобляя его самому Бильгамесу. Вот какие благопожелания Гудеа произносятся в последних строках цилиндра В{19}(XXIII 16–21){20}:
О выросший с Бильгамесом, Чей прочный трон никто не свергнет! Бог твой, господин Нингишзида, — родня Небу! Твоя божественная мать Нинсумун — носительница благого отпрыска, свое создание любящая! Ты — дитя, истинной коровой рожденное!Гудеа был убежден в том, что оставленные им надписи и статуи переживут время и сделают его потомство бессмертным. История показала, что в этом он не ошибся. Потомки Гудеа Ур-Нингирсу и Пиригме с гордостью носили титул «сыновей, рожденных Нинсумун» и объявляли ее своим личным духом-хранителем (ламассу){21}. Должно быть, они считали себя равными Бильгамесу по праву происхождения от Гудеа.
Новый этап в развитии культа Бильгамеса наступил в эпоху III династии Ура. В школьном тексте этого времени Бильгамес встроен в иерархию верховных богов, управляющих миром, и объявлен покровителем должности эна:
Отец Энлиль владеет Ниппуром, Мать Нинлиль владеет Экуром, Нанна-Зуэн владеет Небом, Инанна владеет чужими странами, Энки-карп владеет Униром, Нергал владеет Подземным миром, Герой Нинурта владеет битвой, Нуску, праведный визирь, владеет престолами, Бильгамес владеет жречеством (пат-еп), Ниншубур владеет Страной{22}.Как уже было сказано, первые цари III династии Ура — лугаль Унуга Утухенгаль, лугали Ура Ур-Намму (ок. 2113–2093) и Шульги (ок. 2093–2046) — провозгласили Бильгамеса своим помощником в войне против кутиев, а двое последних — еще и своим старшим братом. От этого времени до нас дошел гимн Шульги (гимн О), в котором рассказано об отношениях между царственными братьями. Этот гимн является ценнейшим историческим источником, из которого мы впервые черпаем подробные сведения о культе Бильгамеса. К сожалению, он частично поврежден. Приведем только наиболее значимый фрагмент (38–60):
В день, когда судьба страны решилась, Когда семя живых существ вышло, Лугаль навстречу спутнику своему просиял лучами, — Тогда Бильгамесу, эну Кулаба, Шульги, праведный пастырь Шумера, Под его сияющей стопой слово вывел. Чтобы навеки не молкла слава, Чтобы навсегда продлилось правленье, На долгие годы не прерывалось — Они в могучем своем геройстве Друг на друга посмотрели с приязнью. Шульги, праведный пастырь Шумера, Брата, друга своего Бильгамеса В могуществе своем так прославляет, В геройстве своем такие слова находит: «Богатырь битвы, городов разрушитель, Уничтожающий их в сраженье, Таран священной стены, в метанье пращи искусный, На дом Киша оружие свое ты направил, Семерых героев трупами сделал, Голову Энмебарагеси, царя Киша, Стопой своей сокрушил, Царственность из Киша в Унуг перевел…»Далее в тексте идет большая лакуна, видны только первые знаки каждой строки. Это упоминания похода в кедровые горы, Хувавы, семи лучей, путешествия в Ниппур к богу Энлилю, пленения некоего героя и разгрома враждебных горных стран. В конце текста Шульги назван «сыном Нинсун», что означает его божественный статус и равенство Бильгамесу{23}.
Свидетельство гимна О имеет для историка большое значение. Бильгамес назван здесь сокрушителем головы кишского царя Энмебарагеси. Следовательно, он его современник. Первые царские надписи оставил нам лугаль Киша по имени Мебараси, которого вполне можно отождествить с Энмебарагеси. А этот лугаль жил в XXVI веке. Получается, что Бильгамес тоже жил в это время? Нет. Ведь его имя впервые встречается в составе имени собственного в урском документе XXVII века. Так что или Энмебарагеси и Мебараси это разные лица, или идеология позднего Ура могла передвинуть события унугско-кишской войны на столетие позже. Но в любом случае это уже надежная отправная точка для изучения исторических деяний Бильгамеса. Из гимна О можно сделать совершенно определенные выводы. Во-первых, исторический Бильгамес был известен войной против одного из лугалей Киша, после чего политическое доминирование в Шумере перешло к Унугу. Во-вторых, его знали как инициатора похода на восток, в горы Загроса, где он, по преданию, отнял у Хувавы загадочные семь лучей. Этот подвиг также прибавляет ему политический вес, поскольку, как мы хорошо знаем из старошумерских царских надписей, каждый удачный поход за строительным лесом и камнем давал хозяйству страны возможность развития, не говоря уже о приращении рабочей силы и населения в результате захвата новых рабов. В-третьих, отношения унугского эна с ниппурским храмом Энлиля были обязательной частью политики того времени: удачливый в походе правитель поставлял этому храму часть военных трофеев, в результате чего легитимность его правления подтверждалась жрецами на следующий срок{24}.
Вполне возможно, что составители гимна Шульги читали надписи эна II династии Унуга Эншаку-шанны, который действительно говорит о себе как о завоевателе Киша, принесшем свои лучшие продукты в подарок Энлилю:
«Эншакушанна, эн Шумера, лугаль Страны, когда боги приказали ему, Киш захватил, Энби-Иштара, лугаля Киша, в плен взял».
«Энлилю Эншакушанна имущество Киша захваченного посвятил»{25}.
Устное предание о давнем захвате Киша Бильгамесом, возможно, наложилось здесь на известное по надписям свидетельство о поражении Киша от руки другого унугского правителя, жившего почти на три столетия позже. Интересно, что после этой акции Эншакушанна стал называть себя уже не эном Унуга, а эном всего юга Месопотамии и лугалем всего Двуречья. То есть царственность второй раз за несколько веков переносилась из Киша в Унуг, но для подтверждения легитимности унугского эна в качестве лугаля Страны требовалось разрешение Энлиля и ниппурского жречества.
Сразу обратим внимание на то, что в гимне О ничего не сказано о других событиях жизни Бильгамеса, известных по более поздним текстам: об охоте на львов, о борьбе с быком, о его друге Энкиду, о путешествии к праведнику Утнапиштиму, спасенному богами от потопа. Для Шульги и его эпохи значимы только два события, дающие урским царям возможность сделать Бильгамеса своим братом, — политическая экспансия Унуга и успешный поход в кедровые горы.
Существует один любопытный фрагмент гимна Шульги С, в котором Бильгамес считается символом справедливости:
Я, Шульги, — праведный пастырь Шумера! Подобно брату, другу моему Бильгамесу, Я знаю, кто честен, а кто нечестен!{26}Почему Шульги полагает, что Бильгамес может отличить честного человека от преступника? Ответ на этот вопрос содержится в культе солнечного бога Уту — покровителя всех энов I династии Унуга. Уту (у восточных семитов Шамаш) считался божеством суда и судьей, выносящим справедливые вердикты (собственно законодателем шумеры считали бога Энлиля). Человек, с которым поступают нечестно, мог возгласом «О, Уту!» сделать солнце свидетелем преступления. Именно к статуе Уту подводили подозреваемого и заставляли клясться именем солнца, что он не виновен в предъявленном ему обвинении. Восприятию Бильгамеса как защитника справедливости способствовала и его победа над Кишем, которую Шульги также мог воспринимать как справедливое деяние в отношении противника.
Еще один примечательный документ III династии Ура дошел до нас совсем недавно из коллекции норвежского миллиардера Мартина Скёйена. Это надпись на каменном навершии булавы, которая гласит:
«Бильгамесу
Ур-Нумушда,
Офицер,
Это посвятил».
Сам факт таких посвящений указывает на то, что уже со старошумерского времени Бильгамес воспринимался как покровитель воинов, что не мешало одновременно рассматривать его как божество поминальных мест.
Формула гимна О о перенесении царственности Киша в Унуг могла стать основанием для более поздней концепции переходности царской власти, лежащей в основе «Царских списков». До этой концепции идеологическая мысль Шумера дошла не сразу. В старошумерских царских надписях «царственность» (nam-lugal) не существует как абстрактная категория. Это должность, даруемая неким богом правителю города наряду с должностью энси (nam-ensii) или эна (пат-еп). Первоначально пат-lugal находится у бога. Эта должность соотносима с определенным городом: так, в надписи Эанатума речь идет о должности «лугаль Киша», в более поздних надписях говорится о должности «лугаль Лагаша» или «лугаль Ура». И только в единственном контексте — в надписи Лугальзаггеси — встречается именование «лугаль Страны», которое можно считать уже не столько должностью, сколько титулом правителя{27}.
В текстах Гудеа слово nam-lugal встречается всего два раза в значении «власть». В обоих случаях речь идет о храме Энинну как средоточии власти бога Нингирсу. Этот «дом власти» наполнен ME — магическими силами власти, позволяющими богу контролировать пространство далеко за пределами Лагаша.
Когда к Энинну — дому моей власти — Праведный пастырь Гудеа Правую руку приложит… (AXI 4–6) Храм-колчан, лев, леопард, навстречу страшной змее Язык высунувший, — Храм битвы, ME власти наполненный…{28} (BXIV 6–8)Контексты поэмы об Утухенгале — псевдоэпиграфа эпохи III династии Ура — позволяют сделать один-единственный вывод: nam-lugal превращается здесь в предмет, который можно перемещать из одного места в другое. Она уже не связана с конкретным городом или храмом, но воплощает собой независимость всего Шумера.
Энлиль страну кутиев — ядовитую змею лесистой горы, Что на богов накинулась, Что власть Шумера в горы утащила, (Утухенгалю уничтожить посоветовал). Власть Шумера он вернул.Чтобы вернуть власть Шумера, Утухенгаль обращается за помощью к великим богам и получает поддержку от самого Бильгамеса.
К гражданам города он обратился с речью: «Энлиль на расправу мне кутиев отдал, А госпожа Инанна помочь обещала! Думузи-Амаушумгальанна «Мое дело!» сказал мне, Бильгамеса, сына Нинсун, исполнителем назначил!»{29}В период III династии Ура концепция nam-lugal претерпевает большие изменения. Она начинает восприниматься как мистическая субстанция, имманентная всей урской династии. Согласно царским гимнам nam-lugal, как благодать и как небесный мандат переходит от одного к другому потомку Шульги. Но получают они ее потому, что первый обожествленный царь Ура Шульги был создан Эн-лилем по просьбе лунного бога Нанны. В гимне Шульги G (1—27) говорится:
Энлиль досточтимый, сам себе равный, чьи речения справедливы! Нунамнир, вечный пастырь Страны, из Великой Горы выходящий! Великий Судья, смотритель каналов земных и небесных, все ME оседлавший! Владыка, чья власть вызывает ужас, Звезда совершенная! Великий Бог, за предвечными ME, прекрасными ME надзирающий! Господин-жизнедавец, ведущий народы след в след по концам земли! Большая Сеть, Небо и Землю покрывающая, все земли связующая! Кто Энлилю посмеет советовать, может ли кто сравниться с ним! Великое он задумал — что сердце его, Река Большая, несет? Таинства мыслей своих святых из храма он вывел. Вещь эта — святая вещь, сияющая вещь, к ME Экура он относится! Истинный кирпич определения судьбы, внизу Абзу (установленный) — вещь драгоценная! «Праведник, построивший Экур, вечное имя будет иметь! Сын праведника скипетром долго будет владеть, и с трона его не свергнут!» Поэтому Ашимбаббар в Экуре светит, Отцу своему Энлилю доверяется, с матерью советуется. В Эдуге Нанна, сын властителя, обратился с просьбой — Жрица-эн от того, что в утробу вложено, праведника родила, Энлиль, пастырь силы, ребенка на свет вывел. Ребенок, украшение трона и царства, — это Шульги-царь! Семя льва, в изобилии Страну переполняющее, любимец Нинлиль, Выбранный в Экуре, царь Ура, Сияющее сердце, пастырь-хранитель Страны — вот имена, Коими Энлиль Шульги в светлом сердце своем назвал, доверяя ему народ! Жезл и псалий на руку ему он повесил — пастырем Страны да пребудет! Скипетр Нанны незаменимый в руку его вложил — Чтобы на троне царственности несвергаемой шею к Небу он поднял!{30}Царские списки и тексты, записанные в эпоху аморейской по происхождению I династии Исина (миф о потопе, плачи по Уру и Ниппуру), включают nam-lugal в определенный сюжет и наделяют ее свойствами персоны. С этого момента можно говорить уже не о царской власти, а именно о космической субстанции под названием «царственность». Царственность имеет небесное происхождение. По характеру она пассивна и опаслива: убегает из потерпевших поражение городов и забирается на небо во время потопа. Но города, куда она переходит, начинают доминировать в политической жизни региона. «Царские списки» лишены иллюзии вечного правления одной династии и демонстрируют взгляд «с птичьего полета» — то есть обзор всех правивших в Месопотамии городов и династий, причиной смены которых была названа только одна — произвольный и самовольный переход царственности (Царский список, 40–42, 93–94{31}):
После того как потоп всё смёл, Царственность с Неба сошла, В Кише царственность (поселилась)… Город Киш был поражен оружием, Царственность перешла в Эанну.Таким образом, в истории шумерских представлений о nam-lugal следует выделить три основных периода: а) период даруемой городским богом должности лугаля; б) период имманентной царской власти небесного происхождения, навечно дарованной одной династии; в) период странствующей царственности как небесного принципа существования всякой власти.
Идея странствующей царственности вполне могла появиться на свет в результате рефлексии на тему перенесения царственности из Киша в Унуг в эпоху Бильгамеса. Казалось бы, и сама политическая история городов Месопотамии должна была начаться именно с поражения Энмебарагеси от оружия Бильгамеса, сына Лугальбанды и Нинсун. Но не тут-то было: «Царские списки» имеют весьма оригинальный взгляд на события далекого прошлого. Здесь об отношениях Киша и Унуга сказано следующее:
«Энмебарагеси, подчинивший Элам, стал лугалем, правил 900 лет. Агга, сын Энмебарагеси, правил 625 лет. Киш был поражен оружием, царственность перешла в Эанну. В Эанне Мескианггашер, сын Уту, стал эном и лугалем, правил 325 лет. Мескианггашер вошел в море и ушел в горы. Энмеркар, сын Мескианггашера, лугаль Унуга, построивший Унуг, стал лугалем, правил 420 лет. Лугальбанда, пастырь, правил 1200 лет. Думузи, рыбак из Куары, правил 100 лет. Он захватил однорукого Энмебара-геси (либо «одной рукой он захватил Энмебарагеси». — В. Е.){32}. Бильгамес, отец которого дух, эн Кулаба, правил 126 лет. Ур-Нунгаль, сын Бильгамеса, правил 30 лет» (83—118).
Мы знаем, что «Царские списки» начали создаваться еще при III династии Ура. Но, к сожалению, нам неизвестно, когда именно возникла их основная концепция. По-видимому, ее следует датировать уже началом Старовавилонского периода, как и списки правящих городов. Приведенные здесь данные совпадают с гимном Шульги О и с песней о Бильгамесе и Агге лишь частично. Мы видим, что, хотя согласно спискам царственность переносится из Киша в Унуг при Агге, единственная упомянутая в тех же списках победа Унуга над Кишем — это захват Энмебарагеси, отца и предшественника Агги, унугским правителем Думузи, рыбаком из Куары. Этого Думузи совершенно не знают другие исторические источники (хотя известен гимн его храму, составленный во времена династии Аккада). Но в «Царских списках» он разрывает линию преемства и даже родства между Лугальбандой и Бильгамесом. Сам же Бильгамес примечательно лишен в тексте «Царских списков» отца и титула лугаля. Его называют только эном Кулаба, оставляя жреческие функции, но ставя под сомнение его легитимность как правителя Унуга. Кроме того, мы узнаем из текста списков, что у Бильгамеса был сын и звали его Урлугаль (в другой версии — Ур-Нунгаль).
Такое впечатление, что авторы списков намеренно хотят отнять у Бильгамеса его основную политическую заслугу, известную во времена Шульги (а скорее всего, и раньше), и его право на статус полноценного правителя. Действительно, далее мы увидим, что исинско-аморейская традиция отсекла от легенды Гильгамеша историю о победе над Кишем. В вавилоно-ассирийском эпосе эта история отсутствует не только мотивно, но и формульно. Авторы поздних версий почти ничего из нее не заимствуют. Несколько строк хвалы Унугу пригождаются только автору Пролога к новоассирийской версии. Из двух заслуг, упомянутых в гимне Шульги О, была оставлена и развита послешумерской традицией только победа над Хувавой в кедровых горах.
В чем же тут дело? Дело, вероятно, в том, что на рубеже III–II тысячелетий новые насельники Южной Месопотамии совершенно не представляли себе, почему победа Унуга над Кишем является таким значительным событием для истории. Экспансия Бильгамеса была заменена ими на подвиг созидания. Так, в надписи эна Анама из Унуга (XX — начало XIX века) упомянута стена Бильгамеса, которой он некогда обнес свой город:
«Когда Анам, отец войск Унуга, сын Иланшемеа, стену Унуга, древнюю постройку Бильгамеса, на место свое вернул (= восстановил), — чтобы воды, ее обтекающие, рычали, из обожженного кирпича он ее для него (= Бильгамеса) построил»{33}.
А в надписи из Туммаля, где рассказана история многочисленных подновлений храма супруги бога Энлиля и перечислены имена царей-реставраторов, Бильгамес оказывается в числе благодетелей храма вместе со своим сыном Урлугалем:
«Бильгамес Дунумунбурру, престол Энлиля, построил. Урлугаль, сын Бильгамеса, сделал Туммаль процветающим, ввел в Туммаль богиню Нинлиль» (12–15){34}.
Надпись эта, как достоверно известно из последних ее строк, составлена для прославления исинского царя Ишби-Эрры (ок. 2017–1985). Так Бильгамес-воин оказался заменен в ранней аморейской традиции на Бильгамеса-строителя. Однако этот новый образ, прошедший незамеченным через множество столетий, пригодился традиции Гильгамеша только в последний век ассирийской истории.
Итак, в клинописных источниках III — начала II тысячелетия до н. э. у биографии Бильгамеса три версии. Согласно наиболее ранней, идущей от гимнов царю III династии Ура Шульги, он сын Лугальбанды и Нинсун, разбивший царя Киша Энмебарагеси. Согласно чуть более поздней, он сын Лугальбанды и Нинсун, разбивший Аггу, сына Энмебарагеси. Согласно самой поздней версии, отраженной в «Царских списках», его отцом был дух, а Энмебарагеси одолел вовсе не Бильгамес, а Думузи из Куары. Разумеется, все эти несообразности были следствием отсутствия в то время литературных и биографических канонов. Уже в III тысячелетии до н. э. каждая династийная и городская традиция имела собственное мнение о происхождении и заслугах Бильгамеса. Можно, конечно, выстроить события в одну линию и предположить, что сперва Думузи из Куары победил кишского лугаля Энмебарагеси, а затем Бильгамес повторно одолел и его самого, и его преемника Аггу. Но тогда теряет значение миф о перенесении власти из Киша в Унуг именно в эпоху Бильгамеса. Однако если политическое событие перенесения власти еще можно рассматривать как двухэтапное, то ничего подобного не придется говорить о происхождении героя. Если рождение от священного брака эна Лугаль-банды и богини Нинсун является сакральным и почетным происхождением, то рождение от некоего неизвестного духа было подозрительно для земледельческой шумерской традиции. Между тем для кочевых народов (например, для западных семитов, к числу которых принадлежали амореи) зачатие от неизвестного или сверхъестественного отца лишь подчеркивало героическую природу правителя. Об этом свидетельствуют истории Саргона, Моисея и Иисуса. Поэтому есть смысл склониться все же к мысли о существовании разных версий биографии и политической деятельности Бильгамеса в разных городах и в разные эпохи истории Месопотамии.
Завершая обзор всех известных исторических сведений об эне Унуга и «лугале юношей» Бильгамесе, хочется задать известный горьковский вопрос: «А был ли мальчик?» Могут ли разрозненные сведения разных эпох, записанные на шумерском языке, свидетельствовать о реальном историческом бытии человека по имени Бильгамес-Гильгамеш? Не сродни ли он таким мифологическим, никогда не существовавшим в действительности персонажам, как Геракл или Одиссей? То, что у него были сын и более позднее потомство, ни о чем не говорит: у греков можно было возводить свою родословную хоть к Посейдону. То, что ему приписываются воинские подвиги и строительство стены, можно приписать правителям более позднего времени, деяния которых по традиции следовало возводить к некоему далекому и славному пращуру. То, что существовал его культ в поминальных местах и ему приносились жертвы, прекрасно укладывается в ту же античную модель поминок и почитания умерших героев. Для того чтобы героя почитали, ему необязательно было реально существовать в истории.
Что же подтверждает для нас реальность Бильгамеса? Ответ может показаться парадоксальным и даже нелепым: именно то, что шумеры не были греками. Им не присуще наделение фантомных персонажей свойствами исторических личностей, они не стали бы почитать человека, не оставившего материальный след в памяти коллектива, то есть не стали бы приписывать правителю вымышленные подвиги, тем более не стали бы считать умершим никогда не жившего человека. Они более бесхитростны и более конкретны в своем восприятии мира, они жили до графомании и до фантастики. И потом — они очень боялись бога Уту, который мог изобличить их во лжи. Почитаемый ими герой носил обыкновенное человеческое имя, был известен как один из правителей конкретного города, с его именем связывалось первое крупное событие политической истории Шумера.
Если же обратиться к особенностям работы коллективного сознания, то вполне вероятно, что люди Унуга накрепко запомнили необычного правителя Бильгамеса, который боялся умереть и быть забытым. Причем боялся настолько, что без конца придумывал действия, благодаря которым он мог бы хорошо запомниться как своим гражданам, так и потомкам. Во времена Бильгамеса письменность уже была, но шумеры еще не додумались до памятных стел с надписями, и прославиться можно было только своими делами. Вот он и действовал — то покорял соседние города, то обносил стеной свой город, то ходил в далекие походы сражаться с чудовищами. Умер он, скорее всего, естественной смертью (если бы погиб, то о его героическом конце точно сообщили бы в каком-нибудь тексте). А когда умер, то стал такой притчей во языцех, что само действие человеческой памяти, воскрешающей умерших, стали связывать с его именем. Ведь никому, кроме Бильгамеса, месопотамская традиция не приписала подобных свойств. А это и есть свидетельство его реальности и уникальности в жизни того времени.
Глава третья БИЛЬГАМЕС В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ ШУМЕРА
Бильгамес и Агга
Шумерские песни о Бильгамесе были созданы в разные периоды истории Месопотамии. Самые ранние из них по языку и сюжетам — «Бильгамес и Агга», «Бильгамес и Хувава» и «Бильгамес и Небесный Бык». Их происхождение датируется не позднее III династии Ура, потому что они отражают царскую идеологию того времени и поступки главного героя не ставятся в них под сомнение. Оставшиеся два из известных нам пяти текстов — «Бильгамес и Подземный мир» и «Смерть Бильгамеса» — идейно и формульно перекликаются с царскими гимнами исинско-аморейского времени, в них Бильгамес предстает уже как сложная и противоречивая фигура, а его поступки воспринимаются неоднозначно.
Чем мог гордиться шумерский правитель, что он считал основными достижениями своей жизни? Царские надписи отвечают на этот вопрос достаточно полно. Правитель мог гордиться военными заслугами, строительством или подновлением храмов, прокладкой нового канала или изданием нового закона. Но ни один правитель до Бильгамеса не имел той заслуги, о которой говорит первое из известных нам эпических сказаний о нем. Текст этот относится к жанру былин или дружинных песен, но при этом имеет обычный для большинства гимнов колофон за-ми-зу дугам — «хвала тебе сладка». Он, несомненно, исполнялся под аккомпанемент грозно звучащего инструмента вроде большого тамбурина, но впоследствии был предназначен для переписывания и заучивания учениками шумерской школы. По своей первой строке текст называется «Гонцы Агги, сына Энмебарагеси…», в нем 115 строк, его упоминают старовавилонские каталоги литературных текстов из Ниппура и Ура.
Гонцы кишского лугаля Агги, сына Энмебарагеси, приходят к эну Бильгамесу в Унуг. Бильгамес излагает их речь в присутствии старейшин народного собрания. Лугаль Киша требует, чтобы Бильгамес послал жителей Унуга копать и углублять колодцы Киша. Бильгамес спрашивает старейшин, должны ли граждане Унуга подчиниться воле Киша. Старейшины отвечают, что должны. Но Бильгамес, полагаясь на свою госпожу Инанну — богиню любви и войны, — не принимает их слова всерьез и обращается к юношам, составляющим вторую палату народного собрания:
Юноши города в Собрании Бильгамесу отвечают:
«Чтобы стоять, чтобы сидеть, Царского сына сопровождать, Поводья осла чтобы держать — Кто захочет для этого жить? Вы, старейшины, шей не склоняйте! Мы же оружием биться будем! Унуг — мастерская богов великих, Эанна — дом, спустившийся с Неба, Великие боги форму его изготовили, Великая стена его касается Неба, Высокое жилище основано Дном! Нет сомнения, ты — его лугаль, его герой, Горячая голова, принц, возлюбленный Аном! При приближенье своем он испытает ужас! Войско его мало, просто его рассеять! Люди его соперничать с нами не смогут!»{35}Бильгамесу оказывается по нраву ответ юношей, поскольку он совпадает с его собственным мнением. Он приказывает им готовить оружие к бою и привести противника в смятение. Не то через пять, не то через десять дней, как говорит далее текст, Агга со своим войском взял Унуг в осаду. Бильгамес обращается к юношам города с просьбой выдвинуть одного наиболее храброго, которого можно было бы послать разведчиком на территорию Агги. Вызывается некто Бирхартура (ранее его имя читали как Гиришхуртурра). Но едва он выходит за городские ворота, как попадает в плен. Когда пленника приводят к Агге, на городскую стену забирается некий воин. И Агга спрашивает Бирхартуру: «Раб, это ли твой хозяин?» На что пленник отвечает:
Нет, этот человек не мой хозяин! Если бы он был мой хозяин, У него были бы насуплены брови, Глаза были бы глазами бизона, Борода была бы из лазурита, У него были бы изящные пальцы, Толпы швырял, толпы он поднимал бы, Толпы людей в пыль сажал он, Все враждебные страны он накрывал бы, Уста каналов в Стране наполнял бы илом, Носы барж он разрушал бы, Аггу, лугаля Киша, среди его войска пленил бы!Пленника бьют за дерзкие речи. Но тут на городской стене появляется Бильгамес. Идущее от него магическое сияние (мелам) ошеломляет юношей и старцев Кулаба, вдохновляя их на битву. Однако только Энкиду оказывается настолько храбр, чтобы выйти за городские ворота. Бильгамес свесил шею со стены, и тут его увидел Агга. Он во второй раз спросил пленника Бирхартуру, не это ли его господин. И получил утвердительный ответ. Но опознание Бильгамеса Агге не помогло. Унугский эн поступил с врагами ровно так, как предсказывал Бирхартура. Он швырял, сажал в пыль, наполнял каналы илом, крушил носы барж — одним словом, вел себя как разбушевавшаяся стихия. Разметав воинов Агги, он легко взял кишского лугаля в плен.
Дальше начинается самая интересная часть текста. С точки зрения привычной нам истории, Бильгамес поступает с полоненным противником весьма странно:
Бильгамес, эн Кулаба, К Агге обращает слово: «Агга — мой староста, Агга — мой надсмотрщик, Агга — мой строитель, Агга — мой полководец, Агга — полководец моего войска! Агга дыхание мне дал, Агга жизнь мне дал, Агга беглеца в объятия принял, Агга птенцу заплутавшему ячменя насыпал!»Что это? Вспоминается пушкинское, сказанное о Петре I, милующем шведских генералов после Полтавы: «И за учителей своих заздравный кубок поднимает». И в другом месте: «И прощенье торжествует, как победу над врагом». В самом деле, Бильгамес благодарит своего противника за то, что тот помог ему обрести славу, дал ему новое дыхание и новую жизнь благодаря проигранному сражению. Агга стал для него учителем жизни, он дал ему возможность почувствовать свои силы и свои возможности. Вспоминаются слова юношей: что это за жизнь, если только стоять, да сидеть, да ходить за царскими детьми, да держать ослиные поводья? Такая жизнь хороша только для старцев. Теперь Бильгамес и его город вполне обрели себя, «подняли голову к небу», как говорят позднейшие источники о такой независимости. И при таком раскладе врага нужно не убивать, а чествовать и благодарить.
Теперь мы можем ответить на вопрос, почему для шумерских правителей главным подвигом Бильгамеса является победоносная война с Кишем. Это не просто победа бывшего слабого над бывшим сильным, не просто упрямое отстаивание независимости своего города перед лицом неприятеля, не просто готовность к принятию радикального решения политической проблемы. Нет, деяние Бильгамеса было выходом из очередности и временности лидерства — в постоянство доминирования, из преклонения перед традицией — в верховенство над ней, из общинной легитимности — в пространство личной инициативы и из кругового времени традиции — в линейное время непредсказуемой политической истории. Согласно традиции после победы Бильгамеса каждый город захотел господствовать над соседними, каждый правитель стал вести себя эгоцентрично. Хитроумный спор Энмеркара и пиетет Лугальбанды перед соседями и старшими сменились открытой агрессией и желанием постоянного господства над другими. Бильгамес открыл в истории самостояние и тем самым — дорогу к политическому укреплению сильных государств. Он отделил интересы своего города от прочих интересов. Без его победы была бы невозможна монархия как форма правления и как социальный институт.
При этом сам Бильгамес в результате своей удачной авантюры стал лугалем лишь наполовину — с точки зрения юношества, выигравшего с ним эту войну и это новое устройство общества. Потому и назван он в старошумерской надписи «лугалем юношей». Палата старейшин отказала Бильгамесу в подтверждении его легитимности, что впоследствии и отразилось в его именовании в «Царских списках». Отказ до конца признать Бильгамеса лугалем мог быть связан и с такой причиной, как отсутствие подтверждения его статуса в Ниппуре — ритуала, обязательного для каждого лугаля. Известный по тексту о Хуваве конфликт Бильгамеса с Энлилем намекает на неблагоприятные отношения унугского эна с Ниппуром — постоянным местом интронизации шумерских царей. Амореям, через тысячу лет после этого захватившим шумерское политическое пространство, подвиг Бильгамеса оказался непонятен, поскольку все народы региона давно уже пользовались его плодами, а политики давно перестали благодарить за уроки своих противников. Потому борьба с Кишем и не вошла в аккадоязычные версии истории Гильгамеша.
Бильгамес и Хувава
Если все дошедшие до нас героико-эпические тексты человечества начинаются с песни о Бильгамесе и Агге, то начало философии следует искать в другом шумерском сказании, посвященном походу Бильгамеса на Хуваву. А для философии уже мало одного человека, нужны вопросы, ответы и необходимы двое. В гимне о победе над Кишем читателю на краткий миг уже показывается Энкиду — раб, слуга, наперсник Бильгамеса. Его имя в шумерских текстах пишется En-ki-du10, что можно перевести двояко. Или «Энки добр» — и тогда непонятно, что это значит. Можно предположить, что поскольку бог водной бездны Абзу по имени Энки считался создателем первых людей, то это существо хорошо у него получилось. Или «господин доброго места», а это уже более понятно: «добрыми местами» (ki-du10) называли священные места, на которых основывались храмы. Не исключено, что Энкиду был существом, хранящим доброе место до прихода строителей храма.
Гимн о походе на Хуваву дошел до нас в двух версиях, мало отличающихся друг от друга. В версии А 202 строки, в версии В сохранилось 168 строк. В колофоне указано, что он составлен ради хвалы Бильгамесу, Энкиду и богине писцового ремесла, покровительнице школ Нисабе. Хвала Нисабе означает, что текст входил в школьную программу. И в самом деле, мы обнаруживаем довольно большое число его копий в архивах и каталогах Ниппура и Ура. Все копии и упоминания в каталогах датируются началом Старовавилонского периода, но текст, несомненно, составлен намного раньше. Как будет показано далее, его идеология и философия расходятся с гимнами урского царя Шульги.
Владыка к Горе Живого свои помыслы обратил (букв, «ухо свое наставил»), Бильгамес к Горе Живого свои помыслы обратил: «Энкиду! Поскольку молодец конца жизни избегнуть не может, В горы я пойду, имя свое установлю, Там, где имена ставят, имя мое установлю, Там, где имен не ставят, имена богов установлю!»Уже эти начальные строки весьма нелегки для понимания. В третьей строке есть игра слов: til3 по-шумерски означает и существительное «жизнь», и глагол «прекращаться». Буквально там сказано, что «юноша конца (til3) жизни (til3) не превзойдет». Далее герой заявляет, что собирается пойти в горы для установления имени. «Установить имя» (mu-gar) означает установить стелу, фиксирующую (пока еще без надписи) воинский подвиг правителя. Наличие такой стелы позволяет после смерти кормить героя в Подземном мире за государственный счет. Например, Энмеркар такой стелы не создал, и для правителей будущего принесение ему жертв стало проблемой. Его имя упоминали, но памятного места, а значит, и постоянного пропитания он не имел. Там, где нельзя установить стелу ради своей славы, можно принести жертвы богам и тем самым прославить их имена.
Раб его Энкиду ему отвечает: «Господин мой! Если в горы войти ты собрался — пусть знает об этом бог солнца Уту! Если в Горы Кедра идти ты собрался — Пусть знает об этом бог солнца Уту! Уту, юноша Уту пусть об этом знает! Поход в горы — дело Уту! Поход в Горы Кедров — дело Уту, пусть юноша Уту об этом знает!»Горы, в которые собирается пойти Бильгамес, располагались к востоку от Двуречья. Это были горы Загроса, на которых обитали многочисленные воинственные племена, не желавшие за бесценок или вовсе задаром отдавать свои сокровища — древесные стволы, гипс, асфальт, строительный камень. Захватить эти богатства было делом жизненной необходимости, а вовсе не какой-то особой доблести. Ведь без этого сырья хозяйство Шумера просто не могло бы существовать. Слово егеп, которое мы традиционно переводим как «кедр», означает кедры только в аккадской версии эпоса, о чем еще будет речь дальше. В шумерской версии это, скорее, стволы можжевельника. Для древних языков весьма характерно именование одним словом различных растений. В семитских языках, откуда происходит шумерское слово егеп, оно произносилось как 'аr'аr и означало только «можжевельник». Но когда через несколько столетий жители Месопотамии впервые увидели кедры во время первого похода на Средиземноморье, то у них не было слова для их именования и они применили к кедрам уже знакомое слово егеп. Так можжевельник, за которым ходили на восток, и кедр, который везли с запада, стали обозначаться одним словом. Но для сохранения ритма лучше по-прежнему переводить «Горы Кедров». А при чем же тут Уту? Дело в том, что Солнце каждые сутки восходит на востоке, со стороны гор. Поэтому кому, как не Уту, знать особенности маршрута? Кто, как не солнечный бог, может быть идеальным инструктором и провожатым опекаемого им Бильгамеса?
Бильгамес принес в жертву белого и коричневого козленка, после чего обратился к Уту, держа скипетр у своего носа, чтобы не портить воздух своим дыханием в присутствии вышестоящего. «Будь моим помощником!» — попросил он. Бог Уту удивленно спросил Бильгамеса, зачем ему нужно идти в горы. И тот ответил:
Уту! Слово тебе я скажу! К слову моему — ухо твое! Приветствую я тебя! Слову моему внемли! В городе моем люди умирают — сердце мое разбито! Люди утекают — сердце мое скорбит! Шею со стены я свесил, Трупы, по воде плывущие, я увидел — Не так ли станется и со мною? Так ведь и будет! Высокий человек до неба не достанет, Широкий человек землю не покроет. Поскольку молодец конца жизни избегнуть не может, В горы я пойду, имя свое установлю, Там, где имена ставят, имя мое установлю, Там, где имен не ставят, имена богов установлю!Почему по воде плывут трупы? Ежегодные паводки подтопляли жилища и размывали кладбища, и нередко в реках можно было видеть плывущие тела как утопленников, так и давних уже мертвецов. Кстати, это было одной из причин того, почему воду каналов и рек нельзя было пить. Но вполне возможно, что в тот раз над страной пронесся какой-то страшный ураган, вызвавший не обычное наводнение, а катастрофический потоп. Детали этой картины не раз проступят в тексте, и мы всегда будем на них указывать.
Слова Бильгамеса растрогали сердце Уту. Он преисполнился милостью и дал Бильгамесу семерых надежных помощников. К сожалению, таблички сохранили имена не всех из них. Можно прочитать имена некоего старшего брата, имевшего лапы льва и когти орла, а также двух змеев, дракона и существа, «подобного потопу». Все эти существа названы Уту «сыновьями одной матери», что означает их единение на службе Бильгамесу. Но семерых для такого похода маловато, и Бильгамес трубит в рог, скликая воинов. Имеющих хозяйство и семью он не призывает, отбирая только 50 холостых юношей. Кузнецы изготовляют для эна и его воинов медные топоры и кинжалы. Затем они идут в сады и видят множество упавших деревьев.
Войско отправляется в поход, и первый помощник — тот, что похож на льва и орла — указывает Бильгамесу место, с которого можно тащить лодки волоком. Это необходимо и для переправы в горы, и для будущей погрузки можжевеловых стволов. Они проходят семь гор, то есть сказочные «тридевять земель», и оказываются близко к Горам Кедров. Но тут на Бильгамеса нападает сон. Воины терпеливо ожидают, не смея будить повелителя. Будит его недовольный Энкиду со словами: «Сколько можно спать, Бильгамес? Ведь Уту уже ушел в утробу своей матери Нингаль!» То есть солнце уже зашло, он проспал целый день, и теперь пора двигаться в путь. И путь этот неблизкий, поскольку Бильгамес уснул у самого подножия горы.
Бильгамес вскакивает на ноги, исполняется решимости и громко возглашает клятву:
Именем моей матери Нинсумун и моего отца Лугальбанды! Пока не узнаю я, бог это или человек, Стопы, в горы направленные, в город не поверну я!Но на Энкиду внезапно нападает страх. Он начинает расписывать Хуваву как самое опасное на свете существо:
Господин мой! Человека этого ты не видел, сердце его не знаешь! А я человека этого видел, сердце его знаю: Герой он! Уста его — пасть дракона, Очи его — львиные очи, Грудь его — мощь половодья, Никто взгляда его не избегнет, Коим он тростники пожирает! Он — лев-людоед с ядовитой слюною, Из пасти его кровь вечно каплет!Энкиду заявляет, что собирается домой к своей матери. Но Бильгамес останавливает его:
Имей в виду, Энкиду, двое вместе не погибнут, в ладье не потонут! Трехслойную ткань порвать никто не сможет! Стену вода не накроет! Пожар в тростниковом жилище погасить невозможно! Ты помоги мне, я помогу тебе — кто справиться с нами сможет? Когда затоплена, когда затоплена, Когда барка Магана была затоплена, Когда ладья Магилума была затоплена, То в ладью «Жизнь дающая» все живое было погружено! Давай, пойдем, его увидим!Энкиду остается, и войско доходит до жилища Хувавы. Кто такой Хувава (он же в других текстах Хумбаба, Хумхум) — мы не знаем до сих пор. Культа Хувавы никогда не существовало, а его имя похоже на месопотамские имена типа Забаба, Бунене. Оно явно нешумерское по происхождению; есть версия о его принадлежности более древней (возможно, убейдской) культуре, язык которой иногда называют «банановым» из-за обилия слов с корнями «нана» и «баба». Скорее всего, Хувава — собирательный образ жителя восточных гор, зорко охраняющего природные запасы камней, минералов и деревьев, столь необходимых бедным ресурсами шумерским городам.
Бильгамес и Хувава приветствуют друг друга. Далее нам открываются древнейшие правила войны. Перед поединком, если речь шла о необходимых вещах, противнику предлагался обмен. Вот и Бильгамес сперва предложил Хуваве двух своих сестер: одну, Энмебарагеси, — в жены, а другую, Пештур — в наложницы[5]. Взамен он хочет получить… Но тут выясняется, что ему нужны вовсе не можжевеловые (или кедровые) стволы, а некие семь лучей, которые якобы даруют жизнь. «Гора Живого» — гора Хувавы, владеющего лучами. «Лучами своими со мной поделись! В семью твою войти я хочу!» — упрашивает Бильгамес.
Грозный Хувава оказывается очень покладистым и отдает Бильгамесу один свой луч. Видимо, за это он получает в награду одну из сестер унугского эна. Люди Бильгамеса немедленно начинают рубить стволы, отсекать ветви и складывать их в вязанки у подножия горы. Оказалось, что подаренный луч ослабляет силу Хувавы и способствует разорению его лесного хозяйства.
Затем Хувава отдает второй луч и получает вторую сестру. Женщин для подарка у Бильгамеса уже не остается, а лучей хочется еще, поэтому он предлагает Хуваве для обмена обувь. Сперва это большой башмак для большой ноги, а затем маленький башмак для маленькой. Деталь интересная: видимо, ноги Хувавы были разной длины, он был хромым (что характерно для демонических существ в фольклоре многих народов). Таким образом, набираются еще два луча. Последними эн отдает горный хрусталь, камень нир и лазурит. Когда же все семь лучей оказываются в руках у Бильгамеса, он неожиданно идет на прямую агрессию. Делая вид, что хочет поцеловать Хуваву, он вдруг ударяет его кулаком по щеке. Хувава скалит зубы, хмурит брови, но поздно: вместе с лучами исчезла и его сила. Хувава понимает, что совершено преступление, а в таких случаях, как уже сказано ранее, потерпевшие призывают в свидетели бога Уту:
О Уту! Мать-родительницу я не знаю, отца-создателя я не знаю! В горах ты меня породил, ты меня создал! Бильгамес жизнью Неба поклялся, жизнью Земли поклялся, жизнью Подземного мира поклялся!И Хувава недоговаривает: поклялся, а слова своего не сдержал. Я поверил, дал ему лучи, а он меня ударил.
Услышал ли Уту мольбу Хувавы — узнаем позднее. Пока же Хувава простирается ниц перед Бильгамесом и просит отпустить его. Бильгамес проникается к нему жалостью и говорит Энкиду, что пойманного птенца лучше бы отпустить к его матери. Но Энкиду иного мнения о том, что должно произойти с Хувавой:
Если пленный человек к лону матери своей вернется — Ты никогда в родимый город свой не вернешься!Хувава спрашивает: почему раб и наемник Бильгамеса говорит такие злые слова о нем? Ведь он не желал зла пришедшим из Унуга людям. В ответ Энкиду перерезает ему горло. Голову Хувавы спутники кладут в мешок. Но тут внезапно их взорам предстает Энлиль — верховный судия и законодатель всего мира. И читатель понимает, что мольба Хувавы была услышана богом Уту. Энлиль возмущается поступком Бильгамеса и Энкиду:
Почему вы так поступили? Кто вам сказал, что имя его с лица земли должно быть стерто? Перед вами пусть бы сел он, Вашего хлеба пусть бы поел он, Вашей воды пусть бы попил он!Энлиль берет у Бильгамеса лучи Хувавы и раздаривает их полю, реке, зарослям тростника, львам, дворцу, лесу и богине тюрьмы Нунгаль.
Но что же мы читаем в колофоне табличек? Хвалу Бильгамесу, Энкиду и Нисабе. Хвала Нисабе обязательна для учеников и писцов, работающих с глиняными табличками. Но как возможна хвала персонажам, которые провинились перед великими богами Уту и Энлилем? Мы не видим здесь ни малейшего осуждения героев, хотя справедливость, несомненно, на стороне Хувавы. Дело в том, что в шумерское время до III династии Ура считалось доблестью обманывать врага, чтобы заполучить ценности путем малой крови, а затем, найдя его слабые места, добивать уже неопасного противника. Ситуация изменилась только ко времени Шульги, в гимнах которого можно найти среди превосходных качеств правителя милость к побежденному врагу. Например, в гимне В сказано:
«С того дня, как Энлиль вручил под мое пастырство множество людей в расчете на мою мудрость, мою необъятную власть и мою справедливость, мои окончательные и незабвенные слова, мою опытность в вердиктах, сравнимую с (осведомленностью) Иштарана (= бог договоров. — В. Е.), мое сердце не испытывало ненависти ни к одному из царей прошлого, будь он аккадец, или сын Шумера, или дикарь из страны кутиев».
Итак, сердце Шульги не испытывало ненависти к царям прошлого, даже к дикарям с восточных гор. Значит, не испытывало оно и ненависти к Хуваве. С современными ему противниками Шульги тоже предпочитал договариваться и заключил множество дипломатических соглашений (которые, впрочем, перемежались с военными походами на восток). Но при этом для него, как видно из гимна О, был свят подвиг Бильгамеса при его походе на Хуваву. И справедливость этого поступка он под сомнение не ставил. Почему? Потому, что этот поход был образцом, архетипом для всех последующих походов, и каждый правитель Шумера, если он шел на войну с очередным горным племенем, представлял себя в этом качестве наследником Бильгамеса.
При таком отношении к теме мнение древнего читателя как бы раздваивалось. С одной стороны, он должен находиться на стороне Хувавы, Энлиля и Уту, поскольку совершено очевидное злодейство. Хувава мирно жил в горах и охранял можжевеловые стволы. Жизнь его была вечной, поскольку в его распоряжении оказались семь лучей жизни. Злодеем он представал только в россказнях испугавшегося Энкиду, который затем, по трусости своей, и убил его. С Бильгамесом Хувава не воевал, он отдал ему лучи в обмен на разные приятные вещи, не подозревая, что без лучей он перестанет жить. Вследствие такой своей наивности он получил удар в щеку от Бильгамеса и нож в горло от Энкиду. Поступок обоих был осужден Энлилем, принявшим жалобу Уту, которую тот услышал из уст Хувавы. Но с другой стороны, Бильгамес уникален, ему можно то, что нельзя другим смертным. Поэтому даже прямое злодейство, совершенное им, выглядит красиво и соблазнительно. Можно сказать, что история Бильгамеса и Хувавы — искушение для человеческой природы. Читая о подвиге Бильгамеса, человек обнаруживает в себе одновременно и желание жить по закону, и желание нарушить его. Но раздваивается не только читатель, но и сам бог справедливости Уту! С одной стороны, он должен продолжать покровительствовать Бильгамесу, несмотря на его преступление перед богами. С другой стороны, он должен принять жалобу Хувавы и адресовать ее в высшую инстанцию, к Энлилю.
Перед нами коллизия, с трудом разрешимая даже для богов.
Почему же этот текст можно считать началом философии? Бильгамес — первый в письменной традиции человек, который не стесняется говорить о себе «я», осознает это «я» и пытается его осмыслить. Он словно бы открывает в себе смертность, ужасается неприглядному виду смерти и хочет защититься от нее обретением славного имени и памятной стелы. После него лугали веками будут составлять свои надписи в третьем лице, и только Ур-Намму и Шульги, считавшие себя братьями Бильгамеса, снова осмелятся говорить «я». Философ делает то же самое, создавая сочинение на тему «я и мир», задаваясь вопросами об отношениях между собой и обществом, собой и природой, собой и божественным, собой и смертью. И так же, как Бильгамес, жаждет славы, жаждет бессмертия и терпит поражение в своем поиске. Значит ли это, что сам поиск был лишен смысла? Ни в коем случае. Это значит, что поиск выстроил сам смысл и этот смысл может стать ориентиром для других ищущих. Они пройдут тот же путь, преодолеют его и найдут за ним что-то еще. Но чтобы преодолеть любую философию — она должна быть!
Бильгамес и Небесный Бык
В своем полном виде этот текст открыт и опубликован только 20 лет назад. В нем чуть более сотни строк, но их количество складывается из фрагментов множества версий. Одна из его копий по почерку датируется III династией Ура, остальные старовавилонские. У гимна очень необычный колофон: «На смерть Небесного Быка. Светлая Инанна, хвала тебе сладка!» Почему в колофоне прославляется не Бильгамес, убивший Быка, а Инанна, заказавшая его бесчинства в Унуге, — остается неясным. Текст фигурирует в трех каталогах литературных произведений из Ура и Ниппура.
Прежде чем говорить о содержании текста, обратимся к его предыстории. У текста о победе Бильгамеса над Быком есть прототип в виде так называемой «Сказки о Гудаме». На город Унуг нападает ватага вооруженных молодых людей из соседнего Забалама[6], которыми верховодит некто Бык (Гудам буквально значит «бык он есть»). Мы до сих пор называем «быками» агрессивных мужчин, грубо нарушающих закон. Этот Бык — явно простой человек, поскольку он нигде не назван царем или эном, — со своей шайкой врывается в город и разоряет кладовые унугского храма. При этом его молодцы напиваются пивом и кормятся рыбой ценных пород из канала богини Инанны. Дорогу шайке преграждает храмовый певец Унуга Лугальгабагаль, который, ударив по струнам, произносит предостережение Быку:
Певец песню завел, рукой по струнам ударил: «То, что ты ел — Не хлеб ты ел, а плоть свою ты ел! То, что ты пил, то, что ты пил — Не пиво ты пил, а кровь свою ты пил! Гудам! Толпы по улицам Унуга за тобою следуют, Вооруженные толпы сидят пред тобою. Прочь ступай, не делай (этого)! То, что Женщина приказала мне, я исполняю!»Суть его пророчества в том, что за все, что он съел и выпил, Бык заплатит собственным мясом и кровью. Певец гонит Быка прочь, заклинает его не творить в городе зла. Бык, естественно, игнорирует все предостережения. Сперва он похваляется молодецкой удалью, а потом начинает резать людей в городе. Эти бесчинства достигают своего апогея, когда Бык с видом триумфатора распахивает створки храмовых ворот. Здесь-то и настигает его с топором в руке рыбак храма Инанны. После его богатырского удара Бык начинает вымаливать у Инанны жизнь в обмен на скот из дальних стран. Но она отказывается от даров преступника, заявляя, что у нее все есть, а его следует сперва поразить оружием, а потом примерно наказать. Последние строки текста позволяют понять, что престолом для лжегероя будет осел, а жилищем — поле в деревне близ Забалама.
Вполне реальное нападение молодчиков Забалама на Унуг оставило по себе память в виде мифологемы Небесного Быка. Впервые этот персонаж встречается нам только в текстах III династии Ура. В «Проклятии Аккаду» с мощью Небесного Быка сравнивается гневный взгляд Энлиля, разрушающий Киш и Унуг. В гимне Шульги тоже встречается сравнение гнева богов с Небесным Быком (В 84)[7]. И в то же самое время к мифу о Быке подстраивается образ Бильгамеса.
В начальных строках песни, явно гимнического плана, поэт воспевает Бильгамеса как «юношу битвы», «вождя могучих сынов (= граждан города)», «носящего черную бороду», «(искусного?) в борьбе и атлетике». Первая часть, следующая после запевки, повествует о сооружении Бильгамесом навесного шатрового храма (шум. е2-la2), который строится из тростника и, по-видимому, из овечьей шерсти. Храм возводится по совету матери Бильгамеса богини Нинсун. Богиня Инанна, увидев новый храм, начинает бранить Бильгамеса за непочтение к старым святилищам и храмам, хозяйкой которых является она сама. Особенно ее возмущает, что Бильгамес не хочет войти в ее Гипар — место, где совершается ежегодный священный брак царя и богини:
Бильгамес!.. В моей Эанне суд ты судить забыл! В Гипаре, на моем берегу, судебные решения выносить забыл!В другой версии она говорит: «Дикий бык мой, муж мой меня забыл!»
Инанна гневается и угрожает Бильгамесу Небесным Быком. Озадаченный Бильгамес идет за советом к своей матери Нинсумун и пересказывает ей слова Инанны. Нинсумун дает ему совет, и Бильгамес в резкой форме отказывается переступать порог храма Инанны. Тогда Инанна, желая выполнить свою угрозу, поднимается наверх, к старейшине богов Ану, и требует у него разрешения спустить на Землю Небесного Быка. Ан вначале пытается отговорить ее. Он говорит, что Небесный Бык — его сын, пасущийся в месте, где восходит Солнце, что траву он ест на горизонте и на Земле ему пищи не хватит. Инанна гневается и угрожает Ану своим криком свести Небеса с Землею, то есть — уничтожить жизнь: «Я закричу так, что Небо сойдется с Землею».
В аккадском тексте о нисхождении Иштар в Подземный мир героиня подобным же образом пугает привратника, отказавшегося пропустить ее в ворота преисподней:
А не откроешь ворота, привратник, — Дверь разнесу, засов разломаю, Вырву косяк, повышибу створки, Выпущу мертвых — пусть живых пожирают, Меньше, чем мертвых, станет живых.Некогда мир начался с того, что Небо (Ан) отошло от Земли (Ки), а жизнь существует потому, что число находящихся наверху должно быть равно числу ушедших вниз. Инанна (у семитов Иштар) угрожает прервать существование мира и жизни, если кто-то поступит вопреки ее воле.
Ан пугается такой угрозы и разрешает спустить Небесного Быка на Землю. Далее текст живописует ужасные разрушения, произведенные Быком в Унуге: Бык съедает всю растительность, выпивает всю воду в реках, вытаптывает тростники. Бильгамес обращается к своему придворному певцу:
О певец мой Лугальгабагар! Воспой свою песнь, ударь по струнам! Пива он испил (и говорит): «Бронзу эту (= чашу) до краев наполни!»Этот певец, только под измененным именем Лугальгабагаль, уже знаком нам по «Сказке о Гудаме». Там он предупреждал молодчика Быка, что дело кончится плохо. А здесь подбадривает граждан Унуга в борьбе с Небесным Быком.
Следующая часть текста говорит о созыве мужей Унуга для боя с Быком. Бильгамес вонзает в лоб быка медный топор весом в семь талантов (212 килограммов), и Бык, как сноп урожая, валится замертво. Бильгамес и Энкиду расчленяют его тело. Последовательно описывается отделение головы, шкуры, сердца, рогов. Голову Быка Бильгамес оплакивает со словами: «Я поступил с тобой так, как ты хотел поступить со мной». Кожу выставляют на улице, сердце — на большой площади, а рога посвящают богине Инанне в ее храм Эанна. Сама же Инанна в это время летает вокруг стены, как голубка, держа в руках ляжку убитого Быка.
Если происхождение Быка становится понятно из «Сказки о Гудаме», то остается загадочным основной мотив произведения. Почему Бильгамес вступает в открытый конфликт с небесной покровительницей своего города? Ответ содержится в реплике Бильгамеса, которой он по совету Нинсу-мун обрывает всякие связи с Инанной:
Инанна! Дары в твой Гипар никогда я не внесу! Нинэгаль! Силой своей доблести никогда я тебя [не покрою] (= в брак с тобой никогда не вступлю)! (И) ты, госпожа Инанна, мою улицу не переходи!Здесь Инанна названа эпитетом Нинэгаль «Госпожа Великого Дома», означающим ее принадлежность к Подземному миру. Вспомним, что в аккадской версии мифа о Нисхождении Инанны-Иштар в Подземный мир дом, где живут владыки загробного суда Ануннаки, называется Эгальгина — «Истинный Великий Дом». Желая выпустить Иштар из Подземного мира, Эрешкигаль приказывает богу чумы Намтару вывести Ануннаков из Эгальгины, усадить их на священные (серебряные?) троны, Иштар водой жизни окропить, из Подземного мира удалить. Ануннаки вызываются для того, чтобы вынести вердикт об оживлении и удалении Иштар из загробного мира. Именно с этим связаны представления об Иштар как божестве, побывавшем на загробном суде.
Имя богини Нинэгаль встречается в текстах уже начиная со списков периода Фары и раннединастического Лагаша. В текстах эпохи III династии Ура Нинэгаль покровительствует новорожденному царю, растя его на священном престоле, «как пальму из Дильмуна», а в другом гимне-тексте царь купается в проточных водах дома Нинэгаль. В гимне священного брака, дошедшем от времени Исина, Инанна и Нинэгаль уже достоверно одно и то же лицо. Там сказано: «В Великом Доме, Доме Советов Страны, Обруче чужих стран, в Доме Реки священных ордалий, где черноголовые собираются, для Нинэгаллы престол он поставил. Царь, (как) бог, сердцем с ней отдохнул». Начиная со старовавилонского времени соответствием имени Нинэгаль (Нинэгалла) выступают «повелительница духов» Инанна, а также сестра Инанны, владычица Подземного мира Эрешкигаль. Нинэгаль — хозяйка Дома водных ордалий, связанная с судом и сакральным очищением, с оживлением или умерщвлением впавшего в грех. Инанна тоже проходит путь водного оживления и воскресает в Эгальгине. Кроме того, Нинэгаль — божество, связанное со священными пальмами Дильмуна, а в Дильмуне ежегодно проходит обряд ритуального омовения Инанны. Следовательно, Инанна в ипостаси Нинэгаль символизирует божество, выход которого из Подземного мира связан с обрядом священного омовения. О времени этого обряда свидетельствует месопотамский календарь, в котором шестой ниппурский месяц ITI.KIN.dINNIN «месяц службы Инанне» (что соответствует августу — сентябрю) имеет ассирийский эквивалент в названии шестого месяца arah dNIN.E2.GAL. Ассирийский источник XI века до н. э. описывает праздник шестого месяца как время омовения статуэток Инанны в реке священных ордалий.
Итак, теперь можно ответить на главный вопрос текста. Бильгамес не хочет иметь дело с Инанной, вернувшейся из Подземного мира, поскольку, во-первых, она осквернена и ей предстоит обряд водного очищения; во-вторых, она запросто может после брака выдать Бильгамеса демонам в качестве выкупа за себя, как уже было с Думузи в тексте о нисхождении Инанны в Подземный мир. Связь с ней приобщила бы Бильгамеса к загробному миру, лишив его надежд на долгую земную жизнь. Именно поэтому его мать Нинсумун советует сыну построить отдельно от Эанны временный тростниковый храм — надо полагать, до времени, когда произойдет очищение Инанны или пока она не выдаст демонам кого-нибудь другого взамен себя.
Несомненно, что гимн о победе Бильгамеса над Небесным Быком имеет уже сложную литературную природу и не так прозрачен, как описание его политических и военных деяний в предыдущих гимнах. В его основе лежит предание исторического характера, соединенное с ритуально-календарными представлениями. Следует также отметить, что герой гимна — антагонист Бильгамеса Небесный Бык — носит то же имя, что и созвездие Тельца (по-шумерски Гуданна, «Бык Неба»), бывшее маркером весеннего равноденствия в то время. Точка равноденствия в конце III тысячелетия уже смещалась к Овну, и борьба с Тельцом, в дополнение к уже обозначенным сюжетам, могла быть астральным мифом, в котором Небесный Бык считался нежелательным и даже вредоносным существом. Впрочем, более вероятной представляется все же связь не с созвездием, а с неким небесным телом, падение которого принесло разрушение шумерским городам.
Смерть Бильгамеса
Этот текст известен во множестве мелких фрагментов, и все они датируются началом Старовавилонского периода. У текста два колофона, что уникально для сказаний о Бильгамесе. В колофоне таблички из Ниппура возносится хвала Бильгамесу, а в колофоне из Телль-Хаддада она предназначена богине Подземного мира Эрешкигаль — воинственной сестре Инанны. Реконструкция фрагментов текста еще не завершена, и даже их последовательность является предметом дискуссий. Поэтому приведу собственную реконструкцию композиции текста.
Больной юноша Бильгамес лежит на одре смерти, не может есть и пить и оплакивает свою судьбу:
Эн Кулаба лежит, подняться не сможет, Тот, кому сужден ясный взор, лежит, подняться не сможет, Разоритель стран лежит, подняться не сможет, Покоритель гор лежит, подняться не сможет! На одре судьбы он лежит, подняться не сможет! Ох, в опочивальне лежит, подняться не сможет! Не сесть ему, не встать ему — горько причитать ему! Не есть ему, не пить ему — горько причитать ему! Крепки засовы Намтара — ему не подняться! Подобно рыбе, схваченной сетью, он опутан недугом! Подобно газели, попавшей в силок, он на ложе схвачен!Во сне он видит Собрание богов, на котором решается его посмертная участь. В Собрании спорят друг с другом Энлиль и Энки. Энлиль перечисляет деяния Бильгамеса — поход на Хуваву, посещение жилища Зиусудры и восстановление всех ME, погубленных потопом.
Когда в предвечном месте перед Собранием богов Эн Бильгамес предстал, Они сказали по поводу Бильгамеса: «Что касается тебя, то все пути, что есть, ты обошел, Можжевельник — дерево одинокое — из гор вынес, Хуваву в лесу его убил, Стелы на вечные времена, на постоянные ME, навсегда, В домах богов ты установил, Зиусудры в жилище его достиг, ME Шумера, навсегда утраченные, Советы, обряды в Страну вернул, Обряды омовения рук, омовения уст… в порядок привел…Вердикт Энлиля неизвестен. Энки в своей речи напоминает богам, что одного человека они однажды уже спасли от смерти — это был именно Зиусудра, оставленный в живых во время потопа. А Бильгамес еще и сын богини Нинсун, поэтому ему вдвойне пристало быть среди бессмертных.
Энки ответил Ану и Энлилю: «С тех дней, с давних дней, С тех ночей, с давних ночей, С тех лет, с давних лет, Когда Собрание потопом все смело, Семя человечества погубило, Среди вас лишь я один оставил в живых Зиусудру — имя человечества — оставил в живых! Тогда жизнью Небес, жизнью Земли поклялись мы, Что ни один человек больше бессмертен не будет… Теперь же смотрите на Бильгамеса — Не избежит ли он (смерти) из-за своей матери?»Но боги отклоняют этот аргумент и присуждают Бильгамеса к участи коменданта в мире мертвых, то есть, с одной стороны, все же умерщвляют как получеловека, с другой — делают начальником (шагина){36} над мертвыми, тем самым сохраняя его полубожественный статус.
Комендантом Подземного мира да будет! Первым из духов да будет, Суд судит, решения выносит! Пусть слово его будет так же весомо, как слово Нингишзиды и Думузи!Правда, фрагмент суда Н. Фельдхвис{37} понимает по-другому. С его точки зрения, сам Энки отказывается дать Бильгамесу бессмертие, поскольку он уже однажды дал его Зиусудре, а родство с богиней не должно быть поводом для второго посвящения человека в бессмертные. И именно Энки, по мнению Фельдхвиса, определяет Бильгамесу судьбу повелителя мертвых. Пока этот момент текста не прояснен до конца.
Бильгамес погружается в скорбь по поводу своей участи, но тут к нему приходит бог Сисиг, сын его покровителя бога Уту, который обращается к нему с утешительной речью. Сперва он рассказывает о том, как прекрасна будет посмертная участь Бильгамеса. Ему соорудят памятник, перед его статуей в летний месяц Ненегар будут проходить спортивные игры. В том мире Бильгамес встретит всех своих родных и своего друга Энкиду. Потом сын солнечного бога напоминает Бильгамесу, что он был создан для долгого правления, но не для вечной жизни:
Великая Гора Энлиль, отец богов, О Бильгамес, имя твое для царственности назвал, Для вечной жизни не назвал.Сисиг советует герою смириться со своей участью, поскольку такова судьба всех, кому однажды перерезали пуповину. Смерть он представляет как потоп, от которого нет спасения, и как войну, в которой человек не может победить. Сисиг советует Бильгамесу поскорее сойти к своим предкам:
Ступай в то место, где Ануннаки, великие боги, восседают перед поминальными дарами, Где лежат эны, лежат лагары, Лежат лумахи, лежат ниндингиры, Где лежат умастители, носившие льняные одежды, Где лежат ниндингиры, носившие… Туда, где отец твой, дед твой, Мать твоя, бабушка твоя, Твой драгоценный друг и товарищ, Друг Энкиду, юноша-спутник, Все энси и лугали, кого можно найти в Подземном мире, Туда, где лежат полководцы армий, Туда, где лежат предводители войска. (Разбито пять строк.) Старейшины твоего города к тебе выйдут — Горевать и сетовать ты не должен! Теперь ты воссядишь среди Ануннаков, Будешь причтен к богам великим…Затем в тексте несколько раз появляется слово «сон» и следует повторение всего предыдущего рассказа. Н. Фельдхвис предполагает, что рассказ повторяется два раза — как сон Бильгамеса и как его реальное появление на суде богов после того, как сон сбылся. Бильгамес сходит под своды Подземного мира, принося жертвы его богам, своим родственникам и правителям, жившим задолго до него. В последней части текста говорится о том, что сон, который был загадкой самого бога Энки, разгадал сын Бильгамеса Урлугаль. По истечении половины месяца, после прихода половодья на Евфрате он соорудил гробницу, увековечившую память о герое. Последние строки текста содержат одновременно формулу проклятия и благопожелания. Проклятие предназначено тем, кто захочет уничтожить гробницу Бильгамеса. А благопожелание адресовано всем людям, желающим изготовлять памятные знаки своим предкам.
(Кто эту гробницу захочет разрушить —) Пусть имя его с пылью смешают, Пусть эн Бильгамес Корень его исторгнет, сердце его разобьет! Все люди, кто именем назван, Кто статуи свои на века делает, — В доме богов их откладывайте! Имя их произнесенное пусть не забудется! Аруру, великая сестра Энлиля, Пусть им для этого потомство дарует! Статуи их для будущих дней сделаны, в Стране помянуты!В гимне о смерти Бильгамеса содержится очень много перекличек с другими текстами, составленными в ту же эпоху. Прежде всего утверждение богов о том, что Бильгамес вернул на свое место все обряды и ME, разрушенные потопом, встречаются в плаче по Ниппуру. Там восстановителем разрушенной потопом жизни объявляется царь города Исина Ишме-Даган:
Его сияющее имущество, рассеянное, уничтоженное, Энлиль, царь стран, на месте своем установил. Там, где человеки, построив гнезда, (в тени) отдыхали, В Ниппуре, на горе великих ME, откуда они направились неведомым путем, — По слову Энлиля Анунна — владыки, определяющие судьбы — Приказали восстановить упавшие храмы, вернуть на место сокровища, положенные туда прежде, унесенные ветром! С радостью их обеденную трапезу установил он! (Энлиль) приказал Ишме-Дагану, своему радостному, трепетному жрецу, Служащему ежедневно, освятить его пищу, очистить его воду, Он приказал ему очистить его оскверненные ME, Обряды разбросанные, рассеянные в порядок он привел, Все святое, брошенное и оскверненное, на месте своем он установил. Ежедневную жертву мелкой мукой и мукой крупного помола он судьбой определил, Сделать хлебы многочисленными на жертвенном столе в нем (= Ниппуре) он определил.Возлежание царя на одре смерти описано в плаче по урскому царю Ур-Намму, записанном примерно в это же время. Здесь Ур-Намму также изображен сходящим под землю сыном богини Нинсумун, и, подобно Бильгамесу, он приносит дары хозяевам Подземного мира. Однако среди его адресатов оказывается уже и сам Бильгамес:
Бильгамесу, царю Подземного мира, Пастырь Ур-Намму в его дворце жертву принес …масло возлил, сосуд шаган приготовил, Тяжелые одеяния зулумхи и пала…Описание спасения Зиусудры богом Энки соотносит наш текст с шумерским мифом о потопе:
«Жизнью Неба и Земли поклялись вы, что с вами он будет! Ан и Энлиль! Жизнью Неба, жизнью Земли и здесь поклянитесь, что с вами он будет!» Грызуны, из земли вышедшие, к нему направились. Зиусудра-царь Перед Аном и Энлилем, землю целуя, предстал. Ан и Энлиль Зиусудру к жен[щине подвели…], Жизнь, подобную жизни богов, ему даровали, Дыхание вечное, подобное божьему, ему дали.А утверждение Сисига о том, что Бильгамесу дано только долгое правление и не дана вечная жизнь, заставляет вспомнить про текст о разорении Шумера и Ура, где подобные же слова говорит своему отпрыску Нанне бог Энлиль:
Решение Собрания по делу жизни неизменно, слово Дна и Энлиля необратимо! Уру (лишь) царственность дана, (а) вечное правление не дано. С начала дней, от сотворения земли до размножения людей, кто видел срок царственности (столь) превосходный? Долгий срок правления утомителен!Та же самая формула в усеченном варианте предстает нам в шумерском мифе о потопе, когда Энки сообщает Зиусудре о решении богов:
Стена, слово я тебе скажу — слову [моему внемли]! К совету моему при[слушайся]! Все жилища, все хозяйства потоп сметет, Семя человеков уничтожено будет […]! Решение Собрания по делу жизни неизменно! Приговор, Дном и Энлилем вынесенный, необратим! Долгий срок прав[ления утомителен]!По общим формулам трех текстов можно сделать вывод, что они были составлены в одной писцовой традиции. Можно предположить, что это ниппурская школа. В тексте довольно много примет городской культуры Ниппура. Во-первых, это указание на пятый месяц ниппурского календаря, когда проводились спортивные игры в честь Бильгамеса. Из более позднего комментария, созданного в Вавилоне, мы узнаем, что игры шли в течение девяти дней, во время игр зажигались факелы перед статуями и статуэтками Гильгамеша и сам месяц назывался «зажжение факелов». Во-вторых, в разбитой строке упоминается ниппурский обряд несаг (от которого произошло название семитского месяца Нисану) — доставка первых жертв храмам богов водными экспедициями, производившаяся перед разливом рек, накануне Нового года. Среди богов, которым приносит жертвы Бильгамес, сразу после хозяев Подземного мира упомянуты первые божества Ниппура, предки Энлиля. Скорее всего, перед нами ниппурский текст, составленный во время I династии Исина (предположительно, во время правления Ишме-Дагана).
В шумерских сказаниях о Бильгамесе тема потопа возникает только в двух случаях. В гимне о походе на Хуваву мы видели многочисленные ассоциации с потопом в отсутствие самого события: плывущие по реке трупы, поваленные в саду деревья, лодка, в которую было погружено все живое. В гимне о смерти Бильгамеса впервые называется по имени человек, спасенный от потопа, и говорится о визите к нему унугского эна. В шумерском тексте его зовут Зиусудра, в вавилонском — Атрахасис, в ассирийском — Утнапиштим. Для чего Бильгамес идет к Зиусудре? В отличие от будущего аккадского текста, где Гильгамеш выпрашивает у Утнапиштима[8] секрет бессмертия, в шумерском прототипе этой истории Бильгамес сразу после визита к Зиусудре восстанавливает силы и обряды, погубленные потопом. То есть он идет не ради себя, а ради новой жизни в Стране.
Кто же такой Зиусудра? Это вымышленный персонаж, которого, несмотря на утверждение «Царских списков», никогда не было в истории. Его имя означает «Жизнь (на) долгие дни» и представляет собой субстантивированную формулу благопожелания шумерским и аморейским царям Месопотамии: «Пусть твое правление длится долгие дни!» Списки говорят, что Зиусудра был лугалем в городе Шуруппаке и правил после Убар-Туту перед самым потопом. Но в большинстве копий «Царских списков» после Убар-Туту никого нет. Значит, Зиусудру приписали потом{38}. К тому же в раннешумерские времена в Шуруппаке вообще не было царей, там правили по очереди градоначальники. Поэтому можно сказать, что Зиусудра — это мощная идеологема древности, символизирующая саму царскую власть, благополучно избежавшую потопа и восстановленную богами в новой истории человечества. Однако данные клинописи показывают, что в начале III тысячелетия до н. э. в Шуруппаке действительно было большое наводнение. Свидетелем этого является сам клинописный знак «потоп», состоящий из двух вписанных друг в друга знаков — «буря» и «город». Значит, традиция считать центром потопа именно Шуруппак имеет под собой прочное историческое основание.
Итак, Бильгамес, умерший естественной смертью, по решению Собрания богов зависает в промежуточном состоянии между судьбой смертного существа (поскольку не может больше показаться в мире живых) и бессмертного бога (потому что получил должность управляющего подземным миром, то есть стал своего рода комендантом в общежитии Эрешкигаль). Примеру Бильгамеса должен последовать каждый человек. Мы видим, как то, что поначалу воспринималось как уникум и аномалия, становится необходимым требованием общества: каждый, следуя Бильгамесу, должен оставить по себе память в мире живых. Это уже не воспевание героизма, а дидактическая максима. И теперь возникает самый общий метафизический вопрос: есть ли полноценная жизнь после смерти и как именно живут умершие во владениях Бильгамеса? На этот вопрос отвечает последний, самый пространный и самый литературный из шумерских гимнов — «Бильгамес и Подземный мир».
Бильгамес и Подземный мир
Этот текст обнаружен в большом количестве копий из разных городов Шумера — Ниппура, Ура и Телль-Хаддада. Он насчитывает более трехсот строк и является самым пространным шумерским сказанием о Бильгамесе. В колофоне указано, что это хвалебная песнь Бильгамесу и его матери Нинсумун (Нинсун).
Пожалуй, можно сказать, что из всех пяти сказаний о Бильгамесе только это можно отнести к числу этиологических мифов. Предыдущие песни ничего не объясняют. А в этой автор предпринял попытку рассказать обо всем, поднять самые общие религиозные вопросы: как возник этот мир, как произошло осквернение священного дерева, как люди нарушили божественные табу и как нужно жить, чтобы не сожалеть о своей земной жизни в своем посмертии.
1. Запевка о сотворении мира.
В стародавние дни, ночи и годы, когда в святилищах попробовали первый хлеб, когда хлебные печи Страны приступили к работе, когда Небо отделилось от Земли, а Земля отошла от Неба, когда имя людей было установлено, когда Ан взял себе Небо, Энлиль взял Землю, а Эрешкигаль даровали Подземный мир, когда Энки в шторм и град вел свою лодку в направлении Подземного мира, — в это время на берегу Евфрата одиноко росло дерево хулуппу.
2. История дерева хулуппу{39}.
Южный ветер и половодье Евфрата вырвали дерево с корнем. Упавшее дерево увидела некая благочестивая женщина, проходившая по берегу реки. Она пересадила его в великолепном саду Инанны в Унуге. Но пересадила его одними ногами, не касаясь руками ни ветвей, ни ствола. Поливала она его тоже без помощи рук. И когда поливала, то все время думала о том, что хорошо было бы сделать из этого дерева сиденье и кровать. Минуло не то пять, не то десять лет, дерево выросло. В его корнях свила гнездо змея, не знающая заклятия. В его ветвях поселила птенцов птица Анзу. В его дупле разместилась смеющаяся женщина-демон Лилит. Светлая Инанна увидела это и закричала.
Когда взошла заря и Уту покинул свою постель, Инанна рассказала ему о том, что произошло с деревом. Но он не внял ее словам и не захотел помочь. Тогда Инанна повторила свой рассказ Бильгамесу. Бильгамес взял в руку медный топор весом семь талантов и семь мин (что составляет 236 килограммов — вес, поднять который под силу только богатырю полубожественного происхождения), убил змею, заставил птицу Анзу взять детенышей и улететь в горы, а демона Лилит — убежать в степь. После этого Бильгамес вместе с юношами города срубил дерево под корень, обрезал его ветви и перевязал их. Из дерева хулуппу были изготовлены для Инанны сиденье, кровать, деревянный мяч и бита.
3. Игра с мячом и битой.
На широкой улице Бильгамес затеял игру в мяч, не уставая восхвалять себя. Юноши города играли в мяч битами, периодически вскрикивая: «О моя шея! О мои бедра!» Все эти юноши были детьми вдов. Поскольку они не могли остановить игру, матери и сестры приносили им хлеб. Когда настал вечер, Бильгамес разметил место, где стоял мяч, потом забрал мяч и ушел домой. Но на следующее утро, когда он поставил мяч и биту на это место, жалобы вдов и юных дев привели к тому, что эти предметы провалились в Подземный мир (здесь он называется Ганзер). Бильгамес попытался достать их руками, но не смог. Тогда он начал стенать, что если бы он оставил мяч и биту в доме плотника, то возлюбил бы жену плотника как родную мать, а детей плотника — как свою сестру.
4. Инструктаж Энкиду.
Слуга Бильгамеса Энкиду сам вызывается достать мяч и биту из Ганзера. Бильгамес дает ему инструкцию по поведению в мире мертвых. Энкиду не должен носить чистую одежду, умащаться хорошим маслом, обуваться, бросаться палками, держать в руке кизиловую ветку, кричать, целовать жену и детей, если он их любит, бить жену и детей, если он на них сердит. Энкиду нарушает эту инструкцию, и его поглощает земля.
5. Рассказ Энкиду о жизни в Подземном мире.
Бильгамес просит Энлиля и Энки помочь ему вернуть Энкиду из мира мертвых. Энлиль отказывает ему, а Энки согласен помочь. Энки поручает богу Уту открыть щель Ганзера и выпустить Энкиду. Но Энкиду выходит к Бильгамесу уже в виде духа. Они обнимаются и целуются. Бильгамес спрашивает Энкиду, как живут умершие в Ганзере. Энкиду отвечает: «Сядь и плачь!» Далее следуют вопросы Бильгамеса и ответы Энкиду. К сожалению, эти ответы далеко не всегда нам понятны.
Родивший одного сына горько плачет у колышка, вогнанного в стену его дома (колышек в стене — символ сделки о покупке собственности). Родивший двоих сыновей восседает на кирпичах и кушает хлеб. Родивший троих сыновей пьет воду из бурдюка, прикрепленного к седлу. Родивший четверых сыновей радуется сердцем, как тот, кто имеет четверых упряжных ослов. Родивший пятерых сыновей не знает усталости, он входит во дворец легко, как писец. Родивший шестерых сыновей весел, как пахарь. Родивший семерых сыновей восседает на троне, как спутник богов, и внимает их решениям. Дворцовый евнух стоит в углу как ненужная палка. Нерожавшая женщина отброшена в сторону, потому что она не дала радости мужчине. Молодец, не познавший свою жену, вьет веревку и плачет о веревке. Молодая женщина, не познавшая своего мужа, плетет тростниковый мат и плачет возле этого мата. Съеденный львом кричит: «О мои руки! О мои ноги!» Упавший с крыши не может собрать свои кости. Оскорбивший свою мать лишен наследников и вечно голодает. Прокаженный дергается как вол, когда черви едят его. Павший в бою оплакивается всей своей семьей. Не имеющий погребения ест крошки, выброшенные на улицу. Мертворожденные дети играют за столом из золота и серебра, а питаются медом и топленым маслом. А тот, чье тело предано огню, ушел на небо вместе с дымом, в Ганзере его нет.
Одна из копий текста, записанная в Уре, заканчивается строками, упоминающими о некоем погребальном празднике, в котором кроме жителей Унуга принимают участие и граждане Гирсу (Лагаша):
В Унуг они вернулись, В город свой они вернулись. Оружие свое, топор, копье… Во дворце своем радостно он положил. Юноши и девицы Унуга, все старухи Кулаба На статуи свои смотрели, радовались. Как Уту вышел из своей спальни, голову он{40} поднял, Так сказал: «Батюшка мой и матушка моя! Чистую воду пейте!» Полдень прошел, короны его коснулся. Бильгамес поминальный обряд исполнял, На девятый день поминальный обряд исполнял, Юноши и девицы Унуга, все старухи Кулаба плач завели, Как это было положено. Юношей Гирсу толкнул он{41}: «Батюшка мой и матушка моя! Воду чистую пейте!» Герой Бильгамес, сын Нинсумун, — хвала тебе хороша!В другой копии из Ура Бильгамес, узнавший от Энкиду о жизни умерших, идет в горы для того, чтобы сохранить свое имя. Вероятно, перед нами попытка переписчика соединить текст о Подземном мире с текстом о Хуваве в одну сюжетную линию. Но попытка неуклюжая, поскольку, как мы помним, в песни о походе на Хуваву Энкиду не только жив, но и подстрекает Бильгамеса убить своего мнимого противника.
Попробуем теперь прокомментировать этот сложный гимн, последняя часть которого существует в нескольких вариантах. Прежде всего следует сказать, что перед нами текст, потребовавший от автора знания предыдущей письменной традиции и умения составить на основе этой традиции повествование максимально абстрактного содержания. О том, что текст абстрактен, говорит прежде всего равнодушие его автора к системе родства персонажей. Сначала Уту и Бильгамес называются братьями Инанны, но потом выясняется, что у них разные матери — Нингаль и Нинсумун, а отцом Бильгамеса вообще считаются два разных бога — Энлиль и Энки. И тогда читателю становится понятно, что все обращения богов друг к другу как к родственникам носят условно-символический характер. Инан-на скорее «сестрица» Бильгамеса, чем сестра по крови. А Энлиль и Энки, разумеется, божественные предки, пращуры в самом общем смысле — то есть существа, жившие в мире раньше героя и всех остальных людей. Этот литературный прием позволяет вписать Бильгамеса в мир божеств, показав его близость к самому акту творения мира.
Смысловым ядром текста является история дерева хулуппу, росшего на берегу Евфрата. В шумерской заговорной традиции принято описывать некое дерево, служащее эталоном святости и связанное с частями мироздания. Это мог быть тамариск — растение семейства гребенщиковых, которое почиталось за свою устойчивость к жаре и засухе и за прочность рукоятей, изготовленных из его ствола. Это мог быть и тутовник, весьма ценившийся шелководами. И каждый раз в заговорах говорилось, что ствол священного дерева подобен Небу, корень подобен Земле и Подземному миру, а крона подобна Середине Неба, где ходят Луна и Солнце. По сути дела, авторы заговоров намекали на то, что первообразом всего мироздания некогда было именно священное дерево. Для того чтобы исцеляемый от болезни объект (будь то человек или вещь) достиг святости, необходимо пожелать ему быть светлым как Небо, чистым как Земля и сиять как Середина Неба — то есть по сути стать священным деревом, подражая его примеру. И пока дерево стоит, в мире будет существовать святость, одолевающая демонов. Но в нашем тексте автор расщепляет мотив «дерево-мироздание» надвое. В запевке речь идет о распределении сфер мироздания между божествами, а во второй части говорится о священном тополе, растущем на берегу Евфрата.
Дальнейшее повествование уникально в шумерской словесности, поскольку здесь говорится об уничтожении дерева, что, по логике заговоров, лежащих в подтексте этой части гимна, свидетельствует об утрате миром своей святости. Южный ветер и половодье Евфрата — два противника, нападающие на Месопотамию с середины февраля по конец марта. Именно это время, бывшее у шумеров концом года, становится периодом торжества различных демонических сил. Миром всецело правят бог ветров Энлиль и бог дождей Адад. Неудивительно, что священное дерево хулуппу вырывается с корнем именно в пору максимальной активности непогоды. Его переносит и пересаживает в саду Инанны некая женщина, чтущая Ана и Энлиля. Но она боится даже дотронуться до святого дерева руками и делает свою работу только при помощи ног. Причем все время, пока она поливала дерево, ей приходили на ум нехорошие, эгоистичные мысли: как бы изготовить из этого дерева для себя сиденье и кровать?
Откуда эти мысли? Они стали следствием отрыва дерева от своих корней, от того священного места, на котором оно росло. Через пять или десять лет, когда дерево стало очень большим и высоким, в нем начинает поселяться всякая нечисть. О змее, не знающей заклятия, ничего сказать нельзя, поскольку она встречается в шумерских текстах единственный раз. А вот Анзу и Лилит хорошо знакомы клинописной традиции. Некогда славная птица Анзу, определявшая судьбы царей и бывшая символом лагашского бога Нингирсу, с начала II тысячелетия до н. э. стала восприниматься как злодей, желающий утащить царственность Ниппура в горы. Поэтому борьба с Анзу стала делом доблести и геройства всех вавилонских и ассирийских правителей. Что касается смеющейся Лилит, то это имя по-аккадски означает «ночная», а по-шумерски «дух, призрак». Среди духов-лилу в заговорах встречаются мужчины, женщины и девушки. Можно предположить, что они происходят от людей, которые умерли, не достигнув зрелого возраста, и теперь из зависти смущают покой живых. В средневековой традиции хорошо известны инкубы и суккубы — демоны-соблазнители противоположного пола. Вероятно, что-то похожее делали и духи-лилу.
Итак, от этой нечисти нужно было избавляться, и Инанна криком взывает о помощи сперва к Уту, а потом к Бильгамесу, называя обоих своими братьями. Но Уту почему-то не хочет ей внимать, и это подозрительно. Будучи богом справедливого суда, он не участвует в заведомо нечестивых действиях. А Бильгамес согласен помочь «сестрице». И здесь читателю впору спросить, в чем заключается нечестивость поступка Бильгамеса. Обычно на этот вопрос отвечали, что нельзя было разорять гнездо птицы Анзу. Но Анзу здесь такой же злодей, как и все прочие обитатели хулуппу. Значит, дело не в этом. Вероятно, ответ заключается в том, что нельзя было расчленять священное дерево и изготовлять из него вещи для пользования людей. Впервые такая нехорошая мысль пришла на ум благочестивой женщине, поливавшей пересаженное дерево. Вследствие этого дерево было заселено демоническими существами. А затем эта мысль была не только подхвачена, но и воплощена Инанной и Бильгамесом. После этого с миром стало твориться что-то неладное.
Следующая часть текста долгое время была непонятна исследователям. До конца прошлого века считалось, что по приказу Инанны из дерева хулуппу были изготовлены трон, кровать, барабан и барабанные палочки. И тогда вся дальнейшая сцена понималась следующим образом. Юноши города стали играть на барабане, сама собой возникла неистовая пляска, люди держались за бока, охали и не могли остановиться. Вдовы и юные девочки стали стенать и жаловаться богам, и в результате барабан с палочками провалился в преисподнюю. Исследователи полагали, что стенание вдов и девочек было вызвано недозволенными играми сексуального характера — своеобразным карнавалом и оргиями, проходившими под аккомпанемент барабанов. Но внезапно оказалось, что эллаг и жид — предметы, которые раньше переводились как барабан и палочки — это деревянный круг и бита. В гимне Шульги царь похваляется умением высоко забрасывать эллаг вверх, а в пословицах неоднократно говорится о том, что эллаг можно кинуть в собаку. Следовательно, эллаг никак не может быть барабаном, да и в списке музыкальных инструментов он не значится. И тогда стало ясно, что всю интерпретацию этой части нужно пересмотреть.
Внимательно прочитав текст, можно разобрать вот что. Бильгамес и юноши его города играют в мяч битами целый день и не останавливаются. Все юноши, играющие с ним, — дети вдов. Матери и сестры приносят им поесть, чтобы они восстановили силы. Но игра не останавливается до позднего вечера. По версии Я. Клейна и Р. Роллингера, она напоминает поло, но вместо верховых животных используют игроков проигравшей команды. Проигравшие охают, потому что победители, которых они везут на своей шее, периодически бьют их по бедрам ногами. Бильгамес вырывает небольшую лунку на месте, где остановилась игра, и предполагает поставить на ней мяч утром следующего дня{42}. О том, что шар изготовлен именно из дерева, а не из кожи, говорит детерминатив «дерево» — специальный клинописный знак, который шумеры ставили перед именованием всех деревянных предметов. Естественно, что матери и сестры игроков не хотят продолжения столь травматичной игры, и их слезы приводят к тому, что на месте лунки, где утром встал мяч, образовывается большая дыра. Через нее мяч и бита проваливаются в Подземный мир.
Повествование, связанное непосредственно с деревом хулуппу, на этом обрывается. Фантазия неизвестного автора становится очень смелой, он вообще забывает про мяч и биту, потому что весь сосредоточен на делах Подземного мира. Но ему необходима связка между деревом хулуппу и жизнью мертвых. И тогда неожиданно в тексте появляется Энкиду, который ранее не фигурировал ни в числе помощников Бильгамеса, ни в числе игроков. Энкиду вызывается достать мяч и биту и получает от господина инструкцию по поведению в неведомом мире. Поскольку мир мертвых это мир иной, то и вести себя в нем нужно наоборот: не одеваться в чистое, не умащаться, не обуваться, не бить, когда ненавидишь, и не целовать, когда любишь. Дальше автору нужно, чтобы Энкиду почему-то все забыл. И когда он забывает, то Подземный мир не выпускает его назад. Энкиду лишается тела и становится духом.
В последней сюжетной части текста Бильгамес берет у духа Энкиду своеобразное интервью. Но это интервью касается не личных ощущений самого Энкиду от пребывания в преисподней. Нет, Бильгамес задает самые общие вопросы, которые не касаются положения его бывшего раба. Видно, что ни автора, ни его героя уже не волнуют две вещи — судьба мяча и биты и судьба Энкиду. Настает время для ответов на последние вопросы бытия — что есть инобытие и чем оно оборачивается для человека с его конкретной индивидуальной судьбой. Следить за логикой автора в этом месте особенно интересно. Во-первых, он говорит только об участи мужчин и мертворожденных детей, ничего не говоря о женщинах и умерших детях. Во-вторых, все, о ком он говорит, классифицируются на родивших определенное количество сыновей, евнухов, девственников, бездетных, непочтительных к родителям, погибших на войне героев, умерших неестественной смертью, непогребенных, мертворожденных детей и на тех, чьи тела сожжены.
Дальше все более-менее понятно. Чем больше человек оставил сыновей, тем больше у него потомства и тем дольше он получает свое загробное кормление. Если же у человека только один сын, то его имущество быстро переходит к другим людям (колышек в стене — символ сделки по продаже имущества), а сам покойник-отец испытывает муки голода в том мире. Все, кто детей не оставил, оказываются не нужны в жизни и потому остаются голодными в том мире. Умершие неестественной смертью хранят память о том, как они умерли, и постоянно вскрикивают от ужаса. Павших героев оплакивают и кормят их семьи. Духи непогребенных питаются тем, что находят на улице. И только мертворожденные дети счастливы, поскольку не жили и их участь не зависит ни от семьи, ни от накопленных за жизнь грехов. Что же касается сожженных, то они на небе и им не нужно посылать еду в Подземный мир. Интерес представляет участь неблагочестивого сына. Здесь говорится, что оскорбивший свою мать сам остается без наследников. Вероятно, это происходит потому, что его покидают собственные дети. Этот пассаж хорошо комментирует одну из десяти заповедей Моисеевых из книги Исход: «Чти отца своего и мать свою, чтобы продлились дни твои на земле». Теперь становится понятно, что почитание родителей связано с продлением дней сына еще и наличием его наследников, которые поступают по отношению к отцу таким же образом, каким он поступил в отношении своих родителей.
Итак, мы видим, что представления автора текста о жизни мертвых весьма материалистичны. Они не выходят за рамки размышлений почтительного сына, многодетного отца и земельного собственника о судьбе своей семьи и своего наследства. Здесь ничего не говорится о судьбах царей, ремесленников, чиновников, жрецов, писцов. Главное в думах мертвого касается только потомства, которое он оставил, и жизни, которую он прожил. Если исполнен долг по отношению к семье и семейным ценностям, то и после смерти покойный может рассчитывать на благополучную в материальном плане жизнь.
Теперь обратимся к последним строкам урского фрагмента, в которых говорится о девятидневном пребывании Бильгамеса у погребальных статуй. Только этот фрагмент помогает нам связать воедино эпизод с игрой в мяч и девятидневный траур в Унуге. И там и там мы видим юношей, девиц и старух (вдов). Вдовы формируют команды своих сыновей, старухи принимают участие в поминальном церемониале вместе с Бильгамесом. Что же стоит за всем этим? Ответ на этот вопрос содержится в нескольких текстах, где упоминается девятидневный спортивный праздник в честь Бильгамеса, проводившийся в пятом месяце ниппурского календаря (его шумерское название Ненегар, а аккадское — Абу){43}. Вот что сказано в вавилонском комментарии на календарные месяцы и праздники: «В месяц Ненегар жаровни зажжены, Ануннаки факелы подняли, Гирра нисходит, с Шамашем равняется; месяц Гильгамеша, когда девять дней юноши в борьбе и атлетике по кварталам своим соревнуются»{44}.
Что же означает этот комментарий? Месяц Ненегар — июль — август, самое жаркое время года, когда бог пламени Гирра, палящий и осушающий всё на свете, становится равен солнечному богу Шамашу (то есть шумерскому Уту). В этом месяце проводятся с зажженными факелами спортивные игры среди юношества, посвященные герою Гильгамешу, и срок их проведения составляет девять дней. Теперь вспомним то, что мы уже узнали из предыдущих текстов. В гимне о Небесном Быке Бильгамес называется покровителем борьбы и атлетики, а в тексте о смерти Бильгамеса упоминаются юноши, которые соревнуются в борьбе и атлетике перед статуей Бильгамеса. Теперь же мы видим еще две части этого ритуала — игру вдовьих сыновей в мяч и девятидневное оплакивание умерших перед их погребальными памятниками.
Итак, в трех из пяти шумерских сказаний о Бильгамесе есть прямое указание на ритуальный характер их сюжетов. Тексты «Бильгамес и Небесный Бык», «Смерть Бильгамеса» и «Бильгамес и Подземный мир» напрямую привязаны к девятидневным спортивным играм месяца Ненегар, которые были кульминацией культового почитания Бильгамеса как чиновника преисподней. Нетрудно заметить, что спортивные игры, проводимые в июле — августе при свете факелов, соотносятся у современного читателя с Олимпийскими играми. Об этом мы еще вспомним в главе «Гильгамеш и Прометей».
Имя Бильгамеса дошло до нас в весьма странном контексте из гимна мотыге, записанного в начале Старовавилонского периода. Прославляя мотыгу как совершенный инструмент, которым можно делать массу необходимых и полезных дел, его автор поет:
Что до Большого Города, то мотыгой и людей хоронят, И трупы из земли выкапывают. Юноша, чтимый Дном, младший брат Нергала, Герой Бильгамес с мотыгой охотничьей сети подобен! Сын Нинсумун, умелый гребец, Мотыгой реку причесывает.В образном строе этого фрагмента за метафорами угадываются некоторые сюжеты, связанные с Бильгамесом. Он назван здесь не только сыном Нинсун (Нинсумун), но и младшим братом бога Большого Города (то есть царства мертвых) Нергала, что, несомненно, указывает на его почитание как божества преисподней. А его рассекание волн мотыгой, делающее героя подобным охотничьей сети, — намек на перевоз трупов, схваченных смертью, через реку на «берег Бильгамеса». Здесь мы видим возвращение к первоначальным представлениям о Бильгамесе как о божестве кладбищ и поминальных мест.
Бильгамес и Энкиду в шумерских сказаниях
Какую информацию о Бильгамесе мы можем получить из шумерских сказаний о нем? Весьма скудную. Ни разу не описываются внешность героя и его одежда. Мы знаем только то, что он обладает магическим сиянием (мелам), наводящим ужас на врага и поднимающим в бой войско. В текстах отсутствует описание жилища Бильгамеса, мы вообще только один раз видим его в домашней обстановке — на ложе смерти, в кругу родных и близких. Зато несколько раз Бильгамес показан на фоне городской стены, причем нигде не сказано, что эту стену построил он сам. В тексте о Небесном Быке мы застаем его в обществе матери Нинсун, которая дает ему советы в неизвестном месте (вероятно, на своей половине дворца). Об отношениях Бильгамеса с отцом тексты молчат, и даже в гимне о смерти героя ничего не сказано о его встрече с отцом в Подземном мире.
Сведения о собственной семье Бильгамеса известны только из текста о его смерти: у него есть любимая жена, младшая жена и дети; старший сын и наследник Урлугаль организует возведение гробницы своего отца. Из гимна о походе на восточные горы мы знаем, что его сестер зовут Энмебарагеси и Пештур и он обменивает их на лучи Хувавы (разумеется, после гибели Хувавы сестры возвращаются назад). Бильгамес никогда не ездит на колеснице или на колесной повозке, он всюду ходит пешком или — в одном случае — плывет на лодке, которую затем волоком тащат до подножия гор. В текстах вообще не упоминаются колесо и колесные экипажи. Из верховых животных названы только ослы, поводья которых должны держать юноши Унуга. Люди Бильгамеса бьются медными кинжалами и топорами, в его войске нет лучников и метателей дротиков, а в гимне Шульги О он назван тараном крепостей и искусным метателем пращи. Тактика боев Бильгамеса вообще не показана. В тексте об Агге он одерживает победу после своего появления на городской стене (видимо, вследствие своего мелам); в сказании о Хуваве он кулаком наносит удар по щеке существу, которое и не собиралось с ним драться, и только в гимне об убийстве Быка конкретно сказано, что он ударил Быка топором в лоб. Героического в этом мало. Еще меньше героического в разорении гнезда птицы, определяющей судьбы, хотя убийство змеи, против которой бессильны заклятия, несколько прибавляет очков отваге Бильгамеса.
Сторонниками и спутниками Бильгамеса в нескольких сказаниях являются холостые юноши, имеющие голос в народном собрании Унуга. Именно они провозглашают унугского эна лугалем. Напротив, старейшины не склонны соглашаться с его политическими авантюрами, как не одобряют их и верховные боги шумерского пантеона. Бильгамес умирает сравнительно молодым человеком — не случайно его часто называют в текстах en-tur, «молодой эн». Погребение Бильгамеса приходится на самое начало года, на разлив Евфрата в месяц Нисану, и сам он, как свидетельствует оборванная строчка, может быть первой жертвой-несаг, дарованной этому месяцу.
Можно ли сказать что-либо о характере Бильгамеса? Он решителен, отважен, но незлобив и великодушен (чествует Аггу и хочет отпустить Хуваву), амбициозен, но склонен к рефлексии и даже к депрессии, любит свою мать, весьма внушаем (следует разумному совету матери и злому совету Энкиду), но при этом не склонен следовать традициям. Весьма определенный и противоречивый характер.
В трех из пяти песен о Бильгамесе главный герой страшится смерти. Но чего же именно он боится и чего ищет? Бильгамес не может бояться небытия, поскольку такой идеи в ранней древности еще не было. После смерти в этом мире жизнь любого погребенного человека продолжается в Подземном мире, в Стране без возврата. Но весь вопрос в том, как она продолжается, каков уровень комфорта при посмертном бытии. Во-первых, Бильгамес боится быть непогребенным. Поэтому он с таким ужасом смотрит на тела, плывущие по реке. Непогребенные в мире мертвых нищенствуют, а некоторые из них и вовсе изгоняются прочь. Во-вторых, Бильгамес боится быть бездетным, и у него есть сын. В-третьих, он боится остаться без знака памяти, к которому его сын будет приносить жертвы, а для установления такого знака необходим подвиг. Итак, в общем и целом можно сказать, что главным страхом Бильгамеса был страх остаться непогребенным, забытым и голодным. Но за этим страхом проступает и его основное желание — никогда не покидать этот мир. Бильгамес не ищет бессмертия в современном понимании, потому что он лишен страха небытия. Бильгамес, как и говорят древние тексты, ищет жизнь в мире живых, не желая проходить даже через временную смерть. Но вспомним, что богам как раз свойственно умирать и воскресать. Например, Инанна три дня висела на крюке перед своим воскресением в царстве мертвых, а ее жених Думузи ежегодно умирает и воскресает на земле. Бильгамес же захотел не просто сравняться с богами, но встать выше богов. Вечно быть в мире, не зная ни смерти, ни воскресения.
Во всех шумерских сказаниях мы видим рядом с Бильгамесом фигуру его слуги или раба Энкиду. О нем нельзя сказать ничего сколько-нибудь определенного, потому что в каждом тексте перед нами разный характер. В песни об Агге Энкиду настолько храбр, что единственный из всего войска рискует выйти за городские ворота после пленения Бирхартуры. Правда, делает он это под прикрытием сияния Бильгамеса. Напротив, в песни о Хуваве он весьма труслив: сперва придумывает образ страшного Хувавы (по пословице «у страха глаза велики»), а потом требует не оставлять Хуваву в живых, поскольку опасается мести с его стороны. В тексте о Быке его роль не выражена, он просто упоминается среди бойцов с отпрыском Ана. В двух последних текстах Энкиду отчетливо связан со смертью и Подземным миром: в одном случае он назван другом и спутником, ожидающим Бильгамеса среди других покойников, в другом — изображается слугой, которому дают трудное задание и который, не справившись с ним, попадает в беду. Но в конце текста о Подземном мире у Энкиду вдруг появляется совершенно новая роль — он выступает в качестве информатора о жизни в царстве Эрешкигаль.
Можно ли говорить о союзе Бильгамеса и Энкиду как о конструкции, необходимой для обеспечения диалога? Это весьма сложный вопрос. С одной стороны, Энкиду является по своему статусу рабом Бильгамеса и потому должен соглашаться со всеми его прихотями. С другой — он постоянно служит хозяину отдушиной при ведении разговора и даже осмеливается давать ему советы. Значит, отношения между ними несколько больше, чем просто отношения слуги и господина. На этом парадоксе основана вавилонская пародия на сказания о Бильгамесе, известная под названием «Разговор господина с рабом». В пародии несколько раз обыгрываются строки как аккадского эпоса о Гильгамеше, так и шумерского текста о походе на Хуваву. В частности, в XI фрагменте текста (мы еще вернемся к вопросу о том, почему их ровно одиннадцать) в несколько измененном виде воспроизведена пословица из начала текста о Хуваве:
Кто столь велик, чтоб достигнуть неба? Кто столь широк, чтоб заполнить землю?Автор вавилонского текста понял, что Энкиду нужен именно для того, чтобы Бильгамес имел возможность высказать свои взгляды о жизни и посоветоваться с кем-то насчет своих решений. Но нужен он и еще для одной цели — чтобы списать на него проступки Бильгамеса. Это не сам герой убивает безвинного Хуваву — его, доверчивого, склоняет к этому лукавый раб. Это не сам герой нарушает покой Подземного мира — таково следствие беспечности и забывчивости его раба. Энкиду удобен, чтобы при случае оттенить превосходные качества хозяина, и при этом необходим, чтобы хозяин не заскучал. В этом смысле он выполняет роль будущего ренессансного Мефистофеля — мнимого слуги, склоняющего своего подопечного к рефлексии и депрессии и служащего оправданием его ошибок и проступков.
Сказания о Небесном Быке, о смерти Бильгамеса и о Подземном мире обращают наше внимание на культовую сторону представлений о нашем герое. В первом из них он покровительствует борьбе и атлетике, а во втором ему посвящены спортивные игры, приходящиеся на середину лета и проводимые перед его статуей при свете факелов. Мы видим, что почитание Бильгамеса смещается с осеннего периода, когда чествовали в равной мере всех умерших шумерских правителей, к летнему, где выделен один только Бильгамес. Не исключено, что это выделение связано с символикой созвездия Льва, восхождение которого в пятом месяце ниппурского календаря было временем летнего солнцестояния в III тысячелетии до н. э. Обратим внимание на то, что Хувава, с которым борется Бильгамес, описывается в речи Энкиду именно как лев. В пятом месяце проводились и спортивные игры. Следовательно, связь Бильгамеса со львом и созвездием Льва обеспечила смену времени его культа. Однако следует отметить, что Бильгамес всегда почитается в одиночестве. Мы до сих пор не можем найти следов поклонения Энкиду или хотя бы упоминание его в религиозных текстах. Вполне возможно, что такого поклонения никогда и не было.
Читатель, знакомый с шумерской литературой, может обратить внимание на некоторое сходство между образами Бильгамеса и шумерского бога Нинурты, хотя сравнивать можно только сюжет похода в горы. Несколько общих черт действительно можно обнаружить. У бога Нинурты есть компаньон — говорящее оружие Шарур, периодически дающее ему советы. Нинурта идет в горы, чтобы победить злодея Асага и его каменное войско, а по сути — захватить камни враждебных ему горных племен. Нинурта убивает Асага и доставляет трофеи в свой город. Нинурта чтит свою мать Нинхурсаг и называет в ее честь плотину, сделанную из частей тела убитого Асага. Но дальше начинаются различия. Нинурта действует не ради своей славы, а ради спасения города от близкого неприятеля. Нинурта приносит трофеи не в свой храм, а в храм своего отца Энлиля. Нинурта действует по благословению своих родителей. И самое главное — после победы над Асагом Нинурта спускает запертые им в горах воды вниз и обеспечивает половодье рек, тем самым принося в Шумер весну. Нинурта никогда не считался реальным человеком, и в шумерских источниках нам не найти сравнения похода Бильгамеса с его подвигом. Кроме того, Нинурта не был связан в шумерских источниках с Подземным миром. Его подвиг приходился на период перед началом разлива рек, а чествование Нинурты устраивалось в середине весны, после спада половодья. Так что даже в календарном ритуале Нинурта расходится с Бильгамесом.
Бильгамес и Энкиду в глиптике{45}
На цилиндрических печатях Раннединастического, Аккадского и Старовавилонского периодов часто встречаются три сюжета. В одном из них два героя с двух сторон бьют кинжалом и топором третьего — нагого человека с головой странной формы. В другом те же самые два героя сражаются со львом и человекообразным быком. В третьем сюжете герой нагибает некое дерево, вблизи которого находятся птица, богиня и другой герой (а иногда из дерева возникает еще одно существо). Совершенно естественно, что исследователи печатей первый сюжет стали связывать с походом Бильгамеса и Энкиду на Хуваву, второй связали с песней о Небесном Быке, а третий — с текстом о дереве хулуппу. Соответственно двух героев отождествили с Бильгамесом и Энкиду. Однако сами древние жители Месопотамии не оставили нам указаний по поводу того, как следует понимать изображения на печатях.
За полвека науки о глиптике стало известно происхождение множества образов и сюжетов. Оказалось, что борьба с животными известна еще со времени печатей эпохи Убейда. Вначале изображалась защита домашних животных от хищников. Затем сюжет модифицировался в борьбу двух героев с дикими животными. Было установлено, что облик первого героя, отождествляемого с Бильгамесом, варьировался от эпохи к эпохе. Из его постоянных черт можно назвать разве что бороду. В остальном он мог быть как одетым в тунику, так и обнаженным; как изображенным в профиль, так и повернутым анфас; как носящим тиару, так и с непокрытой головой. Бородатый герой имел множество различных функций: защищал домашних животных; сражался со львом, человекобыком и быком с человеческой головой, а также с нагим человекообразным существом; нагибал дерево в присутствии женского божества. Второй герой изображается обнаженным и в фас, его связывают с Энкиду. Он может быть как бородатым, так и безбородым, как с локонами, так и с повязкой на голове. Иногда он изображается с рогами и хвостом, что намекает на его дикарство и частичную человекообразность. Он помогает первому герою и ничем не отличается от него по строению лица. Видно, что они максимально близки друг другу и заняты одним делом. Правда, когда бородатый нагибает дерево, безбородый просто стоит подле него.
Можем ли мы считать, что на печатях действительно изображены Бильгамес и Энкиду? С одной стороны, можем, поскольку сопоставление литературных сюжетов с сюжетами печати (убиение двумя героями одного пленника, битва с быком и нагибание дерева) приводит именно к такому выводу. С другой стороны, мы не имеем прямого указания на это от жителей древней Месопотамии. Но если абстрагироваться от имен и сюжетов и просто рассмотреть детали изображений, то мы поймем, что перед нами если не архетипические, то самые что ни на есть типичные ситуации и люди этого региона в эту эпоху.
Итак, что же мы видим? Прежде всего двоих человек. Борода и одеяние, а иногда и тиара первого показывают его высокий общественный статус. Борода — признак мудрости, льняная туника или шерстяная юбка говорят о власти и богатстве, тиара указывает на положение правителя. Второй человек обнажен — признак бедности и низкого положения. У него нет бороды — следовательно, он небольшого ума. Если бы он изображался без бороды и наголо бритым — можно было бы считать его жрецом, но волосы на голове не дают возможности для такого предположения. Он изображается напротив первого, зеркально отражает его — значит, он его слуга, а вернее всего, его раб. Если раб, то заведомо ниже господина, полуживотное — отсюда рога и хвост на некоторых печатях. Неясно пока, почему бородатый герой чаще изображается в профиль, а безбородый — анфас. Возможно, здесь тоже указание на неравенство статусов. Впрочем, и это правило нарушается рядом печатей, когда оба героя стоят в профиль.
С кем сражаются герои? С теми крупными животными, победить которых было бы честью для любого правителя Месопотамии. Никто из шумеров, вавилонян и ассирийцев не похвалялся победами над змеями или скорпионами (за исключением эпизода с убийством змеи в песни о дереве хулуппу). Но завалить огромного дикого быка или натянуть на себя шкуру льва считалось истинным подвигом. Стало быть, нет ничего удивительного в том, что господин и его раб охотятся на этих животных. Сюжет об убиении нагого пленника точно так же естествен для жизни того времени, поскольку во время регулярных походов в горы жителям Месопотамии доводилось во множестве брать в плен и убивать своих противников из числа диких горных племен. То же самое с нагибанием дерева: в тех же горах шумерское войско добывало много стволов ценных пород дерева, тем самым обеспечивая своих жрецов новыми храмами.
Искусство Месопотамии дает нам понять, что в сюжетах глиптики, связанных с двумя героями, нет ничего фантастического. На печатях изображаются стандартные типажи в стандартных ситуациях. И здесь самое время вернуться к поставленному вопросу: являются ли двое героев изображениями Бильгамеса и Энкиду? Ответ на этот вопрос может быть парадоксальным: напротив, исторические Бильгамес и Энкиду были подверстаны под известные со времен Убейда изображения мужчин, сражающихся с хищниками. Реально существовавший эн Унуга и его гипотетически существовавший слуга Энкиду (а какой-нибудь слуга, пусть и с другим именем, у него был обязательно) стали одним из вариантов, а впоследствии — самым распространенным вариантом именования двоих героев, желающих покорить окружающий мир. Таким образом, становится понятно, что из пяти сказаний о Бильгамесе три — о Хуваве, Небесном Быке и дереве хулуппу — по своему сюжету являются доисторическими, восходящими к Убейду и Варке, и лишь слегка подновленными в эпоху III династии Ура, а два оставшихся — о победе над Кишем и о смерти — явно принадлежат шумерскому периоду истории Месопотамии.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГИЛЬГАМЕШ, ЦАРЬ УРУКА
Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?
О. МандельштамГлава первая ОТ БИЛЬГАМЕСА К ГИЛЬГАМЕШУ
После захвата Южной Месопотамии амореями в конце XXI — начале XX века до н. э. шумерский язык стал выходить из бытового употребления, но еще два тысячелетия изучался в школах, поскольку на нем продолжали создаваться религиозные тексты и он широко использовался в храмовых ритуалах. С течением времени пестрое население Шумера, состоявшее теперь из аккадцев, «приморцев»[9], амореев, хурритов, выходцев из Элама, купцов из Дильмуна, постепенно перешло на старовавилонский диалект аккадского языка. Это означало неизбежное забвение многих старых богов, изменение произношения названий городов и многих имен собственных. Энлиль стал в это время Эллилем, Унуг превратился в Урук, а Бильгамес — в Гильгамеша. Имя героя по-прежнему писали с детерминативом «бог», но само написание имени состояло из знаков GIS.TUN3.BAR, что при буквальном чтении понималось как «дерево-топор-рубить». Возможно, имелся в виду главный подвиг урукского эна — рубка кедров в горах Хувавы. Ученые писцы, составлявшие двуязычные словари, пытались играть именем героя, называя его kalga-mes, «могучий юноша», но это было уже за гранью правил шумерской грамматики, которая требует, чтобы определение стояло после определяемого (правильно было бы mes-kalag). Поэтому игровые варианты не прижились. Энкиду и Хуваву тоже постигла перемена имен. Хувава шумерских текстов стал в аккадском языке Хумбабой, а имя Энкиду стали писать по-другому. Если раньше он был En-ki-du10, «Владыка благого места» или «Энки добр», то теперь стал Еп-ki-du3, что можно понять как «Энки создал» или «создание Энки». Причем имя Энкиду тоже начинают писать с детерминативом «бог», а это уже перемена смысловая, и в чем ее причина — скажем позже. Произошла и еще одна удивительная перемена: эна Унуга, которого в «Царских списках» Шумера не называют лугалем, в аккадских текстах стали устойчиво именовать царем (шарру).
Через 700 лет после смерти эна Бильгамеса в стране, постепенно забывающей его язык, начинает создаваться большое эпическое повествование о нем. Факт сам по себе удивительный. Кому и зачем через столько лет и в новой цивилизации понадобился образ урукского правителя? С какой целью начал создаваться текст и кто именно стал инициатором его создания?
Прежде всего причина в непрерывном поддержании религиозных представлений о Гильгамеше.
В вавилоно-ассирийский период истории Месопотамии его культ продолжал оставаться востребованным. Он часто упоминается в текстах предсказаний по печени жертвенного животного, по аномалиям новорожденных, о связанных с ним ритуалах можно прочитать в дворцовой переписке:
«Если женщина родит ребенка со змеиной головой, то он будет царем вселенной, подобно Гильгамешу».
«Если сердце ягненка большого размера, то это благоприятно: царь, как Гильгамеш, не будет иметь равных».
«Если волосы человека, на которого наслали порчу, будут доставлены к статуэтке Гильгамеша, то через три месяца наступит исцеление».
«Если тот, кого постиг гнев богов, обновит статуэтку Гильгамеша, то гнев их сменится на милость»{46}.
Заклинатели объявляли Гильгамеша справедливым судьей, основным врагом колдунов и заступником за больных людей. Впрочем, колдуны также считали его среди своих помощников. Они изготовляли образы своих жертв и пускали их по воде, предназначая для Гильгамеша, который должен будет скоро узнать их в своем царстве. Все жители Месопотамии так или иначе уповали на бога и героя, с которым предстоит встретиться каждому человеку. Сохранилась молитва на аккадском языке:
Царь Гильгамеш, совершенный судья Ануннаков, Государь премудрый, узда человеков, Проницающий страны света, правящий Землю, владыка дольних и горних, Судействуешь ты — и как бог постигаешь, Ты стоишь в Преисподней, ты суд совершаешь. Суд неизменен твой, непреложно слово, Вопрошаешь, проницаешь, судишь, постигаешь — и вершишь правосудье: Власть и участь Шамаш поручил твоей власти, Государи, цари и владыки пред тобой на коленях: Постигаешь дела их, решаешь решенья. Я такой-то, сын такого-то, чей бог такой-то, чья богиня такая-то, — тот, кого ночь прияла, — Чтобы тебе судить суд мой, чтобы тебе решать решенья, преклонил я колена: Вырви злую долю, назначь мне благую, Скверну плоти моей обрати в безвинность, В этот день я почтил тебя много, Дал гордиться тебе, чтоб познал ты славу: Да храню твое повеленье, да узнаю суд твой! Я принес тебе пестрое одеянье, Лодочку из кедра, шесты из слоновой кости, Золотую тиару… [Далее строк десять или более совершенно разрушены] Пред Ануннаками протяни мне руку![10]Поклонявшиеся Гильгамешу рассчитывали на лучшую долю после своей смерти. Они продолжали отмечать его праздник в месяц Абу, изготавливая статуи и статуэтки героя и участвуя в ежегодных спортивных играх. Из документов новоассирийского времени известен ритуал изгнания демонов 28-го дня месяца Абу, в котором должен был участвовать сам царь (точно неизвестно, Асархаддон или Ашшурбанапал), молящийся перед образом Гильгамеша. Ритуал этот был приурочен ко дню памяти матери царя.
Чествование Гильгамеша в месяц Абу (шумерский месяц Ненегар), о котором мы ранее говорили на примере трех шумерских сказаний о Бильгамесе, имело амбивалентную природу. С обрядовой стороны оно было нацелено на кормление умерших родственников и проклятие колдунов, несущих смерть. Но оба эти действа осуществлялись для того, чтобы избавиться от нежелательного присутствия сил зла в мире живых. Мертвецы, которые от голода периодически выходят на землю, считались не меньшим злом, чем наводящие порчу колдуны. С мифологической стороны это было чествование героя, преодолевшего смерть и ставшего повелителем мира мертвых. По сути дела, и спортивные игры, и ритуалы против колдунов, проводимые в это время, были формами заклятия смерти и демонстрировали непокорность человеческого духа всеобщей судьбе. Неудивительно, что символом полуживого-полумертвого в человеке был именно Гильгамеш — царь в мире живых и чиновник в мире мертвых, связующий оба мира своей неповторимой личностью. Поскольку же культ продолжал поддерживаться, а язык изменился, то Страна нуждалась в новой легенде о старом герое.
Однако могла существовать еще одна причина, по которой стала возможна аккадская эпическая традиция Гильгамеша. В Старовавилонский и Средневавилонский периоды в Месопотамии и в Малой Азии создаются тексты о подвигах царей Аккада Саргона и Нарам-Суэна. В этих текстах, как и в подлинных надписях Саргона, говорится о том, что Саргон разрушил стену Урука и дал свободу жителям Киша. В то же время Саргон предстает перед читателем в роли покорителя земель к северо-западу от Месопотамии. Ему приписываются походы в Ливан и в Эблу, добыча кедров и поход в Пурусханду — один из городов Малой Азии. Особенный интерес представляют для нас именно тексты о Пурусханде. В них целью маршрута Саргона объявляется земля Утарапашти, в которой живет царь Нур-Даган (по другой версии — Нур-Дагаль). Имя Утарапашти весьма напоминает Утнапишти — имя человека, спасенного богами от потопа. Можно было бы отнестись к сходству имен просто как к созвучию, если бы не вавилонская карта мира I тысячелетия до н. э., к которой имеются подписи. Самая отдаленная часть мироздания названа здесь страной, где живут Утнапишти, Саргон и Нур-Даган, царь Пурусханды. Немало говорится в вавилонских эпических текстах и о западных походах Нарам-Суэна, причем его покровителем объявляется Шамаш. Все перечисленные факты свидетельствуют о том, что хотя Саргон и его преемник воспринимались авторами текстов как «антигильгамеши», освободившие Киш от урукского диктата и почитавшие его как город вечной царственности, в описании их подвигов и маршрутов явно прослеживается влияние шумерских песен о Бильгамесе. По-видимому, в Вавилонии II–I тысячелетий существовала альтернативная традиция, создатели которой пытались выводить современную им власть и картину мира из успехов Аккадской династии и ставили ее монархов в пример собственным правителям. Однако по неведомым причинам эта традиция осталась на периферии эпоса о Гильгамеше. Вполне возможно, что Саргон и Нарам-Суэн, будучи только военными героями, не могли претендовать на ту рефлексию важнейших основ бытия, которая уже была заложена в шумерских сказаниях о Бильгамесе. Потому мифология царей Аккада и проиграла на дальней исторической дистанции.
Глава вторая АККАДСКИЙ ЭПОС О ГИЛЬГАМЕШЕ
История эпоса
Э. Р. Джордж полагает, что причиной возникновения аккадского эпоса о Гильгамеше стало забвение шумерского языка к середине Старовавилонского периода, в результате чего шумерские песни о Бильгамесе стали достоянием узкого круга грамотных людей. Между тем за пределами школы развивалась новая, аккадоязычная поэзия{47}. Однако эту версию сразу можно отклонить. Во-первых, в тексте эпоса нет никаких следов вавилонской идеологии эпохи Хаммурапи (1792–1750), а это указывает на более раннее происхождение аккадского текста. Во-вторых, все таблички с шумерскими песнями о Бильгамесе дошли до нас от начала Старовавилонского периода — следовательно, они были современниками аккадского текста. В-третьих, когда жители Вавилонии стали постепенно забывать шумерский язык, то начали переписывать шумерские тексты одновременно с переводом на аккадский язык. Получались двуязычные таблички (билингвы), в которых каждая строчка сперва записывалась по-шумерски, а затем по-аккадски. Ничего подобного с шумерскими песнями о Бильгамесе не произошло. Их почему-то не стали переводить на аккадский язык, а вместо этого начали складывать совершенно новый текст — новый не столько по сюжету, сколько по стилю и по содержанию. Возникла уникальная ситуация: в одной и той же стране в одну эпоху одновременно бытовали разрозненные песни на шумерском языке и совершенно новые тексты на аккадском.
В каталоге новоассирийских табличек библиотеки Ашшурбанапала сказано, что «серия Гильгамеша» записана «из уст Син-леке-уннинни, заклинателя (mas-mas)». «Серией» (ишкару) называлось любое собрание текстов, объединенных общей тематикой. Более конкретного названия для аккадского эпоса о Гильгамеше вавилоно-ассирийская писцовая традиция не знала. С автором еще сложнее. Известно, что человек с таким именем считался основателем одного из урукских родов конца II тысячелетия. Его имя означает в переводе с аккадского «Син, прими мою мольбу» и по типу образования не могло возникнуть ранее середины II тысячелетия. Следовательно, Син-леке-уннинни жил примерно в это время — между серединой и концом II тысячелетия. Этот же человек назван автором эпоса и в поздневавилонском списке литераторов, составленном примерно в III веке до н. э., если не позднее. Однако списку доверять нельзя. Так, например, автором шумерского эпоса о Нинурте в нем числится сам бог мудрости Энки, а автором спора Вола с Конем — сам Конь. Становится ясно, что авторами наиболее известных текстов названы здесь наиболее авторитетные передатчики. Что же касается авторитета Син-леке-уннинни, то он был жрецом в каком-то храме (название храма разбито) и весьма почитался в нововавилонское время. Это и стало предлогом для указания его имени в качестве автора историй о Гильгамеше. Несомненно, что даже само имя этого почтенного человека автор списка литераторов взял из новоассирийского каталога Ашшурбанапала. Можно предположить, что Син-леке-уннинни был одним из компиляторов средневавилонской версии эпоса. В любом случае его авторство весьма условно{48}.
Не имея возможности назвать авторов всех версий эпоса, перечислим имена переписчиков, сохранившиеся в конце некоторых табличек. Это Ашшур-раим-напишти, живший в ассирийском городе Ашшуре и около 725 года до н. э. оставивший свое имя на копии VI таблицы эпоса. Это Набузу-купкена — великий астролог и филолог, живший в Кальху в конце VIII — начале VII века и в 705 году до н. э. закончивший эпос переводом шумерской песни «Бильгамес и Подземный мир». О его роли в истории эпоса пойдет речь дальше. Это Бел-аххе-уцур, живший в Вавилоне и 15-го числа месяца Кислиму 130 года до н. э. сделавший превосходную копию X таблицы эпоса. Остальные не оставили на копиях табличек своих имен.
Еще один безответный вопрос касается бытования эпоса в фольклоре и в ритуале. По поводу устной народной традиции можно сказать, что она едва ли была возможна. Из эпохи в эпоху текст эпоса претерпевал множество изменений, но все они были связаны с хорошим знанием предшествующей словесности, а такое знание было доступно лишь для грамотного жречества и писцов. Мы до сих пор не знаем в аккадской традиции пословиц или максим, связанных с Гильгамешем, но зато нам хорошо известны гадательные тексты и молитвы, в которых он выступает одним из объектов либо единственным объектом жреческих упований. Что же касается ритуала, то здесь всё вполне определенно. В записях ритуалов в обязательном порядке перечисляются все тексты на шумерском и аккадском языках, которые в них использованы. В частности, мы знаем о чтении эпоса «Энума элиш» на четвертый день месяца Нисану перед статуей Мардука в Вавилоне. Если бы эпос о Гильгамеше исполнялся или читался во время какого-либо ритуала, мы обязательно получили бы такое свидетельство от вавилонских или ассирийских писцов. Но такого свидетельства пока нет. Поэтому приходится считать, что история Гильгамеша была сугубо литературным произведением, возникшим в среде грамотных людей и, скорее всего, предназначенным для чтения и заучивания в школе.
Можно ли определить время и место происхождения эпоса и возможно ли как-то датировать аккадский эпос о Гильгамеше? Попробуем ответить на этот вопрос, применяя апофатический метод — то есть определение через отрицание. Можно ли сказать, что эпос создан в Вавилоне при царе Хаммурапи? Нет, поскольку в нем не упомянуты Вавилон и его боги Мардук, Царпанитум и Набу. Тогда, может быть, он создан в Ассирии? Тоже нет, потому что в эпосе не названы города Ашшур, Кальху, Ниневия и не упомянуты ассирийские боги — Ашшур, Муллиссу, Иштар Ниневийская и Иштар Арбельская. Тогда какие же города, страны и реки вообще в нем есть? Их очень мало. Это шумерские города Урук, Шуруппак, Ниппур, Сиппар, западные средиземноморские земли Ливан и Хермон и восточная земля Аратта. Ни одного раза не названа река Тигр, зато целых пять раз — Евфрат (по-аккадски Пуратту). Отсутствие упоминаний Тигра свидетельствует о том, что текст не относится к традиции города Лагаша, расположенного на канале, отходившем от этой реки. Упомянута и протекающая к востоку от Шумера эламская река Улайа на Иранском нагорье.
Итак, мы видим, что у эпоса типично шумерская география: Урук как центр повествования, из которого лучами расходятся сюжеты, связанные с западными и восточными регионами, близкими к Двуречью. Однако наличие Ливана дает нам важную историческую подсказку. Первый поход в кедровые горы Сирии и Ливана (точнее — в Аманус) был осуществлен основателем аккадской династии Саргоном, который сделал местных царьков своими данниками и привез из похода множество кедровых стволов{49}. Для датировки эпоса это более чем примечательный факт. Он дает нам первую границу: эпос не мог быть составлен ранее походов Саргона и его потомков в Сирию (XXIII век). Выше мы уже установили, что текст эпоса не мог быть составлен во время Хаммурапи или после его правления, поскольку Хаммурапи ввел на всей территории Месопотамии культ вавилонского бога Мардука, и после его смерти этот культ успешно существовал даже в ассирийское время.
Итак, граница становится довольно ясной: эпос не мог зародиться раньше XXIII и позже начала XVIII века до н. э. И. М. Дьяконов как раз и полагает, что эпос начали создавать в Аккадскую эпоху, и датирует его временем Нарам-Суэна (конец XXIII века){50}. Но в период с XXIII по XXI век все тексты литературного содержания продолжают создаваться на шумерском языке, а известные нам изображения Гильгамеша и Энкиду на печатях не содержат сюжетов, которые существовали бы только в аккадском эпосе. А самое главное, что в надписях аккадских царей мы никогда не встречаем имени Бильгамеса. Значит, граница сужается еще больше: XX–XIX века. Это довольно странно, поскольку в Ниппуре, Ларсе и Уре и в это время продолжается работа шумерских писцов-сказителей, создававших десятки новых гимнов, посвященных аморейским царям.
Приходится предположить, что эпос о Гильгамеше создавался как раз не в тех местах, где поддерживалась шумерская писцовая традиция, а где-то в другом месте. Чаще всего в эпосе упоминается город Урук (55 раз), остальные города всего по три-четыре раза. А это вполне достаточное основание для гипотезы, на которой мы и остановимся: аккадский эпос о Гильгамеше начал создаваться в городе Уруке в XX–XIX веках до н. э. И первоначальным поводом к его созданию могла послужить реконструкция городской стены Урука, о которой мы уже знаем из надписи Анама, жившего в конце XX — начале XIX века. Что же касается времени, когда создан окончательный вариант эпоса, то мы достоверно знаем: это вторая половина VII века до н. э., Ниневия, библиотека Ашшурбанапала. После этого времени нам известны только нововавилонские и поздневавилонские копии отдельных табличек, сохраняющие новоассирийский текст без изменений. Итак, творческая история эпоса длилась около тринадцати столетий — с XIX по VII век до н. э. Естественно, что у него был не один десяток компиляторов и переписчиков.
Теперь бросим беглый взгляд на то наследие, которое позволяет нам изучать аккадский эпос о Гильгамеше. От Старовавилонского периода (XX–XVI века) нам известны восемь табличек из Ниппура, Сиппара и Телль-Хармаля, среди которых есть весьма оригинальные и не вошедшие в полную новоассирийскую версию (например, «Таблица Мейсснера», запечатлевшая разговор Гильгамеша и Сидури). Пять источников Средневавилонского периода (XVI–XI века) дошли не только из Ниппура и Ура, но и из периферийных городов Ближнего Востока (Хаттуса, Эмар, Мегиддо, Угарит). От среднеассирийского времени (XIV–X века) дошли многочисленные ашшурские и ниневийские фрагменты. Новоассирийский период помимо собственно ниневийской версии эпоса представлен и ученическими копиями из Султантепе (VIII–VII века). Замыкают список источников фрагменты VI и II веков до н. э., обнаруженные в Уруке и Вавилоне. К списку источников на аккадском языке следует также добавить переводы его фрагментов на хеттском, хурритском и эламском языках{51}.
Рассмотрим теперь основные этапы творческой истории эпоса. От Старовавилонского периода сохранились эпизоды игры в мяч, сотворения Энкиду, знакомства и братания Гильгамеша с Энкиду, похода на Хуваву, а также диалог с Сидури на пути к Утнапиштиму. В Средневавилонский период появляются Пролог, эпизод с Быком и смерть Энкиду. В Новоассирийский период добавляются проход через горы Машу, рассказ о потопе и частичный перевод шумерского сказания о Бильгамесе и Подземном мире. Мы, к сожалению, не можем назвать дату появления каждой части эпоса, а только констатируем, что от определенной эпохи до нас дошли конкретные эпизоды текста. Ни одна эпоха, кроме новоассирийской, не дает нам полного текста эпоса и порядка расположения частей в нем. И только новоассирийская эпоха называет число таблиц и имя автора текста. Это позволяет предположить, что известный нам полный текст сложился не ранее того времени, в которое он был обозначен как полный, — то есть не ранее Новоассирийского периода.
Некоторые части эпоса были сложены из предшествующих шумерских и аккадских текстов. В Прологе, который открывается описанием Урука и его стены, переработаны несколько строк описания Унуга из песни об Агге. Сюжет о Гильгамеше и пук-ку, как мы увидим далее, взят из текста песни о Подземном мире. Битвы с Хувавой и Быком взяты непосредственно из соответствующих песен, хотя аккадский эпос и не переводит их дословно. Упоминание о путешествии к Зиусудре-Атрахасису-Утнапиштиму уже есть в песни о смерти Бильгамеса, сцена смерти Энкиду списана со смерти Бильгамеса в том же тексте, а рассказ о потопе представляет собой переработку одного эпизода из вавилонского эпоса об Атрахасисе. Наконец, вставленная позднее и замыкающая эпос таблица XII содержит частичный дословный перевод песни о Подземном мире.
Но в эпосе появляются и новые сюжетные линии. Это сотворение и инициация Энкиду, посвящение Энкиду в названные братья Гильгамеша, смерть Энкиду, проход через горы Машу и диалог с людьми-скорпионами, потоп. Есть линии и детали шумерских сказаний, которые аккадский эпос отбрасывает. Это победа над Кишем, семейное положение Гильгамеша, его смерть, отказ от брака с Инанной по причине ее осквернения, поход к Зиусудре-Утнапиштиму ради восстановления городских ME. Некоторые из них представляются авторам непонятными, а некоторые лишними. Гильгамеша предпочитают видеть одиноким странником, не отягощенным семейными привязанностями и действующим на основании здравого смысла, а не ритуальных мотиваций. Исключительное значение имеет также Пролог, который вводит Гильгамеша в пространство духовной культуры, наделяя его не присущим до того статусом писца и летописца.
Явление героев
Исследование всех сохранившихся табличек эпоса показало, что у текста два пролога. Первый начинался со слов «Превосходнее всех царей» и сохранился в самых ранних версиях. Второй был поставлен перед ним в средневавилонской версии эпоса и начинался со слов Ша нагба имуру. За последние пол века перевод этой первой строки, по которой называлось при Ашшурбанапале и само произведение, претерпел большие изменения. Сперва слово nagbu переводили как «всеобщность», а всю строку — «О всё видавшем». Но потом оказалось, что nagbu следует понимать в его первоначальном значении «исток, источник»; кроме того, это слово служило синонимом Abzu, «водная бездна». Это означает, что нужно переводить «Тот, кто видел Истоки» или «Тот, кто видел Бездну». Казалось бы, это не очень много меняет в понимании первой строки — ведь бездна — это и есть совокупность всех вещей. Однако это слово в контексте месопотамской культуры имеет весьма специфическое значение. Оно будет непонятно, если не привести перевод первых строк средневавилонского Пролога:
Тот, кто видел Истоки — земли основы, Кто изведал Пути, всё осознавший, Гильгамеш, тот, кто видел Истоки — земли основы, Кто изведал Пути, всё осознавший, — За всеми престолами надзирал он, Всю мудрость он совершенно изведал, Сокрытое узрел он, тайное отпер, Свидетельство принес о днях допотопных. В дальний путь ходил, устал, изнемог он, Все труды на камне оставил.Знание истоков связано здесь с совершенной мудростью и с преодолением путей, с познанием тайного и узрением сокрытого, с неким свидетельством, которое было дано герою и стало вершиной его странствий. Если мы обратимся к шумерской традиции, то вспомним о существовании двух космогонических фрагментов. В обоих говорится о том, что в начале существования мира и жизни был источник, бивший из-под земли{52}. В поздних ассирийских текстах источник Абзу признается основанием, на котором держится земная поверхность. Следовательно, дойти до истоков, увидеть истоки — означает и «дойти до первоначала, которое держит землю», и «достигнуть глубин мудрости». Гильгамеш изведал все пути и вследствие этого всё осознал — то есть он на личном опыте постиг, как на самом деле устроен мир. Постигнув же истину, он настолько стал тяготиться ею, что в изнеможении сбросил свой опыт на камень, записав всё, что с ним произошло. Словом «свидетельство» мы переводим аккадское тему, которое среди множества значений имеет и такое как «живое свидетельство в суде»{53}. Гильгамеш не просто собрал сведения о времени, предшествовавшем потопу, но опросил живого свидетеля этой эпохи — праведника, которому было дано спасение и бессмертие. В этом и заключалось самое глубокое знание, которое автор новоассирийской версии Пролога приписывает Гильгамешу.
Стеной окружил он загон Урука, Светлый амбар Эанны священной.Слово супуру буквально означает «овчарня» и употребляется в эпосе как эпитет Урука. И. М. Дьяконов вслед за своими предшественниками переводил его как «ограда». Но стилистически корректнее будет перевести его как «загон», поскольку слово «овчарня» не воспринимается современным человеком в качестве похвалы городу — отчасти из-за запаха, который исходит от этого места, отчасти из-за ассоциации жителей с овцами.
Далее автор Пролога непосредственно обращается к читателю, призывая его посмотреть на вал, стены и лестницу Эанны, восхититься ее древним основанием, ощупать ее обожженные кирпичи, вынуть из храмовой сокровищницы табличку из ляпис-лазури, на которой сложены и записаны «все невзгоды» Гильгамеша. Табличку он рекомендует читать вслух — вероятно, в назидание слушателям.
Что же это за табличка из ляпис-лазури? По-аккадски она называется нару, что буквально означает «стела». Но из текста Пролога следует, что это не стела, а памятная закладная надпись, хранящаяся в сокровищнице храма. Причем надпись эта должна быть довольно большого размера, потому что она содержит подробный рассказ о странствиях Гильгамеша. Однако если бы она была такого размера, то не влезла бы в сокровищницу. Значит, перед нами мистификация. Действительно, в I тысячелетии до н. э. в Ассирии и Вавилоне возник жанр царских псевдонадписей, называвшийся именно так — нару. Тексты этого жанра имитировали пространные надписи ассирийских царей, состоявшие из трех частей: а) прославление царя; б) его военные победы и в) его строительная деятельность. Сочинялись они как биографии правителей далекого прошлого, от которых не осталось никаких подробных сообщений. Начиналась такая поэма-нару с перечисления эпитетов правителя, затем следовал эпизод из его политической деятельности (либо победа в сражении, либо покровительство жителям захваченных земель), а завершался текст поэмы назиданием будущим царям, произнесенным от имени воспеваемого легендарного героя древности. В таком духе были составлены, например, «Легенда о рождении Саргона» и «Нарам-Суэн и Куту». Но возникает вопрос: почему авторам мистификаций необходимо было называть свои тексты именно словом «стела»? И почему таблички с надписями биографического характера нужно было хранить в храмовой сокровищнице?
Ответом на этот вопрос могут быть два фрагмента из текста о Нарам-Суэне и Куту. В одном из них сказано, что эн Урука Энмеркар не оставил своего имени на стеле и потому молитвы за него невозможны. А в другом любого человека, смотрящего на стелу, призывают прочесть царское имя и тем самым обеспечить себе посмертное поминовение: «Ты, кто прочел мою стелу, увел себя от беды! Ты, кто помолился за меня, — будущий (царь) помолится и за тебя!»{54} К этому следует добавить, что стелы и статуи с именами правителей ставились в специальном приделе храма, называвшемся «место напоения водой». К ним приносились жертвы, и таким образом осуществлялось кормление правителя в Подземном мире. Связь между памятником и памятью в то время была прямая: если нет написанного имени — нет ни молитвы, ни жертвы. Но ранние правители Урука не оставили по себе надписей, и Гильгамеш не был исключением. Из этого неминуемо следовало отсутствие поминального культа. Однако в отношении Гильгамеша такого невозможно было допустить. Поэтому на лазуритовой табличке была сделана надпись, содержащая имя правителя и рассказ о его подвигах. По факту наличия этой надписи был возможен культ, и текст Пролога отразил этот примечательный факт.
За средневавилонским Прологом, как следующий археологический слой, следует более древний пролог, сложившийся еще в старовавилонское время. Он гораздо более конкретен и касается уже не города и храма, а самого героя. Здесь происходит знакомство читателя с Гильгамешем. Мы узнаем, что Гильгамеш превосходит всех царей и по своей силе равен дикому быку, что он сын Лугальбанды и Нинсун, свое имя носит с рождения, что он на две трети бог и на одну треть человек. Гильгамеш предстает величайшим покорителем пространства, перешедшим все горы и переплывшим моря вместе с восходящим Солнцем. Там, в месте восхода Солнца, он встречает праведника Утнапиштима и после похода к нему восстанавливает храмы и ритуалы, погубленные потопом. Тело Гильгамеша создает богиня Белет-или (ее второе имя Аруру), а доводит его форму до совершенства сам бог мудрости Эа. Здесь же мы впервые читаем о внешности Гильгамеша. Перед нами описание гиганта: у него очень длинные ноги («тройной локоть», что составляет полтора метра), чрезвычайно широкий шаг (шесть локтей), он бородат и носит длинные волосы.
Повествование таблицы I начинается со странной сцены, которая раньше считалась связанной со строительной активностью Гильгамеша. Все его товарищи встают к некоему предмету, который по-аккадски называется пукку. Царь Урука не отпускает сыновей к их отцам, а дочерей к матерям. Днем и ночью продолжается его буйная деятельность непонятного свойства. Наконец, боги и богини слышат плач невест, которые не могут войти в спальню к своим супругам, и принимают решение о создании подобия Гильгамеша, в битве с которым унялся бы его пыл. Аккадский предмет пукку был эквивалентом шумерского эллага — деревянного мяча, который в шумерском сказании о Подземном мире вместе с битой проваливается вниз. Но эллаг долгое время переводили как «барабан», поэтому принято было считать, что и пукку таблицы I тоже является барабаном. И. М. Дьяконов переводит «все его товарищи встают по барабану», и такое понимание сразу дает повод к строительной интерпретации всей сцены. Мы помним, что в Прологе воспеваются храм Урука и его стена. Если же связать между собой Пролог и следующий эпизод, то можно предположить, что все население Урука жестоко эксплуатировалось царем на работах по строительству стены, люди работали целыми сутками и возникла угроза воспроизводству городского населения.
Однако в тексте нигде не сказано, что люди Урука работают или что-то строят. Когда стало понятно, что пукку — это вовсе не барабан, а деревянный мяч, изменилось и понимание всего эпизода. Товарищи Гильгамеша «встают к мячу», денно и нощно продолжается спортивная игра — и здесь мы вспоминаем одну из частей шумерского сказания о Подземном мире. Там говорится об игре мячом и битой, которая продолжается до вечера и готова начаться на следующее утро, о сыновьях вдов, составляющих команду Бильгамеса, о том, что женщины кормят игроков хлебом, о стонах травмированных игроков и о плаче юных дев, вняв которому, сам Подземный мир опускает мяч и биту в свои недра. Теперь становятся ясны сразу три момента. Во-первых, совершенно ясно, что эпизод из шумерского текста о дереве хулуппу и Подземном мире был использован здесь в несколько измененном виде. Во-вторых, понятно, почему переводчик текста на аккадский язык, сделавший из него таблицу XII, не включил эту часть текста в свой перевод. Если бы он это сделал, то продублировал бы в двенадцатой таблице начало первой, а это не входило в его замысел. В-третьих, спортивная игра Гильгамеша и стоны жителей Урука приводят в шумерской и аккадской версиях к двум различным последствиям: в шумерской версии — это уход Энкиду в Подземный мир, а в аккадской — создание Энкиду.
Итак, царь Урука Гильгамеш утомляет народ Урука своей бесконечной спортивной игрой. Мужчины изнемогают от усталости, женщины жалуются богам. В старовавилонской версии эпоса, кроме того, говорится о сексуальной ненасытности Гильгамеша: он входит к невестам раньше их женихов (возможно, потому, что, как глава города, имеет «право первой ночи»). И тогда боги взывают к матери богов Аруру — той самой, что некогда уже создала Гильгамеша. Теперь же они просят создать его подобие — пусть они соревнуются, а Урук отдыхает.
Аруру, это услышав,
Образ Ану создала в своем сердце,
Аруру омыла свои руки,
Глины отщипнула, бросила в степь,
Дикаря Энкиду создала, героя,
Порождение тишины из когорты Нинурты.
Покрыто шерстью все его тело,
Как женщина, волосы он носит,
Пряди волос его густы, как Нисаба,
Ни людей, ни страны он не знает,
Одеянием прикрыт, как Сумукан,
Вместе с газелями ест он травы,
Вместе со скотом у водопоя теснится,
Вместе со зверьем радует сердце водою.
(I, 82–95)Строки о происхождении Энкиду требуют отдельного комментария. Соперник Гильгамеша создан из глины, подобно тому, как первые люди в шумерском тексте об Энки и Нинмах были созданы из глины Абзу. Нинмах — богиня-мать шумерского текста, называемая также Аруру, — создает уродов, люди получаются у нее плохо. Но мудрый бог Энки определяет этим уродам счастливую судьбу. Энки же создает только одного человека и творит его по своему образу и подобию. Но этот человек ничего не умеет делать, и богиня Нинмах не может никуда его определить. В результате в споре богов-демиургов выигрывает Энки{55}. Это весьма важно для понимания того, кем был сотворен Энкиду. Дикаря создала из глины проигравшая в споре богиня-мать, люди получаются у нее плохо, и потому ничего хорошего с ними произойти не может, если не вмешается бог Энки. Вероятно, сама Аруру не могла создать человека по своему образу и подобию, а то у нее получился бы урод. Поэтому она взяла за образец небесного бога Ана, а имя дала своему созданию в честь Энки — дескать, «Энки его создал, а не я». Тем самым она сняла с себя ответственность за вполне возможный производственный брак.
Теперь посмотрим на описание созданного героя. Он дикарь, весь покрыт шерстью, носит набедренную повязку, как бог Сумукан, и длинные густые волосы, подобные колосьям ячменя (богиней ячменя считалась Нисаба), не имеет представления о людях и о городской жизни. Самой загадочной строкой описания Энкиду является та, где говорится, что он — порождение тишины и происходит из когорты бога Нинурты. Э. Р. Джордж понимает ее таким образом, что сравнение с Нинуртой означает богатырский статус Энкиду, а рождение в тишине — рождение без обычного для младенцев крика и без стонов роженицы{56}. Однако все сложнее. «Нинуртой тишины» назывался в клинописной традиции эламский бог Иншушинак, руководивший миром мертвых. Само же слово qultu, «тишина», могло употребляться в значении «зловещая тишина, вызванная смертью»{57}. В шумерских текстах степь, место рождения Энкиду, называется «местом зловещей тишины». Убивая детей, демоница Ламашту устанавливала тишину; убивая противника, оружие царя также было занято установлением тишины. Что же до сравнения с Нинуртой, то этот герой шумерского времени давно уже понимался в вавилоно-ассирийской традиции как покровитель разрушительных сил, связанный с Подземным миром. В частности, и в XI таблице эпоса он является одним из устроителей потопа. Поэтому можно предположить, что оба эпитета Энкиду в загадочной строке говорят о той потенциально злой, деструктивной силе, которая заложена в этом дикаре.
Откуда же пришел в аккадскую литературу образ Энкиду? Обратимся для этого к шумерским источникам. В эпосе о Нинурте и Асаге говорится о создании в горах чудовища по имени Асаг. Шарур говорит своему господину Нинурте:
Хозяин мой! Небо излило семя на желто-зеленую землю! Нинурта! Мощь Асага она породила, не знающего почтенья — Дитя, что не грудью матери вскормлено, а молоком диких тварей! Хозяин мой! Это отродье, отца не знающее, гор погубитель!{58}Не правда ли, в описании Асага хорошо узнается именно Энкиду? Асаг — существо, с которым воюет шумерский Нинурта. Он его соперник и равен ему по силе. В другом месте аккадского эпоса Энкиду назван существом, порожденным горой (I iv 2){59}, а гора — уж и вовсе иносказательное название для мира мертвых{60}. Кто же был рожден горой в браке с Небом? Месопотамская традиция показывает, что только болезнетворные демоны (асакку мариути), нападавшие на мир живых: «Странные отродья, порожденные Ану, те, что раскачивают бурю, не овладевают женщиной, не зачинают ребенка, разума не знают, как дикие лошади, растут в горах» (IVR, 1–2, 2—11 = 42–50){61}. Значит, Энкиду, рожденный по образу Ану, дикий, не знающий родителей человек, согласно эпитету, отпрыск горы, — имеет полу-демоническое происхождение{62}. Окончательно демоническую природу он не может принять из-за глины, из которой сотворено его тело. Глина делает его земным существом, дикарем, полузверем.
Еще один момент в описании Энкиду снова отсылает нас к шумерскому литературному прообразу:
Матушка, сон я видел ночью, Явились в нем небесные звезды, Как будто ком небесный упал мне на спину, Поднял я его — меня он сильнее, Тряхнул его — непосильна была тяжесть, Страна Урука к нему встала, Подле него собрались люди, Вокруг него мужи теснились, Юноши его окружили, Как малые дети, целовали ему ноги.Явление героя, к которому неожиданно сбегается вся страна, вся земля Урука, известно из пересказанной выше истории про юношу-быка Гудама, разорившего Унуг.
Толпы на улицах Унуга к Гудаму сбежались, Вооруженные толпы перед ним сидели. Певец ее, Лугальгабагаль, навстречу им для переговоров вышел, Войско увидел. Певец песню завел, рукой по струнам ударил: «То, что ты ел — Не хлеб ты ел, а плоть свою ты ел! То, что ты пил, то, что ты пил — Не пиво ты пил, а кровь свою ты пил! Гудам! Толпы по улицам Унуга за тобою следуют, Вооруженные толпы сидят пред тобою. Прочь ступай, не делай (этого)! То, что Женщина приказала мне, я исполняю!»Получается, что образ Энкиду в аккадском эпосе складывается из тех эпитетов и характеристик, которыми более ранняя шумерская традиция наделила болезнетворных демонов и злодеев, равных по силе богу Нинурте — Асага и Гудама. Отсюда понятно, почему Энкиду называют героем из когорты Нинурты. А его связь с Аном, закрепленная в сравнении с небесным комом (возможно, с метеоритом), также имеет весьма недобрую природу: небесный бог Ан не только порождает чудовищ, но и испускает на землю несущие гибель камни. Ничего божественного при такой связи с небом у героя нет. Нужно вспомнить выражение «некто свалился на меня, как ком с неба/с горы». Именно так, внезапно, здоровьем горожан овладевали демоны: «Вверху они грохочут, внизу они рокочут… <…> они — великие бури, что обрушиваются с небес; они — ураган, что в городе бушует; они рождены потомками Ану, они — сыновья, потомки Земли!» (IV R, 1–2, 15, 19–23).
Итак, становится ясно, что у обоих главных героев эпоса двойственная природа. Если Гильгамеш на две трети является богом и на одну — человеком, то Энкиду имеет демоническую и человеческую природы, пропорция которых в тексте не указана.
Композиция и фабула эпоса
На сегодняшний день известно 3065 строк новоассирийской версии эпоса. Каждая таблица эпоса имеет отдельный сюжет.
I — буйство Гильгамеша, рождение Энкиду и его инициация (300 строк).
Энкиду учит степных тварей не попадаться в ловушки охотников, и охотники теряют свою добычу. Один из охотников идет к своему отцу за советом. Он рассказывает, что видел дикого человека, помогающего зверям уходить от силков и ям. Отец охотника советует ему пойти к царю Гильгамешу и вместе с ним найти в городе блудницу, которая согласится соблазнить дикого человека. Охотник и Гильгамеш приводят к Энкиду городскую блудницу Шамхат. Энкиду познает ее шесть дней и семь ночей. После этого он ослабевает, и звери покидают его. Шамхат ведет Энкиду в Урук, рассказывая ему о прелестях городской жизни. Гильгамеш видит сон: на него с неба спускается ком, подобный топору, он льнет к этому кому, как к жене, толпы собираются вокруг него и приветствуют его в Уруке. Мать Гильгамеша Нинсун толкует его сон: этот небесный ком — будущий друг Гильгамеша.
II — священный брак и борьба героев (302 строки).
Шамхат и Энкиду живут у пастухов, Энкиду пробует хлеб и пиво, надевает одежду. В Уруке должен совершиться обряд священного брака. У брачного покоя Ишхары Энкиду заграждает Гильгамешу путь ногой. Между ними начинается схватка, но они не могут одолеть друг друга. Богатыри знакомятся и становятся друзьями. Гильгамеш представляет Энкиду своей матери Нинсун. Друзья замышляют поход в Ливан, где живет свирепый Хумбаба — страж кедрового леса.
III — братание героев и сборы в поход на Хумбабу (сохранилось 232 строки).
Решение о походе принимается народным собранием Урука. Гильгамеш обращается с молитвой к богу солнца Уту и заручается его поддержкой. Нинсун называет Энкиду своим сыном и братом Гильгамеша. Собрание поручает Энкиду охрану своего названного брата.
IV — поход в горы (250 строк).
Герои проходят путь полутора месяцев за три дня. На протяжении похода Гильгамеш пять раз роет колодец перед восходом Шамаша, приносит кедровым горам свежую воду и мучную жертву и просит их принести ему благоприятный сон. Он видит пять снов. В одном изображено падение горы на неизвестный объект (текст в этом месте разбит). Во втором Хумбаба уподобляется ребенку. В третьем Гильгамеш видит сгущающийся мрак, затем молнию и дождь. Содержание четвертого и пятого снов неизвестно (до нас дошли только мелкие фрагменты). Все сны Гильгамеша Энкиду толкует как предзнаменования победы над Хумбабой.
V — победа над Хумбабой (приблизительно 302 строки).
Герои входят в глубину леса и видят тропу, проложенную Хумбабой. Хумбаба обращается к Гильгамешу и Энкиду с оскорбительной речью. Шамаш насылает на Хумбабу 13 злых ветров. Они помогают оружию Гильгамеша достигнуть своего врага. Хумбаба просит Гильгамеша, а затем и Энкиду сохранить ему жизнь. Энкиду советует Гильгамешу прикончить Хумбабу, чтобы он не сообщил Энлилю об их походе в кедровые горы. Хумбаба проклинает героев, желая, чтобы никто из них не дожил до старости и не был погребен. Гильгамеш отрубает Хумбабе голову После этого герои рубят кедры и сплавляют их до Ниппура по Евфрату. Из самого высокого кедра Гильгамеш предполагает изготовить большую дверь. Конец таблички разбит.
VI — ссора с Иштар и битва с Небесным Быком (183 строки).
Гильгамеш омывает в реке свое тело и оружие. Им любуется богиня Иштар. Она делает ему брачное предложение. Гильгамеш отказывает ей и перечисляет всех предыдущих мужей Иштар, которых она или погубила, или превратила в другие существа. Разгневанная Иштар поднимается ввысь к своему отцу — небесному богу Ану. Она требует, чтобы он создал для нее Небесного Быка. Она спустит Быка на Урук, он выжжет и вытопчет всю землю, уничтожит город и его царя. Ан говорит, что прежде Иштар должна вырастить для Быка траву. Она соглашается растить ее целых семь лет. По истечении этого срока Небесного Быка спускают на землю и в Уруке начинаются оползни и пожары. Гильгамеш и Энкиду убивают Небесного Быка. Иштар летает над зубцами урукской стены, а Энкиду держит в руке правую ляжку Быка и угрожает поступить с ней подобным же образом. Голову Небесного Быка Гильгамеш вешает у себя в опочивальне как охотничий трофей, богу Шамашу отдают бычье сердце, а отец Гильгамеша Лугальбанда получает в дар рога Быка. Герои на радостях устраивают пир.
VII — суд над героями и смерть Энкиду (сохранилось приблизительно 267 строк).
Энкиду видит сон, в котором он предстает перед судом Собрания богов. Они приговаривают Гильгамеша и Энкиду к смерти за убийство Хумбабы и Небесного Быка. Но поскольку Гильгамеш — сын богини, то умереть должен один Энкиду. Проснувшись, он рассказывает другу свой сон. После этого Энкиду осознаёт, что беда случилась с ним из-за кедровой двери, ради которой по его совету был убит Хумбаба. Вспоминая всю свою жизнь, Энкиду проклинает охотника и блудницу Шамхат за то, что они привели его в город. Но бог Шамаш укоряет его и обещает богатые погребальные дары. После его слов Энкиду отменяет свое проклятие и благословляет охотника и блудницу. Он умирает в течение двенадцати дней.
VIII — погребение Энкиду (сохранилось около 230 строк).
Гильгамеш обращается к диким степным зверям с просьбой оплакать Энкиду. И сам он полон скорби по своему другу, стеная по нему, как жених по невесте. Затем Гильгамеш созывает мастеров и поручает им изготовить статую своего друга. Он также приносит жертву Думузи-абзу — богу, который назван «козлом отпущения», чтобы тот снял с Энкиду все грехи.
IX — путь через горы Машу и встреча с людьми-скорпионами (196 строк).
Гильгамеш осознает, что так же смертен, как и его друг Энкиду, и подвиги не спасут его от ухода в Подземный мир. Он облачается в львиную шкуру и уходит из Урука в степь. Там он принимает решение отправиться на поиски Утнапиштима — человека, некогда спасенного богами от потопа, и узнать у него секрет бессмертия. Гильгамеш входит в пещеру гор Машу, через которую каждые сутки проходит Шамаш. В пещере нет света на целых 12 поприщ пути. На середине пути он встречает людей-скор-пионов, которые выспрашивают, куда он идет. Гильгамеш говорит им правду. Люди-скорпионы указывают ему путь к саду, в котором растут драгоценные камни. Не тронув сокровища, Гильгамеш отправляется дальше.
X — воды смерти, встреча с Сидури и Уршанаби, первый разговор с Утнапиштимом (322 строки).
Гильгамеш приходит на берег вод смерти и встречает кабатчицу богов Сидури. Она расспрашивает его о цели путешествия. Он подробно излагает ей все события своей жизни и цель своего маршрута. В старовавилонской версии далее следует монолог Сидури о тщетности поисков бессмертия для смертного человека. Сидури указывает Гильгамешу путь к корабельщику Уршанаби. Гильгамеш разыскивает Уршанаби и с его помощью, отталкиваясь волшебными шестами от вод смерти, на лодке переправляется на берег, где живет Утнапиштим. Тот холодно спрашивает, зачем Гильгамеш пожаловал к нему, и после его ответа говорит, что ради Гильгамеша боги второй раз собираться не будут. Гильгамеш удивляется: как Утнапиштиму удалось обрести бессмертие, если он ничем не отличался от простых смертных?
XI — свидетельство Утнапиштима о потопе, обретение и утрата цветка бессмертия, возвращение Гильгамеша в Урук (328 строк).
Утнапиштим рассказывает Гильгамешу о потопе, длившемся семь дней и семь ночей, и о своем чудесном спасении. [Утнапиштим жил в Шуруппаке, на берегу Евфрата. Боги захотели устроить потоп. Но Эа, вопреки решению Собрания богов, поведал Утнапиштиму о предстоящем истреблении людей. Затем он научил Утнапиштима хитроумному ответу на возможный вопрос людей Шуруппака, куда и зачем он плывет. Эа дал ему инструкцию по строительству корабля. Этот корабль должен быть четырехугольным, его длина должна равняться ширине и быть покрыта крышей. На корабле будут шесть палуб, деленных на семь отсеков, а дно будет состоять из девяти отсеков{63}. Когда корабль был построен, Утнапиштим завел на него свою семью и родственников, мастеров, домашних животных и всю живую тварь. Двери корабля были засмолены. На следующее утро на небе поднялась черная туча, пришел ураганный ветер и начал литься страшный дождь. Когда начался потоп, то боги сами испугались своего деяния и забрались в самую высокую часть небес. Богиня-мать раскаялась в том, что дала разрешение на истребление своих тварей. Через неделю вода стала спадать. Утнапиштим увидел через открытую отдушину, что все человечество вновь стало глиной. Корабль пристает к горе Ницир, где находится еще неделю. По наступлении седьмого дня Утнапиштим выпускает одну за одной трех птиц — голубя, ласточку и ворона. Сушу находит только ворон. Утнапиштим выходит и приносит жертву богам. Боги спускаются к жертве. Эллиль и Эа посылают друг другу взаимные упреки. Эллиль упрекает Эа в том, что он выдал человеку тайну богов. Эа в ответ стыдит Эллиля за потоп. Эллиль делает Утнапиштима и его жену бессмертными. Их поселяют в устье двух рек.]
После своего рассказа он подвергает Гильгамеша испытанию — не спать семь дней и семь ночей. Гильгамеш не выдерживает испытания, о чем свидетельствует состояние хлебов, которые каждый день пекла жена Утнапиштима. Несмотря на это, по просьбе своей жены Утнапиштим открывает Гильгамешу секрет цветка бессмертия, имя которого «Старый человек помолодел». Гильгамеш спускается в Абзу и срезает цветок со дна. Однако он может съесть его только после возвращения в Урук. Гильгамеш омывает свои одежды в источнике, и они обновляются. Гильгамеш и Уршанаби возвращаются на свой берег. По дороге в Урук Гильгамеш идет купаться. Но пока он был в реке, змея съедает цветок, лежавший на берегу, сбрасывает кожу и молодеет. Гильгамеш принимает решение вернуться под стены Урука и приглашает Уршанаби отправиться вместе с ним.
XII — рассказ Энкиду о жизни в Подземном мире (перевод 153 строк шумерской песни «Бильгамес и Подземный мир»).
У эпоса двухчастная композиция. С первой по седьмую таблицы идет рассказ о рождении, жизни и смерти Энкиду, и эту часть В. К. Шилейко точно назвал «Илиадой эпоса», а мы вслед за И. М. Дьяконовым назовем «Энкидиадой»{64}. Здесь Гильгамеша сопровождает человеческое существо, не обладающее развитым сознанием и подстрекающее его к совершению преступлений. Поэтому основной эмоцией «Энкидиады» является агрессия, проявленная в желании господства, превосходства и славы. С седьмой по двенадцатую таблицы Гильгамеш живет без Энкиду и испытывает глубокое разочарование в своих первоначальных желаниях. Эту часть эпоса В. К. Шилейко называет «его Одиссеей». Главным объектом устремлений героя в последних таблицах является спасенный от потопа Утнапиштим. Так что можно сказать, что это «Утнапиштиада» эпоса. Герой, таким образом, располагается между двумя полюсами — несознательным дикарем Энкиду и мудрым избранником богов Утнапиштимом. Здесь можно вспомнить неоплатоническое деление человека на тело, управляемое страстями, дух, управляемый разумом, и душу, находящуюся между ними. Именно такой душой, непостоянной в своих устремлениях, является Гильгамеш аккадского эпоса. Впрочем, это поздние философские аналогии и строение эпоса они не объясняют.
Коды эпоса
В эпосе можно выделить четыре кода. Солярнопространственный код — это путь Солнца и Гильгамеша по странам света. Теокод — влияние различных божеств в разных частях эпоса. Зоокод (бестиарий) — сопоставление героев эпоса с различными животными. Антропокод — те люди, которые встречаются на пути Гильгамеша и являются героями определенных таблиц. Все четыре кода кодируют совершенно определенный комплекс идей, который делает текст эпоса не только художественным произведением, но и религиозно-этическим сочинением.
Солярно-пространственный код не будет хорошо пониматься современным читателем без общего представления о сакральном членении пространства в шумеро-аккадской культуре. Это сакральное пространство имеет вертикальную и горизонтальную ориентацию. Его вертикаль состоит из верхней сферы планет и звезд (ан), сферы обитаемого мира (калам) и сферы нижнего мира (ки), которая имеет два подотдела — область подземных вод (абзу) и область мира мертвых (кур). Верхний мир подразделяется на несколько небес (их число может доходить до семи), управляется мудрым старейшиной богов Аном, восседающим на троне седьмого неба, и является местом, откуда исходят законы мироздания. Он почитается как образец стабильности и порядка, которого так не хватает среднему миру. Этот средний мир состоит из «нашей страны» (калам), «степи» (эден) и чужих земель (также кур). Он находится во владении Энлиля — бога ветров и сил окружающего пространства. «Наша страна» — это территория города-государства с храмом городского божества в центре и с мощной стеной, окружающей город. За пределами городской стены расстилается «степь» (на самом деле пустыня или просто открытое место) — место не злое и не доброе, где могут действовать как боги, так и демоны. Все чужие земли, лежащие за пределами «степи», называются так же, как и страна мертвых в нижнем мире, и причина этого одна — они неведомы и законы их жизни непонятны для человека «нашей страны».
Область подземных вод нижнего мира подчиняется Энки — богу-создателю человечества, хранителю ремесел и искусств. От подземных, колодезных и арычных вод человечеству приходит таинственная помощь как в работе, так и на отдыхе (пить колодезную воду можно, в отличие от воды речной). Поэтому истинное знание связывалось у шумеров с происхождением из глубоких подземных источников. Область мира мертвых, напротив, сама требовала постоянной помощи от человека, поскольку нужно было регулярно кормить и поить умерших предков; в противном случае они могли превратиться в злых голодных духов и начать мстить своим живым потомкам жестокими болезнями. Во главе этого мира стояли супруги Нергал и Эрешкигаль, а решения в нем принимали грозные судьи людей Ануннаки.
Солярно-пространственный код эпоса виден очень хорошо и подчиняется схеме, которую можно прочесть в одном вавилонском пояснительном тексте: земля до Верхнего моря принадлежит Ша-машу, а земля до Нижнего моря — богу Эа{65}. Верхним морем с шумерских времен называли Средиземное море, а Нижним — Персидский залив. Земля до Верхнего моря — запад, закат. Земля до Нижнего — восток, восход.
Посмотрим теперь на пространство в самих таблицах.
I–III — действие происходит в Шумере, причем в двух частях — за стенами Урука и в дикой степи.
IV–V — действие происходит в горах Ливана, у Средиземного моря.
VI — происходит у реки, где омывается Гильгамеш после похода, потом на небе Ану и под конец — в Уруке.
VII–VIII — действие связано с Подземным миром и частично происходит в нем (во сне Энкиду), а частично в Уруке.
IX — действие происходит в горах Машу к востоку от Урука, через эти ворота проходит Шамаш.
X–XI — действие происходит у вод смерти и в устье рек, куда поселили Утнапиштима. Это область к юго-востоку от Шумера, прилегающая к Персидскому заливу. Герои этих таблиц Уршанаби и Утнапиштим связаны с богом Эа.
Теокод эпоса выстроен очень строго. В «Энкидиаде» участвуют верховные боги пантеона (Ан, Эллиль), сын Эллиля Нинурта и богини-матери (Нинсун, Белетили, Аруру) — герои светлого времени года. Уже в таблице I появляется бог солнца Шамаш, который называет Гильгамеша своим любимцем. Место Инанны-Иштар в урукском обряде священного брака в таблице II занимает Ишхара — покровительница жилищ. Вероятно, это было сделано для того, чтобы развести два сюжета — брак и отказ от брака, и не делать Иштар, отвергнутую Гильгамешем, его госпожой в Уруке. Начиная с таблицы III основным провожатым Гильгамеша становится бог солнца Шамаш. Он же дает благоразумные советы Энкиду перед его смертью. В таблице VI героями становятся Иштар и ее мужья, которых постигла печальная участь после брака с ней (Таммуз, Ишуллану). В таблице VII героями являются Шамаш (в ипостаси судьи) и божества Подземного мира — Нергал и Эрешкигаль. Героями «Утнапиштиады» являются боги зимнего периода, связанные с ветром, дождем, потопом и эпидемиями (Эа, Эрра, Нинурта и Адад). Шамаш больше не упоминается как вожатый Гильгамеша, герой эпоса возносит молитвы лунному богу Сину. Гильгамеш не ведом Шамашем, но идет по маршруту самого солнечного бога, преодолевая мрак гор Машу и воды смерти. Можно сказать, что повествование знает сперва богов верхнего мира, потом — ближе к концу «Энкидиады» — акцентированы боги мира мертвых, и к концу второй части текста доминируют божества воды и непогоды. Следует также заметить, что божества потопа, названные в таблице XI (Пабильсаг, Шуллат, Ханиш) — не что иное, как названия созвездий «пути Эа», восходящих в зимний период года. Сопоставляя таблицы эпоса с данными календарных текстов, можно увидеть, что теокод эпоса, начиная от Ана и Нинурты и заканчивая Ададом и Эа, отражает порядок следования явлений природы и божеств месопотамского культового календаря. Осталось сказать, что с детерминативом «бог» в аккадском эпосе пишут не только имя самого Гильгамеша и его родителей, но также имена Энкиду и Хумбабы. Возможно, это связано с большой древностью описанных событий. За это время и герои, и злодеи стали восприниматься как существа первоначального мира, в котором люди жили рядом с богами.
Рассмотрим теперь бестиарий эпоса. В первой его части перед нами большое количество копытных. В Прологе Гильгамеш уподобляется дикому быку (rimu muttakpu, «бодучий тур») (I, 28){66}, а имя его матери, богини Нинсун, переводится с шумерского «госпожа дикая корова» (rimtu) (I, 34). Следовательно, он — дикий бык, созданный божественной дикой коровой. Гильгамеш ни разу не называется обычным для быка словом alpu, поскольку этим словом в Месопотамии чаще всего именуют подъяремного вола. Это указывает на его независимость и на нежелание тащить плуг богов (то есть следовать правилам и нормам){67}.
Слепленный богиней Аруру из глины дикарь Энкиду ищет сочной травы и воды вместе с газелями — то есть дикарь травояден (I, 93). Пока Энкиду живет с газелями, охотники не могут поймать зверей в силки и никто в городе не ест мяса. Когда же дикаря приручает блудница, то и сам он начинает есть мясо и пить вино, причем газели его покидают, поскольку он познал женщину и его животная сила ослабела. Впоследствии, оплакивая Энкиду после его смерти, Гильгамеш будет делать это вместе со степными тварями. Родителями умершего друга он называет газель и онагра (дикого осла). В эпосе подчеркивается происхождение силы Энкиду от газельего молока (VIII, 3–5){68}.
До своего очеловечения дикарь питался молоком газели, травами и водой{69}. Познав блудницу, поев хлеба и испив пива, Энкиду чувствует в себе новые силы, которые окончательно отлучают его от животных. Он начинает сражаться со львами и волками, охраняя стада пастухов (II, 50). Когда Энкиду встречает Гильгамеша в брачном покое Ишхары, они начинают биться как два быка (/й), но не могут одолеть друг друга (II, 96). И тогда, чтобы не растрачивать силу понапрасну, герои решают идти покорять далекого недруга.
Отправившись в горы на битву с Хумбабой, Гильгамеш и Энкиду уподобляют себя двум львятам, которые, согласно пословице, должны быть сильнее одного льва (IV, 213). С этого момента в тексте начинается львиная тематика. В целом нужно сказать, что лев олицетворяет в эпосе превосходную воинскую силу, с которой нужно сражаться и которую следует примерить на себя. Уподобляясь львятам, герои считают львом и своего противника Хумбабу.
Войдя в кедровый лес Ливана, Гильгамеш и Энкиду сталкиваются с самыми разнообразными живыми существами. Это орлы, коршуны, хищная птица-нанду, сверчки, черепахи и рыбы. Причем все эти существа фигурируют в яркой речи их противника Хумбабы. Сперва Хумбаба оскорбляет Энкиду, говоря, что он как малек рыбы не знает своего отца и как сын черепахи не пил молока своей матери. А затем он обещает Гильгамешу, что его тело будут терзать орлы, коршуны и сверчки (V, 83–90).
К концу Энкидиады копытные и сравнения с ними совершенно исчезают. Более того, сам Гильгамеш, которого Пролог сравнивает с быком, становится в таблице VI эпоса противником и убийцей Небесного Быка. Предлагая себя в жены Гильгамешу, Иштар обещает ему колесницу, запряженную мулами, плодовитых коз, упряжных коней и подъяремных волов (VI, 10–21). Но от этих копытных Гильгамеш отказывается так же, как и от брачного предложения богини. В сцене с Иштар Гильгамеш перечисляет мужей богини, среди которых как настоящие звери, так и люди, превращенные в зверей. Птичка-пастушок, которой Иштар сломала крылья, вечно кричит kappi — «мои крылья!» (звук, издаваемый этой птицей, был переведен авторами эпоса на аккадский язык). Подпаска, превращенного в волка, чуть не загрызли собственные собаки. А садовник Ишуллану после соития с Иштар превратился в паука. Мы видим своеобразное распределение мужей Иштар по трем сферам мироздания: птица принадлежит верху, волк — срединному миру, а паук зависает между верхом и низом: ему не спуститься вниз и не подняться наверх. Кроме того, среди мужей Иштар были настоящие лев и конь. Льву она вырыла 14 ловушек, а коня заставила бежать семь верст, после чего напоила тухлой водой (VI, 48–79); видимо, то и другое привело к их гибели.
Имя чудовища, созданного Аном по просьбе Иштар, идеографически записанное GU4.AN.NA «Бык Неба», имеет в аккадском языке явно искусственное словообразование. Слово alu употребляется в значении «Небесный Бык» только в таблице VI эпоса о Гильгамеше. Вполне возможно, что при его создании использовалась игра двумя словами: lu «бык» и аlu< шум; a-la2 — демон небесного происхождения, связанный с бурей. Попытка астральной интерпретации этого персонажа как созвездия Тельца несостоятельна ввиду двух филологических аргументов. Во-первых, ни в шумерской, ни в аккадской версии песни о Гильгамеше перед именем gi4-an-na «Небесный Бык» не следует детерминатив mul, указывающий на принадлежность слова к числу звезд. Во-вторых, во всех астрономических и астрологических текстах эквивалентом созвездия gu4-an-na (=Телец) является is le-e «челюсть быка», а в мифологическом тексте о Небесном Быке аккадский эквивалент только alu{70}. Следовательно, семантического пересечения между астрономическим Небесным Быком (= Тельцом) и мифологическим Небесным Быком, скорее всего, нет.
Победа над Быком является одновременно и концом Энкидиады, поскольку за совершенные героями преступления Энкиду был приговорен богами к смерти. Тем самым приговаривается к смерти и всякое «копытное» (бычье, газелье) начало в главном герое эпоса.
После победы над Быком Энкиду во сне предстает перед судом богов. Небо вопиет, Земля отвечает ему, а между Небом и Землей оказывается сам герой Энкиду. Он видит подле себя некое существо, лицом похожее на птицу Анзу. У существа львиные когти и орлиные крылья. После удара Энкиду оно отскакивает в сторону, но затем приближается и по-бычьи наступает на Энкиду. Герой зовет друга на помощь, но никто не отзывается. После этого Энкиду превращается в голубя и обрастает крыльями. Существо, похожее на Анзу, переправляет его в мир мертвых, наполненный такими же птицелюдьми, как и Энкиду (VII, 165–184). Судя по описанию, перед нами тетраморф курибу, в котором соединились бык, лев, орел и человек. Этот тетраморф манифестирует бога Нингирсу, который, согласно цилиндрам Гудеа, имеет рост от Земли до Неба. Священной птицей Нингирсу является Анзу. Она судит судьбы царей и героев{71}.
После смерти Энкиду Гильгамеш оплакивает друга вместе со степными тварями — медведями, гиенами, пантерами, тиграми, оленями, рысями, львами, турами и каменными козлами. Он кружит над мертвым другом как орел и чувствует себя как львица, чьи львята в ловушке. Он сравнивает друга с беговым мулом, горным онагром и степной пантерой (VIII, 15–17, 50). Он сидит возле умершего друга, пока в нос Энкиду не проникают черви (X, 65). Перед погребением Гильгамеш приносит алебастровую чашу богу Думузиабзу, который должен проводить Энкиду на его место в мире мертвых, и называет этого бога «козлом отпущения (mashal-tappu) Широкой Земли» (VIII, 173–175). Согласно заговорным текстам на «козла отпущения» (аккадское слово происходит от шумерского mas2-hul-dub2-ba, «козел побивания зла») сваливают все грехи и спускают все болезни, которые претерпевают люди, заказавшие данный ритуал{72}. Значит, Думузиабзу, получив жертву, должен списать с Энкиду все его проступки перед богами. После погребения Энкиду Гильгамеш облачается в львиную шкуру и бежит в степь (VII, 145).
Находясь в степи, Гильгамеш впервые ужасается смерти. Он, герой, храбро сражавшийся с дикими тварями, испытывает страх, увидав львов. От мыслей о потере друга он постепенно переходит к мыслям о собственной смертности (IX, 3–5). И, не желая повторять судьбу Энкиду, начинает идти по сложному маршруту, чтобы изведать рецепт бессмертия у праведника Утнапиштима (IX, 6–7). Проходя через горы Машу, Гильгамеш встречает людей-скорпионов{73} обоего пола, взор которых излучает смерть. Они быстро распознают в путнике полубога и требуют, чтобы он открыл им тайну своего пути. После его объяснения они указывают дальнейший путь к водам смерти, переправившись через которые, можно достичь жилища Утнапиштима (IX, 42—134). Гильгамеш достигает жилища хозяйки Сидури — кабатчицы богов, которой он рассказывает о своих подвигах и в том числе говорит про убийства львов в степи и Небесного Быка в городе. Сидури указывает ему на корабельщика, переправляющего героя на землю Утнапиштима. Глубокая задумчивость Гильгамеша о смертности и преходящести всего сущего неожиданно вызывает к жизни образ стрекозы — невесомого и хрупкого создания, скользящего по бурным водам:
Никто не видит лица смерти,
Никто не слышит гласа смерти,
Жестокая смерть изводит человека.
Навеки ли строятся жилища?
Навеки ли создаются семьи?
Навеки ли делятся братья?
Навеки ли в стране распри?
Навеки ли река поднимается, несет половодье,
Качает стрекоз на волнах?
Взора, который бы вынес взор Солнца,
С давних пор никогда не бывало.
(X, 310–320)Буквально в строке 318 сказано kulili iqqellepa ina nari, «стрекозы шелушатся в реке». Этот образ пришел в таблицу X новоассирийской версии из старовавилонской поэмы об Атрахасисе. Там утопленники kima kulili imlanim пагат, «как стрекозы наполнили реку»{74} (III iv 6). В свою очередь, у этой аккадской строки есть шумерский прототип. В первых строках гимна о походе Бильгамеса на Хуваву главный герой говорит:
В городе моем люди умирают — сердце мое разбито!
Люди утекают — сердце мое скорбит!
Шею со стены я свесил,
Трупы, по воде плывущие, я увидел —
Не так ли станется и со мною? Так ведь и будет!
(Цит. по: ETCSL, 1.8.1.5)Последняя таблица эпоса полна упоминаний о различных животных. В сцене потопа боги уподобляются собакам, которые растянулись на городской стене, боясь поднимающейся воды (XI, 116), а по окончании потопа они мухи, поскольку слетелись на запах жертвы Утнапиштима (XI, 162). Богиня-мать, сидя на стене Урука, проклинает тот день, когда она согласилась, чтобы созданные ею люди наполняли воду, как мальки рыб (XI, 124){75}. А праведник, плывущий в ковчеге, окружен птицами — голубем, ласточкой и вороном. Голубь и ласточка не находят суши. И только ворон как мудрая птица (в шумерском тексте в образе ворона выступает сам бог Энлиль) понимает, что вода убыла, и начинает есть падаль на сухом месте (XI, 147–155). Последний представитель фауны, которого встречает на своем пути герой (и который пресекает дальнейшие притязания героя) — змей (сперва написанный шумерской идеограммой MU§). Он сжирает подаренный Гильгамешу цветок жизни, сбрасывает кожу и молодеет. Гильгамеша и ветхозаветного Адама лишает бессмертия одно и то же живое существо. Причем интересно, что змей назван «львом земли»{76} и он сбрасывает старую кожу, под которой образуется новая (XI, 297–306). А Гильгамеш — лев этого мира — одет в львиную шкуру, сбросив которую, он не сможет одолеть смерть. Лев Подземного мира одолевает льва Верхнего мира. Почему? Возможно, это месть за всех убитых героем львов и других диких тварей степи. Убийца живого не может получить вечной жизни. Такова финальная мораль аккадского эпоса о Гильгамеше.
Итак, мы видим, что зоокод эпоса выстраивается в порядке от копытных (бык, корова, газель, онагр) через крупных хищников (лев, пантера) к птицам, насекомым, рыбам и пресмыкающимся. Это путь от быка к змею, от твердой почвы и верхнего мира к воде и миру подземному. Копытные олицетворяют в эпосе изначальное бытие, необузданную силу и дикость, хищники связаны с воинскими амбициями правителя, а хтонические существа ассоциированы со знанием тайн и поиском истины (что естественно для шумеро-аккадской культуры, в которой кладезем знания была водная бездна Абзу). Зоокод эпоса совершенно воспроизводит порядок следования зверей в вавилонском зодиаке — от копытных (баран, бык) через кошачьих (лев) к пресмыкающимся и рыбам (скорпион, козлорыба (позднее козерог), рыбы){77}. Следует, кстати, заметить, что из вавилонского зодиака исключены лошади и собаки, да и в самом эпосе они упоминаются только во вставных сюжетах (судьбы мужей Иштар, сон Энкиду и потоп).
Обратимся теперь к антропокоду эпоса. Прежде всего следует рассмотреть вопрос о полифункциональности Энкиду. На протяжении эпоса этот персонаж многократно меняется, переходя в различные состояния по отношению к Гильгамешу. Энкиду замышляется богиней Аруру как подобие урукского царя. Затем он становится его соперником. Потом переходит в статус друга и даже брата. А в конце Энкидиады он приговаривается богами к смерти вместо Гильгамеша, исполняя, таким образом, должность подменного царя. Но и после погребения образ Энкиду не оставляет Гильгамеша. Его участь приводит его к поискам бессмертия, заставляет отказаться от власти и стать странником. Гильгамеш рассказывает об Энкиду всем существам, которых он встречает на своем пути. То есть, можно сказать, что Энкиду поселился внутри сознания героя и жил в нем как напоминание о грядущей участи самого Гильгамеша.
Трансформация Энкиду особенно заметна на фоне того круговорота, в который попадает Гильгамеш. Если жизнь Энкиду линейна и протекает от рождения до погребения, то жизнь Гильгамеша, начавшись у городской стены, под конец приводит его к ней же. И там же, за стеной, он помещает табличку с рассказом о своих странствиях. Можно сказать, что судьба Энкиду подчиняется обрядам перехода, а судьба Гильгамеша — обряду возвращения. В самом деле, благодаря общению с блудницей Энкиду удается за неделю превратиться из дикаря в горожанина. Гильгамешу же не удается исполнить условие Утнапиштима и бодрствовать неделю, чтобы обрести бессмертие. Потоп также длится в эпосе неделю. Следовательно, неделя здесь — срок перехода в новое состояние: от дикаря к человеку и от человека к бессмертному полубогу. Энкиду преодолевает испытание, а Гильгамеш возвращается к первоначальному своему состоянию.
Все женские образы эпоса фактически представляют собой вариации на одну тему, но это обнаружилось не сразу. В настоящее время известно, что Ишхара — одно из имен Иштар-Инанны в обряде священного брака. Это Инанна как покровительница жилищ и домашнего быта. Символично, что брак с Ишхарой у Гильгамеша не удается. Герой лишается благополучия и быта. Однако блудница Шамхат — тоже имя Иштар. Это Иштар в ипостаси покровительницы проституток. Получается, что сама Иштар выходит из города для соблазнения и покорения дикой силы Энкиду. В середине эпоса Иштар предстает перед Гильгамешем в обличье грозной воительницы. Но каково же было удивление исследователей, когда из хеттского силлабария они узнали, что Иштар могли звать именем §iduri\ Да и хозяйка корчмы на пути к водам смерти — не кто иная, как госпожа Иштар. В ассирийском заговоре из серии «Шурпу» Сидури называют «Иштар мудрости»{78}. Устами кабатчицы богиня говорит Гильгамешу, чтобы он смирился с участью смертного человека, не растрачивал жизнь на напрасные поиски и предался наслаждениям — браку, играм, пляскам, воспитанию детей. Герой, увидев Сидури, на какое-то время даже забывает Энкиду. Однако он не может последовать ее призыву. Всё, связанное с Иштар — привязанность, страсть, любовь, — теперь не имеет для него никакой силы. А дом и быт он утратил еще раньше — когда его Иштар еще была Ишхарой.
В работах исследователей эпоса не раз возникал вопрос о противопоставлении в нем Энкиду и женских образов. Нередко можно прочесть о гомосексуальности Гильгамеша и о том, что физическая любовь к другу заменила ему отношения с противоположным полом. В доказательство приводятся два фрагмента. Во-первых, это сон Гильгамеша в таблице I, где на него с неба падает камень и он вступает с ним в сексуальные отношения как с женой. Мать Гильгамеша Нинсун толкует сон как появление друга, за которого Гильгамеш будет держаться. Во-вторых, это сцена плача по Энкиду в таблице VIII, где Гильгамеш оплакивает его как невесту и ведет себя «как рыдающая женщина»{79}. Однако оба эти фрагмента ничего не говорят о гомосексуальности героев. Эротический сон не равен действительным отношениям, и то, что человек в нем воображает, редко совпадает с его реальным поведением. А сравнение умершего друга с невестой говорит только о степени скорби (горше всего оплакивают несостоявшуюся жизнь), но никак не о сексуальном характере отношений героев.
Однако отсутствие в тексте гомосексуальных отношений не отменяет самого противопоставления мужских и женских привязанностей Гильгамеша. Герой и в самом деле держится за своего друга, во всем доверяя ему, делает ошибки по его подсказке, уповая на его силу и разум. Женщинам он доверяет гораздо меньше: подозрительно относится к Иштар и не прислушивается к советам Сидури. Исключением является только его мать, и то во многом потому, что она богиня. Можно, пожалуй, назвать Гильгамеша женоненавистником (мизогином). Но его настороженное отношение к женщинам не означает его физической привязанности к другу. В эпосе говорится о сексуальной неутомимости Гильгамеша, имевшего «право первой ночи» в спальнях невест Урука. Но сексуальный контакт показан только один раз, и связан он только с переходом от полуживотного состояния Энкиду к человеческому. Второй сексуальный контакт — Гильгамеш и Ишхара — не состоялся по вине Энкиду. Он ежегодно закреплял статус урукского царя в своей общине. А третий был отвергнут самим Гильгамешем в таблице VI: герой не захотел стать мужем богини и быть превращенным в другое существо.
По мере роста амбиций сексуальность постепенно уходит из жизни Гильгамеша. Он не дикарь, а полубог, а секс не способен перевести его из полубогов в бессмертные боги. Не способен он и прославить имя правителя. Следовательно, на всем протяжении своего героического пути главный герой эпоса настолько же выше секса, насколько он выше всех смертных по своему происхождению. Его животным началом, носителем страстей все более становится Энкиду. И отсюда понятно, почему Гильгамеш так держится за своего друга: потому, что в нем слабеют инстинкты и страсти. Энкиду делает то, на что сам Гильгамеш просто неспособен.
Из прочих человеческих персонажей эпоса остаются Хумбаба, охотник и отец охотника. Два последних персонажа весьма условны. Отец охотника воплощает жизненную мудрость, а сам охотник нужен авторам текста только как средство первоначальной связи между Гильгамешем и Энкиду: иначе откуда бы урукский царь узнал о том, что творится в окрестных степях? Что же касается Хумбабы, то он олицетворяет в тексте ложную цель, поразив которую, вместо славы можно удостоиться позора, а вместо одобрения богов — их гнева. Как и в шумерской песни, Хумбаба ничем не опасен для героев. Просто он живет в отдаленной местности и сторожит полезные для хозяйства ресурсы. Поэтому избран мишенью для их амбиций. Однако, в отличие от шумерского Хувавы, Хумбаба аккадского текста ведет себя дерзко. Он оскорбляет обоих героев, а затем даже проклинает их. Хотя и это не делает его большим злом, от которого нужно избавляться во что бы то ни стало. Как и в шумерском тексте, Хумбабу убивают как свидетеля рубки кедров, который может донести на преступников великим богам.
Отдельный интерес представляет фигура Уршанаби. Само имя этого персонажа представляет собой игру двумя значениями знака, которым пишется вторая часть его имени. Этот знак может обозначать числительное 40 — и тогда Уршанаби переводится как «раб Эа», поскольку 40 — священное число этого бога. Пространство вод смерти и повествование последних таблиц действительно связаны с функциями Эа — покровителя водной бездны и человеческой премудрости. Но тот же самый знак можно понять как «две трети» — и тогда имя переводится как «раб двух третей». Как мы помним, это как раз та пропорция божественного и человеческого, которая определяет природу Гильгамеша. И в таком случае Уршанаби — слуга личности Гильгамеша, согласившийся отправиться с ним в Урук и тем самым подвести итоги его жизненного странствия.
Посредине между богами и людьми расположен уникальный статус Утнапиштима — бессмертный человек. Обратим внимание на то, что Гильгамеш, будучи полубогом, хочет приобрести полноценный статус бога. А Утнапиштим, будучи обыкновенным смертным, не становится богом, даже получив бессмертие. Он человек, имеющий жизнь, равную жизни богов. У Утнапиштима нет возраста и нет эмоций. Он весьма равнодушно относится к рассказу Гильгамеша о его странствиях и не выказывает желания ему помочь. Напротив, он дает ему испытание, которого человек заведомо не может выдержать. И только просьба его жены заставляет это холодное существо открыть путнику истинный рецепт бессмертия — цветок молодости. Дальше Утнапиштима никаких человеческих характеров быть не может. Пределом человеческой природы служит его абсолютное знание и абсолютное эмоциональное равнодушие к послепотопному миру. Ольга Книппер называла Чехова «холодный человек будущего». Именно таким и выведен в эпосе Утнапиштим. От него можно только повернуть назад — к теплоте дома и прочности городских стен, к осознанию хрупкости человеческой природы и вечности дел человека.
Обряды перехода в эпосе о Гильгамеше
В тексте эпоса неоднократно встречаются разнообразные ритуалы, имеющие, однако, одно и то же значение. Самый первый ритуал, содержащийся в начале второй таблицы, — ритуал вочеловечения дикаря и чудовища Энкиду. Сперва блудница дает ему в течение недели насытиться собой, затем его жизненные силы начинают иссякать, а разум становится способен воспринимать речь. Животные, вместе с которыми раньше жил Энкиду, покидают его, и он целиком оказывается во власти своей соблазнительницы. Она же внушает ему следующие действия:
есть хлеб и пить пиво, поскольку еда и питье свойственны всему живому;
умащаться елеем, потому что так делают все люди;
носить мужскую одежду, чтобы быть отличенным как мужчина;
взять в руки оружие, чтобы сражаться со львами и волками (чтобы стать храбрым мужчиной).
Больше ничего не требуется. Энкиду исполняет этот ритуал и становится человеком, точнее — не вообще человеком, а мужчиной-горожанином. Сражение со львами — это царская привилегия, поэтому перед нами горожанин с амбициями, претендующий на царский трон.
В третьей таблице перед нами целых три любопытных ритуала. В самом начале таблицы старейшины народного собрания Урука официально поручают Гильгамеша его другу Энкиду, который на войне будет отвечать за его жизнь. После похода на Хумбабу Энкиду обязуется также прилюдно перепоручить Гильгамеша старейшинам. Затем Гильгамеш упрашивает свою мать, божественную Нинсун, обратиться к хранителю всех героев Урука солнечному богу Шамашу с молитвой об успехе похода. Нинсун омывает тело мыльным корнем, надевает ожерелье, увенчивается тиарой, окропляет землю чистой водой, поднимается на крышу храма, совершает воскурение и подносит Шамашу мучную жертву. Она просит Шамаша о том, чтобы он хранил Гильгамеша днем и поручал его стражам ночи в часы своего отдыха. После этого Нинсун совершает еще один замечательный ритуал — ритуал посвящения Энкиду Гильгамешу. Она вешает ему на шею талисман (возможно, такой же талисман получил при рождении Гильгамеш) и объявляет Энкиду посвященным Гильгамешу. Посвящение проводят безбрачные жрицы и жрицы священного брака. Энкиду посвящается Гильгамешу точно так же, как все окружающие его жрицы — то есть он делается рабом богочеловека, обязанным жертвовать собой ради него и служить ему во всякое время. Не исключено, что на все время службы Энкиду должен был дать и обет безбрачия (о его брачных отношениях после вочеловечения в тексте нет ни слова).
В четвертой таблице, уже во время похода на Хумбабу, Гильгамеш роет на горе колодец при солнечном свете, приносит Шамашу чистую воду и муку и умоляет: «Гора, принеси мне сон [благоприятный]!» Внимая жертве, Шамаш заставляет его и в посылаемых снах, и наяву пересиливать свой страх перед неведомым и грозным противником. Энкиду говорит, что противник ужасен и силы его велики, но храбрый герой способен его одолеть. Перед нами, вне сомнения, обряд инициации, на который здесь указывают множество деталей{80}. Во-первых, гора сама по себе для месопотамского человека — синоним того света, «Страны без возврата». Колодец на горе — вход в эту страну. То, что Шамаш неизменно сопровождает героев, означает, что он повторяет тот же путь и теперь близок к нисхождению в Подземный мир. И герои, и Шамаш должны победить свой страх и расправиться со всеми темными силами леса, расположенного на горе. Побеждая Хумбабу, герои срубают кедры, и становится виден солнечный свет. Шамаш торжествует через подвиг Гильгамеша, победившего мрак горы и леса. Что же это, как не обряд инициации с обязательным заведением детей в лес, нагнетанием в них страха, тяжким физическим испытанием и превращением детей в юношей-воинов? Жаль, что до нас не дошли подлинные записи шумеро-аккадских инициационных ритуалов, поэтому о прообразах битвы с Хумбабой мы можем только догадываться.
В восьмой таблице, проводив в последний путь своего друга и слугу Энкиду, Гильгамеш расстается с царским одеянием и даже с местом, где он жил и правил. Он облачается в львиную шкуру и уходит из города в степь — место обитания диких зверей, голодных духов и странников. Отныне он тоже будет странником, ищущим вечной жизни. Разумеется, смена одежды отражает перемены в душевном состоянии Гильгамеша, его напряженные поиски бессмертия и укоры самому себе за неверно прожитую жизнь. Сменив одежду и место обитания, человек меняет и свою судьбу.
Еще один ритуал, касающийся посвящения, приведен в одиннадцатой таблице эпоса. Здесь приводится рассказ праведника Утнапиштима о его чудесном спасении от потопа. В частности, он говорит о том, что когда корабль праведника пристал к горе Ницир, то Эллиль за руку вывел Утнапиштима наружу, поставил его и его жену на колени, коснулся их лбов, встал между ними и благословил на вечную жизнь: «Доныне Утнапиштим был человеком, отныне же Утнапиштим нам, богам, подобен! Пусть живет Утнапиштим в устье рек, в месте далеком!» Праведник получил вечную жизнь, не получив божественного статуса. Имеет ли это посвящение какое-либо отношение к ритуалам посвящения в бессмертные (рефаимы), проводившимся в Сирии и Палестине — сказать трудно. Скорее всего, истоки здесь все-таки шумерские. Праведник находится под покровительством Энки-Эа — бога мудрости, тайны, искусства и магии. Образ его жизни, его поведение и сознание противостоят поведению и сознанию беспечного героя, ведомого неукротимым Уту-Шамашем. Праведник бессмертен не в результате ритуала посвящения (ритуал лишь закрепляет уже достигнутое), а в результате всей своей жизни. Тем не менее нельзя исключать существование какого-либо круга ритуально «бессмертных» и в древней Месопотамии, хотя мы пока ничего не знаем об этом.
Последним обрядом таблицы XI стал ритуал обновления тела и одеяний Гильгамеша. Утнапиштим велел ему окунуться в источник и затем опустить туда свои одежды.
«Возьми, Уршанаби, отведи его умыться, Пусть свое платье он добела моет, Пусть сбросит шкуры — унесет их море. Прекрасным пусть станет его тело, Новой повязкой главу пусть повяжет, Облаченье наденет, наготу прикроет. Пока идти он в свой город будет, Пока не дойдет по своей дороге, Облаченье не сносится, все будет новым!» Взял его Уршанаби, отвел его умыться, Добела вымыл он свое платье, Сбросил шкуры — унесло их море, Прекрасным стало его тело, Новой повязкой главу повязал он, Облаченье надел, наготу прикрыл он. Пока идти он в свой город будет, Пока не дойдет по своей дороге, Облаченье не сносится, все будет новым. (Перевод И. М. Дьяконова)Как мы помним, в первый раз Гильгамеш омывается и полощет свои одежды после похода на Хумбабу в начале таблицы VI. Тогда он отказывается от предложения Иштар и, возможно, это спасает его от гибели. То есть омовение связано для него с новой жизнью. Во второй раз омовение происходит у источника Утнапиштима: вода уносит шкуры, обновляет одежды и делает тело молодым. Гильгамеш обретает еще одну жизнь.
Нетрудно заметить, что все ритуалы эпоса относятся к обрядам перехода. И вочеловечение дикаря, и его посвящение Гильгамешу, и инициация героев на горе и в лесу, и отказ Гильгамеша от своего статуса, и двойное омовение-обновление героя, и посвящение праведника — все эти микрособытия являются движущими силами как жизни героев, так и сюжета самого текста. Текст эпоса выстраивается через последовательность действий, но каждое обычное, профанное действие героев обязательно должно предваряться сакральным и символическим действием, то есть ритуалом. Ритуал предваряет и обусловливает как разовое событие (поход на Хумбабу), так и переход в длительную фазу существования — в статус человека, героя, отшельника или бессмертного.
Скрытые смыслы эпоса
Если коды и ритуалы аккадского эпоса поддаются буквальному прочтению, то гораздо сложнее обстоит дело с изучением его смыслов. Авторы-составители эпоса демонстрируют читателю герменевтическую изощренность, заставляя не только вдумываться в содержание, но вслушиваться в звучание слов и всматриваться в образы клинописных знаков. Игра похожими словами и знаками, намеками и недомолвками является характерной чертой Пролога, таблицы VI и всех таблиц «Утнапиштиады».
В конце средневавилонского Пролога сказитель говорит (I, 16–19):
Поднимись и пройди по стенам Урука, Обозри основанье, кирпичи ощупай: Его кирпичи не обожжены ли И заложены стены не семью ль мудрецами?Кто такие эти семь мудрецов?
Ответ на этот вопрос дает очень древняя эзотерическая традиция, от которой нам остались несколько фрагментов в текстах всех тысячелетий — от шумерского времени до поздневавилонских ритуалов. Еще в шумерское время считалось, что мудрость была дарована людям длиннобородыми человекообразными существами, одетыми в рыбью чешую. Такое существо называлось по-шумерски abgal (< abba-gal «большой отец», то есть «старец»), а слово это писалось знаками NUN.ME или EN.ME, что в одинаковой мере означает «владыка МЕ». По-аккадски каждого из них называли apkallu или тип-talku, «мудрец, советник». Различались допотопные и послепотопные мудрецы. До потопа их было семеро — Уанна, Уанедугга, Энмедугга, Энмегалам-ма, Энмебулугга, Анэнлильда, Утуабзу. Они считались жрецами Энки, рожденными в реке, созидателями храмов и исполнителями божественных планов по устроению Неба и Земли. Именно эти семеро и признавались архитекторами урукского храма Эанна. Последний из них был взят богами на небо.
После потопа появилось еще четверо мудрецов — Нунгальпириггальдим, Пириггальнунгаль, Пириг-гальабзу, Лу-Нанна. Эти мудрецы уже учили чему-то неподобающему. Традиция говорит, что один из них свел Иштар с неба{81}, другой прогневал бога дождей Адада, а третьему удалось разъярить самого Энки. Однако последний из мудрецов — Лу-Нан-на — прославился весьма позитивным подвигом: ему удалось отогнать от Эанны дракона. Этот самый Лу-Нанна был на две трети апкаллу и на одну треть человеком. После Лу-Нанны уже не было апкаллу, и последующие мудрецы были людьми. Мудрец человеческого происхождения назывался по-аккадски ummianu, «мастер, наставник»{82}. Каждый из мудрецов и мастеров, как полагает традиция, был советником одного из первых царей Шумера. Но у Гильгамеша такого советника не было.
На что же намекают четыре строки Пролога? Читатель того времени, хорошо знавший шумерские и аккадские тексты, неизбежно должен видеть в них указание на понижение статуса героя. Основатели Урука были особыми существами, послепотопные мудрецы все более становились людьми и теряли в себе апкаллу. В Лу-Нанне оставалось уже две трети первоначального состава. А Гильгамеш вовсе не содержит в себе черт мудреца и не имеет советника из числа мудрецов. В нем тоже есть две трети, но бога, а не мудреца. Автор текста играет двумя значениями одного знака: четыре угловых клина могут читаться и как 2/3, и как 40. Сорок — символическое число Энки. Значит, когда упоминаются 2/3, за ними в то же время стоит 40. Это означает, что и Лу-Нанна, и Гильгамеш, получив две трети высшего начала в своей природе, должны быть обязаны присутствием этого начала богу мудрости и магии Энки. Но если Лу-Нанне дарована сущность полумудреца, то Гильгамеш может довольствоваться только сущностью полубога.
За этой эзотерической игрой знаками стоит очень древний ритуал, в котором жрецы-абгали, облачившись в одеяние, напоминавшее рыбью чешую, танцевали перед Энки и Нанше в храмах Эреду и Лагаша. Мы совершенно ничего не знаем о том, каким образом человек мог получить статус абгаля, но хорошо известно, что такие люди-рыбы были советниками царей. Интересно, что традиция апкаллу настолько хорошо была известна на Ближнем Востоке, что в еврейской мистической традиции утвердилось представление о нефилим, «исполинах» — потомках ангелов Божьих и земных женщин, обладавших великой мудростью (см. далее).
Теперь обратимся к скрытым смыслам второй половины эпоса. Вот Иштар в начале таблицы VI делает Гильгамешу брачное предложение (10–17):
Приготовлю для тебя золотую колесницу, С золотыми колесами, с янтарными рогами, А впрягут в нее бури — могучих мулов. Войди в наш дом в благоухании кедра! Как входить ты в дом наш станешь, И порог, и престол да целуют твои ноги, Да преклонят колени государи, цари и владыки, Да несут тебе данью дар холмов и равнины… (Перевод И. М. Дьяконова)С виду речь как будто бы идет о богатых брачных дарах и о преклонении всех властителей перед женихом Иштар. Но истинный смысл этих слов раскрывается нам в сцене прощания с умершим Энкиду в таблице VIII:
На ложе почетном тебя уложил я,
Поселил тебя слева, в месте покоя,
Государи земли облобызали твои ноги,
Велел оплакать тебя народу Урука…
(Перевод И. М. Дьяконова)Оказывается, что государи целуют ноги у мертвого и преклоняют колени перед покойником. И все эти роскошные дары — богато украшенная колесница, дар холмов и равнины — будут погребальной данью очередному жениху, погубленному богиней. И тогда нам становится понятен скрытый смысл самого брачного предложения: Иштар предлагает Гильгамешу стать мертвецом после соития с ней. Гильгамеш отлично понимает этот смысл, потому и не хочет для себя участи Думузи, которому Иштар «из года в год сулила оплакивание»{83}.
Еще один пример скрытого смысла виден нам в таблице VIII, где по приказанию Гильгамеша создается статуя Энкиду:
Гильгамеш по Стране клич кличет: «Кузнецы! Золотильщики! Ювелиры! Сделайте моего друга!..» Образ друга своего он создал: «друга моего… члены твои из… Брови твои из лазурита, грудь твоя из золота, Тело твое из…» (VIII, 66–72)Для чего нужно создавать такую статую? Для того чтобы ответить на этот вопрос, вспомним о том, что в таблице VII эпоса боги делают Энкиду подменным царем, принимающим смерть за Гильгамеша.
Энлиль сказал: «Пусть, мол, умрет Энкиду, А Гильгамеш, мол, пусть не умирает!»{84}Подменный царь — хорошо известная в Месопотамии должность начиная со II тысячелетия до н. э. Некий чиновник ставился на престол в случае неблагоприятного знамения, связанного преимущественно с затмениями и полнолуниями и грозившего царю гибелью. По окончании этого срока его убивали и хоронили с царскими почестями.
Письма астрологов ассирийским царям сообщают, что после смерти подменного царя настоящий царь заказывал его статую, благодаря за спасение от собственной смерти. Приведем данные двух документов. В письме ABL 46 астролог Аккуллану пишет о создании статуи подменного царя, правившего Аккадом с 14-го Таммуза до 5-го Абу. В документе ABL 653 астролог царя Ашшурбанапала Ададшум-уцур извещает царя о необходимости одеяний и золотого ожерелья для статуи подменного царя, причем этого царя еще только планируется поставить вместо адресата этого письма{85}.
Теперь обратимся еще к одной детали таблицы VIII. Перед погребением Гильгамеш приносит алебастровую чашу богу Думузи-абзу, который должен проводить Энкиду на его место в мире мертвых, и называет этого бога «козлом отпущения (mashal-tappu) Широкой Земли». Согласно заговорным текстам на «козла отпущения» (аккадское слово происходит от шумерского mas2-hul-dub2-ba — «козел побивания зла») сваливают все грехи и спускают все болезни, которые претерпевают люди, заказавшие данный ритуал. Отправляя друга в Подземный мир, Гильгамеш говорит:
Пусть Думузи-абзу, козел отпущения Широкой Земли, (чашу) примет, Моему другу пусть обрадуется, на сторону его пусть встанет! (VIII, 182–183)Здесь заключены сразу два скрытых смысла. Во-первых, сходящий под землю Энкиду удостаивается милости со стороны Думузи-абзу — одной из ипостасей бога Думузи. Думузи, как известно из шумерского текста о нисхождении Инанны в преисподнюю, сам был «заменой» (ki-gar-ra) за Инанну («Думузи и Гештинанна», 27). Энкиду, подменяющий Гильгамеша на том свете, исполняет именно роль Думузи. Во-вторых, Думузи-абзу назван «козлом отпущения» Подземного мира, то есть он собирает грехи и преступления людей для того, чтобы очистить их. Если Думузи-абзу встает на сторону Энкиду (что означает его защиту и покровительство новопреставленному), то он одновременно с этим очищает его. А поскольку Энкиду — это замена за Гильгамеша, то чистым от грехов будет и тот, кого Энкиду заменил. Следовательно, Энкиду должен умереть во искупление всех грехов, накопленных Гильгамешем в первой половине жизни.
Искупительность смерти подменного царя ярко демонстрирует письмо ABL 437, в котором астролог Мар-Иштар, представитель ассирийского царя в Вавилоне, говорит Асархаддону следующее:
«Дамки, сын шатамму{86} Аккада, правивший Ассирией, Вавилон(ией) и всеми странами, он и его царица умерли в ночь на [х] день как замена царя, моего господина, и ради жизни Шамашшумукина. Он ушел к своей судьбе ради их искупления (anapi-dissnu). Погребальную камеру мы приготовили. Он (и) царица его были убраны, украшены (буквально «выставление их (тел) произведено»), погребены и оплаканы. Огненная жертва была принесена, (неблагоприятные) знамения устранены, многочисленные обряды Намбурби, Бит римки и Бит сала ме, ритуалы очищения, Эршахунга, формулы писцов, были совершенно исполнены. Да узнает об этом царь, мой господин!»{87}
Свидетельства ассирийских писем чрезвычайно информативны. Во-первых, оказывается, что подменный царь еще при своей жизни знает о том, что ему полагаются статуя и погребальные почести. Во-вторых, он принимает смерть вместе со своей женой. В-третьих, над их телами полагается читать как заговоры из очистительных серий, так и молитвы на отпущение грехов. Таким образом, они будут чисты и от грязи, и от прегрешений. В-четвертых, будучи чистыми, они искупают грехи царя и его брата.
Таким образом, создание статуи Энкиду и обращение Гильгамеша к Думузи-абзу могут свидетельствовать о том, что Энкиду таблиц VII и VIII действительно являлся по отношению к Гильгамешу подменным царем. При этом следует заметить, что Гильгамеш, в отличие от ассирийских царей, не ставит его в такое положение по своей воле.
Ярчайший пример скрытого смысла демонстрирует нам речь Утнапиштима, обращенная к жителям Шуруппака в таблице XI эпоса.
Я спущусь в Апсу, дабы жить с Эа, моим владыкой, Он прольет на вас изобилие: Урожай птиц, связки рыб, …богатство во время урожая! На заре — пироги, Ночью он прольет на вас дождь пшеницы.Первоисточником этой части монолога были строки из Атрахасиса:
Позже я пролью на тебя дождь, Урожай птиц, связки рыб. (OBAtram-hasis III 34–35)В вавилонском эпосе нет последних трех строк, они добавлены только в новоассирийский текст таблицы XI. Что касается первых двух, то А. Р. Миллард логично объясняет их как обещание урагана, который поднимет вверх и разбросает по земле большое число птиц и рыбы{88}. «Богатство» и «урожай» следующей строки связаны именно с тем, что рыб и птиц не нужно будет ловить специально, они сами попадут в руки добытчикам.
А вот последние две строки вызывают много вопросов. Обратим внимание на то, что логически непонятен порядок, в котором идет обещанное изобилие. Почему утром пироги, а ночью пшеница, если должно быть наоборот (пироги ведь пекутся из пшеничной муки)?
Уже первый издатель эпоса П. Хаупт (за которым последовали К. Франк, К. Далли, С. Нёгель){89} обратил внимание на возможную игру слов в XI, 46–47:
кикки < шум. gug2 «пирог»
киккй < шум. ku10-ku10 «темный»= шум. KUR «Подземный мир»
kibtu «пшеница»
kibittu «тяжелая, трудная»
kabatum «печень; яростная, злая»
suznunu «посылать дождь; снабжать пищей» Приведя возможные примеры игры, исследователи, однако, не потрудились представить ее возможные доказательства в самом тексте или хотя бы объяснить логику. Попробуем сделать это здесь. Во-первых, условие игры задается двумя значениями глагола znn III1, который является основным глаголом для всех пяти строк. Здесь возникает известный и другим языкам семантический переход «проливать дождь — проливать изобилие». Следовательно, именно сам глагол располагает к скрытой игре смыслами. Во-вторых, атрибутами дождя являются черная туча, вызывающая тьму, и ливень с неба. Отсюда понятен внешне нелогичный порядок, в котором первое место отдается кикки (имеем в виду, что это не пирог, а тьма), а второе место kibtu (что на самом деле sa-mu-um ki-bit-tum — «сильный дождь, ливень»). Если заливание земли водой многократно показано в рассказе о потопе, то есть ли свидетельства наступления тьмы? Они не просто имеются, но и связаны с рассветом, как и кикки в XI, 246:
Только заря занялась — Поднялась от основания небес черная туча. (XI, 97–98)И в другом месте:
«Все, что сверкало, во тьму обратилось» (XI, 107).Итак, сам текст доказывает нам связь кикки именно со значением «тьма». С утра наступает тьма, а к вечеру приходит потоп. Игру аккадскими словами можно считать доказанной. Однако здесь можно усмотреть еще два вида игры — шумерскими словами и знаками новоассирийской клинописи. Эквивалентами кикки «пирог», кикки «тьма» и kibtu «пшеница» являются шумерские слова gugi, ngig и gig. Еще интереснее игра знаками — они почти идентичны и содержат неожиданные значения. Так, знак GIG обозначает не только пшеницу, но и несчастье, и болезнь. А знак NGIG может читаться как kukku5. Следовательно, говоря о пшенице, Утнапиштим имеет в виду еще и некие несчастья, которые свалятся на жителей Шуруппака. А обещая на заре пирог, он на самом деле обещает вместо утра кромешную тьму
К этому нужно прибавить ассоциацию кикки, «пирог» и какки, «оружие», которая просматривается из гадательных текстов. В самом деле, в тексте таблицы сказано, что по наступлении седьмого дня буря с потопом прекратили войну (XI, 130; qabla ittarak){90}.
Итак, посредством игры словами и знаками в речи Утнапиштима создано семантическое поле «хлеб-дождь-тьма-несчастье-потоп». Но для чего понадобилась такая игра и кто мог играть в нее?
Гильгамеш и зодиак
Что же объединяет ритуалы эпоса, его скрытые смыслы и четыре рассмотренных кода? Их объединяет замысел, которому они подчинены. Первым в 1872 году об этом замысле догадался дешифровщик клинописи и один из первых ассириологов Генри Раулинсон, которого поддержали крупнейшие ассириологи XIX века Франсуа Ленорман, Арчибальд Сэйс и Пауль Хаупт. Раулинсон предположил, что главным героем эпоса является Солнце, а двенадцать сюжетов связаны с двенадцатью месяцами календаря и двенадцатью знаками зодиака. Он соотнес вторую таблицу эпоса со вторым месяцем календаря и знаком Тельца, шестую, в которой участвует Иштар, — с шестым месяцем и созвездием Девы. Десятая таблица, по его мнению, связана с десятым месяцем и зимним солнцестоянием, а воды смерти — не что иное, как путь Солнца, переходящего из Подземного мира в мир живых в конце декабря. Одиннадцатая таблица — середина зимы и сезон дождей, когда восходило созвездие Водолей. Двенадцатая таблица связана с месяцем жатвы и концом календарного цикла{91}. Обратим внимание на то, что аккадскими эквивалентами для шумерского (точнее, ниппурского) одиннадцатого месяца являются следующие слова:
[x].UR3 = sabafu sa a-bu-bi, «сметать (о потопе)» (Nabnitu XXIII 59)
ITI.ZIZ2.A. AN = sabafu, «сметать, сбивать»
ZIZ2 = kunsu, «эммер»
ZIZ2 = аs2 = arratu, «проклятие»
[ZIZ2.A. AN] = ud-du-ru = АS2.А = ud-du-ru-u2, «темный» (OBDiriNippurSeg. 9, 37)
A. AN = sa-mu-u2, «дождь» (Antagal III 178; CAD S 1,348)
Итак, сочетание знаков ZIZ2.A. AN в названии XI месяца дает игру знаками ZIZ2/AS2 «полба/проклятие/темный» + A. AN «дождь». Как ни странно, здесь то же самое семантическое поле, которое возникает при игре словами и знаками в XI, 46–47, только на месте пшеницы оказывается полба.
Сэйс и Хаупт продолжили ассоциации Раулинсона: Энкиду — человекобык, связанный с созвездием Тельца. Братание Гильгамеша и Энкиду перед походом — таблица III и третий знак Близнецы. Упадок силы героев — таблица VII и седьмой знак Весы, когда Солнце уступает ночи. Люди-скорпионы из таблицы VIII — восьмой знак Скорпион{92}. Ленорман подытожил: «У халдеев и вавилонян для двенадцати месяцев были мифы, которые большей частью относились к традиции, предшествующей разделению больших рас человечества, сошедших с Памирского плато, так как они были совершенно аналогичными у семитов и у арийских народов. Когда они (народы. — В. Е.) жили уже в долинах Тигра и Евфрата, эти мифы были распределены по разным временам года, но не с точки зрения сельскохозяйственных работ, а в соответствии со значительными периодическими атмосферными явлениями и фазами годового пути Солнца, — теми, которые обозначают соответствующий регион. Отсюда и происходят образы, относящиеся к двенадцати стоянкам Солнца в зодиаке или к их символическим названиям, которые даны месяцам аккадцами. Эти мифы определили последовательность, послужившую основой эпической истории Гильгамеша, героя огненного и солярного, и, согласно поэме, скопированной Ашшурбанапалом в Уруке, каждый из них обозначает предмет одной из двенадцати табличек, соответствующий как двенадцати различным песням, так и двенадцати месяцам года»{93}.
Однако с середины XX века гипотеза Раулинсо-на перестала упоминаться в научной литературе. Мы не найдем ни малейшего упоминания об астрологических коннотациях эпоса в комментариях издателей С. Парполы и Э. Р. Джорджа, равно как и в современной популярной монографии В. Заллабергера. Такое систематическое замалчивание проблемы связано с давним убеждением европейской научной общественности в том, что признание Гильгамеша солярным героем немедленно породнит современных исследователей с панвавилонистами, для которых даже Иисус Христос был вариантом солярного героя. Но это как раз такой случай, когда вместе с водой выплескивают ребенка. Справедливо критикуя манию панвавилонистов выводить весь героический эпос из поклонения Солнцу, нельзя тем не менее не замечать, что на протяжении всего эпоса как в шумерском, так и в аккадском варианте покровителем Гильгамеша был только солнечный бог и путь Гильгамеша в эпосе — не что иное, как путь самого Солнца. С этой очевидной особенностью сюжета никто и не собирается спорить. Но как только речь заходит о путешествии солярного героя по зодиаку — об этом предпочитают молчать, делая вид, что такой гипотезы никто и никогда не выдвигал. Однако, как показывает время, наука, совершив определенный круг, периодически возвращается к некоторым непроверенным идеям предшественников, поскольку накопился новый материал, позволяющий верифицировать их более точно.
Следующим к гипотезе Раулинсона — Ленормана обратился в 1999 году автор этих строк. Изучив неведомые в XIX веке двуязычные пояснительные тексты, в которых приводятся разъяснения к названиям месяцев и помесячных ритуалов из города Ниппура, сопоставив эти тексты с шумерскими гимнами и вавилонскими записями ритуалов, он пришел к выводу о сильной корреляции между таблицами эпоса, шумерскими и аккадскими названиями месяцев и образами зодиака. Были выявлены следующие соответствия:
Таблица I — создание жертвенного полузверя Энкиду по образу Дна.
1 месяц — обряды в честь Ана и Энлиля. Путешествия с жертвами-несаг (откуда впоследствии название вавилонского месяца Нисану).
1 знак — Доброволец, позднее Овен.
Таблица II — борьба героя и чудовища у чертога богини во время священного брака.
2 месяц — битва с чудовищем и священный брак.
2 знак — Телец (Нинурта, победивший Асага).
Таблица III — братание Гильгамеша и Энкиду, сбор в поход.
3 месяц — месяц братьев-близнецов Сина и Нергала.
3 знак — Близнецы.
Таблицы IV и V — поход в горы и победа. Гора = чужая страна = Подземный мир.
4 месяц — уход Думузи в Подземный мир.
5 месяц — победа Гильгамеша над Хувавой в горах, спортивные игры в честь Гильгамеша, поминание мертвых.
4 и 5 знаки — Краб (солнце пятится назад) и Лев (символ Гильгамеша).
Таблица VI — Иштар видит Гильгамеша моющимся в реке и предлагает ему брак. Он отвергает его. Иштар пытается отомстить, создав Небесного Быка. Гильгамеш и Энкиду убивают Быка.
6 месяц — омовение статуэток Иштар в реке священных ордалий. Уничтожение проказы, насланной на город Аном и Иштар. Очищение города.
6 знак — Борозда (Иштар/Нисаба, изображенная как дева с колосом).
Таблица VII — суды. Осуждение Энкиду на смерть, проклятие им блудницы, благословение блудницы. Смерть Энкиду.
7 месяц — изготовление Таблицы судеб, суд Солнца и Сатурна над страной.
7 знак — Весы (звезда истины и справедливости). Таблица VIII — оплакивание Энкиду живой природой, изготовление его статуи и жертвоприношения богам Подземного мира.
8 месяц — обряды неизвестны, «проводы плуга в место хранения».
8 знак — Скорпион.
Таблица IX — бегство Гильгамеша в степь. Проход через горы-близнецы. 12 поприщ мрака. Встреча с людьми-скорпионами. Сад камней.
Нестыковка таблицы IX и образа людей-скорпионов.
Таблица X — встреча с хозяйкой Сидури и водами смерти. Солнце переплывает воды смерти.
10 месяц — потопление, выход отцов из Подземного мира, выход Думузи.
10 знак — Коза-Рыба.
Таблица XI — встреча с Утнапиштимом, его рассказ о потопе, обретение и утрата бессмертия, возвращение под стены Урука.
XI месяц — время Адада и Энлиля.
11 знак — Великан (держит в руках чашу с двумя потоками воды), позднее Водолей.
Силы потопа в XI таблице — Дингирмах, Адад, Шуллат и Ханиш, Нинурта.
Звезды зимнего пути (пути Эа) — Нинмах (второе имя Дингирмах), Нумушда-Адад, Шуллат и Ханиш, Пабильсаг (одно из имен Нинурты).
Таблица XII — вставная, содержит переведенный с шумерского рассказ Энкиду о посмертной жизни в Подземном мире.
12 месяц — жатва ячменя, конец цикла.
12 знак — Рыбы, Хвосты{94}.
В еще более схематичном виде получаем:
Пролог —?
1 = I = 1
2 = II= 2
3 = III = 3
4 = IV = 4
5 = V=5
6 = VI = 6
7 = VII = 7
8 =?
9 = VIII?
10 = Х= 10
11 = XI = 11
12 = XII = 12
Неравное деление эпоса на две части — Энкидиада, в которую входит семь таблиц, и Утнапиштиада, содержащая всего пять таблиц, — также может быть объяснено календарем. В шумерском споре Зимы и Лета Эмеш (Лето) говорит Энтену (Зиме), что срок его правления на земле составляет семь месяцев, а ему остаются только пять (строка 166). Поскольку год начинается весной, то все месяцы до середины осени принадлежат первому сезону года — Эмешу. И на эти месяцы приходится как хозяйственная, так и военная активность населения Месопотамии. Напротив, с середины осени до конца зимы люди стараются спастись от наступления разрушительных сил природы — темноты, холода, проливных дождей и сильного южного ветра. Поэтому время Энтена не способствует физической активности и агрессии.
Представленные аналогии ставят перед исследователем множество вопросов, которые нужно перечислить. Во-первых, совершенно очевидно, что первоначально в эпосе было не 12, а 11 таблиц, и если мы выдвигаем календарно-зодиакальную гипотезу его структуры, то это число нужно объяснить. Во-вторых, непонятно, почему люди-скорпионы, связанные с созвездием Скорпион, «переехали» из восьмой таблицы, где бы полагалось им быть по предполагаемому замыслу, в девятую. В-третьих, неясно, связан ли Пролог эпоса с началом календарного года или он служит введением в 12-частный сюжет, будучи отдельным от него повествованием, данным вне календарного времени — так сказать, sub specie aetemitatis[11]. Наконец, едва ли не самый главный вопрос заключается в том, можем ли мы до V века до н. э. говорить о солнечном зодиаке, если ранее этого времени полный список зодиакальных созвездий не встречается.
Чтобы ответить на первые три вопроса, следует сказать, что мы слишком плохо знаем историю аккадского эпоса, чтобы предполагать, на каком этапе в нем появляется единый календарный замысел. Нумерация таблиц произведена только в новоассирийский период, поэтому нет никакого сомнения в том, что ключ к астрологизации аккадского эпоса может быть извлечен только из истории двух последних его таблиц, возникших в это время. Таблица XI в значительной мере пересказывает сюжет вавилонского текста об Атрахасисе, а XII и вовсе представляет собой перевод (причем частичный перевод) шумерского гимна о Гильгамеше, Энкиду и Подземном мире. Возникает вопрос: кому и зачем понадобилось вставлять в эпос сюжеты, которых не было в более древних версиях?
В 1999 году Э. Фрам дал красивую интерпретацию одного из колофонов таблицы XII. Вот перевод этого колофона:
«12 таблица серии «Гильгамеш» окончена. Согласно древнему подлиннику списано и сверено. Таблица Набу-зукуп-кены, сына Мардук-шуму-икиша, писца, потомка Габбу-илани-эреша, начальника писцов. Кальху, месяц Дуузу, 27-й день. Эпоним Насхир-Бел, управитель Синабу. 17-й год (младшего) Саргона, царя Ассирии, и 5-й год (его как) царя Вавилона»{95}.
В колофоне указано имя Набузукупкены и поставлена дата — 27-й день месяца Думузи (это четвертый месяц вавилонского календаря). Год, указанный в колофоне, точно пересчитывается на 705 год до н. э. Но одновременно это еще и важная дата политической истории Ассирии — день, когда царь Саргон II пропал без вести после боя с кулуммейцами в Центральной Анатолии. Э. Фрам полагает, что таблица с рассказом о мире мертвых записана жрецом в память об исчезнувшем и непогребенном царе. Ради этого он-де и вставил в текст несколько строк о судьбе непогребенных мертвецов, погибших на войне{96}.
Красивую идею Фрама нельзя принять по нескольким причинам. Во-первых, нам неизвестна точная дата гибели Саргона; мы знаем только то, что он погиб в месяце Думузи, а его сын Синаххериб пришел к власти в следующем месяце Абу. Во-вторых, таблица с текстом большого объема (только аккадская часть насчитывает 153 строки) не могла быть переписана в течение одного дня. Тем более перевод текста с шумерского на аккадский не мог быть сделан за сутки даже в память о самом любимом правителе. Работа такого рода требует длительного времени и значительных усилий. Наконец, третье и наиболее общее возражение состоит в том, что, возможно, в колофонах ставились не реальные, а символические даты, знаменующие некие важные для переписчика события. Поэтому справедлива была критика Э. Джорджа, задавшего автору несколько уточняющих вопросов: а) существовал ли в I тысячелетии до н. э. обряд жертвоприношений пропавшим без вести воинам; б) могла ли таблица XII читаться в ритуале поминовения; в) встречалось ли подобное при погребении царей{97}.
Очевидно, что Джордж перевел вопрос в иную плоскость: справедливо усомнившись в одномоментном характере составления таблицы, он предположил ее связь с культом мертвых.
Ответ оппонента последовал довольно быстро. Э. Фрам обнаружил ряд свидетельств, согласно которым дни с 27 по 29 месяца Думузи как раз посвящены оплакиванию бога Таммуза, ушедшего в это время в Подземный мир, и одновременно связаны с жертвами предкам, временно выходящим в эти дни из обиталища мертвых. Тем самым Фрам фактически подтвердил правоту Джорджа, хотя и от собственной гипотезы не отказался. Его конечное объяснение колофона таблицы теперь выглядело так: таблица была составлена в связи с обрядом оплакивания Думузи, и этот день совпал с сообщением об исчезновении Саргона II на поле боя{98}.
Оба участника дискуссии не приняли во внимание очень важный факт — имя переписчика XII таблицы. Это не кто иной, как Набузукупкена (работал в 718–684 годах) — известнейший астролог из Кальху, компилятор двух основных предсказательных серий «Энума Ану Эллиль» (гадание по небесным и атмосферным явлениям) и «Шумма алу» (гадание по различным происшествиям на земле), составлявших в Месопотамии I тысячелетия до н. э. основу астрологического образования. Известен он также и как составитель царских календарей с указанием благоприятных и неблагоприятных дней каждого месяца. Он был одним из членов династии, основанной астрологом Ашшурнацирпала II Габби-илани-эрешем, а его сыновья и внуки были советниками и астрологами величайших царей Ассирии — Асархаддона и Ашшурбанапала. Именно библиотека Набузукупкены составила после его смерти одну из основ ниневийской библиотеки Ашшурбанапала, так что трудно переоценить его вклад в науку и культуру Месопотамии{99}.
Как справедливо заметил Э. Фрам (хотя из этой мысли в его рассуждениях ничто не развилось), «знаменитый писец изучал XII таблицу эпоса о Гильгамеше как гадательный текст»{100}. Разумеется, для компилятора-астролога сюжет эпоса представлялся циклической композицией, связанной с путешествием Солнца по двенадцати созвездиям, и заканчиваться он должен был так же, как заканчивается календарь — жатвой, концом, смертью. Предлагаю здесь свой вариант объяснения колофона таблицы XII, для чего следует вернуться к словам Г. Раулинсона, сказанным в связи с 12-м месяцем календаря: его символика — жатва, конец цикла. Думаю, что причина добавления лишней таблицы — не в скорби Набузукупкены по пропавшему без вести Саргону II, а в необходимости завершить календарный цикл информацией о конце жизни и мире мертвых. Случилось так, что его стремление привести сюжеты эпоса в соответствие с помесячным ритуалам исторически совпало с уходом Саргона II в Подземный мир. Что же касается дня и месяца, стоящих в колофоне, то они могли быть вполне случайны. Во всяком случае, если дата в колофоне и символична, то символика колофона распространяется только на время окончания таблицы XII, а вовсе не на ее сюжет (сложившийся еще в шумерское время), и тем более не на композицию всего эпоса.
Однако мы помним, что до 705 года таблиц было 11. Если перед нами календарный замысел, то почему их с самого начала не 12? Точный ответ дать пока нельзя. Но можно предположить, что двенадцатым сюжетом, соотносимым с концом года и последним знаком зодиака, была сама смерть Гильгамеша, которую авторы текста решили не описывать. Человек живет от первой таблицы до одиннадцатой, а потом попадает в некое двенадцатое состояние, обряды которого не поддаются описанию. Путешествие от первой таблицы к последней есть путешествие из детства в старость как новое детство, возвращение на круги своя. Смерть — это разрыв круга, ее нельзя показать внутри жизненного сюжета. Смелость и оригинальность Набузукупкены заключались именно в том, что он нашел способ показать инобытие героя — через цитирование древнего текста и тем самым через намек на то, что произошло с героем в самой нижней сфере мироздания. Следует вспомнить и о том, что последний месяц месопотамского календаря считался безраздельно принадлежащим семерым болезнетворным демонам, и о том, что дополнительный тринадцатый месяц вовсе не имел семантики{101}. То есть двенадцатый и тринадцатый месяцы совершенно выходили из-под контроля богов и ритуального порядка, а значит, для них в рамках календаря не могло найтись стандартного описания.
Теперь обратимся к вопросу о неверной позиции людей-скорпионов. Здесь придется вспомнить о том, что месопотамская традиция тщательно скрывала ритуалы восьмого месяца (по-аккадски он назывался арахсамну, что значит просто «восьмой месяц»), а созвездие Скорпион считалось в заговорах «Быком подземного мира»: как Телец, оно имело рога и хвост, а его яд был семенем смерти, в отличие от семени царя-Быка, дарующего новую жизнь в обряде священного брака{102}. Восьмой месяц аналогично воспринимался как связанный со смертью, что и демонстрирует восьмая таблица, целиком посвященная погребению и оплакиванию умершего Энкиду. Когда же мы сопоставляем названия второго и восьмого месяцев в шумерском языке, то выясняется, что во втором месяце волы запрягаются в плуг и устраивается ритуальная вспашка весенней земли, напоминающая священный брак, а в восьмом месяце плуг убирают до следующей весны.
Теперь вспомним, что во второй таблице Энкиду борется с Гильгамешем за право первым войти в спальню Ишхары, а в восьмом месяце его хоронят. Семантическая оппозиция второго и восьмого месяца, второго и восьмого знака, второго и восьмого сюжета налицо. Но люди-скорпионы все же оказываются в девятой таблице. Почему? И вот тут всякому, кто читал календарные тексты, становится понятно: аналогия девятой таблицы с девятым месяцем и девятым знаком не просматривается. Девятый месяц культового ниппурского календаря посвящен богу Подземного мира Нергалу, а девятый знак зодиака олицетворяет этого же бога в виде лучника Пабильсага (от которого впоследствии произошел Стрелец). Ничего подобного в аккадском эпосе нет. Таблица, формально обозначенная в колофоне как девятая, фактически продолжает действие восьмой. Скорпионы оказываются внутри «собственного» сюжета о странствии героя в мрачных сводах гор Машу. И тогда возникает вполне закономерный вопрос: была ли девятая таблица и куда она исчезла? Существовала ли в каких-либо ранних редакциях встреча Гильгамеша с богом Подземного мира? Пока этот вопрос остается без ответа. Скорее всего, такого отдельного сюжета никогда 13 эпосе не было, а сюжет девятой таблицы содержит контаминацию образов восьмого и девятого месяцев. Из восьмого месяца в ней оказываются люди-скорпионы, а сам сюжет связан с максимально темным временем года (ноябрь — декабрь) и странствием солярного героя в этом мраке.
Что касается позднего Пролога, то он явно находится вне времени, поскольку в нем описаны результаты деятельности Гильгамеша — стена города и табличка с рассказом о потопе. Пролог составлен с точки зрения вечности и с птичьего полета, его автор призывает читателя подняться над городом Уруком и над жизнью Гильгамеша.
На последний из обозначенных здесь вопросов наука не может ответить до сих пор, потому что первые известные нам упоминания зодиака дошли только из персидских и селевкидских астрологических текстов. Тем не менее вычленение зодиакальных созвездий могло состояться намного раньше. Для клинописной культуры, в которой время создания произведения может отстоять от времени его записи на 500 лет и больше, это обычное дело. В таком случае можно предположить существование не попавшей на письмо астролатрической традиции, внутри которой и сформировалось в I тысячелетии до н. э. астральное представление о подвигах Гильгамеша. Обратим внимание на то, что именно в новоассирийский период появилась тенденция делить объекты на 12 частей. Можно привести, по крайней мере, два таких примера. В физиогномическом трактате «Аламдимму» предсказания по частям тела от головы до стоп разнесены по двенадцати таблицам{103}. При гадании по печени ее отделы также делились на 12 частей{104}. Строение как тела, так и отдельной его части в представлениях ассирийцев имело одинаковое число структурных единиц. Поэтому не будет ошибкой синхронизировать окончательную нумерацию таблиц эпоса с этими двумя аналогами и тем самым показать, что 12-частность появляется в клинописных текстах задолго до зодиакальных табличек персидской эпохи.
Рассмотренные гипотезы и аргументы позволяют предположить, что аккадский эпос о Гильгамеше — первое значительное высказывание о человеке, его судьбе и предназначении в Древнем мире и формой этого высказывания стал годовой календарный ритуал Ниппура. Только недавно маршрут Гильгамеша заинтересовал исследователей в психологическом аспекте. Л. Фельдт и У. Кох-Вестенхольц нарекли его «а Life’s Journey» и разделили на три этапа: Nature (I–VI), Culture (VII–X), Supemature (XI–XII){105}. Это слишком искусственное разделение можно скорректировать исходя из сюжета самого эпоса, если обратить внимание на меняющуюся систему ценностей героя:
I–III — герой обуреваем властью и плотскими мечтами.
IV–VI — поиски мирской славы.
VII — потеря друга.
VIII–X — поиски физического бессмертия и отказ от мирской славы.
XI — обретение бессмертия, его утрата. Герой вспоминает о недостроенной стене.
XII — герой вопрошает друга о жизни в мире мертвых.
Пролог — воспевание того, что осталось после героя (городская стена и табличка с рассказом о потопе).
Тогда мы получаем одну из тех историй Пути, какие в изобилии встречаются в литературе «осевого времени» (VIII–II века до н. э.){106}. Выше уже было сказано, что В. К. Шилейко справедливо назвал первую часть эпоса (до смерти Энкиду) Илиадой, а вторую Одиссеей. Герой уходит в поход за славой, терпит поражение и долго возвращается к самому себе (к Самости, как сказал бы К. Г. Юнг). Если сравнить историю Гильгамеша с историями Одиссея, Геракла, Будды[12] и индийских отшельников, то мы увидим попытку людей Древнего мира передать совершенно новую идею паломничества человека к своему внутреннему космосу (который юнгианцы назвали бы вместилищем коллективного бессознательного). В эпосе о Гильгамеше, составители которого еще не знали философии и богословия, эта идея выражена максимально доступным и конкретным способом: странствие Солнца от весны к зиме эквивалентно странствию человека от страстей к мудрости. Здесь мы видим антропологизацию культового календаря, представление личности как календарного года. В течение этого года личность поступает именно так, а не иначе, поскольку она, как Солнце, проходит через соответствующую зодиакальную стоянку.
Текст аккадского эпоса не имеет целью прославление бога, героя, царя или города, рассказ о войне или о любовной истории. Это повествование о судьбе человека, пытавшегося выйти за форму времени. Говоря языком Хайдеггера — преодолеть свою «вброшенность» в этот мир со свойственными ему априорными категориями бытия. В отличие от шумерских гимнов Гильгамеша в финале не прославляют. Эпос не имеет окончания — вернее, их два, и оба они не являются хвалебными песнями.
Первый вариант: Гильгамеш возвращается под стены города и оставляет надпись (ср. «Нарам-Суэн и Куту»)[13].
Второй вариант: Гильгамеш расспрашивает Энкиду о жизни в мире мертвых.
Гильгамеш не может вернуться к матери или к жене. Он одинок. Городу достается содержание его опыта, а Подземному миру — его тело. Надпись-нару соединяет оба мира: ее читают и по факту ее наличия кормят героя в Подземном мире.
Каков был первоначальный замысел составителей эпоса в старовавилонское время — достоверно сказать нельзя. Но можно предположить, что у компиляторов новоассирийского времени была одновременно ритуальная и богословская задача: превратить Гильгамеша из героя пятого месяца в героя всего календарного года. Выше уже было показано, что в основу сюжета был положен не саргоновский, не урукский и не лагашский, а именно ниппурский календарь. Это еще один аргумент в пользу составления текста не ранее Старовавилонского периода, когда I династия Исина распространила ниппурский календарь на всю территорию Южного Двуречья.
Гильгамеш и теодицея
От ритуальной стороны аккадского эпоса перейдем к его этике. Весь эпос о Гильгамеше укладывается в четыре строки шумерской притчи:
Мясник свинью режет, она визжит. (Он говорит): «Путем (этим и) пращуры твои, И предки твои ходили, И ты пойдешь. Зачем же ты визжишь?»Наш человеческий визг — желание на короткий миг выделиться из порядка вещей, из общего закона, заявить мяснику, что ты есть, что ты еще жив. Мясник не понимает, что страшного в следовании традиции предков. Мясник — сама равнодушная Природа, свинья — Гильгамеш и любой другой человек, который не хочет умирать. Пока он жив-здоров, то с удовольствием помнит о пращурах, мнит себя в их ряду. Но когда над ним нависает нож мясника, ему очень хочется почувствовать себя отдельным существом, над которым не властна традиция смерти.
Почему человек страдает и почему он смертен? Что мешает ему приблизиться к положению богов? Ответы на эти вопросы нужно искать в месопотамских «теодицеях» — поэмах религиозно-этической направленности, целью которых было доказательство благости богов{107}.
Литература Древнего Востока оставила нам довольно много поучений. Это и наставления школьникам, и инструкции будущим писцам, и советы юным правителям. Во всех этих текстах, одинаково характерных как для шумеров, так и для египтян, в форме императива излагается, что такое хорошо и что такое плохо: «Не пускай воду на поле соседа!», «Не кради — себя не губи!», «Держись сильного и богатого — тогда и перед врагом устоишь!». Однако наряду с поучениями существовала и литература совсем особого рода. Произведения этой литературы создавались в эпохи социальных потрясений, когда общество задавало себе один-единственный вопрос — «почему боги допустили в мир зло, если мы молимся им и приносим жертвы?». Вопрос этот был следствием предшествующего порядка вещей, когда стабильность существования государства связывалась людьми с регулярностью приносимых жертв и с ответной милостью богов. Когда же ответом на непрерывные жертвы были война, эпидемия, неурожай, разрыв социальных связей, интеллектуалы того времени задавались вопросом о причине такого несимметричного поведения богов. И в этом случае возникали два основных способа объяснить наступивший хаос. Первый из них заключался в том, что все наши несчастья происходят от недостаточного благочестия. Мы плохо молимся и приносим недостаточное число жертв, что вызывает божий гнев. Второй — менее тривиальный — гласил, что люди и боги давно утратили общение друг с другом. Мы не понимаем того, что говорят нам боги, потому и не может в точности исполнить их приказы. Кроме того, наши дела давно не интересны богам. Разладилась коммуникация. Однако сторонники и первого, и второго способов объяснения общественного беспорядка одинаково сходились во мнении, что такой жестокий способ наказания людей был для чего-то необходим. Каждая эпоха давала на этот вопрос свой ответ.
В шумерской поэме, условно названной «Человек и его бог» и отдаленно предшествующей библейской Книге Иова, мужчина средних лет претерпевает разнообразные физические страдания и несчастья. И сам же объясняет причину своих страданий максимой мудрых древних героев:
Истинно говорили мудрые герои: «Никакая женщина никогда не рожала безгрешного ребенка, Издревле не бывало непорочного человека».В самом деле, любой человек, входящий в мир, уже нарушает какие-либо заповеди или табу, даже не догадываясь об их существовании. А незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение. Поэтому человек страдает просто потому, что он родился и живет на свете. Уже в старовавилонской версии этой поэмы личный бог, к которому обращены мольбы страдальца, неожиданно нисходит к нему и говорит:
«Вел ты себя как муж; сердце твое зла не творило! Кончились годы, исполнились дни наказанья! Если б никто не судил тебе жизни, Как дошел бы, как вынес болезнь всю тяжкую эту? Беду безысходную ты видел, Дошел до конца, нес тяжкое бремя; Была закрыта дорога, — теперь для тебя открыта: Выровнена стезя и установлена милость! В будущем не забывай твоего бога, — Создателю твоему каким добром отплатишь? Я — твой бог, твой создатель, твоя защита! Тебя бережет мой страж, и силен мой Гений-хранитель! <…> Смотрю на тебя и долгую жизнь дарую. И ты не бледней, возьми умащенья, Голодного накорми, жаждущего напои водою; И кто сидел, чьи глаза горели, Пусть на еду твою поглядит, Пусть проглотит, возьмет, пусть возликует. Открыты тебе врата мира и жизни; Обернись и вступи в них, выйди! Да будешь благополучен!» (Перевод И. С. Клочкова)Оказывается, что страдания были даны человеку для испытания его веры. И поскольку сердце человека не творило зла и он не возводил хулу на богов, то его личный бог возвращает ему здоровье. Но для чего? Вовсе не для того, чтобы человек вел прежнюю жизнь, а для того, чтобы он помог такому же страдальцу, каким был недавно он сам. «Открытые врата мира и жизни» — путь альтруистического служения и милосердия.
Итак, во время создания аккадского эпоса о Гильгамеше месопотамская культура уже дала новый недвусмысленный ответ на вопрос о существовании страданий. Страждущий испытывается в вере и направляется на помощь другим страдальцам. Так отменяется шумерский ответ: страдаешь, потому что жив. Так люди постепенно приходят к идее любви к ближнему. Можно ли обрести такую любовь, если не чувствуешь страдания другого как свои? Но чтобы прочувствовать другого, нужно всё испытать на самом себе.
В Месопотамии человеку и без дополнительных страданий жить было вовсе не просто. Согласно литературным текстам люди созданы богом мудрости Энки для того, чтобы освободить всех богов от тяжелого физического труда и постоянно заботиться об их прокормлении. Если человек отступает от этого своего предназначения — его по приказу богов находят голод, болезни и потоп. Царь имеет лучшую участь: его создают для исполнения определенной миссии, будь то строительство нового храма или война с дальними землями.
Но не таков полубог Гильгамеш. Он не хочет быть обыкновенным человеком, а после смерти друга не желает быть и царем. Но его желание сравняться с богами натыкается на сопротивление его смертной природы. Эта природа явлена в эпосе в лице кабатчицы богов по имени Сидури, живущей на краю мира живых, у самых вод смерти, и чем-то напоминающей славянскую Бабу-ягу, пытающую добрых молодцев, куда они идут и зачем. Монолог Сидури при встрече с Гильгамешем — ключевой момент этики аккадского эпоса. Интересно, что этот монолог сохранила только старовавилонская табличка, а в новоассирийской версии он почему-то был опущен. После рассказа героя о том, как он утратил друга, после его признания в том, что он ищет вечную жизнь, кабатчица отвечает:
«Гильгамеш! Куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, не найдешь ты! Боги, когда создавали человека, — Смерть они определили человеку, Жизнь в своих руках удержали. Ты же, Гильгамеш, насыщай желудок, Днем и ночью да будешь ты весел, Праздник справляй ежедневно, Днем и ночью играй и пляши ты! Светлы да будут твои одежды, Волосы чисты, водой омывайся, Гляди, как дитя твою руку держит, Своими объятиями радуй подругу — Только в этом дело человека». (Перевод И. М. Дьяконова)Монолог Сидури содержит точную формулу человека как смертного существа, все потребности которого находятся в границах его бренного тела. Ты смертен, потому что ешь, пьешь, умываешься, веселишься, испытываешь вожделение и потребность в продолжении рода. Игры и пляски это ведь тоже действия, производимые телом. Аккадское шипру, которое передано в переводе словом «дело», означает также «обряд, церемония». В подлиннике ясно сказано, что человек, живя, совершает шипир амелутим, «обряды человечества», и только в этом заключена его судьба.
Отголосок этого монолога слышится в немного печальной сначала и весьма задорной в конце пивной песне, чем-то напоминающей песни немецких буршей и записанной на табличках середины II тысячелетия до н. э. в Эмаре и Угарите:
Предназначенья назначаются Эа, (И) по воле божьей выпадает жребий. От прошедших же дней остается нам ветер. Из уст предков ушедших разве (что-нибудь) слышно? Тех эти (сменили), а этих (сменили) другие. [Вечный дом твой (будет)] над их домами. (Они) далеко, как небо, — чья рука достанет? Как о глубинах земли — никто не знает. Вся (наша) жизнь — [лишь] мгновение ока, [Дана не навечно] жизнь человекам. Где Алулу, что 36 тысяч [лет правил]? Где Этана, что [возносился на небо]? Где Гиль[гамеш, ч]то, к[ак Зиус]удра, [искал] (вечной) жизни? Где Хубаба, [что ему покорился, (когда) был схвачен]? Где Энкиду, что в стране [побеждал] (самых) сильных? Где (же) Бази? Где (же) Зизи? Где (же) цари великие, что были от дней прошедших и доныне? Не зачнут их (вновь), не родят (снова), (А) жизнь без света чем лучше смерти? Бога верно тебе твоего открою: Выкинь, вырви унынье, брось печали! За единый веселья день пусть печали 36 тысяч лет приходят. Пусть (пивная богини) Сираш, как сыночку, тебе будет рада! Вот — предназначенье человеков! (Перевод И. С. Клочкова)Здесь Гильгамеш уже назван в числе умерших правителей прошлого. Смерть сравняла его с героями ранней древности, с Хумбабой и Энкиду. Поскольку никого из них уже не будет на свете, и это печальный факт, то нужно пить пиво и предаваться веселью в кабаке богини Сираш. «Вот предназначенье человека» — вторит неизвестный автор этой песни вслед за кабатчицей Сидури.
Через множество веков пафос вавилонских призывов к радости отзовется в строках библейской Книги Екклесиаста (9:7—10):
«Итак иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим.
Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей.
Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои; потому что это — доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем.
Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».
Однако библейский текст требует отчета повзрослевшего человека перед Богом за свои юные проказы (11: 9—10):
«Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд.
И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность — суета».
(Перевод И. М. Дьяконова)В аккадском эпосе о Гильгамеше та же мысль высказана не назидательной максимой, а сюжетом суда над Гильгамешем и Энкиду за убийство Хумба-бы и Небесного Быка. Юноши шли по путям своего тела и своего сердца, и за все это их в таблице VII позвали на суд.
За что же судят героев эпоса помимо конкретных преступлений? Ответ на этот вопрос содержится в так называемой «Вавилонской Теодицее» — произведении XII века до н. э., представляющем собой диалог двух персонажей — условного Страдальца и условного Друга. Страдалец отказывается быть благочестивым, поскольку считает это бессмысленным:
Дорогой успеха идут те, кто не ищут бога, Ослабли и захирели молившиеся богине. Сызмальства следовал я воле божьей, Простершись, с молитвой искал богиню. [Но] я влек ярмо бесприбыльной службы, — Бог положил вместо роскоши бедность; Дурак впереди меня, урод [меня] выше, — Плуты вознеслись, а я унижен. (Перевод И. С. Клочкова)Друг выдвигает в ответ на его тезис аргументы в пользу необходимости благочестия:
Приди, увидь врага стад, льва, о котором ты вспомнил, — За преступленья, что лев совершил, ему уготована яма. Пышного богача, что имущество [в кучи] сгребает, Царь на костре сожжет до сужденного [ему] срока. Путями, [что] эти идут, пойти и ты желаешь? [Лучше] ищи неизменной благосклонности бога! Что до плута — завидовал ты его процветанью — Прыть его ног исчезнет скоро! Без бога мошенник владеет богатством, — Оружье убийцы его настигнет! Что твой успех, если божьей воли не ищешь? У влачащего божье ярмо достаток скромный, [но] верный Найди благое дыханье бога, — И что за год утратил, восстановишь тотчас. (Перевод И. С. Клочкова)Оказывается, что без бога человек может достичь только кратковременного и непрочного успеха, который обязательно закончится для него наказанием — будь то наказание, идущее от царя, от наемного убийцы или от самого божества. Праведник же имеет пусть небольшие, зато прочные жизненные достижения, которых никто не сможет у него отнять, потому что он удостоен благосклонности бога. Возвращаясь к эпосу о Гильгамеше, можно сказать, что Гильгамеш и Энкиду были наказаны за упоение своим неправедно достигнутым успехом, состоявшимся без помощи верховных богов Шумера. Такой триумф должен был неминуемо закончиться поражением, поскольку перед своими битвами Гильгамеш не заручился благословением кого-либо из старших мужских божеств и пошел против воли главного женского божества. Как и сказал Друг, за свои преступления лев-Гильгамеш попал в ловчую яму.
Под самый занавес Средневавилонского периода, в XI–X веках до н. э., создается один из самых интересных и парадоксальных текстов религиозно-этической мысли, известный под разными названиями — «Разговор господина с рабом», «Пессимистический диалог», «Диалог о благе»{108}. В нем 11 фрагментов, что, вероятно, неспроста. Его героями являются двое не спорящих, а формально согласных друг с другом собеседников — Господин и Раб. Господин высказывает пожелания что-либо сделать, причем ни разу не сообщает о мотивировке своего желания. Он обладает волевым порывом и жаждой немедленного действия при минимуме имущественного и общественного статуса, при отсутствии способности к рассуждению. У Господина нет дома, жены, детей, известности при дворе и большого богатства — все это он только еще намерен получить в результате своих действий. Из имущества у него только Раб, колесница да некоторый зерновой запас, который он порывается давать «в рост». У Господина крайне неустойчивая психика — его деятельность может простираться от преступления до благодеяния, разницы он не ощущает, а просто хочет нечто совершить. Господин постоянно настроен на бездумное позитивное действие, последствия которого сам осмыслить не в состоянии. Для осмысления ему нужен Раб.
Что же представляет собой Раб? Он — рассудок и орудие Господина. Без него тот не может ни поесть, ни выехать из места, где они находятся. Раб своим согласием гасит волевые порывы Господина, а один раз даже выступает в роли прямого отрицателя его действий, уговаривая его не строить дом. Именно Раб подводит Господина к мысли о том, что благо есть только в смерти, то есть — к тому, что безусловно опасное и вредное для жизни есть самое благоприятное для человека. Сам Раб никакой волей не обладает, он только рассуждает о последствиях действий Господина. Причем характерно, что его аргументы в пользу позитивного действия описывают ближайшие выгодные его последствия, а доводы в пользу отказа от действия — последствия отдаленные, неблагоприятные и неочевидные при совершении поступка. Получается, что наиболее дальновидным решением после размышления будет отказ от действия.
Можно сказать, что перед нами — конфликт Воли (Господин) и Рассудка (Раб) как начал утверждения и отрицания, как сил бытия и небытия. Перед нами настоящая трагедия: Действие, запертое Рассуждением и не имеющее возможности совершиться. Смысл диалога в том, что одно и то же действие может иметь противоположные последствия, его исход непредсказуем, поэтому от действия следует воздержаться. Но почему воздержание от действия здесь равносильно смерти? На уровне этого вопроса школьный анализ литературного текста уже не работает.
Основой культуры древней Месопотамии является ритуал. Ритуал представляет собой позитивное действие, характерное своей двойственной природой: это одновременно и то, что предопределено от начала мира, и то, что предвосхищает и стимулирует любое ценное для общества событие. Ритуал обусловлен опытом предков, однонаправлен по воле богов и имеет только позитивный результат. Ничего незапланированного в составе ритуала содержаться не может, его схема «предопределение — действие — позитивное (благое) последствие». Для каждого человеческого действия в шумерской культуре существовало его ME — потенция, идея, выражающая волю к проявлению и бытию{109}. Поэтому любое действие есть акт бытия, переводящий его потенциальную форму в актуальную. Посмотрим, что хочет предпринять Господин. Съездить во дворец почтить царя? Инсигнии царской власти открывают список ME в тексте «Инанна и Энки»{110}. Принести жертву, построить дом, полюбить женщину, учинить злодейство? Есть и такие ME. То есть каждое человеческое действие в начале месопотамской цивилизации уже свершено в идеальном мире ME, ему осталось только обнаружить себя на земле, выбрав для исполнения какое-нибудь орудие вроде нашего Господина. Ведь если рассуждать по-шумерски: совершая нечто, человек не сам это совершает, а материализует уже имеющийся в распоряжении богов прототип своего действия. Всё бытие здесь возникает сперва как идеальное бытие, существующее в мире богов, и только затем передается людям в виде умений и форм. Поэтому действие эквивалентно бытию, а небытие означало бы отказ от действия. То есть небытие в этом случае было бы полным отсутствием всех возможных видов бытия как действия{111}.
Но уже через два столетия, в эпоху так называемого «осевого времени», люди стали рассуждать иначе. Для индусов воздержание от действия превратилось в учение о недеянии: человек жил, познавая и улучшая себя, но не выражал себя активно и позитивно. Для евреев то же самое воздержание превратилось в конце концов в учение о неимении, в отказ от имущества в пользу книжного знания. Для греков жизнь оказалась подобна мысли, и недеяние как противочувствие (стоицизм) стало опорой философии. Молодой мир уходил из сферы внешнего действия, дающего пользу телу, в сферу внутреннего познания, спасающего душу. Вероятно, Вавилон был слишком стар для такого радикализма, поэтому здесь воздержание от действия и недоверие к ритуалу были восприняты как отказ человека от личного бытия. Жизнь только лишь в мышлении была недоступна, как и жизнь в поисках единого Бога. Время ритуала закончилось; время осознанной религиозности так и не наступило: рассудок и душа оказались непосильны…
Обратим внимание на то, что наш диалог имеет множество совпадений с аккадским эпосом о Гильгамеше. Прежде всего, как и эпос, «Диалог о благе» состоит из одиннадцати частей (двенадцатая таблица была добавлена в ассирийский вариант эпоса позднее). В тексте как минимум четыре прямых намека на перекличку с этим классическим для месопотамской литературы произведением:
«Семья — что скрипучая дверь, петля ей имя, из детей — треть здоровых, две трети убогих родятся!
Женщина — яма, капкан, ловушка! Женщина — острый железный кинжал, пронзающий горло мужчины!
Поднимись и пройди по развалинам древним, взгляни на черепа живших раньше и позже: кто тут злодей, кто благодетель?
— Что же тогда благо? — Шею мою, шею твою сломать, в реку бросить — вот и благо! Кто столь высок, чтоб достигнуть неба, кто столь широк, чтоб заполнить всю землю?»
Во фрагменте IV сказано про треть здоровых и две трети убогих детей — иронический намек на две трети божественного и одну треть человеческого в Гильгамеше. Во фрагменте VII женщина названа западней и ловушкой — здесь реминисценции сразу двух мотивов эпоса: соблазнения Энкиду блудницей Шамхат и отповеди Гильгамеша в адрес богини-блудницы Иштар. Во фрагменте X дана измененная цитата из начальной и конечной частей эпоса — призыв подняться и осмотреть превосходные кирпичи урукского храма. Наконец, во фрагменте XI также в измененном виде цитируется отрывок из шумерской эпической песни «Бильгамес и Хувава» — самый зачин, когда Гильгамеш рассказывает своему богу Уту, как он, свесив шею с городской стены, видел трупы, плывущие по реке, и с ужасом думал, что с ним будет точно так же.
Еще один элемент сходства — главные герои диалога. Господин — безрассудный Гильгамеш, постоянно нуждающийся в советчике, Раб — звероподобный Энкиду, всегда готовый дать совет, приводящий к дурным последствиям. Для чего же эти совпадения? У автора вполне ясная цель. Он хочет столкнуть между собой старое понимание блага, когда его можно было получить после ряда позитивных действий, направленных в пользу своей страны (благо бессмертия){112}, и новое понимание блага, когда лучше не быть совсем, чем что-то предпринимать — настолько неясны последствия любого действия (благо небытия в этом мире). «Ты не совершишь ничего, что привело бы тебя к вечному благу», — словно говорит вавилонский диалог породившему его герою Гильгамешу.
Гильгамеш-человек в аккадском эпосе
От вопросов ритуала и этики перейдем к человеческому измерению главного героя. Оно менее всего поддается анализу. Внешность Гильгамеша кратко описана в старовавилонском Прологе. Там же сказано, что свое имя он носил с рождения. Это означает, что имя героя не было изменено после восшествия на престол, как это практиковалось в Южной Месопотамии, где правитель мог носить одновременно два имени (шумерское и семитское) или менять имя с домашнего на тронное. Хорошо известно, что матерью Гильгамеша была Нинсун, а отцом считался Лугальбанда (хотя он не появляется в эпосе даже в роли призрака). Следом встает вопрос о возрасте героя, точнее — о его возрасте в начале эпоса и об изменении возраста по ходу повествования. Если следовать гипотезе о связи эпоса с годовым путем Солнца и с культовым календарем, то его путешествие должно быть странствием от юности к старости, а затем — снова к юности. Но в тексте самого эпоса ничего не говорится о возрасте Гильгамеша и всех прочих героев. До середины I тысячелетия до н. э. в клинописных текстах вообще невозможно найти указание на возраст человека или на дату его рождения. По-видимому, потребность в указании даты возникла только с V века до н. э., когда появились гороскопы рождений. Но и в это время ни в хозяйственных, ни в юридических документах возраст не указывался. Геродот, живший как раз в V веке до н. э., с удивлением отмечает у персов обычай праздновать день рождения человека. Это означает, что и для греков этот обычай был в диковинку. Тогда становится ясно, что о возрасте какого-либо эпического героя клинописной литературы в принципе ничего сказать нельзя. Гильгамеша не называют ни юношей, ни старцем. Однако в пору его походов его несколько раз именуют зрелым мужем (этлу).
Единственным индикатором возраста, пожалуй, будут его эмоции. Гильгамеш начинает свой путь как агрессивный и чрезвычайно энергичный герой, силы которого боятся его подданные. Такая энергия, бьющая буквально через край, присуща только молодому человеку. Его битва с Энкиду, которая продолжалась с утра до вечера без перерыва, его последующий многодневный поход в ливанские горы — все это говорит о юношеской неустанности и неукротимости порывов героя. Возрастной перелом наступает в начале таблицы VI, когда Гильгамеш, раньше без раздумий входивший в спальни урукских дев и в чертог Ишхары, внезапно отказывается от брака с Иштар. Мы видим, что ему неожиданно начинает быть присуща рефлексия: он задумывается о судьбах предыдущих мужей Иштар, проводит аналогию с собой и делает ситуативно правильный вывод. В конце таблицы, победив Быка, Гильгамеш становится «славным среди мужей», и мы видим, что по мыслям и поступкам это зрелый мужчина.
Похороны Энкиду и осознание скорой смерти — уже некий третий возраст, осень жизни, когда человеку больше всего хочется физического здоровья. Путешествие через мрак, разговор с Сидури, паломничество к Утнапиштиму — четвертое время жизни, результатом которого является примирение с неизбежностью смерти и воспоминание о начале своего пути, что столь свойственно старости. Гильгамеш не показан здесь как старик, но в тексте есть одна выразительная игровая метафора — «идущий дальним путем». «Подобный идущему дальним путем» — сравнение усталого человека с мертвецом, а строка Пролога «дальним путем ходил он, но устал и смирился» — намек на то, что живой человек прошел путем мертвых, но после этого сам смирился с неизбежностью смерти. Бессилие усталого путника — это и недельный сон во время испытания, которому подвергает его Утнапиштим, и желание искупаться, которое стоит герою физического бессмертия. Гильгамеш не постарел, но устал.
Хотя в аккадском эпосе имя Гильгамеша всюду пишется с детерминативом «бог», его божественные черты здесь совершенно не проявлены. Герой не обладает магической харизмой (меламму), не владеет ME и необходимыми для успеха ритуалами, не совершает чудес. Он ест, пьет, омывает в реке тело, одежду и оружие, спит, видит сны, ходит только пешком, переправляется через воды смерти на лодке (или на плоту), отталкиваясь шестами, — словом, ведет себя как обыкновенный человек. Его царские одеяния не описаны, зато рассказано об отказе от них и об облачении героя в львиную шкуру. Нигде не сказано, что герой обладает большим умом и мудростью. Это и не нужно эпосу, поскольку ума герой должен набраться по ходу своих странствий. Гильгамеш, как уже было сказано выше, никого не вожделеет. Вместо любви к женщине в нем живут привязанность к другу и почтительная забота о матери.
Что же в таком случае отличает Гильгамеша от других людей? Его мать Нинсун, взывая к Шамашу, вопрошает, зачем бог дал ее сыну «беспокойное сердце» (III, 45). И это «беспокойное сердце» — пожалуй, главная черта героя на протяжении всего эпоса. Гильгамеш не может находиться в покое даже физически, он все время порывается куда-то бежать и что-то делать. И его поступками при этом руководит сердце. А сердце у древних народов Востока считалось органом переработки чувств и мыслей, там все смешивалось и в результате давало смысл. Обратим внимание, что сердце Гильгамеша связано с Солнцем — ведь именно бог Шамаш придал ему непостоянство. Гильгамеш одноприроден с Солнцем и потому беспокоен, как оно. Внутри него живет вечное недовольство настоящим, в каждый следующий момент времени он намечает себе новый путь. Но отправляется он в этот путь не только по своей воле, но и по воле Шамаша, который везде сопровождает его. Однако в этой связи с Шамашем таится и ограниченность воли Гильгамеша: Солнце, конечно, никогда не стоит на месте, но оно всегда идет по кругу. И герой, который думает о преодолении времени, не замечает, что живет как белка в колесе.
Добр или недобр Гильгамеш? Конечно, с точки зрения морали «осевого времени», его жизненные установки устарели. Гильгамеш ничего не делает для других людей (за исключением заботы о памяти умершего друга), его подход к жизни предельно эгоцентричен. Убивая Хумбабу, он совершает преступление перед богами. Убивая Небесного Быка, он защищает свой город от нашествия неприятеля. С человеческой точки зрения, его оборонительная война в принципе оправданна. Но с точки зрения богов, он становится преступником во второй раз, поскольку посягнул на небесное существо. Впрочем, за все его грехи отвечает Энкиду, а Гильгамеш выходит сухим из воды благодаря своему происхождению от богини. Эпос не дает ответа на вопрос о доброте героя. Он просто и сухо констатирует: «се человек». Существо, живущее своими интересами, боящееся врагов и смерти, находящее, а затем теряющее смысл своих деяний, стремящееся выйти за круг жизни и смерти, — все это и есть обыкновенный смертный человек.
И этот смертный человек дважды терпит поражение от жизни. Во-первых, у него отнимают друга и тем самым поселяют Энкиду внутри него, и он страшно мучается, не желая себе такой судьбы. Во-вторых, его обманывают, сперва показывая ему цветок бессмертия, а затем отбирая его. В отношении богов к смертному человеку часто сквозит тайная недоброжелательность… Кажется, мы уже где-то читали об этом. Может быть, в пушкинской «Пиковой даме»?
Глава третья АССИРИЙСКИЙ ПОРТРЕТ ГИЛЬГАМЕША
От шумерского и старовавилонского времени до нас дошло множество печатей с изображением героев, напоминающих Гильгамеша и Энкиду. Описание внешности Гильгамеша как высокого длинноволосого человека, данное в старовавилонском Прологе к аккадскому эпосу, хорошо согласуется с образом длинноволосого богатыря на печатях, и поэтому мы можем предположить, что в сюжетах глиптики перед нами именно Гильгамеш. На это намекают и сами сюжеты, зачастую напоминающие сюжеты эпических песен о Бильгамесе: битва со львом и быком, битва с дикарем, стояние героев у срубленного дерева. Однако изображения на печатях недостаточно четки, чтобы составить из них точный портрет Гильгамеша. Такой портрет предоставляет нам только новоассирийская эпоха. Это пятиметровый рельеф, выполненный из гипсового алебастра и обнаруженный в 1843–1844 годах экспедицией П. Э. Ботта при раскопках дворца Саргона II (722–705) в Дур-Шаррукине (современное поселение Хорсабад).
Сегодня этот рельеф хранится в Лувре. Но встает вопрос о том месте, на котором он находился в самом дворце, и о его роли в этой части дворца. Если обратиться к рисункам художника экспедиции Эжена Фландена, сделанным в 1844 году во время раскопок Дур-Шаррукина, то мы увидим, что внешний фасад тронного зала — так называемый фасад N — состоял из фриза, на котором изображена процессия, и проходов, охраняемых существами колоссальных размеров — парой крылатых быков (шеду) с человеческими головами и парой духов-ламассу. Центральный проход удваивал эти изображения: там было по четыре быка и духа. А между каждой парой располагался рельеф героя со львом{113}. Таким образом, можно отчасти уяснить функцию изображения в ритуальном пространстве: оно посредничает между равнодушием тетраморфа — образа пространства как такового, с четырьмя частями фигуры, символизирующими стороны света, — и милостью ламассу, защищающего царя от злых духов.
Теперь рассмотрим сам образ героя со львом. Молодой мужчина изображен во фронтальной позиции анфас, что крайне редко для ассирийского искусства, где даже ламассу изображаются боком и в профиль. У него преувеличенно большие, как бы выпученные глаза — символ, идущий от шумерского искусства, где принято было изображать «ясноглазых» (то есть мудрецов) большеглазыми существами. Эти большие глаза обращены непосредственно к царю, они должны благоприятно воздействовать на него, сидящего в тронном зале. Мужчина длинноволос и бородат, что также считалось признаком мудрости. Он не является жрецом, поскольку жрецы всегда изображались бритыми. Его прическа совпадает с прическами царей и высших сановников, известными по другим ассирийским рельефам. В правой руке мужчина держит церемониальное царское оружие с изогнутым лезвием. Левой рукой он прижимает к себе льва. На его левой руке виден браслет с розеткой в центре. По раскопкам могил вблизи дворца известно, что такие браслеты изготовлялись из золота и инкрустировались драгоценными камнями, имитирующими лепестки цветка. Герой одет в короткую тунику, поверх которой — длинный плащ с бахромой, скрывающий левую ногу и обнажающий правую. Подчеркнуты мускулы рук и правой ноги. Лев, крепко прижимаемый к груди героя, поднимает голову и обнажает зубы. Наконец, последнее — у мужчины-героя нет крыльев.
Теперь обратимся к выводам из наших наблюдений. Перед нами, несомненно, изображение человека. Если бы сзади были крылья, то это было бы изображением ламассу царя. Далее, человек этот, как сказано выше, не жрец, но и не простолюдин. Оружие в правой руке указывает на его царский статус. Прическа говорит о принадлежности к самой верхушке общества. Мускулы рук и ног — символы богатырской мощи. Большие глаза, длинные волосы и борода сигнализируют о мудрости. Что касается позы льва, то она весьма напоминает состояние удушаемого существа. Во всяком случае, мы видим, что лев находится в полной власти героя.
Итак, перед нами герой, одолевший льва. Можно ли признать в нем Гильгамеша, если ни один древний текст не говорит об этом? Это весьма вероятно. Изображение на рельефе совпадает с изображениями на печатях и согласуется с описанием внешности в аккадском эпосе. О царском статусе говорит церемониальное оружие. Что же касается льва, то лев — давний символ Инанны и добыча орла Анзу — стал в новоассирийское время постоянным объектом царской охоты. Хумбаба также сравнивается в эпосе со львом, несущим большую опасность. Значит, перед нами действительно изображение Гильгамеша. Кроме того, лев может восприниматься и как астральный символ: в пятом месяце, когда проводились спортивные игры в честь Гильгамеша, на небе восходило созвездие Льва. Таков Гильгамеш эпохи Саргона II, Гильгамеш Ассирийской империи. Он поставлен между равнодушной природой, явленной в тетраморфе, и милостью духа-хранителя. О чем свидетельствует такое промежуточное положение? Об этом мы точно сказать не можем. Но поскольку Гильгамеш находится прямо перед царем и смотрит ему в глаза, его функцию можно рассматривать как магическую защиту, идущую от существа, находящегося между миром богов и миром людей.
Неподалеку, в районе фасада А, расположен почти идентичный первому второй рельеф героя со львом. Но этот герой имеет черты, отличающие его от условного Гильгамеша. У него вьющиеся волосы, он одет в тунику, но не носит плаща, а его лицу придано доброжелательное выражение. Возможно, это изображение Энкиду — уже не мифического полузверя, а обычного человека, спутника Гильгамеша, который на своем ассирийском портрете тоже оказывается куда ближе к миру людей, чем прежде.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГИЛЬГАМОС, ИЗДУБАР И ВНОВЬ ГИЛЬГАМЕШ
Мы вышли из одной пещеры,
И клинопись одна на всех…
А. ТарковскийГлава первая ГИЛЬГАМЕШ В АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Гильгамеш и Геракл
Один из крупнейших ассириологов XX века А. Л. Оппенхейм дал самую краткую и, вероятно, самую скептическую оценку популярности эпоса о Гильгамеше, заметив разницу в степени распространенности этой легенды в Месопотамии и за ее пределами: «Характерно, что ни персонажи, ни яркие события, ни подвиги, которых так много в тексте «Гильгамеша», почти не упоминаются в остальной литературе. Фантастический мир «Эпоса о Гильгамеше» не оставил заметных следов в месопотамской иконографии. Все это резко контрастирует с многочисленными, бесспорными и увлекательными параллелями к «Эпосу о Гильгамеше», которые встречаются в Ветхом Завете, в угаритской и греческой мифологии (сюжетные мотивы и персонажи), а также с той популярностью, которую он приобрел за пределами Месопотамии. Один греческий писатель даже предложил несколько видоизмененный вариант «Эпоса о Гильгамеше»{114}.
В настоящее время к этой оценке можно дать несколько существенных поправок. Во-первых, за последние полвека обнаружены многочисленные изображения сюжетов эпоса на печатях II–I тысячелетий до н. э. из множества городов древней Месопотамии. Во-вторых, найдены таблички с текстом эпоса на хетте ком, хурритском и эламском языках, что, безусловно, свидетельствует о популярности эпоса в древней Малой Азии и на юго-западе Иранского нагорья. В-третьих, существуют переклички строк таблицы VII эпоса и начальных строк ассирийского текста «Нисхождение Иштар в Подземный мир» и, как ранее было уже показано, элементы пародии на эпос легко распознаются в «Разговоре господина с рабом». Если прибавить к этому упоминание Гильгамеша в гадательных текстах и царских письмах, то станет ясно, что известность этого бога-героя дожила до конца Новоассирийского периода. Поскольку же самые поздние копии эпоса делались во II веке до н. э., нет никакого сомнения в том, что народы Ближнего Востока, учившиеся клинописи в писцовых школах, должны были хорошо знать если не содержание, то хотя бы фабулу эпоса. Не вызывает сомнения и то, что существовала традиция устной передачи сюжетов эпоса о Гильгамеше, дошедшая до греков классического полиса и до евреев Римской империи.
Параллели, о которых писал Оппенхейм, не являются контрастными по отношению к известности эпоса в самой Месопотамии. Скорее, они переосмысляют отдельные сюжеты известного текста, вводя имена его героев в новые религиозные и исторические ситуации. Ни в античности, ни на Ближнем Востоке нам не встречаются источники с пересказом всего эпоса. Ближневосточные авторы используют преимущественно мотивы таблицы XI и возникновения Энкиду. Позднеантичные авторы интересуются отношениями героя с богиней любви, в их рассказах доминируют сюжеты, связанные с внебрачными связями матери героя или его самого. И только составители легенды о Геракле пытаются более-менее полно отразить всю фабулу эпоса в рассказе о двенадцати подвигах этого греческого полубога.
Среди эпосоведов и мифологов стало уже привычным сопоставление двух героев древности — Гильгамеша и Геракла. Основой такого сопоставления служит число 12: двенадцати таблицам эпоса о Гильгамеше соответствуют 12 подвигов Геракла. Спекуляций на эту тему очень много, и здесь не хотелось бы приводить все многочисленные варианты аналогий между сюжетами, не говоря уже об аналогиях сюжетов и знаков зодиака. Постараемся разобраться самостоятельно.
Самым ранним упоминанием Геракла в греческой литературе являются строки из «Одиссеи» Гомера. Сперва упоминаются родители Геракла и его жена Мегара (XI, 266–270):
Амфитрионову после жену я увидел Алкмену Ею Геракл был рожден дерзновеннейший, львиное сердце, После того как с Зевесом она сочеталась в объятьях. Дочь Креонта бесстрашного с ней я увидел, Мегару. Мужем был ей Геракл, могучестью всех превзошедший.Затем речь идет о его священной силе, превратившейся в Аиде в жалкую тень, и о богине Гебе, с которой Геракл живет в мире мертвых (601–604):
После того я увидел священную силу Геракла, — Тень лишь. А сам он с богами бессмертными вместе В счастье живет и имеет прекраснолодыжную Гебу, Златообутою Герой рожденную дочь Громовержца.Еще один фрагмент эпоса, связанный с Гераклом, касается его преступления — убийства Ифита в своем собственном доме ради двенадцати прекрасных кобылиц (XXI, 22–30):
Что до Ифита — искал лошадей он пропавших. Их было Счетом двенадцать кобыл и при них жеребята их, мулы. Стали они для него убийством и роком, когда он К Зевсову сыну позднее пришел, крепкодушному мужу И соучастнику многих насилий, герою Гераклу. Гостя он умертвил своего — и в собственном доме! Не устыдился ни взора богов, ни стола, на котором Сам он его угощал, нечестивец! Его умертвил он И беззаконно присвоил коней его крепкокопытных. (Перевод В. А. Жуковского)В этих фрагментах для нас существенно упоминание о львином сердце Геракла и о его священной силе, лишь «образ» (eidolon) которой суждено созерцать Одиссею в мире мертвых. Примечательно и число 12 — правда, относимое лишь к похищенным у Ифита кобылицам. Как мы видим, у Гомера (начало I тысячелетия до н. э.) нет ни одного упоминания о двенадцати подвигах Геракла. Но в «Теогонии» Гесиода (конец VIII–VII век до н. э.) упоминаются некоторые из них: переход через Океан, убийство Лернейской гидры, убийство Немейского льва, похищение Кербера, добыча молодильных яблок Гесперид (289–335). Значит, можно сказать, что цикл легенд о двенадцати подвигах Геракла складывается в греческой литературе в то же время, когда в Месопотамии составляется новоассирийская версия эпоса о Гильгамеше, которая по замыслу Набузукупкены стала включать в себя именно 12 таблиц.
Свой окончательный вид история двенадцати подвигов приобрела уже в позднеантичной «Мифологической библиотеке» Псевдо-Аполлодора (IV, 12 — VI, 1). Там сказано, что Геракл совершил свои подвиги не по собственному желанию, а по решению пифии, и число подвигов первоначально должно было равняться десяти, причем Геракл должен был совершить их за 12 лет:
«После сражения с минийцами случилось так, что Геракл был ввергнут ревнивой Герой в безумие и кинул в огонь собственных детей, которых ему родила Мегара, вместе с двумя сыновьями Ификла. Осудив себя за это на изгнание, он был очищен от скверны Теспием. После этого он прибыл в Дельфы и стал спрашивать у бога, где ему поселиться. Пифия впервые тогда назвала Геракла его именем (прежде он назывался Алкидом) и повелела ему поселиться в Тиринфе, служить в течение двенадцати лет Эврисфею и совершить десять подвигов, которые ему будут предписаны. Таким образом, сказала она, совершив эти подвиги, он станет бессмертным. Выслушав это, Геракл отправился в Тиринф и стал выполнять всё, что приказывал ему Эврисфей»{115}.
Подвиги Геракла у Аполлодора имеют определенную последовательность:
1. Удушение Немейского льва.
2. Убийство Лернейской гидры.
3. Истребление Стимфалийских птиц.
4. Поимка Керинейской лани.
5. Укрощение Эриманфского вепря и битва с кентаврами.
6. Очистка Авгиевых конюшен.
7. Укрощение критского быка.
8. Победа над царем Диомедом.
9. Похищение пояса Ипполиты, царицы амазонок.
10. Похищение коров трехголового великана Ге-риона.
11. Похищение золотых яблок из сада Гесперид.
12. Укрощение стража Аида — пса Кербера.
Обратим внимание на те сюжеты, которые безусловно перекликаются с аккадским эпосом о Гильгамеше. Это 1, 7, 8, 10, 11 и 12 подвиги Геракла. Первый подвиг перекликается с таблицей V эпоса. Хумбаба, как мы помним, сравнивается со львом. Чтобы одолеть его, Гильгамеш входит в глубину кедрового леса и во мраке разыскивает своего противника. Геракл тоже борется со львом в кромешной темноте лесной пещеры. Между прочим, на борьбу со львом сам герой отводит себе 30 дней — полный лунный месяц. По окончании месяца он одолевает льва, приносит жертву Зевсу Спасителю и облачается в львиную шкуру. Гильгамеш также охотится на львов и облачается в львиную шкуру. Следует к тому же вспомнить о восхождении созвездия Льва в пятом месяце, на который приходятся игры в честь Гильгамеша, и об изображении Гильгамеша со львом на ассирийском рельефе. Седьмой подвиг посвящен укрощению критского быка. Это частично коррелирует с событиями таблицы VI, где речь идет об одолении, убийстве и расчленении Небесного Быка.
Заметим, что в этих двух случаях номер подвига не совпадает с номером таблицы эпоса. Но во всех других обнаруженных случаях сюжетного сходства они удивительным образом совпадают. Так, рассказ о восьмом подвиге содержит сюжет о погребении Алкесты, жены царя Адмета. Алкеста подменяет собой своего мужа, которому Мойры назначили смерть. Но Геракл сговаривается со Смертью, и Алкеста возвращается к мужу. Это прямая перекличка с таблицей VIII эпоса, в которой Энкиду умирает вместо Гильгамеша и ему устраиваются торжественные похороны с установкой статуи. Десятый подвиг — переход через Океан — хорошо согласуется с основным сюжетом таблицы X — переездом через воды смерти. Геракл совершает десять подвигов за восемь лет и один месяц, но Эврисфей приготовил для него еще два. Одиннадцатый подвиг — поход на край света (то ли в Северную Африку, то ли в район Атлантического побережья) за молодильными яблоками Гесперид, подаренными Геей богине Гере на их свадьбе с Зевсом, — не что иное, как отражение похода Гильгамеша за цветком бессмертия в таблице XI эпоса. Наконец, двенадцатый подвиг — опускание Геракла в царство мертвых и похищение Кербера — имеет у Аполлодора такую деталь:
«Двенадцатым подвигом Эврисфей назначил Гераклу привести Кербера из Аида. У него были три собачьих головы и хвост дракона, а на спине у него торчали головы разнообразных змей. Собираясь на свершение этого подвига, Геракл пришел в Элевсин к Эвмолпу, чтобы быть посвященным в мистерии. В те времена чужестранцев еще не посвящали в Элевсинские мистерии, и Геракл добивался посвящения в качестве приемного сына Пилия, но участвовать в таинствах он еще не мог, ибо не был очищен от скверны после убийства кентавров. Только приняв от Эвмолпа очищение, Геракл был допущен к участию в мистериях. Прибыв к Тенару — мысу в Лаконике, где находится подземный вход, ведущий в Аид, Геракл спустился под землю. Души умерших, увидев Геракла, кинулись в бегство, за исключением Мелеагра и Горгоны Медусы. Геракл извлек меч и замахнулся на Медусу, как на живую, и только от Гермеса он узнал, что перед ним пустой призрак».
Разумеется, сюжет двенадцатого подвига во многом повторяет известный уже нам сюжет таблицы XII эпоса о Гильгамеше. Это спуск Энкиду под землю и общение Гильгамеша с его призраком. Но интересно, что в греческом тексте коммуникация с миром мертвых становится возможна только после мистериального посвящения. В эпосе же мы следов такого посвящения не видим.
Таким образом, можно сделать вполне определенный вывод: авторы цикла о двенадцати подвигах Геракла, жившие в одну эпоху с составителями последней версии эпоса о Гильгамеше, не просто заимствовали некоторые сюжеты эпоса, но и отождествили номера некоторых подвигов с номерами таблиц.
Если теперь обратиться к культу Геракла в античной традиции и сопоставить его с культом Гильгамеша, то обнаружится следующее. Геракла считали основателем Олимпийских игр, проходивших каждые четыре года, и потому ему был посвящен четвертый день месяца, в котором он родился. По традиции, зафиксированной Феокритом, считалось, что мать Геракла Алкмена родила его в день весеннего равноденствия, то есть прямо в день Нового года. Значит, Геракл считался родившимся в четвертый день первого месяца. Однако, согласно Овидию и римской традиции, Геркулес (таково римское имя Геракла) появился на свет в день зимнего солнцеворота. В общем, понятно, что античная традиция приурочивала дни почитания Геракла ко дню равноденствий и солнцестояний, тем самым сопоставляя его с самим богом Солнца — Гелиосом у греков и Митрой у римлян. Прославлению Геракла посвящались особые соревнования — Гераклеи, проводившиеся в Фивах и Сикеоне. По сведениям, дошедшим от Павсания и Плутарха, известен был также храм Геракла Женоненавистника, жрец которого должен был целый год воздерживаться от соитий с женщинами.
Все эти детали действительно сближают Геракла с Гильгамешем. Спортивные игры, связь с солнечным богом и с годовым ходом Солнца, мизогиния обоих героев делают их практически близнецами в рамках одной эпохи (VIII–VII века) и соседних культурных традиций. Но есть и одно существенное различие. Гильгамеш совершает свои подвиги потому, что хочет этого сам, и никому не подчиняется, потому что является царем. Геракл же по воле богов отрабатывает свой тяжкий грех, и его подвиги не приносят ему ни славы, ни бессмертия — только свободу.
Гильгамеш и Прометей
Ни один из исследователей календаря и эпической традиции Гильгамеша ни разу не обратил внимание на бросающуюся в глаза аналогию: возжигание факелов во время спортивных игр в честь Гильгамеша очень похоже на символику греческих спортивных игр в честь Прометея. В «Описании Эллады» Павсания можно прочесть:
«В Академии есть жертвенник Прометею и отсюда начинается бег до города с зажженными факелами. Состязание заключается в том, чтобы во время бега сохранить факел горящим; если у прибежавшего первым факел потухнет, он уже теряет право на победу, которая вместо него переходит ко второму. Если же факел не уцелеет горящим и у этого, то победителем считается третий; если же у всех потухнут факелы, то никто не считается победителем»{116}.
Нетрудно заметить, что между Гильгамешем и Прометеем просматривается сходство. Во-первых, оба они полубоги. Во-вторых, Прометей принес огонь в полом тростнике; между тем месяц игр Гильгамеша по-шумерски называется NE.NE.GAR, «установление огней», а по-аккадски abu/apu, «тростниковые заросли». Игры сопровождаются возжиганием факелов перед статуей Гильгамеша. Наконец, последнее: и Гильгамеш, и Прометей были нарушителями порядка, установленного богами. Это делало их образы привлекательными в глазах всех амбициозных людей Древнего мира.
Гильгамос у Элиана
Единственное внятное высказывание о Гильгамеше оставил позднеантичный писатель Клавдий Элиан (ок. 175–235) — римлянин, живший во времена Септимия Севера и прославившийся своим «медоречивым» греческим стилем. Он известен в литературе как автор двух крупных сочинений — «Пестрые рассказы» и «О природе животных». От него греки последних веков античного мира узнавали легенды и мифы, пословицы и притчи.
Среди рассказов Элиана о животных есть одна притча, в которой описана любовь орла к человеку:
«Другой чертой животных является любовь к человеку… Сеуехоросу, царю вавилонян, халдейские астрологи предсказали, что сын, рожденный его дочерью, отнимет у него царство. Тот содрогнулся и, говоря шутливо, стал для своей дочери Акрисием — стерег ее строжайшим образом. А та втайне родила ребенка от некоего неизвестного человека (ведь надлежащее случиться было мудрее царя вавилонян). Стражи, опасаясь гнева царя, сбросили младенца с вершины цитадели, где царская дочь находилась в заточении. Но остроглазый орел заметил младенца, устремился к нему и подставил ему спину, прежде чем тот разбился; и полетел он с ним в некий сад, где крайне бережно опустился на землю. Человек же, которому было вверено попечение об этой земле, увидев прекрасного младенца, полюбил его и вырастил. И это история Гильгамоса, царя вавилонян» (De Natura Animalium, 12.21){117}.
Рассказ Элиана вызывает в памяти сразу несколько знакомых классических историй. Уподобляя Сеуехороса (по другой версии — Эухорсоса) Акрисию, автор рассказа сравнивает историю рождения Гильгамоса с рождением Персея. Узнав о том, что внук заберет его царство, Акрисий запер свою дочь Данаю в башню, но Зевс пролился на нее в виде золотого дождя, после чего Даная родила Персея. Помимо античной легенды здесь отчетливо видны и две древневосточные. Во-первых, это новоассирийская легенда о рождении аккадского царя Саргона. Вот что сказано в самом клинописном тексте от первого лица:
Моя мать была энитум, отца я не знаю, Брат моего отца живет в горах. Мой город Азупирану стоит на берегу Евфрата. Понесла меня моя мать-эишиум, втайне она меня родила, Положила меня в плетеную корзину, битумом ее замазала, Пустила меня по реке, откуда я не мог подняться, Река понесла меня, к Акки-водоносу доставила, Акки-водонос, зачерпнув ведром, достал меня, Акки-водонос, как своего сына, меня вырастил, Акки-водонос к работе садовника меня пристроил{118}.Что касается орла, то здесь, должно быть, встретились два орла из месопотамской литературы — орел Анзу, живущий в горах и покровительствующий власти шумерских лугалей, и орел из аккадской поэмы об Этане. Этана, один из первых лугалей Киша, ожидал наследника, но его жена никак не могла разродиться. Он узнал о некоей траве рождения, за которой нужно лететь на небо, и уговорил орла доставить его туда. Неизвестно, чем кончилось путешествие первого литературного Икара, потому что конец таблички разбит.
Итак, в тексте Элиана сошлись истории Персея, Саргона и Этаны. Нет в ней только самого эпоса о Гильгамеше. По сути, герой рассказа никак не связан с его традиционными сюжетами. От всей истории Гильгамеша нам оставлено только имя, искаженное греческой передачей. Однако не все так просто. Мы видим, что дочь царя родила мальчика от какого-то неизвестного человека. Помимо того, что этот мотив повторяет легенду о рождении Саргона, он еще и воспроизводит родословие Бильгамеса по «Царским спискам». Как мы помним, матерью Бильгамеса там была богиня Нинсун, а вместо отца указан лиль — призрак, дух. Да и Персей был зачат от золотого дождя. Все трое не знают отцов, но имеют знатных матерей. Теперь посмотрим на должность матери Саргона. Она была энитум — жрица священного брака, и ей не позволялось иметь никаких связей кроме соития с царем во время ежегодного весеннего обряда. Осквернение жрицы каралось смертью через утопление в реке. В легенде о Саргоне мать отдает реке своего сына как заместительную жертву. В рассказе Элиана царскую дочь заточают в башню, а ее сына сбрасывают с башни вниз головой. Даже если царская дочь вступила в непозволительную для своего положения связь, то теперь она чиста: вина ложится на того, кто сбрасывал ребенка с башни.
Саргона подхватывает и несет сама река, которая считалась в Месопотамии божеством справедливого суда: если брошенный в нее отягощен грехами, он будет утянут на дно, если же нет — выброшен наверх. На месте реки в рассказе Элиана оказывается орел — птица, покровительствовавшая с шумерских времен царям и царским отпрыскам. Орел также устанавливает справедливость по отношению к безвинному младенцу. В финале рассказов о Саргоне и Гильгамосе героев ждут сад и добрый восприемник. Воспитание в саду предваряет их будущее воцарение в своих странах. Садам на Востоке всегда придавалось особое значение. Достаточно вспомнить библейский Эдем — сад наслаждения, священное пространство, о котором ностальгируют многие поколения грешных людей.
Гильгамос предстает в рассказе Элиана существом полузнатного происхождения, чудесным образом спасшимся от смерти, воспитанным в особом священном месте, предназначенном для будущих правителей. Каким образом аккадские и шумерские сюжеты попали к греческому автору поздней древности — остается загадкой. Скорее всего, источником Элиана были устные рассказы выходцев с Востока, переработанные им в изящные притчи, служившие для занимательного чтения. От Элиана пошли многочисленные средневековые бестиарии — трактаты о животных (зачастую фантастических), над которыми любили проводить время средневековые и ренессансные читатели беллетристики.
Приведенные античные истории связаны между собой одним повторяющимся мотивом. Геракл рожден внучкой Персея Алкменой, Гильгамос сравнивается с Персеем, а Прометей обязан Гераклу, правнуку Персея, своей свободой. При этом Геракл и Персей являются сыновьями Зевса, обманувшего мужей их матерей, и Гильгамос тоже не знает своего отца. Родословие титана Прометея восходит к Урану и Гее, но конкретные родители точно не известны. Тогда возможно предположить, что веер аналогий к Гильгамешу расходится из мотива рождения мальчика от небесного отца и земной матери, что обусловливает его необычные способности, статус героя и последующий культ. Однако поздняя античность дает еще один, куда более закрученный сюжет.
Комбабос у Лукиана
Среди сочинений римского писателя, сирийца по происхождению, Лукиана из Самосаты (ок. 120 — после 180) известен трактат «О сирийской богине», в котором рассказана история некоего прекрасного юноши по имени Комбабос:
«Эта-то вот Стратоника, живя еще с первым мужем, увидела однажды во сне, что Гера дает ей приказание построить в Гелиополе храм в ее честь и угрожает в случае неповиновения страшными бедствиями. Стратоника сначала не обратила на это внимания, но когда ее постигла тяжелая болезнь, она рассказала свой сон мужу и, желая умилостивить Геру, дала обет выстроить ей храм. После этого она немедленно выздоровела, и муж послал ее в Гелиополь. Он дал ей много денег на постройку и большой отряд войска для охраны. Призвав к себе одного из своих друзей, очень красивого юношу по имени Комбаб, царь сказал ему: «За твою доблесть, Комбаб, я люблю тебя больше всех наших друзей и высоко ценю тебя за мудрость и привязанность к нам, которую ты всегда проявлял. Теперь мне нужна твоя верность, так как я хочу, чтобы ты сопровождал мою жену и вместо меня построил бы святилище и распоряжался войском. Когда ты вернешься, ты будешь у нас в великом почете». В ответ на это Комбаб стал умолять царя не посылать его, не поручать ему непосильного дела, не доверять ему жены и постройки святилища. Комбаб боялся этого поручения из-за того, чтобы впоследствии царь не стал ревновать его к Стратонике, которую он должен был сопровождать один.
Но так как царь был непреклонен, то Комбаб попросил отсрочки на семь дней, как бы для одного очень важного дела, после исполнения которого он мог бы свободно отправиться в путь. На эту просьбу он легко получил согласие царя. Придя домой, он бросился на землю и стал горько жаловаться: «О я, несчастный! К чему мне это доверие? Зачем мне это путешествие, злополучный конец которого я предвижу? Ведь я молод, мне придется сопровождать красивую женщину. Мне предстоят страшные несчастья, если только я не уничтожу самую возможность их возникновения. Я должен принести тяжелую жертву, которая вполне освободит меня от страха».
Решив так, Комбаб оскопил себя и отсеченную часть тела положил вместе с мирром, медом и другими благовониями в небольшой сосуд, приложив печать, которую всегда носил при себе. Потом он принялся лечить рану и вскоре оправился настолько, что был в состоянии предпринять путешествие. Тогда он пошел во дворец и в присутствии многих дал царю сосуд и сказал: «Господин мой, этот драгоценный сосуд лежал у меня в доме, и он мне очень дорог. Теперь, отправляясь в далекий путь, я поручаю его тебе. Сохрани мне его в безопасном месте. Мне он дороже золота и милее жизни. Когда я вернусь, я хочу получить его целым и невредимым». Царь взял сосуд, запечатал его также и своей печатью и отдал на сохранение казначеям.
После этого Комбаб благополучно совершил путешествие и, прибыв в Гелиополь, усердно принялся за постройку храма. Дело это длилось три года, в течение которых и произошло то, чего опасался Комбаб. Стратоника, проводившая вместе с ним много времени, постепенно влюблялась в него, и в конце концов любовь эта превратилась в бешеную страсть. Жители Гелиополя говорят, что это произошло по воле Геры; она знала, что Комбаб чист, но хотела наказать Стратонику за то, что она неохотно обещала ей выстроить храм.
Сначала Стратоника держала себя благоразумно и скрывала свою болезнь. Но молчание увеличило ее страдания; тогда она стала на виду у всех терзаться и плакать по целым дням. Она постоянно звала к себе Комбаба, который для нее сделался всем. Наконец, не зная, чем помочь своему горю, она начала искать благовидный предлог для признания. Боясь доверить свою любовь третьему лицу и стыдясь самой открыть свое чувство Комбабу, она задумала вступить с ним в разговор, опьянив себя вином, — ведь вместе с вином приходит откровенность, а неудача не будет постыдной, так как всё, сделанное в опьянении, забывается.
Как она задумала, так и сделала. Встав после обеда, она пошла в дом, где жил Комбаб, с мольбами охватила его колени и призналась в любви. Но он сурово выслушал ее слова, отказал ей в просьбе и упрекнул ее за опьянение. Тогда Стратоника стала угрожать, что наложит на себя руки. Комбаб в испуге рассказал ей о своем несчастье и открыл ей всю истину. Эта неожиданность успокоила страсть Стратоники, но любовь свою она не могла забыть. Проводя целые дни с Комбабом, она утешала этим свое безнадежное чувство.
Подобную же любовь и теперь еще можно встретить в Гелиополе. Женщины страстно влюбляются в галлов, которые, в свою очередь, безумно к ним стремятся; такая любовь не вызывает ничьей ревности и почитается даже священной. Однако то, что произошло в Гелиополе со Стратоникой, не осталось скрытым от царя. Многие, вернувшись домой, обвиняли ее и рассказывали обо всем царю. Страдая от этого, царь еще до окончания постройки отозвал Комбаба. <…>
Когда приказ царя пришел в Гелиополь и Комбаб узнал причину своего отозвания, он спокойно отправился в путь, так как знал, что дома у него оставалось доказательство его правоты. Когда он явился к царю, то тотчас же был связан и взят под стражу. Потом царь созвал друзей, которые присутствовали при отправлении Комбаба, вывел последнего на середину и стал обвинять его в прелюбодеянии и распущенности. Горько жалуясь на злоупотребление доверием и дружбой, он упрекал его в трех преступлениях: в совершении прелюбодеяния, в нарушении верности и в нечестии по отношению к божеству в то время, когда он строил храм. Многие из присутствующих свидетельствовали, что видели Стратонику и Комбаба в объятиях друг друга. Под конец всем было ясно, что Комбаб будет умерщвлен как совершивший преступление, наказуемое смертью.
До сих пор он стоял, не сказав ни одного слова. Но лишь только его повели на казнь, он заговорил и попросил вернуть ему его сосуд, добавив при этом, что царь убивает его не за своеволие и преступление по отношению к Стратонике, а лишь из желания овладеть тем, что Комбаб передал ему перед отправлением в путь. Тогда царь призвал казначеев и приказал им принести то, что они хранили. Когда принесли сосуд, Комбаб сломал печать и показал то, что в нем находилось. «Царь, — сказал он, — именно этого обвинения боялся я, когда ты посылал меня в путешествие. Я не хотел идти, но ты принудил меня, и потому я совершил над собой это насилие, которое должно было обеспечить честь моего господина, но которое было так тяжело для меня. Несправедливо поэтому обвинять меня в преступлении, совершить которое мог только мужчина». Тогда царь обнял его и со слезами воскликнул: «О Комбаб! Какой ужасный поступок ты совершил. Зачем ты, а не кто-нибудь другой нанес себе это позорное увечье! О несчастный! Не могу же ведь я хвалить тебя за это. Лучше бы не было твоих страданий, лучше бы мне их не видеть. Ведь мне не надо было такого оправдания. Но если уж бог так судил, то пусть мщение постигнет клеветников. Они будут преданы казни; тебя же я осыплю дарами, ты получишь груды золота и серебра без счета, ассирийские наряды, царских коней. Входи ко мне без доклада, никто тебе не запретит видеть меня, даже когда я возлежу с женой»{119}.
Как царь сказал, так и сделал. Доносчиков тотчас повели на казнь. Комбаб же получил богатые подарки и стал лучшим другом царя. Казалось, что никто в Ассирии не был равен ему по мудрости и богатству. Когда же Комбаб пожелал достроить храм, который он бросил неоконченным, царь тотчас отпустил его. По окончании постройки Комбаб остался на всю жизнь в Гелиополе. В награду за его доблесть и добрые дела царь разрешил Комбабу воздвигнуть себе в святилище статую; и до сих пор там стоит эта бронзовая статуя, работы Гермокла родосского, с телом как бы женщины, но в мужской одежде. Говорят, что самые близкие друзья Комбаба из сочувствия к его горю захотели разделить с ним его участь. Они подвергли себя тому же увечью и вели одинаковый с ним образ жизни. Другие же объясняют их поступок участием богов: они говорят, что Гера полюбила Комбаба и, чтобы не оставлять его одиноким в горе, внушила многим желание последовать его примеру.
Вскоре это вошло в обычай, который сохранился и до наших дней. Каждый год многие оскопляют себя и становятся похожими на женщин, желая этим утешить Комбаба или умилостивить Геру. Они никогда не надевают мужской одежды, но носят женское платье и исполняют женские работы. Я слышал, что и этот обычай следует приписать Комбабу. С ним однажды случилось следующее. Прибывшая на праздник чужестранка увидела его в мужской одежде и, пораженная его красотой, страстно в него влюбилась. Но, узнав об его увечье, она с горя покончила с собой. После этого случая Комбаб, убедившись, что в делах Афродиты его преследуют несчастья, решил одеваться в женскую одежду, чтобы никогда больше не вводить женщин в заблуждение. По той же причине и галлы не носят мужской одежды».
В рассказе Лукиана причудливо смешаны самые разные имена и мотивы из аккадского эпоса о Гильгамеше. Юношу, которому Селевк поручил свою жену Стратонику, зовут Комбабос, что явно образовано от имени Хумбаба. Но при этом в повествовании речь идет, скорее, о главных героях эпоса. Селевк и Комбабос находятся в дружбе, как Гильгамеш и Энкиду. Комбабос, как Гильгамеш в таблицах IV и V, отправляется в далекую экспедицию. Комбабоса, как Гильгамеша таблицы VI, преследует своей любовью Иштар-Стратоника. Комбабос достраивает храм, как Гильгамеш таблицы XI, и ему ставят памятник, как Энкиду в таблице VIII. Оригинальным является мотив самооскопления Комбабоса и его последующий трансвестизм. Но если задуматься, это не так уж далеко от мотива отказа от священного брака в таблице VI. Изменилось средство выражения отказа: если в древности герой не хочет, вслед за предыдущими мужьями богини, превращаться в другое существо, то теперь все наоборот. Кроме того, и борьба с Небесным Быком, и преодоление бычьего, то есть полового начала, в себе спустя тысячелетие стало выражаться в лишении себя мужского начала. Комбабос любим Герой, повелевшей Стратонике построить храм, и несчастлив в делах Афродиты. Это означает, что ему доступен брак, но запрещена плотская любовь.
Рассказ Лукиана только кажется далеким от персейско-прометеанских аналогий Гильгамеша. На самом же деле он подчеркивает все то же — уникальный статус героя среди людей. Если в пору классики это показывалось происхождением от небесного отца, то в эллинистический период выражалось скопчеством и бесполостью героя — качествами, дающими ему новые, необычные возможности.
Глава вторая ГИЛЬГАМЕШ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Гильгамеш и Ховавеш в Кумране
Самым ранним упоминанием Гильгамеша после клинописной традиции признаны фрагменты так называемой «Книги исполинов», написанные на арамейском языке во II веке до н. э. и обнаруженные среди документов Кумранской общины. «Книга исполинов» примыкает к «Книге стражей» — первой части мистического трактата, известного в средневековой литературе под названием Книги Еноха.
Согласно Книге Бытия (6:4–8), перед потопом «были на земле исполины (нефилим), особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это исполины, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать перед очами Господа». Далее говорится о потопе и спасении семьи Ноя. Но из Книги Бытия непонятно, в чем же заключалось зло исполинов, рожденных от связи стражей господних с дочерьми человеческими. На этот вопрос можно найти ответ только в Книге Еноха, известной на множестве языков древнего и средневекового Ближнего Востока. Там говорится, что «стражи и исполины» обучили человеческий род знанию, запрещенному Богом: колдовству, магии, медицине, астрологии, производству оружия, косметики, драгоценных металлов, а также политике и войне. Сознанию праведника Еноха, взятого живым на небо, открываются картины Страшного суда над исполинами и будущего потопа[14]. Он также видит Божьего избранника (Мессию), воскресение мертвых и вечное блаженство праведников в Эдеме{120}.
Именно в этот контекст и попадает известное нам высказывание кумранского автора, в котором мы видим два знакомых нам имени — Гильгамеш и Ховавеш (=Хумбаба). Это высказывание читается и интерпретируется филологами-кумрановедами по-разному, и наука пока не пришла к его полному пониманию. Последнее на сегодняшний день мнение по поводу текста высказал М. Гофф. Вот его перевод:
«…касается смерти наших душ. И все его спутники вошли, и Охия сказал им то, что сказал Гильгамеш ему. Ховавеш открыл рот, и было вынесено судебное решение против его души. Виновный проклял князей, и исполины радовались этому. Он вернулся, он был проклят и пожаловался на него»{121}.
Интерпретация Гоффа заключается в том, что исполины увидели во сне Страшный суд и будущий потоп. «Смерть их душ» означала окончательное уничтожение после Суда, в то время как праведники оживут и получат блаженство в Эдеме. Охия решил подставить под приговор Суда одного лишь Гильгамеша как своеобразного козла отпущения за всех исполинов. Судебное решение против души Гильгамеша было выдвинуто после того, как против него стал свидетельствовать убитый им Хумбаба. После приговора обвиненный Гильгамеш проклял своих спутников, а исполины потешались над ним. Гильгамеш пожаловался Еноху на Охию, который выдал его вместо всех остальных (либо на Хумбабу, который выступил свидетелем против него){122}.
Если Гофф прав, то в кумранском фрагменте переосмысляется начало таблицы VII аккадского эпоса, в которой Собрание богов судит Гильгамеша и Энкиду за убийство Хумбабы и карает Энкиду вместо Гильгамеша. Сам же Гильгамеш представлен в данном фрагменте исполином, то есть потомком стража (Божьего ангела) и земной женщины, который обладает неким запретным знанием и вместе с другими исполинами учит этому знанию людей, от чего по воле Бога происходит потоп. Ничего больше пока сказать нельзя.
Таблица XI в восточном предании
Таблицы аккадского эпоса о Гильгамеше продолжали копировать и в последние века до нашей эры. Наряду с папирусными текстами на арамейском языке в Месопотамии были в ходу глиняные таблички с аккадскими текстами, которые писали греческими буквами, и привычные для месопотамской традиции клинописные таблички. Когда были разрушены города Южной Месопотамии, цивилизация переместилась в монастыри Эдессы, находившиеся на севере. И монашеская культура, условно называемая сирийской, продолжила работу над традицией Гильгамеша. Само имя урукского царя встречается в комментарии на Книгу Бытия несторианского епископа Теодора Бар Коная (VIII — начало IX века): среди двенадцати царей, живших сразу после потопа, упомянут Гелемгос{123}. Однако сюжет таблицы XI эпоса, посвященной мифу о потопе и встрече с бессмертным человеком, разрабатывался сирийской традицией задолго до Бар Коная.
В V — начале VI века н. э. на берегу Евфрата жил выдающийся теолог Иаков Саругский (ум. 521), прославившийся своими речами (мемре) по поводу самых разных богословских вопросов. В его наследии есть и мемре об Александре Македонском, в котором своеобразно изложена фабула таблицы XI. Александр, сын Филиппа, задумал дойти до самых дальних морей и попасть в Страну Мрака. С ним вызывается идти некий Старец, знающий весь двадцатидневный путь и посвященный в тайны этой страны. Старец спрашивает Александра, зачем ему понадобилось идти в землю, где нет света. Александр открывает ему тайну: он знает об источнике жизни, который течет в Стране Мрака, и хотел бы увидеть этот источник. Старец отвечает, что в стране много источников и никто не знает, какой именно является источником жизни. Но он придумывает хитрый ход. Старец говорит Александру: «Прикажи своему повару взять с собой соленую рыбу. И когда он увидит на пути источник, пусть вымоет в нем эту рыбу. Если рыба оживет в его руках, когда он будет ее мыть, то это и будет источник жизни, который ты ищешь». Когда Александр со своими людьми приблизился ко входу в Страну Мрака, он приказал повару поступить так, как советовал Старец. Они долго продвигались в полной темноте и даже не знали, в каком направлении идут. Всюду им попадались источники, и повар окунал в них рыбу, но она не оживала. Наконец, в одном из них рыба ожила и уплыла от людей. Так Александр увидел источник жизни. Тогда царь сам захотел искупаться в этом источнике, рассчитывая на вечную молодость. Но, как далее сказано в тексте Иакова, «Бог не судил ему вечной жизни, и он был опечален этим до самой смерти». Подошедший Старец сказал ему: «Господин, посмотри на ранние и средние поколения. К каждому из них пришел свой конец, и они прошли»{124}.
В рассказе Иакова Саругского переплелись несколько мотивов клинописных текстов, связанных с традицией Гильгамеша. Путешествие в Страну Мрака — это поход Гильгамеша через горы Машу из таблицы IX. Эпизод с источником, оживляющим рыбу, — переделанный эпизод с обновлением царских одежд в источнике Утнапиштима из таблицы XI. Рассуждение о том, что Бог не судил Александру вечной жизни, довольно близко к тексту воспроизводит строки из шумерской песни о смерти Бильгамеса, где сказано: «Великая Гора Энлиль судил тебе царственность, вечную жизнь не судил». А призыв Старца взглянуть на судьбу всех поколений напоминает финал предпоследнего эпизода «Разговора господина с рабом», в котором раб говорит господину, перефразируя Пролог к эпосу о Гильгамеше: «Поднимись и пройди по развалинам древним, взгляни на черепа живших раньше и позже. Кто злодей, кто благодетель?» Старец, пошедший в поход вместе с Александром, имеет черты Уршанаби и Утнапиштима, но у него в рассказе нет имени и образ его размыт.
Через сирийцев рассказ о путешествии Александра к источнику жизни и об оживлении рыбы попадает во многие версии романа об Александре, известного на множестве языков Востока и Запада. В частности, содержится он и в древнерусской «Александрии», известной в рукописи XV века:
«Здесь Александр, с войском своим лагерем став, плоты велел делать, к Макаринскому острову собираясь плыть, и Филона с собой взяв, на остров приехал. Увидел на острове том деревья весьма высокие и красивые, плодами украшенные, — одни из них зрели, другие цвели, иные же перезрели, и множество плодов на земле лежало. Птицы красивые на деревьях разные сладкие песни пели. Под листвой же тех деревьев люди лежали, и сладкие источники из-под корней тех деревьев текли. Войдя вглубь острова, Александр встретил одного из этих людей и сказал: «Мир тебе, брат». Он же Александру сказал: «Всем радость да будет, Александр, суетного света царь». Александр с ними говорить хотел, они же не хотели, сказав Александру: «К старейшим нашим пойди, они приведут тебя к Иованту. Он тебе все о душе твоей и о смерти скажет, и о нашей жизни, и о вашей жизни, и обо всем, что ты хочешь узнать». Когда же Александр шел внутрь, множество людей тех встречали его и целовали, и все прорицали о походе его. Видя это, Александр удивлялся, думая, что это боги, а не люди. И, говоря ему все это, они к Иованту, царю своему, его вели.
Иовант же лежал под неким деревом; прекрасная вода недалеко текла; постель его и покров из листьев деревьев тех были. Иовант, увидев Александра, головою покачал и сказал: «Что к нам пришел ты, царь изменчивого и суетного мира?» И, взяв его за руку, рядом с собою посадил. Александр сел рядом. Иовант же, голову его руками обняв и ее сладко поцеловав, сказал: «Приветствую тебя, всех глав глава, ведь когда всем миром и светом овладеешь, государства своего и отечества больше не увидишь; и когда все земное приобретешь, тогда ад унаследуешь». Услышав это, Александр опечалился душою и спросил Иованта: «Зачем это сказал мне?» Иовант сказал ему: «Многоумному мужу не следует разъяснять». Александр сказал ему: «Если велишь, принесем тебе, что нужно, из того, что есть в нашей земле». Они же все сказали: «Дай нам бессмертие». Александр ответил: «Я сам смертен, как вам бессмертие могу дать?» И велел Филону чистый хлеб принести и вино. Иовант же, увидя это, ничего не взял, но сказал: «Не для нас эта пища, а для вас; наша пища — от дерева этого и питье — вода». И много ему удивительного рассказал. Александр удивился и со слезами сказал: «Поистине эти люди божественной жизнью живут». Иованта же спросил: «Как вы здесь поселились?» Он же ему ответил: «Адамовы внуки мы, как и вы. Когда Адам отсюда ушел, мы здесь остались, сыновья Сифа мы, сына Адамова, который вместо Авеля дан был ему». Иовант спросил Александра: «Зачем вы персидскую одежду носите и разнообразные яства едите?» И много с ним говорил обо всем. Александр спросил: «Скажите мне, как вы рождаетесь, ибо женского пола не вижу у вас». Иовант сказал ему: «Есть у нас жены, но не здесь, а на другом острове, однажды к ним приходим и, с ними пробыв тридцать дней, возвращаемся; когда же у кого-то родится дитя, больше не сочетается с женою. И когда младенцу три года будет, мужского пола мы себе берем, а женский с женами остается».<…>
И направился Александр направо от востока. И, пройдя оттуда с войском своим десять дней, Александр поля некоего достиг, на котором был глубокий ров. И чтобы через него перейти, мост железный сделал и по нему войско свое провел все, на мосту же надпись сделал по-гречески, по-египетски и по-персидски: «Царь Александр до края земли дошел и по этому мосту войско свое перевел». И оттуда четыре дня пройдя, до темной земли дошел.
И когда Александр шел от темной земли шесть дней, до озера некоего дошел, и тут они лагерем стали, и начали искать, что поесть. Повар же Александра хотел вымыть в озере сушеных рыб, — когда же их в воду опустил, рыбы ожили и в озеро уплыли. Александр, услышав об этом, удивился и всему войску купаться велел, и вместе с конями своими искупавшись, все здоровы и крепки были.
И пройдя от того места двенадцать дней, на другое озеро пришел Александр, в котором вода была сладкой, как сахар. По берегу его он ходил, собираясь искупаться. И вдруг рыба из озера того выскочила; Александр, увидев ее, побежал, рыба же преследовала его и бросилась на берег. Александр схватил рыбу, разрезал и нашел в чреве ее камень с гусиное яйцо, который светился как солнце; Александр его вместо фонаря на копье посреди войска ставил»{125}.
Уже из версий романа об Александре рассказ Иакова Саругского воспроизводится по памяти пророком ислама Мухаммадом в 18-й суре Корана, называемой «Пещера». Здесь Александр становится Мусой (то есть Моисеем), а в его спутниках сперва оказывается некий юноша, а затем существо, имени которого Аллах не открывает пророку. Он называет его просто «раб из рабов Наших».
(60) И вот сказал Муса своему юноше:
«Не остановлюсь я, пока не дойду до слияния двух морей,
хотя бы прошли годы».
(61) А когда они дошли до соединения между ними,
то забыли свою рыбу,
и она направила свой путь, устремившись в море.
(62) Когда же они прошли,
он сказал своему юноше: «Принеси нам наш обед,
мы испытали от этого нашего пути тяготы».
(63) Он сказал: «Видишь ли, когда мы укрылись у скалы,
то я забыл рыбу.
Заставил меня забыть только сатана, чтобы я не вспомнил,
и она направила свой путь в море дивным образом».
(64) Он сказал: «Этого-то мы и желали».
И оба вернулись по своим следам обратно.
(65) И нашли они раба из Наших рабов, которому Мы даровали милосердие от Нас и научили его Нашему знанию.
(66) Сказал ему Муса: «Последовать ли мне за тобой,
чтобы ты научил меня тому, что сообщено тебе о прямом пути?»
(67) Он сказал: «Ты не в состоянии будешь со мной утерпеть.
(68) И как ты вытерпишь то, о чем не имеешь знания?»
(69) Он сказал:
«Ты найдешь меня, если угодно Аллаху, терпеливым,
и я не ослушаюсь ни одного твоего приказания».
(70) Он сказал: «Если ты последуешь за мной, то не спрашивай ни о чем,
пока я не возобновлю об этом напоминания».
(71) И пошли они;
и когда они были в судне, тот его продырявил.
Сказал ему: «Ты его продырявил, чтобы потопить находящихся на нем?
Ты совершил дело удивительное!»
(72) Сказал он: «Разве я тебе не говорил,
что ты не в состоянии будешь со мной утерпеть?»
(73) Он сказал: «Не укоряй меня за то, что я позабыл,
и не возлагай на меня в моем деле тяготы».
(74) И пошли они;
а когда встретили мальчика и тот его убил, то он сказал: «Неужели ты убил чистую душу без отмщения за душу?
Ты сделал вещь непохвальную!»
(75) Он сказал: «Разве я не говорил тебе, что ты не в состоянии со мной утерпеть?»
(76) Он сказал: «Если я спрошу у тебя о чем-нибудь после этого,
то не сопровождай меня: ты получил от меня извинение».
(77) И пошли они;
и когда пришли к жителям селения, то попросили пищи,
но те отказались принять их в гости.
И нашли они там стену, которая хотела развалиться,
и он ее поправил.
Сказал он: «Если бы ты хотел, то взял бы за это плату».
(78) Он сказал: «Это — разлука между мной и тобой.
Я сообщу тебе толкование того, чего ты не мог утерпеть.
(79) Что касается судна,
то оно принадлежало беднякам, которые работали в море.
Я хотел его испортить,
ибо за ними был царь, отбиравший все суда насильно.
(80) Что касается мальчика, то родители его были верующими,
и мы боялись,
что он обречет их переносить непокорность и неверие.
(81) И мы хотели,
чтобы Господь дал им взамен лучшего, чем он, по чистоте
и более близкого по милосердию.
(82) А стена — она принадлежала двум мальчикам-сиротам в городе,
и был под нею клад,
а отец их был праведен,
и пожелал Господь твой, чтобы они достигли зрелости
и извлекли свой клад по милости твоего Господа.
Не делал я этого по своему решению.
Вот объяснение того, чего ты не мог утерпеть»
(Перевод И. Ю. Крачковского)В притче из проповеди Мухаммада причудливо соединились два более ранних эпизода — рассказ Иакова Саругского и иудейская притча о путешествии Рабби Иошуа бен Леви с пророком Илией. На месте «источника жизни» Иакова здесь madjma'al-bahrayn, «место слияния двух морей». Отчасти это напоминает место жительства Утнапиштима после потопа — оно называлось pi narati, «устье рек». На самом деле за обоими названиями таится вполне конкретный топоним — остров Бахрейн, названный так потому, что со дна моря в этом месте вытекают пресноводные источники. В древности Бахрейн назывался Дильмуном. Основой экономики там было садоводство, организованное вокруг пресноводных источников, бивших и из-под земли, и из моря. Поэтому в шумерской мифологии Дильмун стал местом возникновения самой жизни и тем самым островом, куда после потопа и спасения боги поселяют бессмертного Зиусудру. Коран довольно точно воспроизводит эту древневосточную мифологему.
Спутником Мусы в сунне и комментаторской традиции был назван ал-Хидр (букв. «Зеленый», то есть «вечно молодой») — загадочный мудрец, знающий тайны творений Аллаха{126}. Но в талмудическом рассказе спутника зовут Илия — пророк, взятый живым на небо и ставший великим мудрецом. Как сообщает пересказавший притчу Ниссим бен Якоб ибн Шахин, Иошуа столь усердно постился и молился, что смог увидеть самого Илию. Илия предстал ему, и благочестивый рабби попросил, чтобы тот на короткий срок взял его себе в спутники. Илия согласился с тем условием, что Иошуа не будет ни о чем его расспрашивать, хотя поступки его покажутся ему удивительными. Рабби заверил Илию, что будет молчалив. И вот они пришли в дом бедного человека, где их встретили со всем возможным гостеприимством. Но Илия сделал так, что у бедняка пала корова. Это возмутило рабби Иошуа, но Илия сказал: «Спокойно! Слушай, смотри и будь молчалив. Не то мы расстанемся». В следующем доме жил богатый скряга, который не только не вынес странникам хлеба, но не сказал и ни единого доброго слова. Но Илия начал молча чинить пролом в стене его дома. Это снова удивило рабби Иошуа, и он возмутился несправедливостью того, что делает пророк. Но Илия лишь повторил ему свой прежний призыв к молчанию. К вечеру третьего дня своего пути рабби Иошуа с Илией подошел к синагоге, рассчитывая на то, что их угостят и дадут ночлег. Однако и здесь им были не рады. Тем не менее Илия пожелал, чтобы все члены молитвенного собрания стали старейшинами города. История с возмущением рабби Иошуа повторилась и на третий раз. Затем на пути странников возникла еще одна синагога, в которой их приняли по всем правилам гостеприимства. Но Илия сказал, что только один из этих людей станет старейшиной города. После этого рабби Иошуа вышел из себя и потребовал, чтобы пророк объяснил смысл своих поступков. Тогда Илия сказал, что у бедняка должна была умереть жена, но вместо этого Бог взял его корову. Стена дома скряги таила в себе клад, и если бы она совсем разрушилась, то он бы неправедно обогатился. Что касается первой, негостеприимной синагоги, то город, в котором старейшинами будут все, не устоит. А во второй синагоге будет один справедливый лидер, работающий на общее благо. Поэтому в той общине будут царить мир, согласие и сотрудничество. Итак, сказал Илия, иди и научи своих братьев пути Бога. Пусть не унывают они, когда видят зло процветающим, а праведников — страдающими. Бог смотрит в сердца и правит справедливо и милосердно. После чего пророк Илия скрылся из виду{127}.
Итак, мы видим, что фабула таблицы XI аккадского эпоса о путешествии Гильгамеша к бессмертному Утнапиштиму трансформировалась в ближневосточной традиции раннего Средневековья в притчу о паломничестве за смыслом жизни. Главным героем притчи поначалу является царь, а потом религиозный лидер общины. А его спутником представляется некий мудрец, старец, обитающий на небе — трансформированный образ Утнапиштима. Старец открывает паломнику две тайны — неизбежность смерти и непостижимость Божьего Промысла.
В средневековых персидских поэмах образу Александра-Искандера противопоставлялся благочестивый эмир или султан мусульманского мира.
Да! Искандер прошел мир от края и до края, Избрал походную жизнь, пустыни прошел, горы и нагорья, Но в походах искал он живой воды, А наш царь благоволения бога ищет и благоволения пророка. (Фаррухи из Систана, XI век) С тех пор как я вкусил живую воду правосудия, Лишенным блеска [безводным] кажется мне царство Искандера (Джамаладдин Алави, XI век){128}Мы уже выяснили, что за сюжетом об Александре, ищущем живую воду, можно различить образ Гильгамеша и сюжет таблицы XI аккадского эпоса. Остается добавить, что в средневековом мусульманском мире уже начинает обозначаться тот конфликт, который впоследствии будет выявлен в трактате Д. С. Мережковского «Тайна трех»: противостояние языческого царя, желающего стать бессмертным, и благочестивого правителя, знающего, что смерть неизбежна, а вечную жизнь дает только Бог.
Эпос о Гильгамеше в романе Ибн Туфейля
Самый известный арабский роман, созданный в XII веке философом и писателем Абу Бакром Мухаммадом ибн Туфейлем (ок. 1110–1185), имеет весьма длинное название: «Повесть о Хаййе, сыне Якзана, касающаяся тайн восточной мудрости, извлеченных из зерен сущности высказываний главы философов Абу Али Ибн Сины имамом, знающим и совершенным философом Абу Бакром Ибн Туфейлем». Героем романа является человек, имя которого переводится как «Живой, сын Бодрствующего». Поскольку Бодрствующим мусульманская традиция называет Аллаха, то перед нами иносказательное именование «Человек, сын Бога». Философский роман Ибн Туфейля содержит множество идей, присущих всем направлениям арабо-мусульманской философии — калама, фальсафы и суфизма. Но его сюжетная основа не может быть извлечена из арабской средневековой литературы.
В самом начале романа приводятся две версии появления героя на свет. Согласно одной из них он родился от брака сестры царя с его придворным, которого звали Якзан:
«И вот, когда овладел ею страх, что случившееся с ней станет явным и тайна ее обнаружится, уложила она чадо свое, покормив до этого грудью, в крепко сколоченный ларь и с наступлением ночи понесла его, сопровождаемая служанками и верными людьми, к берегу морскому с сердцем, изнывающим от нежности к дитяти и трепета за него. Затем, прощаясь с ним, она сказала: «О боже! Это ты создал дитя сие, бывшее дотоле вещью, не достойной упоминания (ср.: Коран. 76:1), ты питал во мраке чрева и опекал его, пока не подросло оно и не достигло полной зрелости. Ныне же предаю я его благой воле твоей, уповая на милосердие твое к чаду, из страха пред тем царем свирепым, жестокосердным и своевластным. Так будь же с ним и не покидай его, о милостивейший из милосердных!» С тем и ввергла она дитя свое в море»{129}.
Далее течение выбрасывает ларь с младенцем на остров. Повторяются древние истории рождения Саргона и Моисея. Однако, наряду с происхождением от незаконной связи, в романе есть и вторая версия — легенда о самозарождении человека на острове:
«В недрах острова была одна полость, в коей на протяжении многих лет бродила толща глины, пока в ней не смешались соразмерным и равным по силе образом теплое с холодным и влажное с сухим. Эта пришедшая в брожение толща глины была очень больших размеров, и различные части ее превосходили друг друга по соразмерности смеси и предрасположенности к образованию жизненных соков, причем наиболее соразмерной и близкой к человеческой была смесь ее срединной части.
И вот в этой толще глины начали возникать первые зачатки жизни: поскольку она была вязкой, в ней образовалось нечто, напоминающее пузырьки, которые возникают при кипении; в середине ее появились вязкая жидкость и крохотный пузырь, разделенный надвое тонкой перегородкой и заполненный разреженным, воздухообразным телом, смесь которого отличалась соответствующей ему предельной соразмерностью; с оным телом в связь вошел, далее, дух — тот самый, который «от повеления Всевышнего» [ср.: Коран. 17:87 (85)], образовав с ним столь прочное единство, что уже не отделить его от тела ни в чувственном восприятии, ни мысленно, ибо дух этот, как было доказано, изливается от Аллаха (велик он и славен) с таким же постоянством, с каким солнечный свет изливается на мир».
Здесь мы видим версию, идущую от шумерского текста об Энки и Нинмах через Книгу Бытия и Коран: человек творится из толщи глины, в которую входит дух Божий. Так был сотворен в аккадском эпосе Энкиду, которого Аруру слепила из глины и образа Ана, сотворенного в ее сердце.
Младенца, оказавшегося на острове, находит и выкармливает газель:
«Газели, взявшейся опекать дитятю, выпали на долю луга плодородные и сочные травы: тело у нее было тучным, молоко — обильным, и кормила она младенца так, что и нельзя лучше. Она постоянно находилась при нем, отлучаясь лишь, когда ей требовалось пастись на лугах. И ребенок привык к газели, так что стоило той хоть немного замешкаться, как он принимался громко плакать, и та немедля мчалась к нему. <…> Находясь так безотлучно при газели, мальчик то и дело подражал ее переливчатым крикам, так что голоса их стали под конец почти неразличимы. Подражал он и тем звукам, что издавали птицы и многообразные виды других животных, и сходства между их голосами было тем больше, чем сильнее стремился он к тому, чего хотел добиться. Чаще же всего он подражал крикам, издаваемым газелями, когда они зовут на помощь или ищут близости, подзывают к себе или отпугивают, — ведь в подобного рода случаях и голоса у животных бывают разными. Под конец и ребенок подружился со зверьми, и те к нему привыкли, он их не чуждался и они не обходили его стороной».
Здесь отразилась история Энкиду, матерью которого в тексте таблицы VIII названа именно газель и который в таблице I ходил по степи с дикими зверями. Но особенность текста Ибн Туфейля в том, что в романе нет ни Гильгамеша, ни Утнапиштима, ни даже Шамхат. Дикий человек сам, в результате поэтапного развития, приходит к состоянию мудреца, не стремясь к совершению ошибок Гильгамеша. Хайй ибн Якзан ничего не создает, не имеет соперников, не совершает подвигов, но путем непрерывного наблюдения над жизнью он приходит к осознанию единства мира и Бога. Сначала Хайй наблюдает за умершей газелью и познает смерть; затем он задумывается о том, что делает тело живым и куда это уходит после смерти; потом он понимает, что понять причину всеобщего бытия можно только в том случае, если выйдешь за пределы своего тела и земного бытия. В романе описаны суфийский экстаз Хаййа и его путешествие по духовным мирам. Но такова только первая часть романа.
Во второй части появляются два новых персонажа — Асаль и Саламан. Асаль хочет получить мистическое знание, а Саламан хотел бы управлять каким-нибудь народом на основании Божьего закона. Поэтому пути их расходятся. Асаль уединяется на острове, не зная о том, что здесь давно живет еще один человек. А Саламан переезжает на соседний остров, где получает власть над местным населением. Через некоторое время Асаль встречает Хаййа и получает от него Учение. И они вместе отправляются на остров Саламана. Здесь и происходит то событие, ради которого писался весь роман. Хайй начинает проповедовать народу Саламана высшую истину суфизма и пытается разубеждать их в следовании религиозному Закону. Но, взглянув на слушающих его людей, мистик вдруг спохватывается.
«Разобравшись, в каком находятся люди состоянии, и выяснив, что в большинстве своем они пребывают на уровне неразумных животных, он пришел к заключению: вся мудрость, руководство и преуспеяние заключены в том, что провозглашалось посланниками Божиими и о чем гласит Божественный закон; ничем этого и заменить нельзя, и дополнить невозможно. Ибо для каждого дела есть свои мужи и каждому удается то, к чему у него имеется призвание. Таково установление Бога по отношению к тем, кто ушел раньше, и не найдешь ты для установления его никакой замены (ср.: Коран. 33:62; 35:41; 48:23). А посему, обратившись к Саламану и друзьям его, он начал оправдываться за речи, которые с ними вел, и отказываться от них. Объявив, что взгляды его стали такими же, как их, и руководствуется он ныне тем же, чем они руководствуются, посоветовал им Хайй, сын Якзана, соблюдать и впредь как заповеди религии, так и внешние ее обряды, поменьше заниматься тем, что не касается их, доверять двусмысленным высказываниям священных текстов и принимать их как есть, новых и собственных убеждений избегать, пример брать с праведных предшественников и всяких нововведений избегать. Вместе с тем он велел им не допускать свойственного широкой публике небрежения религиозным законом, погружения в мирские дела и строго-настрого предостерег от этого.
Они убедились с Асалем: эти незрелые, несовершенные люди могут прийти к спасению только указанным выше путем; если их оторвать от этого пути и вознести на высоты умозрения, то положение их нынешнее расстроится, а степени счастливых достичь им не удастся — они зашатаются, опрокинутся и найдут себе недобрый конец (ср.: Коран. 56:10); пребывая же в теперешнем своем состоянии до самого смертного часа, они обеспечат себе грядущее благополучие и приобщатся к тем, кто стоит с правой стороны».
Мистик со своим учеником возвращается на остров:
«Распрощавшись с этими людьми, они стали ждать, когда Бог ниспошлет им случай, чтобы вернуться на свой остров. И Аллах (великий он и всемогущий) помог им переправиться туда. Хайй, сын Якзана, прежним своим способом начал добиваться того, чтобы оказаться на возвышенной Стоянке, и в конце концов достиг ее опять. Асаль же подражал ему, пока не приблизился — или почти не приблизился — к уровню его. И поклонялись они Богу на острове том до самой своей смерти».
Именно Ибн Туфейль в последней части своего романа объясняет, почему боги поселили Утнапиштима на острове после спасения его от потопа и дарования ему бессмертия. Знание последних тайн жизни и смерти не может быть предназначено для всех, потому что оно не может быть адекватно воспринято всеми. К нему нужно готовиться постоянным развитием ума и совершенствованием духовной жизни. Место мудреца, старца Хаййа — на своем острове, место вождя племен Саламана — в своей общине, долг каждого члена общины Саламана — исполнять религиозные заповеди и быть послушными подданными своего лидера. Хайй ибн Якзан — Энкиду без Гильгамеша, никем не соблазненный, никого не убивший, но дошедший до уровня Утнапиштима — не может быть рядовым членом человеческого коллектива. Его общество — собственный ученик.
Булукия в сказках «Тысяча и одной ночи»
В последний раз в арабской традиции мотивы эпоса о Гильгамеше встречаются нам в сказках «Тысяча и одной ночи», самые ранние рукописи которых датированы XV–XVI веками и восходят к устным историям, которые рассказывались в египетских кофейнях. Сходство сказки о Хасибе и царице змей (ночи 497–501) с аккадским эпосом впервые распознала С. Далли. Она же первой сопоставила мотивы обоих произведений с мотивами романа об Александре. По мнению Далли, само имя арабского героя Булукия является переделанной первой частью шумерского имени Бильга(мес). Впрочем, никаких доказательств такой долгой памяти о шумерском варианте имени героя исследователь представить не смогла, чем вызвала много критики в адрес своей гипотезы. Тем не менее никто не оспаривает сходство самих мотивов{130}.
Наследник израильского царя Булукия находит после смерти отца спрятанную от него книгу о пророке Мухаммаде и отправляется странствовать в поисках пророка. Ему подсказали, что можно достичь истины только прикоснувшись к перстню Соломона, хранящемуся в его гробнице. По дороге к гробнице Булукия и его товарищ по странствию Аффан встречают царицу змей, которая дает им волшебный эликсир, позволяющий ходить по воде. Царица змей упоминает также и цветок вечной молодости, но герои пропускают ее слова мимо ушей. Попытка завладеть перстнем не увенчалась успехом: дракон, стороживший гробницу Соломона, убивает Аффана, пытающегося сорвать перстень с мертвеца. Предавшись скорби, Булукия возвращается обратно, но внезапно попадает на фруктовый остров, который сторожит великан. А затем он оказывается в мрачном жилище царя Сахра, который стал бессмертным, испив из источника жизни, хранимого ал-Хидром. Сахр рассказывает Булукии, как Бог устроил этот мир, и Булукия с помощью ал-Хидра возвращается домой. В конце рассказа Булукия встречает пытливого юношу и рассказывает ему историю своего пути к истине.
Сюжеты и в самом деле похожи. Булукия и Аффан — это Гильгамеш и Энкиду, товарищ Булукии погибает вследствие своего неправедного поступка, фруктовый остров напоминает сад драгоценных камней из таблицы IX, а история с бессмертием, полученным от источника жизни, напоминает два сюжета из таблицы XI — цветок бессмертия и обновление одежд Гильгамеша после погружения в источник на острове Утнапиштима. Существует в тексте сказки и точное описание райского острова Дильмун:
«И увидел он, что они сидят и рядом с ними большие запертые ворота. И, приблизившись к ним, он увидел, что у одного из этих существ облик льва, а у другого — облик быка. И Булукия приветствовал их, и они ответили на его приветствие, а затем они спросили его и сказали: «Что ты такое, откуда ты пришел и куда идешь?» — «Я из сынов Адама, — ответил им Булукия, — и я странствую из-за любви к Мухаммаду, но только я сбился с дороги». Потом Булукия спросил этих существ и сказал им: «Что вы такое и что это подле вас за ворота?»
И они ответили: «Мы сторожа у этих ворот, которые ты видишь, и нет у нас дела, кроме как славить Аллаха и святить его имя и молиться за Мухаммада (да благословит его Аллах и да приветствует!)». И услышав эти слова, Булукия удивился и спросил: «Что находится за этими воротами?» И сторожа ответили: «Мы не знаем!» — «Заклинаю вас великим вашим господом, откройте мне эти ворота, и я посмотрю, что находится за ними», — сказал Булукия. И сторожа ответили: «Мы не можем их открыть, и не может их открыть никто из сотворенных, кроме Джибриля-верного (мир с ним!)».
И услышав эти слова, Булукия взмолился к Аллаху великому и воскликнул: «О господи, приведи ко мне верного Джибриля, чтобы открыл он мне эти ворота и я посмотрел бы, что есть за ними!» И Аллах внял его молитве и повелел верному Джибрилю спуститься на землю и открыть Ворота Слияния Двух Морей, чтобы посмотрел на все Булукия. И спустился Джибриль к Булукии и приветствовал его и, подойдя к воротам, отпер их, а потом Джибриль сказал Булукии: «Войди в эти ворота, Аллах велел мне открыть их для тебя».
И Булукия вошел в ворота и пошел дальше, а Джибриль запер ворота и поднялся на небо. И Булукия увидел за воротами большое море — наполовину соленое, наполовину пресное, и море окружали две горы, и были эти горы из красного яхонта. И Булукия шел, пока не дошел до этих гор, и увидел он на них ангелов, занятых прославлением Аллаха и освящением его имени. И увидав этих ангелов, Булукия приветствовал их, и они ответили на его приветствие, и тогда Булукия спросил их про море и про горы, и ангелы сказали ему: «Это место находится под престолом Аллаха, а это море заливает все моря на земле. Мы делим эту воду и гоним ее в земли: соленую — в земли соленые, а пресную — в земли пресные. А эти горы создал Аллах для того, чтобы охранять эту воду, и таково будет наше дело до дня воскресения»{131}.
В описании рая фигурирует образ ангела Джибриля (Гавриила), некогда пришедшего к Мухаммаду с откровением от Аллаха. Когда Джибриль открывает перед Булукией ворота, то показывает ему святая святых мироздания — место разделения вод. Для того чтобы понять этот мотив, нужно вспомнить начало вавилонского эпоса Энума элиш («Когда вверху»):
Когда вверху не было названо Небо, Земля не была именем наречена, Апсу-оплодотворитель И Тиамат, все породившая, Воды свои воедино мешали.В свою очередь, мотив смешения двух вод восходит к образу пресных и соленых вод Дильмуна, о чем уже было сказано. Джибриль показывает Булукии рай и первоначало мира.
Глава третья ГИЛЬГАМЕШ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ
Гильгамеш в западной науке
В XVII — начале XIX века Гильгамеш был повсеместно забыт. Памяти о нем не сохранилось ни на Востоке, ни тем более на Западе, где все развитие средневековой и возрожденческой литературы прошло без него. Без него были написаны чем-то похожие «Дон Кихот» и «Фауст», без его влияния творили Данте и Петрарка, Шекспир и Сервантес, Рабле и Мильтон, Гёте и Шиллер. Можно себе представить, сколько удовольствия и пользы доставило бы чтение эпоса Эразму Роттердамскому и Монтеню, Паскалю и Ларошфуко — величайшим мудрецам христианской Европы. Но увы, увы… Новая жизнь традиции Гильгамеша началась в Европе с чистого листа, после долгого и мучительного обретения имен и слов давно ушедшего языка. Сперва Гильгамеш становится достоянием археологов и лингвистов, и только потом о нем будут думать историки, богословы и поэты. Но стоило лишь ему ожить, как он сразу попал в эпицентр всех европейских дискуссий, будораживших умы в конце XIX века.
В 1845 году начались раскопки в районе города Мосул на севере Ирака. Сперва Генри Лэйард обнаружил под холмом Нимруд древний ассирийский город Кальху, а под холмом Куюнджик — столицу Ассирии Ниневию и дворец Синаххериба. А через восемь лет после него, в 1853 году, Ормузд Рассам открыл на том же месте дворец Ашшурбанапала — внука Синаххериба. Но самым главным и невероятным открытием была библиотека Ашшурбанапала, разлетевшаяся на десятки тысяч кусков глины при падении со второго этажа. Это случилось во время пожара во дворце, произошедшего при его штурме в 612 году до н. э. Любая другая библиотека — папирусная или бумажная — легко погибла бы в этом погребальном костре древней цивилизации, как десятками гибли финикийские и арамейские библиотеки. Но глина только укрепляется огнем. Найденные фрагменты бережно упаковали и отправили в Британский музей, где на протяжении нескольких лет их некому было читать, потому что еще не родилась наука ассириология.
А родилась она так. 17 марта 1857 года английский чудак Уильям Генри Фокс Тэлбот — основатель фотографии и спектроскопии — послал в Королевское азиатское общество запечатанный конверт с дешифровкой и переводом надписи ассирийского царя Тиглатпаласара I. Помимо научного текста к письму было приложено предложение переслать ту же самую надпись еще двоим знатокам клинописи — офицеру Генри Раулинсону и семитологу Эдварду Хинксу, не сообщая никому из них, что идентичная надпись разослана двоим другим. Когда они пришлют в общество свои варианты дешифровки и перевода — следует вскрыть конверты и сравнить все три варианта. В том случае, если чтения и переводы совпадут более чем на 50 процентов, можно считать методику дешифровки аккадской клинописи верной. Королевское общество согласилось с идеей Тэлбота и лично от себя послало ассирийскую надпись не только двоим названным участникам, но еще и третьему дешифровщику — французскому преподавателю санскрита Юлиусу Опперту, о существовании которого Тэлбот в то время не знал. 25 мая 1857 года четыре конверта были вскрыты. Переводы совпали более чем на 60 процентов (причем наибольшее количество ошибок содержалось, по иронии судьбы, в рукописи Тэлбота, предложившего этот эксперимент). Методика дешифровки была признана верной, что впоследствии подтвердилось. После этого научному сообществу стало ясно, что на свет появилась новая наука ассириология — филолого-историческая дисциплина, изучающая языки и культуры народов, писавших клинописью.
Через четыре года после того, как библиотеку Ашшурбанапала перевезли в Британский музей, чтением и изданием ее табличек стал заниматься один из первых дешифровщиков клинописи Генри Раулинсон. Результатом его трудов стало пятитомное издание «Клинописные надписи Западной Азии». Но когда Раулинсон работал над третьим томом, у него неожиданно появился помощник, которому современная наука единодушно присвоила почетное прозвище «Дарвин археологии»{132}. Джордж Смит (1840–1876) был выходцем из рабочей семьи и трудился гравером банкнот в одной известной фирме. У него не было высшего образования, но он внимательно следил за всеми находками британской археологии. В начале 1860-х годов Смит начал самостоятельно изучать клинопись по научным публикациям и попробовал читать тексты на аккадском языке. В 1866 году ему удалось установить датировку выплаты дани десятого царя Израиля Ииуя ассирийскому царю Салманасару III. В следующем году он сделал еще более удивительное открытие — прочел табличку о полном затмении луны в вавилонском месяце Симану и установил дату этого затмения: 15 июня 763 года до н. э. Это открытие Смита легло в основу всей современной хронологии древнего Ближнего Востока. В том же самом счастливом для него году Джордж Смит стал ассистентом Раулинсона при издании клинописных текстов из библиотеки Ашшурбанапала. Он подготовил к публикации множество текстов третьего и четвертого томов. Его талант художника-копииста и филолога при работе над этими томами был отмечен всеми немногими ассириологами того времени, и при их протекции в 1870 году он получил должность главного хранителя отдела ассирийских древностей Британского музея.
Смит делал свои великие открытия в очень тяжелых и совсем не подходящих для этого условиях. В музее не было электричества, в хранилище царил полумрак, а когда Темзу застилал туман, то хранителей вообще распускали по домам. На столе хранителя лежали куски глины разной формы. Это были царские надписи, письма, молитвы, заговоры, словари, гимны, гадания, контракты, записи астрономических наблюдений. Многие надписи были сделаны очень мелким почерком, что сильно расстраивало зрение и требовало хорошей оптики. Не было ни словаря, ни грамматики, ни каталога. Смит начал с классификации фрагментов, разделив их по тематике на шесть частей. Самыми ясными по содержанию были царские надписи. С них следовало начать исследование всей библиотеки. Смит так и поступил, и в 1871 году вышло в свет его издание и перевод десятигранной призмы с надписью Ашшурбанапала. Издание это было очень высоко оценено научным сообществом. Но главная удача жизни была у Смита еще впереди.
В один из отделов смитовской классификации попали все тексты, в которых прочитывались намеки на творение мира и на деяния богов. Неудивительно, что они интересовали его больше всех остальных. И вот в ноябре 1872 года Джордж Смит прочел некий текст, из которого следовало, что корабль во время потопа пристал к какой-то горе. Он внезапно понял, что перед ним самый древний рассказ о потопе, в сравнении с которым Библия — просто вчерашняя газета. Его сослуживец Э. Бадж вспоминал, что, прочитав крохотный кусочек текста, Смит вдруг стал прыгать вокруг своего стола и даже сорвал с себя одежду — столь сильны были обуревавшие его чувства. Он осознал, что произошло что-то невероятное: отыскался текст, который древнее самого Священного Писания. И этот текст обнаружил не кто-нибудь, а он — мальчишка-гравер из рабочего предместья Челси!
Уже 3 декабря 1872 года Смит сделал в Обществе библейской археологии доклад под названием «Халдейская история потопа», и на этом докладе присутствовал сам премьер-министр Великобритании сэр Уильям Гладстон. 20 декабря того же года «Нью-Йорк тайме» опубликовала выдержки из доклада. Для Смита это означало всемирную славу, но сама по себе она его не очень-то интересовала. Он понимал, что находится только в самом начале пути. Перед ним фрагмент текста, из осколков которого понятно только то, что это одиннадцатая таблица какой-то серии. А где вся эта серия? Ее пока нет в музее. Значит, нужно ехать туда, в Ниневию, зарываться в пласты и искать, искать…
Так вот для чего нужна всемирная слава! Смит понял, что может хорошо сыграть на своей известности в прессе, чтобы приблизиться к своей главной мечте. И уже в январе 1873 года газета «Дейли телеграф» спонсирует экспедицию Джорджа Смита на Куюнджикский холм. После двух экспедиций в
1875 году появился отчет экспедиции Смита под названием «Ассирийские открытия». Все недостающие части текста были найдены под холмом (причем некоторые из них были сокращенно названы DT в честь издания, давшего деньги на экспедицию). Смит начал готовить к печати все фрагменты текстов, имевших отношение к творению и потопу. Ему окончательно стало ясно, что у Библии есть древний прототип. Но довести свой труд до печати великому первооткрывателю было не суждено: в 1876 году, отправившись на третьи раскопки в Ниневию, он умер от дизентерии. Труд старшего коллеги довел до конца его ученик Арчибальд Сэйс.
Как же понимал Джордж Смит свою невероятную находку? Обнаруженные им 12 табличек одной серии были названы им «эпосом об Издубаре и потопе». Сочетание знаков IZ.DU.BAR Смит прочел буквально. Напротив, читая имя друга Издубара, он решил перевести его с шумерского на аккадский язык: так Энкиду стал Эабани. По мнению Смита, Издубар — это библейский Нимрод, персонаж Ветхого Завета, названный там «сильным звероловом». Кроме того, согласно средневековой иудейско-мусульманской традиции, Нимрод считался основателем Вавилона и Ассирии, а также строителем Вавилонской башни. Поскольку же у всех европейцев того времени могли быть только библейские или античные ассоциации к восточным текстам, то не стоит удивляться такому странному сближению. Смитовское понимание фабулы открытого им текста весьма далеко от современного, что, впрочем, тоже не может нас удивить — ведь он был первым, кто вообще смог прочесть знаки этого текста в отсутствие словарей и грамматик.
Итак, согласно переводу Смита, Издубар — древний охотник из Эреха, подобный библейскому Нимроду, победитель диких зверей и тиранов. Он встречает на своем пути некоего колдуна или астролога по имени Эабани, который становится его другом. Друзья вместе охотятся на диких зверей, а затем побеждают Хумбабу — эламского правителя, держащего в страхе все горные племена. После этого герои расправляются с «божественным быком». Но тут происходит трагедия: дикое животное по имени «тамабукку» убивает Эабани, после чего сам Издубар чувствует, что тяжело болен. Во сне Издубар видит, как богиня Иштар отправляется в царство мертвых, и понимает, что это вещий сон. Чтобы исцелиться, Издубар отправляется на берег моря, где встречает человека, некогда спасшегося от потопа. Этот человек открывает ему тайну растения, исцеляющего от болезни, и Издубар благополучно возвращается в свой город Эрех. Что же касается таблицы XII, то Смит считал ее содержание «символом веры» древних людей. По его мнению, таблица создана для того, чтобы выразить древнее учение о душе, о будущей жизни, о рае и аде.
В 1884 году Пауль Хаупт издал все известные фрагменты эпоса, и переводы истории Издубара на европейские языки пошли один за другим. А в 1890 году ложное чтение «Издубар» было изгнано из западной культуры коротким научным сообщением британского ассириолога Теофилуса Пинчеса. Оно называлось «Изыди, Издубар!», и в нем сообщалось о найденном фрагменте силлабария, в котором идеографическому написанию имени героя, ранее читаемому как IZ.DU.BAR (или GlS.TU.BAR), соответствовало слоговое написание Gi-il-ga-mes{133}. Однако, несмотря на открытие Пинчеса, Издубар еще на 20 лет остался именованием героя в художественных переводах эпоса.
Открытый Смитом и образцово изданный Хауптом текст положил начало множеству теорий и версий. Интересно, что каждая европейская наука того времени применила данные эпоса для аргументации наиболее динамично развивавшегося направления. Для немцев таким направлением была библейская критика, для англичан — теория эволюции.
Ф. Делич в цикле своих знаменитых лекций под названием «Вавилон и Библия», прочитанных в январе 1902 года в Немецком восточном обществе и повторенных 1 февраля в присутствии кайзера Вильгельма II, сразу определил высокую степень влияния вавилонской религиозной литературы на Ветхий Завет. А из этого следовало, что Библия несет в себе следы более древних традиций. Поэтому Ветхий Завет не может считаться боговдохновенной книгой и его следует отделить от Нового Завета, в котором нет никаких вавилонских следов. Делич договорился даже до того, что Иисус был по происхождению арийцем и только его Новый Завет — арийский по происхождению — нам и следует считать истинным религиозным учением. От националистической пропаганды Делич и его последователи перешли к сравнительному изучению вавилонского наследия и немедленно сделали вывод о том, что вавилоняне повлияли буквально на все культуры человечества — от Египта до Мексики. В частности, ученые П. Йензен и А. Унгнад сразу заметили сходство фабулы эпоса с «Одиссеей» и подвигами Геракла.
Результатом работы школы Делича стала фундаментальная монография П. Йензена «Эпос о Гильгамеше в мировой литературе» (1906, 1928), в которой сравнительной стихии дан полный ход: Гильгамеш сопоставляется здесь с Одиссеем, Гераклом, Самсоном, Давидом и даже с Иисусом Христом, которого он назвал «израильским Гильгамешем». Значительную часть монографии Йензена составляет астрономическое сопоставление частей эпоса с созвездиями и знаками зодиака. Впрочем, здесь он не оригинален и только следует за гипотезой Раулинсона (см. «Гильгамеш и зодиак»). Если Делич в 1902 году призывал не чтить еврейскую Библию, потому что она пришла из Вавилона, то Йензен в 1928-м говорит совершенно противоположное: «Мы, дети столь высоко оцененного времени удивительных культурных достижений, любящие со снисходительной усмешкой смотреть на верования и традиции первобытных людей, — мы на наших кафедрах и в домах молитвы, в наших церквах и школах, во дворцах и хижинах служим вавилонскому богу, вавилонским божествам!» По сути, он первым догадался о значении традиции Гильгамеша для развития всей мировой культуры.
Справедливости ради следует отметить, что при всех крайностях немецкого критического подхода школе Делича, впоследствии названной «панвавилонизмом», удалось обнаружить в эпосе о Гильгамеше черты региональной ближневосточной традиции, которая и связала его с текстами Ветхого Завета. Весьма удачными оказались и сопоставления с гомеровским эпосом, что помогло впоследствии рассмотреть типологию древнего эпоса по всем культурам мира.
В отличие от немцев англичане использовали находку Смита для подтверждения теории эволюции Чарлза Дарвина. Сам Дарвин никак не высказывался по поводу эпоса о Гильгамеше, но его сподвижники, англичанин Т. Гексли и австриец Э. Зюсс, чрезвычайно заинтересовались им. Гексли заинтересован в историко-культурном объяснении сюжета о потопе в связи с критикой креационизма. Он проницательно замечает, что время потопа в Месопотамии не связано с сезоном разлива рек, и представляет собой иное климатическое явление: «Табличка, которая содержит рассматриваемую историю, является одиннадцатой из двенадцати таблиц. Каждая из таблиц соответствует месяцу и знаку зодиака. Ассирийский год начинался с весеннего равноденствия; следовательно, одиннадцатый месяц, названный «месяцем дождей», соответствует нашему январю — февралю, а знак соответствует нашему Водолею. Водное приключение Хасисадры (имеется в виду Атрахасис. — В. Е.), следовательно, размещено не неуместно. Любопытно, однако, что сезон, косвенно связанный с потопом, не соответствует тому, в который действительно наблюдается высокий уровень подъема рек. Это слишком поздно для зимнего подъема и слишком рано для весенних паводков»{134}. В это же время примкнувший к английским эволюционистам Э. Зюсс в своей книге «Лицо Земли» утверждал, что, согласно эпосу о Гильгамеше, потоп был вызван землетрясением в Персидском заливе и охватил все Двуречье, откуда легенды о нем пришли в Палестину.
Так при своем новом рождении Гильгамеш был вовлечен в самый важный спор, проходивший в западной культуре между естественниками и богословами — спор о сотворении мира. Открытие эпоса подтвердило доводы библейской критики о сотворенности Библии и дало дополнительные аргументы сторонникам дарвинизма. Отслужив свое на этом поприще, история Гильгамеша была передана философам, психологам и поэтам.
Гильгамеш в западной философии и психологии
Эпос о Гильгамеше дошел до западной культуры уже после смерти всех творцов классической немецкой философии. Его не застал даже долгожитель Шопенгауэр, который, несомненно, был бы рад обнаружить очередной образчик восточной мудрости и непременно включил бы его в свои размышления о воле и представлении. С удовольствием познакомился бы с ним и Шеллинг — творец многотомного «Введения в философию мифологии», которому было не суждено прикоснуться к одному из самых ранних и драгоценных мифологических источников. Увы, на долю эпоса досталась уже не классическая метафизика, а психология, выросшая из нее, — психоанализ Фрейда, аналитическая психология Юнга, антропософия Штайнера.
Зигмунд Фрейд высказался по поводу Гильгамеша лишь однажды и в частном письме. 13 октября 1911 года он писал из Вены своему любимому ученику К. Г. Юнгу: «Хотя я не оспариваю интерпретацию Гильгамеша и Эабани как человека и сырой чувственности, мне тем не менее представляется, что такие пары, состоящие из благородной и простонародной части (обычно братья), являются мотивом, проходящим через все легенды и литературы. Последним великим ответвлением этого типа является Дон Кихот с его Санчо Пансой… Из мифологических фигур первые, кто приходит на ум, это Диоскуры (один смертный, другой бессмертный) и многочисленные пары братьев или близнецов типа Ромула и Рема. Один из них всегда слабее другого и раньше умирает. В «Гильгамеше» этот древний мотив пары неравных друг другу братьев служит выражению отношений между человеком и его либидо… Слабейший близнец, умирающий первым, это плацента, или послед — просто потому, что он рождается вместе с ребенком от одной и той же матери». Для подтверждения своей идеи Фрейд ссылается на «Золотую ветвь» Дж. Фрэзера, который пишет, что у многих примитивно живущих народов послед назван словом «брат/сестра» (в зависимости от пола новорожденного){135}.
Вполне возможно, что Карл Густав Юнг принялся изучать немецкий перевод эпоса именно под влиянием письма Фрейда. Уже в 1912 году он многократно обращается к его сюжетам в своем трактате «Символы трансформации». Для Юнга, как и для Фрейда, все герои эпоса служат характеристиками психического состояния самого Гильгамеша. Энкиду он считает желанием Гильгамеша вернуться в детство, подчинившись инстинктам. Хумбаба для него — образ Отца, запирающего инстинкты, Иштар — образ Матери, которая хотела бы вступить с Гильгамешем в инцестуальную связь. Гильгамеш убивает Хумбабу, чтобы преодолеть невротический страх перед Отцом, и отказывает Иштар, чтобы избегнуть кровосмешения. Сам же Гильгамеш, по мнению Юнга, является героем потому, что пытается избежать зависимости от бессознательного. Он настолько самостоятелен в своих поступках, что боги — носители бессознательного — не знают, как его остановить. Что же касается парного существования Гильгамеша и Энкиду, то для Юнга они соотносятся как Эго и Тень, высший и низший человек{136}.
Внешне экстравагантные мнения отцов новой психологии содержат целый ряд глубоких наблюдений, вряд ли расходящихся с замыслом составителей эпоса. Конечно, трудно доказать идею о том, что Энкиду является плацентой Гильгамеша. Согласно тексту они все-таки названные братья. Кроме того, нужно решительно отвергнуть идею по поводу Иштар как матери Гильгамеша. Из списков богов не следует, что Нинсун была ипостасью Инанны или Иштар. И брачное предложение Иштар никоим образом не связано с материнской заботой о герое. Хумбаба также не был для Гильгамеша ни отцом в биологическом смысле, ни Отцом в аспекте психоанализа. Скорее, можно по-юнгиански назвать его Персоной, то есть той частью личности героя, которая связана с демонстрацией своих достоинств коллективу. Однако несомненно, что Энкиду является либидо и Тенью Гильгамеша в том смысле, что он постоянно подзуживает его на какие-то активные и агрессивные действия по отношению к внешнему миру и на протяжении всей первой части (таблицы I–VI) воспринимается как источник любви и войны. Одновременно Энкиду защищает Гильгамеша от того, что Юнг называет «бессознательным» — от экзистенциального холода и от памяти о воле богов. Собственную смертность Гильгамеш может прочувствовать, только потеряв Энкиду.
В те же самые 1910—1920-е годы аккадский эпос заинтересовал и основателя антропософии Рудольфа Штайнера, который в своем трактате «Всемирная история в свете антропософии как фундамент познания человеческого духа» (лекция от 26 декабря 1923 года) попытался дать эзотерическую характеристику его сюжету и героям. Его взгляды представляются современному читателю совершенно экзотическими и не выдерживают никакой критики. Можно привести их только для примера и оставить без комментария: «Эпос называет его Гильгамешем. Мы имеем… дело с личностью, которая сохранила множество особенностей человечества более ранних времен. Но этой личности было ясно, что она имеет как бы двойственную природу, — с одной стороны, духовно-душевную природу, в которую спускаются боги, а с другой стороны — физическо-эфирную, в которую входят физические и эфирные, земные и космические субстанции, — представители человечества ее времени уже стояли перед переходом к следующей ступени человеческой эволюции. Переход этот заключался в следующем: «я»-сознание, которое незадолго перед этим находилось в душевно-духовной части, теперь, если можно так выразиться, погрузилось в физическо-эфирную часть, так что Гильгамеш был одним из тех, которые перестали говорить «я» духовно-душевной части своего существа, той, где они ощущали присутствие богов, а говорили «я» тому, что было в них от земного и эфирного. Это был новый строй души. Но вместе с таким душевным строем, когда «я» спустилось из духа и души и вошло в качестве сознательного «я» в телесное и эфирное, эта личность сохранила еще в себе привычки, принадлежащие к прошлому, и в особенности привычку переживания памяти исключительно в связи с ритмом. Еще она удержала то внутреннее чувство, которое было необходимо, чтобы учиться познавать силы смерти, ибо только силы смерти могут дать человеку то, что приводит его к разумности. Таким образом, исходя из факта, что личность Гильгамеша приводит нас к душе, которая уже прошла через много инкарнаций на Земле и теперь вошла в новую форму человеческого существования, которое я уже описывал, мы находим его у той черты физического существования, которая рождает в нем некую неуверенность. Древняя привычка к завоеваниям и древняя ритмическая память становились неуместными для жизни на Земле. И потому переживания Гильгамеша были исключительно переживаниями переходной эпохи»{137}.
И так далее в том же духе. Тем не менее и в таком фантастическом тексте отыскалось одно верное наблюдение: «Но благодаря сверхчувственному воздействию друга, который в посмертном существовании был еще с ним связан, в Гильгамеше возник внутренний импульс искать в мире путь, на котором он мог бы прийти к переживанию бессмертия души». Нельзя не согласиться с этой мыслью Штайнера. После своей физической смерти Энкиду как бы поселяется внутри Гильгамеша. Его образ и его судьба не дают герою покоя, и через некоторое время умерший Энкиду направляет своего живого друга на поиски бессмертия. Идя через горы Машу и через воды смерти, Гильгамеш рассказывает об Энкиду всем, кого встречает на своем пути во второй части эпоса, — скорпионам, Сидури, Уршанаби и Утнапиштиму. В роли Энкиду выступает сама память о нем, которая подталкивает Гильгамеша сделать следующий шаг на пути познания себя и мира.
Пожалуй, единственной философской попыткой освоения эпоса была книга Рудольфа Паннвица (1881–1969) «Гильгамеш — Сократ: титанизм и гуманизм» (1966). Здесь Паннвиц — тот самый, кто в 1917 году ввел понятие «постмодерн», — делит всю человеческую культуру на два противоположных по устремлениям и ценностям этапа. Титанический этап представлен фигурой Гильгамеша как героя мегалитической эпохи. По мнению философа, Энкиду представляет в эпосе доисторического человека, предшествующего в равной мере и охотникам-собирателям, и первым земледельцам. Его смерть является необходимой стадией на пути развития человечества и человечности. Отказ Гильгамеша вступить в брак с Иштар Паннвиц рассматривает как разрыв со старой матриархальной религией, что способствовало возникновению новой, солярной и титанической в своей основе религии Сверхчеловека. Титанизм хочет добиться бессмертия непосредственно, минуя ритуалы и продолжение рода. И на этом пути он терпит поражение, патетически восклицая: «Человек безнадежно смертен!» Только после этого поражения на смену титанизму приходит гуманизм, и символом его Паннвиц считает Сократа{138}. Нетрудно заметить в рассуждениях Паннвица следы ницшеанской схемы, в которой дионисийская культура противопоставлена аполлонической. С точки зрения Ницше, знай он об аккадском эпосе, Гильгамеш был бы дионисийской фигурой, действия которой основаны на инстинкте и иррациональном мироощущении. Ницшеанской по происхождению была и идея Паннвица о Гильгамеше как Сверхчеловеке.
После Паннвица осмысление аккадского эпоса вновь вернулось в лоно психоанализа. В 1970-х — начале 1990-х годов появляются работы современных фрейдистов и юнгианцев, в которых делаются попытки последовательно придать тексту психологическую мотивацию. При этом сторонники двух психологических школ дают совершенно разные интерпретации одним и тем же эпическим мотивам. Так, для фрейдистов соитие Энкиду с Шамхат означало священный брак с богиней, заместившей его божественную мать Аруру; падающую звезду, которую Гильгамеш видит во сне, они рассматривали как образ отсутствующего (или, возможно, убитого) отца героя, а падающий топор из другого сна восприняли как страх героя быть кастрированным. Юнгианцы, в соответствии со своими представлениями, поняли эпизод с Шамхат как приобщение к высшему виду эроса и акт отлучения от мистической связи Энкиду с животными. Падающую звезду из сна они расшифровали как гомосексуальное влечение Гильгамеша к Энкиду, а падающий топор — как символическое убийство Матери, что означает освобождение сознания от матриц бессознательного в процессе расширения сознания{139}.
Наиболее последовательным юнгианским толкованием аккадского эпоса стала книга Ривки Шерф Клугер «Архетипический смысл Гильгамеша: современный древний герой» (1991). Написанная одной из любимых учениц Юнга, она вобрала в себя опыт всех культурологических и психологических интерпретаций этого произведения. Согласно общей концепции книги эпос о Гильгамеше «демонстрирует в своей внутренней структуре процесс трансформации в коллективное бессознательное — предвосхищение процесса индивидуации»; он также «отражает значимую эпоху в истории религии — время, когда Великая Богиня Иштар терпит поражение от героя, выступающего под эгидой Шамаша». С точки зрения Клугер, молитва Нинсун Шамашу означает просьбу его персональной матери помочь сыну преодолеть архетип Матери и материнского в своем сознании. Поход в кедровый лес и победа над Хумбабой понимаются ею как такое преодоление, после чего происходит переход от матриархального к патриархальному пониманию мира и общества. Равным образом и убийство Небесного Быка Клугер интерпретирует как прощание с материнским миром природы и устремление по новому духовному пути. Сидури она понимает как ипостась Иштар, которая хочет отвлечь героя от устремления к самопознанию. Утнапиштим же предстает для автора книги в роли хранителя ключей от самопознания героя и одновременно проводника в коллективное бессознательное — то есть как юнговский Старец{140}.
Гильгамеш в западной литературе и музыке
В странах Западной Европы аккадский эпос о Гильгамеше с 1910-х годов многократно перелагался и прозаически пересказывался литераторами всех степеней квалификации — от самых талантливых до совершенно бездарных. За более подробной справкой читатель может обратиться к книге Т. Циолковского. Мы же сошлемся только на наиболее известные и почитаемые в России имена.
В 1916 году эпос стал известен великому поэту Р. М. Рильке в пересказе Георга Буркхардта, адаптировавшего для образованных немцев подстрочник А. Унгнада. В письме от 11 декабря Рильке не может скрыть своего восторга: «Гильгамеш грандиозен! Я знаю его по изданию оригинального текста и считаю одним из величайших потрясений, которые можно испытать. Время от времени я рассказываю эту историю то одному, то другому человеку, весь сюжет, и всякий раз вижу изумленных слушателей. Резюме Буркхардта не вполне удачно: оно не передает величие и значимость. Я чувствую, что рассказываю эту историю лучше». Впоследствии он знакомится и с академическим переводом Унгнада, приходя от фрагментов текста в еще больший восторг, чем от пересказа: «Во фрагментах… действительно живет огромное действо, и бытие, и страх… Это эпос страха смерти, который в первобытные времена жил среди людей, для которых разделение смерти и жизни впервые стало определенным и роковым». Вполне возможно, что чтение аккадского эпоса стало тем импульсом, благодаря которому возникли знаменитые «Сонеты к Орфею» (1923) с их описанием томления душ в Подземном мире{141}.
Не исключено, что Герман Гессе ознакомился с переводом или пересказом эпоса все в том же 1916 году. В одном из литературных обзоров этого года он называет историю Гильгамеша «наиболее сильной поэмой из всех, которые я читал на протяжении многих лет»{142}. В эссе «Немного теологии» (1932) мы можем видеть следы этого чтения. Описывая этапы духовного роста личности, Гессе пишет: «Путь вочеловечивания начинается с невинности (с рая, с детства, с безответственного преддверия). Отсюда он ведет в чувство вины, в знание о добре и зле, в требование культуры, морали, религий, человеческих идеалов. У каждого, кто переживает эту стадию серьезно, как дифференцированный индивид, она неотвратимо завершается отчаянием, пониманием того, что осуществление добродетели, полное повиновение, нравственное служение невозможны, что справедливость недостижима, что доброта несбыточна. Это отчаяние ведет или к гибели, или к третьему царству духа»{143}.
К этой схеме писатель еще не раз обратится в своем творчестве. Особенно показательным является роман «Сиддхартха», многие моменты фабулы которого отчетливо воспроизводят мотивы эпоса о Гильгамеше{144}. Дружба Сиддхартхи и Говинды напоминает дружбу Гильгамеша и Энкиду, соединение Сиддхартхи с проституткой Камалой ради приобщения к городской жизни непосредственно выходит из эпизода соблазнения Энкиду блудницей Шамхат, добровольное нищенство друзей и их паломничество к просветленному Будде Гаутаме — не что иное, как паломничество Гильгамеша к Утнапиштиму. На протяжении романа его герой постепенно превращается из брахмана в нищего аскета, из нищего в богача, а из богатства уходит в медитацию. В последней части произведения Сиддхартха передает Говинде свое познание истинной природы вещей, потому что он уже достиг Атмана — вечной, неизменной и высшей сущности человека. Если сравнить эту фабулу с более поздним романом «Игра в бисер», то и там мы увидим следование по маршруту 1916 года: Йозеф Кнехт, Магистр Игры, достигнув совершенства, передает свой опыт ученику и растворяется в Абсолюте. Совсем не случайно в статье 1929 году «Библиотека всемирной литературы» Гессе объединяет эпос о Гильгамеше с Библией и Ведами: «Мы начинаем с древнейших и священнейших свидетельств человеческого духа — с религиозных книг и мифов. Наряду с известной всем нам Библией я открываю нашу библиотеку фрагментом древнеиндийской мудрости, «Ведантой», то есть «концом Вед», в форме избранного из упанишад. Сюда же поставим и подборку из «Речей Будды» и не менее важный «Гильгамеш», родившийся в Вавилоне эпос, — могучую песнь о великом герое, вступившем в единоборство со смертью»{145}. Для него Гильгамеш является одним из героев, через страсти шедших по пути аскетизма к осознанию самого себя и своего пути в мире.
Третьим великим немецким писателем, который использовал фрагменты аккадского эпоса о Гильгамеше в своем творчестве, был Томас Манн. Во второй части трилогии «Иосиф и его братья», названной «Юный Иосиф» (1934), он вводит в повествование некоего пожилого наставника Элиезера, от которого воспитанник узнает многие вавилонские мифы. Впоследствии это позволит ему проводить ассоциации и аналогии к событиям современной ему жизни и понять, что в истории людей уже всё произошло:
«Иосиф понял это рано, когда Хун-Анун и ученый Амуна еще надеялись помочь управляющему, и очень убивался — не только из-за своей привязанности к этому славному человеку, который делал ему добро и чья судьба была ему по сердцу, так как это была тоже судьба «человека горя и радости», судьба Гильгамеша, и взысканного милостями, и побитого, — но также и прежде всего потому, что он, Иосиф, испытывал угрызения совести при виде его страданий и смерти; ибо они были явно подстроены для его, Иосифа, возвышения, и Монткау был жертвой замыслов бога».
«Когда он, отклоняя навязываемое ему праздничное платье, довольно резко сказал ей: «Мне хватит моей одежды и моей рубахи», — он сразу узнал, какая у них идет игра. Нечаянно он ответил ей так же, как Гильгамеш, когда его, из-за его красоты, осаждала Иштар и просила: «Ну, что ж, Гильгамеш, стань супругом моим, подари мне плод свой», — просила, суля ему множество роскошных подарков в том случае, если он исполнит ее желание. Такие узнавания в равной мере успокаивают и пугают. «Вот оно снова!» — говорит себе человек, ощущая основательность, мифическую оправданность, не просто действительность, а истинность того, что с ним происходит, — а это означает успокоение. Но он и ужасается, увидев себя лицедеем, вовлеченным в то зрелище, в тот маскарад, где разыгрывается такая-то и такая-то божественная история, и ему кажется, что все это сон, «Так, так, — думал Иосиф, глядя на бедную Мут. — По сути своей ты распутная дочь Ану, только ты, пожалуй, и сама этого не знаешь. Я буду бранить тебя, я припомню тебе многих твоих возлюбленных, которых ты погубила своей любовью, превратив одного в летучую мышь, другого в пеструю птицу, а третьего в дикого пса, так что его, пастуха стада, прогнали его собственные подпаски, а собаки рвали зубами его шерсть. Со мной случилось бы то же, что с ними, — велит мне сказать моя роль. Почему Гильгамеш это сказал, почему он обидел тебя, так что ты в гневе помчалась к Ану и уговорила его выпустить на строптивца огнедышащего небесного быка? Теперь я знаю почему, ибо в нем я вижу себя, а через себя понимаю его. Он сказал это от досады на твои повелительные ухаживания и обернулся перед тобой девой, защитив себя чистотой от твоих подарков и домогательств, Иштар бородатая»{146}.
В конце первой половины XX столетия было закончено самое известное музыкальное произведение по мотивам аккадского эпоса — оратория Богуслава Мартину «Эпос о Гильгамеше» (1954–1955){147}. Либретто к нему стал английский перевод Р. Кэмпбелл-Томпсона, фрагменты которого перевел на чешский язык Фердинанд Пуйман. Оратория состоит из трех частей: «Гильгамеш» (таблицы I–II), «Смерть Энкиду» (VII–IX) и «Заклинание» (XII). В начале первой части звучит обращенный к богам хоровой плач о притеснении Гильгамешем жителей Урука. Хор просит Аруру помочь Уруку и создать Гильгамешу соперника. Далее идет рассказ о рождении Энкиду, о его соблазнении блудницей и о борьбе героев перед брачным покоем Ишхары. Композитор совершенно опускает содержание таблиц III–VI, в которых говорится о борьбе с Хумбабой и Небесным Быком. Вторая часть оратории начинается с того, что лежащий на одре болезни Энкиду рассказывает своему другу сон, в котором боги приговорили его к смерти. После смерти Энкиду Гильгамеш в отчаянии спрашивает самого себя, не умрет ли он так же, как и его друг. В третьей части Гильгамеш вызывает дух Энкиду и расспрашивает его об участи умерших. Интересно, что пока Энкиду жив, его партию исполняет тенор, но дух Энкиду уже озвучен басом. Что касается Гильгамеша, то на протяжении всей оратории его партию ведет баритон. Мартину совершенно не касается путешествия Гильгамеша к Утнапиштиму и истории с цветком бессмертия. Ему важно зафиксировать во всем эпосе только три момента — плотскую любовь, дружбу и смерть. Ни подвиги героев, ни последующий духовный путь Гильгамеша его не интересуют.
1960-е годы одарили литературу довольно странным произведением, которое оказалось для нашей культуры пророческим. В сборнике Станислава Лема «Абсолютная пустота», задуманном как серия рецензий на ненаписанные книги, есть короткий рассказ-рецензия «Гигамеш» (1961). Некто Патрик Ханнахан, желая превзойти джойсовского «Улисса» в искусстве гипертекстового мышления, написал роман под названием «Гигамеш». Суть романа проста: наемного убийцу по имени G. I. J. Maesh за 36 минут доставляют из тюрьмы к виселице. Но этот эпизод растянут на 395 страниц и снабжен истолкованием, которое вдвое превышает его объем (847 страниц). В течение всего текста жизнь героя связывается с неисчислимым количеством персонажей мировой литературы и истории, а его имя получает множество псевдоэтимологических толкований. Задачей автора стал Пангнозис — вмещение всей суммы знаний в рамки одного имени и одного сюжета. При этом в рассказе Лема есть довольно интересные наблюдения, касающиеся связи между двумя древнейшими эпосами — «Гильгамешем» и «Одиссеей». Воображаемый им Ханнахан пишет: «Что за мысль… — запихнуть, под видом Ирландии, европейский девятнадцатый век в замшелый саркофаг «Одиссеи»! Оригинал Гомера — сам сомнительного качества. Это античный комикс, который воспевает супермена Улисса и имеет свой хеппи-энд. Ex ungue leonem[15]: по выбору образца узнается калибр писателя. Ведь «Одиссея» — плагиат «Гильгамеша», переиначенного на потребу греческой публике. То, что в вавилонском эпосе было трагедией борьбы, увенчанной поражением, греки переделали в живописную авантюрную поездку по Средиземному морю. «Navigare necesse est», «жизнь — это странствие» — тоже мне, великие житейские мудрости. «Одиссея» — плагиат самого худшего разбора, ибо сводит на нет все величие подвига Гильгамеша». Воображаемый критик добавляет: «Надо признать, что в «Гильгамеше», как учит шумерология, и впрямь содержатся мотивы, которыми воспользовался Гомер, например, мотив Одиссея, Цирцеи или Харона, и что это едва ли не самая старая версия трагической онтологии; ее герой, говоря словами Райнера Марии Рильке, сказанными тридцать шесть столетий спустя, «ждет, чтобы высшее начало / Его все чаще побеждало, / Чтобы расти ему в ответ». Человеческая судьба как борьба, неизбежно ведущая к поражению, — таков конечный смысл «Гильгамеша»{148}.
В этих лемовских рассуждениях интересно соположение «Гильгамеша», Гомера и Рильке. Что касается «Гильгамеша» и Гомера, то царь-воин Одиссей, возвращающийся из странствий домой, действительно напоминает царя Урука; Калипсо, которая хочет его удержать подле себя, вполне сопоставима с Иштар; между Хароном и Уршанаби при желании тоже можно найти сходство — оба работают перевозчиками через воды смерти. Во всем остальном оба эпоса кардинально различны, и, разумеется, нет никакого резона говорить о греческом плагиате «Гильгамеша». Совершенно неожиданно здесь привлечение Рильке, как мы уже знаем, читавшего эпос о Гильгамеше и восторгавшегося им. Вполне возможно, что его стихотворение «Созерцание», последняя строфа которого приведена лемовским Критиком, могло быть написано под влиянием эпоса о Гильгамеше.
Далее у Лема начинаются разнообразные спекуляции, связанные с этимологиями имени Гильгамеш. В имени героя могут быть особым образом истолкованы и каждая буква, и каждый слог. Более того, это имя может быть прочитано наоборот, и тогда из Гигамеша получается Шемагиг — слово, созвучное «Шма Исраэл!» («Слушай, Израиль!»). В последней части своей рецензии лемовский Критик утверждает, что Ханнахану, в отличие от Джойса, ассистировали компьютеры, подключенные к Библиотеке Конгресса, и свое вдохновение он черпал из двадцати трех миллионов томов. Потому-де непонятно, войдет ли автор сего мегаопуса на беллетристический ОЛИМП.
Почему же можно утверждать, что лемовский «Гигамеш» стал для наших дней пророческим произведением? На первый взгляд это очевидно. Для современного человека первая часть его имени — «гига» — ассоциируется с гигабайтами информации, получаемой через сеть Интернет. Гигамеш — это совокупность всех знаний об истории людей, об их именах, об их речи. Эта информация свидетельствует о том, что все в этом мире связаны друг с другом, невзирая на тысячелетия и океаны. Гигамеш как Gigapedia уже существует. Но есть в пророчестве Лема и неочевидная сторона — оно предсказывает назад. Современная наука, открывшая тысячи клинописных текстов, столкнулась в настоящее время с невероятным разнообразием интерпретаций имени Гильгамеша, которые давали ему сами вавилоняне и ассирийцы. На протяжении двух тысячелетий имя Гильгамеш могло пониматься как «предок-герой», «отпрыск дерева мес», «могучий юноша», «старик-юноша», «могучий вождь». Оно произносилось как Калгамеш, Килгамеш, Калга-массу, Галгамаш. Имя Гильгамеша писали знаками, которые можно трактовать и как «дерево топором срубил», и даже как «подобный древу равновесия»{149}. Это означает, что уже для современников традиции Гильгамеша имя героя и его деяния рассматривались во всех возможных для месопотамской культуры контекстах, что расширяло герменевтику того времени до уровня современного гипертекста.
И Гильгамеш стал Гигамешем, потому что был задуман таковым.
Глава четвертая ГИЛЬГАМЕШ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Первые переложения
Древней Месопотамии в русской культуре не повезло. Единственным периодом активного интереса к ее истории оказался Серебряный век (1890–1930), совпавший с эпохой научного освоения и популяризации вавилоно-ассирийских находок. Сперва Месопотамией заинтересовались И. А. Бунин, А. А. Кондратьев и старшие символисты (Брюсов, Бальмонт, Волошин), хорошо знавшие экспозиции европейских музеев и читавшие западные переводы клинописных фрагментов. Затем под влиянием великого ассириолога В. К. Шилейко интерес к Месопотамии пробудился у акмеистов (Гумилев, Мандельштам, Ахматова). Последним заинтересовался культурой Месопотамии футурист Хлебников, мало знавший о ней, но угадавший ее своим таинственным чутьем на все культуры мира. Однако то был лишь интерес поэтов, каждый из которых встраивал определенные образы и мотивы, вырванные из исторического контекста культуры, в собственную эстетическую систему. Интереса философов к Месопотамии не было в России никогда. Соловьеву хватило гностицизма и ислама, Флоренский довольствовался древнеегипетской культурой, Бердяев был поглощен ранним христианством, Н. С. Трубецкой интересовался Индией, более ранние мыслители-славянофилы не интересовались результатами раскопок и не имели в руках книг, в какой-либо мере обобщающих достижения месопотамской культуры.
В 1906 году в собрании стихотворений Ивана Бунина появилось весьма странное стихотворение под названием «Потоп. Халдейские мифы». Мы воспроизводим его по собранию сочинений 1915 года:
Когда ковчег был кончен и наполнен, И я, царь Касисадра, Ксисутрос, Зарыл в Сиппаре хартии закона, Раздался с неба голос: «На закате На землю хлынет ливень. Затвори В ковчеге дверь». И вот настало время Войти в ковчег. Со страхом ждал я ночи И в страхе затворил я дверь ковчега, И в страхе поручил свою судьбу Бусуркургалу, кормчему. А утром Поднялся вихрь — и тучи охватили Из края в край всю землю. Роману Гремел среди небес. Нэбо и Сарру Согласно надвигались по долинам И по горам. Нергал дал волю ветру. Нинип наполнил реки, и несли Смерть и погибель Гении. До неба Достигли воды. Свет потух во мраке, И брат не видел брата. Сами боги К вершинам Анну в страхе поднялись И на престолах плакали, и с ними Истара горько плакала. Шесть дней И семь ночей свирепствовали в мире Вихрь, ураган и ветер — наконец, С рассветом дня, смирились. Воды пали, И ливень стих. Я плакал о погибших, Носясь по воле волн, — и предо мною, Как бревна, трупы плавали. Я плакал, Открыв окно и увидавши солнце{150}.О датировке этого фрагмента можно судить по воспоминаниям Веры Муромцевой-Буниной, которая пишет следующее:
«В конце июня Иван Алексеевич получил письмо из Огневки, что заболела мать. Он мгновенно собрался и уехал. <…> Это полугодие дало хороший урожай: более тридцати стихов помечены 1905 годом. Среди них «Сапсан» и «Русская весна» (написаны до известия о смерти сына). Затем наступило молчание, и только весной он снова стал писать стихи. Среди них «Новая весна», «Ольха», «Олень», «Эльбурс» (иранский миф), «Послушник» (грузинская песнь), «Хая-Баш» (мертвая голова), «Тэмджид» (с эпиграфом из Корана), «Тайна» (с эпиграфом из Корана), «Потоп» (халдейский миф), «С острогой», «Мистику», «Стамбул». Видно, что он пристально читал Библию и изучал Коран, вспоминал прошлогоднее путешествие по Кавказу и, конечно, пребывание в Константинополе незабвенной весной 1903 года»{151}.
Таким образом, со слов жены Бунина становится понятно, что сочинение «Потоп. Халдейские мифы» написано весной 1906 года в числе других стихотворений восточного ряда, связанных с посещением Турции (апрель 1903 года) и Кавказа (июнь 1904 года). Несмотря на такую исчерпывающую информацию, дата написания текста таит второй смысловой план, о котором речь впереди.
Бунинское переложение является контаминацией двух текстов — греческого рассказа жреца Беросса о потопе и фрагмента из XI таблицы аккадского эпоса о Гильгамеше. Для того чтобы произошло такое наложение мотивов, нужно, чтобы оба текста цитировались в одном издании. Определить источник бунинского текста не составило особого труда. Существует текстологическая подсказка — имя кормчего, которое только в одной-единственной публикации читалось как Бузуркургал. Эта публикация — статья П. Хаупта «The Cuneiform Account of the Deluge», в которой опубликованы и перевод греческого текста Беросса, и рассказ о потопе из XI таблицы ассирийского эпоса о Гильгамеше{152}. Именно от этой публикации ведут свое родословие все многочисленные английские, немецкие и французские переводы и переложения месопотамского мифа о потопе. Во всех остальных переводах эпоса, сделанных до статьи Хаупта, стоят другие варианты чтения знаков в имени кормчего (например, Buzursadirabi в первой публикации Дж. Смита). Итак, процитируем давно забытый текст, который в начале прошлого столетия через неизвестных пока посредников стал источником вдохновения для Бунина:
«Кронос известил во сне десятого царя Вавилона Ксисутроса или Сисутроса, что с пятнадцатого числа месяца Daesios пройдет большой дождь и все человечество будет уничтожено великим потопом. Он повелел ему похоронить в Сиппаре, городе Солнца, все записи из древности, выбитые на камне, построить корабль, на который он должен взойти со своей семьей и своими ближайшими друзьями, обеспечить себе еду и питье и взять с собой на корабль птиц и четвероногих зверей. Ксисутрос повиновался; он построил корабль 9000 футов длиной и 2000 футов шириной, собрал всё, как было приказано, и взошел на корабль с женой, детьми и ближайшими своими друзьями. Когда наводнение пролилось, а затем сразу же прекратилось, Ксисутрос разослал птиц, дабы увидеть, есть ли где-нибудь на земле суша, освобожденная от воды. Но они не нашли ни пищи, ни места для отдыха и вернулись обратно на корабль. Через несколько дней Ксисутрос послал их во второй раз, и они вернулись с грязью на своих лапках. Но когда он послал их на третий раз, то они уже не вернулись. Тогда Ксисутрос понял, что земля снова становится сухой. Он сделал отверстие в корабле и увидел, что на горе есть место для стоянки судна. Потом он высадился со своей женой, дочерью и кормчим, возвел жертвенник, принес жертву и исчез вместе со всеми, кто высадился с ним. Когда остальные, которые остались на корабле, стали искать его и звали его по имени, то они услышали голос с неба, говорящий им, что они должны вести благочестивую жизнь; что он, по причине его благочестия, был увезен к богам и что его жена, его дочь и его кормчий разделили с ним эту честь. Земля, на которой они были, как им сказали, была Арменией; и им было приказано вернуться отсюда в Вавилон и выкопать писания, погребенные в Сиппаре»{153}.
Для того чтобы благополучно провести отождествление ассирийского фрагмента, достаточно воспользоваться переводом И. М. Дьяконова:
Время назначил мне Шамаш: «Утром хлынет ливень, а ночью Хлебный дождь ты узришь воочью, — Войди на корабль, засмоли его двери». Настало назначенное время: Утром хлынул ливень, а ночью Хлебный дождь я увидел воочью. Я взглянул на лицо погоды — Страшно глядеть на погоду было. Я вошел на корабль, засмолил его двери — За смоление судна корабельщику Пузур-Амурри Чертог я отдал и его богатства. Едва занялось сияние утра, С основанья небес встала черная туча. Адду гремит в ее середине, Шуллат и Ханиш идут перед нею, Идут, гонцы, горой и равниной. Эрагаль вырывает жерди плотины, Идет Нинурта, гать прорывает, Зажгли маяки Ануннаки, Их сияньем они тревожат землю. Из-за Адду цепенеет небо, Что было светлым, — во тьму обратилось, Вся земля раскололась, как чаша. Первый день бушует южный ветер, Быстро налетел, затопляя горы, Словно войною, настигая землю. Не видит один другого; И с небес не видать людей. Боги потопа устрашились, Поднялись, удалились на небо Ану, Прижались, как псы, растянулись снаружи. Иштар кричит, как в муках родов, Госпожа богов, чей прекрасен голос: «Пусть бы тот день обратился в глину, Раз в совете богов я решила злое, Как в совете богов я решила злое, На гибель людей моих войну объявила! Для того ли рожаю я сама человеков, Чтоб, как рыбий народ, наполняли море?» Ануннакийские боги с нею плачут, Боги смирились, пребывают в плаче, Теснятся друг к другу, пересохли их губы. Ходит ветер шесть дней, семь ночей, Потопом буря покрывает землю. При наступлении дня седьмого Буря с потопом войну прекратили, Те, что сражались подобно войску. Успокоилось море, утих ураган — потоп прекратился. Я открыл отдушину — свет упал на лицо мне, Я взглянул на море — тишь настала, И все человечество стало глиной! Плоской, как крыша, сделалась равнина. Я пал на колени, сел и плачу, По лицу моему побежали слезы.Адад (Адду, старое чтение Рамман) — бог дождя и ветра. Нинурта (старое чтение Ниниб) — бог земледелия и войны. Шуллат и Ханиш (старое чтение Небо и Сару) — божества молнии и грома. Эррагаль — эпитет бога чумы и смерти Нергала. Ануннаков — богов-судей Подземного мира — Бунин сравнил с античными гениями. Вместо Анну правильно читать и произносить Ану — имя шумерского бога Неба. Что же касается имени корабельщика, которое у Хаупта прочтено как Бузуркургал, то его можно читать двояко — Пузур-Эллиль или Пузур-Амурри.
Мы видим, что Бунин очень точно для своего времени перевел фрагмент ассирийского эпоса о Гильгамеше. При этом он не знал оригинала, а пользовался переводом с аккадского языка на один из европейских языков, восходящим к английскому переводу Хаупта. Но возникает вопрос: зачем ему понадобилась контаминация двух разных версий мифа? Ответ, как нам сегодня представляется, лежит в русле собственного бунинского мироощущения.
Обратим внимание на то, что перевод древнего текста не содержит элементов высокого штиля и церковнославянизмов. Его стиль можно определить как средний, литературный, не содержащий архаизмов и пафосных выражений (разве что «воды пали»). Анахронизм встречается в тексте лишь единожды — когда переводчик на римский манер называет Ануннаков гениями. Зато хорошо видны повторы, усиливающие основное переживание: в начале текста трижды повторяется существительное «страх», а в конце текста три раза повторяется глагол «плакать». Делается это для того, чтобы читатель ощутил не повествование, а растянутую эмоцию, в начале которой ужас ожидания катастрофы, а в конце — плач по ее жертвам. Переводчик не называет халдейские мифы, которые объединены в его тексте. В данном случае он не считает необходимым посвящать читателя в конкретную восточную историю. Разумеется, Бунин знал, что взятый им ассирийский (в его выражении — халдейский) отрывок относится к эпосу об Издубаре (так тогда читали имя Гильгамеш). Знал он и о халдее греческого времени Бероссе, который был творцом собственного варианта легенды о потопе. Вполне возможно, что отрывок и был назван им халдейским из-за национальности Беросса. Но при этом сюжет эпоса, личность Издубара и тому подобные историко-филологические детали не были для него важны. Не Издубара и не Касисадру выводил он героями своего перевода. Истинными героями текста были потоп и противостоящая ему хартия закона. Поэтому усекается плач матери Иштар по погубленному ею народу — сюжет, явно не входящий в основную тему переводчика. Поэтому не включаются в текст и такие яркие образы, как возвращение всех утонувших людей в глину — то есть в свое первоначальное состояние.
Халдейский жрец Беросс был необходим Бунину своей концепцией, а именно — мотивом сохранения священных слов от потопа и последующего послепотопного восстановления Слова в мире. Ксисутрос, он же Касисадра (правильно Зиусудра и Атрахасис), зарывает в городе Солнца всю мудрость прошедших веков, а после своего спасения мир начинает воссоздаваться именно благодаря этой мудрости. Слово для Бунина означает также Закон, что роднит такое толкование с гераклитовским Логосом. Слово-Закон записано на хартиях, следовательно, его можно сберечь. Чтобы понять, насколько дорог был для Бунина такой сюжет, достаточно вспомнить его стихотворение 1915 года «Слово»:
Молчат гробницы, мумии и кости, — Лишь слову жизнь дана: Из древней тьмы, на мировом погосте, Звучат лишь Письмена. И нет у нас иного достоянья! Умейте же беречь Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, Наш дар бессмертный — речь.Вряд ли может возникнуть сомнение в бероссовском источнике этого поэтического высказывания (вторым источником была глава «Письмена» из «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло). Поэт думает о сохранении священного Слова-Логоса «в дни злобы и страданья», что для Бунина равнозначно потопу{154}. Таким образом объясняется первая часть бунинского сочинения. Что же касается второго — то есть перевода ассирийского фрагмента — на сей счет есть исчерпывающее авторское объяснение, данное уже в самом конце жизни в «Воспоминаниях»:
«Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы мои писательские воспоминания. Не пришлось бы мне пережить и то, что так нераздельно с ними: 1905 год, потом первую мировую войну, вслед за нею 17-ый год и его продолжение, Ленина, Сталина, Гитлера… Как не позавидовать нашему праотцу Ною! Всего один потоп выпал на долю ему. И какой прочный, уютный, теплый ковчег был у него и какое богатое продовольствие: целых семь пар чистых и две пары нечистых, а все-таки очень съедобных тварей. И вестник мира, благоденствия, голубь с оливковой ветвью в клюве, не обманул его, — не то что нынешние голуби («товарища» Пикассо). И отлично сошла его высадка на Арарате, и прекрасно закусил он и выпил и заснул сном праведника, пригретый ясным солнцем, на первозданно чистом воздухе новой вселенской весны, в мире, лишенном всей допотопной скверны, — не то что наш мир, возвратившийся к допотопному! Вышла, правда, у Ноя нехорошая история с сыном Хамом. Да ведь на то и был он Хам. А главное: ведь на весь мир был тогда лишь один, лишь единственный Хам. А теперь?»{155}
Из этих мемуаров становится ясно, что Бунин и есть «царь Касисадра, Ксисутрос», только переживший не один, а множество катаклизмов своего века. Теперь понятен исторический контекст бунинского перевода. Бунин воспринимал события 1905 года как потоп. И если молодой Бунин надеялся справиться с потопом революции при помощи слова, которое до времени зарыто в городе Солнца, то пожилой Бунин уже на слово не надеялся, поскольку был убежден в возвращении людей к допотопному состоянию, а 1905 год воспринимал как всего лишь первый потоп из числа отпущенных ему жизнью.
Следующим после Бунина взялся за тему Гильгамеша символист младшего поколения Александр Кондратьев (1876–1967). В своем первом стихотворном сборнике, подписанном инициалами А. К., он представил множество стихотворений на темы язычества всех народов мира — от вавилонян и финикийцев до восточных славян. Особняком в поэтическом наследии Кондратьева стоит переложение нескольких фрагментов из аккадского эпоса о Гильгамеше. Насколько можно судить, источником этого переложения послужил английский беллетризованный перевод эпоса, выполненный Л. Хэмилтоном в 1901 году. Среди фрагментов есть «Гнев богини Истар» — переложение известных тогда фрагментов таблицы VI эпоса{156}. Герои сюжета Гильгамеш и Энкиду называются у Кондратьева устаревшими именами Издубар и Эабани. Начало и конец фрагмента не совпадают с содержанием оригинального текста: у Хэмилтона и Кондратьева Истар после поражения, полученного от Издубара, сходит в Подземный мир.
В царство мрака, печали и тления Я, богиня, схожу, темноокая. За смертельную боль оскорбления Отомстить порешила жестоко я.На самом же деле туда отправляется Эабани-Энкиду, приговоренный Собранием богов к смерти за убийство Хумбабы и Небесного Быка. Почему же в двух переложениях произошло такое искажение исходного сюжета? Дело в том, что традиция соединения двух историй — победы над Быком Иштар и нисхождения Иштар в мир мертвых — идет от первого издателя эпоса Дж. Смита, который попросту не смог найти окончание таблицы и решил, что последние известные ему строки о Подземном мире имеют отношение к Иштар, а не к Энкиду. Для того чтобы найти правильное решение этой проблемы, нужно было обнаружить конец шестой и начало седьмой таблиц. Это произошло уже после смерти Смита. Но литераторы, перелагавшие эпос, не читали новейшей ассириологической периодики и потому продолжали посылать Иштар в мир мертвых после победы Гильгамеша и Энкиду над Быком.
Кондратьевское переложение весьма далеко от подлинника и порой напоминает какую-то историю из славянской древности. Все эти «ракиты», «осоки», «дремучие леса» были бы более уместны в переложении былины. Если же говорить о самой фабуле, то отказ Гильгамеша от брака с Иштар объясняется у Кондратьева любовью героя… к животным (причем как женского, так и мужского пола).
И ответил: «Богиня прекрасная, Не манит меня тело округлое Иль отрава лобзания страстная, И не ведаю сладкой тревоги я, Если пляшут девицы стыдливые: Мне лишь серны милы круторогие, Лишь тигрицы да львы черногривые. Отойди же, дочь Ану всесильного, И не мучь себя страстию знойною: Среди Ура, мужами обильного, Ты найдешь себе пару достойную».Неясно, вытесняется ли его любовная страсть инстинктом охотника или же Гильгамеш в самом деле готов утолять плотское желание со зверями. Вряд ли и сам поэт смог бы ответить на этот вопрос. Услыхав такой отказ, Иштар просит отца создать крылатого быка и покарать обидчика суровыми пытками. Однако герои убивают создание Ану (у Кондратьева победитель — только один Гильгамеш). Проиграв Гильгамешу, Иштар уходит в мир мертвых для того, чтобы проклясть своего победителя и погубить его всевозможными болезнями. Таким образом, у Кондратьева Иштар мстит герою дважды — сперва при помощи Быка, а затем в царстве Иркаллы.
Внешность Истар в переложении Кондратьева заслуживает особого внимания. «Обвитая легкою дымкою, озаренная лунным сиянием» — явно блоковские реминисценции, что-то вроде «дыша духами и туманами». У Истар округлое тело, а вся она напоминает лань. Ее поцелуи названы небесными, но ее ласки по-земному страстны. В этих эпитетах проступают следы русского ориентализма, с описаниями восточных красавиц с гибкостью лани и черными глазами, обещающими страсть («нега во взоре»).
Гильгамеш в трактате Мережковского
Единственная в русской культуре Серебряного века теоретическая работа о месопотамской культуре появляется уже после конца Российской империи, в эмиграции, в 1923 году. Это третья часть трактата Д. С. Мережковского (1866–1941) «Тайна трех. Египет-Вавилон», целиком посвященная вавилонской традиции в контексте мирового духовного развития{157}. Следует сказать, что книга Мережковского написана в период острого кризиса всей европейской цивилизации и представляет собой, по слову автора, письмо в бутылке, адресованное пассажиром тонущего корабля кому-нибудь, кто найдет его и прочтет.
Жанр трактата уместнее всего сравнить с культурологическими книгами В. В. Розанова, посвященными Египту, или с современными книгами Г. Гачева о национальных образах мира. Это серия эссе, написанных афористично, образно, с привлечением большого числа источников из самых разных областей философского и научного знания. Как и Розанов, Мережковский не делает различий между модными в его время мистико-философскими концепциями (Блаватская, Штейнер), античными сведениями о Востоке и современной ему научной литературой по ориенталистике. В результате получается мистико-научно-философский синтез, представляющий в выгодном свете собственную историософскую концепцию автора. Об этой концепции уже написано немало — это религия Третьего Завета, которую Мережковский и Зинаида Гиппиус пытались актуализировать еще в период жизни в Петербурге. Теперь же, в эмиграции, получив доступ к собраниям берлинских библиотек, Мережковский пытается теоретически обосновать ее и придать ей статус учения об истории мировой культуры.
Суть концепции Мережковского в том, что сначала существовала высокоразвитая культура первого человечества — Атлантида, которая была смыта водами всемирного потопа. На смену ей пришла культура второго человечества и религия Отца, воплощенная в устройстве государств Египта, Вавилона и Израиля. Эти государства были сметены огненным потопом римских войн. С появлением христианства наступила эра религии Сына, которая постепенно должна перерасти в религию Духа. Религию Духа Мережковский считает материнской, мужеженской по сути, ее законы послужат человечеству Третьим Заветом и спасут его от гибели: «В первом царстве Отца, Ветхом Завете, открылась власть Божья, как истина; во втором царстве Сына, Новом Завете, открывается истина, как любовь; в третьем и последнем царстве Духа, в грядущем Завете, откроется любовь, как свобода. И в этом последнем царстве произнесено и услышано будет последнее, никем еще не произнесенное и не услышанное имя Господа Грядущего: Освободитель»{158}. Гибель же придет от десакрализации пола и от появления Грядущего Хама. Поскольку Хам уже пришел в образе большевизма, это означает распространение хамства по всему миру. Следовательно, нужно думать о восстановлении материнского начала мира уже сейчас.
Образ Гильгамеша вписан у Мережковского в образ Вавилона и вавилонской культуры{159}. О Вавилоне он пишет:
«Вавилон возлюбил страдание, потому что понял, — о, конечно, не умом, а сердцем, — что «страдание — единственный источник познания» — источник свободы, источник личности. Любовь к страданию, «страсть к страданию» — душа Вавилона».
«Ночь светлее дня для Вавилона; лунный бог, Син, выше, чем Шамаш, бог солнечный».
«Бог для Египта — свет, а для Вавилона — свет и тьма, или, точнее, борение тьмы и света, их противоположность..»
«Для Вавилона божество наивысшее — не солнце и даже не луна, а светило самое ночное, малое, тайное — Звезда… Существо вавилонских богов — звездное».
«Наблюдая движение светил, вавилоняне первые поняли, что не бессмысленный случай правит миром, а закон… Основа точного знания, понятие закона родилось в вавилонской звездной мудрости».
«Египет не молится, он только благодарит и славословит Бога, как будто все уже есть; а Вавилон понял, что и все — ничто перед Богом; нищету и наготу свою увидел, — и родилась молитва».
«Ни греха, ни покаяния не знает Египет; Вавилон познал грех и покаялся. Египет стоит, Вавилон падает ниц перед Богом. Сухи очи Египта, не плакали; очи Вавилона влажны от слез; первый заплакал он сам и плакать научил других, постиг блаженство слез».
«Египет: в начале мира — тишина, Вавилон — борьба».
«Понял Вавилон… динамику времени, движение мира от начала к концу».
«Не бессмертия души ищет Вавилон, а воскресения плоти: тайна воскресная для Вавилона, так же, как для Египта, есть тайна животная, растительная, звездная — тайна всей космической плоти».
«Напряжение двух противоположных начал есть Божественная сущность мира. Вот почему в вавилонских изваяниях богов, людей и животных напрягаются таким страшным напряжением, как бы окаменелою судорогою, переплетенные, перекрученные, как морские канаты, исполинские жилы, мышцы и мускулы… Тут за явлением силы физической — явление воли метафизической — душа Вавилона: вечно борется она, труждается, «восхищает усилием царство небесное» или земное».
От Вавилона автор «Тайны трех» переходит к образу Гильгамеша. По Мережковскому, два основных образа вавилонской культуры — мистериальный образ Таммуза и мифологический образ Гильгамеша. Таммуз и Осирис — две тени Сына (Христа), воплотившегося только в Израиле. Оба связаны с Матерью-Женой и воскресают потому, что Мать оживляет их своим нисхождением в Преисподнюю. Гильгамеш — предтеча Фауста, понимающий, что знание не дает живому вечной жизни. Но он не принимает брачного предложения Иштар и тем самым отказывается от Матери, а ведь только она способна воскресить умершего своей любовью. Поэтому Таммуз через Мать воскресает, а Гильгамеш через отказ от Матери умирает.
«Древо Познания не есть Древо Жизни: кто вкусит от первого, не вкусив от второго, смертью умрет. Несоединимость двух порядков, бытия и мышления, вот источник Гильгамешевой-Фаустовой трагедии»{160}.
«От Гильгамеша до Фауста, все они таковы, искатели вечной жизни, не возлюбившие души своей даже до смерти, обуянные «страстью к страданию».
«Следует сказание о потопе — гибели первого человечества. Что сердцу Гильгамеша смутно брезжило, то здесь уже освещено почти ясным светом сознания: смерть человека — смерть человечества, и воскресение человека — воскресение человечества».
«Нищим ушел он и нищим вернулся. Но, тайны жизни не узнав, хочет узнать по крайней мере тайну смерти».
«Путь Гильгамеша — путь всего Вавилона-Ассура… Путь его — путь всего человечества».
«Вечной жизни живых ищет Гильгамеш и не находит; воскресения мертвых ищет Таммуз и находит.
Человек умер — умерло человечество: таков смысл Гильгамешева мифа, а смысл мистерии Таммузовой: человек воскрес — воскресло человечество».
«Связан пол с личностью на обоих полюсах: восстановление, исполнение личности есть воскресение; но личность без пола — тайна Одного без тайны Двух — не может исполниться. Вот почему не находит Гильгамеш вечной жизни: воскресительница мертвых, muballitat miti, — есть богиня Иштар, а ее-то он и отверг».
Гипотеза Гильгамеша-Фауста интуитивно красива и на типологическом уровне убедительна, но несостоятельна в своей фактической части. В первой части эпоса (I–VI) Гильгамеш не искал познания, он хотел славы и стремился к воинским подвигам. Во второй части (VII–X), утратив друга, Гильгамеш стал искать вечной жизни тела. И только в конце своего пути он приобщился к познанию событий эпохи потопа (XI). Его дорога пролегла от жизни к познанию. Поэтому вряд ли его путь можно сравнить с путем Фауста, который, напротив, шел от познания к жизни. Гипотеза о бессмертии, получаемом через богиню, глубока и оригинальна. В самом деле, во множестве гимнов и надписей шумерского и аккадского времени говорится о том, как простой человек (Думузи или Саргон) стал царем после любви с Иштар{161}, или о том, как царь (Нарам-Син, Шульги, Шу-Син) стал богом после священного брака с богиней{162}. Иштар в ипостаси Гулы действительно считалась воскресительницей мертвых. Однако с точки зрения фабулы текста Гильгамеш отказывает Иштар, потому что он боится разделить судьбу остальных ее мужей, которым Иштар уготовила гибель или превращение{163}.
Повлиял ли факт отказа от брака с Иштар на последующую утрату Гильгамешем бессмертия — этого из самого эпоса установить не удается. Что же касается культурологических идей Мережковского, то они заслуживают серьезного рассмотрения. В самом деле, для месопотамской культуры культ Луны гораздо значимее солнечного культа, а боги Солнца и их города пребывают на периферии общественного внимания. Верно и то, что для шумеро-аккадской литературы борьба света и тьмы имеет большее значение, чем для Египта, а с борьбы верха и низа даже начинается космогония. Для древней Месопотамии характерны признания людей в своих грехах и проступках и глубокое раскаяние. Месопотамским текстам вообще присущ высокий эмоциональный градус, они изобилуют проявлениями крайних чувств — в амплитуде от гнева до посыпания главы пеплом, от сильного плача до столь же сильной и буйной радости. Мережковский чрезвычайно проницателен в обнаружении у вавилонян чувства закона. Не будь в самой культуре этой уверенности в том, что всё существует по правилам, — не понадобилась бы и фигура эпического Гильгамеша, стремящегося нарушить установленные законы. Наконец, основная идея этого раздела книги — противопоставление религии Таммуза религии Гильгамеша — настолько перспективна, что ей следует уделить особое внимание в конце этой книги.
Первые переводы
С 1919 года начинается история переводов эпоса на русский язык. Первым на такой подвиг отважился Николай Гумилев (1886–1921) — поэт, храбрый офицер, покоритель пространств и охотник на львов, чем-то похожий на самого Гильгамеша. Он воспользовался французским переводом П. Дорма и консультациями своего друга, ассириолога и поэта В. К. Шилейко. Перевод Гумилева вышел с предисловием Шилейко, которое заканчивалось его же переводом первых строк новоассирийского Пролога. Сам Шилейко в эти же годы переводил эпос с аккадского подлинника по изданию П. Хаупта. К сожалению, полный текст этого перевода не сохранился. К настоящему времени известен только полный перевод таблицы VI. В статьях Шилейко 1920-х годов приводятся фрагменты перевода таблиц V и IX. В ЦГАЛИ обнаружена неопубликованная статья «Паломничество Гильгамеша», в которой есть перевод разговора Гильгамеша и Сидури из старовавилонской «Таблицы Мейсснера»{164}. Все остальные материалы пропали еще в конце 1920-х годов, о чем вдова Шилейко В. К. Андреева сообщает в переписке с молодым в ту пору сотрудником Эрмитажа И. М. Дьяконовым (черновик письма от 23 августа 1940 года):
«В Вашем письме Вы спрашиваете, не сохранилось ли в бумагах Владимира Казимировича переводов других текстов Гильгамеша. К сожалению, нет, хотя Владимиром Казимировичем были переведены все части Гильгамеша полностью, и им об этом эпосе было подготовлено большое исследование. Но по воле рока все материалы по этой его работе пропали на его ленинградской квартире во время пребывания в Москве. Пропажа эта была тяжелым ударом моему покойному мужу, хотя он и имел обыкновение говорить, что горевать не о чем, так как то, что не удалось завершить ему, все равно сделают другие. И он, наверное, порадовался бы, найдя в Вашем лице себе продолжателя»{165}.
Совсем недавно сотрудниками Отдела рукописей ИРЛ И было обнаружено издание перевода Н. С. Гумилева с пометками рукой А. А. Ахматовой, сделанными по старой орфографии. Изучив эти пометки, можно прийти к выводу, что они сделаны по тексту перевода В. К. Шилейко и содержат главным образом лингвистическую и стилистическую правку. Там же на первой странице имеется автограф самого Шилейко, который просит Ахматову выправить перевод Гумилева в соответствии с текстом его собственного перевода{166}.
История гумилевского перевода известна нам по нескольким источникам, важнейшим из которых является дневник П. Н. Лукницкого. В записи от 19 апреля 1925 года Лукницкий пишет со слов А. А. Ахматовой: «Еще перед войной у Лозинского Шилейко читал отрывки из ассиро-вавилонского эпоса «Гильгамеш». Это побудило Гумилева заняться поэтическим переводом поэмы. Вскоре он бросил работу, хотя сделал по шилейковскому подстрочнику около ста строк. Теперь, в 18 году, взявшись вторично за перевод, он просидел над ним все лето и перевел все заново. По свидетельству Шилейко, ни разу не обратился к нему за консультацией или содействием. Шилейко увидел перевод уже напечатанным»{167}. Перевод Гумилева вышел в Петрограде в издательстве Гржебина в марте 1919 года. Уже 21 марта переводчик дарит книжку А. А. Блоку с надписью: «Дорогому Александру Александровичу Блоку — последнему лирику первый эпос. Искренно его Н. Гумилёв». Второй значительный инскрипт сделан для М. Л. Лозинского 17 мая 1919 года в стихотворной форме:
Над сим Гильгамешем трудились Три мастера, равных друг другу, Был первым Син-Лики-Унинни, Вторым был Владимир Шилейко, Михал Леонидыч Лозинский Был третьим. А я недостойный Один на обложку попал.Несмотря на Гражданскую войну и катастрофический быт петроградской интеллигенции, перевод был замечен и отмечен критикой тех лет. В газете «Жизнь искусства» одна за другой появились рецензии Н. О. Лернера и В. Б. Шкловского. В частности, Лернер в номере от 17–18 мая 1919 года писал: «Поэма о национальном великом герое-полубоге Вавилона Гильгамеше полностью и самостоятельно появляется на русском языке впервые. До сих пор она была доступна только специалистам, а в учебниках и руководствах приводились выдержки из нее и давались пересказы (напр., у Б. А. Тураева в «Истории древнего Востока» или в «Древнем Вавилоне» Н. М. Никольского). Между тем каждая буква этого произведения, одного из высочайших созданий человеческого духа, дорога и значительна. Н. Гумилёв не ассириолог, но пользовался очень хорошим французским изданием ассиро-вавилонских текстов и указаниями нашего молодого, но уже создавшего себе имя в науке ассириолога В. К. Шилейко, который предпослал поэме необходимое и ценное небольшое введение. <…> Н. Гумилёв, один из лучших наших поэтов и вместе с тем осторожный, вдумчивый, владеющий научным методом переводчик, как объясняет сам, «стремится создать для каждой строки подобие ритма». Это очень удачный прием: поэме нужно было сохранить ее поэтический облик и, насколько это допускается условиями нашего языка и присущей ему ритмики, представить именно подобие, сохраняющее экспрессивную силу подлинника. До сих пор у нас были только наивные стихотворные «переложения» А. К. «Из ассиро-вавилонского эпоса», где богиня Иштар в стиле романсов Вяльцевой воспевала «отраву лобзания страстного», «вся сгорая любовным желанием»{168}.
30 ноября 1919 года Гумилев подготовил к изданию второй, исправленный вариант перевода. Но ему не суждено было выйти в свет. К сожалению, и все последующие работы Шилейко по переводу и интерпретации эпоса не удостоились внимания читателей 1920-х годов. Эпоха не располагала к медленному чтению восточных текстов, и продолжение работы над эпосом было отложено в России почти на полвека.
В 1961 году вышел в свет перевод эпоса, сделанный по изданию Р. Кэмпбелл-Томпсона (1930) выдающимся востоковедом Игорем Михайловичем Дьяконовым. Из шилейковского перевода Дьяконов мог знать только перевод таблицы VI и опубликованные кусочки из Пролога, таблиц V и IX. Транслитерация, которой он пользовался, была гораздо совершеннее хауптовской и включала большее число фрагментов. Поэтому перевод Дьяконова был совершенно самостоятельным.
Интересно сравнить три перевода новоассирийского Пролога.
Гумилев:
О том, кто все видел до края вселенной, Кто скрытое ведал, кто все постиг, Испытывал судьбы земли и неба, Глубины познанья всех мудрецов. Неизвестное знал он, разгадывал тайны, О днях до потопа принес нам весть, Ходил он далеко, и устал, и вернулся, И выбил на камне свои труды.Шилейко:
Об увидавшем всё до края мира, о проницавшем всё, постигшем всё. Он прочел совокупно все писанья, глубину премудрости всех книгочётов; потаенное видел, сокровенное знал и принес он весть о днях до потопа. Далеким путем он ходил — но устал и вернулся и записал на камне весь свой труд.Оба перевода находятся в некоторой зависимости от транслитерации и перевода, которые содержатся в издании П. Дорма (1907). Вот как звучит французский перевод:
Celui qui a tout vu…. du pays, Qui a tout connu, tout… … et ensemble…… Le secret de la sagesse de tout chose… Le mystere, il Га vu, et la chose cashde… Il a apportS la connaissance de ce qui etait avant le deluge. Une route lointaine il a parcouru, et il a peind et… … sur une stele toute la fatigue. (184–185)В первой строке друзья-поэты добавляют слово «край», во второй — синонимы глагола «познавать». Для разбитой третьей строки и полуразбитой четвертой Шилейко придумывает анахроничный ветхозаветный контекст «писания-книгочеты», а Гумилев неожиданно пишет об «испытании судеб неба и земли», даже не догадываясь, насколько изобретенное им выражение близко к подлинному шумерскому «исполнение планов неба и земли». Пятую строку оба оставляют почти неизменной, прибавляя только глагол «знать», в шестой не меняют вообще ничего, в седьмой подставляют на конце точный по смыслу глагол «вернулся». В начале восьмой строки Шилейко ставит глагол «записал» — несколько анахроничный здесь, поскольку речь идет о выбивании надписи на твердом материале, а не о записи наблюдений в записную книжку. Гумилев оказывается точнее. Но в перспективе выигрывает Шилейко, потому что, как впоследствии оказалось, в оригинале стоит именно глагол «начертать». Интересно присутствовать при работе двух поэтов, один из которых знает оригинал, а другой — только западный подстрочник. Оба они пошли дальше Дорма. Точными по смыслу оказались интерпретации шести строк, неверными — всего двух.
Теперь посмотрим на перевод Дьяконова: О все видавшем до края мира, О познавшем моря, перешедшем все горы, О врагов покорившем вместе с другом, О постигшем премудрость, о все проницавшем: Сокровенное видел он, тайное ведал, Принес нам весть о днях до потопа, В дальний путь ходил, но устал и смирился, Рассказ о трудах на камне высек… (137)Дьяконов, как уже сказано выше, работал с новейшим для его времени изданием Р. Кэмпбелл-Томпсона, вышедшим в год смерти Шилейко. В примечаниях к академическому изданию своего перевода он ссылается на большое количество иноязычных переводов, созданных в 1940—1950-х годах (Ф. М. Т. Бёль, А. Шотт, В. фон Зоден, Э. Спей-зер, Л. Матоуш), но при этом нигде не обращается к старому переводу П. Дорма. Следовательно, его перевод имеет другие возможности и другой набор ассоциаций.
Первую строчку Дьяконов переводит аналогично Шилейко и Матоушу, заменив только вид действия с совершенного на несовершенный («увидавшем — видавшем»). Первое полустишие второй строки домыслено в соответствии с домыслами фон Зодена и Матоуша, домысел второго полустишия самостоятелен. Третья строка домыслена полностью (кроме слова «вместе») и самостоятельно. В четвертой строке оставлено только слово «премудрость», однако сама строка переведена не вполне точно (буквально: «совокупность всей премудрости он изучил»). В пятой оставлен весь перевод Шилейко с заменой «знал» на «ведал». В начале шестой убран союз «и» и прибавлено местоимение «нам», отсутствующее в подлиннике. В седьмой строке глагол «вернулся» заменен на «смирился» (более точный для перевода supsuh, «захотел отдохнуть»). В восьмой строке опять пострадало начальное «и» Шилейко, отсутствующее в подлиннике, но при этом добавилось также отсутствующее слово «рассказ», придуманное переводчиком для фразы, буквально означающей «начертал на стеле свой труд». Итак, из 47 слов перевода Шилейко Дьяконов взял 27 слов, при этом улучшив текст предшественника в понимании четвертой и седьмой строк. Однако это улучшение было связано не с интуицией переводчика, а с возможностями новой транслитерации клинописного текста, вышедшей после смерти Шилейко. При этом оказались домыслены строки вторая (целиком), третья (пять слов из шести), четвертая (четыре слова из шести) и восьмая (одно слово из шести).
Шилейко и Дьяконов были разделены расстоянием в полвека. Они пользовались разными версиями транслитерации текста, поэтому у них выходили весьма различные интерпретации отдельных строк. Сталкиваясь с фрагментированным текстом, переводчики по-разному выходили из положения. Для Шилейко характерен интуитивный поиск наиболее логичных для данной ситуации слов, но при этом он способен навязать тексту анахроничный смысл. Дьяконов в трудных случаях прибегает к откровенному художественному домыслу, но не пытается строить гипотезы, которые не согласованы с новейшей транслитерацией текста.
То же самое расстояние в полвека повлияло и на суждения обоих переводчиков о своем предмете. Согласно предисловию Шилейко к переводу Гумилева, «…вавилоняне оставили миру два больших эпических произведения: космогонию Епйта elis, «Когда вверху», и героическую поэму о Гильгамеше, возглавляемую своими начальными словами Sа nagba imuru, «Об увидавшем все». Вокруг первой из этих поэм группируется весь божественный эпос, вокруг второй — героические мифы Этаны, Адапы и Хасисатры. <…> Первые семь таблиц содержат как бы Илиаду эпоса, пять последних — ее Одиссею. Деление на 12 таблиц возникло из технических условий. Подлинные «песни» поэмы вводились постоянным стихом mimmu serf ina namari, «Лишь только заря показалась [на небе]», соответствующим гомеровскому: «Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос». Рассказ, следовательно, велся по дням, как в Одиссее, с многодневными промежутками между событиями отдельных песен»{169}. В статье «Паломничество Гильгамеша» Шилейко считает главного героя пилигримом: «Узнавший ужас смерти, Гильгамеш бежит через пустыню на крайний запад, к знающему тайну вечной жизни праотцу Утанапишти. Он минует охраняемые скорпионами ворота Солнца, проходит область совершенной тьмы и наконец приходит в сад богов, к сидящей на престоле моря нимфе Сабиту. Научаемый богиней, пилигрим отыскивает Сурсунабу, перевозчика Утанапишти, в его ладье переплывает воды смерти и не на радость достигает вожделенной цели. Скорбный путь героя составляет содержание девятой и десятой книг поэмы о Гильгамеше в ее окончательной редакции, составленной для Куюнджикской библиотеки по спискам заклинателя Син-лики-унинни»{170}. А в статье «Хождение Иштар» он называет аккадский эпос поэмой «о подвигах и трудах царя и страстотерпца Гильгамеша»{171}.
Итак, в понимании Шилейко аккадская поэма о Гильгамеше является не столько героическим эпосом, сколько религиозным преданием о паломничестве страстотерпца-пилигрима к старцу, знающему тайну вечной жизни (кстати, таково же и мнение Мережковского). И вокруг этой истории впоследствии группируются все ассиро-вавилонские предания о героях, которых Шилейко, должно быть, также считает паломниками.
Совершенно иначе рассуждает через полвека И. М. Дьяконов. С его точки зрения, «действительным содержанием поэмы является тема судьбы человека, разрешаемая не в мифологическом, а в литературно-философском плане. <…> Существенно то, что поэма о Гильгамеше — довольно редкий на Древнем Востоке образец светского литературного произведения, не имеющего прямого отношения к культу»{172}. Дьяконов углубляет эту мысль, сравнивая аккадский эпос с аттической трагедией рока: «Пессимизм поэмы — если его можно назвать пессимизмом — не равносилен примирению с бессилием человека. Конечно, Древний Восток не знал атеизма, ни даже философского скептицизма, и победа природы над человеком в поэме о Гильгамеше представляется победой порядка, установленного богами. Но правыми оказываются все-таки не боги, установившие этот несправедливый порядок, а человек, который не может ему покориться и идет в своей борьбе до конца»{173}.
Итак, если для человека мистических 1910-х годов путь Гильгамеша в чем-то подобен паломничеству страстотерпца к святому старцу, то для человека атеистических 1960-х он выглядит как трагедия борьбы героя, противопоставившего себя богам. И тот и другой в чем-то правы. Шилейко прав в том, что путешествие Гильгамеша к Утнапиштиму действительно является древнейшим литературным прообразом средневековых сюжетов о пилигримах. Дьяконов же прав в понимании всего эпического сюжета как прототрагедии, невольно подводя читателя к идее Ясперса об идейном родстве всех выдающихся произведений «осевого времени». Однако следует иметь в виду, что авторы песен о Гильгамеше не читали греческих авторов и не знали такого жанра как трагедия, а эпос никогда не ставился на сцене. Тем более не знали они о разделении литературных текстов на светские и духовные. С другой стороны, им точно так же были неведомы христианские сказания о страстях Христовых и о паломничестве к святым местам.
Эта частичная правота и частичная неправота Шилейко и Дьяконова снимаются теоретическим выводом индолога Я. В. Василькова, который при исследовании эпоса «Махабхарата» обнаружил материал трех различных исторических слоев: архаического, героического и религиозно-дидактического. Согласно Василькову, архаический эпос характеризуется тем, что он очень сильно вовлечен в традиционную систему мифов и ритуалов. Герои архаического эпоса — божественного происхождения; они как бы повторяют на земле те действия, которые их отцы-боги совершили при сотворении мира. Общий взгляд на мир архаического эпоса проникнут оптимизмом; фоном эпического действия и его моделью обычно служит оптимистически окрашенный миф первотворения. Классический, или героический эпос имеет дело с героем, который не выполняет волю богов, а один перед лицом всемогущей судьбы осуществляет свой выбор: действовать во исполнение велений Судьбы или восстать против нее — и погибнуть. Мировоззрение классической героики характеризуется крушением архаических патриархальных ценностей и глубоким пессимизмом и фатализмом, верой во всесилие безличной и непостижимой Судьбы. Мифологический фон эпического действия теперь часто образуется уже не мифом о сотворении мира, а мифом о конце мира, то есть мифом эсхатологическим. Поздний, или религиозно-дидактический пласт эпоса характеризуется соответствием идей повествования религиозной догматике или религиозно-философским представлениям «осевого времени»{174}.
Классификация Василькова подтверждает выводы и Шилейко, и Дьяконова. В эпосе о Гильгамеше можно видеть элементы как героического (таблицы I–VI), так и религиозно-дидактического текста (таблицы VII–XII). Но Васильков, в отличие от двух предыдущих авторов, не забывает о самом первом, архаическом слое древнего эпоса. Применительно к эпосу о Гильгамеше оказывается, что такой слой лежит в основе всех пяти шумерских песен и аккадских двенадцати таблиц и Гильгамеш соотнесен во всех этих произведениях с культовым календарем и его ритуалами. Впрочем, для того, чтобы понять это, нужно было прожить еще полвека и увидеть новые публикации клинописных текстов, которых не знали ни Шилейко, ни Дьяконов.
Гbльгамеш у Шкловского и Проппа
От серьезных и ответственных рассуждений переводчиков перейдем к мыслям более безответственным. Таковые случались у литературоведов и фольклористов. Я очень люблю рассуждения Виктора Борисовича Шкловского о Гильгамеше. Они часто неточны фактически, но удивительно оригинальны и свежи. Однако всегда был соблазн узнать, почему же они такие неточные. Шкловский не знал никаких языков, кроме русского, а запомнить сюжет со слов Шилейко не смог бы: память у него была не бог весть какая. Значит, он должен был пользоваться чужими неточными пересказами и эти пересказы смешивать между собой. Тогда получится именно то, что получалось у него. Вот один пример из книги «О теории прозы»:
«В бесконечно давней книге «Гильгамеш» у героя умирает друг. Говорят, что он может победить смерть, если он не будет замечать времени; ему подают хлеб, но он обещался не есть. Когда он приходит в себя, то видит, что рядом с ним лежат почерствевшие, позеленевшие хлебы. И мы понимаем, что время не может быть остановлено. Время не исчезает в искусстве, но оно неуправляемо. Оно вечно в своем сознании»{175}.
Ассириолог видит, что здесь смешаны две истории. Во-первых, это история Гильгамеша в таблице XI аккадского эпоса, когда Утнапиштим устраивает ему испытание: хочешь стать бессмертным — попробуй не спать семь дней и ночей (срок, который длился потоп). Во-вторых, это история Адапы, который отказывался есть хлеб и пить воду богов и в результате лишился бессмертия. В-третьих, это вновь история Гильгамеша, которому показывают позеленевшие хлебы, что свидетельствует о недельном его сне.
Спрашивается: откуда взялась эта пестрая смесь? Скорее всего, из книги Владимира Яковлевича Проппа «Морфология волшебной сказки» (1946). Вот эти места у Проппа:
«Что испытание сном отнюдь не случайное явление, видно еще по эпосу о Гильгамеше. Здесь герой Гильгамеш ищет Ут-Напиштима, чтобы получить от него бессмертие (аналогия к живой воде нашей сказки). Ут-Напиштим — такой же испытатель и даритель, какой имеется в сказках. Он предлагает герою не спать шесть дней и семь ночей. Но Гильгамеш, усталый от далекого пути, засыпает. Однако жена Ут-Напиштима его жалеет и будит его в тот момент, когда он засыпает (Jensen 46). Грессман прибавляет: «Тогда ее муж предлагает ей испечь для Гильгамеша хлеба, вероятно, на дорогу. Следует довольно загадочная сцена печения хлеба, которому, как кажется, приписывалась какая-то магическая сила» (Gressmann 56)»{176}.
«Нечто подобное мы имеем и в Вавилоне. На второй таблице эпоса о Гильгамеше Эабани рассказывает сон о том, как он спустился или был унесен в подземное царство: «Спустись со мной, спустись со мной в жилище тьмы, в обиталище Иркаллы, в жилище, из которого, войдя, не возвращаются… в место, жители которого не знают ответа». Подобно птицам, они одеты «опереньем». Далее неясно, а затем следует угощение: «Aпy и Эллил предлагают ему жареное мясо (может быть, отвар). Лепешки они предлагают, дают холодный напиток, воду из мехов» (Gressmann 42)»{177}.
У Проппа смешаны между собой совершенно разнородные факты, которые он вычитал у двоих немецких ассириологов. Оба фрагмента представляют собой иллюстрации к тому тезису, что Баба-яга есть проводник в мир мертвых и прежде чем туда попасть, нужно пройти различные виды инициации, в том числе и пищевую. Теперь частности. Если говорить о первом фрагменте, то печение хлеба не имеет магической силы, а хлеб служит только указанием на время сна Гильгамеша. Что же до второго фрагмента, то в начале его идет пересказ сна Энкиду из седьмой, а не из второй таблицы аккадского эпоса. А вот разговор про Ану и Энлиля (здесь Aпy и Эллил), предлагающих герою лепешки и воду, — отрывок из другого вавилонского произведения, а именно из мифа об Адапе{178}.
Дальше следует домысел самого Шкловского: у Проппа не сказано, что герой отказывается от предложенной еды. Напротив, он-то говорит о вкушении еды богов как приобщении к миру мертвых. Но об отказе подумал сам Шкловский, тем самым интуитивно придя к возможности истории про Адапу. В отличие от Грессмана и Проппа у Шкловского героем, отказывающимся от хлеба, является уже не Энкиду, а сам Гильгамеш. Сперва он видит хлебы свежими, а когда просыпается — они испортились. Но он их не вкусил. Это означает, что время, задержанное в нем самом на момент сна, не остановилось во внешнем мире. Ты спишь — время идет, но твое сознание времени придает ему образ вечности.
Вот так работали наши классики. Ошибка на ошибке, источники из вторых рук (а у Шкловского — из третьих), даже пересказ неверен — что уж там говорить о содержании, которого оба не знали. Проппу сюжет с хлебами понадобился для обоснования функций Бабы-яги, Шкловскому — для рассуждений о природе искусства. Напротив, немцы, которых цитирует Пропп, хорошо знали сюжет аккадского Гильгамеша, поскольку читали его в подлиннике. Но мифологический подход сделал свое дело, и испытание героя временем они восприняли как пищевую инициацию.
И вся эта чехарда с сюжетами эпоса завершается в русской литературе строками Анны Ахматовой — супруги Гумилева и Шилейко, слушательницы и переписчицы двух первых переводов «Гильгамеша». Двумя безответственными строками, в которых Гильгамеш всплывает из памяти как знак давно ушедшей эпохи. Они стали эпиграфами к Заключению этой книги.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гильгамеш ты, Геракл, Гесер…
А. АхматоваИ Троя не пала, и жив Забани…
А. АхматоваМы завершаем путешествие в мир Гильгамеша. Как сказал Даниэль Ольбрыхский по поводу Гамлета в исполнении Высоцкого, «Гамлет Высоцкого после Шекспира пережил еще несколько адских столетий на земле». В еще большей степени можно сказать, что почти за шесть тысяч лет своей жизни в человеческой памяти Гильгамеш прожил десятки адских столетий в разных уголках нашей планеты. За это время он научился говорить на множестве языков, был то воином, то царем, то пилигримом, узнал, что такое теория эволюции, библеистика, литературоведение и психоанализ.
Что же можно сказать в итоге нашего странствия по жизни и судьбе Гильгамеша? Многое прояснилось, но многое пока остается неясным. Мы знаем, что первое упоминание о «Бильгамесе, избраннике Солнца» датируется концом XXVII века, когда создавались архаические таблички из Ура, а веком позже он уже обожествлен. Бильгамес был плодом священного брака, поскольку матерью его во всех источниках считалась богиня Нинсун. Происхождение от богини давало ему основания для мыслей о бессмертии и о полном равенстве богам. Имя жены или жен Бильгамеса неизвестно, зато известно имя его сына Ур-Нунгаля (или Урлугаля), ставшего следующим эном Урука после смерти отца. После своего обожествления Бильгамес до XXII века почитался как покровитель кладбищ и поминальных мест. Не так уж мало сведений, и получены они из очень ранних источников.
Насколько нам известно, внедрение Бильгамеса в политическую идеологию произошло только в эпоху Гудеа (XXII век). Сам этот правитель Лагаша называл своей матерью богиню и именовал себя сыном Нинсун. Вероятно, он тоже был отпрыском священного брака, потому и сделал Бильгамеса покровителем своей династии. В эпоху III династии Ура появляется гимн О царя Шульги (2093–2046), который позволяет нам датировать две из пяти шумерских песен о Бильгамесе — о победе над Кишем и о походе на Хуваву — временем не позднее XXI века. Царям Ура Бильгамес нужен для обоснования их претензий на централизованное государство, включавшее и Киш, и восточные земли. В это же время или чуть позже в Ниппуре учреждаются спортивные игры, посвященные Бильгамесу, которые приходятся на пятый месяц местного календаря. Ниппурский календарь в начале II тысячелетия до н. э. распространяется на всю территорию Южной Месопотамии, поэтому его праздники становятся общенародными. Тогда же создаются еще три песни на шумерском языке, в каждой из которых содержится упоминание Бильгамесова «праздника духов». Игры в честь Бильгамеса были частью поминального ритуала, их герой воспринимался как экзорцист, изгонявший злых духов и помогавший миру живых демонстрировать свое превосходство над мертвыми.
То, что произошло затем, мы понимаем значительно хуже. До конца непонятно, для чего понадобилось в одну и ту же эпоху создавать совершенно различные тексты об одном герое на двух разных языках. Неясно, какова была политическая причина появления на свет старовавилонской версии аккадского эпоса о Гильгамеше. То ли его авторы пытались возвеличить Урук и только что восстановленные его стены, то ли это была установка на создание общегосударственного мифа, исходящая от правителей Исина. Вполне возможно, что Гильгамеш должен был в определенной мере составить конкуренцию Саргону и его потомкам из династии Аккада — могучим, но нравственно падшим миродержцам, которые, в отличие от урукского царя, так и не пришли от гордыни к смирению.
Совершенно непонятно, какой должна была стать первоначальная композиция текста. Но ясно, что конечный маршрут шумерской и аккадской версий был один и тот же, поскольку в шумерском тексте о смерти Бильгамеса уже упомянуты путешествие к Зиусудре и рассказ о потопе. Значит, сама история сложилась уже в начале Старовавилонского периода, в эпоху царей Исина. Больше ничего сказать нельзя.
Новоассирийская версия эпоса, обязанная своей жизнью Набузукупкене и его ученикам, складывается в конце VIII века до н. э. При сопоставлении сюжетов двенадцати таблиц с обрядами двенадцати месяцев календаря мы видим почти идеально проведенный замысел ассирийских астрологов, который, по-видимому, заключался в том, чтобы превратить Гильгамеша из героя игр пятого месяца в солярного героя, совершающего путешествие по всем двенадцати стоянкам солнечного зодиака.
Пока Гильгамеш был героем только месопотамской традиции, о нем писали как о смертном человеке, пожелавшем невозможного. Но во всех последующих древних и средневековых традициях — еврейской, греческой, сирийской, арабской — его стали изображать как сверхчеловека (титана, исполина). Гильгамеша скрещивали с Александром Македонским, с пророком Моисеем, называли то Гильгамосом, то Комбабосом, то Булукией. Из всех приключившихся с ним историй для будущего осталась лишь одна — о том, как он достиг источника жизни и прикоснулся к бессмертию. Впрочем, для авторов аккадского эпоса эта история тоже была важнейшей.
Очнувшись в Европе Издубаром, Гильгамеш, не проживший здесь Средневековья и Возрождения, не узнавший Гёте, Канта и Шеллинга, сразу окунулся в мир позднего романтизма и народившегося от него иррационализма. От Штайнера он узнал, что прожил много воплощений на Земле (что в принципе верно, если говорить о самом образе нашего героя в мировой культуре). От Фрейда — что боялся кастрации и мечтал овладеть своей матерью. От Юнга и Гессе — что его путь к Утнапиштиму был дорогой к самопознанию и к коллективному бессознательному. От Паннвица — что он титан и предшествует Сократу. От Клугер — что участвует в конфликте богини Любви и бога Солнца. Наконец, Лем открыл главное в западном образе Гильгамеша — его гигапедичность, гипертекстовость и кросскультурность. Гильгамеш — это Гигамеш — то есть весь путь человечества на Земле. По отношению к нему все тексты мира — это плагиат. В современной Европе Гильгамеш стал брендом. Он растиражирован в сотнях романов, поэм, музыкальных произведений, спектаклей, кинофильмов, комиксов, ритуальных драм и ролевых игр.
В 2000 году перед культурным центром ассирийской общины (Gilgamesh Cultural Centre) в Сиднейском университете Австралии был установлен памятник Гильгамешу. Его создатель Льюис Батрос изобразил легендарного героя по образцу новоассирийского рельефа из Хорсабада. Монумент был изготовлен и установлен на деньги ассирийских общин Европы и Австралии. Так шумерский эн Бильгамес получил еще одну неожиданную для себя роль — стал символом, объединяющим разрозненные сообщества ассирийцев всего мира.
А что же Россия? В общем, ничего. Множество переложений и переводов, то поэтических, то строго научных, но при этом безо всякой философии предмета. От России высказался только Мережковский, но он сказал очень важные слова. Этот деятель Серебряного века, менявший личины не реже Гильгамеша, то поэт, то писатель, то философ, подчеркнул антагонизм Гильгамеша и Думузи-Таммуза. Думузи слаб, он всего лишь росток, падший в землю. В смерти своей он преображается и воскресает колосом. Гильгамеш не таков. Он хочет не воскреснуть, а не умереть. Гильгамеш против преображения, против мистерии. Он проходит свой путь по кругу вместе с Солнцем, но думает, что совершает некий линейный путь вперед. И в этом его трагедия. Вспоминается евангельское: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Ин. 12: 23–25).
Для того чтобы воскреснуть, нужно сперва пасть и умереть. Что же такое этот конфликт Гильгамеша и Думузи, если не конфликт технократических чаяний современного человечества с религиозной верой немногих в нем? Не умирать и не воскресать, а жить вечно — к этому призывают создатели технологий и новомодных таблеток от старения. Жить вечно без усилий, за одно лишь материальное вознаграждение эскулапа.
Но древность неожиданно ставит этому желанию прочный заслон. Думузи — то ли дитя, то ли росток, что он против плотской наполненности Гильгамеша? Пусть Думузи слегка отойдет в сторону. И тогда мы увидим, что буквально каждый конфликт эпоса вопиет к современности. Убиение Хумбабы, мирно живущего в своем кедровом лесу, не есть ли убийство самой природы ради подчинения ее жестокой воле человека? Сегодня мы вправе понимать этот эпизод как первую экологическую декларацию разумного человечества. А встреча с Сидури? Не является ли она напоминанием о том, что человек есть тело, но он всегда стремится быть выше тела? Не отвергать материальное, но и не поклоняться ему — вот что видит в этом монологе современное мышление. Наконец, главный конфликт и диалог эпоса — Гильгамеш и Утнапиштим, конфликт эгоизма и альтруизма. Гильгамеш любил свою душу и губил тварей живого мира, Утнапиштим — дед Мазай древности — вводил их на корабль и спасал. Гильгамеш хочет вечной жизни ради самого себя, своей волей, своей охотой. Утнапиштим не сам. Он получает весть от богов: «Разрушь свой дом — построй судно, презри богатство — спасай свою жизнь». Но он не получает от богов приказания спасать все живые существа. Его скорбь о мире — от него самого. Поэтому Утнапиштим сам спасен и одарен бессмертием.
Гильгамеш — полубог, сверхчеловек. Но Утнапиштим — какое-то иное существо. Утнапиштим — может быть, новая религия человечества, угаданная древними. Он делает двойную работу, нагружая Гильгамеша памятью о прошлом и изменяя его представление о смысле жизни. Мораль эпоса о Гильгамеше звучит как парадокс: ты не станешь жить вечно, если захочешь спастись сам за счет других. Этого не позволят тебе сделать природа, твое тело и развитое коллективной памятью сознание. Бессмертие возможно только тогда, когда ты спасаешь мир в самом себе. И тут опять выходит на первый план Думузи. Единственная возможность человечества сохраниться — преображение, дающее право на воскресение. Не бывает вечной жизни без падшего в землю зерна.
Пока мы люди и читаем древний эпос, биография Гильгамеша продолжается.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Смерть Бильгамеса{179} (реконструкция фрагментов и перевод с шумерского В. В. Емельянова)
Ниппур, сегмент А
1. Герой лежит, подняться не может,
2…лежит, подняться не может,
3. Обладающий статью героя… лежит, подняться не может,
4…лежит, подняться не может,
5. Изгнавший вражду… лежит, подняться не может,
6. Самец… лежит, подняться не может,
7. Достигший совершенства в борьбе и атлетике лежит, подняться не может,
8…лежит, подняться не может,
9. Эн Кулаба лежит, подняться не может,
10. Тот, кому сужден ясный взор, лежит, подняться не может,
11. Разоритель стран лежит, подняться не может,
12. Покоритель гор лежит, подняться не может!
13. На одре судьбы он лежит, подняться не может!
14. Ох, в опочивальне он лежит, подняться не может!
15. Не сесть ему, не встать ему — горько причитать ему!
16. Не есть ему, не пить ему — горько причитать ему!
17. Крепки засовы Намтара[16] — ему не подняться!
18. Подобно рыбе, схваченной сетью, он опутан недугом!
19. Подобно газели, попавшей в силок, он на ложе схвачен!
20. Намтар руки не имеет, ноги не имеет, а человека в ночи хватает,
21. Намтар…
Сегмент В
3. В Небе священная первая жертва…
4. 6 дней он болеет…
5. Подобно смоле, пот на коже его проступает,
6. Больной Бильгамес…
7. Урук, Кулаб…
8. Слова, сказанные в Стране…
9. Когда эн Бильгамес…
10. На одре судьбы лежит…
11. Царь заснул…
12. В его сне Ан…
13. Собрание (богов…)
Метуран, сегмент F
1…
2…
3. Когда молодой эн, эн Бильгамес
4. На ложе судьбы лежал,
5…
6…
7. Когда в предвечном месте перед Собранием богов
8. Эн Бильгамес предстал,
9. Они сказали по поводу Бильгамеса:
10. «Что касается тебя, то все пути, что есть, ты обошел,
11. Можжевельник — дерево одинокое — из гор вынес,
12. Хуваву в лесу его убил,
13. Стелы на вечные времена, на постоянные ME, навсегда,
14. В домах богов ты установил,
15. Зиусудры в жилище его достиг,
16. ME Шумера, навсегда утраченные,
17. Советы, обряды в Страну вернул,
18. Обряды омовения рук, омовения уст… в порядок привел…»
6 строк разбиты.
25. Совет Энлиля богу Энки был дан,
26. Энки ответил Ану и Энлилю:
27. «С тех дней, с давних дней,
28. С тех ночей, с давних ночей,
29. С тех лет, с давних лет,
30. Когда Собрание потопом все смело,
31. Семя человечества погубило,
32. Среди вас лишь я один оставил в живых,
33. Зиусудру — имя человечества — оставил в живых!
34. Тогда жизнью Небес, жизнью Земли поклялись мы,
35. Что ни один человек больше бессмертен не будет…
36. Теперь же смотрите на Бильгамеса —
37. Не избежит ли он (смерти) из-за своей матери?»
38. «Комендантом Подземного мира да будет! Первым из духов да будет,
39. Суд судит, решения выносит!
40. Пусть слово его так же весомо, как слово Нингишзиды и Думузи![17]»
41. Тогда молодой эн Бильгамес
42. Опечалился, как каждый человек перед концом, стал скорбен сердцем.
Ниппур, сегмент Е
4. Сисиг, сын Уту,
5. В Подземном мире, месте мрака, свет ему установит,
6. Человечество, все, кто именем назван,
7. Статую его на вечные времена создадут,
8. Юноши-молодцы дверной косяк, как при появлении месяца, изготовят,
9. Перед ней в борьбе и атлетике будут соревноваться.
10. В месяц Ненегар, праздник духов,
11. Без него перед ними свет не установят.
12. «Великая Гора Энлиль, отец богов,
13.0 Бильгамес, сон твой если разгадать…
14. Бильгамес, имя твое для царственности назвал, для вечной жизни не назвал.
15. Не печалься,
16. Не скорби, не сетуй!
17. В чем проклятье человеческого рода — скажу тебе,
18. Для чего перерезают пуповину — скажу тебе.
19. Мрачный день человека тебя ожидает,
20. Одинокий приют человека тебя ожидает,
21. Потоп беспощадный тебя ожидает,
22. Битва безысходная тебя ожидает,
23. Борьба неравная тебя ожидает,
24. Схватка безвыходная тебя ожидает.
25. Не ходи в Большой Город[18] с разъяренным сердцем!»
Метуран, сегмент F
63. Ступай в то место, где Ануннаки, великие боги, восседают перед поминальными дарами,
64. Где лежат эны, лежат лагары,
65. Лежат лумахи, лежат ниндингиры,
66. Где лежат умастители, носившие льняные одежды,
67. Где лежат ниндингиры, носившие…[19],
68. Туда, где отец твой, дед твой,
69. Мать твоя, бабушка твоя,
70. Твой драгоценный друг и товарищ,
71. Друг Энкиду, юноша-спутник,
72. Все энси и лугали, кого можно найти в Подземном мире,
73. Туда, где лежат полководцы армий,
74. Туда, где лежат предводители войска.
Разбито 5 строк.
80. Старейшины твоего города к тебе выйдут —
81. Горевать и сетовать ты не должен!
82. Теперь ты воссядешь среди Ануннаков,
83. Будешь причтен к богам великим…
(Начиная со строки 90 несколько раз употребляется слово «сон», далее идет повторение предыдущих строк, из чего можно заключить, что Бильгамес проснулся и теперь всё сбылось наяву: он оказался перед судом богов.)
Вторая версия из Ниппура
1. Его любимая жена, его любимый сын,
2. Его любимая жена, младшая жена, его малютки,
3. Музыканты его, чашники его,
4. Любимые брадобреи его…
5. Любимые охранники дворца его,
6. Любимые слуги его —
7. В стенах священных Урука они полегли в своей скорби!
8. Бильгамес, сын Нинсумун,
9. Эрешкигаль дар принес,
10. Намтару дар принес,
11. Димпикуга удивил,
12. Нети рацион его выдал,
13. Нингишзиде и Думузи рационы выдал,
14. Энки и Нинки, Энмулю и Нинмуль,
15. Эндукугу и Ниндукуг,
16. Эниндашуруму и Ниндашурум,
17. Энмуутулю и Нинмешаре —
18. Матерям-отцам Энлиля[20],
19. Шульпаэ[21], эну жертвенного стола,
20. Сумукану[22], Нинхурсаг[23],
21. Ануннакам Священного Холма,
22. Нунгалям Священного Холма[24],
23. Умершим энам, умершим лагарам,
24. Умершим лумахам, умершим ниндингирам,
25. Умершим умастителям, одетым в льняные одежды…
26. Всем дары он принес.
Метуран, сегмент Н
7. Его бог Энки, вокруг поводив,
8. На разгадку сна глаза его поднял.
9. Сон его Урлугаль разгадал, никто больше не разгадал.
10. Эн в городе своем узнал о подъеме,
11. Глашатаи на все страны в рога вострубили:
12. «Урук, поднимайся! Евфрат открылся!
13. Кулаб, поднимайся! Вода Евфрата выходит!
14. Урук! Подъем ее — потоп!
15. Кулаб! Подъем ее — облако вставшее!»
16. Половина первого месяца не прошла,
17. Не то на пятый, не то на десятый день
18. Евфрат открылся, высокие воды вышли,
19. Уту посмотрел на то с восхищеньем.
20. Когда отошло половодье Евфрата,
21. Его могилу возвели из камня,
22. Ограду ее возвели из камня,
23. Дверь ее возвели из камня,
24. Замок ее — камень прочный,
25. Запор ее — камень прочный,
26. Крыша ее из золота сделана…
Метуран, сегмент К
(Кто эту гробницу захочет разрушить —)
2. Пусть имя его с пылью смешают,
3. Пусть эн Бильгамес
4. Корень его исторгнет, сердце его разобьет!
5. Все люди, кто именем назван,
6. Кто статуи свои на века делает. —
7. В доме богов их откладывайте!
8. Имя их произнесенное пусть не забудется!
9. Аруру, великая сестра Энлиля,
10. Пусть им для этого потомство дарует!
11. Статуи их для будущих дней сделаны, в Стране помянуты!
12. Эрешкигаль[25], мать Ниназу, — хвала тебе хороша!
Ассирийский заговор, обращенный к предкам (I тысячелетие до н. э., перевод с аккадского В. В. Емельянова){180}
1. О вы, духи моей семьи, обитатели могил
2. Моего отца, моего деда, моей матери, моей бабушки, моего брата, моей сестры,
3. Моей семьи, моего рода, моего племени,
4. Все спящие в Преисподней! Я принесу вам поминальную жертву,
5. Возолью вам воду, о вас позабочусь,
6. Прославлю вас, честь воздам вам.
7. Ныне предстаньте пред Шамашем (и) Гильгамешем,
8. Суд мой судите, решение примите.
9. Все зло, что велико в моем теле, моей плоти, моих мышцах,
10. Верните Намтару, советнику Преисподней.
11. Пусть Нингишзида, насельник трона Широкой Земли, зорко за ним смотрит,
12. Пусть Виду, главный страж ворот Преисподней, закроет пред ним ворота.
13. Схватите его и спустите в Страну без Возврата.
14. Я — ваш раб — да буду здрав и благополучен,
15. Вашим именем от колдовства очищусь,
16. Дабы по трубочкам лить для вас прохладную воду.
17. Исцелите меня, чтобы я мог воспевать вас.
А. Кондратьев. Издубар (цикл стихотворений){181}
I
Песня о Хумбабе
Исцарапав в отчаянье лица, Через темный таинственный лес Тихо женщин идет вереница; Их послала Эреха[26] столица К Издубару, любимцу небес. И дойдя до жилища героя, На колени упали оне. И на звуки их плача и воя Он явился и слушал их, стоя На высокой и крепкой стене. И воззвали к властителю жены: «О, владыка всесильный, внемли: Наши стоны — отчаянья стоны; Со слезами просить обороны Мы смиренно к тебе притекли. О, властитель, мы робки и слабы; Мы устали в неравной борьбе. И твоя только сила могла бы Защитить нас от козней Хумбабы. Он — достойный противник тебе… Если ты и могуч и бесстрашен, То иди все на солнца восход. Во дворце, среди множества башен, Драгоценной тиарой украшен, Кровожадный Хумбаба живет. Кедры с соснами кроют отроги Отдаленных таинственных гор; И Хумбаба построил чертоги Там, где прежде великие боги Населяли задумчивый бор. Он всевышним богам неугоден, И не чтит он богини Истар… Издубар, ты могуч и свободен, И твой пламенный дух благороден… — Покарай же его, Издубар! Во главе копьеносцев Элама, Разливая убийства и грех, Не щадя ни лачуги, ни храма, Злой Хумбаба пытался упрямо Взять богами любимый Эрех. За собой оставляя руины, Разрушенье неся и пожар, Беспощаднее грозной лавины Шли на приступ Хумбабы дружины. Но Эрех защитила Истар… И, вернувшись в Элам свой нагорный, Козни новые строит он там. Сердцем злобный и духом упорный, Он мужей обрек смерти позорной, Женщин в плен уведет он в Элам. На горах, среди чащи дремучей, Где бессмертные боги живут, Где ручей серебрится певучий, Злой Хумбаба рукою могучей Себе выстроил тайный приют. Красной медью блистает палата. На помосте из мраморных плит Виден трон среди волн аромата, Весь клыками украшен богато, А на троне Хумбаба сидит. Непрестанно над ним опахало Отгоняет докучливых мух, И Хумбаба внимает устало, Как мелодия флейт и кимвала Ему тешит изнеженный слух. Вкруг тирана танцуют рабыни. Возле трона два тигра лежат. Он же, полон безмерной гордыни, Мнит, что нет ему в мире святыни, Мнит, что нет его силе преград. — Заступись же, любимый богами, И Хумбабу на смерть порази! Пусть, убитый твоими руками, Он накормит собак под стенами Своих башен в зловонной грязи!» И в ответ, как рыкание львицы, Речь героя летит по рядам. «Возвестите на стогнах столицы: Завтра утром, при блеске денницы, Я отправлюсь к Хумбабе в Элам». 1905II
Хеабани
О, Аруру, я чадо твое! Я твой глиняный ком — Хеабани. Ты, о Мать, мне дала бытие, Бросив наземь из длани. Мирно в чаще лесов я живу. Дружны звери и гады со мною. Вместе с козами ем я траву, В тень скрываюсь от зною. Птицы песню поют мне свою; Рек журчанью я тихих внимаю. Вместе с ланями воду я пью, С ними вместе играю… О, Аруру, вчера я в кусту Видел новую тварь полевую… Эту самку зовут Ухату[27]. К ней влеченье я чую. Нет ни рог у нее, как мои, Ни копыт нет, ни шерсти на теле. Долго с ней мы глазами змеи Друг на друга глядели… Ухату эта нравится мне. Нынче ночью со мной забавлялась Она новой игрой при луне И так сладко смеялась… «Хеабани, — сказала она, Обвивая руками мне шею, — Я бела, весела и стройна. Хочешь, буду твоею? Мне пушистый твой нравится мех И улыбка смешная на лике. О, отправимся вместе в Эрех К Издубару-владыке! Там жилища бессмертных стоят, Есть Иштары там храм златотронной; Там нас встретит в тени колоннад Издубар благосклонный. Там базарная площадь полна; Там грохочут, спеша, колесницы…» «У людей, — говорила она, — Нет славнее столицы…» И звала туда вместе идти, Гладя пальцами нежно мне шкуру, Я пойду вслед за нею… Прости, Всеблагая Аруру!III
Гнев богини Истар
В царство мрака, печали и тления Я, богиня, схожу, темноокая. За смертельную боль оскорбления Отомстить порешила жестоко я. Полюбила владыку я славного, — Издубара, героя могучего: Мужа нет ни в борьбе ему равного, Ни в охоте средь леса дремучего. И обвитая легкою дымкою, Озаренная лунным сиянием, Я спустилась к нему невидимкою, Вся сгорая любовным желанием. На поляне, поросшей осокою, Он стоял под ракитой ветвистою И, проникнутый думой глубокою, Любовался луной серебристою. И к нему подступила неслышно я И коснулась плеча загорелого. Всколыхнулася грудь моя пышная От желанья дотоле несмелого… «— Издубар! Как орел между тучами Лань на темя скалы обнаженное Умыкает когтями могучими, Ты умчал мое сердце влюбленное! Будь мне мужем! Супругою верною Отрасль Ану возьми ты премудрого, И подругой я буду примерною Издубара, бойца чернокудрого». Обратил он лицо свое смуглое И ответил: «Богиня прекрасная, Не манит меня тело округлое Иль отрава лобзания страстная, И не ведаю сладкой тревоги я, Если пляшут девицы стыдливые: Мне лишь серны милы круторогие, Лишь тигрицы да львы черногривые. Отойди же, дочь Ану всесильного, И не мучь себя страстию знойною: Среди Ура, мужами обильного, Ты найдешь себе пару достойную. Иль в Эрехе, средь края прекрасного, Края песен, тебе посвященного, Ты отыщешь певца сладкогласного, В твои ясные очи влюбленного. Иль в Калахе, где пальма зеленая Наклонилась над светлыми струями, Ты забудешь о мне, утомленная Сеннаарских купцов поцелуями…» И отпрянула я, оскорбленная Этой дерзостью мужа надменного, И умчалась как лань, уязвленная Жалом гибельным гада презренного, На небесную кровлю высокую, И взмолилась пред Ану властителем: «Защити твою дочь темноокую, Будь суровым обидчику мстителем! Он отверг поцелуи небесные, Мои ласки отринул он страстные, — Пусть же неги объятия тесные Заменят ему пытки ужасные!» И услышал мое он моление И ответил: — «Дитя мое милое, Издубар за твое оскорбление Будет пожран бесславной могилою». И быка сотворил он крылатого, И вдохнул в него силу могучую. И направил он зверя рогатого На героя сквозь чащу дремучую. Но сразила быка разъяренного Издубарова палица бранная. Рухнул зверь. Изо лба раздробленного Кровь рекой заструилась багряная. И над трупом стоял без движения Князь Эреха нагим изваянием… Было чудно лица выражение, Посребренного лунным сиянием… Я надела корону двурогую, Где сверкают рубины кровавые, И пустилась тернистой дорогою, С сердцем, полным смертельной отравою, Я спущуся в пределы печальные, В подземелия смерти постылые, Где мерцают огни погребальные И скитаются тени унылые. В царстве мрака, печали и тления Я предстану пред грозным Иркаллою, Что сидит в золотом облачении Рядом с гордой своей Нинкагаллою, Я скажу ему: «Местью могучею Изощри твою силу державную И бедой покарай неминучею Издубара гордыню тщеславную! Пусть дыханье болезни тлетворное Напоит его тело заразою, И, клеймо налагая позорное, Поразит его лютой проказою. Изнывая бессильно в проклятиях, Пусть он вспомнит в палящих страданиях Об Истар оскорбленной объятиях. Об Истар оскорбленной признаниях!.. В области мрака, печали и тления Я, богиня, схожу знойноокая: За смертельную боль оскорбления Отомстить порешила жестоко я. 1905IV
Плач Издубара
Злой осою ужаленный, Ты лежишь недвижим, И над трупом твоим Звонко носятся жадные мухи. Я стою опечаленный… Громче войте, старухи! Под напев их пронзительный Соком пальмы омыт, Львиной шкурой покрыт, Облечен в яркоцветные ткани, Жертва мести губительной, Ты почил Хеабани. В пасть пещеры отверстую, В недра темной земли. Для тебя отвели, Под томящие флейты напевы, Мы рабу розоперстую. Нет прекраснее девы! В честь тебя, о прославленный, Ветви сосен горят. Вот священный обряд Древним старцем свершен под землею. Вот он меч окровавленный Вытирает травою… В подземелье оставленный С юной девой вдвоем, Вечным скованный сном, Ты протянешь усталые ноги, От забвенья избавленный Хеабани двурогий! 1905V
Наставление в путь
…Там, далеко, далеко отсюда, Где пустыню румянит закат, Средь песков, как огромная груда, Горы Масу угрюмо лежат. В их теснинах цари-скорпионы Охраняют ворота земли; В небеса уперлись их короны, В преисподнюю ноги ушли. В те ворота, катясь от востока, Ранним утром, в сиянье огней, Проникает бог Самас, жестоко Погоняя крылатых коней. Скорпионам скажи ты: «Владыки, Я с мольбой издалека притек. Вы могучи, страшны и велики, — Пропустите меня на восток!..» И дорогу дадут исполины Сквозь врата властелина лучей. Если ж нет, — то ударом дубины Ты обоих чудовищ убей… В той пустыне, молчаньем объятой, Ты не встретишь людей ни души. Если ж лев попадется косматый, — Ты руками его задуши… Заградить он не может дороги, Если сам не свернешь ты назад. Лишь не бойся! Всесильные боги Издубара как сына хранят… Там, в ущелье глухом и тенистом, Есть источники мертвой воды. К ним ведут по пескам золотистым Полуптиц-полугадов следы… Через горные выси и кручи, То над пропастью черной без дна, То взбираясь под самые тучи, Вьется змейкой тропинка одна. Этой горной и тесной тропою Ты иди сквозь холодный туман И смотри: вдалеке пред тобою Серебром заблестит океан. Но идти еще очень далеко; Пред тобой еще лес впереди. Ты, очей не спуская с востока, К океану упрямо иди! В темной чаще ужасные крики Ненасытных чудовищ слышны, Но бесстрашное сердце владыки Их рыканья смутить не должны… Пусть о камни изранятся ноги, Пусть дыханье спирает в груди, — Не бросая тернистой дороги, На восток неустанно иди! На уступах утесов бесплодных Ты увидишь колдуний седых, Вереницей сидящих, голодных, Желтозубых, косматых и злых. Их не бойся. Ступай себе мимо Через горный скалистый проход На восход, где, богами хранима, Молодая Сабиту[28] живет. Близ серебряных волн океана, Как сумирская пальма стройна, Как весенняя зорька румяна, Во дворце обитает она. Заслонили густыми ветвями Дом богини ревниво сады, Где сверкают цветными огнями Из камней драгоценных плоды. Там волшебные райские птицы На хрустальных деревьях живут, И во славу Сабиту-царицы Сладкозвучные песни поют. Чешуею блестя многоцветной, Обитает меж гибких ветвей Страж-хранитель той рощи заветной — Многомудрый, всезнающий змей… Мимо чудных деревьев к чертогам Подойди, не смущаясь, герой. Стань в виду, и в молчании строгом Шкурой льва себе темя накрой. Жди. Сабиту пройдет пред тобою С целой свитой рабынь позади, И тогда ты смиренно, с мольбою, На лицо перед нею пади!..ОСНОВНЫЕ ДАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭПОСОМ О ГИЛЬГАМЕШЕ
Конец IV тысячелетия до н. э. — основание храма Эанна на территории Унуга. Изобретение в Эанне рисуночной письменности.
XXVIII век — правление первых жрецов (энов) «солнечной» династии Эанны — Мескианггашера, Энмеркара и Лугальбанды. Походы жрецов Эанны на восток, в сторону гор Загроса и страны Аратта.
XXVII век, вторая половина — первое упоминание жреца Бильгамеса в имени собственном из Ура. Битва Бильгамеса с лугалем Киша. Поход Бильгамеса на восток.
XXVII век, конец — предполагаемое время смерти Бильгамеса.
XXVI век — Лугальбанда и Бильгамес упоминаются в списке богов из Шуруппака.
XXIV век — в Лагаше и Адабе учрежден культ Бильгамеса. В середине осени ему приносят жертвы в поминальных местах, названных его именем.
XXIII век — царь Аккада Саргон разрушает стену Унуга и освобождает жителей Киша от политической зависимости. Саргон и Нарам-Суэн совершают поход в кедровые горы Сирии и распространяют свою власть до Средиземного моря.
XXII век — энси Лагаша Гудеа (ок. 2143 — ок.2123) называет себя «сыном Нинсун» и «богом Лагаша», отождествляя себя с Бильгамесом.
XXI век — лугаль Урука Утухенгаль называет Бильгамеса своим помощником в битве против кутиев. Лугали Ура Ур-Намму (ок. 2109 — ок. 2093) и Шульги (ок. 2093 — ок. 2046) называют Бильгамеса своим старшим братом, а себя — сыновьями Лугальбанды и Нинсун. Создан гимн Шульги О, в котором упоминаются два деяния Бильгамеса — победа в битве с Кишем и поход на Хуваву.
XXI–XIX века — Бильгамес упомянут в «Царских списках» как сын духа лиль. На шумерском языке создаются пять сказаний о Бильгамесе, дошедшие из Ниппура, Ура и Ларсы. В Ниппуре введены ежегодные спортивные игры в честь Бильгамеса, проводимые в пятом месяце (июль — август).
2017–1985 — правление царя I династии Исина Ишби-Эр-ры, для которого был составлен текст об истории храма Туммаль. В этом тексте Бильгамес и его сын Урлугаль упомянуты в числе восстановителей храма.
XIX век — эн Унуга Анам сообщает о реставрации старой городской стены, возведенной еще Бильгамесом.
1953–1935 — правление царя I династии Исина Ишме-Дагана. Формулы плача по Ниппуру, в котором прославляется этот царь, совпадают с формулами текста «Смерть Бильгамеса» и мифа о потопе.
XIX–VII века — время создания аккадского эпоса о Гильгамеше. Предположительным местом его возникновения является Урук (бывший Унуг). Первоначально эпос состоял из одиннадцати таблиц.
XV–XIV века — в Малой Азии создаются версии эпоса на хеттском и хурритском языках.
XII–XI века — жизнь Синлекеуннинни, заклинателя, которого в новоассирийское время считали автором эпоса о Гильгамеше.
VIII век — во дворце ассирийского царя Саргона II (722–705) в Дур-Шаррукине поставлен рельеф с изображением Гильгамеша.
705 — Набу-зукуп-кена добавляет в эпос 12-ю таблицу.
VII век — последняя редакция эпоса, созданная в эпоху Ашшурбанапала (668–627). Колофон из Ниневии, в котором автором эпоса назван Синлекеуннинни. В греческой литературе складывается история двенадцати подвигов Геракла.
IV век — поздневавилонский список авторов, в котором Синлекеуннинни назван автором эпоса о Гильгамеше.
II век до н. э. — последние копии эпоса. Гильгамеш и Ховавеш упомянуты в «Книге исполинов» из Кумрана.
Ок. 170 — после 222 н. э. — Клавдий Элиан, автор книги «О природе животных», где упомянут царь Вавилона Гильгамос.
Ок. 120 — после 180 н. э. — Лукиан из Самосаты в трактате «О сирийской богине» рассказывает историю юноши по имени Комбабос.
V — начало VI века — мар Иаков Саругский в поэме об Александре рассказывает о путешествии Александра Македонского на край света, к источникам вечной жизни.
Эта история отражается в средневековых романах об Александре.
VII век — рассказ о путешествии Гильгамеша к Утнапиштиму отражен в 18-й суре Корана «Пещера».
IX век — сирийский писатель Теодор бар Конай упомянул героя Гелемгоса.
XII век — рождение и дикая жизнь Энкиду воспроизведены в романе Ибн Туфейля «Хайй, сын Якзана».
XV–XVI века — в арабских сказках «Тысяча и одна ночь» появляются истории о Булукии.
1849–1855 — раскопки на холме Куюнджик в Северном Ираке. Обнаружение библиотеки Ашшурбанапала в Ниневии. Доставка табличек в Британский музей.
1872, ноябрь — Дж. Смит обнаруживает в Британском музее фрагмент 11-й таблицы аккадского эпоса с рассказом о потопе и читает имя героя как «Издубар».
20 декабря — публикация фрагментов доклада Дж. Смита «Халдейская история потопа».
1873 — две экспедиции Дж. Смита в Ниневию и обнаружение недостающих фрагментов эпоса.
1884 — П. Хаупт впервые издает все известные таблицы аккадского эпоса об Издубаре.
1890 — Т. Пинчес узнает, что правильное чтение имени героя — Гильгамеш.
1905–1906 — И. Бунин и А. Кондратьев делают первые переложения эпоса на русском языке.
1919 — Н. С. Гумилев впервые переводит все части эпоса с французского языка.
1918–1930 — В. К. Шилейко делает первый научный перевод с аккадского языка на русский и комментарий к аккадскому эпосу. Сохранились лишь фрагменты перевода.
1930 — Р. Кэмпбелл-Томпсон делает второе издание таблиц аккадского эпоса о Гильгамеше.
1938–1949 — С. Крамер обнаруживает в Пенсильванском музее и публикует шумерские сказания о Бильгамесе.
1951 — опера чешского композитора Б. Мартину «Гильгамеш».
1961 — И. М. Дьяконов издает полный художественный перевод аккадского эпоса с аккадского языка и комментарий к тексту.
1973 — В. К. Афанасьева публикует первые художественные переводы шумерских сказаний о Бильгамесе на русский язык.
1992 — опера Ф. Баттиато «Гильгамеш».
2000— в Сиднейском университете на средства ассирийской общины установлен памятник Гильгамешу.
2003 — Э. Р. Джордж публикует с комментариями все известные на сегодня таблицы аккадского эпоса о Гильгамеше.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Издания (печатные)
Cavigneaux A. Gilgames et Taureau de ciel (§hul-me-kam) (Textes deTell HaddadIV) // Revue d’Assyriologie 87 (1993): 97— 129.
Cavigneaux A., Al-col1_0 Gilgames et la Mort: Textes de Tell Haddad VI: Avec une Appendice sur le Textes Fun6raires sumeriens. Leiden, 2000.
Diakonoff I. M., Jankowska N. B. An Elamite GilgamesText from Argistihenele, Urartu (Armavir-blur, 8th century B.C.)// Zeitschrift fur Assyriologie 80 (1990). R 102–123.
Edzard D. O. Gilgames und Huwawa A // Zeitschrift ffir Assyriologie 80 (1990), S. 165–203; 81 (1991), S. 165–233.
Edzard D. O. Gilgames und Huwawa. Zwei Versionen der sumerischen Zedemwaldepisode nebst einer Edition von ‘Vfersion B’. Miinchen, 1993.
GadottiA. «Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld» and the Sumerian Gilgamesh Cycle. Berlin, 2014.
George A. R. The Babylonian Gilgamesh Epic. Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts. \bl. 1–2. Oxford, 2003.
George A. R. The Gilgamesh epic at Ugarit // Aula Orientalis 25 (2007). P. 237–254.
Katz D. Gilgamesh and Akka. Groningen, 1993.
Parpola S. The Standard Babylonian Epic of Gilgamesh. Helsinki, 1997.
Shaffer A. Sumerian Sources of Tablet XII of the Epic of Gilgamesh (Ph.D. diss.). Pennsylvania, 1963.
Stefanini R. Enkidu’s Dream in the Hittite «Gilgamesh» // Journal of Near Eastern Studies.Xbl. 28. No. 1 (1969). P. 40–47.
Издания (электронные)
Gilgamesh and AgahttD://etcsl.ori nst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl. cgi?text=c.l.8.1.1
Gilgamesh and Huwawa A -bin/ etcsl.cgi?text=c. 1.8.1.5
Gilgamesh and Huwawa В httD://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/ etcsl.cgi?text=c. 1.8.1.5.1
Gilgamesh and the bull of heaven / cgi-bin/etcsl.cgi?text=c. 1.8.1.2
The death of Gilgamesh httD://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/ etcsl.cgi?text=c.l.8.1.3
Gilgamesh, Enkidu and the nether world . ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c. 1.8.1.4
Переводы
Ассиро-вавилонский эпос / Пер. с шумерского и аккадского яз. В. К. Шилейко. СПб., 2007 (Литературные памятники).
Гильгамеш / Пер. Н. С. Гумилева с предисл. В. К. Шилейко. Пг., 1919.
Гильгамеш / Пер. аккадского эпоса в стихотворном переложении С. Липкина. СПб., 2001.
«Когда Ану сотворил Небо». Литература древней Месопотамии. М., 2000.
Нуруллин Р. М. Гильгамеш И. М. Дьяконова: попытка реставрации (продолжение) // Вестник древней истории. 2012. № 4. С. 220–263.
От начала начал. Антология шумерской поэзии в переводах В. К. Афанасьевой. СПб., 1997.
Поэма о Гильгамеше («О видевшем Бездну») / Пер. с аккадского и коммент. В. А. Якобсона // Письменные памятники Востока. 15 (2011). С. 5—14.
Эпос о Гильгамеше («О все видавшем») / Пер. с аккадского И. М. Дьяконова. М., 1961 (Литературные памятники).
Foster В. R. et al. The Epic of Gilgamesh. New York/London, 2001.
George A. R. The Epic of Gilgamesh: the Babylonian epic poem and other texts in Akkadian and Sumerian. London, 1999.
Maul S. M. Das Gilgamesch-Epos. Neu iibersetzt und kommentiert. Miinchen, 2005.
Исследования
Афанасьева В. К. Гильгамеш и Энкиду. Эпические образы в искусстве. М., 1979.
Дьяконов И. М. Общественный и государственный строй Древнего Двуречья. Шумер. М., 1959.
Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1990.
Емельянов В. В. Ниппурский календарь и ранняя история Зодиака. СПб., 1999.
Емельянов В. В. Ритуал в древней Месопотамии. СПб., 2003.
История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия. М., 1983.
Историография истории Древнего Востока. Т. 1. М., 2008.
Коган Л. Е., Нуруллин Р. М. Гильгамеш И. М. Дьяконова: попытка реставрации (первая часть) // Вестник древней истории. 2012. № 3. С. 191–232.
Крамер С. Н. История начинается в Шумере. М., 1991. Adams R. Heartland of Cities. Chicago, 1981.
Algaze G. Ancient Mesopotamia at the Dawn of Civilization.
The Evolution of an Urban Landscape. Chicago, London, 2008.
Black J. et al. The Literature of Ancient Sumer. Oxford, 2004.
Damrosh D. The Buried Book: The Loss and Rediscovery of the Great Epic of Gilgamesh. New York, 2006.
Finkel I. The Ark before Noah: Decoding the History of the Flood. London, 2014.
Gilgamesh: A Reader (J. Maier ed.). Wauconda, Illinois, 1997.
Gilgamesh and the Wbrld of Assyria (J. Azize and N. Wseks ed.). Leuven, Paris, Dudley M. A., 2007.
Gilgames et sa ldgende (P. Garelli ed.). Paris, 1960.
Horowitz W. Mesopotamian Cosmic Geography. Winona Lake, Indiana, 1998.
Nissen H.-J. The Early History of the Ancient Near East. Chicago, 1988.
Tigay J. H. The Evolution of the Gilgamesh Epic. Philadelphia, 1982.
Sallaberger IV. Das Gilgamesch-Epos. Mythos, Wsrk und Tradition. Miinchen, 2008.
Ziolkowski T. Gilgamesh Among Us: Modem Encounters with the Ancient Epic. Cornell University Press, 2012.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Рельеф в Хорсабаде, изображающий Гильгамеша.
VIП в. до н. э.
Двуречье в III тысячелетии до н. э.
Развалины зиккурата храма Эанна в Уруке
Древний Урук (реконструкция)
Алебастровый сосуд из Урука
Голова богини Инанны из Урука
Голова быка.
Деталь шумерской арфы
Человек-скорпион.
Изображение на шумерской арфе
Гильгамеш и Энкиду сражаются со львом и быком.
Шумерская печать
Гильгамеш и Энкиду у священного дерева.
Шумерская печать
Бог Уту проходит через горы Машу.
Шумерская печать
Гильгамеш и Энкиду у священного дерева.
Шумерская печать
Боги Энки, Ипаина и Уту.
Шумерская печать
Богиня Инанна (Иштар)
Глиняные цилиндры Гудеа с гимнами в честь строительства храма Нингирсу. Здесь Бильгамес впервые упоминается как предок правителя
Статуя Гудеа, царя Лагаша. XXII в. до н. э.
Табличка с текстом XI таблицы эпоса.
Ниневия, VII в. до н. э.
Царь Ашшурбанапал.
Фрагмент барельефа, Ниневия, VII в. до н. э.
Рельеф в Хорсабаде, предположительно изображающий Энкиду
Вавилонская карта мира с указанием места, где обитает праведник Утнапиштим.
I тысячелетие до н. э.
Глиняные «книги» из библиотеки Апппурбанапала в Британском музее
Генри Лэйярд, первооткрыватель Ниневии
Генри Раулинсон, один из основателей ассириологии, первый комментатор эпоса о Гильгамеше
Джордж Смит, первый переводчик эпоса
Николай Гумилев — автор литературного перевода эпоса
Владимир Шилейко, русский ассириолог и поэт, первый переводчик эпоса о Гильгамеше с аккадского оригинала
Игорь Дьяконов, автор полного перевода аккадского эпоса на русский язык
Вероника Афанасьева, первый переводчик шумерских песен о Гильгамеше
Памятник Гильгамешу в Сиднейском университете, установленный местной ассирийской общиной
Примечания
1
Подлинное аккадское ударение в имени Гильгамеш приходится на первый слог, реже, для сохранения ритма — на второй, и никогда — на последний, как принято в русском языке. Точно так же дело обстоит и с именами богов: Мардук, Иштар, Энлиль произносятся с ударением на первом слоге.
(обратно)2
Вполне возможно, что аккадский эпос о Гильгамеше является и родоначальником так называемых «романов воспитания».
(обратно)3
Зиккурат — в переводе с аккадского «высотный (храм)».
(обратно)4
«Царскими списками» условно называются списки царствующих городов и правителей, составленные в Южной Месопотамии в конце III или в начале II тысячелетия до н. э. и дошедшие до нас в большом количестве версий разного времени (от Старовавилонского до Новоассирийского периода).
(обратно)5
Интересно, что имя одной сестры Бильгамеса совпадает с именем лугаля Киша, а имя другой — с именем дочери урского лугаля Шульги. До сих пор непонятно, носят ли эти совпадения юмористический характер или они случайны.
(обратно)6
На происхождение ватаги из Забалама намекают два факта: разрушение забаламского храма Инанны и возвращение Гудама на жительство в Забалам. Прямого указания нет.
(обратно)7
Впрочем, не исключено, что помимо исторической коннотации у этой мифологемы возможна и астральная. Небесным Быком могли называть какое-то катастрофическое небесное явление вроде метеорита.
(обратно)8
Имя праведника, пережившего потоп, может произноситься как с окончанием (Утнапиштим), так и без него. Со второй половины II тысячелетия до н. э. из аккадского языка исчезает характерное для него окончание существительных «м» (так называемая мимация).
(обратно)9
Приморцы — аккадоязычные потомки шумеров, образовавшие на юге Двуречья I династию Приморья.
(обратно)10
Перевод И. М. Дьяконова. Здесь и далее переводы И. М. Дьяконова приведены по изданию: Когда Ану сотворил Небо. Литература древней Месопотамии. М., 2000.
(обратно)11
С точки зрения вечности (лат.).
(обратно)12
12 сюжетов аккадского эпоса можно корректно сопоставить с 12 деяниями Будды. Первые шесть деяний — от рождения до конца жизни в удовольствиях — названы прав-ритти, «разворачивание, активность». Последние шесть — отказ от удовольствий, аскетизм, просветление, поворот колеса Дхармы и уход в нирвану — называются нирвритти, «сворачивание, прекращение активности». Характерно, что шестой сюжет в сказании о Будде, как и в эпосе о Гильгамеше, связан с отказом от прежних привязанностей, а одиннадцатый сюжет в обеих историях посвящен обретению истины и новому состоянию человека.
(обратно)13
Говоря языком пушкинской сказки, Гильгамеш возвращается к стене своего города как к «разбитому корыту», от которого когда-то начался его путь к славе и бессмертию. Ни того ни другого он не приобрел, а друга утратил.
(обратно)14
Как уже сказано выше, представление о нефилим возникло из шумеро-вавилонской традиции апкаллу. Последний из допотопных рыбообразных мудрецов Утуабзу был взят живым на небо. Именно он и послужил прототипом Еноха. Послепотопные же мудрецы, согласно вавилонским текстам, учили людей неподобающим вещам и прогневали богов.
(обратно)15
По когтям (узнают) льва (лат.).
(обратно)16
Намтар — бог эпидемий и смерти.
(обратно)17
Нингишзида и Думузи считались старожилами и, возможно, старейшинами Подземного мира.
(обратно)18
Одно из названий для мира мертвых.
(обратно)19
Названия жреческих должностей.
(обратно)20
Перечисленные божества считались предками Энлиля, что еще раз подчеркивает принадлежность текста к ниппурской литературной традиции.
(обратно)21
Шульпаэ — первоначально бог жертвенного стола, впоследствии обозначение планеты Юпитер.
(обратно)22
Сумукан — бог диких животных.
(обратно)23
Нинхурсаг — одно из имен богини-матери.
(обратно)24
Священный Холм — особый придел храма, место суда богов, проходившего накануне осеннего равноденствия.
(обратно)25
Эрешкигаль — супруга Нергала и сестра Инанны, богиня мира мертвых.
(обратно)26
Эрех — библейское именование Урука.
(обратно)27
Старое чтение имени блудницы Шамхат(у).
(обратно)28
Сабиту, «шинкарка» — эпитет Сидури, который авторы прошлого века иногда принимали за имя собственное.
(обратно)Комментарии
1
История Убейда и Варки излагается по материалам X. Ниссена, Г. Альгазе и Р. Адамса.
(обратно)2
Первое описание сосуда было сделано В. К. Афанасьевой (Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока. М., 1976. С. 60–61). Здесь к нему дается поправка.
(обратно)3
Вайман А. А. К расшифровке протошумерской письменности (предварительное сообщение) // Переднеазиатский сборник II. Дешифровка и интерпретация письменности Древнего Востока. М., 1966. С. 3—15.
(обратно)4
Дьяконов И. М. Общественный и государственный строй Древнего Двуречья. Шумер. М., 1959. С. 120–128; Он же. История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Часть первая. Месопотамия. М., 1983. С. 139–142.
(обратно)5
Сказание об Энмеркаре и Энсухкешданне // От начала начал. Антология шумерской поэзии в переводах В. К. Афанасьевой. СПб., 1997. С. 171–181.
(обратно)6
Лугальбанда во мраке гор // От начала начал… С. 181–192.
(обратно)7
Сказание о Лугальбанде и орле Анзуде // От начала начал… С. 192–203.
(обратно)8
Burrows Е. Ur Excavation Texts II. Archaic Texts. London, 1935. No. 281, II 5; Sallaberger W. Das Gilgamesch-Epos. Mythos, AAferk und Tradition. Miinchen, 2008. S. 47; Glassner J.-J. L’historicitd de Gilgames? // Nouvelles Assyriologiques Brdves et Utilitaires 1 (2014). P. 9—13.
(обратно)9
Mes также может означать название дерева. В эпоху III династии Ура писцы играли значениями слова, понимая bilga-mes как «отпрыск дерева mes». Возможно, при этом имелся в виду растительный тотем. — См.: Glassner J.-J. L’historicity… Р. 13.
(обратно)10
Falkenstein A. Gilgames. A. Nach sumerischen Texten // Reallexikon der Assyriologie 3 (1957–1971). S. 357–363.
(обратно)11
Емельянов В. В. Инанна штурмует Небо (шумерский астрономический гимн «Инанна и Ан») // Созидающая верность: к 90-летию А. А. Тахо-Годи (спецвыпуск Бюллетеня Библиотеки «Дом Лосева»). М., 2012. С. 93—105.
(обратно)12
Krebemik М. Die Gotterlisten aus Fara // Zeitschrifi fur Assyriologie 76 (1986). S. 161–204. Правители Унуга расположены в этом списке довольно далеко друг от друга (dLugal-banda3obv. VII 15; dBiL (GlS.PAP.BIL)-ga-mes rev. III 7’).
(обратно)13
Krebemik M. Ein Keulenkopf mit Weihung an Gilgames im \brderasiatischen Museum, Berlin // Altorientalische Forschungen 21/1 (1994). S. 5—12. Я читаю вторую строку надписи lugal-gurus-ne-ra, «лугалю юношей», а не lugal-kalag-NE-ra, как издатель текста М. Креберник.
(обратно)14
Подробнее об обряде священного брака см.: Емельянов В. В. Ритуал в древней Месопотамии. СПб., 2003. С. 86— 102, 148–154.
(обратно)15
Jacobsen Т. Lugalbanda and Ninsuna//Journal of Cuneiform Studies 41/1 (1989). P 69–86.
(обратно)16
Духи группы лиль различались в заговорах, обращенных против них, как мужчины, женщины и девушки. Можно предположить, что в сознании древних людей они играли такую же роль, какая была свойственна инкубам и суккубам средневековой Европы. Духи-лиль соблазняли людей противоположного пола и овладевали ими, желая отомстить за собственную оборванную жизнь.
(обратно)17
Сведения о старошумерских текстах с упоминанием культа Бильгамеса приводятся по изданию: Selz G. J. Unter-suchungen zur Gotterwelt des altsumerischen Stadtstaates von La gas. Philadelphia, 1995 (= Occasional Publications of the Samuel Noah Kramer Fund, 13). S. 105–106.
(обратно)18
Frayne D. R. Saigonic and Gutian Periods. Toronto; Buffalo; London, 1993. P. 10–11.
(обратно)19
Все гимны шумерским правителям названы буквами латинского алфавита.
(обратно)20
Edzard D. О. Gudea and His Dynasty. Toronto; Buffalo; London, 1997. P. 100.
(обратно)21
Ibid. P. 8, 13.
(обратно)22
Michalowski P. A Man Called Enmebaragesi // Literatur, Politik und Recht in Mesopotamien: Festschrift fur Claus Wilcke. Wiesbaden, 2003. P. 200.
(обратно)23
Klein J. Shulgi and Gilgamesh: Two Brother-Peers (Shulgi O) // Kramer Anniversary Volume. Cuneiform Studies in Honor of Samuel Noah Kramer. Neukirchen-Vluyn, 1976. P. 271–292.
(обратно)24
Путешествие Нанны в Ниппур // Емельянов В. В. Ритуал в древней Месопотамии. СПб., 2003. С. 247–259.
(обратно)25
Frayne D. R. Presaigonic Period (2700–2350 ВС). Toronto; Buffalo; London, 2008. P. 430–431.
(обратно)26
Klein J. On writing monumental inscriptions in Ur 111 scribal curriculum // Revue d’assyriologie et d’archeologie orientale, 80 (1986). P. 1–7.
(обратно)27
Lugal // Behrens H., Steible H. Glossar zu den altsumerischen Bau- und Wrihinschriften. Wiesbaden, 1983. C. 222–226.
(обратно)28
Edzard D. O. Gudea and His Dynasty. P. 75, 96.
(обратно)29
Емельянов В. В. Древний Шумер. Очерки культуры. СПб., 2001. С. 348–351.
(обратно)30
Там же. С. 314–319.
(обратно)31
Цитируется по электронной базе данных ETCSL.
(обратно)32
Klein J. The Assumed Human Origin of Divine Dumuzi: A Reconsideration // Language in the Ancient Near East. Papers outside the Main Subjects. Proceedings of the 53e Rencontre Assyriologique Internationale. Winona Lake, Indiana, 2010. P. 1121–1136.
(обратно)33
Frayne D. R. Old Babylonian Period (2003–1595 BC). Toronto, 1990. P. 474–475.
(обратно)34
Sollberger E. The Tummal Inscription // Journal of Cuneiform Studies 16 (1962). P. 40–47.
(обратно)35
Здесь и далее литературные тексты приводятся по электронной базе данных The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature /.
(обратно)36
Звание sagina (от аккадского sakkanakkum) было равно генеральскому.
(обратно)37
Veldhuis N. The Solution of the Dream: A New Interpretation of Bilgames’ Death // Journal of Cuneiform Studies 53 (2001). P. 133–148.
(обратно)38
По остроумной гипотезе А. А. Немировского, имя Zi-U4-sud-ra2 могло быть прозвищем или эпитетом Убар-Туту, которое впоследствии, в поздних копиях списков, превратилось в имя собственное следующего царя (устное сообщение). Впрочем, никаких текстологических подтверждений этой гипотезы пока не имеется.
(обратно)39
В настоящее время дерево huluppu (шум. halub) отождествляется с Prunus mahaleb (черемуха антипка) — разновидностью вишневого дерева высотой не более 3 метров (см.: Miller N. Е, Gadotti A. The KHALUB-tree in Mesopotamia: Myth or Reality? // From Foragers to Farmers. Papers in Honor of G. C. Hillmann. Oxford, 2009. P. 239–243).
(обратно)40
Из контекста непонятно, кто произносит эти слова — сам солнечный бог Уту или Бильгамес. Более вероятен последний вариант.
(обратно)41
Составной глагол zag-tag, «бедро-касаться» переводчики понимают как repousser, «толкать» (Cavigneaux A., al-Rawi. F.N.H. La fin de GilgameS, Enkidu et les Enfers d’apres les man-uscrits d’Ur et de Meturan (Textes de TellHaddad VIII) // Iraq 62 (2000). P. 8). He вполне понятно, что это означает. Возможно, Гильгамеш таким образом побудил юношей к поминовению предков.
(обратно)42
Klein J. A New Look at the ‘Oppression of Uruk’ Episode in the Gilgamesh Epic // Riches Hidden in Secret Places. Ancient Near Eastern Studies in Memory of Thorkild Jacobsen. Winona Lake, 2002. P. 187–201; Rollinger R. TUM-ba us-a in «Gilgamesch, Enkidu und die Unterwelt» (Z. 154/161) und dessen Konnex zu den Spielgeraten ^ellag/pwto und ^e.kid.ma/mikki // Journal of Cuneiform Studies 60 (2008). P. 15–23.
(обратно)43
Шумерское название пятого месяца NE.NE.GAR переводится как «возжжение огней», при этом имеются в виду факелы и жаровни. Аккадское название Abu можно понять как «предок», «тростниковые заросли» или «место поминовения».
(обратно)44
Емельянов В. В. Ниппурский календарь и ранняя история Зодиака. СПб., 1999. С. 84–85.
(обратно)45
При анализе изображений использованы материалы иконографической таблицы В. К. Афанасьевой.
(обратно)46
George A. R. The Babylonian Gilgamesh Epic. Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts. Oxford, 2003. \bl. I (далее — George A. R. Gilgamesh I–II). P. 112–116.
(обратно)47
George A. R. Gilgamesh 1. P. 17.
(обратно)48
Lambert W. G. A Catalogue of Texts and Authors // Journal of Cuneiform Studies 16 (1962). P. 66, 76.
(обратно)49
В своих надписях Саргон говорит о том, что бог Даган отдал ему Мари, Ярмути и Эблу вместе с кедровым лесом и серебряными горами, а Энлиль даровал ему все пространство от Персидского залива до Средиземного моря (Frayne D. R. Sargonic and Gutian Periods. Toronto, 1993. P. 28–29. Стрк. 20–28; P. 11. Стрк. 73–78).
(обратно)50
Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). М.; Л., 1961. С. 116.
(обратно)51
Последние по времени находки поступили в начале нашего столетия из коллекции норвежского миллиардера Мартина Скёйена.
(обратно)52
Емельянов В. В. Древний Шумер. Очерки культуры. СПб., 2001. С. 104–107.
(обратно)53
Удачная находка В. А. Якобсона.
(обратно)54
Westenholz J. G. Writing for Posterity: Naram-Sin and Enmerkar // Raphael Kutcher Memorial Volume. Tel-Aviv. P. 205–218.
(обратно)55
Сказание об Энки и Нинмах // От начала начал. Антология шумерской поэзии в переводах В. К. Афанасьевой. СПб., 1997. С. 42–47.
(обратно)56
George A. R. Gilgamesh II. Р. 789 (fn. to line 104).
(обратно)57
Ср. bitqulti, «дом тишины» (могила).
(обратно)58
Перевод по изданию: van Dijk J. J. A. Lugal-e ud me-lam2-bi nir-gah. Leiden, 1983. Стрк. 26–29.
(обратно)59
«А он, Энкиду — родительница его гора…» (у Парполы стрк. 157).
(обратно)60
Емельянов В. В. Ниппурский календарь и ранняя история Зодиака. СПб., 1999. С. 205–206.
(обратно)61
Rawlinson Н. С. The Cuneiform Inscriptions of Western Asia. Vol. IV. A Selection from the Miscellaneous Inscriptions of Assyria. London, 1875 (далее — IVR).
(обратно)62
Как мы помним, в шумерской песни «Бильгамес и Хувава» таким сиротой, выросшим в горах, называет себя Хувава, когда обращается к Уту с просьбой о помощи. Выстраивается целая галерея героев-полудемонов: Асаг, Хувава, Гудам и в аккадском эпосе — Энкиду.
(обратно)63
И. Финкель, обнаруживший недавно старовавилонскую табличку с подробной инструкцией по строительству такого судна, полагает, что это coracle — лодка, сплетенная из ивняка, заделанная битумом и обтянутая кожей. Подобные суда и поныне используются озерными арабами Южного Ирака.
(обратно)64
И. М. Дьяконов назвал «Энкидиадой» только I–II таблицы, где речь идет о сотворении и окультуривании Энкиду (Эпос о Гильгамеше… С. 120). Между тем «Энкидиада» — это вся первая часть эпоса.
(обратно)65
Livingstone A. Mystical and Mythological Explanatory Works of Assyrian and Babylonian Scholars. Oxford: Oxford University Press, 1986. P. 77.
(обратно)66
Здесь и далее нумерация строк по изданию С. Парполы (Parpola S. The Standard Babylonian Epic of Gilgamesh. Helsinki, 1997).
(обратно)67
Между тем царей и правителей древней Месопотамии чаще всего называли именно волами (Feldt L. On Divine-referent Bull Metaphors in the ETCSL Corpus // Reading Literary Sumerian. Corpus-based Approaches. London, 2007. P. 184–214).
(обратно)68
Этот мотив вскармливания-воспитания человеческого детеныша газелью ярко продолжится в романе мусульманского философа Ибн Туфейля образом Хаййа ибн Якзана, воспитанного газелью на необитаемом острове (об этом см. ниже).
(обратно)69
Б. Фостер ссылается на вавилонский текст, в котором чистая пища является необходимым атрибутом газели и всякого дикого копытного животного, предназначенного в жертву (Foster В. R. Animals in Mesopotamian Literature // A History of the Animal Wbrld in the Ancient Near East. Leiden; Brill, 2002. P. 271–288). Чистота происхождения и первоначального питания Энкиду могла указывать читателю на жертвенный характер и неизбежную гибель этого персонажа.
(обратно)70
Куртик Г. Е. Звездное небо Древней Месопотамии. Шумеро-аккадские названия созвездий и других светил. СПб., 2007. С. 187–190.
(обратно)71
О тетраморфе курибу см.: Емельянов В. В. Магия тетраморфа по клинописным источникам // Седьмая международная востоковедная конференция (Торчиновские чтения). Метаморфозы. 22–25 июня 2011 г. Ч. 2. СПбГУ, 2013. С. 171–179.
(обратно)72
Заговоры и ритуалы с участием козла отпущения см.: Фоссе Ш. Ассирийская магия. СПб., 2001. С. 135, 249; Cavig-neaux A. MA§ 2-HUL-DUB2-BA // Beitrage zur Kulturgeschichte Vorderasiens, Fs. R. M. Boehmer. Mainz, 1995. S. 53–67.
(обратно)73
Чернобородый и длинноволосый человек-скорпион впервые изображается на арфе из гробницы царицы Пуаби в Уре (XXV век до н. э.) (George A. R. The Babylonian Gilgamesh Epic. Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts. Oxford, 2003. Vol. II, коммент, к IX 42). О семантике скорпиона и созвездия Скорпион см.: Емельянов В. В. Мифопоэтическое в названии восьмого зодиакального созвездия // Топоровские чтения I–IV. М., 2010. С. 58–78.
(обратно)74
Lambert W. G., Millard A. R. Atra-hasis. The Babylonian Story of the Flood. Oxford, 1969.
(обратно)75
Она также надевает на шею лазуритовый амулет в виде мухи, чтобы никогда не забыть этот печальный день (XI162— 165). А. Д. Килмер выдвинула интересную гипотезу, согласно которой в тексте наблюдается игра словами: аккад. zubbt, «мухи» подразумевает шумер, zubi (= аккад. gamlu), «оружие; радуга». Отсюда впоследствии др. — евр. qeSet (Быт. 9:13–16), означающее лук как знак войны Бога с людьми и радугу как знамение завета после окончания потопа (Kilmer A. D. The Symbolism of the Flies in the Mesopotamian Flood Myth and Some Further Implications // Language, Literature, and History: Philological and Historical Studies Presented to Erica Reiner. New Haven, 1987. P. 175–180).
(обратно)76
Сопоставляя употребляемые в заговорах шумерские и аккадские слова кикки, «мрак», abzu, «бездна», ersetu, «земля» и qaqqaru, «почва», Н. Г. Рудик приходит к выводу, что все эти слова являются эвфемизмами Подземного мира, мира мертвых. Поэтому эпитет скорпиона alap erseti, «бык земли» и эпитет хамелеона, пё§и sa qaqqari, «лев почвы» следует переводить «бык Подземного мира» и «лев Подземного мира». Автор статьи приводит мнения семитологов-библеистов, что западносемитское слово nhs, «змея» могло быть сокращенным вариантом аккадского nesu (sa qaqqari), поскольку пресмыкающееся (змею, скорпиона, ящерицу) могли назвать «земляным львом» или «львом Подземного мира» (Roudik N. Alap ersetim and nesu sa qaqqari: Animals of the Ground or the Beasts of the Netherworld? // Studia Semitica. Festschrift A. Militarev. Moscow, 2003. P. 378–388).
(обратно)77
Емельянов В. В. Ниппурский календарь и ранняя история Зодиака. СПб., 1999. С. 181–198.
(обратно)78
Prechel D. Die Gottin Ishara: Ein Beitrag zur altorientalis-chen Religionsgeschichte. Munster, 1996. S. 58–60.
(обратно)79
Greenberg D. F. The Construction of Homosexuality. Chicago; London, 1990. P. 112–113.
(обратно)80
Первой на это обратила внимание Е. Рабинович. — См.: Рабинович Е. Г. Колодец Шамаша // Вестник древней истории. 2 (1973). С. 103–106.
(обратно)81
В поздневавилонский период сведение Иштар с неба стало рассматриваться в позитивном ключе: автор этого подвига Нунпириггаль(дим) назывался строителем, который низвел богиню в храм Эанна (должно быть, построенный им самим). — См.: Beaulieu P.-А. Ayakkum in the Basetki Inscription of Naram-Sin // NABU 2002. No. 36. Впрочем, это очень поздние представления.
(обратно)82
Kilmer A. D. The Mesopotamian Counterparts of the Biblical Ndpillm // Perspectives on Language and Text. Essays and Poems in Honor of Francis 1. Andersen’s Sixtieth Birthday July 28, 1985. Winona Lake, 1987. P. 39–43.
(обратно)83
Abusch T. Ishtar’s Proposal and Gilgamesh’s Refusal: An Interpretation of «The Gilgamesh Epic», Tablet 6, Lines 1—79 // History of Religions, 26/2 (1986). P. 143–187.
(обратно)84
Stefanini R. Enkidu’s Dream in the Hittite «Gilgamesh» // Journal of Near Eastern Studies. \bl. 28. No. 1 (1969). P. 40.
(обратно)85
Parpola S. Letters from Assyrian and Babylonian Scholars. Helsinki: University of Helsinki, The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 1993. P. 67, 155.
(обратно)86
Satammu — должность главы храмовой администрации.
(обратно)87
Parpola A. Letters… Р. 288.
(обратно)88
Millard A. R. The Sign of the Flood Ц Iraq 49 (1987). P. 67–68.
(обратно)89
Haupt P. Some Difficult Passages in the Cuneiform Account of the Deluge // Journal of the American Oriental Society 32 (1912). P. 13; Frank C. Zu den Wbrtspielen kukku und kibati in Gilg. Ер. XI // Zeitschrift fur Assyriologie 36 (1925). S. 218; Dailey S. Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh and Others. Oxford University Press, 1989. P. 110, 112, 133; Noegel S. B. Raining Terror: Another Wordplay Cluster in Gilgamesh Tablet XI (Assyrian Vfersion 45–47) // N.A.B.U. 1997/1. No. 2. С. Нёгель усматривает игру словами и в стрк. 45, сопоставляя nuhsu N «изобилие» и nuh§u Adj, «непомерный, чрезвычайный».
(обратно)90
Parpola A. Gilgamesh. Р. 110.
(обратно)91
Rawlinson Н. С. The Izdubar Legends//Athenaeum. No. 2354 (1872). P. 735.
(обратно)92
Sayce A. Babylonian Literature: Lectures. London, 1877. P. 27–29; Haupt P. The Cuneiform Account of the Deluge // The Old Testament Student 3/3 (1883). P. 81.
(обратно)93
Lenormant F. Les premieres civilisations. \bl. 1. Paris, 1874. P. 78–79.
(обратно)94
Емельянов В. В. Ниппурский календарь… С. 201–230.
(обратно)95
George A. R. Gilgamesh I. Р. 737–738.
(обратно)96
Frahm Е. Nabu-zuqup-kenu, das Gilgame§-Epos und der Tod Sargons II //Journal of Cuneiform Studies 51 (1999). S. 73–90.
(обратно)97
George A. R. Gilgamesh I. P. 54.
(обратно)98
Frahm, E. Nabu-zuqup-kenu, GilgameS XII, and the rites of Du’uzu // NABU 2005/1. P. 4–5.
(обратно)99
Koch-Westenholz U. Babylonian Liver Omens. Copenhagen, 2000. P. 28–30; Leick G. Who’s who in the Ancient Near East. London, 1999. P. 116.
(обратно)100
Frahm E. Nabu-zuqup-kenu, GilgameS XII, and the rites of Du’uzu… P. 4.
(обратно)101
Емельянов В. В. Ниппурский календарь… С. 139–140.
(обратно)102
Емельянов В. В. Мифопоэтическое в названии восьмого зодиакального созвездия // Топоровские чтения I–IV: Избранное. М., 2010. С. 58–78.
(обратно)103
Воск В. Die Babylonisch-Assyrische Morphoskopie. Wien, 2000. S. 24–27.
(обратно)104
Reiner E. Astral Magic in Babylonia. Philadelphia, 1995. P. 78.
(обратно)105
Feldt, L., Koch, U. A Life’s Journey — Reflections on Death in the Gilgamesh Epic // Akkade Is King. A collection of papers by friends and colleagues presented to Aage Wsstenholz on the occasion of his 70th birthday 15th of May 2009. Leiden, 2011. P. 111–126.
(обратно)106
Термин введен К. Ясперсом, см.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. Об идеологии и религиозных поисках «осевого времени» см.: Якобсон В. А. Коренные перемены в мировоззрении («осевое время») // История Востока. Т. 1. Восток в древности. М., 1999. С. 578–587.
(обратно)107
Использованы материалы статей: Klein J. The Ballad About Early Rulers in Eastern and Western Traditions // Languages and Cultures in Contact. At the Crossroads of Civilizations in the Syro-Mesopotamian Realm. Proceedings of the 42th RAI. Leuven, 1999. P. 203–216; Shields M. To seek but not to find: Old Meanings for Qohelet and Gilgames // GilgameS and the World of Assyria: Proceedings of the Conference Held at Mandelbaum House, The University of Sydney, 21–23 July 2004. Leuven, 2007. P. 129–146.
(обратно)108
Подробнее см.: Емельянов В. В. Ритуал в древней Месопотамии. СПб., 2003. С. 179–194.
(обратно)109
Емельянов В. В. Шумерский календарный ритуал (категория ME и весенние праздники). СПб., 2009.
(обратно)110
См.: Емельянов В. В. Древний Шумер. С. 236–241.
(обратно)111
Во многих шумерских текстах о времени до сотворения мира говорится, что тогда волк ягненка не ел, перевозчик никого не перевозил, источник из-под земли не вытекал и т. д.
(обратно)112
Впрочем, сам Гильгамеш считает себя лишившимся блага после того, как теряет цветок бессмертия: «Не самому себе доставил я благо, а содеял я благо льву земляному» (XI, 305–306).
(обратно)113
Albenda Р. Dur-Sharrukin, the Royal City of Saigon II, King of Assyria // Bulletin of the Canadian Society for Mesopotamian Studies 38 (2003). P. 7–8.
(обратно)114
Оппенхейм А. Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М., 1990. С. 203.
(обратно)115
Перевод В. Г. Боруховича. Цитируется по электронному изданию.
(обратно)116
Павсаний. Описание Эллады. Т. 1. М., 2002. Глава XXX, 2. Перевод С. П. Кондратьева. Цитируется по электронной версии: = 1385000130 (Дата обращения: 20.02.2014).
(обратно)117
Перевод Д. В. Панченко по изданию: Claudio Aeliani De Natura Animalium Libri XVII. Ex Recognitione Rudolphi Hercheri. Lipsiae, 1866. R 303.
(обратно)118
Westenholz J. G. Legends of the Kings of Akkade. Winona Lake, 1997. P. 38–40.
(обратно)119
Перевод С. С. Лукьянова. Цитируется по электронному изданию.
(обратно)120
Тантлевский И. Р. Книги Еноха. М.; Иерусалим, 2000. С. 22.
(обратно)121
Goff М. Gilgamesh the Giant: The Qumran Book of Giants’ Appropriation of Gilgamesh Motifs // Dead Sea Discoveries 16/2 (2009). P. 238.
(обратно)122
Ibid. P. 239–253.
(обратно)123
Reeves J. C. Jewish Lore in Manichaean Cosmogony. Studies in the Book of Giants Traditions. Monographs of the Hebrew Union College 14. Cincinnati, 1992. P. 121.
(обратно)124
Budge E. A Discourse Composed by Mar Jacob Upon Alexander, the Believing King, and Upon the Gate Which He Made Against Agog and Magog // The History of Alexander the Great, Being the Syriac Vfersion of the Pseudo-Callisthenes. Cambridge, 1889. P 170–175.
(обратно)125
Перевод E. И. Ванеевой. Цитируется по электронному изданию.
(обратно)126
Е. Э. Бертельс этимологически и функционально сближает ал-Хидра, которого называет Хызр, с Хасисатрой (то есть с Атрахасисом) — вавилонским праведником, спасенным от потопа. — См.: Бертельс Е. Э. Роман об Александре и его главные версии на Востоке. М.; Л., 1948. С. 15. С точки зрения этимологии, такое сближение некорректно, но функционально ал-Хидр соответствует в тексте именно Атрахасису-Утнапиштиму месопотамского эпоса.
(обратно)127
Бертельс Е. Э. Роман об Александре… С. 14–16; Пиотровский М. Б. Коранические сказания. М., 1991. С. 111; Chasseur M. Oriental Elements in Surat al-Kahf // Annali di Scienze Religiose 1 (2008). P. 255–289.
(обратно)128
Бертелъс E. Э. Роман об Александре… С. 35, 37.
(обратно)129
Перевод и сопоставление с Кораном А. В. Сагадеева (Ибн Туфейль. Повесть о Живом, Сыне Бодрствующего. М., 1988). Цитируется по электронной версии.
(обратно)130
Dailey S. The Tale of Buluqiya and the Alexander Romance in Jewish and Sufi Mystical Circles // Reeves J. C. (ed.). Tracing the Threads. Studies in the Vitality of Jewish Pseudepigrapha. Atlanta, 1994. P. 239–269.
(обратно)131
Перевод M. А. Салье. Цитируется по электронному изданию.
(обратно)132
Использованы материалы Д. Дамроша и Т. Циолковского.
(обратно)133
Pinches Т. G. Exit Gistubar! // The Babylonian and Oriental Record IV (1890). P. 289.
(обратно)134
Huxley T. Hasisadra’s Adventure // The Nineteenth Century 29 (1891). P. 904–924.
(обратно)135
The Freud-Jung Letters: the correspondence between Sigmund Freud and C. G. Jung. Princeton, 1994. P. 199–200.
(обратно)136
Jung C. G. Symbols of Transformation. Prienston, 1970. P. 294, 329, 332, 437.
(обратно)137
Штейнер P. Всемирная история в свете антропософии. М., 2002. Автор перевода неизвестен. Цитируется по электронному изданию.
(обратно)138
Pannwitz R. Gilgamesch-Sokrates. Titanentum und Humanismus. Stuttgart, 1966.
(обратно)139
Ziolkowski T. Gilgamesh Among Us: Modem Encounters with the Ancient Epic. Cornell, 2012. P. 112–116.
(обратно)140
Kluger R. S. The Archetypal Significance of Gilgamesh: A Modem Ancient Hero. Am Klosterplatz, 1991. P. 92, 105, 113, 133,207.
(обратно)141
Moran L. Rilke and the Gilgamesh Epic // Journal of Cuneiform Studies 32 (1980). P. 208–210.
(обратно)142
Ziolkowski T. Gilgamesh… P. 33.
(обратно)143
Гессе Г. Магия книги. М., 1990. С. 175.
(обратно)144
Hughes К. Hesse’s Use of Gilgamesh-Motifs in the Humanization of Siddhartha and Harry Haller // Seminar: A Journal of Germanic Studies 5/2 (1969). P. 129–140.
(обратно)145
Цитируется по электронному изданию.
(обратно)146
Там же.
(обратно)147
В 1922 году Б. Мартину написал балет «Иштар», в котором рассказал историю о любви Иштар и Думузи, о смерти и воскрешении Думузи (Ziolkowski Т. Gilgamesh Among Us. Р. 75).
(обратно)148
Цитируется по электронному изданию.
(обратно)149
Nurullin R. The name of Gilgames in the Light of Line 47 of the First Tablet of the Standard Babylonian GilgameS Epic // Babel und Bibel 6 (2012). P. 209–224.
(обратно)150
Бунин И. А. Собрание сочинений. T. 3. СПб., 1915. С. 48–49.
(обратно)151
Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., 1989. С. 242–243.
(обратно)152
Haupt Р. The Cuneiform Account of the Deluge // The Old Testament Student. Vol. 3. No. 3. Chicago, 1883. P. 77–85.
(обратно)153
Haupt P. The Cuneiform Account… P. 77.
(обратно)154
Несомненно, что трагедийность поэтического мироощущения Бунина усиливалась в то время и личной катастрофой — смертью сына, последовавшей именно в 1905 году.
(обратно)155
Бунин И. А. Воспоминания. Париж, 1950. Цит. по электронному изданию.
(обратно)156
Стихотворения А. К. СПб., 1905. С. 80–83.
(обратно)157
Мережковский Д. С. Тайна трех. Египет-Вавилон. М., 2005.
(обратно)158
Мережковский Д. С. Грядущий Хам. М., 1906. С. 28.
(обратно)159
Мережковский Д. С. Тайна трех. С. 394–495.
(обратно)160
Там же. С. 425–519.
(обратно)161
Westenholz J. G. Legends of the Kings of Akkade. Winona Lake, 1997. C. 40–41.
(обратно)162
Klein J. Three Sulgi Hymns. Bar-Ilan, 1981. C. 136–145.
(обратно)163
Parpola S. The Standard Babylonian Epic of Gilgamesh. Helsinki, 1997. Табл. VI. Стрк. 51–79.
(обратно)164
Эпос о Гильгамеше (Статьи и фрагменты) // Ассиро-вавилонский эпос. Переводы с шумерского и аккадского языков В. К. Шилейко. СПб., 2007. С. 353–373.
(обратно)165
Ассиро-вавилонский эпос. С. 460.
(обратно)166
Емельянов В. В. Ассирийский текст русской литературы. Часть первая. Новый след «Гильгамеша» в переводе В. К. Шилейко // Asiatica 2. Труды по философии и культурам Востока. СПб., 2008. С. 41–57.
(обратно)167
Лукницкая В. Н. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. М., 1990. Цитируется по электронной версии.
(обратно)168
Полушин В. Л. Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта. М., 2007. С. 605–606.
(обратно)169
Ассиро-вавилонский эпос. С. 353–354.
(обратно)170
Там же. С. 368.
(обратно)171
Там же. С. 99.
(обратно)172
Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). М.; Л., 1961. С. 129, 131.
(обратно)173
Там же. С. 128. Мифология эпоса для Дьяконова абстрактна. С одной стороны, она отражает ассоциации первобытного человека, с другой — связана с идеологией царской власти. Гильгамеш связан с Солнцем, а Энкиду — почему-то с Луной (хотя никаких указаний на это нет). Причем связь Гильгамеша с Солнцем трактуется у Дьяконова сугубо исторически — как индикатор возвышения Аккадской династии при Нарам-Суэне (с. 106–107).
(обратно)174
Васильков Я. В. Древнеиндийский эпос «Махабхарата»: историко-типологическое исследование. Автореферат дисс… д. ф. н. СПб., 2003. С. 15–17.
(обратно)175
Шкловский В. Б. О теории прозы. М., 1983. С. 249.
(обратно)176
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2000. С. 62.
(обратно)177
Там же. С. 51.
(обратно)178
В переводе Гумилева, как и в изданиях Дорма и Йензена, седьмая таблица названа второй. Так вот, в седьмой таблице есть полуразбитая формула из вавилонского текста об Адапе о том, что с жертвенного стола Ана и Энлиля мертвые получают мясо, свежеиспеченный хлеб и воду (VII, 196–197). Адапа отказывается от еды богов и теряет шанс на бессмертие. Но в эпосе о Гильгамеше речь идет только о царях прошлого и от пищи они не отказываются.
(обратно)179
Перевод по собранию фрагментов ETCSL с учетом издания: Cavigneaux А., Al-Rawi F. N. Н. Gilgames et la Mort. Texts de Tell Haddad VI, avec un appendice sur les textes fundraires sumdriens. Groningen, 2000.
(обратно)180
Перевод по изданию: Lenzi A. Р. Reading Akkadian Prayers and Hymns: An Introduction. Atlanta, 2011. 136–141.
(обратно)181
Стихотворения А. К. СПб., 1905. C. 75–88. Цикл peпубликуется впервые с момента первого издания.
(обратно)





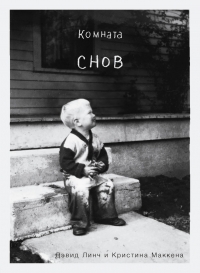

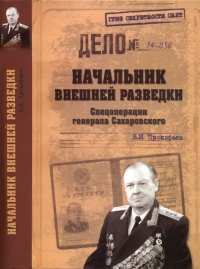
Комментарии к книге «Гильгамеш. Биография легенды», Владимир Владимирович Емельянов
Всего 0 комментариев