Евгений Шварц Живу беспокойно… (из дневников)
От составителя
Евгений Львович Шварц (1896–1958) широко известен как драматург-сказочник, пьесы его «Снежная королева», «Тень», «Голый король», «Дракон», «Обыкновенное чудо» и многие другие постоянно идут на советской и зарубежной сцене, ставятся телеспектакли, демонстрируются фильмы «Золушка», «Первоклассница», «Дон Кихот», сценарии для которых написал Е. Л. Шварц.
Дневники – особая часть творческого наследия Е. Л. Шварца. Писатель вел дневник почти с самого начала своей творческой деятельности – с 1926 года. В это время он работал в Ленинграде редактором детского отдела Госиздата и издательства «Радуга», где выходили в свет детские книжки с рисунками известных художников В. М. Конашевича, А. Ф. Пахомова, А. А. Радакова, Шварц делал к ним стихотворные подписи, готовил детские радиопередачи, в которых сам принимал участие.
К сожалению, дневники его о жизни молодой советской литературы и рождающегося нового театра, о суровых днях блокады Ленинграда не сохранились. Покидая Ленинград по решению исполкома горсовета в декабре 1941 года в крайне тяжелой степени дистрофии, он сжег свои дневники 1926–1941 годов, не имея возможности взять их с собой и не желая оставлять на произвол судьбы в осажденном фашистами городе.
Но как только он попал на Большую землю, в город Киров, одновременно с возобновлением своей творческой деятельности он вновь вернулся и к дневникам. Ведя их, драматург ставил перед собой в основном две задачи: учился писать прозой, что считал для себя очень важным, и стремился «поймать миг за хвост», то есть найти наиболее точные слова для передачи обстановки, чувств, событий и настроений в тот или иной момент жизни. Основным условием ведения дневниковых записей было писать только правду, «не врать, не перегруппировывать события», даже никаких исправлений не допускалось.
В архиве писателя, хранящемся в ЦГАЛИ СССР, находится 37 больших по формату и объему конторских книг, в которых велись записи, вначале нерегулярно, а с июня 1950 года ежедневно обязательно заполнялись две большие страницы книги. Без этой записи Е. Л. Шварц не мог провести день. Если он уезжал куда-нибудь, тетрадь путешествовала с ним вместе.
Структура дневника сложна. В нем содержатся и заметки, характерные для записных книжек писателя, – отдельные услышанные слова, выражения, обратившие на себя внимание, эскизы характеров для будущих пьес и чисто дневниковые записи о событиях текущего дня. С 1950 года содержание дневников становится сложнее – изо дня в день проходит тема воспоминаний. В результате выстраивается полная автобиография писателя, начинающаяся с первых детских впечатлений, идущая через отроческие годы, проведенные в Майкопе, небольшом южном городе, который Шварц назвал «родиной своей души». Здесь он научился читать и писать, здесь увидел первые спектакли на сцене Пушкинского народного дома, в которых в качестве артистов-любителей выступали его родители, здесь прочитал первые сказки и населил город придуманными им сказочными персонажами, увлекался цирком и первыми сеансами синематографа, изобретал целые представления с куклами, игрушками, декорациями, вполне закономерные для будущего драматурга, выступал с мелодекламацией на вечерах в реальном училище. И наконец, в этом городе пришло твердое решение стать писателем, здесь в глубокой тайне даже от самых близких людей были написаны первые стихи. В Майкопе девятилетний Женя Шварц стал свидетелем революционных событий 1905 года, первого митинга и демонстрации, запомнившихся на всю жизнь. Читатель узнает о годах учебы в Московском университете, о поступлении в Театральную мастерскую в Ростове-на-Дону, о приезде в составе труппы этой мастерской в Петроград в 1921 г., о знакомстве с писателями, об интересе, возникшем к «Серапионовым братьям», о К. И. Чуковском, у которого Е. Л. Шварц работал некоторое время секретарем, о первых книжках и пьесах, принесших ему всемирную известность, о днях блокады Ленинграда, об участии писателя в противовоздушной обороне города, о годах эвакуации и возвращении в послевоенный Ленинград. Автобиография доведена до конца. Последняя запись в дневнике сделана 4 января 1958 г., за одиннадцать дней до смерти. Рассказана целая жизнь, искренно, без прикрас, с чрезмерно строгим отношением к себе.
Не все периоды жизни отражены с одинаковой степенью подробности, некоторые пропущены совсем. Иногда, следуя за капризами своей памяти, автор возвращается к уже рассмотренному периоду, дополняя его новыми деталями. В книге мы следуем за автором, не выстраивая искусственно стройную биографию писателя, оставляя эти эпизоды там, где они вспомнились автору.
Правила ведения дневника, выработанные Шварцем для себя, были также строгими. Читаем запись от 9 сентября 1947 г. «Надо отработать этот урок, который задаю я себе ежедневно на старости лет, чтобы научиться, наконец, писать в лоб о себе, связно рассказывать о самых обыкновенных вещах… Зачеркивать, переписывать и обрабатывать по условиям, что я поставил сам себе, не разрешается». И три недели спустя: «…я надеюсь, что все-таки научусь писать о себе. И, наконец, кое-что выходит похоже. Очень похоже. И, работая над сценарием, я чувствую, что рука ходит легче – значит, ежедневные упражнения в чистой прозе, пожалуй, полезны. И еще – уж очень бесследно уходят дни за днями. А тут все-таки хоть что-то отражается. Худо, что пишу я эти записи только после более серьезной работы, уставши. И вот еще что – записывать то, что я думаю о своем основном деле – о литературе, – не в силах. Совестно почему-то. А ведь этим, в основном, я и дышу…» Но в более поздних дневниках Шварц, хоть и редко, все же будет обращаться к этой теме. И всякий раз это будут интересные оценки книг или воспоминания о начальных годах советской литературы, или портреты писателей-современников.
В составе дневника осуществлена и весьма своеобразная работа, названная Шварцем «Телефонная книжка». Это целая галерея портретов современников, написанных точно, лаконично и ярко. За этими миниатюрами встает целая эпоха общественной и культурной жизни страны. А исходным материалом для портретов послужила обычная алфавитная книжка, куда в течение многих лет записывались телефоны людей, с которыми изо дня в день общался драматург. В основном это были писатели, артисты, режиссеры, музыканты, художники, увиденные глазами человека наблюдательного, тонкого, одновременно ироничного и деликатного, беспощадного и доброго.
Для настоящего издания выбраны наиболее значительные записи из дневника писателя. Опущены чисто бытовые записи, повторы, часть записей о ныне живущих лицах, но все, что касается моментов творческих, автобиографических, свидетельств современника о событиях масштабных, исторических, – все это дается полностью. Отточием обозначаются лишь пропуски внутри каждодневной записи. Если запись или ряд записей пропускаются полностью, отточие не ставится, ориентиром в объеме пропущенной части служат даты, которыми автор помечает свои записи. В подлиннике они стоят после каждой записи, а в издаваемом тексте перенесены в начало записи – так удобнее воспринимать текст. Недописанные или пропущенные автором слова вводятся в текст в квадратных скобках. Примечания отмечаются арабскими цифрами, внутри каждого года – своя нумерация[1] .
В подготовке издания большую помощь составителю оказали С. Д. Дрейден, Л. Н. Рахманов, Н. В. и В. В. Соловьевы.
К. Кириленко
1942
9 апреля
Читал о Микеланджело, о том, как беседовал он в саду под кипарисами о живописи. Читал вяло и холодно – но вдруг вспомнил, что кипарисы те же, что у нас на юге, и маслины со светлыми листьями, как в Новом Афоне. Ах, как ожило вдруг все и как я поверил в «кипарисы» и «оливы», и даже мраморные скамейки, которые показались мне уж очень роскошными, стали на свое место, как знакомые. И так захотелось на юг.
12 апреля
Вчера я написал письмо Маршаку и отправил его утром. А вечером узнал, что Маршак получил Сталинскую премию. Написал сразу еще одно письмо, поздравил его.[2]
17 апреля
Искусство вносит правильность, без формы не передашь ничего, а все страшное тем и страшно, что оно бесформенно и неправильно. Никто не избежит искушения тут сделать трогательнее, там характернее, там многозначительнее. Попадая в литературный ряд, явление как явление упрощается. Уж лучше сказки писать. Правдоподобием не связан, а правды больше.
19 апреля
Владимир Васильевич Лебедев[3] заходит за мною, чтобы идти в театр поговорить с Рудником[4] о декорациях к моей пьесе «Одна ночь»[5] . Я не особенно привык к тому, что пьесы мои ставятся. Мне кажется, что если пьеса написана, прочитана труппе и понравилась, то на этом, в сущности, дело и кончается и кончаются мои обязанности. Но Маршак всегда так энергично и хлопотливо готовит свои сборники к печати, так пристально разглядывает и упорно обсуждает каждый рисунок, что привыкший к этому Лебедев ждет и от меня такого же отношения к эскизам костюмов и декораций. Лысый, с волосами, чуть завивающимися над висками, в круглых черных очках, в картузе, в американских сапогах с толстыми подошвами, странный, но вместе с тем ладный и моложавый, заботливо и вместе с тем нелепо одетый, Лебедев спрашивает меня: «Вы, может быть, кушинькаете?» У него есть эта привычка: вдруг заговорить детским, ошеломляюще детским языком. Я говорю, что я, нет, не кушаю, и мы отправляемся в театр. По дороге разговариваем о пьесе, которую Лебедев знает удивительно хорошо. Говорит он то понятно, убедительно, то вдруг неясно, загадочно, хохочет при этом еще, так что совсем ничего не разберешь. Рудника мы застаем в кабинете. Он красив, выбрит. Я замечаю вдруг, что у этого грубоватого, самоуверенного, умеющего жить человека длинные, тонкие красивые пальцы. У него манера говорить характерная. Обрывает вдруг на середине фразу, не зная, очевидно, как ее закончить, но делает он это спокойно, не пытаясь даже найти ей конец. Ставит точки посреди фразы. Например: «Теперь мы репетируем эту. Во вторник можно в четыре встретиться. До этого я найду. Малюгин[6] зайдет, и мы». Когда кончается разговор о пьесе, мы начинаем говорить о войне, и разговор этот – единственный, который сейчас действительно волнует каждого, – затягивается. Мы выходим на улицу – отчаянный ветер, такого я еще не помню тут, охватывает нас. Холодно. Небо на западе красное. Идет воинская часть. Люди в последних рядах, недавно, очевидно, мобилизованные, одеты еще в свою одежду. Тут и черные пальто, и полушубки, и сапоги, и башмаки с обмотками.
25 апреля
Для сказки может пригодиться – деревня, где вечно дует северный ветер. Избы выгнулись, как паруса, и стволы деревьев выгнуты, и заборы.
26 апреля
Вечером, зайдя к Мариенгофам[7], я застал там Лебедева и Сарру Лебедеву[8] . Описывая Лебедева, я забыл указать, что у него очень широкие и косматые брови. Все трое говорили о живописи, называли разных художников, которых я по равнодушию своему не знал. Потом Лебедев ушел, а Толя стал вспоминать с удивлением и завистью сестер и лекпомов, которых мы видели позавчера в приемном покое лазарета, когда ожидали, пока нас позовут выступать. Сестры эти и лекпомы были очень веселы. Мариенгоф жаловался, что с возрастом растет количество потребностей и что ему трудно теперь почувствовать себя счастливым. Лебедева на это возразила ему, что девочкой, приходя в Эрмитаж, она восхищалась тем, что музей так огромен, и все картины и статуи приводили ее в восторг. С годами музей стал ей казаться все меньше и меньше. Но зато она стала делать там открытия. Не так давно она открыла маленькую статуэтку, которая ей очень много дала. Мариенгоф после этого стал говорить о том, что тема любви его теперь перестала занимать и что с настоящим интересом можно писать только на большие политические темы. Потом поговорили о том, что богатые событиями эпохи ощущаются, как будни. Личная жизнь замирает.
23 июля
17 июля я уехал в Котельнич, гостил у Рахманова[9] и пробовал делать то, что умею хуже всего, – собирал материалы для пьесы об эвакуированных ленинградских детях.[10] Рахманов принял меня необычайно приветливо и заботливо. Вероятно, благодаря этому я чувствовал себя там так спокойно, как никогда до сих пор в гостях. Видел эвакуированные из Пушкина ясли, детская санатория бывшая. Говорил с директоршами – это было очень интересно, но как все это уместится в пьесу, да еще и детскую? Когда бомбили станцию, педагог, выдержанная и спокойная женщина, была так потрясена и ошеломлена, что сняла зачем-то туфли и, шепча ребятам «тише, тише», повела их за собою, как наседка цыплят, и спрятала их в стог сена. И ребята послушно шли за нею на цыпочках молча и покорно, старательно спрятались. Это только один случай.
18 октября
Я за это время написал пьесу, которую назвал «Далекий край». Это пьеса об эвакуированных детях. 13 сентября я поехал в Москву, повез пьесу в Комитет. Ее приняли. В Москве я прожил до 4 октября. Бывал у Шостаковича. Познакомился там с художником Вильямсом, с его женой – артисткой, которая играла Варвару в «Айболите».[11] Заключил договор на пьесу в кино[12] . «Одна ночь» ходит по рукам, ее хвалят очень Шток,[13] Шкваркин,[14] Шостакович, Каплер.[15]
1943
6 марта
1 февраля Большой драматический театр погрузился в вагоны (два классных и, кажется, четырнадцать товарных) и уехал в Ленинград.[16] 11 февраля они, не перегружаясь, доехали до Ленинграда. Я уезжал в детскую санаторию Канып. Отвозил туда Наташу.[17] Перед отъездом моим я согласился работать завлитом в Кировском областном драматическом театре, вернувшемся из города Слободского сюда, на старое место.[18] Работаю там. То есть обсуждаю пьесы, смотрю спектакли, разговариваю.
Надо в новой пьесе попробовать написать роль человека, скрытного до чудачества. Он все скрывает не то от застенчивости, не то из брезгливости. Каждое свое движение. И все ходит в баню, все моется, моется.
8 марта
Боюсь, что я тут совсем потеряю умение держаться. Мелкие тыловые неприятности вреднее артобстрела. Они бьют без промаха и без отдыха. Когда спишь – полегче, правда. От этого я теперь всегда сплю днем.
19 марта
Военный взял в интернате ленинградских ребят на воспитание девочку. Когда он приехал за нею, ему описали ее, сказали, что зовут ее Галя и что она сейчас играет во дворе. Военный вышел, увидел группу детей, узнал Галю по описанию и позвал ее. К его удивлению, девочка закричала: «Папа!» – и бросилась к нему. Тронутый этим, повез он свою четырехлетнюю воспитанницу в Киров. Дома он спросил ее: «Какую игрушку тебе купить?» – «Да разве ты не знаешь?» – удивилась девочка. «Не знаю». – «Лошадь купи! – сказала девочка. – Лошадь такую же, как ты мне принес в Ленинграде». Она не сомневалась, что за нею приехал отец, которого она не видела полтора года и который давно уже погиб на фронте.
3 августа
И вот мы уже в Сталинабаде[19] . Выехали в ночь на десятое июля и приехали 24-го. Три дня пробыли в Новосибирске, два дня – в Ташкенте. Сталинабад поразил меня. Юг, масса зелени, верблюды, ослы, горы. Жара. Кажется, что солнце давит. Кажется, что если подставить под солнечные лучи чашку весов, то она опустится. Я еще как в тумане. Собираюсь писать, но делаю пока что очень мало. В Союзе писателей я познакомился с Сергеем Городецким[20] . Хочу поездить, походить по горам.
1944
23 января
Поездить и походить по горам я не успел до сих пор, хотя послезавтра уже полгода, как я живу здесь. Уже зима, которая похожа здесь на весну. На крышах кибиток растет трава. Трава растет и возле домов, там, где нет асфальта. Снег лежит час-другой и тает. Не успел я поездить и походить, потому что Акимов уехал в августе в Москву и я остался в театре худруком. Кроме того, я кончал «Дракона»[21] . До приезда Акимова (21 октября) я успел сделать немного. Но потом он стал торопить, и я погнал вперед. Сначала мне казалось, что ничего у меня не выйдет. Все поворачивало куда-то в разговоры и философию. Но Акимов упорно торопил, ругал, и пьеса была кончена, наконец. 21 ноября я читал ее в театре, где она понравилась…
В Москве Акимов долго выяснял дальнейшую судьбу театра. Было почти окончательно решено, что театр переезжает в Москву. Но вдруг Большаков[22] добился в ЦК, чтобы театр послали в Алма-Ату, где на киностудии страдают от отсутствия актеров. В результате театр оказался в непонятном положении. В Алма-Ату как будто в конце концов, после хлопот Акимова, ехать не надо. Но с другой стороны – приказ о поездке не отменен. После долгих ожиданий, переписки, телеграмм Акимов 25 декабря опять уехал. Сначала в Алма-Ату. Потом в Москву. С 12 января он опять в Москве, а мы все ждем, ждем. Все эти полгода прошли в том, что мы ждали. Была надежда, что театр поедет в Сочи, чтобы там готовить московские гастроли; потом мы думали, что уедем в Кисловодск. Много разных периодов ожиданий прошло за эти полгода. Как разные жизни, разно окрашенные, с разными подробностями. Театр играл в так называемом Зеленом театре. Открытая сцена. Вокруг каналы. После дневной жары от воды вокруг было прохладно. Ларьки были полны арбузами. Если бы не арыки и не деревья в три ряда между домами и узенькой полосой панели, было бы похоже на черноморские города. От ясного неба, фруктов, жары, вечерней музыки в парке было ощущение отпуска, каникул, праздника. Горы еще больше напоминали черноморское лето. Казалось, повернешь за угол – и увидишь море. Дожди, переход в холодный и неудобный зимний театр начали новый период, более трудный. Главное в том, что я все-таки устал и ослабел. Не могу сейчас понять, куда девалась прежняя уверенность, что вот-вот, сейчас-сейчас все будет хорошо. Иногда кажется, что я поумнел и вот-вот пойму все.
26 января
Я получил двадцать четвертого телеграмму из Москвы от Акимова: «Пьеса блестяще принята Комитете возможны небольшие поправки горячо поздравляю Акимов». Это о «Драконе». В этот же день получена от него телеграмма, что поездка в Алма-Ату окончательно отпала, а московские гастроли утверждены. Срок гастролей он не сообщает[23] .
31 января
Все эти два месяца, после того как я дописал «Дракона», я совершенно ничего не делал. Если бы у меня было утешение, что я утомлен, то мне было бы легче. Но прямых доказательств у меня нет. Меня мучают угрызения совести и преследует ощущение запущенных дел. Не пишу никому, не отвечаю на важные деловые письма. Невероятно нелепо веду себя.
Блокада вокруг Ленинграда снята. Это взволновало всех нас. Говорим только об этом. Ждем каждую ночь приказов[24] .
11 февраля
За эти дни я получил еще две телеграммы. От Акимова: «Ваша пьеса разрешена без всяких поправок, поздравляю, жду следующую», и от Левина[25] : «Горячо поздравляю успехом пьесы». Обе от 5 февраля.
7 марта
Приехал Акимов позавчера, пятого марта, в воскресенье. Рассказывает, что «Дракон» в Москве пользуется необычайным успехом. Хотят его ставить четыре театра: Камерный, Вахтанговский, театр Охлопкова и театр Завадского[26] . Экземпляр пьесы ВОКС со статьей Акимова послал в Москву. Не в Москву, а в Америку[27] .
28 марта
Акимов заболел дня три назад гриппом, что тормозит работу. «Дракон» как будто получается.
Я не умею работать так, как полагается настоящему профессиональному писателю. Так можно стихи писать – от особого случая к особому случаю. И никак я не чувствую [себя] опытнее с годами. Каждую новую вещь начинаю, как первую.
Каждый вечер диктор говорит по радио значительным голосом: «В восемь часов пятьдесят минут будет передано важное сообщение». И в указанное время передает о взятии городов, о победах, «вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины». На Украину уезжают врачи, инженеры. Как раньше на улицах говорили о карточках, ценах, болезнях – теперь говорят о пропусках, вагонах, вызовах. Ощущение торжества.
17 июня
«Дракона», которого так хвалили, вдруг в конце марта резко обругали в газете «Литература и искусство». Обругал в статье «Вредная сказка» писатель Бородин. Тем не менее разрешен закрытый просмотр пьесы. Он состоится, очевидно, в конце июня или в начале июля[28] . Все это я пишу в номере, очень большом номере, гостиницы «Москва». Уже месяц, как театр переехал сюда. Точнее – месяц назад, 17 мая, приехал первый вагон с актерами. Собираться в Москву мы начали еще в апреле. Акимов уехал передовым, а мы все собирались и ждали, ждали. Сталинабад в последнее время стал мне очень нравиться. Несмотря на отвратительное ощущение, вызванное ругательной статьей (оно улеглось через шесть-семь дней), вся весна вспоминается, как праздник. Уже в марте весна, которая, в сущности, чувствовалась всю зиму, вдруг начала сказываться так ясно, что даже не верилось. Правда, и местные жители не верили, предсказывали снегопады, длительное похолодание, но весна не обманула. Много друзей появилось в Сталинабаде. Когда окончательно выяснился день отъезда, стало жалко уезжать. 6 [мая][29] двинулся в путь первый вагон. Восьмого – второй. Девятого – третий. Мы выехали девятого. В вагон нам принесли столько роз, что пришлось освободить ведро и поставить туда цветы. Ехать было жарко. По дороге снимали на полях пшеницу – странно было видеть разгар лета в начале мая. Когда мы приехали в Ташкент, выяснилось, что вагоны, вышедшие раньше, еще стоят там. Первый вагон выезжал через несколько часов. Мы пересели туда и попали в Москву неожиданно скоро – на восьмой день. К нашему удивлению в гостинице уже был приготовлен для нас номер.
16 июля
«Дракон» все время готовится к показу, но день показа все откладывается. Очень медленно делают в чужих мастерских (в мастерских МХАТа и Вахтанговского театра) декорации и бутафорию. Вчера я в первый раз увидел первый акт в декорациях, гримах и костюмах. Я утратил интерес к пьесе.
9 декабря
«Дракон» был показан, но его не разрешили. Смотрели его три раза. Один раз пропустили на публике. Спектакль имел успех. Но потребовали много переделок. Вместо того чтобы заниматься мелкими заплатками, я заново написал второй и третий акты. В ноябре пьесу читал на художественном совете ВКИ. Выступали Погодин, Леонов – очень хвалили, но сомневались. Много говорил Эренбург. Очень хвалил и не сомневался. Хвалили Образцов, Солодовников[30] . Сейчас пьеса лежит опять в Реперткоме.
10 декабря
Начал писать новую пьесу[31] . Работаю мало. Целый день у меня народ. Живу я все еще в гостинице «Москва», как и жил. В газете «Британский союзник» 3 декабря напечатали, что моя «Снежная королева» была поставлена в новом детском театре в Манчестере. Сейчас театр гастролирует в Лондоне. Напечатано три фотографии[32] … Сегодня Маршак читал по телефону свои стихи «Словарь» и переведенные им сонеты Китса[33] . И то и другое мне понравилось. Сказал, что завтра навестит меня. Пробую, все время пробую писать новую пьесу. День кончается, двенадцатый час. По радио передают «Пиковую даму».
15 декабря
Я почти ничего не сделал за этот год. «Дракона» я кончил 21 ноября прошлого года. Потом все собирался начать новую пьесу в Сталинабаде. Потом написал новый вариант «Дракона». И это все. За целый год. Оправданий у меня нет никаких. В Кирове мне жилось гораздо хуже, а я написал «Одну ночь» (с 1 января по 1 марта 42 года) и «Далекий край» (к сентябрю 42 года). Объяснять мое ничегонеделание различными огорчениями и бытовыми трудностями не могу. Трудностей, повторяю, в Кирове и Сталинабаде было больше, а я писал каждый день. И запрещение или полузапрещение моей пьесы тоже, в сущности, меня не слишком задело. Ее смотрели и хвалили, так что нет у меня ощущения погибшей работы. Нет у меня оправданий, к сожалению…
Сегодня ходил с Акимовым в Репертком, разговаривал о новом варианте «Дракона». Разговор, в сущности, кончился ничем.
1945
23 июля
17 июля 1945 года я переехал на старую мою квартиру, которую в феврале 42-го разбило снарядом. Квартира восстановлена. Так же окрашены стены. Я сижу за своим прежним письменным столом, в том же павловском кресле. Многое сохранилось из мебели. Точнее – нам кажется, что многое, потому что думали мы, что погибло все. Часть вещей спрятала для нас Пинегина, живущая в квартире наискосок от нас. Она уезжала на фронт. Квартира ее была запечатана, и поэтому вещи сохранились. Итак, после блокады, голода, Кирова, Сталинабада, Москвы я сижу и пишу за своим столом у себя дома, война окончена, рядом в комнате Катюша[34], и даже кота мы привезли из Москвы.
25 июля
Я сажусь на двадцатый номер, который стоит у конечного своего пункта. Подходит второй вагон. Кондуктор сообщает: «Граждане, вылезайте, второй поезд пойдет раньше первого». Все повинуются. Когда мы проезжаем мимо поворота к Михайловскому замку, я с радостью вижу, что конную статую растреллиевского Петра вырыли и она лежит на боку возле постамента, чтобы вернуться на место после четырех лет войны. К Петру у меня особенное отношение. Я каждый раз в страшные дни 41 года, глядя на пустой постамент, говорил себе, что Петр на фронте. В Союзе я с радостью увидел Леву Левина, который приехал из армии в отпуск. Юра Герман там же. Он и Лева говорят о том, как странно после четырех лет войны опять шагать вместе по набережной.
11 августа
Ночью шел по бульвару вдоль Марсова поля. Взглянул на Михайловский сад и сам удивился – до того он был прекрасен. Точнее, как меня потрясла его красота – вот что меня удивило. Вечером девятого пошел к Герману с Наташей. По дороге мы услышали позывные московского радио. У Германа нет приемника, и только поздно вечером мы узнали, что началась война с Японией[35] . Мы сидели в большой комнате Германа, окнами она выходит на Мойку. Напротив – квартира Пушкина. Все окна в ней без стекол. Вместо них – не то серая фанера, не то кровельное железо. И у Германа из четырех комнат полупригодны для жилья только две. В окнах фанера, только в одном есть почти полностью стекла. Мы сидели и вспоминали о том, как в этой же комнате услышали о начале финской кампании[36], как сидели тут у окон в июне сорок первого, и все думали-гадали, что с нами будет. И вот сидим и говорим о новой войне… И я опять, когда шел домой, радостно удивился тому, как поразила меня красота Мойки у Дворцовой площади.
12 августа
Сценарий «Золушки» все работается и работается[37] . Рабочий сценарий дописан, перепечатывается, его будут на днях обсуждать на художественном совете, потом повезут в Москву. Много раз собирались мы у Надежды Николаевны Кошеверовой – она будет ставить «Золушку». Собирались в следующем составе: я, оператор Шапиро и художник Блейк или Блэк – не знаю, как он пишет свою фамилию. Кошеверова – смуглая, живая, очень энергичная, но ничего в ней нет колючего, столь обычного у смуглых, живых и энергичных женщин. И не умничает, как все они. Шапиро – полуеврей, полугрузин. Приятный, веселый, беспечный, сильный человек. Странно видеть, как дрожит у него одна рука иногда, и как он вдруг иногда начинает заикаться. Это следствие сильной контузии. В начале войны он был в ополчении. Блэк – длинный, черный, в профиль чем-то похож на Андерсена. В этом – иногда – вдруг ощущается нечто женственное и капризное. Он – самый активный из всех обсуждающих рабочий сценарий. Но предложения его меня часто приводили в отчаянье. То ему хочется, чтобы король любил птиц, то – чтобы часы на башне били раньше, чем они бьют в литературном сценарии. Все это, может быть, и ничего, но, увы, совершенно ни к чему. Я возражал – и часто яростно, но старался не обижать Блэка, ибо он человек, очевидно, неясный и, боюсь, вследствие этого недобрый. А согласие в группе – первое дело. После обсуждений мы ужинали. Кошеверова пленительно гостеприимна, что тоже редкий талант. Вообще встречи эти – целый период. Приятный.
21 октября
Сегодня день моего рождения. Мне исполнилось сорок девять лет. Пришелся этот день на воскресенье. И я мечтаю, что это к счастью. В этом году очень ранняя осень перешла в настоящую зиму дня два-три назад. На крыше дома напротив я вижу снег, на карнизах тоже, на остатках водосточных труб висят сосульки. Я за последние два месяца с огромным трудом, почти с отвращением, работал над сказкой «Царь Водокрут»[38] . Для кукольного театра. Вначале сказка мне нравилась. Я прочел ее труппе театра. Два действия прочел. Актеры хвалили, но я переделал все заново. И пьеса стала лучше, но опротивела мне. Но, как бы то ни было, сказка окончена и сдана. Но запуталось дело со сценарием, который заказал мне для режиссера Роу «Союздетфильм»…[39]
«Золушку» готовят к съемкам. Боже мой, какое это громоздкое, бестолковое, неуклюжее предприятие. Картину решили делать цветной, отчего все дело еще более усложнилось. Снимать ее собираются в Праге, что тоже дела не упростит.
1946
18 января
Вот и пришел новый год. Сорок шестой. В этом году, в октябре, мне будет пятьдесят лет. Живу смутно. Пьеса не идет[40] . А когда работа не идет, то у меня такое чувство, что я совершенно беззащитен и всякий может меня обидеть. Новый год после пятилетнего перерыва (41–46) встречали мы в Доме писателей. Было тесно, шумно, бестолково, но сытно и не скучно. Мы пытались устроить так, чтобы у встречающих не вырезали из карточек талоны. Ездили делегацией в Ленсовет. Из поездки ничего не вышло. Талоны резали, но зато по этим талонам выдали продукты высокого качества. Жалоб не было. Было тесно, шумно, бестолково, но празднично. Тем не менее работа над пьесой не идет. 11-го Михалков читал в Комедии свою пьесу «Смех и слезы»[41] . Имел огромный успех. После этого я пошел к нему обедать. Он жил в «Астории» вместе со Львом Никулиным. На другой день Михалков и Никулин читали в Доме писателей. Михалков – басни. Никулин – отрывки из книги о Шаляпине. После чтения мы ужинали в кабинете директора Дома. Были Ахматова, Зощенко, Орлов[42], Лихарев[43], Лифшиц[44], Рест[45], Меггер[46], Берггольц, Макогоненко[47] . Михалкова я встречал раньше мало и ненадолго. На этот раз я его рассмотрел. В первый момент встречи поразил он меня сходством с генералом Игнатьевым[48] . Кавалергардский рост и выражение глаз – и отчаянное, и хитроватое, и хмельное, и сонное. Основное впечатление – приятное. Талантливости.
4 марта
Я вот уже восьмой день пишу не менее четырех часов в день. Пишу пьесу о влюбленном медведе, которая так долго не шла у меня. Теперь она подвинулась. Первый акт окончен и получился.
10 апреля
Сценарий «Царь Водокрут» принят в Москве «Союздетфильмом». Ставит Роу.
Пьесу все пишу да пишу. Читал Акимову. Едва не поссорился с ним. Целый месяц не разговаривал. Он очень тяжелый человек. Теперь как будто помирились. Пишу второй акт. Застрял на сцене встречи переодетой принцессы с медведем. Переписываю чуть ли не в шестой раз.
Я получил медаль за оборону Ленинграда. За месяц до этого – медаль за доблестный труд во время войны.[49]
3 мая
Был сегодня днем в Комедии. Актеры встречают меня всегда радостно, и это меня радует. Еще меня обрадовала заметка в «Советском искусстве» о том, что в Берлине на немецком языке выходят мои пьесы.[50] В последние дни работаю мало, что меня ужасно мучает. Первого мая был на трибуне. Парад всегда волнует. Маршал Говоров скакал, здоровался, ему отвечали – и вдруг все засмеялись на трибунах. Нахимовцы тоненькими мальчишескими голосами ответили на приветствие.
17 июня
Четырнадцатого мая поехал я в Москву… Увидел в Москве после восьмилетней разлуки Заболоцкого[51] . Много говорил с ним. Обедал с ним у Андроникова[52] . Ехал домой как бы набитый целым рядом самых разных ощущений и впечатлений и вот до сих пор не могу приняться за работу. Странное, давно не испытанное с такой силой ощущение счастья. Пробую написать стихотворение «Бессмысленная радость бытия»[53] … Здесь с двенадцатого по четырнадцатое июня проходило совещание о современной драматургии[54] . Выступали Иоганн Альтман[55], Коварский[56] – с докладами, Гус[57], Гринберг[58], Цимбал[59], Малюгин, Крон[60], Зощенко и многие другие – с речами. Выступал и я. Иногда было интересно, иногда раздражало, – но ясно одно: к работе это отношения не имеет. Садясь за стол, надо забыть все разговоры вокруг работы. Шток написал пьесу. Читал ее в Театре комедии[61] . Труппа приняла пьесу холодно.
21 октября
Сегодня мне исполнилось пятьдесят лет. Вчера сдал исправления к сценарию «Золушка». Сидел перед этим за работой всю ночь. К величайшему удивлению моему, работал с наслаждением, и сценарий стал лучше. В «Вечернем Ленинграде» написал Янковский в статье о детской драматургии, что я один из лучших детских драматургов, но что мне нужно общими силами помочь заняться современной темой[62] . Что же случилось за этот год от сорокадевятилетнего возраста до пятидесятилетнего? Написано: «Царь Водокрут» (сценарий и пьеса)[63], «Иван честной работник»[64] (пьеса для ремесленников. Для их самодеятельности.), сценарий «Первая ступень»[65] – для «Союздетфильма», сделал почти два акта пьесы для Акимова[66] . Начал пьесу «Один день»[67] . А пережил что? Два раза был в Москве: в мае и в августе. Был в Сочи. А чем был окрашен для меня этот год? Не знаю. Несколько раз испытывал просто бессмысленное ощущение счастья. Не знаю отчего. Думать, что это предчувствие, перестал. Бессмысленная радость бытия… Что же все-таки принес мне этот год? В литературе стало очень напряженно. Решение ЦК резко изменило обстановку. В театре и в кино не легче. Особенно в кино[68] . Что я сделал? Что сделано к пятидесяти годам? Не знаю, не знаю. Каждую новую работу начинаю, как первую. Я мало работаю. Что будет? Не знаю. Если сохраню бессмысленную радость бытия, умение бессмысленно радоваться и восхищаться – жить можно. Сегодня проснулся с ощущением счастья.
1947
7 января
Позвонил Акимов, пригласил к 3 часам в театр подписать договор на пьесу «Один день». В половине третьего я пошел с Наташей через Михайловский сад погулять. Вышел к Петру, который стоит у Михайловского замка. Памятник покрыт инеем. Он мне нравится все больше и больше. Наташа проводила меня до театра. Там на площадке меня радостно приветствовали актеры. Наверху Флоринский читал статью для сборника о театрах Ленинграда во время войны[69] . Статью о Театре комедии. Слушали Акимов, Бартошевич[70], Рахманов. Когда я вошел, уже шло обсуждение статьи. Вспоминали блокадный Ленинград. О том, как на премьере спектакля «Давным-давно» зрители не могли понять, на сцене ли это изображают пальбу, или идет обстрел города[71] .
8 января
Сегодня утром открыл нечаянно Пушкина. «В начале жизни школу помню я». И вдруг мне все показалось изменившимся и посвежевшим. «И праздномыслить было мне отрада» – показалось мне утешительным. Все стихотворение вдруг ожило.
9 января
Дома узнал, что звонил Эйхенбаум[72] . Оказывается, он нашел в сборнике (точнее, в книге М. К. Корбута, т. 2» «Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина за сто двадцать пять лет» (1804/5–1929/30) фотографию отца и упоминание о нем. (Он был в подпольном с[оциал]-демократическом] кружке университета). Об отце на с. 204 говорится в примечании 57: «Шварц Лев Борисович (Васильевич) – еврей, сын мещанина; род. 10.ХII.1874 г. в Керчи, обучался в Керченской, Кубанской и Екатеринодарской гимназиях. В 1892 г. зачислен на мед. ф. Каз. ун., причем ректор предложил инспектору студентов учредить за Ш. „особо бдительный надзор“ ввиду данных, изложенных в характеристике Екатеринодар. гимн. В характер, говорилось, что Ш. в бытность в VIII кл. „точно переродился, стал раздражителен, дерзок, запальчив, начал выказывать недовольство на гимназич. порядки, был замечен в дерзком отношении к старшим“. В 1896 г. Ш. крестился в связи, по-видимому, со скорой женитьбой на православной (М. Ф. Шелковой). В 1898 г. унив. окончил (Дело инсп. студ. 1892 г. № 208 о зачисл. в студ. Л. Б. (В.) Шварца на 43 л.)». А на 185 с. – фотография отца – совсем мальчик, с очень славным, мягким выражением. Отец умер в 1940-м и не знал об этой книге. И мама[73] тоже. Жалко. Если буду в Казани, загляну в «дело».
15 января
Ну вот и кончается моя старая тетрадь. Ездила она в Сталинабад, ездила в Москву. В Кирове ставили на нее электрическую плитку – поэтому в центре бумага пожелтела. Забывал я ее, вспоминал. Не писал месяцами, писал каждый день. Больше всего работал я в Кирове и записывал там больше всего…
Начну теперь новую тетрадь. А вдруг жизнь пойдет полегче? А вдруг я наконец начну работать подряд, помногу и удачно? А вдруг я умру вовсе не скоро и успею еще что-нибудь сделать? Вот и вся тетрадь.
16 января
Года с двадцать шестого были у меня толстые переплетенные тетради, в которые я записывал беспорядочно, что придется и когда придется. Уезжая в декабре 41-го из Ленинграда в эвакуацию на самолете, куда нам разрешили взять всего по 20 кило груза, я тетради эти сжег, о чем очень жалею теперь. Но тогда казалось, что старая жизнь кончилась, жалеть нечего. В Кирове в апреле 42-го завел я по привычке новую тетрадь, которую и кончил вчера… По бессмысленной детской скрытности, которая завелась у меня лет в тринадцать и держится упорно до пятидесяти, не могу я говорить и писать о себе. Рассказывать не умею. Странно сказать – но до сих пор мне надо сделать усилие, чтобы признаться, что пишу стихи. А человек солидный, ясный должен о себе говорить ясно, с уважением. Вот и я пробую пересилить себя. Пишу о себе как ни в чем не бывало. Сейчас первый час. Вдруг мороз пропал. За окном постукивают капли – дождь идет как будто. На душе смутно. Я мастер ничего не видеть, ничего не обсуждать и верить, даже веровать, что все обойдется. Но через этот туман начинает проступать ощущение вещей, на которые глаз-то не закроешь. Лет много. Написано мало. Навыков профессиональных нет. Каждую новую вещь я начинаю писать, как первую, со страхом.
18 января
Сегодня кончил, наконец, сценарий[74] . Первый раз в жизни работал так мучительно.
30 января
В пьесе «Летучий голландец»[75] стихи «Меня господь благословил идти»[76] читает человек вроде Диккенса, который яростно спорит с человеком вроде Салтыкова-Щедрина или Теккерея. Его обвиняют в том, что он описывает мир уютнее, злодейство увлекательнее, горе трогательнее, чем это есть на самом деле. Он признается, что закрывает глаза на то, что невыносимо безобразно. А затем читает это стихотворение. Теккерей и Щедрин соглашаются, но потом берут свои слова обратно. Ты, говорят, опьянил нас музыкой на две минуты. Но теперь с похмелья мы стали еще злее. Вот. Пишу «Один день». Пока писал сценарий, думал об «Одном дне». А занялся им и думаю все время о «Летучем голландце»… Пока сценарий нравится всем, кто успел его прочесть. Я писал до трех. Потом зашел в Комедию. Там был А. Гладков, который написал новую пьесу[77] . Читал ее труппе с большим успехом. Акимов с некоторым раздражением заявил мне, что он от пьесы в восторге. Прочел ее дважды и с каждым разом восхищался все больше. У нее, сказал он, есть нечто замечательное в самой постройке. Я принял это спокойно. Домой шел с Гладковым. Каждый раз немножко поражает меня его наружность. Высокий, одутловатое лицо, маленький рот, маленькие усики. Скрытность нервного и слабого человека. Хитрость того же происхождения. Талантлив. Безразличен.
1-2 февраля
Вечером внезапно зашел Юра Герман, которого я не видел целый месяц. Он живет в Келломяках. С ним отношения у нас всегда очень сложные. Он то в дружбе с нами, то будто нет его. А в общем видеть его было приятно. Рассказывает прелестно, когда не привирает от избытка творческого темперамента.
3-4 февраля
Пошли ужасно бестолковые дни. Вчера с утра делал то, что совсем неинтересно, – кукольную пьесу для Шапиро[78], и вдруг получилось ничего себе. Работал с наслаждением. Пошел к трем часам в Театр кукол. Прочел начало. Шапиро был очень доволен. Вечером я получил «Литературную газету», где была статья Гитовича[79] . Понес к нему. Там были молодые поэты – Чивилихин, Шефнер. Они пили водку и ели картошку. И я выпил водки и потом слушал стихи. Стихи мне понравились, но вечер все-таки был мучительный. Идиотское неумение встать и уйти, несмотря на то, что все время чувствуешь, что время уходит напрасно, дома ждет работа. Ночью звонил Фрэз[80], сценарий студией принят, теперь читать его будут в министерстве. Утром в двенадцать пошел в Комедию на реперткомовский просмотр михалковской сказки. Смотрел, на этот раз с первого акта до последнего. Был полный зал приглашенных. Настоящий успех. Я смотрел с наслаждением, да и все, по-моему, рады были, что им весело, смешно, легко. Потом обсуждали и разрешили. Ну вот. Домой шел вместе с Гладковым. Он звал зайти к нему в «Европейскую», но я вечером раздумал. Была у нас Наташа. Потом позвонил Юра Герман, что придет ночевать. Потом зашел Каверин с дочкой. А в двенадцать приехал Юра Герман. Он прочел за ужином отрывок из своего романа. Интересно, весело, уютно, в меру точно, в меру мягко[81] .
…За эти дни прочел я письма С. А. Толстой[82] . Огорчился. Если брать слова ее – она виновата. Много она наговорила нехорошего. А брать дела – они, кроме хорошего, ничего никому не сделали. Но народ кругом (кроме Льва Николаевича в иных случаях) придавал словам огромное значение, спорил с больной безжалостно и не считал добрыми дела, не подтвержденные верой.
20–21 февраля
Целый день вожусь с первым актом пьесы для Комедии[83] . Завтра в двенадцать читка, а у меня едва намечен первый акт. Сажусь, напишу две строчки, встаю, ловлю по радио такую музыку, которая могла бы мне помочь, снова пробую писать, прихожу в ужас от того, как мало сделано. Обедать садимся рано. У меня так дрожат руки, что я отказываюсь от супа. После обеда повторяется та же история. К вечеру у меня написаны всего две страницы. В половине одиннадцатого я ложусь на час поспать, а с двенадцати, наконец, работа начинает идти по-настоящему… Я, наконец, пришел в то приятнейшее состояние, когда удивляет одно: почему я не пишу все время, почему я все откладываю да пишу понемножку, когда это такое счастье. Теперь я не искал поводов оторваться от работы, а наоборот, меня раздражала эта необходимость. К восьми часам первый акт был готов. Я поспал до одиннадцати и к двенадцати был в театре. Акимов, очевидно, не ждал, что я приду. Он улыбнулся радостно, и мы поцеловались, что у него не в манерах. Он писал портрет Володи Лифшица, который тоже остался слушать. Слушали первый акт: Акимов, Ханзель[84], Зинковский[85], Осипов[86], Яценко (директор театра), Рахманов. Я читал по выработанной привычке, не подымая глаз, чтобы не думали, что я стараюсь разглядеть, какое произвожу впечатление. Но чувствовал и без этого, что слушают хорошо. Обсуждали долго, очень хвалили. (Слушал еще Бонди[87], забыл сказать.) Говорили главным образом о втором и третьем актах. (Еще не существующих.) Высказывали пожелания. Решили, что второй акт я буду читать через неделю, 28-го. Домой я вернулся около четырех, чувствуя себя необычайно легко и хорошо, хотя спал всего около двух часов. Лег спать и вечером проснулся разбитым. Заходил к Эйхенбауму, взял воспоминания Панаева[88] и Тютчевой[89] . Вспомнил, как в детстве по субботам бывал у директора реального училища Истаманова, с сыном которого, Жоржиком, дружил. Читал Панаева.
1 марта
В ночь на сегодня позвонил Фрэз и сообщил, что у него приятные и неприятные новости. Приятные – сценарий очень хвалили на худсовете министерства. Решили считать его важнейшей картиной «Союздетфильма». Неприятные: в силу этого Фрэза, которому сценарий обязан своим существованием (без него я не стал бы возиться с этой труднейшей темой), хотят снять и назначить другого режиссера. Я дал протестующую телеграмму в министерство и «Союздетфильм». После разговора с Фрэзом долго не мог уснуть.
19 марта
Ночью разговаривал с Фрэзом по телефону. Его окончательно назначили режиссером «Первоклассницы». Прочел за эти дни воспоминания Аполлона Григорьева[90] . Книгу трагическую и воистину русскую. Тяжелую книгу.
20–22 марта
А в пятницу я пошел, как обещал, на просмотр к Акимову[91] . Сталинский комитет встречали на лестнице все назначенные для этой цели артистки и артисты – и я, по обещанию. И вот они пришли: рослый Хорава с лысеющей бритой головой, с несколько африканским своим лицом; Гольденвейзер, беленький, точнее – серебряный, сильно одряхлевший, с кроткой безразличностью выражения; Михоэлс с далеко оттопыренной нижней губой, глазами усталыми и вместе дикими, с пышной шевелюрой вокруг лысины. Вежливейший, глубоко вывихнутый Евгений Кузнецов[92], Храпченко[93] – большой, широколицый, с зелеными кругами под глазами, с острым носом. Эрмлер[94] . Мы проводили их в комнату директора. Вениаминов[95] пытался помочь Храпченко снять пальто. Он отнекивался. Я сказал: «Не дают человеку выдвинуться». Храпченко засмеялся. Я почувствовал себя польщенным и рассердился на себя за это только вечером. Потом все пошли смотреть «Старые друзья». Спектакль необычайно вырос после премьеры. Я был доволен, что пошел. Забыл отвратительное чувство неловкости, которое так страшно мучает меня среди малознакомых, очень знаменитых современников. В антракте гостей принимали в кабинете Акимова, где он устроил выставку портретов. Рядом, в комнате секретаря, угощали гостей бутербродами, пирожными, чаем, пивом, лимонадом. От спектакля они были в восторге[96] . Вечером пришел Миша Слонимский. У него неладно с пьесой – Александринка не берет[97] . Я взял пьесу. Утром в субботу ездил на фабрику. Смотрел сцену леса[98] . Понравилась. Вернулся. Прочел Слонимского. Из четырех – три действия плохи. В третьем акте – проблема, доказывающая, что он мог бы сделать что-то, но не знал, что это можно. Сказал ему об этом. Тоска.
23–26 апреля
В среду произошло неожиданное событие. Я получил из Берлина письмо о том, что «Тень» прошла в Театре имени Рейнгардта, точнее, в филиале этого театра, Kammerspiele[99], с успехом, «самым большим за много лет», – как сказано в рецензии. «Актеров вызывали к рампе сорок четыре раза». Я, несколько ошеломленный этими новостями, не знал, как на это реагировать. Пьеса написана давно. В 39-м году. Я не очень, как и все, впрочем, люблю, когда хвалят за старые работы. Но потом я несколько оживился. Все-таки успех, да еще у публики, настроенной враждебно, вещь скорее приятная… Пятница началась интересно. Телеграмма из Москвы. Кошеверова и Погожева[100] сообщают, что худсовет министерства принял «Золушку» на отлично. Что особенно отмечена моя работа. Поздравляют. Едва я успел это оценить – телефон: Москвин[101] поздравляет – ему Кошеверова звонила из Москвы. Едва повесил трубку – Эрмлер звонит. Тоже поздравляет. Потом начались звонки со студии. Я принимал все поздравления с тем самым ошеломленным, растерянным ощущением, с каким встречаю успех. Брань зато воспринимаю свежо, остро и отчетливо. «Золушка», очевидно, для тех, кто не знает литературный сценарий, приемлема. Ну вот. Надо ли говорить, что это еще больше выбило меня из колеи. Взбудоражило. Суббота принесла новые сенсации. Васильев[102] телеграфировал Глотову[103], что поздравляет его и весь коллектив. Что «Золушка» – победа «Ленфильма» и всей советской кинематографии. Глотов приказал эту телеграмму переписать на плакат и выставить в коридоре студии. Тут уже я стал пугаться. Я люблю нормальный успех. В этом буме, мне показалось, что-то угрожающее есть. Я вспомнил успех «Дракона», который кончился так уныло. Словом, я притаился внутренне и жду. И я устал, устал – сам не знаю отчего. Впрочем, все эти сенсации меня ободрили. Моментами кажется, что все будет хорошо.
27–28 апреля
Чудеса с «Золушкой» продолжаются. Неожиданно в воскресенье приехали из Москвы оператор Шапиро и директор. Приехали с приказанием – срочно, в самом срочном порядке, приготовить экземпляр фильма для печати, исправив дефектные куски негатива. Приказано выпустить картину на экран ко Дню Победы. Шапиро рассказывает, что министр смотрел картину в среду. Когда зажегся свет, он сказал: «Ну что ж, товарищи: скучновато и космополитично». Наши, естественно, упали духом. В четверг смотрел «Золушку» худсовет министерства. Первым на обсуждении взял слово Дикий. Наши замерли от ужаса. Дикий имеет репутацию судьи свирепого и неукротимого ругателя. К их великому удивлению, он стал хвалить. Да еще как! За ним слово взял Берсенев. Потом Чирков. Похвалы продолжались. Чирков сказал: «Мы не умеем хвалить длинно. Мы умеем ругаться длинно. Поэтому я буду краток…» Выступавший после него Пудовкин сказал: «А я, не в пример Чиркову, буду говорить длинно». Наши опять было задрожали. Но Пудовкин объяснил, что он попытается длинно хвалить. Потом хвалил Соболев. Словом, короче говоря, все члены совета хвалили картину так, что министр в заключительном слове отметил, что это первое в истории заседание худсовета без единого отрицательного отзыва[104] . В пятницу в главке по поручению министра режиссерам предложили тем не менее внести в картину кое-какие поправки, а в субботу утром вдруг дано было вышезаписанное распоряжение: немедленно, срочно, без всяких поправок (кроме технических) готовить экземпляр к печати. В понедельник зашел Юра Герман. К этому времени на фабрике уже ходили слухи, что «Золушку» смотрел кто-то из Политбюро. Юра был в возбужденном состоянии по этому поводу… Он остался у нас обедать… Потом Юра читал отрывки из своего романа о Северном флоте, которые мне очень понравились[105] . Он умеет создавать в своих вещах (как и Каверин) уютную, как бы диккенсовскую обстановку. Только у Германа она ближе к жизни, и люди сложней, и любовь не столь пасторальна. Я доволен успехом «Золушки» – но как бы теоретически. Как-то не верю. Ну вот – кончается вторая тетрадь. Зачем я их пишу – не знаю. Но иногда как будто удается поймать миг за хвост. (Для себя.) Начну новую тетрадь. А вдруг все будет хорошо!
3–5 мая
Сперанский – артист театра Образцова. Небольшой, черненький, узкоглазый, скромный. Виски уже поседели. Вокруг Образцова собрались люди, единственные в своем роде. Они так любят дело, так впечатлительны и уязвимы, что любят делать его так, чтобы их не видели. Все они – настоящие художники, а Сперанский – первый из них. Я давно уважал его за игру в «Аладдине» и в «Короле Олене». В этой последней пьесе роль свою он написал сам (он играет Труффальдино). Написал отлично. Ко мне он пришел познакомиться и прочесть свою пьесу «Краса ненаглядная». Пьеса отличная. Нет ни признака стилизации. Пьеса насквозь русская – не по одному языку. Язык здесь служит, а не лежит, как макеты в выставочной витрине. Он служит, действует, а именно в действии и чувствуешь и понимаешь, что он драгоценный, живой. Прелестно начало, когда царица говорит царю, что царевича женить пора. Он стал грубить и дверями хлопать. Разбойники, баба-яга, девка-чернавка, Кощей, а пьеса трогает за живое именно прелестнейшей жизненностью. И при этом она легка. Так аппетитно легка, что мне захотелось написать что-нибудь соответствующее. Настоящий признак того, что тебя коснулось настоящее искусство. Пока шло чтение, подошли Зарубина[106] и Чокой[107] . Сели ужинать. Пили. Настроение было прелестное – все из-за пьесы. Смотрел я на этого скромного Сперанского с его седеющими висками и торжествовал. Ужасно мне нравилась живучесть искусства. Ну вот. На другой день сел работать, чтобы скорее покончить с пьесой для Шапиро, которая меня прямо уже душит. Даже во сне снится.
Часа в четыре звонок. Пришел Суханов[108] . Из дальнейших разговоров выяснилось, что он выпил литр бессарабского вина, что было совершенно незаметно. Этот блондин с маленькими светлыми глазами – явление любопытное. Строгий пес, конь-людоед, кошка с характером обычно имеют невеселое и нелегкое прошлое. Суханов ближе всего к кошке с характером. Не предсказать – когда укусит, когда приласкается. Очень талантлив. Как многие талантливые люди – ненавидит хвалить, когда все хвалят, и любит заступаться, когда все ругают. Это последнее, впрочем, случается с ним значительно реже. При впечатлительности и уязвимости своей – хороший организатор. Я ехал из Сталинабада (начиная от Ташкента) в вагоне, где бригадиром был он. И он приятно поразил меня спокойствием и энергией, с которой разрешал все сложности, встававшие на пути. В общем, человек сложный: цветочек, выращенный на ядовитой почве. Что-то в детстве у него было неладное. Он не рассказывает, но как-то прорвалось это у него, когда он жаловался, что новой квартиры после реэвакуации ему не дали и придется жить в старой, которую он ненавидит, так как с ней связаны детские воспоминания. О себе он заботится мало, одет не ахти, хлопотать не любит из самолюбия, отчего дирекция его не боится и обижает. Только, впрочем, в вопросах снабжения. Здоров. Пьет без вреда для себя. Не влюбчив, но при случае не отказывает себе в дамах. Кое-что из его свойств, может быть, пригодится мне для инженера в пьесе «Один день». Ну вот. Он обедал у нас. Хвалил, к моему удивлению, несмотря на то, что все хвалят, «Золушку».
8–12 мая
Дом кино устроил из просмотра «Золушки» в некотором роде праздник. В вестибюле – гипсовые фигуры выше человеческого роста. Какие-то манекены в средневековых одеждах. В фойе выставка костюмов на деревянных безголовых манекенах же. (Внизу они с головами и руками.) На стенах фойе – карикатуры на всех участников фильма. На площадках – фото. Но праздничней всего публика, уже посмотревшая первый сеанс. Они хвалят картину, а главное – сценарий, так искренне, что я чувствую себя именинником, даже через обычную мою в подобных случаях ошеломленность. Звонок. Идем в зрительный зал. На занавесе, закрывающем экран, нашиты буквы: «Золушка». Трауберг идет говорить вступительное слово. Его широкая физиономия столь мрачна, что я жду, что он, как всегда, будет нас бранить за нехорошее поведение. (Так он делает всегда по средам, перед просмотрами иностранных картин. То мы членские взносы не платим, то не по тем пропускам ходим, то не так сидим.) На этот раз он милостив. Хвалит картину, в особенности сценарий, и представляет публике виновников торжества. Нам аплодируют. Но и тут он проявляет характер. Не называет и не представляет публике Акимова, сидящего в зале, хотя декорации его были отмечены в решении худсовета. Ругает он на этот раз только дирекцию студии за то, что она хороший экземпляр послала в Москву, а плохой показывает в Доме кино. Начинается просмотр. Смотрю на этот раз с интересом. Реакции зала меня заражают. После конца – длительно и шумно аплодируют. Перерыв. Обсуждение. Хвалят и хвалят…
Иду на вернисаж выставки Акимова в Союз художников[109] . Торжественное заседание перед выставкой. Говорят речи Серов[110], Морщихин[111], художник Рыков[112] . Затем публику приглашают в выставочные залы. Впечатление от выставки солидное – два больших зала и хоры заняты работами Акимова. Портреты, эскизы постановок, макеты. (Два моих портрета – 39 и 43 года. На первом – я толст. На втором – тощ.) Театральные работники хвалят. Художники выставку поругивают.
15–22 мая
В понедельник звонит утром Бартошевич, напоминает, что я обещал выступить на обсуждении выставки Акимова. Обещаю. Вечером выхожу. Дом художников, где когда-то было Общество поощрения искусств и где учился когда-то лучший мой друг, пропавший без вести Юрий Соколов. Малый выставочный зал полон. Собрание открывает молодой и толстый Серов. Бартошевич делает доклад, мямлит, тянет. Основной прием очень опасный. Он излагает доводы противников Акимова, а потом крайне вяло их опровергает. «Утверждают, ссылаясь на то-то и то-то, что Акимов – формалист. По-моему, это не верно. Говорят, что он сух, рассудочен и однообразен, ссылаясь на такие-то и такие-то его работы. С моей точки зрения, это не так». В зале начинают уже посмеиваться. Как всегда, после речи докладчика никто не хочет выступать первым. Из президиума подходит ко мне художница Юнович[113] . Уговаривает выступить меня. Я отказываюсь. Наконец соглашается выступить Цимбал. Потом говорит Левитин[114] … Говорит храбро. Хвалит безоговорочно… Затем, наконец, приходится говорить мне. Говорю о смежности и раздельности искусств. Удивляюсь тому, что в литературе, когда хотят похвалить, пользуются терминами других искусств. О слове говорят: «Музыкально. Живописно». Художники же говорят: «Литературно», – когда хотят выругать. Признаю, что это явление здоровое. Каждое искусство должно обходиться своими средствами. Я сам не люблю, скажем, программной музыки – но не слишком ли дифференцировались искусства? Почему не только передвижники, но и «Мир искусства» шли в ногу со всеми передовыми отрядами литературы, музыки, философии своего времени, почему их выставки были переполнены зрителями? Почему и сейчас полно в Филармонии? Говорю об Акимове как о художнике, в котором, независимо от того, что он делает, внимательный человек узнает человека с переднего края, боевого художника, деятеля искусств. Это пограничник, не охраняющий границы, а вторгающийся на чужие территории. Как настоящий боец, он и смел и разумен. Бывают у него и победы и поражения. Ну вот и все в общих чертах. Затем выходит художник Павлов[115] с лицом злодея, высокий, бледный, черные усы, приказчичий нос. Яростно громит Акимова за его портреты. Он не видит здесь борьбы за социалистический реализм. Его поддерживает маленький человечек, фамилии которого я не расслышал, преподаватель Академии. Юнович Акимова защищает. Серов говорит заключительное слово очень толково и очень доказательно. Хваля вежливо Акимова, обвиняет его как раз в недостаточности формализма. Нельзя бороться с фотографией, увеличивая или уменьшая на сантиметр нос, вытягивая шею натуры. Надо найти форму для таких опытов. Долго объясняет мне причины, по которым художники считают слово «литературно» ругательным, что, впрочем, мне самому хорошо известно и понятно. Затем Акимов в высшей степени остроумно отвечает выступавшим хулителям. Он говорит, что очень уважает самодеятельность. Полезно, когда человек делает нечто для души, для собственного удовольствия, помимо основной своей работы. Так он рассматривает свои портреты. Общественного вреда они не приносят – так как не висят ни в музеях, ни в учреждениях. Дальше он благодарит оратора, сказавшего прямо ему в лицо: «Плохи ваши портреты, Николай Павлович». – «С этим я согласен, – говорит Акимов. – Меня утешает только то, что в этом несчастье я не одинок». Тут ему аплодируют.
29–30 августа
Позвонили из Союза, что в пять часов в готической гостиной встреча с Эльзой Триоле и Арагоном[116] . Пошел в Союз. Там Прокофьев, Браусевич[117], Берггольц, Рест, Черненко[118], Капица[119], Зоя Никитина[120] . В начале шестого приезжают гости. Эльза Триоле – маленькая, с мужским выражением лица, прическа с огромной искусственной косой надо лбом, светлые, неестественно блестящие глаза, вуаль на лице, подбородок и шея очень пожилой женщины. Арагон – высокий, узкоплечий, седой, лицо моложавое, тонкое, правильное. Что-то мальчишеское в выражении. Лиля Брик черноглазая, энергичная. Ее муж. Идем в гостиную. Я сижу рядом с Лилей Брик. Она рассказывает об Арагоне и Триоле. Оба необыкновенно трудоспособны. Работают целыми днями и не понимают, как можно ничего не делать хоть несколько часов подряд. Оба необыкновенно смелы. (У Арагона в петлице ленточки пяти высших французских военных орденов.) Рассказывает, что по подпольному радио во Франции после десанта союзников была передана условная фраза, предупреждающая об этом все подпольные организации: «За разорванное в первый раз сукно – 200 франков». (Такие объявления висят во французских биллиардных.) Арагон в это время работал в подпольной типографии. Триоле слушала радио. Услышала она эту фразу и не могла двинуться с места. Сердце заколотилось. Ноги перестали слушаться. А радио повторило эту фразу еще несколько раз. Тогда Эльза Триоле выбежала на улицу. И через несколько минут городок стал неузнаваем. Выбежали люди с факелами. Побежали на аэродром, куда в точно назначенный час самолеты союзников стали сбрасывать оружие.
28–30 сентября
«Первоклассница» снимается в Ялте, и, по слухам, получается отлично. Пьеса, написанная для Шапиро, тоже в работе, хотя ответа из Москвы он еще не получил. (Из Реперткома). В театре Деммени заново поставили «Сказку о потерянном времени»[121] . С периферии приходят письма (адресованные, правда, не мне, а актерам), из которых ясно, что картина «Золушка» понята именно так, как мне хотелось. А самое главное, я пишу новый сценарий и многое в нем пока как будто выходит. Сценарий о двух молодых людях, которые только что поженились, и вот проходит первый год их жизни с первыми ссорами и так далее и тому подобное[122] . Главная трудность в том, чтобы сюжет был, но не мешал. (Словом, как всегда, когда я касаюсь самого основного, литературы, и касаюсь, так сказать, со стороны, мне делается совестно, слова отнимаются и мне хочется заткнуться). Итак, работа на данный день идет.
1948
21 апреля
Приезжали немецкие писатели[123] . Бернгард Келлерман очень, очень старый. Я в детстве любил «Туннель» и ощущал эту книгу как некое жизненное явление, без автора, без начала, – как чудо; словом, так, как ощущается книга в детстве. И расстроился, увидев дряхлого, земного автора, как удивлялся и расстраивался много раз. И, вообще, что-то он мне не показался. Остальные немцы ничего себе, тем более что никого из них я не читал раньше. Еще что? Читал в Комедии два акта «Медведя». Впрочем, об этом я уже писал. Пробую пьесу кончить. Моя собственная неуверенность мешает мне направить ее по той или другой дороге. Что еще? Попробую писать детскую пьесу[124] . Попроще сюжетом и побогаче.
29 августа
Необходимо решить, что я буду писать дальше. Вот и буду размышлять вслух, чтобы заодно научиться печатать на машинке.
Прежде всего мне надоела моя сказочная манера писать. Все это искусство не слишком точное. Это мне особенно заметно, когда я читаю сказки моих коллег. И не все туда уложишь. В сказку-то.
Тем не менее надо подумать именно о сказке для МТЮЗа. У меня договор с ними[125] . Театр этот со мною всегда был трогательно внимателен и мил.
О чем же сочинить сказку? Приятнее всего мне сказка трогательная. Точнее, сейчас мне хочется сделать именно такую сказку. Трогательнее всего, пожалуй, история о братце и сестрице, об Аленушке и Иванушке. Но боюсь, что это выйдет похоже на «Снежную королеву»[126] .
17 сентября
Какие я сделал открытия за это время?
1. Читая рукопись Сильман о Диккенсе[127], я понял, что в литературоведении, определяя творческие особенности писателя, пользуются методом так называемых армянских загадок. То есть берут подлинные свойства предмета, но не те, которые определяют его на самом деле. Например: сказать о письменном столе «четыре ноги, сверху перья» – это значит назвать его подлинные свойства, но не те, которые его определяют. Этот способ определять предмет уводит от него, а не приводит к нему. В армянской загадке на это и рассчитывают. В литературоведении искренно верят, что вносят некую научную ясность. А для меня признаки, выбранные ими, необязательны и случайны.
Впрочем, как раз к Сильман это не относится. Я, читая ее, удивился, что не испытываю привычного озлобления при разборе творческих особенностей писателя, которого очень люблю. Стал думать: почему же это? И пришел к вышеупомянутым заключениям.
Не видишь человека дня два, потом увидишь, и он спросит: «Что нового?» Столько за эти два дня передумано, столько перечувствовано. «Что нового? – отвечаешь. – Да ничего…»
4 октября
При бесконечных разговорах о влиянии, которые так любят литературоведы, кроме многих других вещей, они не учитывают одного обстоятельства. Я полушутя изложил его в стихах следующим образом:
На душе моей темно, Братцы, что ж это такое? Я писать люблю одно, А читать люблю другое!И в самом деле. Я люблю Чехова. Мало сказать люблю – я не верю, что люди, которые его не любят, настоящие люди. Когда при мне восхищаются Чеховым, я испытываю такое удовольствие, будто речь идет о близком, лично мне близком человеке. И в этой любви не последнюю роль играет сознание, что писать так, как Чехов, его манерой, для меня немыслимо. Его дар органичен, естественно, только ему. А у меня он вызывает ощущение чуда. Как он мог так писать?
А романтики, сказочники и прочие им подобные не вызывают у меня ощущения чуда. Мне кажется, что так писать легко. Я сам так пишу. Пишу с наслаждением, совсем не похожим на то, с которым читаю сочинения, подобные моим. Точнее, родственные моим.
В чем же дело?
Неужели на меня влияют те писатели, которые нравятся мне меньше? Или дело здесь в органической, врожденной (как голос, к примеру) склонности к данному виду литературы? Или на самом деле влияние было, но так давно, в таком раннем детстве, что я начисто об этом забыл?
Не думаю, что раннее, детское впечатление такой силы можно было бы забыть.
Припоминаю теперь, что первую свою пьесу «Ундервуд»[128] я совершенно искренне считал произведением вполне реалистическим. С удивлением и удовольствием услыхал я, что у меня получился новый вид сказки. Очень мне это понравилось. Думаю, что в дальнейшем я сознательнее, чем прежде, старался, чтобы пьесы мои походили на сказки.
К чему я все это пишу? Во-первых, потому что продолжаю учиться печатать. А во-вторых, потому, что вопрос о влияниях не так прост и решается не столь прямо. Прекрасная вещь возбуждает желание работать, но не передразнивать, если ты уже человек, а не обезьяна. А работаешь – как можешь.
1950
30 июня
Я помню себя лет с двух. Во всяком случае, я помню отчетливо, что стою во дворе, возле красной кирпичной стены. Кто-то спрашивает: «Сколько тебе лет?» И я отвечаю: «Два года». Помню железный флюгер в виде петуха за окном нашей комнаты в Казани. Полукруглые ступени, ведущие в университетскую клинику. Каюту. Палубу пассажирского парохода и маленький буксирный колесный пароход, бегущий у высокого зеленого берега. Мы много переезжали, – вероятно, поэтому я помню себя столь маленьким.
1 июля
Да, мы часто переезжали, когда я был маленький. Помню поезда. Помню огромные залы, буфетные залы, где ждали мы пересадки. Тоненькие макароны, которые я почему-то считал свойственными только вокзалам и которые иногда с соответствующей мясной подливкой и теперь напоминают мне детское ощущение дороги, праздника. Поездки всегда были для меня праздником. Мне и теперь непонятно, когда меня спрашивают, не мешают ли мне поезда, которые проходят довольно близко от нашей дачи. Не мешают, а радуют, особенно когда слышу их сквозь сон.
25 июля
Что я еще помню из самого раннего детства? Квартиру в Екатеринодаре. То во дворе, в красном кирпичном домике, то комнату, которую мы у кого-то снимали, очевидно. Во всяком случае, хозяйские девочки показывали мне «Ниву» в переплете, где сильное впечатление на меня произвела картинка «Голодающие индусы». Это были, как я теперь понимаю, разновременные наезды в родной город отца в промежутки между разными его службами до Майкопа. Помню, как в Дмитрове меня разбудила мама и сказала: «Не пугайся, мы поедем кататься». Это, очевидно, 98 или 99 год, когда отца арестовали и увезли в Казань, а мы отправились за ним.[129] Помню свидание в тюрьме. Отец и мать сидят за столом друг против друга, а между ними жандарм, положив сложенные руки на стол. «Не шуми! – говорит мать. – Полицейский заберет». – «А вон полицейский», – говорю я, указывая на жандарма, и все смеются. Больше ничего не помню, хотя по рассказам знаю, что на этом же свидании жандарму показалось, что, целуя на прощанье мать, отец передал ей записку; жандарм схватил мать за лицо: «Откройте рот!» Отец бросился на жандарма. И я все забыл.
27 июля
Черкасов рассказывает об Эйзенштейне: «Он боялся умереть – мексиканская гадалка предсказала ему смерть в пятьдесят лет. Когда в Доме кино хотели отпраздновать его пятидесятилетний юбилей, он сказал: „Тсс, тсс, отложим на месяц“, – и умер через две недели. Он всегда был в маске. Он меня очень любил, но откровенен со мною не был. На съемках шутил, чтобы повысить настроение. В ужасных условиях снимали мы „Грозного“.[130] Эйзенштейн глядит в аппарат: «А ну, царюга, пять шагов вперед. Так. Полшага вправо. Шаг влево». И вдруг что-то ледяное падает мне за шиворот. Это, оказывается, Эйзенштейн нарочно подвел меня к сосульке, с которой капало. Он был суеверен – ничего не начинал в понедельник или пятницу. Как его любили в группе!»
28 июля
Историю с поросенком на пасхальном столе помню едва-едва, и то, вероятно, потому, что мать рассказывала мне ее неоднократно. Это был первый пасхальный стол, устраивавшийся у нас дома, – значит, отец уже служил твердо. В Ахтырях? Не спросил в свое время. Я утром, радостный, в новой рубахе и сапогах, вбежал в столовую. И вдруг родители услыхали отчаянный плач и крики: «Хвостик, хвостик». Мать поспешила ко мне и увидела, что я показываю на поросенка, лежащего на блюде, и все повторяю, обливаясь слезами: «Хвостик». Этим я пытался (как я смутно припоминаю) объяснить ужас поразившего меня явления. Поросенок совсем как живой, с хвостиком, лежит в страшной неподвижности, разрезанный на куски… Ясно помню фамилию – барон Дризен.[131] Он устроил в Рязани любительский кружок, в котором (как я узнал впоследствии) со славой играют почти все Шелковы. Особенно мама и дядя Федя.[132] Позже фамилия барона Дризена начинает принимать переносный смысл. Я вижу, что тетя Саша[133] прячет на шкаф от своих детей виноград. «Почему?» – спрашивает мама. «К Ване (мой двоюродный брат) пришел барон Дризен», – отвечает тетя Саша.
Дед мой был цирюльник в старинном смысле этого слова. Он отворял кровь, ставил пьявки (помню их на окне в цирюльне), дергал зубы и, наконец, стриг и брил. И всегда, когда я забегал в цирюльню, там пахло лавандовой водой, стрекотали ножницы, вертелись особые головные щетки, похожие на муфту с двумя ручками, и дед и мастера весело приветствовали меня. Как я узнал впоследствии, по семейным преданиям, дед был незаконным сыном помещика Телепнева. Во всяком случае, дочери этого последнего всю жизнь навещали деда, нежно любили его, и, когда их экипаж останавливался у цирюльни, бабушка говорила деду, улыбаясь: «Иди встречай, сестрицы приехали». Благодаря сложности положения незаконнорожденного, у деда была какая-то путаница с фамилиями. Он был не только Шелков, но и Ларин. Мне объясняла мама почему, но я забыл. Отец мой, который считал, что русский писатель должен иметь русскую фамилию, хотел, чтобы я подписывался – Ларин, но я все как-то не смел решиться на это. Несмотря на свою скромную профессию, дед всем детям дал образование…
Из дядей я больше всего любил Колю[134] – худого, длинного, длиннолицего, который все показывал мне разные чудеса: то бузинные шарики прыгали у него в коробочке со стеклянной крышкой, то он звал меня в коридор дачи, и там разыгрывалось целое представление: зима. Кто-то появлялся из-под лестницы, ведущей во второй этаж, съезжал на санях с горки, валил снег, все хлопали в ладоши, и я был счастлив. В один из приездов мы застали дядю Колю больным. Он лежал в кровати и был так страшен, что я не осмеливался подойти к нему, хотя он ласково улыбался и манил меня к себе. Возле Рюминой рощи стоял заброшенный деревянный дом Рюминых, двухэтажный, огромный, как мне тогда казалось. Внизу в широких рамах либо не было стекла, либо открывалась форточка. И вот дядя Коля подсадил меня в эту форточку, и я попал в большой зал. Наверх вела лестница с белыми перилами, у стены стоял клавесин, как мне кажется теперь. Вероятно, это было первое в моей жизни поэтическое впечатление. Кресла, столы, клавесин, лестница – и никого тут нет, ни одного человека! К ужасу дяди Коли, я побежал наверх по лестнице. Он меня звал, а я не шел к окну, все бегал да бегал…
Я тогда говорил не теми словами, что теперь. Передавая теперешним моим языком тогдашние богатейшие мои ощущения, я, конечно, вру, но поневоле. Привычные мои детские воспоминания как бы прикрыты отныне этими сегодняшними страницами. Но вместе с тем, оттого что сознательно я не лгу ни в одном слове, что-то встает передо мною живее, чем до сих пор. Немые дни как бы начинают и говорить и дышать. Вот, например, я пишу: «Я не запомнил ни одну из нянек». Что-то смутно тревожит меня после этих слов. И вдруг выплывает имя Христина. Я вижу веселое лицо. Веснушки. Да это и есть моя екатеринодарская няня. Я слышу, как мама говорит о ней: «Вот это хорошая няня». Я вспоминаю, как мы с няней стояли в толпе, смотрели на чьи-то необыкновенно пышные похороны. Опершись о колено отца, я сообщаю ему, что видел, как хоронили царя. «Цавя», – весело передразнивает отец и объясняет, что умер не царь, а городской голова. Я после этого, к великому утешению мамы, рисую голову на ножках и спрашиваю, таким ли был голова при жизни.
Все это я не вспоминал много-много лет, в особенности же няню Христину… А главное, сегодня пьеса не шла, и я с удивлением и робким увлечением стал писать о столь непривычных для меня вещах.
29 июля
Квартира с большим садом у людей по фамилии Дуля. Хозяева – военные. Тут я обрезал палец левой руки, средний, и сохранил шрам до сих пор. И порезал-то не сильно – на неудачном месте – на сгибе. Здесь же я под столом разговаривал с кошкой, и вдруг она протянула свою лапу и оцарапала меня. Это меня оскорбило. Ни с того ни с сего, без всякого повода и вызова протянула спокойно лапу – вот что обидно, – да и оцарапала. Будто дело сделала. И вскоре после этого – еще большая обида: теленок, который казался мне огромным, бычок с едва прорезавшимися тупыми, еле видными рожками погнался за мною по саду и догнал у самого перелаза во двор. И прижал своими тупыми рожками к плетню. Это само по себе было обидно, но еще обиднее показалось мне то, что, прогоняя теленка, мама смеялась!
Но вернусь в Рязань. Мирные разговоры на балконе и удивительно спокойный и ласковый дедушка, который, по маминым словам, ни разу в жизни не повысил голоса. Правда, он все грозил мне, что выпорет меня крапивой. И поэтому на карточке его, присланной нам после его смерти бабушкой, стоит надпись: «Милому внуку на память о дедушке крапивном». Но я отлично понимал, что угроза шуточная. Дедушка, видимо, был несколько расточителен, а при такой большой семье каждая копейка была на учете, и учетом этим ведала бабушка. Однажды мы с ним ехали на извозчике, и дедушка попросил меня не говорить об этом бабушке. Я и не сказал. Но яйца, которые мы везли на дачу, разбились, и извозчик, знакомый деду, шутил добродушно: «Яичницу привезете на дачу хозяйке». Вот это я и рассказал, когда все уселись пить чай. Помню, как захохотали дяди и тетки, а дед схватился за голову.
2 августа
Из отрывочных воспоминаний – забыл записать посещение театра. Давали, как я узнал уже много позже, «Гамлета». (Это было в Екатеринодаре.) Помню сцену, по которой ходили два человека в длинной одежде. Один из них – в короне. «О духи, духи!» – кричал один из них. Это я изображал дома. Незадолго до этого я научился здороваться и прощаться. И после спектакля я вежливо попрощался со всеми: со стульями, со стенами, с публикой. Потом подошел к афише, имени которой не знал, и сказал: «Прощай, писаная». Все засмеялись, что очень мне понравилось. Помню репетицию любительского спектакля (это уже в Рязани). Маленькая сцена, на ней много народа. Все больше женщины, я теряюсь среди длинных юбок. Помню спектакль «Волшебная флейта».[135] Мама села где-то позади, а меня усадили в первом ряду. Когда героя стали вязать, я заорал: «Мама!» и побежал по проходу, чтобы найти ее. Помню, как раздвинулся куст, впрочем, больше похожий на шкаф, и в нем обнаружилась флейта. Больше ничего не помню.
3 августа
Отрывочные воспоминания собраны как будто полностью. Папа после ареста не мог жить и служить в губернских городах – и вот мы переехали в Ахтыри на Азовском море. Здесь отец поступил врачом в городскую больницу. С этого времени я помню все подряд, отрывочные воспоминания кончаются. Это, вероятно, 99–900 годы. Мне четыре года.
5 августа
Одна из нянек рассказывает мне сказку об Ивасеньке, которому мать поет: «Ивасенька, сыночек мой, приплынь, приплынь до бережку». Слово «приплынь» глубоко трогает меня. Мне кажется, что мать так и должна звать сына.
18 августа
Но вот, наконец, совершается переезд в Майкоп, на родину моей души, в тот самый город, где я вырос таким, как есть. Все, что было потом, развивало или приглушало то, что во мне зародилось в эти майкопские годы. Как бы в ознаменование столь важного для всей семьи события мы поехали в Майкоп не обычным путем. В дальнейшем мы ездили туда так: до Армавира или Усть-Лабы поездом, а оттуда на лошадях, в так называемом фургоне, до места. На этот же раз мы поехали в карете! Прямо до самого Майкопа… Помню и ночлег – вероятно, не на постоялом дворе. Стол, покрытый вязаной скатертью. Диваны в чехлах. Альбом с фотографиями. А главное, первый в моей жизни переплетенный за год журнал, который привел меня в восторг, – «Родина», издание Каспари. На последней странице каждого из пятидесяти двух номеров журнала смешные картинки. Я с трудом отрываюсь от толстой книги, чтобы поужинать, и долго отказываюсь идти спать. И вот, проехав в карете около ста верст, мы попали, наконец, в мой родной, счастливый и несчастный город.
24 августа
Майкоп был основан лет за сорок до нашего приезда. Майкоп на одном из горских наречий значит: много масла, на другом – голова барыни, а кроме того, согласно преданиям, был окопан в мае – откуда будто бы я пошло имя Май-окоп. Несмотря на свою молодость, город был больше, скажем, Тулы. В нем было пятьдесят тысяч населения. С левой стороны примыкал [к городскому саду] Пушкинский дом – большое, как мне казалось тогда, красивое кирпичное здание. В одном крыле его помещалась городская библиотека, окна которой выходили в городской сад, а все остальное помещение было занято театром. Занавес театра представлял собою копию картины Айвазовского: Пушкин стоит на скале низко, над самым Черным морем. Помню брызги прибоя – крупные, как виноград. Автором этой копии был архитектор, строивший Пушкинский дом. Старшие, к моему огорчению, не одобряли его работу. Это мешало мне восхищаться занавесом так, как того жаждала моя душа. Я вынужден был скрывать свои чувства.
Вокруг Майкопа лежали с одной стороны великолепные черноземные степи, засеянные пшеницей и подсолнухом, а за Белой начинались леса, идущие до моря, до главного хребта, до Закавказья. Майкопский отдел богат, Майкопский отдел – житница Кубанской области; если бы городское хозяйство велось как следует, то город давно был бы вымощен, освещен, украшен и так далее и так далее. Все это я привык слышать чуть ли не с первых дней нашего пребывания в Майкопе. А пока что город летом стоял в зелени, казался чистеньким из-за выбеленных стен, но ранней весной, осенью да и теплой зимой тонул в черноземной грязи. На тротуарах росла трава.
27 августа
В доме Родичева[136] появились первые книги, которые помню до сих пор, и первые друзья, с которыми – или рядом с которыми – я прожил до наших дней. Книги эти были сказки, в издании Ступина. Сильное впечатление произвели обручи, которыми сковал свою грудь верный слуга принца, превращенного в лягушку, боясь, что иначе сердце его разорвется с горя. Это было второе сильное поэтическое впечатление в моей жизни. Первое – слово «приплынь» в сказке об Ивасеньке. И надо сказать, что оба эти впечатления оказались стойкими. Сказку об Ивасеньке я заставлял рассказывать всех нянек, которые, как было уже сказано, менялись у нас еще чаще, чем квартиры. В ступинских изданиях разворот и обложка были цветные. Картинки эти, яркие при покупке книжки, через некоторое время тускнели, становились матовыми. Я скоро нашел способ с этим бороться. Войдя однажды в комнату, мама увидела, что я вылизываю обложку сказки. И она решительно запретила мне продолжать это занятие, хотя я наглядно доказал ей, что картинки снова приобретают блеск, если их как следует полизать. В это же время обнаружился мой ужас перед историями с плохим концом. Помню, как я отказался решительно дослушать сказку о Дюймовочке. Печальный тон, с которого начинается сказка, внушил мне непобедимую уверенность, что Дюймовочка обречена на гибель. Я заткнул уши и принудил маму замолчать, не желая верить, что все кончится хорошо. Пользуясь этой слабостью моей, мама стала из меня, мальчика и без того послушного ей, совсем уже веревки вить. Она терроризировала меня плохими концами. Если я, к примеру, отказывался есть котлету, мама начинала рассказывать сказку, все герои которой попадали в безвыходное положение. «Доедай, а то все утонут». И я доедал.
31 августа
Помню, мама сказала, проглядывая газету: «Женя! Дрейфус опять осужден![137]» У меня сжалось сердце, и я воскликнул: «Да что ты говоришь?» И тотчас же отец сделал выговор нам обоим: маме за то, что она говорит со мною о вещах, которые я не понимаю, а мне за притворство. А между тем я не притворялся. Я жил одной жизнью с мамой, и раз она сказала о Дрейфусе с горечью, значит, и у меня сжалось сердце, которое, как я тогда полагал, помещается на месте солнечного сплетения. Во всяком случае, все горести и радости я ощущал именно этим местом.
1 сентября
Перехожу теперь к дому, который стал для меня впоследствии не менее близким, чем родной, и в котором я гостил месяцами. До наших дней сохранилась близкая связь с этим домом. Это дом доктора Василия Федоровича Соловьева.[138] Этот дом стоял на углу недалеко от армянской церкви, которая еще только строилась в те дни. Был он кирпичный, нештукатуренный. К нему примыкал большой сад, двор со службами. Направо от кирпичного дома стоял белый флигель. Здесь Василий Федорович принимал больных. На площади вечно, как на базаре, толпились возы с распряженными конями. На возах лежали больные, приехавшие из станиц на прием к Василию Федоровичу. Он был доктор, известный на весь Майкопский отдел. Практика у него была огромная. Отлично помню первое мое знакомство с Соловьевыми. Мы пришли туда с мамой. Сначала познакомились с Верой Константиновной,[139] неспокойное, строгое лицо которой смутило меня. Я почувствовал человека нервного и вспыльчивого по неуловимому сходству с моим отцом. Сходство было не в чертах лица, а в его выражении. Познакомили меня с девочками. Наташа – годом старше меня, Леля – моя ровесница, и Варя – двумя годами моложе. Девочки мне понравились. Мы побежали по саду, поглядели конюшню, запах которой мне показался отличным, и нас позвали в дом. Мама собиралась уходить, а Вера Константиновна с девочками провожать нас. Когда Наташа стала надевать свою шляпку, выяснилось, что резинка на ней оборвана. Вера Константиновна стала чернее тучи. «Почему ты не сказала мне, что оборвала резинку?» – «Я не обрывала». – «Не лги!» Разговор стал принимать грозный характер. Я отлично понимал, по себе понимал, куда он ведет. И, страстно желая во что бы то ни стало отвести неизбежную грозу, я сказал неожиданно для себя: «Это я оборвал резинку». Тотчас же темные глаза Веры Константиновны уставились на меня, но уже не гневно, а удивленно и мягко. Меня подвергли допросу, но я стоял на своем. Вскоре мы шли по улице, дети впереди, а старшие позади. Я слышал, как старшие обсуждали вполголоса мой поступок, но ни малейшей гордости не испытывал. Почему? Не знаю. Мы зашли в пекарню Окумышева, турка с огромной семьей, члены которой жили по очереди то в Майкопе, то в Константинополе. Там угостили нас пирожными, и мы простились с новыми знакомыми. Вечером мама еще раз допросила меня, но я твердо стоял на своем. Засыпая, я слышал, как мама с грустью сообщила отцу, что, очевидно, резинку и на самом деле оборвал я. Но и тут я ни в чем не признался. Теперь несколько слов о моем отце. Он был человек сильный и простой. В то время ему было примерно двадцать семь лет. Он скоро оставил должность городского врача и стал работать хирургом в городской больнице. Продолжал он и свою политическую работу, о которой узнал я много позже. У них была заведена даже подпольная типография, которую потом искал старательно майкопский истпарт, да так и не нашел. Было предположение, что мать некоего Травинского (кажется), в сарае которых зарыли типографию, вырыла ее да и выбросила по частям в Белую. Участвовал отец и в любительских спектаклях. Играл на скрипке. Пел. Рослый, стройный, красивый человек, он нравился женщинам и любил бывать на людях. Мать была много талантливее и по-русски сложнее и замкнутее… Боюсь, что для простого и блестящего отца моего наш дом, сложный и невеселый, был тесен и тяжел. Думаю, что он любил нас, но и раздражали мы его ужасно.
2 сентября
Отец спит после обеда. Мы с мамой рассматриваем книжку, присланную в подарок бабушкой Бальбиной Григорьевной, екатеринодарской бабушкой. Это большого формата книжка с цветными картинками, в картонном переплете… Текста в книжке не было. Были изображения зверей с подписями. «А вот зебра, – говорит мама. – Или нет, это ослик». – «А какая бывает зебра?» – спрашиваю я. «Полосатая». – «А что значит полосатая?» – «Помнишь кофточку, что была на Беатрисе Яковлевне?[140] Вот она и была полосатая. А вот лев, царь зверей». Пока мы беседовали, стол накрыли к вечернему чаю, подали самовар, и отец вышел из своего кабинета. Он был мрачен. Я сказал: «Вышел Лев, царь зверей». Отца звали Лев Борисович, что и было причиной злосчастного моего замечания. Я не успел после этих слов и глазом мигнуть, как взлетел в воздух. Отец схватил меня и отшлепал. С тех пор прошло примерно сорок девять лет, но я помню ужас от несоответствия мирных, даже ласковых, даже почтительных моих слов с последующим наказанием. Прощай, мирный вечер! Я рыдал, родители ссорились, самовар остывал. Неуютно, неблагополучно! У отца был особый прием наказывать меня. Он брал меня к себе под левую руку, а правой шлепал по заду. Это было не очень больно, но страшно и оскорбительно. Называлось это – взять под мышку. Мама так и говорила: «Смотри, попадешь к папе под мышку!» Однажды, проснувшись ночью, я услышал, что мама плачет, а папа кричит, сердится. Я заплакал. Мама сказала отцу: «Перестань, ты напугаешь ребенка». На что отец безжалостно ударил кулаком по голове самого себя и еще раз, и еще раз и сказал что-то вроде того, что, мол, гляди, до чего довели твоего отца. Если он бил самого себя, – значит, доходил до последнего градуса ярости. И это случалось много чаще, чем он шлепал меня.
3 сентября
Я могу припомнить только два-три случая за все мое детство взлета высоко в воздух, отцу под мышку. Вероятно, самая редкость наказания сделала его столь памятным во всех подробностях. В те времена отец страдал сильнейшими приступами мигрени. Вот он идет в кабинет, зажмурившись, побелев, говорит нам: «Опять флажки, флажки», – так называл он мелькания в левом глазу. Он, как вся их семья, был очень нервен, но вместе с тем, как я уже сказал, прост, прост по-мужски, как сильный человек. Так же сильно и просто он сердился, а мы тяжело обижались, надолго запоминали его проступки перед семьей. Его любили больные, товарищи по работе, о вспыльчивости его рассказывали в городе целые легенды, рассказывали добродушно, смеясь. Любила его, конечно, в те времена и мама, но, неуступчивая, самолюбивая, замкнутая, тем сильнее обижалась и не шла на размены и упрощения. А я испытывал в присутствии отца, которого понял и оценил через десятки лет, – только ужас и растерянность, особенно когда он был хоть сколько-нибудь раздражен. А в те времена, повторяю, это случалось слишком часто. К сожалению, у нас начинала образовываться семья, которая не помогала, а мешала жить. И теперь, когда я вспоминаю первые месяцы майкопской нашей жизни, то жалею и отца, и мать. Вот он ходит взад и вперед по большой зале родичевского дома, играет на скрипке. Бородатая его голова упрямо упирается в инструмент, рука с искалеченным пальцем легко держит смычок. Я слушаю, слушаю, и мне не нравится его музыка. Я не хочу, чтобы он перестал, мне не скучно слушать скрипку, но это его, папина, музыка, и она враждебна мне, как все, что исходит от него. А отец все бродит и бродит по залу, как по клетке, и играет. Чаще всего играл он presto Крейцеровой сонаты.
10 сентября
Когда-то, учась писать на машинке, я стал разбирать и соображать, почему все классики наши, по очереди, ссорились с Тургеневым. И пришел к заключению, что они все возмущались тем, что Тургенев – литератор и только. Сейчас вышел 60-й том полного собрания сочинений Толстого, и я купил его. Это юбилейное издание – самое полное, я жалею, что не подписался на него вовремя. В письме к Боткину[141] (прекрасном письме) я прочел следующее: «Слава богу, я не послушал Тургенева, который доказывал мне, что литератор должен быть только литератор» (21 октября 1857). В целом же этот том толстовских писем и радует и утомляет. У меня это наболевшее место – переменчивые, гениальные, по-русски деспотические натуры.
12 сентября
Мы идем откуда-то вечером, и я первый раз в жизни замечаю лунный свет, его особенную прелесть, и длинные, необыкновенно длинные тени перед нами. Пыль. Новое сильное поэтическое впечатление, навеки вошедшее в мою жизнь.
13 сентября
Мы сидим с мамой на крылечке нашего белого домика. Я полон восторга: мимо городского сада, мимо пивного завода, мимо аптеки Горста двигается удивительное шествие. Мальчишки бегут за ним, свистя, взрослые останавливаются в угрюмом недоумении – цирк, приехавший в город, показывает себя майкопцам. Вот шествие проходит мимо нас: кони, ослы, верблюды, клоуны. Во главе шествия две амазонки под вуалями, в низеньких цилиндрах. Помню полукруг черного шлейфа. Взглядываю на маму – и вижу, что ей не нравится цирк, амазонки, клоуны, что она глядит на них невесело, осуждая. И сразу праздничное зрелище тускнеет для меня, будто солнце скрылось за облаком. Слышу, как мама рассказывает кому-то: «Наездницы накрашенные, намалеванные», – и потом повторяю это знакомым целый день.
14 сентября
Книги. В это время я читал уже хорошо. Как и когда научился я читать, вспомнить не могу. Еще в Ахтырях я знал буквы. Кое-какие сказки ступинских изданий я не то знал наизусть, не то умел читать. Толстые книги мама читала мне вслух, и вот в жизнь мою вошла на долгое время, месяца на три-четыре, как я теперь соображаю, книга «Принц и нищий». Сначала она была прочитана мне, а потом и прочтена мною. Сначала по кусочкам, затем вся целиком, много раз подряд. Сатирическая сторона романа мною не была понята. Дворцовый этикет очаровал меня. Одно кресло наше, обитое красным бархатом, казалось мне похожим на трон. Я сидел на нем, подогнув ногу, как Эдуард VI на картинке, и заставлял Владимира Алексеевича[142] становиться передо мною на одно колено. Он, обходя мой приказ, садился перед троном на корточки и утверждал, что это все равно. Среди интересов, которыми я жил, чтение заняло уже некоторое место.
24 сентября
И вот однажды – (было это летом 1902 года? Вероятно, так. Возможно, что годом позже, но вряд ли) – я увидел семью Крачковских.[143] Это событие произошло в поле, между городским садом и больницей. Перейдя калитку со ступеньками, мы прошли чуть вправо и уселись в траве, на лужайке. Недалеко от нас возле детской колясочки увидели мы худенькую даму в черном с исплаканным лицом. В детской коляске сидела большая девочка, лет двух. А недалеко собирала цветы ее четырехлетняя сестра такой красоты, что я заметил это еще до того, как мама, грустно и задумчиво качая головой, сказала: «Подумать только, что за красавица». Вьющиеся волосы ее сияли, как нимб, глаза, большие, серо-голубые, глядели строго – вот какой увидел я впервые Милочку Крачковскую, сыгравшую столь непомерно огромную роль в моей жизни. Мама познакомилась с печальной дамой. Слушая разговор старших, я узнал, что девочку в коляске зовут Гоня, что у нее детский паралич, что у Варвары Михайловны – так звали печальную даму – есть еще два мальчика, Вася и Туся, а муж был учителем в реальном училище и недавно умер. Послушав старших, я пошел с Милочкой, молчаливой, но доброжелательной, собирать цветы. Я тогда еще не умел влюбляться, но Милочка мне понравилась и запомнилась, тем более что даже мама похвалила ее. Хватит ли у меня храбрости рассказать, как сильно я любил эту девочку, когда пришло время?
25 сентября
В Майкопе играют не только любители Приезжает труппа на лето. Среди актеров знаменитый Уралов. На троицу он приходит к нам. Крыльцо в зелени. А я в зале укрепил несколько веточек прямо на выбеленной стене – поплевал и наклеил. Уралов задумчиво глядит на веточки, видимо, не понимая, как это они держатся.
26 сентября
Из актеров моих детских лет, того раннего времени, помню еще Адашева. Вероятно, тогда я услышал впервые имя: Художественный театр. Удивлялись, как такой неважный актер, как Адашев, мог служить в этом театре. Никто, как я теперь соображаю, ни один из наших знакомых ни разу тогда не видел Художественного театра, но слава его была такова, что о нем все говорили с благоговением. Вообще уважение к славе, разговоры о том, что из кого выйдет, а из кого не выйдет, разговоры о писателях, актерах, музыкантах велись у нас часто. Я помню, как по-особенному оживлен был папа, когда к нам зашел Уралов. Славу уважали религиозно. Помню, как мама не раз рассказывала о том, что дедушка однажды сидел и грустно смотрел на своих детей. И маме показалось, что он думает: «Вот сколько сил потрачено на то, чтобы вырастить детей, дать им высшее образование, а из них ничего не вышло» Это следовало понимать так: никто из них не прославился. И я стал, не помню с каких пор, считать славу высшим, недосягаемым счастьем человеческим. Лет с пяти.
27 сентября
С тем же глубоким, искренним убеждением говорилось о столицах, причем о Москве ласковее. И я не помню, с каких лет проникся уважением к славе, к Москве, к Художественному театру. Сейчас мне придется говорить о резком переломе в моей жизни. Чтобы он стал вполне ясен, поговорю еще обо мне и маме. Я был вторым сыном. Первый умер шести месяцев от детской холеры. Мать впервые поддалась на уговоры отца и вышла пройтись, подышать свежим воздухом, оставив Борю (так звали моего старшего брата) на руках у няньки. Дело было летом. Нянька напоила мальчика квасом – и все было кончено. Мать всю жизнь не могла этого забыть. Меня она не оставляла ни на минуту. Вероятно, поэтому я не помню своих нянек. Вся моя жизнь была полна ею. Помню, с какой страстной заботливостью относилась она ко всему, что касалось меня, как чувствовала, думала вместе со мною, завоевав мое доверие полностью. Я знал, что мама всегда поймет меня, что я у нее всегда на первом месте. Заботливость обо мне доходила у мамы до болезненности. Она сама рассказывала мне, когда я был уже взрослым человеком, что когда в те давние времена я съедал меньше, чем положено, то она мучилась, не могла уснуть. «Довольно тебе его пичкать!» – кричал отец, когда я, плача, отказывался от яиц всмятку, ненависть к которым, приобретенную в те ранние дни, я сохранил на всю жизнь. Угадывала мама мои мысли удивительно. Я ничего не скрывал от нее, но далеко не все умел высказать. И тут она приходила мне на помощь. И вот однажды я проснулся не у мамы в спальне, а в папином кабинете. И услышал крик, который показался мне знакомым. «Мама, мама! – позвал я. – У нас кричит дикая цесарка». На мой зов появился папа. Он был бледен, но добр и весел. Посмеивался. Он сказал: «Одевайся скорей и идем. У тебя родился маленький брат». Так кончилось первое, самое раннее мое детство. Так началась новая, очень сложная жизнь.
28 сентября
«Одевайся скорее и идем», – сказал отец, и я, как часто случалось это со мною и в дальнейшем, не понимая, что с этого мгновения моя жизнь переломилась, весело побежал навстречу неведомому будущему. Мама лежала на кровати. Рядом сидела учительница музыки и акушерка Мария Гавриловна Петрожицкая, которая массировала ей живот. И тут же на маминой кровати лежал красный, почти безносый, как показалось мне, крошечный спеленутый ребенок. Это и был мой брат, которого на этих днях встретил я на Невском и со страхом почувствовал, как он утомлен, как постарел, как озабочен. Тогда же, сорок восемь лет назад, он показался мне до отвратительности молодым. Вот он сильно сморщил лоб. Вот открыл рот, и я услышал тот самый крик, который приписал дикой цесарке. И мама ласково стала уговаривать нового сына своего, чтобы он перестал плакать. Несколько дней я был рад и счастлив тому, что в нашем доме произошло такое событие. Помню, как мама, улыбаясь, рассказывала кому-то: «Женя побежал к Рединым, позвонил в парадное. Его спросили: „Кто там?“. А он закричал: „Открывайте поскорее, новый Шварц народился“. Однако этот новый Шварц заполонил весь дом, и я постепенно стал ощущать, что дело-то получается неладное. Мама со всей шелковской, материнской, бесконечной и безумной любовью принялась растить младшего сына. На первых порах он не одному мне казался некрасивым, что мучило бедную маму. Она все надеялась, что люди заметят вместе с нею, как Валя хорош. Доктор Штейнберг жаловался, что видел во сне, как мама бегала за ним с Валей на руках и спрашивала: „Правда ведь, он хорошенький?“ Каждая болезнь брата приводила ее в отчаянье. Было совершенно законно и естественно, что с 6 сентября старого стиля 1902 года мама большую часть своего сердца отдала более беспомощному и маленькому из своих сыновей. Но мне в мои неполные шесть лет понять это было непосильно. Я все приглядывался, все удивлялся и наконец вознегодовал.
29 сентября
И, вознегодовавши, я воскликнул: «Жили-жили – вдруг хлоп! Явился этот…» Эти слова со смехом повторяли и отец и мать много раз. Даже когда я стал совсем взрослым, их вспоминали в семье. Судя по этим словам, я довольно отчетливо понял, что дело в новом Шварце, а не в том, что я стал хуже. Но я так верил взрослым, в особенности матери, что невольное раздражение, с которым иногда она теперь говорила со мною, я стал приписывать своим личным качествам. Если мама говорила худо о наших знакомых, то они, как я неоднократно писал, делались в моих глазах как бы уцененными, бракованными, тускнели. И ни разу я не усомнился в справедливости маминых приговоров. Не усомнился я в них и тогда, когда коснулись они меня самого. Однажды я сидел за калиткой, на земле. Был ясный осенний день. Гимназистки, взрослые уже девушки, шли после уроков домой. Увидев меня, одна из них сказала: «Смотрите, какой хорошенький мальчик! Я бы его нарисовала». Я было обрадовался – и тотчас же вспомнил, что девушка говорит обо мне так ласково только потому, что не знает, какой я теперь неважный человек. И с грубостью, бессмысленной и удивлявшей меня самого, но все чаще и чаще просыпавшейся во мне в те дни, я крикнул вслед девушкам: «Дуры!» По старой привычке я побежал и рассказал все маме, и она побранила меня. Но я не мог объяснить ей, почему я выругал бедных гимназисток. Я, до сих пор окруженный, как футляром, маминой любовью и заботой, стал чувствовать неясно и бессознательно пустоту, страх одиночества и холод. В те дни стали определяться душевные свойства, которые сохранил я до сих пор. Неуверенность в себе и страх одиночества. К этому следует прибавить вытекающее отсюда желание нравиться. Мне страстно хотелось, чтобы я стал нравиться маме, как и в те дни, когда еще не явился «этот». Я всеми силами старался вернуть потерянный рай и, чувствуя, что это не удается бессмысленно грубил, бунтовал и суетился.
30 сентября
Конечно, все это развивалось постепенно, ото дня ко дню, но неуклонно, как менялась в те дни и погода. Первая майкопская весна сменилась летом, а вот пришла и осень. Пришел и день моего рождения, по старому стилю 8 октября 1902 года. Мне исполнилось шесть лет. Это первый день рождения, который я запомнил. Он праздновался особенно торжественно, и я получил много подарков. Думаю, что мама, чувствуя мою обиду и желая утешить и напомнить, что я по-прежнему ее сын, позаботилась об этом. Наступил этот торжественный день совершенно неожиданно. Я ждал, что он придет только послезавтра, но вдруг, проснувшись, увидел большого коня, ростом с крупную собаку. Он был обтянут настоящей шкурой, белой, с желтыми пятнами. Он стоял возле стула, на котором возвышалась коробка многообещающего вида и размера. Я получил кроме коня волшебный фонарь, прибор для рисования с картинками и матовым стеклом, кубики, лото. Оказывается, помня царский день, в ожидании которого я не мог уснуть, старшие решили скрыть от меня, что день моего рождения вовсе не послезавтра, а завтра. Я был рад, но впервые в жизни испытал удивившее меня чувство разочарования. Мне как будто грустно стало, что больше ждать нечего. Праздник прошел слишком скоро, достался мне легче, чем я думал, и это его как бы обесценивало.
1 октября
Да, именно с тех давних пор я приобрел привычку, с которой безуспешно борюсь до сих пор: сказав что-нибудь, заглядывать в лицо собеседнику, чтобы увидеть, какое впечатление произвели мои слова, или, что еще хуже, с улыбкой оглядывать всех, даже посторонних, сидящих за соседними столиками в ресторане или на скамейках трамвая: похвалите, мол, меня, бедного. Эта пагубная привычка привела к тому, что иной раз меня считают слабее, чем я есть. Это мешает во многих случаях моей жизни.
2 октября
Я стал много читать. Пустота, образовавшаяся вокруг меня, требовала заполнения. Я не мог, не научился жить один, и если не было книжек, то очень скучал. Очевидно, в течение всей зимы шел во мне какой-то процесс, требовавший много сил и не осознанный мною. Поэтому я не помню ни внешних событий, ни внутренних. В этот период моей жизни боязнь темноты усилилась. Темнота населилась живыми существами, крайне страшными.
3 октября
Переходный возраст переживаешь не только в тринадцать-четырнадцать лет, но и раньше и позже. Несомненно, что возраст между шестью и семью годами критический, причем у меня этот кризис совпал с рождением брата и отдалением мамы. Сильно развились чувства страха одиночества, мистического страха, ревности, любви; вспыхнуло воображение, а разум отстал, несмотря на чтение запойное и беспорядочное.
…На 1903 год мне выписали журнал «Светлячок», издаваемый Федоровым-Давыдовым. Он меня не слишком обрадовал. Был он тоненький. От номера до номера проходило невыносимо много времени, неделя в те времена казалась бесконечной. А кроме всего я жил сложно, а журнал был прост.
4 октября
Вероятно, в это же время я бывал часто у Соловьевых. У девочек в комнате стояла этажерка, каждый этаж которой был превращен в комнату, – там жили куклы. Я обожал играть в куклы, но всячески скрывал эту постыдную для мальчика страсть. И вот я вертелся вокруг этажерки и ждал нетерпеливо, когда девочек позовут завтракать или обедать. И когда желанный миг наступал, то бросался к этажерке и принимался играть наскоро, вздрагивая и оглядываясь при каждом шорохе. Мама знала об этой моей страсти, посмеивалась надо мной, но не выдавала меня. Когда мы были с нею в цирке? Вероятно, вскоре после того, как видели его торжественный въезд в город. Во всяком случае, это было летом, потому что зимнего цирка в городе не было. Мы смотрели представление в шапито, и я впервые погрузился в обстановку особенную, цирковую, которая очень понравилась бы мне, если бы мама не смотрела на арену так сурово и печально. Из-за этого я запомнил только китайских фокусников, которых мама похвалила. Тем не менее я был счастлив, и весь мир у меня в этот день вращался вокруг цирка. Я не преувеличиваю. Когда мы шли домой, то встретили на улице даму с двумя мальчиками. «Опоздали! – закричал им я. – Уже кончилось представление!»
Зимой 1902 года появился у нас знакомый, фамилию которого я забыл. Кажется, Сушков? Он побывал на Крайнем Севере. Впервые я услышал, что люди ездят на собаках, на оленях, увидел фотографии, привезенные оттуда, и года два ужасно любил Север и мечтал туда поехать. Особое, ни на что не похожее чувство вызывали у меня слова «ездовые собаки», «северный олень», «тундра». Я мечтал о Севере, пока не прочел «Образовательное путешествие» Вёрисгофер[144], после чего так же страстно влюбился в тропические страны, уже на более долгий срок.
5 октября
Попробую рассказать, как я играю в столовой вечером, один. Нянька с Валей, мама ушла куда-то в гости. Я надеюсь, что она вернется, пока я еще не лег спать. Керосиновая лампа освещает только стол. По углам полумрак. В зале – полная тьма. В спальне горит ночничок. Очень тихо, но для меня полной тишины не существует. Оттого что я болею малярией и принимаю дважды в день пилюли с хиной, у меня звенит в ушах. И в этом звоне я могу, если захочу (это похоже на те зрительные представления, которые я вызываю, закрыв глаза), услышать голоса. Вот кто-то зовет беззвучно, не громче, чем звенит в ушах, растягивая, растягивая: «Же-е-е-е-еня!» Темнота, как я открыл недавно, не менее сложна, чем тишина. Она состоит из множества мурашек, которые мерцают, мерцают, движутся. Если в темноте быстро поведешь глазами, то иногда видишь красную искру. Все эти свойства темноты и тишины я ощущаю непрерывно вокруг себя. Тревожит меня дверь в зал. Сядешь к ней лицом – видишь мрак, сядешь спиной – чувствуешь его за плечами. Но освещенный стол отвлекает и утешает меня. Сейчас стол похож на площадь. Дома вокруг площади сделаны из табачных коробок и коробок из-под гильз. Добриков уже не живет у нас, но я прорезаю окна в домах по его способу. По его же вырезаю я из бумаги сани с полозьями и лошадь к ним, похожую на собаку. Коробки стоят на боку. Крышки подняты и поддерживаются кеглями, как навесы. В домах живут. Пастух из игры «Скотный двор» стоит под навесом на подставке зеленого цвета с цветочками, как бы на траве, что не совсем идет к данному случаю. В другом живет заводной мороженщик с лопнувшей пружиной. Сундук его давно отломился. В третьем живет деревянный дровосек.
6 октября
Деревянный дровосек тоже часть известной кустарной игрушки – дровосек и медведь бьют деревянными молотами по деревянной наковальне. Игрушка давно распалась на части, и дровосек живет, как я сказал уже, в третьем коробочном, пахнущем табаком доме. Медведь живет возле. Я играю, вожу жителей города на санях, но эта ровная площадь между картонными домами, освещенная лампой, навесы, поддерживаемые кеглями, вызывают у меня мечты сильные, но трудно определимые. Не то мне хочется стать маленьким, как заводной мороженщик, и ходить тут по площади, покрытой скатертью, не то, чтобы этот игрушечный город стал настоящим и я жил бы в нем. Знаю только, что играть, как я играю, мне мало. А между тем вокруг становится все тише, а звон в ушах все отчетливее, нянька не возвращается, очевидно задремав возле Валиной кроватки. Из столовой стеклянные двери ведут в коридор. И мне кажется, что вот-вот кто-то заглянет в стекло. Я воображаю ясно, как кто-то рассказывает страшный рассказ: «Старшие ушли, а дома осталась нянька и дети…» От всех этих мыслей страх и тревога все больше овладевают мной. И темное пространство под столом кажется мне теперь угрожающим. Я подбираю ноги. Мне давно уже пора спать, но я не смею встать, не смею позвать няньку. И вдруг – все успокаивающий, все разрешающий шум отпираемой двери, голоса родителей. Я пробегаю, зажмурившись, наполненный мерцающей тьмой зал и бросаюсь на шею маме. Это было в 1902 году.
8 октября
Приходится с зимой, первой майкопской зимой, расстаться. Больше ничего я не могу вспомнить о ней. Разве только романс, который пел отец. Начинался он словами: «Я ласточку видел с разбитым крылом»[145] . Продолжения я не слышал ни разу. Музыка и слова так потрясали меня, что я, заткнув уши, бросался бежать куда глаза глядят. Однажды я услышал, как духовой оркестр под управлением Рабиновича сыграл этот самый романс, который был кроме того еще и вальсом, – действие было то же самое. Вообще в это время музыка стала действовать на меня. Главным образом все тот же духовой оркестр Рабиновича, особенно когда я слушал его вечером, издали. Что еще? Мне предстоит рассказывать о лете 1903 года, о последней поездке моей к маминым родным. Это сложно, трудно. Очень важное место в моей жизни занимает лето в Жиздре. На этот раз, по желанию бабушки, все ее дети съехались у старшего ее сына, Гавриила Федоровича[146], который служил в этом городе.
12 октября
Улица Плеханова. Барклай-де-толли.[147] От погоды и тоски мне памятник кажется безобразным. Слишком много тут отяжелевшего, пожилого человека. Никакая бронза, никакой постамент не сделают живот, затянутый в мундир, торжественным. Вот отчего так охотно ставят вместо фигуры в рост – бюсты или аллегорические нагие группы в драпировках, а не в штанах и сапогах. Вспоминаю, что в своих воспоминаниях Мертваго[148] сказал о Барклае-де-толли, что тот был умен, честен, талантлив, но характером походил скорее на вдову министра, чем на министра, да еще военного. Помню, как обрадовала меня эта шутка, единственная во всей строгой книжке, и как понравился мне сам тихий и деликатный министр среди солдафонов.
14 октября
Итак, летом 1903 года мы поехали в Жиздру через Москву и Рязань. Путешествие началось рано утром. Кажется, до Армавира провожал нас отец. Вале еще не было и года. Ехала ли с нами нянька? Не помню. Итак, рано утром к дому подъехал фургон, глубоко ненавистное мне четырехрессорное и потому непрерывно качающееся сооружение. Впряжена в него была тройка коней. Этот высоко поднятый деревянный ящик с дверцами был устлан сеном, чтобы ногам было мягче. Багаж помещался внутри. Самую громоздкую часть его – корзины – привязывали на запятках, между задними колесами. Как меня укачивало в этих фургонах! До сих пор запах сена меня тревожит, предчувствую, что мне будет дурно. Обычно я и мама два дня, которые мы тратили, чтобы добраться до Армавира, лежали и мучились. Ночевали мы в пути. Где? Не могу вспомнить. Помню только маленький армавирский вокзал. Сон на вещах. Пробуждение. Шатаясь, плетусь я до влажной скамейки и тотчас засыпаю. На рассвете я сижу на столике у вагонного окна и смотрю, смотрю. Я радуюсь всему, что бежит мимо поезда, и все забываю ради нового.
16 октября
Путь в Жиздру лежал через Москву. И я, наконец, увидел город, о котором столько слышал чуть ли не с первых дней своей сознательной жизни. Должен признать, что воспринимал в те годы все новое с одинаковой жадностью, как и подобает щенку. Частности заслоняли главное, смотреть я не научился. Через Москву мы поехали на извозчике, переполненном до крайности. Во всяком случае, я сидел у мамы в ногах, поперек пролетки, свои ноги расположив на приступочке. Извозчик крестился у церквей, и, едва он снимал свою твердую плоскую шляпу с загнутыми полями, я тоже снимал картуз и с наслаждением крестился вслед за ним. В Майкопе я чувствовал, что мои отношения с небом несколько запутались и затуманились. Это меня мучило, особенно вечерами, когда мамы не было дома. Здесь дело обстояло проще, как и всегда, когда мы попадали к маминым родным. И я крестился себе вслед за извозчиком и с наслаждением чувствовал, что я такой же, как все. Пролетка тряслась и тряслась по булыжной мостовой, но вот мама оживилась: «Гляди, гляди, Кремль!» И мы поехали по такой же булыжной мостовой через Кремль. «Вон дворец!» Я поглядел на дворец, и он поразил меня количеством печных труб на крыше. Почему я заметил и запомнил только трубы? Не понимаю. Студентом уже я старался найти то место, откуда увидел крышу дворца, – и не мог. Потом мама показала мне царь-пушку, царь-колокол, окружной суд. Проезжая через Спасские ворота, мы с извозчиком сняли шляпы и перекрестились. И вот и все Одинаково отчетливо запомнились мне трубы, церкви, булыжная мостовая, мое место поперек пролетки, перегруженный извозчик, окружной суд. А то, что я впервые в жизни ехал через очень большой город с высокими домами – просто-напросто я проглядел. И вот мы приехали в Жиздру. Бабушка радостно приветствовала нас. Мне она показалась маленькой. Одета она была в черное и все спрашивала: «А ты помнишь дедушку крапивного?»
19 октября
Все, все в Жиздре шло не по-майкопски. Даже хлеб был совсем не такой, как в Майкопе. В Майкопе хлеб был белый, пшеничный, ржаного не продавали ни в булочной Окумышева, ни на базаре. Маме, скучавшей по своему рязанскому, северному хлебу, покупали его, при случае, в казармах у солдат. Им полагался по их солдатскому рациону непременно хлеб черный. А в Жиздре белый хлеб носил незнакомое мне имя ситного, а черный звался просто хлеб Пекли его дома. Яблоки в саду рвать не разрешалось, хотя многие сорта и поспели. Ждали спаса. Можно было собирать только яблоки упавшие. Это привело к игре – кто первый найдет яблоко в траве. Вот мы сидим, обедаем. Вдруг – казавшийся мне значительным, ясно слышимый в тихий летний день – звук яблока, стукнувшегося о землю. Несмотря на протесты и окрики старших, я, Ваня, Лида[149] вскакиваем из-за стола и мчимся на поиски. Вид яблока, лежащего в траве под деревом, до. сих пор особым образом радует меня. Вскоре в этой игре приняли участие и старшие. Помню, как мама, с их шелковской настойчивостью, изводила полдня Зину[150], показывая в лицах, как та стоит над самым яблоком и не видит его, а яблоко мигает маме: «Вот, мол, я, хватай, бери!» Помню счастливый день. Я, встав из-за стола после утреннего чая, задержался под яблоней, разговаривая с мамой. Вдруг порыв ветра – и три яблока упали разом, одно прямо мне в руки, а два – под ноги.
20 октября
Да, в те времена я был переменчив. Утром – один, днем – другой, вечером – третий. В Майкопе я был майкопским мальчиком, старался букву «г» произносить как немецкое «h» и стеснялся, что у меня светлые глаза, тогда как у всех вокруг – карие. В Жиздре же я был рязанским, как все Шелковы, и обижался, когда Зина дразнила меня черкесом. Я не приспособлялся к новой обстановке, не подражал, не поддавался влияниям, а просто менялся весь, как меняется речка утром, днем, вечером. Я, как, вероятно, и все дети, жадно впитывал новые впечатления, которые вызывали новые сильные чувства, иногда по глубине своей несоразмерные вызвавшему их явлению.
6 ноября
И вот уехали мы из Жиздры в Майкоп. Не удалось мне передать ощущение новой жизни, очень русской рядом с майкопской, окраинной, украинской, казачьей. Мы в последний раз в жизни повидали бабушку, в последний раз в жизни погрузился я в особую атмосферу шелковской семьи, и веселую, и насмешливую, и печальную, с предчувствиями, приметами, недоверием к счастью, и беспечную, и дружную, и обидчивую…
Майкопские мальчишки быстро переучили меня говорить букву «г» на великорусский манер, я снова стал стыдиться своих зеленых глаз. Рязанская семья уже навсегда стала воспоминанием.
9 ноября
Предыдущую тетрадь я вел три года, а эту – три месяца. Отчаянно стараюсь плыть, бьюсь с ужасным безразличием, в которое впадал от времени до времени всю жизнь, отчаянно стараюсь научиться писать по-новому. Пьеса за это время плыла медленно-медленно. Прежде я оставил бы второй акт таким, как вышел он у меня сначала. А теперь переписываю его в четвертый раз.[151] Пробовал, чтобы овладеть прозой, вспоминать детство. В дальнейшем попробую делать так: кратко рассказывать о ходе событий детства, а потом подробно описывать день или случай, определяющий данный период. До сих пор для упражнений в правдивости я записывал все, что вспомнил, не пропуская ничего. Когда доведу рассказ до поступления в реальное училище, попробую переписать на машинке все сначала. Привести в порядок. Сейчас главная моя беда в однообразии языка, что вызвано трусостью, ужасом перед штампами. Между тем есть штампы и штампы. Одни – мертвы. (Например: «Было тихо, слышалось только то-то и то-то, да где-то далеко это да это».) А другие штампы подобны формулам, которые только помогают. Сказать: «В этих домишках ютились» – для меня целое дело. Слово это литературно и не свойственно мне в разговоре. А оно вовсе не обедняет, а обогащает язык. Написать: «Сальери, мрачную легенду о котором обессмертил Пушкин» – я никогда не посмею. Но и в этой элоквенции[152] есть свое приличие. Только бы не уснуть опять на несколько месяцев, как прошлой зимой, только бы дописать эту пьесу, да начать упражнения в новой, пятой тетради, да заняться вплотную сценарием,[153] да ничего бы не мешало, не вышибало бы из колеи – и все будет славно.
16 ноября
Итак, мы вернулись в Майкоп, и началась новая зима 903/904 года. Осенью исполнилось мне семь лет. Я пережил новое увлечение – мама рассказала, как была она в Третьяковской галерее. И это почему-то поразило меня. «Картинная галерея» – эти слова теперь повергали меня в такой же священный трепет, как недавно «нарты», «ездовые собаки», «северные олени». Я оклеил все стены детской приложениями к «Светлячку».
17 ноября
Я стал гораздо самостоятельнее. Я один ходил в библиотеку – вот тут и началась моя долгая, до сих пор не умершая любовь к правому крылу Пушкинского дома. До сих пор я вижу во сне, что меняю книжку, стоя у перил перед столом библиотекарши, за которым высятся ряды книжных полок. Помню и первые две фамилии каталога: Абу Эдмонд. «Нос некоего нотариуса». Амичис Эдмонд. «Экипаж для всех». Меня удивляло, что в каталоге знакомые фамилии писателей переиначивались. Например, Жюль Верн назывался Верн Жюль. Левее стола библиотекарши, у прохода в читальню, стоял другой стол, с журналами. Но в те годы читальный зал я не посещал. Я передавал библиотекарше прочитанную книгу и красную абонементную книжку, она отмечала день, в который я книгу возвращаю, и часто выговаривала мне за то, что читаю слишком быстро. Затем я сообщал ей, какую книжку хочу взять, или она сама уходила в глубь библиотеки, начинала искать подходящую для меня книгу. Это был захватывающий миг. Какую книгу вынесет и даст мне Маргарита Ефимовна? Я ненавидел тоненькие книги и обожал толстые. Но спорить с библиотекаршей не приходилось. Суровая, решительная Маргарита Ефимовна Грум-Гржимайло, сестра известного путешественника, внушала мне уважение и страх. Ее побаивались, но и подсмеивались над ней. Ее знал весь город и как библиотекаршу, но еще более как «тую дамочку, чи баришню, что купается зимой». Одна из Валиных нянек рассказывала, что видела, как библиотекарша «сиганула в прорубь и выставила оттуда голову, как та гадюка». Как я теперь понимаю, у Маргариты Ефимовны был выработан строгий порядок жизни, из которого обыватели только и знали что неприветливость да зимние купанья. Она была одинока.
26 ноября
Я сам не представлял себе, как я мучительно не умею писать о том, что в детстве переживалось в самой глубине. Но мечта поймать правду, заставляющая меня быть столь многоречивым, желание добраться до самой сердцевины, нежелание быть милым и литературным толкает в шею.
…Весной 904 года мы поехали в Одессу. Поездка эта сыграла в моей жизни не меньшую роль, чем поездка в Жиздру. С Жиздрой связана любовь к церкви, колокольному звону, садам, сосновому бору. А в Одессе я полюбил корабли, лодки, порт, запах смолы и научился мечтать.
…Вчера ночью читал рассказы Сергея Антонова, и они понравились мне, очень, до боли. Я приревновал его к литературе, не мог уснуть. Он говорит, что болячки у девочки на колене были похожи на изюм. Точность и легкость эта меня поразила. И пейзажи отличные, и люди. И все это написано легко. И твердо. Напрасно я утешал себя тем, что пьесы я умею писать. Но зачем я в прозе глухонемой?
27 ноября
Итак, мы поехали в Одессу. Отношения между отцом и матерью все усложнялись, майкопская жизнь не удавалась. Мать решила, что зависеть материально от отца унизительно. Работать по специальности – акушеркой – она не могла. Это отнимало бы у нее слишком много времени. И вот, прочтя объявление о краткосрочных курсах массажа, которые были основаны каким-то доктором в Одессе, мама решила ехать туда учиться. Делать массаж она могла и дома, не оставляя нас, не поступая на службу. И вот мы поехали в Одессу.
Папа провожал нас. Ехали мы с няней, молодой девушкой. Звали няню – Оля. Она долго не решалась ехать так далеко. Приходила ее мать. Помню, как папа, уговаривая Олю, несколько раз повторил: «Увидишь море, большой город – когда тебе еще придется съездить так интересно!» И Оля согласилась наконец, и мы отправились в путь. Снова фургон, и отвратительный запах сена, и припадки морской болезни на суше, на страшных черноземных кубанских дорогах. Затем праздник и счастье – железная дорога. Сначала мы заехали в Екатеринодар – и тут я ничего не узнал, ничего не вспомнил. Ведь я не был там с весны 1902 года. Целый век! Приехали мы утром, вошли в просторную столовую дедушкиного дома и увидели бабушку, которая, приветливо улыбаясь, живо и быстро двигалась к нам навстречу из-за большого овального стола. И столовая, и стол, и стулья со спинками, и самовар на столе – все было большое, гораздо крупнее, чем у нас дома, а бабушка Бальбина показалась мне маленькой, как и русская моя бабушка на вокзале в Жиздре. Гораздо меньше, чем она вспоминалась. Увидел я скоро Исаака,[154] старшего моего дядю, перед которым испытывал непобедимую робость. Ни деда,[155] ни бабки я не боялся, а он ужасно смущал меня. Увидел худого и мрачного дядю Самсона – актера. Увидел Тоню,[156] но все это наскоро, впопыхах, как в тумане. Исаак заметил, с какой жадностью я читаю «Рейнеке-Лиса» в издании «Золотой библиотеки», и сказал: «Возьми эту книжку себе». Я ответил растерянно: «Если бы она была моя, то я ее взял бы, а она Тонина». – «Ну вот, теперь она и будет твоя! – сказал Исаак мрачно. – Бери!»
29 ноября
Ездил в город, отвозил Кошеверовой либретто сценария, который я назвал в память о последнем моем юношеском путешествии в горы «Неробкий десяток». Так назвал нашу компанию Юрка Соколов… Хоть кусочек поэтического, богатейшего опыта тех дней перенести бы в сценарий. Когда-то в «Клад»[157] я перенес частицу горных своих ощущений. Почему я пишу о детстве? Тургенев сказал, что человек с интересом говорит обо многом, а с аппетитом только о себе. Я надеялся, что этот аппетит и в самом деле пробудится во мне и я начну писать наконец и овладею постепенно языком, преодолею глухонемоту. Пока что нет у меня аппетита, и дело двигается с напряжением, через пень-колоду. А бросать еще страшнее.
6 декабря
Улицы в Одессе были такие оживленные, что мне все чудилась впереди толпа, которая смотрит на «происшествие». Этот отдел я читал в газете и мечтал своими глазами увидеть пожар, столкновение конки с извозчиком, поимку известного вора или нечто подобное. Но, увы, толпа впереди вечно оказывалась, когда мы к ней приближались, кажущейся. Просто те же прохожие сливались вдали в одно целое. Вот как мне трудно выразить самые простые вещи. В фургонах развозили искусственный лед – таскали его куда-то белыми длинными брусками. Лошади в Одессе носили шляпы с прорезами для ушей. Для собак были устроены под деревьями железные корытца с водой. Веселые, оживленные одесские улицы, деревья, коричневая мостовая на Дерибасовской, которую я с маминых слов считал шоколадной и все боялся спросить – не пошутила ли она, и свет, свет, солнце, жара, которая только веселила меня. И фруктовые лавочки, то в подвалах, то в ларьках, сначала с черешнями, которые мама, к моему удивлению, считала безвкусными, а потом с вишнями, которые я, к маминому удивлению, считал кислыми, и, наконец, с яблоками, грушами, дынями, арбузами. Обожал я киоски с газированной водой, но, увы, она оказалась подозрительной, и я любовался издали струей, бьющей в высокий стакан. Мама подозревала, что газированная вода приготовляется из сырой. Иногда над толпой показывались синие и красные воздушные шары, двигалась, покачиваясь и сияя на солнце, их великолепная, огромная, но легкая гроздь. С ними я просто не знал, что делать. Мне мало было держать шарики в руках, мало было глядеть на них, они вызывали жажду – чего? Я не знаю до сих пор. И эта жажда радовала меня. Шары, плывущие над толпой, вызывают до сих пор ясное, всегда одинаковое, сильное душевное движение, имени которому я не в силах найти.
7 декабря
И за садом в конце нашей улицы, и за Приморским бульваром внизу кипела морская, портовая, пароходная, канатная, лодочная, пахнущая смолой, бесконечно для меня привлекательная жизнь. Любовь, но не к морю, а к приморской жизни – вот сильное и новое чувство, вспыхнувшее в Одессе и отодвинувшее мою страсть к картинным галереям далеко назад. Это чувство не проходило много лет, усилилось, когда мы уехали из Одессы, и в сущности не умерло и до сих пор.
8 декабря
Вдруг вспомнил сейчас, как любил я маяк. Самая форма высокой белой башни со стеклянной вершиной казалась мне по-морски, по-одесски прекрасной. Однажды я увидел открытку, которая заставила меня задрожать от счастья, – ничем не заслоненный маяк от подножия до вершины возвышался в конце мола, красовался во весь рост. Мама купила мне эту открытку, и я носил ее с собою, пока не потерял. Форма лодки, на которую смотришь сверху, с мола, так же по-морски, по-одесски очаровывала меня.
9 декабря
На Приморском бульваре, левее лестницы в кафе, играл румынский оркестр. Сейчас мне кажется, что оркестранты были одеты в полосатые костюмы. Визг румынских скрипок вызывал у меня чувство неловкости. Оркестр под управлением Рабиновича нравился мне гораздо больше. Вспомнил вдруг, как однажды в Майкопе я пробрался в музыкантскую раковину, когда там играл вышеупомянутый оркестр. Я стоял сначала у двери, в которую входят музыканты, и дирижировал воздушным шариком. Но звуки музыки опьянили меня, я перешагнул через порог, все дирижируя и наслаждаясь. И вдруг старик с седой бородой и в серебряных очках, не отрывая губ от трубы, сделал страшные глаза и топнул на меня ногой. Я вылетел из раковины пулей. Это было года за два до поездки в Одессу. Итак, румын я не любил. Но вечером в нашем дворе с круглым сквериком слышался рояль.
10 декабря
Вечер начинался у нас очень рано, часов в шесть. Мы возвращались домой, закончив на сегодня все прогулки. Мама сидела над своими записями, училась, Валя играл с нянькой, а я скучал, мечтал, томился. Играть мне было не с кем. «Рейнеке-Лис» в издании «Золотой библиотеки» был зачитан и перечитан чуть не наизусть. Мама просила у хозяек книжек для меня, но у них нашлись только немецкие. Я бесконечно ссорился с Ольгой, безобразно грубил ей, дразнил брата, но и это не занимало меня полностью. Тогда, взяв круглую слоеную булку, я выходил во двор, садился на ступеньках высокого крыльца, глядел и слушал. Уже начинало темнеть. И непременно за открытыми окнами кто-нибудь играл на рояле. Иногда просто гаммы. Но музыка эта вместе с затихающим шумом улицы и стуком копыт по мостовой неизменно погружала меня в мечты. Часто мне представлялось следующее: вдруг всем на свете делалось по семь лет. Мое одесское вечернее одиночество тем самым обрывалось счастливейшим образом. То из одной, то из другой квартиры выбегали ее хозяева и предлагали, как это было принято на бульваре или в садике под парапетом: «Мальчик, хотите играть в золотые ворота?», «Мальчик, пойдемте играть в разбойники». В одной из квартир виднелись против окна большие шкафы с книжками, которые в мечтах моих все сплошь оказывались детскими… Я начинаю мечтать о том, что во многих квартирах заметили, наверное, что сидит мальчик каждый вечер на крыльце, не шалит, не шумит, а все думает. «Хороший это, наверное, мальчик», – решают невидимые зрители. И они дарят мне трехколесный велосипед на резиновых шинах, такой, какой видел я раз в жизни на Ришельевской. Так, в мечтах, в мучениях, в ссорах и преступлениях, проходили одесские вечера. Я все рос, но чувства и силы, пробуждавшиеся во мне, применения себе не находили, а бродили да перепутывались. Я видел страшные сны, легко плакал и сердился.
11 декабря
Однажды мы сидели на Приморском бульваре. Мама просматривала газету. И вдруг она воскликнула: «Женя! Какое несчастье – Чехов умер!» У меня сжалось сердце, и я, как было принято у нас в семье, когда сообщались неприятные новости, ответил: «Да что ты говоришь…» Для меня уже и в те годы имя Чехова было столь же знакомо, как имя Художественного театра, связывалось с Москвой, с чем-то несомненно прекрасным и всеми людьми признанным. Это была та самая слава, о которой думал с грустью дедушка крапивный, глядя на своих детей, не добившихся ничего. Великолепная, таинственная слава!
12 декабря
Я становился все более одесситом, как недавно майкопцем – в Майкопе и рязанским мальчиком – в Рязани. Убедился я в этом однажды в Пале-Рояле. Ко мне подбежал добродушный бледный мальчик в синем костюмчике и позвал играть в разбойники. Обсуждая с ним условия игры, я сказал вместо «мне» – «мине», что после двух месяцев проживания в Одессе казалось более правильным. Но мой новый знакомый вдруг взглянул на меня со страхом и заявил: «Мама не позволяет нам играть с детьми, которые говорят „мине”». И он убежал. Я бросился к своей маме за разъяснениями и узнал, что она сама давно хотела побеседовать со мною, что я совсем разучился говорить по-русски, что я не обезьяна, а большой мальчик и не должен подражать уличным мальчишкам. Надо сознаться, что неведомо откуда, но во мне прочно сидело в те времена начисто исчезнувшее, когда я стал старше, ощущение, что мы благородные. Если мама пробовала выйти со мною на улицу в платке – я отказывался, плакал и кричал: «Ты как простая». И в страхе, с каким на меня взглянул добрый бледный мальчик в синем костюмчике, я угадал то же чувство. Я говорил, как простой! Ай-ай-ай! Я стал следить за своим языком, щедро уснащать его словами, доказывающими мое благородство. Особенно полюбил я слово «очевидно». Однажды я увидел следующее: два мальчика в садике под парапетом поймали ласточку. Как это произошло, не знаю. Я вмешался в эту историю, когда один из них шагал, держа птицу обеими руками, другой суетился возле, а девочка уговаривала: «Мальчики, отпустите птичку!» Я немедленно присоединился к ее мольбам. Девочке охотники не отвечали. Но мне один из них, тот, что суетился вокруг добычи, прошипел яростно: «Отстань, а то я тебе морду разобью». Я испугался, отстал, пожал плечами и сказал девочке: «Очевидно, это уличный, жестокий мальчик». Две дамы засмеялись, переглянувшись. «Очевидно», – сказала одна из них весело.
13 декабря
И стыд обжег меня. Я понял, что говорил смешно. Это был второй в моей жизни случай жгучего стыда, вызванного моими собственными словами. Впервые я испытал это чувство в Майкопе. Мы с Верой Константиновной и девочками Соловьевыми поехали кататься на линейке не за Белую, а мимо курганов, в степь, в направлении станицы Тульской. Когда мы возвращались, то в длинных одноэтажных кирпичных корпусах больницы уже зажегся свет. И я сказал задумчиво: «Стемнело. Больница загорелась тысячами огней». – «Слышите, слышите, что он говорит?» – воскликнула Вера Константиновна и засмеялась. И стыд обжег меня так сильно, что, вспоминая что-нибудь в те дни, я думал: «Ах да, это было еще до стыда на линейке».
Когда мама была свободна от курсов, совершали мы более дальние прогулки. Чаще всего ездили мы в Городской (или Приморский?) парк – забыл, как он называется. У ворот этого парка сидела сторожиха с вязаньем в руках. А на спинке стула, стоящего возле нее, сидел попугай, которым я не уставал любоваться. Он умел разговаривать, кричал: «Дурак!» – причем хохолок его вставал дыбом. В парке мы или располагались на траве под деревьями, или сидели в крытой галерее над обрывистым берегом. Отсюда можно было любоваться свободным от портовой суеты морем. Оно расстилалось от обрыва до самого горизонта, отвечая основному, как я считал тогда, признаку моря: другого берега видно не было. Мама любовалась морем и призывала меня к тому же, но я, повторяю, любил больше приморскую жизнь, чем море. Как я любил выставленную в одном из магазинных окон модель корабля, как мечтал, что каким-нибудь чудом мне купят ее. Как любовался идущими на горизонте пароходами. Как завидовал рыбакам на шаландах. По дороге в парк мы проходили мимо мореходного училища с флагштоком или мачтой на башне. Я заявил маме, что хочу поступить в это училище. Но она ответила серьезно и строго отказом.
14 декабря
Мама не могла себе представить никакого другого образования, кроме университетского: «Сюда идут только недоучки», – сказала она, но страсть к морю была у меня настолько сильна, что на этот раз мамины слова не произвели на меня ни малейшего действия. Я по-прежнему смотрел на моряков как на людей особенной, избранной породы, причем в данном случае не делил их на благородных и простых. И офицеры, и матросы, и рыбаки, и грузчики в порту были мною любимы благоговейно. Вот офицер в черной морской форме, с кортиком на боку, прощается с дамами и одну из них целует в ладонь. И мне кажется это прекрасным, приморским. Вот матрос подмигивает Ольге, покашливает многозначительно и спрашивает: «Это ваши детишки, барышня?» И это восхищает меня, и я не могу надивиться на Ольгу, которая матросу – подумать только, матросу! – отвечает со злобой: «Проходи, не задерживайся».
16 декабря
Перед самым нашим отъездом из Одессы произошло следующее событие. Доктор, владелец курсов, вызвал маму, одну из всех учащихся, и сказал, что считает ее достаточно подготовленной массажисткой, и выдал ей свидетельство об окончании курсов. И на другой день умер! Мы с мамой долго обсуждали это удивительное совпадение. Мама думала, что доктор, зная, как ей трудно с двумя детьми, видя, как серьезно она работает, и предчувствуя, что умрет, – решил поторопиться со свидетельством. Мне это казалось таким интересным, и страшным, и таинственным, что я всячески поддерживал эти мамины предположения.
19 декабря
Бабушку свою я видел тем летом последний раз в жизни, по дороге в Одессу, а с дедушкой подружился и простился на обратном пути. Дед, по воспоминаниям сыновей, молчаливый, сдержанный и суровый, мне, внуку, представлялся мягким и ласковым. Всю жизнь он сам ходил на рынок, вставая чуть ли не на рассвете: Мы с Валей ждали его возвращения, сидя на лавочке у ворот. Издали мы узнавали его статную фигуру, длинное, важное лицо с эспаньолкой и бежали ему навстречу. Он улыбался нам приветливо и доставал из большой корзины две сдобные булочки, еще теплые, купленные для нас, внуков. И мы шли домой, весело болтая, к величайшему удивлению и даже умилению всех чад и домочадцев, как я узнал много лет спустя. А в те дни я считал доброту и ласковость дедушки явлением обычным и естественным.
20 декабря
Сашу[158] я не боялся, хотя он, единственный из трех моих дядюшек, делал мне иногда замечания. В дедушкиной библиотеке нашел я иллюстрированные журналы, переплетенные за год, и читал их, не отрываясь, таская толстые томища за собою даже в сад, в свои барбарисовые беседки. И вот однажды утром Саша обнаружил в кустах открытый том «Нивы», засыпанный листьями, сухими веточками и окропленный росой. Он строго поговорил со мною по этому поводу. Но зато он же взял меня с собою в картинную галерею, которой владел тогда какой-то богатый екатеринодарец. Картинная галерея, музей и библиотека были тогда уже открыты для всех посетителей. Потом владелец завещал ее городу. Страсть моя к картинным галереям ожила. Папа, уже побывавший там, очень хвалил картину «Белая ночь», рассказывая, что там у сов горят глаза, просто удивительно. Настоящим огнем. Долго продолжалось мое ожидание, но вот Саша сжалился надо мною, и мы отправились в путь. Мы вышли на Красную улицу, повернули направо мимо магазинов, белого здания казачьей гимназии, соборной площади и пришли к двухэтажному дому, снаружи такому же, как и другие дома. Внизу была библиотека, в которую мы только заглянули и поднялись по лестнице наверх. Я несколько удивился. Я представлял себе длинные, светлые коридоры, увешанные картинами, перед которыми стоят скульптуры. Нет, галерея Коваленко была совсем другой. Она состояла из нескольких комнат. Картина «Белая ночь» изображала девушку, которая, закрыв глаза и протянув вперед руки, шла по лесу за двумя совами.
Глаза у сов действительно горели, но я ждал большего. И все же галерея понравилась мне. Особенно картина, кажется, Пимоненко, где мальчику обмывают пораненную ногу, а девочка, полная ужаса и сочувствия, смотрит через его плечо на эту операцию. В музее заинтересовала меня старинная копия с письма запорожцев к султану.
21 декабря
Копия была напечатана шрифтом, легко доступным мне, на серой старинной бумаге с черными точками и желтыми пятками. Увидев, что я читаю знаменитое послание, Саша приказал мне немедленно это прекратить, объяснив, что оно не для детей. Я отвернулся, смутившись, и стал рассматривать глиняные фигурки, добытые из курганов. Увы, они оказались еще неприличнее, что меня окончательно напугало, и я бежал из музея опять в картинную галерею. Музей, кстати, был крошечный, весь он помещался в одной маленькой комнатке и состоял из двух-трех витрин и шкафов. Во всяком случае, таким он представляется мне сейчас. Вскоре я забыл и о музее и о библиотеке. Новое увлечение, сильное, но короткое, овладело мною. Тоня, спокойный, тощенький, светлоглазый, со шварцевскими густыми, шапкой стоящими волосами, значительно более похожий на моего отца, чем я, стал моим лучшим другом на эти недели. В те годы Тоня твердо решил, что он будет купцом. На маленькие дощечки, обычно это были донышки спичечных коробок, мы навивали цветную бумагу. Это были штуки материи. Мы не торговали ими. Мы, вооружившись крошечными, в масштабе наших мануфактурных товаров, ружьями из серебряной бумаги, вели караваны по жарким странам, везли наши богатства каким-то племенам. Вот эта игра и увлекла меня. Вообще в это время Тоня главенствовал. Он спокойно пользовался языком взрослых, которого после конфуза со словом «очевидно» я боялся. Вот мы идем по улице. Тоня указывает на даму впереди и говорит: «Какая красивая у нее талия!» Я подтверждаю, хотя понятия не имею об этом слове. До самого вечера я считаю, что талия – это такая шляпа с цветами, – именно этим и отличалась, на мой взгляд, идущая впереди дама от остальных. Но в одной области я был для Тони непререкаемым авторитетом, а именно – в религии. Это время для меня было временем полной, лишенной всяких сомнений веры. Я прочел взятый у Дины Сандель[159] учебник закона божьего, все жиздринские влияния были еще свежи. Я помнил все.
22 декабря
Я помнил все: и библейские и евангельские истории из учебников, и бабушкины рассказы, и рассуждения о грехах, о церкви, о рае и аде. Я знал, что грешен, но вместе с тем и надеялся избавиться от всей скверны, как только мне удастся уговорить маму свести меня на исповедь. Я считал, что после семи лет не причастят без исповеди, да так оно, кажется, и было. Так относился к небу я. А мама, напротив, к этому времени ожесточилась, забыла, как молилась в Ахтырях, стоя на коленях перед иконой, и стала неверующей. Но в этом вопросе я не подчинился ей. И чуть не каждый день к вечеру под грецким орехом за кухней вспыхивали ожесточенные споры. С одной стороны мама, а с другой – я и дедушкина кухарка спорили о религии. Я был начитаннее кухарки в этом вопросе, ссылался на учебники, обливался потом, кричал, как настоящий изувер, так что моя сторонница успокаивала меня и сменяла на моем посту. Ее сила была в непоколебимом спокойствии и уверенности. На все мамины антирелигиозные речи она отвечала: «Так-то оно так, а все-таки бог есть». Тоня, кажется, присутствовал на одном из этих диспутов, а может быть, я раньше доказал ему свою осведомленность в этих вопросах. Во всяком случае, однажды в сумерках в дедушкином саду он стал расспрашивать меня о боге, рае и аде. Я отвечал ему на эти вопросы весьма подробно. Воображение, подогретое вниманием, с которым слушал Тоня, и сумерками, разыгралось. В заключение, устрашенный картинами ада, который был особенно хорошо знаком мне по рассказам бабушки и нянек, Тоня спросил робко: «А если еврей хороший человек, то он может попасть в рай?» Я твердо ответил: «Конечно, может!» Я не мог допустить, что хорошего человека за что бы то ни было можно наказывать вечными муками. И тут нас позвали чай пить. Тоня, после моего ответа сосредоточенно молчавший, сказал, когда мы перелезали через забор: «Этим ты меня значительно успокоил».
24 декабря
Сегодня полгода прошло с тех пор, как я стал писать эти ежедневные упражнения. Начинал я их много раз – примерно с 1926 года. Старые тетради я сжег в начале декабря 1941 года, уезжая из Ленинграда, о чем жалею до сих пор. Я возобновил привычные записи в Кирове. Обычно мне удается вести эти записи в том случае, если я работаю над чем-нибудь, а когда работа останавливается, то я впадаю в состояние преступного, тупого, свинского ничегонеделания. Впрочем, слово «свинское», пожалуй, не соответствует положению вещей. Более мучительного состояния, чем мое ничегонеделание, я не знаю. Правда, бывает и так: я работаю, но упражнений не пишу. С огромным трудом, преодолевая стыд, я справился с той задачей, которую поставил себе в Кирове. Я научился писать о себе, и теперь надо учиться писать о себе интересно и при этом не врать, что вряд ли возможно. Первые строчки писал я в Комарове, а последние восемь пишутся в Ленинграде. Чернила пересохли, я стал разводить их чаем и капнул из чернильницы на верх правой страницы. Зачем я это пишу? Чтобы сделать зарубку, чтобы хоть что-нибудь осталось от сегодняшнего дня. Как-то меня поразило, что все птицы моего детства умерли, и ни одной собаки майкопской, которых я тщательно приручал и приваживал, нет в живых, и все лошади, которые возили нас кататься или в Армавир, или в Туапсе, в положенное им время испустили дух. Мне хочется, чтобы, вспоминая, перечитывая запись о сегодняшнем дне, я хоть один миг из тех, что мною были пережиты, воскресил бы. Это я не учусь еще писать интересно. Это я учусь писать свободно.
1951
4 января
Итак, мы приехали в Майкоп, и начался последний период моего детства. Я уже учился, но еще не попал в мощные лапы школы, еще не вступил в темное средневековье моей жизни, продолжавшееся с приготовительного до четвертого класса. Потом медленно-медленно вступало в свои права возрождение. Хватит ли у меня дыхания рассказать обо всем этом? А пока что мы приехали в Майкоп, и я стал учиться у Валиного крестного – огромного, бородатого Константина Карповича Шапошникова. Он всегда носил черкеску. Постукивая деревянной своей ногой, входил он в комнату с окнами в сад, и урок начинался. Занятия эти давались мне, очевидно, легко. Во всяком случае, ничего нового в мою жизнь они не внесли.
6 января
В октябре 1904 года исполнилось мне восемь лет. Доктор Островский подарил мне книгу Свирского «Рыжик», а папа – «Капитана Гаттераса» Жюля Верна. Обе эти книги надолго стали моими любимыми. Еще подарили мне пистолет, стреляющий палочкой с резиновым присосом, который, щелкнув, прилипал к мишени. Этот день памятен мне острым чувством жалости, о котором расскажу завтра.
7 января
Итак, в день моего рождения испытал я острое чувство жалости, запомнившееся на всю жизнь. Я играл на улице с мальчиками. Среди них были два брата из многочисленного еврейского семейства… Со старшим братом я был в дружеских отношениях, а младшего, семилетнего заморыша, ненавидел. Меня раздражало его бледное лицо, синие губы, голубоватые веки. Казалось, что он долго купался и замерз навсегда. Итак, мы играли на улице, а потом мама позвала нас пить чай. Я старшего еврейского мальчика пригласил с собой, а младшему сказал брезгливо: «А ты ступай вон, не лезь к старшим». Когда мы поднялись наверх, я выглянул в окно и увидел, как внизу на улице, оставшись в полном одиночестве, сгибаясь так, будто у него болит живот, плачет синегубый заморыш. Тут-то и пронзила меня, с неведомой мне до сих пор силой, жалость. Я бросился вниз утешать и звать к себе обиженного, на что он поддался немедленно, без всяких попреков, без признака обиды. Это еще более потрясло меня – вот как, значит, хотелось бедняге пойти к нам в гости. И я за чаем кормил его пирогами и конфетами, а потом давал ему стрелять из пистолета чаще, чем другим гостям. И он принимал все это без улыбки, еще вздыхая иногда прерывисто, медленно приходя в себя после пережитого горя.
В это время я часто бывал у Соловьевых. С Наташей я вечно ссорился, с Лелей отношения были ровные, Варя дружила со мной, но я с ней держался несколько строго, ведь она была на два года моложе меня. Она все просилась к нам в гости, но я отклонял ее просьбы. Но вот однажды я раздобрился и повел ее к нам. Мама приняла гостью ласково и выдала нам гривенник на пирожные. Мы пошли в булочную Окумышева и по дороге встретили Веру Константиновну. Узнав, куда мы идем, она прибавила нам еще гривенник. Купив четыре пирожных, мы вернулись домой и провели время отлично. Выпили чаю, потом играли в лото с мамой. После этого Варя стала проситься к нам в гости еще чаще: «Помнишь, как тогда было хорошо», – говорила она.
8 января
К девочкам Соловьевым Вера Константиновна выписала откуда-то учительницу[160], которая старшим не понравилась. Они ее нашли глуповатой. Я помню смутно молодую, незначительную лицом девицу, которая к тому же чуть шепелявила. Тогда это мне казалось несомненным доказательством глуповатости, о которой говорили старшие. Но с ней, с этой учительницей, у меня связано сильное поэтическое переживание, – она прочла нам вслух «Бежин луг». Впервые я был покорен не занимательностью рассказа, а его красотой. Как, влюбившись, я сразу понял, что со мною происходит, так и тут я сразу как бы угадал поэтичность рассказа и отдался ей с восторгом. Я не выслушал, а пережил «Бежин луг». Я ждал того же и на другой день, когда чтения продолжались. Читался какой-то другой рассказ Тургенева, его я и не запомнил. Я слушал чтение с тоской, ненавидел Наташу, восхищавшуюся, как мне казалось, притворно. Она все шептала: «Ах, как красиво!» Я ненавидел Костю, который строил сестрам гримасы, чтобы рассмешить их во время чтения. Я ушел, не дослушав, мама взглянула на меня и все поняла. У меня начался очередной припадок малярии с высокой температурой, угнетенным состоянием духа, с дурнотой. Я пролежал в постели несколько дней. Итак, я учился, бывал у Соловьевых, дружил с Илюшей Шиманом, был влюблен, мечтал и тосковал по приморской, корабельной, одесской жизни, как в свое время по Жиздре. Нет, сильней, потому что умнее я не делался, а чувствительнее становился с каждым днем. Я по дороге в библиотеку или на прогулках старался ступать только на то, что могло бы находиться и на корабле: на камни (балласт), на ветки (деревянные палубы) и так далее. Это очень затрудняло иногда мои прогулки и дало маме повод назвать меня раза два ненормальным. Но я не объяснил ей странности моего поведения.
9 января
К этому времени стала развиваться моя замкнутость, очень мало заметная посторонним да и самым близким людям. Я был несдержан, нетерпелив, обидчив, легко плакал, лез в драку, был говорлив. Но самое главное скрывалось за такой стеной, которую я только теперь учусь разрушать. Казалось, что я весь был как на ладони. Да и в самом деле – я высказывал и выбалтывал все, что мог. Но была граница, за которую переступать я не умел. Я успел отдалиться от мамы, которой недавно еще рассказывал все, но никто не занял ее места. Причем скрывал я самые разнообразные чувства и мечты, иногда неизвестно, по каким причинам. То, что ни один человек не знал о моей первой любви, понятно. Но почему я так старательно скрывал мою тоску по приморской жизни? Чтобы странные мои прыжки с камня на веточку, с ветки на ржавый гвоздь, валяющийся в пыли (железо есть на корабле), с гвоздика на щепочку и так далее не выдали меня, я придумал новый способ передвижения. Я решил тень считать кораблем, а освещенную солнцем часть улицы – сушей. На тротуарах и площадях Майкопа всегда было так много теневых пятнышек от камней, песчаных холмиков и тому подобных неровностей почвы, что ходить я теперь мог без затруднений, даже по тем местам, где не было стен, заборов и деревьев, дающих настоящую, добротную тень. Скрывал я и коня, и маленьких человечков, о которых не рассказывал я никому и не написал ни строчки до настоящей минуты. Конь жил в песчаной котловине, в обрывистой части городского сада. Я звал его особым свистом сквозь зубы и отпускал девятикратным свистом обыкновенным, губным. В свободное от службы время конь мог превращаться в человека, путешествовать, где ему захочется, больше по Африке и по Индии, есть колбасу, каштаны, конфеты, вообще наслаждаться жизнью. Но по условному свистку он мгновенно переносился в песчаную котловину, а оттуда летел ко мне. И я садился на него верхом и ехал в библиотеку, в лавочку, в булочную, к Горсту за сельтерской – словом, всюду, куда меня посылали, соблюдая осторожность, чтобы встречные не угадали по походке, что я еду верхом. Любовь к верховой езде и лошадям я вывез из Жиздры. Часто, когда меня бранили, я думал: «Ох, сесть бы верхом да ускакать». Эта мысль в трудные минуты мелькает у меня и теперь. Конь из песчаной котловины олицетворял эту мечту.
10 января
В тот год я стал еще больше бояться темноты, и при этом по-новому. Темнота теперь населилась существами враждебными и таинственными. Здоровый страх перед разбойниками, ворами – словом, перед врагами-людьми – заменился мистическим. Кроме коня-друга, верхового моего коня, существовала лошадь-привидение. Она появлялась в дверях спальни, ведущих в столовую. Она шла на задних ногах. На спине ее болтался мешок, который она придерживала копытами. Я ее ни разу не видел, разумеется, но представлял ее ясно, во всех подробностях. Что это было за существо, откуда, чего хотело от меня, что лежало в ее мешке, я не выяснял. Все представления мои об этом призраке были тоже призрачны, но я ужасно боялся лошади с мешком.
У Андрея Андреевича Жулковского[161] был племянник – художник, юноша лет двадцати. Однажды он ушел в горы, на эскизы, и не вернулся. Его искали-искали, да так и не нашли. И мама сказала однажды: «Нет, уж он не вернется. Лежит где-нибудь в пропасти его скелет». Эти слова меня ушибли надолго. Я все думал и думал об этом, и вот в темноте появился еще один призрак – скелет бедного художника. Его постоянное местопребывание было под моей кроватью. Поэтому я на ночь ничего не оставлял на полу – ни одной игрушки, ни одной части моей одежды, даже башмаки ставил на подоконник или на стул, из-за чего у меня шли вечные войны с мамой. Были и другие злые духи, менее определившиеся, но не менее страшные. И вот в противовес им я создал армию маленьких человечков. Они жили у меня под одеялом, я нарочно оставлял им место, закутываясь на ночь. Жили они так же счастливо, как мой друг-конь, – ели колбасу, пирожные, шоколад, апельсины, читая за едой сколько им вздумается, имели двухколесные велосипеды. Путешествовали. Но при малейшей опасности они выстраивались на одеяле и на постели и отражали врага.
11 января
Весь ночной, призрачный мир начисто исчезал днем, кроме доброго коня, вызываемого свистом. Никто не знал о существовании этого мира, ни один человек, я впервые рассказываю о нем. Любовь, тоска о приморской жизни, ночные ужасы, злые и добрые существа, выдуманные мною, но пугающие или радующие меня, словно повели они самостоятельную жизнь, родившись, – все я тщательно прятал, не выдавал ни одним намеком. А жизнь дневная и невыдуманная шла своим чередом. На рождество, когда мы клеили картонажи, я убедился еще в одном своем недостатке. Я знал и уж примирился с тем, что лишен музыкального слуха. А попытка вырезать и клеить картонажи доказала с несомненностью, что я неловкий мальчик. У меня ничего не клеилось в буквальном смысле этого слова. Я обижался неведомо на кого, сердился, плакал – но, увы, это не помогало мне. Я очень любил рисовать – но все утверждали, что я плохо рисую. Почерк у меня, несмотря на старания мои и Константина Карповича, был из рук вон плох. Задачи решал я средне. Скорее плоховато. Когда писал диктовку, то делал одни и те же ошибки: вечно пропускал буквы. Я был неловок, рассеян, но, должен признаться, вспоминая пристально и тщательно то время, в течение дня весел. Дневные обиды я легко забывал, а в сумерки начинал тревожиться. Приближался главный ужас моего детства, вытеснивший на долгое время все остальные страхи: боязнь за жизнь матери. Я писал уже, что в то время предполагалось, будто у мамы порок сердца.
12 января
Страх за маму, тоже глубочайшим образом скрываемый в моем одиночестве, в глубине, был самым сильным чувством того времени. Он никогда не умирал. Бывало, что он засыпал, потому что я жил весело, как положено жить в восемь лет, но выступал, едва я оставался наедине с собой. К этому времени моей жизни отношения с мамой усложнились и испортились до того, что она не приходила прощаться со мною на ночь, кроме тех случаев, когда я был болен. Ссоры наши иногда доходили до полного разрыва. Помню день, приведший к тому, что по маминой жалобе я в последний раз в жизни попал отцу под мышку, то есть взлетел высоко вверх и был отшлепан. Это меня до того оскорбило, что я, зная свою отходчивость и умение забывать обиды, сделал из бумаги книжечку и покрыл ее условными знаками, нарисованными красным карандашом. Эти знаки должны были напоминать мне вечно о нанесенном оскорблении. Но они не помогли. Я дня через два перестал сердиться на отца. Как я теперь понимаю, у мамы было редкое умение угадывать мою точку зрения при наших несогласиях. И она принималась спорить со мною как равная, вместо того чтобы приказывать, как это делал отец. Угадывая мою точку зрения и весь ход моих мыслей, мама чувствовала, что логикой меня не убедить, и раздражалась от этого и все-таки пробовала спорить там, где надо было холодно запрещать или наказывать. Эту несчастную жажду переубеждать дураков и злиться от сознания, что это воистину немыслимо, я, к сожалению, унаследовал от нее. Словом, по тем или другим причинам мы всё ссорились и удалялись друг от друга, но как я ее любил! Я не мог уснуть, если ее не было дома, не находил себе места, если она задерживалась, уйдя в магазин или на практику. Мамины слова о том, что она может сразу упасть и умереть, только теперь были поняты мною во всем их ужасном значении. Я твердо решил, что немедленно покончу с собой, если мама умрет. Это меня утешало, но не слишком. Просыпаясь ночью, я прислушивался, дышит она или нет, старался разглядеть в полумраке, шевелится ли одеяло у нее на груди.
13 января
Я ничем не отличался от своих сверстников, не выделялся никакими талантами, но эта скрытая, тайная жизнь, для выражения которой у меня и слов не было иногда, приводила меня к мыслям не по возрасту. Помню, как терзало меня открытие, что если мама умрет, то я никогда не увижу ее. Никогда! Ни завтра, ни послезавтра – никогда. Вот я жду ее, все жду, а если она умерла в гостях, то я никогда не дождусь ее. И мысли эти часто, особенно ночами, приводили к тому, что я уже принимался одеваться, чтобы среди ночи бежать на поиски. Останавливали меня страх наказания, темноты и того, что мама вдруг узнает, как я боюсь за ее жизнь.
14 января
Вот такие были у меня горести. Я много думал о смерти, кладбищах, крестах, боялся их не ради себя, я не понимал, что могу умереть, а из-за мамы… Вообще, как это ни грустно, при всей неподдельности моих мучений, я стал довольно часто ломаться. Я слишком много читал. Я любил «отбросить непокорные локоны со лба», «сверкнуть глазами», научился перед зеркалом раздувать ноздри. Отец, которого я раздражал все больше и больше, обвинял меня в том, что я неестественно смеюсь. Боюсь, что так оно и было. Я в те времена старался смеяться звонко, что ни к чему хорошему не приводило.
15 января
Около одиннадцати пришел Пантелеев, а с ним Элик Маршак, с которым я познакомился в 24 году, когда ему было лет семь. Сегодня он понравился мне. Как это ни странно, я разговаривал с ним, в сущности, в первый раз в жизни. До сих пор мы встречались с ним в присутствии отца, а при Самуиле Яковлевиче не слишком разговоришься.
Я пришел к Маршаку в 24 году с первой своей большой рукописью в стихах – «Рассказ старой балалайки». В то время меня, несмотря на то, что я поработал уже в 23 году в газете «Всесоюзная кочегарка» в Артемовске[162] и пробовал написать пьесу, еще по привычке считали не то актером, не то конферансье. Это меня мучило, но не слишком. Вспоминая меня тех лет, Маршак сказал однажды: «А какой он был, когда появился, – сговорчивый, легкий, веселый, как пена от шампанского». Николай Макарович[163] посмеивался над этим определением и дразнил меня им. Но, так или иначе, мне и в самом деле было легко, весело приходить, приносить исправления, которых требовал Маршак, и наслаждаться похвалой строгого учителя. Я тогда впервые увидел, испытал на себе драгоценное умение Маршака любить и понимать чужую рукопись, как свою, и великолепный его дар – радоваться успеху ученика, как своему успеху Как я любил его тогда! Любил и когда он капризничал, и жаловался на свои недуги, и деспотически требовал, чтобы я сидел возле, пока он работает над своими вещами. Любил его грудной, чуть сиплый голос, когда звал он: «Софьюшка!» или: «Элик!», чтобы жена или сын пришли послушать очередной вариант его или моих стихов. Да и теперь, хотя жизнь и развела нас, я его все люблю. Сегодня, глядя на Элика, я с удовольствием угадывал в его лице отцовские черты. Мы вспоминали, как врывался Элик в комнату, едва отец уходил оттуда, – и мы начинали с ним драться и бороться. Элик скучал, очевидно, без сверстников, и я сходил за такого.
16 января
Тогда Маршак жил против Таврического сада в небольшой квартире на Потемкинской улице. Часто, поработав, мы выходили из прокуренной комнаты подышать свежим воздухом. Самуил Яковлевич утверждал, что если пожелать как следует, то можно полететь. Но при мне это ни разу ему не удалось, хотя он, случалось, пробегал быстро, маленькими шажками саженей пять. Вероятно, тяжелый портфель, без которого я не могу его припомнить на улице, мешал Самуилу Яковлевичу отделиться от земли. Если верить Ромену Роллану, индусские религиозные философы прошлого века утверждали, что учить надо не книги учителя и не живое его слово, а духовность. Это свойство было Маршаку присуще. Недаром вокруг него собирались в конце концов люди верующие. Исповедующие искусство. Разговоры, которые велись у него в те времена, воистину одухотворяли. У него было безошибочное ощущение главного в искусстве сегодняшнего дня. В те дни главной похвалой было: «Как народно!» (Почему и принят был «Рассказ старой балалайки».) Хвалили и за точность и за чистоту. Главные ругательства были: «стилизация», «литература», «переводно». Однажды ночью бродили по улицам я, Самуил Яковлевич и Коля Чуковский. Я молчал, а они оба дружно бранили «всепонимание предыдущего поколения», «объективность», «скептицизм», «беспартийность». Я слушал и готов был верить во все, но они еще при этом ругали Чехова и единственным видом прозы провозглашали «сказ» за то, что в сказе виден автор. И я спорил, но не по пустякам. В двадцатых годах именно в это надо было верить или не верить, и Маршак, чувствуя главное, вносил в споры о нем необходимую для настоящего учителя страсть и духовность. Само собой, что бывал он и обыкновенным человеком, что так легко прощают поэту и с таким трудом – учителю. Вот почему все мы, бывало, ссорились с ним, зараженные его же непримиримостью. Ведь он бесстрашно бросался на любых противников. Как я понимал еще и в те времена, сердились мы на него по мелочам. А в мелочах недостатка не было. Но ссоры пришли много позже. Я же говорю о 24 годе.
17 января
К этому времени с театром я расстался окончательно[164], побывал в секретарях у Чуковского[165], поработал в «Кочегарке» – и все-таки меня считали скорее актером. В «Сумасшедшем корабле» Форш вывела меня под именем Геня Чорн[166] . Вывела непохоже, но там чувствуется тогдашнее отношение ко мне в литературных кругах, за которые я цеплялся со всем уважением, даже набожностью приезжего чужака и со всем упорством утопающего. И все же я чувствовал вполне отчетливо, что мне никак не по пути с «серапионами»[167] . Разговоры о совокупности стилистических приемов как о единственном признаке литературного произведения наводили на меня уныние и ужас и окончательно лишали веры в себя. Я никак не мог допустить, что можно сесть за стол, выбрать себе стилистический прием, а завтра заменить его другим. Я, начисто лишенный дара к философии, не верующий в силу этого никаким теориям в области искусства, чувствовал себя беспомощным, как только на литературных вечерах, где мне приходилось бывать, начинали пускать в ход весь тогдашний арсенал наукоподобных терминов. Но что я мог противопоставить этому? Нутро, что ли? Непосредственность? Душевную теплоту? Так же не любил я и не принимал ритмическую прозу Пильняка, его многозначительный, на что-то намекающий историко-археологический лиризм. И тут чувствовалась своя теория. А в Лефе была своя[168] . Я сознавал, что могу выбрать дорогу только органически близкую мне, и не видел ее. И тут встретился мне Маршак, говоривший об искусстве далеко не так отчетливо, как те литераторы, которых я до сих пор слышал. Но, слушая его, я понимал и как писать, и что писать. Я жадно впитывал его длинные, запутанные и все же точные указания. Математик Ляпунов, прочтя какую-то работу Пуанкаре[169], сказал: «А я не знал, что такие вещи можно опубликовывать. Я это сделал еще в восьмидесятых годах». Маршак кроме всего прочего учил понимать, когда работа закончена, когда она стала открытием, когда ее можно опубликовывать. Он стоял на точке зрения Ляпунова. Начинающего писателя этим иной раз можно и оглушить. Но я со своей «легкостью» принял это с радостью, и пошло мне это на пользу. Все немногое, что я сделал, – следствие встречи с Маршаком в 1924 году.
18 января
В 1924 году весной вокруг Маршака еще едва-едва начинал собираться первый отряд детских писателей. Вот-вот должен был появиться Житков, издавался (или предполагался?) детский журнал при «Ленинградской правде:». Начинал свою работу Клячко – основал издательство «Радугу». Маршак написал «Детки в клетке», «Пожар», Лебедев сделал рисунки «Цирк». Его уверенные, даже властные высказывания о живописи наложили свой отпечаток и на всю нашу работу. Но все это едва-едва начиналось, была весна. Я приходил со своей рукописью в знакомую комнату окнами на Таврический сад. И мы работали. Для того чтобы объяснить мне, почему плохо то или иное место рукописи, Маршак привлекал и Библию, и Шекспира, и народные песни, и Пушкина, и многое другое, столь же величественное или прекрасное. Года через два мы, неблагодарные, подсмеивались уже над этим его свойством. Но ведь он таким образом навеки вбивал в ученика сознание того, что работа над рукописью – дело божественной важности. И когда я шел домой или бродил по улицам с Маршаком, то испытывал счастье, чувствовал, что не только выбрался на дорогу, свойственную мне, но еще и живу отныне по-божески. Делаю великое дело. Написав книжку[170] я опять уехал в «Кочегарку». Вернувшись в Ленинград, я ужасно удивился тому, что моя «Балалайка» вышла в свет – и только![171] Ничего не изменилось в моей судьбе и вокруг. Впрочем, я скоро привык к этому. Во всяком случае, люди, которых я уважал, меня одобряли, а остальные стали привыкать к тому, что я не актер, а пишу. К этому времени Самуил Яковлевич со всей страстью ринулся делать журнал «Воробей». (Впрочем, кажется, журнал назывался уже «Новый Робинзон» в те дни?[172] ) Каждая строчка очередного номера обсуждалась на редакционных заседаниях так, будто от нее зависело все будущее детской литературы. И это мы неоднократно высмеивали впоследствии, не желая видеть, что только так и можно было работать, поднимая дело, завоевывая уважение к детской литературе, собирая и выверяя людей. Появился Житков. Они с Маршаком просиживали ночами, Житков писал первые свои рассказы. Тогда он любил Маршака так же, как я. Еще и подумать нельзя было, что Борис восстанет первый на учителя нашего и весна вдруг перейдет в осень. Но это случилось позже. А я говорю о весне 1924 года.
19 января
Итак, была весна 24 года – время, которое начало то, что не кончилось еще в моей душе и сегодня. Поэтому весна эта, если вглядеться как следует, без всякого суеверия, без предрассудков, стоит рядом, рукой подать. Я приходил к Маршаку чаще всего к вечеру. Обычно он лежал. Со здоровьем было худо. Он не мог уснуть. У него мертвели пальцы. Но тем не менее он читал то, что я принес, и ругал мой почерк, утверждая, что буквы похожи на помирающих комаров. И вот мы уходили в работу. Я со своей обычной легкостью был ближе к поверхности, зато Маршак погружался в мою рукопись с головой. Если надо было найти нужное слово, он кричал на меня сердито: «Думай, думай!» Мы легко перешли на «ты», так сблизила нас работа. Но мое «ты» было полно уважения. Я говорил ему: «Ты, Самуил Яковлевич». До сих пор за всю мою жизнь не было такого случая, чтобы я сказал ему: «Ты, Сема». «Думай, думай!» – кричал он мне, но я редко придумывал то, что требовалось. Я был в работе стыдлив, мне требовалось уединение. Угадывая это, Самуил Яковлевич чаще всего делал пометку на полях. Это значило, что я должен переделать соответствующее место дома. Объясняя, чего он хочет от меня, Маршак, как я уже говорил, пускал в ход величайшие классические образцы, и сам приходил, и меня приводил в одухотворенное состояние. Если в это время появлялась Софья Михайловна и звала обедать, он приходил в детское негодование. «Семочка, ты со вчерашнего вечера ничего не ел!» – «Дайте мне работать! Вечно отрывают!» – «Семочка!» – «Ну, я не могу так жить. Ох!» – и, задыхаясь, он хватался за сердце. Когда работа приходила к концу, Маршак не сразу отпускал меня. Как многие нервные люди, он с трудом переходил из одного состояния в другое. Если ему надо было идти куда-нибудь, он требовал, чтобы я шел провожать его. На улице Маршак был весел, заговаривал с прохожими, задавая им неожиданные вопросы. Почти всегда и они отвечали ему весело. Только однажды пьяный, которого Самуил Яковлевич спросил: «Гоголя читали?» – чуть не застрелил нас. Проводив Маршака, я шел домой, в полном смысле слова переживая все, что услышал от него. Поэтому я и помню, будто сам пережил, английскую деревню, где калека на вопрос: «Как поживаете?» – кричал весело: «Отлично!» Помню Стасова, который шел с маленьким гимназистом Маршаком в Публичную библиотеку, помню Горького, всегда ощущаю возле, рукой подать, весну 24 года.
20 января
У меня был талант верить, а Маршаку мне было особенно легко верить – он говорил правду. И когда мы сердились на него, то не за то, что он делал, а за то, что он, по-нашему, слишком мало творил чудес. Мы буквально поняли его слова, что человек, если захочет, может отделиться от земли и полететь. Мы не видели, что уже, в сущности, чудо совершается, что все мы поднялись на ту высоту, какую пожелали. Ну вот и все. Вернемся к сегодняшним делам. Несколько дней писал я о Маршаке с восторгом и с трудом, не желая врать, но стараясь быть понятым. Все эти дни Элик заходил к нам вместе с Пантелеевым, но почему-то ночью. Чудит Алексей Иванович. Элик вчера пел по-отцовски, его сипловатым голосом, но потом разошелся и запел тенором довольно сильным. С каждым днем нравится он мне все больше. У него сохранилась какая-то студенческая веселость и желание всех развеселить и себя показать. Я спросил его: «Элик, помнишь, как отец звал тебя и заставлял слушать варианты своих стихов?» – «Это довольно трудно забыть! – ответил Элик. – То же самое продолжается и до сих пор». – «Папа знает, что ты куришь?» Элик улыбнулся сконфуженно и ответил: «Во всяком случае, при нем я не курю. Он огорчается».
Вернусь-ка я к Майкопу 904 года. Что я читал в то время? Свирского «Рыжик», Вёрисгофер «Образовательное путешествие». Ее же «В стране чудес». Этот роман я любил особенно. Там действие происходило в Индии. Злодействовали туги. Предавал доброго Гассана карлик Типо. Спасал героев слон Джумбо. Прочел я к этому времени и Майна Рида.
21 января
Все продолжаю думать о Маршаке. Чтобы закончить, ко всему рассказанному прибавлю одно соображение. Учитель должен быть достаточно могущественным, чтобы захватить ученика, вести его за собой положенное время и, наконец, что труднее всего, выпустить из школы, угадав, что для этого пришел срок. Опасность от вечного пребывания в классе велика. Самуил Яковлевич сердился, когда ему на это намекали. Он утверждал, что никого не учит, а помогает человеку высказаться наилучшим образом, ничего ему не навязывая, не насилуя его. Однако по каким-то не найденным еще законам непременно надо с какого-то времени переставать оказывать помощь ученику, а то он умирает.
Двух-трех, так сказать, вечных второгодников и отличников Маршак породил. Это одно. Второе: как человек увлекающийся, Маршак, случалось, ошибался в выборе учеников и вырастил несколько гомункулюсов, вылепил двух-трех големов. Эти полувоплощенные существа, как известно, злы, ненавидят настоящих людей и в первую очередь своего создателя. Все это неизбежно, когда работаешь так много и с такой страстью, как Маршак, – ни с кого так много не требовали и никого не судили столь беспощадно. И я, подумав, перебрав все пережитое с ним или из-за него, со всей беспощадностью утверждаю: встреча с Маршаком весной 24 года и была счастьем для меня. Ушел я от него недоучившись, о чем жалел не раз, но я и в самом деле был слишком для него легок и беспечен в 27–31 годах. Но всю жизнь я любил его и сейчас всегда испытываю радость, увидев знакомое большое лицо и услышав сказанные столь памятным грудным, сипловатым голосом слова: «Здравствуй, Женя».
22 января
Возвращаюсь в Майкоп. Кроме книг, перечисленных выше, я читал и перечитывал хрестоматию, взятую у Дины Сандель, и учебники закона божьего. В хрестоматиях я прочел отрывки из «Детства и отрочества», где удивило меня и обрадовало описание утра Николеньки Иртеньева. Значит, не один я просыпался иной раз с ощущением обиды, которая так легко переходила в слезы. Там же прочел я «Сон Обломова». С того далекого времени до нынешнего дня всегда одинаково поражает меня стихотворение Некрасова: «Несжатая полоса». Самый размер наводит тоску, а в те дни иногда и доводил до слез. Бесконечно перечитывал я и «Кавказского пленника» Толстого. Жилин и Костылин, яма, в которой они сидели, черкесская девочка, куколки из глины – все это меня трогало, сейчас не пойму уже чем. В это же время, к моему удивлению, я выяснил, что «Робинзонов Крузо» было несколько. От коротенького, страниц в полтораста, которого я прочел первым, до длинного, в двух толстых книжках, который принадлежал Илюше Шиману. Этот «Робинзон» мне не нравился – в нем убивали Пятницу. Я не признавал Илюшиного «Робинзона» настоящим, несмотря на мою любовь к толстым книгам. Неожиданно разросся, к моему восторгу, и «Гулливер», знакомый мне по коротенькой ступинской книжке с цветными картинками. Там рассказывалось только о его путешествии к лилипутам, а в издании «Золотой библиотеки» – и обо всех других приключениях Гулливера. Однажды у папы на столе я нашел книгу, на корешке которой стояла надпись: «Том второй». Я обрадовался, думая, что как «Робинзон» и «Гулливер», так и «Принц и нищий» имеет продолжение. Надпись на корешке я отнес к Тому Кенти. Но, увы, раскрыв книжку, я увидел, что она медицинская. Однажды я сидел в зале, углубившись в чтение, забыв обо всем, и вдруг услышал мамин голос: «Женя!» Я оглянулся и увидел красное старческое лицо с белой бородой. Я взвизгнул и очутился на другом конце комнаты. Мама надела маску, купленную для какого-то маскарада. А я читал об Индии – стране чудес, и мне почудилось невесть что, и я сам испугался и напугал маму.
24 января
Рядом с нами был дом Лянгертов, где я пил кефир. Когда я входил к ним во двор, прибранный, подметенный, с белым столиком под тенистым деревом, меня встречала приветливая бабушка Лянгерт. Она кричала по-еврейски: «Феня! Гиб Жене кефиру». Молчаливая полная Феня приносила из погреба бутылку, и бабушка учила меня пить целебный напиток по правилам: маленькими глотками и заедать булочкой. Мы с ней беседовали по душам подолгу. Часто я рассказывал ей о книгах, которые прочел. После одного из таких разговоров бабушка задумалась и, улыбнувшись доброй улыбкой, призналась, что у нее есть целый шкафчик очень интересных книг, которые читал ее сын, когда был мальчиком. Если я обещаю обращаться с ними со всей осторожностью, она даст мне их почитать. И вот мы вошли в прохладный дом Лянгертов, пахнущий не плохо и не хорошо своим, лянгертовским, духом. В комнатах стоял полумрак от закрытых ставен. На мебели белели чехлы, на картинах кисея, пол блестел, мебель блестела, Лянгерты жили очень чисто. Возле пышной бабушкиной кровати желтела тумбочка, и в самом деле наполненная книгами. Бабушка дала мне одну из них. Боже мой, как я обрадовался. Книга оказалась толстой, с картинками, какие бывают именно в интересных книгах. Она заключала в себе два романа Майна Рида – «Охотники за черепами» и «Квартеронка». Когда, уже учеником третьего класса, я взял в библиотеке реального училища те же самые романы, они показались мне сокращенными по сравнению с лянгертовскими. Так я прочел все, что хранилось в тумбочке, все те книги, которые читал мальчиком Лянгерт – лысый озабоченный человек. Я видел его изредка, по воскресеньям.
26 января
Итак, читал я много, и книги начинали заполнять ту пустоту, которая образовалась в моей жизни после рождения брата. На вопрос: «Кем ты будешь?» – мама обычно отвечала за меня: «Инженером, инженером! Самое лучшее дело». Не знаю, что именно привлекало маму к этой профессии, но я выбрал себе другую. Однажды мы ходили взад и вперед по большому залу санделевского дома, мама с Валей на руках и я. Очевидно, мы разговаривали менее отчужденно, чем обычно, потому что я вдруг признался, что не хочу идти в инженеры. «А кем же ты будешь?» Я от застенчивости лег на ковер, повалялся у маминых ног и ответил полушепотом: «Романистом». В смятении своем я забыл, что существует более простое слово: «писатель». Услышав мой ответ, мама нахмурилась и сказала, что для этого нужен талант. Строгий тон мамы меня огорчил, но не отразился никак на моем решении. Почему я пришел к мысли стать писателем, не сочинив еще ни строчки, не написавши ни слова по причине ужасного почерка? Правда, чистые листы нелинованной писчей бумаги меня привлекали и радовали, как привлекают и теперь. Но в те дни я брал лист бумаги и проводил по нему волнистые линии. И все тут. Но решение мое было непоколебимо. Однажды меня послали на почту. На обратном пути, думая о своей будущей профессии, встретил я ничем не примечательного парня в картузе. «Захочу и его опишу», – подумал я, и чувство восторга перед собственным могуществом вспыхнуло в моей душе. Об этом решении своем я проговорился только раз маме, после чего оно было спрятано на дне души рядом с влюбленностью, тоской по приморской жизни, верным конем и маленькими человечками. Но я просто и не сомневался, что буду писателем.
30 января
Итак, я жил себе да поживал по-своему. А вокруг разворачивались события первостепенной важности. Началась русско-японская война. Точнее, она к этому времени вошла и в нашу жизнь – жизнь детей. Мы стали следить за газетами. Собирали картинки с броненосцами. Искали книжки про Японию, к этой стране появился страстный интерес. Что это за люди, японцы? Где они живут? Как осмелились они напасть на нас? Естественно, что я не сомневался в нашей победе и удивлялся японскому безрассудству. Спрашивать открыто у взрослых я к этому времени уже перестал. Ответы на вопросы, волнующие меня, получал я таким образом: настораживал уши, когда речь заходила о вещах, мне интересных. К этому времени взрослые часто говорили о войне. Особенно о флоте. У них даже завелась игра. Моего учителя Шапошникова Константина Карповича они прозвали за его рост и могучие плечи «Броненосец „Ретвизан“. Городского архитектора Смирнова Леонида Ивановича прозвали Миноносцем И в разговорах старших о военных действиях стал я вдруг замечать оттенок непонятной мне насмешки Над чем? Я еще не успел охватить. И вдруг однажды я услышал разговор, который задел меня. Беатриса Яковлевна призналась маме, что ей все же приятно читать редкие сообщения о наших удачах. Мама резко возразила ей. И я вдруг понял, что мама радуется нашим поражениям. Я ужаснулся. Как могла мама быть против наших? Я стал прислушиваться еще усерднее и понял, наконец, что мама да и все взрослые были против царя и генералов, а солдат всячески жалели и сочувствовали им. Это уже легче было понять. Вернулся из Берлина папа. Он привез мне скрипку, игрушки, книгу „Том Сойер“, которую, как я полагал, он купил там же. У нас стало бывать много народа. В кабинете происходили какие-то собрания, о которых мне строго-настрого приказано было молчать.
31 января
Людей, приходящих к отцу, называли кратко, только по имени: Данило, например. Остальных не могу припомнить сейчас. Иногда у нас ночевали проезжающие куда-то незнакомцы. Против нашего дома, над живущими в полуподвале Ларчевыми, снимал квартиру отставной генерал Добротин. Жена его, сильная брюнетка, едва тронутая сединой, но со слишком румяными щеками, казалась еще нестарой женщиной. А сам генерал мог ходить, только опираясь на две палки, резиновые наконечники которых в свою очередь мягко упирались в тротуар. Седобородый, добродушный, он не спеша шествовал по городскому саду, заходил в магазины. Руки его были заняты палками, и покупки он прицеплял веревочными петельками к пуговицам пальто. Вечерами генерал сидел на крыльце в кресле и заговаривал иной раз с нами. Однажды мы, дети, показывали друг другу картинки, потом открытки. Генерал скуки ради рассматривал их с нами вместе. Довольный тем, что моя коллекция богаче всех, я, чтобы поразить друзей еще больше, сбегал домой и притащил наш альбом с открытками. Среди них были и привезенные отцом из Берлина. Был там Карл Маркс, изображенный в ореоле из выходящих в Германии социал-демократических газет, были Бебель и Каутский. Наружность Маркса поразила меня, и я спросил у Валиной няньки: кто это? «Еврейский святой!» – ответила нянька уверенно. И я удовлетворился этим объяснением. Повторил я его и показывая открытку детям и генералу. Но генерал поморщился и ответил: «Ничего подобного. Это портрет одного политического деятеля». И тут меня позвали домой. Как я удивился, когда мама с лицом огорченным и строгим напала вдруг на меня за то, что я показывал альбом генералу Добротину. Я ничего не мог понять. «Сколько раз я говорила тебе: ничего не выноси из дому!» – повторяла мама, видимо, не желая вступать в более вразумительные объяснения. Влетело мне и от папы, когда он пришел домой. Он тоже ничего не объяснил толком, не желая даже приблизительно посвящать меня в свои дела. И он упирал на то, чтобы я никому, никогда не смел рассказывать, кто у нас бывает, о чем говорят и так далее. Мирная обстановка, в которой жили мы, скажем, в Ахтырях, умерла навеки. Там мы бывали у полицеймейстера, а тут отставной генерал стал врагом.
1 февраля
Я стал осторожно расспрашивать своих друзей и выяснил, что большинство из них давно были против царя. Они тоже солдат жалели и ругали Куропаткина и генералов. Родители были откровеннее при них. Худенький мальчик, по фамилии Кульбановский, ругая генералов, ссылался все время на отца: «Мой папа говорит…» – и так далее.
3 февраля
Между аптекой Горста и летним помещением клуба зеленел пустырь, заросший бурьяном. Вниз шла лестница. Кирпичный домик краснел среди деревьев внизу. В домике этом вечерами начинала постукивать какая-то машина, выбрасывая из узенькой железной трубы клубы дыма, а иной раз и колечки, как это делают курильщики. Мальчишки мне объяснили, что в домике работает водокачка, но куда она качала воду и кому принадлежала, я не знаю до сих пор. Это место мне памятно и потому, что я часто ходил по деревянной лестнице мимо красного домика к Белой купаться, и потому, что на пустыре выросло однажды полотняное строение, не такое высокое, как цирк-шапито, но зато более длинное, занявшее почти весь небольшой, впрочем, пустырь. Приехал зверинец со львом, медведями, дикобразом, пумой, шестиногим теленком! И вот после долгих просьб, откладываний, слез и отказов мама выбрала время, и мы отправились на представление, так как в зверинце еще и представляли, о чем сообщили развешанные по городу афиши. Майкопские афиши в те времена, кстати, начинались одинаково: полукругом шли слова «С разрешения»; потом ровно стояло слово, набранное крупным черным шрифтом, – «гор. Майкоп» и снова мелко, полукругом, – «начальства». Едва мы вошли в полотняные сени, как охватил нас острый, незнакомый запах. Кассирша продавала за столом билеты. Мы вошли в зверинец. Звери или метались по клеткам, или дремали. Грустно глядел теленок с двумя лишними ногами, которые торчали где-то сзади, я не всматривался. Самая просторная клетка была у львицы. Ее и называли в афише львом. Левее этой клетки помещалась арена. Над ареной покачивалась трапеция. Тяжелый запах, клетки, звери, спящая львица и теленок-урод ошеломили меня. Зазвонил звонок, и зрители уселись на вделанных в землю скамейках против арены. Под скамейками зеленела трава. Вышел силач с гирями. Повертелся на трапеции гимнаст, и вдруг – сердце у меня сжалось. Я вздрогнул; мама, взглянув на меня, сказала: «Опять у тебя начинается малярия». Но я был здоров. Просто я влюбился… На арену выбежала девочка моих лет с темными распущенными волосами. Глаза у нее были синие. Она танцевала и улыбалась.
4 февраля
Девочка была в белом платье. Мама все время смотрела на арену так, будто собиралась высказать зверинцу и актерам всю правду. Но при виде девочки лицо мамы смягчилось. Она ей похлопала и похвалила ее. В заключение рослый и стройный человек с белокурой бородкой вошел в клетку львицы. Он заставил ее прыгать в обруч, балансировать на доске, а в заключение взвалил львицу к себе на плечи и обошел всю клетку. Любовь заставила меня всеми правдами и неправдами искать случая еще раз проникнуть в зверинец. Но удалось мне это всего один раз. Я попал туда вместе с Соловьевыми. К удивлению моему, девочка показалась мне совсем не такой, как первый раз. Точнее, в мечтах моих она была другой. Но и та, которую я увидел на арене, прекрасна. Вскоре после этого, идя по площади против Соловьевых, я увидел девочку в окне маленького дома, где она квартировала. Очень славная, очень домашняя, смеясь куда веселее, чем в цирке, она кричала что-то по-немецки белокурому укротителю, который спешил по площади к зверинцу. И он отвечал ей, так же весело смеясь. И вот опять свойственная возрасту вообще, а в частности мне особенность. Да, я старался попасть на представление в зверинец, но мне и в голову не приходило пытаться заговорить с девочкой, попробовать познакомиться с ней, пройти лишний раз мимо ее дома. Встречая ее, я замирал от счастья, но не искал с ней встреч. Сейчас, углубившись в те дни, я не уверен, что «правдами и неправдами» искал случая проникнуть в цирк. Это догадка, а не воспоминание. Мне кажется, что я действительно попал еще раз в зверинец с Соловьевыми, не приложив для этого ни малейшего усилия, даже скрывая, как мне этого хотелось. Но зато, когда зверинец уехал, я чуть ли не каждый день ходил на пустырь, где остались столь явственные следы парусинового здания. Вот здесь были скамейки. Вот круг арены. Вот четырехугольник львиной клетки. Уехала маленькая немочка в белом платье с распущенными темными волосами, и я даже имени ее не узнал. Ее я любил долго. Два года.
5 февраля
Я узнал от мамы, что приехал синематограф, будут показывать картины, на которых все движется, как живое. Мне дали двадцать копеек и разрешили идти в Пушкинский дом, где должны были показывать эти чудеса, с Илюшей Шиманом и его мамой. И вот я побежал за ними. Во дворе их дома набросилась на меня неведомо откуда взявшаяся чужая собака. Я швырнул в нее двугривенным, который держал, зажав в кулаке, и стал звонить к Шиманам. Оказалось, что они уже ушли. Обойдя страшную собаку, не смея искать двугривенный, помчался я домой, чтобы выпросить новый. Но дома никого не оказалось, все ушли гулять. Куда? Неизвестно. Кухарка отказалась дать мне деньги. Я кинулся искать наших – в саду оркестр играл вальс «Пой, ласточка, пой, сердце успокой»[173], а мое сердце разрывалось от горя. Я прибежал домой и плакал, пока не вернулись наши. От них я узнал, что синематограф будут показывать и завтра и мама пойдет туда со мною. И вот это свершилось. Занавес с Пушкиным и каплями, крупными, как виноград, был поднят. Вместо него висело туго натянутое белое полотно, политое водой. Вот на нем появился светящийся прямоугольник, неведомо откуда взявшийся. В те дни проекционная камера помещалась по ту сторону экрана. Затем он сменился названием картины, написанным не по-русски. Заиграл оркестр, и начались чудеса. Сначала мы увидели приключения неудачника, который сшибал лестницы маляров и падал в ямы с известью. Потом драму: игрок ограбил кого-то, и его гильотинировали на наших глазах; и в заключение нам показали индейцев в диких прериях. Они похитили дочку фермера, но погоня их настигла, и девочка была спасена. Кони скакали по прериям, и высокая трава качалась долго после того, как всадники уже скрылись, – это поразило меня. Правда, чистая правда, – картины эти были живые. Так я полюбил кино и долго считал, что настоящее его имя – синематограф.
6 февраля
Вот так и шли дни за днями, полные горестями и радостями, и приблизилась весна 1905 года. Я пошел держать экзамен в реальное училище. Оно, училище, готовилось уже к переезду в новое, красивое двухэтажное здание, которое в последний раз видел я дня три назад во сне. Сколько моих снов внезапно из самых разных времен и стран приводили меня в знакомые длинные коридоры с кафельными полами, или в классы, или в зал с портретами писателей. Очевидно, те восемь лет, что проучился я в реальном училище, оставили вечный отпечаток на моей душе, если я через сорок почти лет чувствую себя как дома, очутившись во сне на уроке или на скамейке в зале. Перед экзаменом я волновался. Однажды была у нас Анна Александровна[174] . Она стала спрашивать у меня в разбивку таблицу умножения. «Семью восемь?» – спросила она, и я не смог ей ответить. Чуть не плача, мгновенно растерявшись, стоял я и шевелил бессмысленно губами. А Анна Александровна как ни в чем не бывало разговаривала с мамой. Потом она взглянула на меня ласково и сказала: «Что ты то краснеешь, то бледнеешь? Ведь ты ответил мне уже давно: пятьдесят шесть». За эту доброту и деликатность, вероятно, и любили Анну Александровну знакомые. И вот пришел роковой день. Старое реальное училище помещалось в белом просторном одноэтажном доме во дворе. Деревья уже зеленели. Реалисты разных классов толкались во дворе, но не бегали, и не играли, и не приставали к нам, не попрекали, что мы в штанах до колен и в длинных чулках: у старших в этот день тоже были экзамены. На мой взгляд, они были почти взрослыми людьми. Я сказал одному из друзей, когда мы были уже в третьем классе: «Помнишь, когда мы учились в приготовительном, какие большие были третьеклассники? Не то что мы сейчас». И он признался, что и сам думал об этом. Нас посадили за парты и дали задачи: сидящим направо – одни, а сидящим налево – другие. При этом решали мы их не в тетрадках, а на листках с печатью.
7 февраля
Повторяю еще раз: если воображение у меня развилось не по возрасту, если я склонен был к мистическим переживаниям, если я страдал более своих ровесников, то и был глупее их, не умел сосредоточиться и подумать над самой ничтожной задачкой. И поэтому на экзамене задачу я не доделал. То есть не стал решать последний вопрос. Не отнял прибыль из общей выручки купца и не узнал, сколько было заплачено за сукно. Поэтому ответ у всех был девяносто, а у меня сто. Листы нам раздавал и вел экзамен красивый мрачный грузин Чкония. Узнав, что ответ у меня неверный, я мгновенно упал духом до слабости и замирания внизу живота. До сих пор я не сомневался, что выдержу экзамен. Почему? Да потому что провалиться было бы уж слишком страшно. И вот этот ужас вдруг встал передо мной. Мама ушла домой. Я оставался один, без поддержки и помощи. И я решился, несмотря на свой страх перед Чконией, подойти к нему, когда он, в учительской фуражке с кокардой и белым полотняным верхом, шел домой. Я спросил у него, сколько мне поставили. Он буркнул неразборчиво что-то вроде: «Четыре». И я разом утешился. Я готов был поверить во что угодно, только бы не стоять лицом к лицу со страшной действительностью. Я и до сих пор не знаю, правильно ли я расслышал Чконию. Все остальные экзамены прошли очень хорошо. Испугался я только, когда после экзаменов мне сказали, что я «зачислен кандидатом». Но меня утешили тем, что и всех остальных только зачислили в кандидаты, потому что будут еще осенние испытания. После них состоится заседание педагогического совета и всех нас примут в приготовительный класс. Вот я и дошел до школы.
8 февраля
Расскажу о своих играх.
После Одессы я очень полюбил террасы с перилами, – на них так удобно было играть в пароход. У нас не было такой террасы. Я видел ее в доме Капустина[175], когда бывал в саду у Водарского[176], и очень завидовал живущим там. Еще я обожал деревья. Влезть на дерево и сидеть в ветвях, как в засаде, – это было настоящее счастье. Я влезал на грушу, растущую прямо против окон нашей спальни, и выл диким голосом, изображая сам не знаю что. Бабушка Лянгерт спросила у меня однажды: «Кто это воет у вас по утрам?» – и, узнав, что я, укоризненно покачала головой, не смея делать открыто замечания чужому ребенку. Игру эту прекратил наш домовладелец. Увидев, что я сижу на груше, он так накричал на меня, что мама обиделась. В это примерно время прочел я книгу под названием «Руламан»[177] . Несмотря на малый ее размер, любил я эту книгу необыкновенно. Было такое издание – «Всходы», не то журнал, не то альманах для детей, выпускавший законченные повести и романы. «Руламан» рассказывал о жизни мальчика каменного века. Мальчик жил в пещере с одною только бабушкой. Остальная семья погибла. В конце книги бабушка погибала, героически бросившись из пещеры прямо на плечи злейшего врага их племени, проходившего внизу по тропинке над пропастью. Руламан же встречался с людьми бронзового века. Сюжет книги я помню смутно, но чувство, вызываемое ею, представляю себе ясно. Оно было сильным. Все, что попадалось мне о каменном веке, об ископаемых животных, картинки, изображающие леса каменноугольного периода, вызывало это чувство. Книжка была в кирпично-красном переплете, и даже цвет этот особым образом действовал на меня. Это отношение к переплетам описанного цвета сохранилось у меня и сейчас.
9 февраля
Я проверил себя и еще отчетливее вспомнил особое очарование первобытных лесов. Я испытывал всегда одинаковое беспокойство, видя картинки или читая рассказы о тех временах. И беспокойство это было близко к восторгу. Мне казалось, что я как-то родственно связан с тем временем. Поэтому я и полюбил «Руламана», который первый познакомил меня с каменным веком, и впоследствии так обожал «Путешествие к центру земли» Жюля Верна. Такое же чувство вызывал у меня рыцарский замок. В приложении к «Светлячку» или «Путеводному огоньку» был такой лист для вырезывания и склеивания – рыцарский замок с зубчатыми башнями и подъемным мостом. И когда Шапошниковы[178] его склеили, душа моя затрепетала от чувства, которое я тогда и не пытался передать, да и теперь не берусь выразить с достаточной ясностью. Нет, это не было ощущение того, что я когда-то бывал тут. Это было и сложнее и проще. Я сейчас был связан с замком, как и с первобытным лесом, и с пещерными жителями. А как именно? Вот этого-то я и не могу объяснить. Но когда я забирался на дерево и прятался в листья или вытаптывал в высокой траве логово (я так его и называл тогда) и скрывался в нем, то испытывал подобие этого же самого чувства. Вишни, под которыми обедали мы летом, разрослись в высокие и развесистые деревья. Ветви одной из вишен тянулись над крышей сарая. Пробраться по крыше и залечь под этими ветками тоже было счастьем. Но это удавалось редко. Железная крыша громыхала под ногами, и мама приказывала мне сию же минуту сойти вниз. В плохую погоду я играл с деревянными кирпичиками. Я нарисовал им лица. Одно из них получилось веселым, и этот кирпичик назывался «дядя Яша». Я строил под столиком большого зеркала, стоящего в зале, сады и леса. Наломав веток с кустов, я втыкал их в комки глины, отчего ветки стояли и не падали под черным столиком.
10 февраля
Люди, сделанные из деревянных кирпичиков, гуляли в этом лесу, и мне хотелось быть на их месте. Играл я, конечно, и со своими сверстниками, но только в те игры, которые не требовали ловкости. У меня не было музыкального слуха, что окончательно установил отец, заставив петь под скрипку. У меня был ужасный почерк. Я худо рисовал. Я не мог играть в лапту: ударить по мячу палкой мне никогда не удавалось. Я не мог играть в чижика. Зато в игры без правил, которые выдумывались тут же, – в разбойников, в японскую войну, в моряков играл я наравне со всеми. Помню какую-то очень интересную игру: в стогу сена прорыли мы сквозной туннель и проползали через него. А зачем делали мы это, забыл. В этом туннеле содрала себе Леля только что привившуюся оспу. Она сидела у выхода из туннеля в своем белом платьице с короткими рукавами, угрюмо глядела на пострадавшую оспину, и слезы катились у нее по щекам. Все вышеперечисленные мои недостатки меня не огорчали, а злили. Я считал игры, требующие ловкости, дурацкими. Мой почерк не смущал меня. Да, я рисовал плохо, но с наслаждением. Иногда целый вечер рисовал я корабли, морские сражения, купающихся людей, солдат, сражающихся с японцами, и это было часто не менее интересно, чем читать. Только отсутствие музыкального слуха все больше и больше огорчало меня. Я любил музыку все безнадежнее и сильнее и глядел на людей, поющих правильно, как на волшебников.
12 февраля
У нас никогда не было налаженного удобного быта: мама не умела, да, вероятно, и не хотела его наладить. Мебель у нас стояла дешевая. На стенах висели открытки. (Помню Руфь с колосьями.) Стол в столовой накрыт был клеенкой. Библиотеки не накопилось, в кабинете стоял книжный шкаф с папиными медицинскими книжками. Туда прибавился со временем энциклопедический словарь издательства «Просвещение» и Гельмольт, «История человечества», в том же издании, приобретенные, кажется, по подписке. У старших, которые попали в Майкоп поневоле, не было, видимо, ощущения, что жизнь уже определилась окончательно. Им все казалось, что живут они тут пока. Отчасти этим объясняется неуютность нашего дома. Но кроме того слой интеллигенции, к которому принадлежали мы, считал как бы зазорным жить удобно. У Соловьевых жизнь шла налаженнее, хозяйственнее, уютнее, но и у них она была подчеркнуто проста и не нарядна. Перелистывая недавно «Ниву» за тринадцатый год, увидел я фотографии, помещенные к юбилею Короленко. И сразу почувствовал, узнал знакомую интеллигентскую обстановку. Клеенка на обеденном столе, простые тарелки, графин с водой, с общим для всех стаканом, гнутые венские стулья. А ведь Короленко был к этому времени зажиточным человеком. Но таков уж был неписаный, почти что монашеский устав.
20 февраля
Рассказывая о Маршаке, забыл написать следующее: Лебедев, обсуждая рисунки художников, ставших уже мастерами, любил говорить, что «они сами за себя отвечают». Молодых он заставлял переделывать рисунки по нескольку раз, а у старших принимал работу молча. Маршак резко осуждал эту точку зрения. Он утверждал, что каждого можно заставить работать над рукописью. Помню, как пытался он заставить Алексея Толстого переделать какой-то рассказ для «Ежа». Спорил с Пришвиным. Если он и не заставлял писателей с именем переделывать свои вещи, то все-таки каждый раз пробовал убедить их в том, что в их рассказах еще не все в полном порядке. Но, помнится, никто из них не приходил в восторг от этого. Я же в те дни был согласен с Маршаком. Мне казалось, что пришло время, когда возможен великий редактор, как есть великие режиссеры. Станиславского слушались же актеры, в том числе и несомненные мастера. Я любил говорить, что у Маршака абсолютный вкус, на что Тоня Шварц возразил мне однажды: «А по-моему, это абсолютизм вкуса».
22 февраля
В тетради этой я пишу, когда уже почти не работает голова, вечером или ночью, чаще всего если огорчен или не в духе. Условие, которое поставил я себе – не зачеркивать, – отменил, когда стал рассказывать истории посложнее. И вот перечитав вчера то, что писал последние месяцы, я убедился в следующем: несмотря на усталость, многое удалось рассказать довольно точно и достаточно чисто. Второе условие, которое поставил я себе – не врать, не перегруппировывать (ну и слово) события, – исполнено. Этого и оказалось достаточным для того, чтобы кое-что и вышло. Заметил, что в прозе становлюсь менее связанным. Но все оправдываюсь. Чувствую потребность так или иначе объясниться. Это значит, что третьего условия – писать для себя и только для себя – исполнить не мог, да и вряд ли оно выполнимо. Если бы я писал только для себя, то получилось бы подобие шифра. Мне достаточно было написать: «картинная галерея», «грецкий орех», «реальное училище», «книжный магазин Мареева», чтобы передо мной появлялись соответствующие, весьма сильные представления. Я пишу не для печати, не для близких, не для потомства – и все же рассказываю кому-то и стараюсь, чтобы меня поняли эти неведомые читатели. Проще говоря, стараюсь, чтоб было похоже, хотя никто этого с меня не требует.
25 февраля
Итак, к поступлению в школу, то есть к девяти годам, я был слаб, неловок, часто хворал, но при этом весел, общителен, ненавидел одиночество, искал друзей. Но ни одному другу не выдавал я свои тайные мечты, не жаловался на тайные мучения. Так я и бегал, и дрался, и мирился, и играл, и читал с невидимым грузом за плечами. И никто не подозревал об этом. И мама все чаще и чаще говорила в моем присутствии, что все матери, пока дети малы, считают их какими-то особенными, а когда дети вырастают, то матери разочаровываются. И я беспрекословно соглашался с ней, считал себя ничем, сохраняя идиотскую, несокрушимую уверенность, что из меня непременно выйдет толк, что я буду писателем. Как я соединял и примирял два этих противоположных убеждения? А никак. Я говорил уже где-то, что если я научился чувствовать и воображать, то думать и рассуждать – совсем не научился. Было ли что-нибудь отличное от других в том, что я носил за плечами невидимый груз? Не знаю. Возможно, что все переживают в детстве то же самое, но забывают это впоследствии, после окончательного изгнания из рая. Во всяком случае, повторяю, ни признака таланта литературного я не проявлял. Двух нот не мог спеть правильно. Был ничуть не умнее своих сверстников. Безобразно рисовал. Все болел. Было отчего маме огорчаться.
26 февраля
Таким я был к великому огорчению родителей. Отец, происходивший из семьи несомненно даровитой, со здравой и лишенной всяких усложнений и мучений склонностью к блеску и успеху, огорчался особенно. Он, как я уже говорил, пел приятным и сильным баритоном, играл на скрипке, декламировал и участвовал в любительских спектаклях. Исаак с огромным успехом исполнял даже такие роли, как Уриэль Акоста, удивляя профессионалов, Самсон уже имел имя на провинциальной сцене, Маня и Розалия с блеском окончили консерваторию, Феня была блистательной студенткой-юристкой в Париже, и Саша подавал надежды. И Тоня уже шел по пути старших. Чуть ли не с трех лет его ставили на стол и он читал стихи спокойно и храбро, здраво наслаждаясь успехом и блеском. Мама же обладала воистину удивительным актерским талантом, похвалы принимала угрюмо и недоверчиво и после спектаклей ходила сердитая, как бы не веря ни себе, ни зрителям, которые ее вчера вызывали. Но и ей, так же, как папе, хотелось, чтобы я был талантлив. А я был только трудным мальчиком.
28 февраля
Я любил читать, к игрушкам относился скорее равнодушно, и все же игрушечный магазин Калмыкова был для меня куда привлекательнее, чем книжный Мареева. Я как-то не понимал, что книжку можно купить, вероятно потому, что наш единственный малопривлекательный книжный шкаф не наводил на эти мысли. Две книги, «Капитан Гаттерас» и «Рыжик», мне подарили. Подарили мне и тоненькую книжку «Давид Копперфильд». Это не было сокращенное издание: в книжечке история мальчика заканчивалась его появлением у бабушки и изгнанием Мердстонов. Только через много лет я был приятно поражен, узнав, что прочел только начало романа. Итак, за этими тремя исключениями, собственных книжек у меня не было, а покупать их я не догадывался. Но игрушки покупал с наслаждением. Чаще всего это были мячи (твердые – черные или белые – помягче), стоили они десять-пятнадцать копеек. Еще дешевле были набитые опилками бумажные шарики на резинке, впоследствии, в Ленинграде уже, встреченные мною под именем «московский расстегай, подкидывай, кидай», но впервые в жизни шел я в магазин Калмыкова, имея целый рубль. За прилавком обычно стояли хозяин, высокий, невеселый, и хозяйка, полная, курносая и надменная. Впрочем, с покупателями она была снисходительно вежлива. Я посоветовался с хозяином и выбрал великолепную игрушку: большой белый лук с тетивой, похожей на скрипичную басовую струну, и с деревянным колчаном, в котором, как в футляре, покоились оперенные стрелы. Нет, мама, конечно, и в самом деле меня любила. Возвращаясь с подарком домой, я вспомнил, как недавно болел ангиной. Уходя в магазин, мама обещала купить мне какую-нибудь игрушку. И забыла. Я расплакался. «Я сейчас схожу, схожу куплю!» – сказала мама. Я заплакал еще сильнее, тронутый ее добротой, но не нашел в себе силы сказать ей: «Не ходи!» И мама ушла, хотя лил дождик, и купила мне заводную мышку. И все мы дружно смеялись, глядя, как наша кошка гоняется за нею, как за живой. Нет, конечно, мама любила меня, заботилась обо мне, жалела.
3 марта
Я надел впервые в жизни длинные темно-серые брюки и того же цвета форменную рубашку, и мне купили фуражку с гербом и сшили форменное пальто. Мне все казалось, что я ношу эту одежду, столь желанную, без всяких на то прав. Ведь я был только кандидатом в ученики приготовительного класса. Но вот список принятых вывесили на доске возле канцелярии училища, и мы отправились с мамой в магазин Мареева покупать учебники. В магазине было полно. Каждый приказчик знал, какие учебники нужны данному классу. Мне купили и учебники, и тетради, и деревянный пенал, верхняя крышка которого отодвигалась с писком, и, чтобы носить все это в училище, – ранец. Серая телячья шерсть серебрилась на ранце, он похрустывал и поскрипывал, как и подобает кожаной вещи, и я был счастлив, когда надел его впервые на спину.
И вот я пошел в реальное училище, не понимая и не предчувствуя, что начал новую жизнь, окончательно прощаюсь с детством. Встретил нас хмурый и недружелюбный Чкония. В первый день не произошло ничего памятного. Только один случай я и запомнил: в класс вошел наш директор Василий Соломонович Истаманов, которого все мы боялись и уважали. Случилось это на перемене. Мы шумели, но едва директор, крупный, спокойный, серьезный, появился в дверях, как в классе воцарилась тишина. Левка Сыпченко, стоящий у самой двери и оказавшийся внезапно в неожиданной близости к Василию Соломоновичу, растерянно улыбнулся и протянул директору руку. И Василий Соломонович усмехнулся. Он пожал протянутую руку и объяснил ласково, но внушительно, так, чтобы слышал весь класс, что младшим не положено протягивать руку первым.
4 марта
За Пушкинским домом помещалось техническое училище. Без четверти восемь гудок, длинный-длинный, раздавался над его мастерскими, будил техников. Обычно к этому времени я уже не спал, но еще не вставал. Этот гудок давал знать и мне, что до начала занятий у нас в реальном осталось сорок пять минут. И вот со скрипом и спорами, ссорясь с мамой, трехлетним Валей, нянькой, я поднимался. Завтрак был чистым мучением. Мама в стакан какао выпускала мне сырой желток, растерев его не слишком старательно с сахаром. Непременно туда же попадали частицы белка, плавали сверху стекловидные, отвратительные. Запах сырого яйца сразу угадывался от одного взгляда на это пойло. Потом я съедал котлету, булку с маслом. Сверх всего этого мама клала в ранец бутылку молока, несмотря на все мои протесты и даже слезы, требуя, чтобы я его выпил на большой перемене. Тем временем раздавался второй гудок технического училища, гораздо более короткий. Пятнадцать минут до начала. Надо спешить. Я надевал на спину ранец и выходил. Деревья уже облетели. Бурьян пожелтел. Улицы превратились в грязевые реки. В лужах плавали гуси. Я шел через площадь, что против Соловьевых, мимо дома Авшаровых, мимо городского сада.
7 марта
Я оставался правдивым и послушным. Молоко, которое посылала со мною мать, создавало мне целую массу затруднений. Пить его на большой перемене, при всех, значило бы подвергнуться всеобщему посмеянию. Поэтому я тайно до начала уроков забегал в подвал и прятал бутылку в груде строительного мусора. На большой перемене я каждый раз о нем забывал. Только после уроков мчался я в подвал. К этому времени молоко пропитывалось всеми подвальными запахами, главным образом сыростью. Я мог бы его вылить. Кто бы узнал об этом? Но я выполнял мамин приказ добросовестно, проглатывал отвратительный напиток до последнего глоточка, хоть меня и мутило. Придя домой, я не мог обедать, а мама сердилась, беспокоилась и говорила отцу, что мне опять надо вспрыскивать мышьяк. Сразу после еды садиться за уроки считалось вредным. И вот я играл во дворе, пока не начинал звонить унылый колокол армянской церкви. Она еще не была достроена. Колокола ее, временные, помещались под навесом маленькой, невысокой деревянной звонницы во дворе. Колокол звонил заунывно, тревожил мою совесть, напоминая о неотвратимых обязанностях ученика реального училища. Но я все откладывал да откладывал свое возвращение домой, пока мощный, низкий мамин голос не раздавался над моей головой: «Женя! Уроки учить!»
8 марта
И я усаживался чаще всего в зале и принимался за уроки. Русский язык давался мне сравнительно легко, хотя первое же задание – выучить наизусть алфавит – я не в состоянии был выполнить. Капризная моя память схватывала то, что производило на меня впечатление. Алфавит же никакого впечатления не произвел на меня, и я его не знаю до сих пор. И грамматические правила заучивал я механически и не верил в них в глубине души. Не верил я ни в падежи, ни в приставки, ни в какие части речи. Я не мог признать, что полные ловушек и трудностей сведения, преподносимые недружелюбным Чконией, могут иметь какое бы то ни было отношение к языку, которым я говорю и которым написаны мои любимые книги. Язык сам по себе, а грамматика сама по себе. Да и все школьные сведения связаны с враждебным школьным миром, со звонком, классом, уроками, толпой учеников – словом, никакого отношения не имеют к настоящей жизни. Само собой, что это я теперь облекаю в слова довольно, впрочем, ясное чувство тех дней. Но, так или иначе, русский язык я заканчивал самостоятельно. Но вот наступала очередь арифметики. Я открывал задачник, читал задачу раз, другой, третий и принимался ее решать наугад. И начинались беды. Ох! Рубли и копейки не делятся на число аршин проданного сукна, хотя я даже помолился, прежде чем приступить к этому последнему действию. Значит, решал я задачу неправильно. Но в чем ошибка? И я вновь принимался думать, и думал о чем угодно, только не о задаче. Я думать не умел. Не умел сосредоточить и направить внимание. Темнело. Передо мной на столе появлялась свеча, которая еще дальше уводила меня от арифметики. Я раскалял перо и вонзал в белый стеариновый столбик, и он шипел и трещал. Я проделывал каналы для стока стеарина от фитиля до низа подсвечника. Словом, в столовой уже звенели посудой, накрывали к ужину, а задача все не была решена. А мне предстояло еще учить закон божий! «Женя, ужинать!» – звала мама.
9 марта
И я появлялся за столом до того мрачный и виноватый, что мама сразу догадывалась, в чем дело. Хорошо, если она могла решить задачу самостоятельно, но, увы, это случалось не так часто. К математике она была столь же мало склонна, как я. Обычно дело кончалось тем, что за помощью мы обращались к отцу. Не проходило и пяти минут, как я переставал понимать и то немногое, что понимал до сих пор. Моя тупость приводила вспыльчивого моего папу в состояние полного бешенства. Он исступленно выкрикивал несложные истины, с помощью которых очень просто решалась моя задача. И я бы понял их, вероятно, говори он тихо и спокойно. После долгих мучений и слез мой ответ сходился, наконец, с ответом учебника.
10 марта
Итак, училище, в которое я так стремился, скоро совсем перестало меня радовать и манить. Русский, арифметика, арифметика, русский – только и отдыхаешь душой на законе божием. В расписании, правда, стояло еще и рисование, но ни разу Чкония не учил нас этому предмету, хотя тетрадки для рисования имелись у всех. Но вот однажды Чкония сказал нам, что завтра урок рисования состоится. «Принесите тетрадку, карандаши, резинку». И это обрадовало меня. Я утром вскочил еще до длинного гудка и приготовил все, что требовал учитель. Веселый, выбежал я в столовую. Все были в сборе. Папа не ушел в больницу. Увидев меня, он сказал: «Можешь не спешить – занятий сегодня не будет». В любой другой день я обрадовался бы этому сообщению, а сегодня чуть не заплакал. Мне трудно теперь понять, чего я ждал от урока рисования, но я так радовался, так мечтал о нем! Я вступил в спор, доказывая, что если бы сегодня был праздник, то в училище нам сообщили бы об этом. Папа, необычно веселый, только посмеивался. Наконец он сказал мне: «Царь дал новые законы, поэтому занятия и отменяются». Будучи уже более грамотным политически, чем прежде, я закричал, плача: «Дал какие-то там законы себе на пользу, а у нас сегодня рисование!» Все засмеялись так необычно для нашего дома весело и дружно, что я вдруг понял: сегодня и в самом деле необыкновенный день.
Наскоро позавтракав, мы вышли из дому и вдруг услышали крики «ура!», музыку. На пустыре против дома Бударного, где обычно бывала ярмарка и кружились карусели, колыхалась огромная толпа. Над толпой развевались флаги, не трехцветные, а невиданные – красные. Кто-то говорил речь.
11 марта
Оратор стоял на каком-то возвышении, далеко в середине толпы, поэтому голос его доносился к нам едва-едва слышно. Но прерывающие его через каждые два слова крики: «Правильно!», «Ура!», «Да здравствует свобода!», «Долой самодержавие!» – объяснили мне все разом лучше любых речей. Едва я увидел и услышал, что делается на площади, как перенесся в новый мир – тревожный, великолепный, праздничный. Я достаточно подслушал, выспросил, угадал за этот год, чтобы верно почувствовать самую суть и весь размах нахлынувших событий. Папа скоро исчез – увел его бледный, вдохновенный старшеклассник Клименко и кто-то из тех наших гостей, которых звали по именам, но без отчеств. В толпе я испытал все неудобства маленького роста. Я не видел ораторов. Как я ни подпрыгивал, как ни старался, – кроме чужих спин, ничего я не видел. В остальном же я с глубокой радостью слился с толпой. Я кричал, когда все кричали, хлопал, когда все хлопали. Каким-то чудом я раздобыл тонкий сучковатый обломок доски аршина в полтора длиной и приспособил к нему лоскуток красной материи. В ней недостатка не было – ее отрывали от трехцветных флагов, выставленных у ворот. Скоро толпа с пением «Марсельезы», которую тут я услышал в первый раз в жизни, двинулась с пустыря, мимо армянской церкви к аптеке Горста и оттуда налево, мимо городского сада. У Пушкинского дома снова говорились речи. Трехлетний Валя сидел у мамы на руках, глядел на толпу с флагами, и, как я узнал недавно, это стало самым ранним воспоминанием его жизни. И было что запомнить: солнце, красные флаги, пение, крики, музыка. Возле нашего училища толпа задержалась. На крыше, над самой вывеской «Майкопское Алексеевское реальное училище», развевался трехцветный флаг.
12 марта
Реалист-старшеклассник, кажется по фамилии Ковалев[179], появился возле флага, оторвал от него синие и белые полотнища, и узенький красный флаг забился на ветру. Толпа закричала «ура!». Нечаянно или нарочно, возясь с флагом, Ковалев опрокинул вывеску. Толпа закричала еще громче, еще восторженнее. Реальное училище было названо Алексеевским в честь наследника, и в падении вывески с этим именем все заподозрили нечто многозначительное, намекающее. Когда толпа уже миновала пустырь против больницы, снова заговорили ораторы. На этот раз мне удалось пробраться ближе к трибуне. Маленькая, черненькая, молоденькая, миловидная фельдшерица Анна Ильинична Вейсман, прибежавшая прямо из больницы в белом халате, просто и спокойно, как будто ей часто приходилось говорить с толпой, стоя на ящиках, попросила народ, когда он будет решать свою судьбу в Государственной думе, подумать и о правах женщин. Мы пообещали, крича и аплодируя. Выступил тут и папа. И он говорил спокойно, вносил ясность во что-то, предлагал поправку к чему-то. И он понравился нам, и ему мы хлопали и кричали: «Правильно!» Как сейчас вижу белую фигурку Анны Ильиничны и высокого моего папу в черном плаще. Правая его рука была на перевязи. Он поранил палец в больнице, ранка не заживала и беспокоила отца. Веселым я его увидел в первый раз после большого промежутка времени в этот необыкновенный день. Назавтра занятия в реальном училище возобновились, но в воздухе, как перед грозой, носилось беспокойство, для нас веселое, для учителей тяжелое. Старшеклассники то и дело устраивали сходки в зале. Отменяли занятия. Чкония пожелтел и еще недружелюбнее и подозрительнее поглядывал на нас, хотя приготовительный класс не бунтовал ни разу. Восстал однажды только я, чему не устаю удивляться до сих пор. Я страшно боялся Чконию, и мой бунт дался мне непросто.
13 марта
Однажды с кем-то из наших знакомых гуляли мы в городском саду. Зашел разговор о некоем мальчике, которого вечно ставили в угол. Мама находилась в своем обычном за последнее время упрямом, бунтовщическом духе. Она с жаром, несколько даже не соответствующим случаю, обрушилась на этот вид наказания. На месте учеников, сказала мама, она никогда не согласилась бы стоять в углу всем на посмеяние. Я выслушал мамины слова спокойно и не сделав как будто из них никакого вывода. Но вот в один несчастный день Чкония, забыл за что, приказал мне идти в угол. Помню отчетливо, что я не был виноват в том проступке, который он мне приписал. Кажется, он утверждал, что я послал кому-то записку. Чкония никогда никаких возражений не принимал. Виноват или нет – ступай в угол, если учитель приказал. И все со слезами или со смущенной улыбкой повиновались ему. А я вдруг, удивляясь впервые в жизни сам себе до той крайней степени, когда собственные слова слышишь как бы со стороны, заявил, что не пойду в угол и все тут. Чкония грозил, требовал, наконец попробовал затащить меня в угол насильно, но ничто не помогло. Я уперся как бык: «Лучше выгоните меня из класса, а в угол не пойду!» – закричал я после упорной борьбы с рассвирепевшим, но и несколько растерявшимся учителем. Не мог же он в самом деле до конца урока стоять возле и держать меня за плечи, затиснувши в угол. Мое предложение давало возможность как-то закончить нелепую борьбу. «Ну и пошел вон!» – приказал Чкония. И я выбежал из класса. Я не плакал. Я был ошеломлен. Я чувствовал, что мне необходимы немедленное сочувствие и помощь. И, оставив в классе ранец и книжки, я отправился прямо домой. Свернув по площади против Горста, я пошел вдоль канавы у забора чибичевского завода. Я все не приходил в себя. Нелепая, как сон, борьба, рукопашная борьба с учителем никак не усваивалась, не постигалась моей душой. Я снова и снова вспоминал, как пытался доказать свою невиновность и как Чкония, не слушая, повторял: «В угол!» – «Подумаешь, король!» – сказал я, глядя в канаву, и почему-то эти слова вдруг развязали мою скованную душу, и я с удовольствием заплакал. Мама выслушала меня и, не упрекнув ни словом, отправилась в училище.
14 марта
Я до ее прихода не читал, не играл. Я лег в кровать и все старался переварить сегодняшние события, причем слова «Подумаешь, король!» помогали каждый раз, как по волшебству, вызывая слезы. Мама вернулась, принесла ранец и сообщила, что Чкония на редкость несимпатичный человек, но, в общем, больше не имеет ко мне претензий. За мой проступок я был наказан удалением из класса, что является наказанием более строгим, чем стояние в углу. Разговаривала она и с моими одноклассниками, которые подтвердили, что я и в самом деле никому записок не писал и пострадал ни за что. Я не почувствовал себя лучше от маминого сообщения. Обедать я отказался. У меня сильно повысилась температура, начался припадок малярии. Когда я через несколько дней явился в класс, меня встретили криком, стуком откидных досок парт, топаньем ног – словом, школьной овацией по всем правилам. Я сначала замер от удивления, потом испытал восторг и улыбнулся столь глупо-самодовольной улыбкой и поклонился так по-дурацки, что овация прекратилась и жизнь пошла своим чередом. И Чкония встретил меня, как всегда. Впрочем, смотрел он на каждого из нас до такой степени недружелюбно, что усилить это выражение он при всем желании не мог бы.
Приближался конец первой четверти. Не могу объяснить почему, но Чкония не раздал нам табели с отметками, а мы должны были зайти в воскресенье в училище, получить их в канцелярии. Я пошел вместе с мамой. Получив отметки, я несколько огорчился. Пятерка была одна – по закону божьему. Четверка по русскому устному. Остальные – тройки. Но, тем не менее весело размахивая табелем, я побежал через дорогу к маме, ожидающей меня на той стороне, сидя на лавочке. При этом я еще вопил весело: «Хорошие, хорошие отметки!» Но, увы, показное мое ликование никак не заразило маму. Она сразу нахмурилась, почувствовала фальшь в моих радостных воплях. Прочла она табель серьезно и печально и сказала: «Нет, Женя, это плохие отметки». Напрасно я спорил, крича и обливаясь потом, что коли двоек нет – значит, все отлично. Мама не согласилась со мною. И в заключение спора сказала печально: «Самая большая радость для матери – это когда дети хорошо учатся».
17 марта
А жизнь становилась все тревожней. В Майкопе газеты не издавались, но кто-то, кажется, типограф Чернов, стал выпускать бюллетени – небольшие узкие полоски бумаги с телеграммами о последних новостях. Эти бюллетени расхватывались и жадно перечитывались. Впервые я заметил в скобках после названия города, откуда передавалась телеграмма, три прописные буквы: «ПТА» – Петербургское телеграфное агентство. Опытных наборщиков и корректоров в городе не существовало, поэтому в бюллетенях попадалось много ошибок. Телеграмма о беспорядках в Феодосии заканчивалась дословно так: «Сгорел подарок городу художника Айвазовского – пожар. По городу картина». Это мне показалось сногсшибательно смешным, и всем гостям я показывал бюллетень с этой опечаткой. Однажды, идя из булочной, услышал я церковное пение. От собора по главной нашей улице, не имеющей, впрочем, названия в те времена, двигалась демонстрация чинная и суровая, совсем не похожая на те, к которым я успел привыкнуть за эти дни. Над толпой развевались трехцветные флаги. В первом ряду две девушки с грустными лицами несли, словно иконы, портреты царя и царицы в золотых рамах. Рядом с ними шагали немолодые, тяжелые люди без шапок. Один из них грозно жестами приказал мне снять фуражку, что я и сделал, ничего не понимая. Дома я узнал, что это демонстрировали черносотенцы, которые были за царя и против свободы. Бюллетени стали рассказывать о еврейских погромах. Пришло страшное известие со станции Кавказской. Параня, молоденькая девушка с длинной косой, племянница библиотекарши Маргариты Ефимовны Грум-Гржимайло, умерла страшной смертью. Ее разорвала толпа черносотенцев, к которым она обратилась с речью. Меня потрясли это известие и слова, что толпа «разорвала». Живого человека! Маргарита Ефимовна вскоре после этого исчезла из Майкопа. Домна приносила с базара слухи один другого страшней. Ввиду малого количества евреев собирались в нашем городе бить еще и докторов, независимо от национальности. Интеллигенцию вообще.
18 марта
Однажды ночью мама разбудила меня и приказала одеваться как можно скорее. Сама она с печальным и озабоченным лицом одевала Валю, который все не мог проснуться и валился на бок. Внизу у дома собрались Данило, Клименко, Федор Николаевич – бородатый человек, недавно появившийся среди таинственных папиных гостей, и еще человек десять, которых я не узнал в темноте. Тут же стоял Франц Иванович. Он выглядел столь же решительным, как в день пожара[180] . Так же мужественно топорщились его седые усы. За пояс он заткнул, словно пистолеты, два молотка. Мы поспешно отправились по улице, мимо Соловьевых, у дома которых тоже стояли, разговаривая тихонько, люди, видимо тоже знакомые, потому что они поздоровались с папой. Пройдя еще квартал, мы вошли в угловой дом, где жили греки, владельцы табачной плантации, фамилию которых я забыл. Тут нас ждали уже. В зале, на покрытых чехлами креслах, устроили спать меня и Валю. Я понимал, что черносотенцы готовятся этой ночью устроить погром. Сердце мое сжималось, но опять, опять в самой глубине наслаждалось тем необычным, небудничным, что творилось этой ночью. Несмотря на это, я уснул мгновенно и крепко. Утром выяснилось, что черносотенцы не вышли этой ночью разбойничать. Возможно, что их известили об охране из рабочих, которая собралась возле угрожаемых домов. Некоторое время мы жили спокойно. Но вот еврейский погром разразился в Армавире. Скоро стало известно, что главные погромщики, мастера своего дела, прибыли на лошадях в Майкоп и уже пробовали мутить народ на базаре. Точно указывали день предстоящего погрома – ближайшее воскресенье. В субботу вечером мы и Татьяна Яковлевна Островская[181] с детьми – у нее родилась одновременно с нашим Валей девочка Верочка – поехали за Белую, куда-то в лес, но не к леснику, а к самому лесничему, по фамилии Потаюк. Он жил в большом доме, ходил в тужурке со светлыми пуговицами и оказался интеллигентным человеком. Погода стояла хмурая, но теплая. Чай мы пили на террасе и все поглядывали, нет ли пожаров в городе.
19 марта
Однако и это воскресенье прошло благополучно, а тем временем в городе организовались отряды самообороны. Входили в них рабочие, старшеклассники-реалисты, ученики технического училища. Когда темнело, собирались они у нас, веселые, возбужденные. Все, бывало, хохотали, все искали случая для этого. Я не отходил от них. В такие вечера наш стол переносили в зал и раздвигали во всю длину. Самовар доливали всю ночь. Домна уже спала, занимались этим гости, бегали вниз и вверх по лестнице. Реалист Калмыков, не родственник, а только однофамилец владельца игрушечного магазина, и в самом деле похожий на калмыка, был ко мне так милостив, что показал свой револьвер, чистил его при мне. На это мама поглядывала с ужасом, не позволяла мне прикоснуться ни к одному винтику, ни к одной пружинке. Гости яростно сражались в дурака. После одной такой игры спавший на полу Калмыков вдруг сел и, не открывая глаз, закричал, делая энергичные движения руками: «А я тебя козырем, козырем, козырем!» Его долго дразнили после этого происшествия. Думаю, что отряды эти собирались не только у нас, а у всех по очереди, но мне теперь представляется, что каждый вечер проходил так весело, молодо и вместе с тем тревожно. Откуда-то вдруг стали приходить к нам журналы – цветные, веселые, отчаянные. Отряд самообороны хохотал и ахал. Помню сильное впечатление от известного рисунка – кажется, Добужинского – кукла, кровавое пятно на стене, лужа крови на панели. Папа удивлялся: откуда вдруг появились такие художники? Кто пишет в этих журналах? Где скрывались эти таланты? Они появились и у нас в Майкопе. Клименко прославился исполнением церковной службы, кажется, его собственного сочинения. Из всей этой службы запомнил я, к сожалению, всего только одну строку: «Старшие едят котлетки, а детки одни объедки». Служил он вдохновенно. Мама восхищалась им, говорила, что он настоящий артист. Отчаянные, и тревожные, и веселые дни!
20 марта
Но вот будни стали вкрадываться в праздники. Невеселые будни. Однажды, когда уже темнело, увидел я Федора Николаевича у нас на лестнице. Он шел с перевязанной щекой, закутанный в плед, и я сразу с восторгом понял, что он переодет, скрывается. Отец, заметив меня, изменился в лице и сделал рукою знак, который мог означать только одно: пошел вон отсюда! За ужином он имел жестокость сказать маме: «Плохо, что этот видел Федора Николаевича» – и указал на меня пренебрежительно кистью руки. Я был так оскорблен, что даже не заплакал. Я, душой угадавший самую суть великих событий, развернувшихся вокруг, в глазах отца оставался тем же глупым мальчишкой, что показывал альбом генералу Добротину! Я молча встал из-за стола и ушел рисовать.
Уроков рисования у нас так и не было ни разу в приготовительном классе, но тетрадь для рисования у меня уже приходила к концу, и я собирался купить новую. Рисовал я одно – толпы с красными флагами. Люди – восьмерки на тоненьких ножках – окружали трибуну сажени в две высотой. С такой трибуны оратор был виден всем, что у меня в последнее время стало навязчивой мечтой. Замечу выступ на стене реального училища или высокий балкон – и думаю, что оратора, говорящего с такой высоты, и я увидел бы. Вероятно, в это же время я прочел в газете, что где-то – кажется, в Польше – в стене колодца обнаружили дверь, ведущую в склад оружия. Такие тайные склады, в которые можно попасть только через стенку колодца, я и рисовал в огромном количестве. В моих складах было оружие всех видов: винтовки, револьверы, пушки. И в каждом углу лежали горой красные флаги, необходимые, как я полагал, для каждого вооруженного восстания.
Федор Николаевич исчез, и больше никогда в жизни я не видел его. А через несколько дней я понял из осторожного разговора старших, что у Клименко был обыск в его отсутствие и что он тоже скрывается. Вскоре я увидел Клименко на улице. Он расстался с формой реалиста. Он одет был фатовски, галстук бабочкой, на носу пенсне, в руках тросточка. Артистичность его натуры сказалась в том, что вместе с одеждой изменилась и его походка, и вся манера держаться. Он забежал к нам попрощаться, и больше я никогда в жизни не видел его. Ходили слухи, что его казнили в 1907 году.
21 марта
Иногда мне кажется, что я ускоряю ход событий. Возможно, что Клименко пропал в 1906 году. Митинг, где выступала Анна Ильинична Вейсман, был, может быть, не 17 октября, а позже, перед выборами в Первую Государственную думу. Но это я понимаю, так сказать, рассудком. А писать я решил твердо только то, что осталось у меня в памяти. А в памяти моей все уложилось именно так, как было рассказано. Итак, события бушевали вокруг, но школьная размеренная жизнь упорно шла своей колеей, особенно в младших классах. Закончилась вторая четверть перед самыми рождественскими каникулами. По традиции, последний день занятий был уже, собственно говоря, праздничным. Учителя, вместо того чтобы проводить урок, читали вслух что-нибудь подходящее к случаю. Так, батюшка прочел нам рассказ Леонида Андреева о мальчике, который попросил ангела с елки, и этот ангел ночью растаял над печкой. Трудно сказать, услышал я этот рассказ в приготовительном классе или годом позже, но, во всяком случае, он связан у меня навеки и прочно с последним днем перед рождественскими каникулами. Батюшка читал просто, чуть певуче и чуть печально. Он и служил, когда приходилось, так же сдержанно, чуть печально и певуче, на свой лад. И рассказ Андреева, прочитанный батюшкой в день, когда душа была открыта всем влияниям, глубоко меня тронул. Начало рассказа, где говорится, как мальчику надоело каждое утро собираться в школу, умываться ледяной водой, сразу покорило своей правдивостью. А поверив началу, мы поверили и всему в целом. Засыпая, я думал о том, как жалко, что ангела повесили над печкой. Повесили бы его на спинку стула, и все кончилось бы хорошо. События бушевали вокруг, но жизнь шла своей колеей. Несмотря на все тревоги, мама перед рождеством отправилась с Домной в магазины и на базар. Обратно они приехали на извозчике, привезли окорок, поросенка, закуски, упакованные в рогожных кульках. В кульках были и вина, и водка, и коньяк. Окорок запекали в тесте из ржаной муки, и всё пробовали вилкой, достаточно ли он пропекся.
22 марта
Как всегда, уже в сочельник вечером был накрыт праздничный стол с окороком, закусками, поросенком, который на этот раз совсем не казался мне страшным. Коньяк был греческий. На бутылке красовалась треугольная этикетка с надписью: «Он есть лучший греческий когнак братьев Барбаресу». На рождество обеда не готовили к моей величайшей радости. Никто не приказывал доедать борща. Поросенок, ветчина, сардинки – такой обед я доедал без всяких приказаний.
1 апреля
Вся страна, как я понимаю теперь, летом 1906 года еще кипела, но в Майкопе летним полднем было непоколебимо тихо. Все говорило о буднях и наводило на меня тоску. Тоскливее всего казались мне два обычных, привычных, подчеркивающих тишину звука: стук кухонных ножей, рубящих мясо на котлеты, и настойчивые, бесконечные вопли курицы, снесшей яйцо. Будни, будни. На улице – ни души.
2 апреля
Почему? Не знаю, меня злит в доме все: запах борща из кухни, кучерявая белая голова брата, мамин голос. Точно помню, что я сам этому удивлялся, но особая, домашняя, раздражительность охватывала меня, как страсть, я не в силах был ей противиться, едва входил в комнаты. Чаще всего ссоры начинались из-за котлет и молока. В котлетах попадались жилки, а в молоке – пенки. И то и другое вызывало у меня судорогу, отвращение, чуть ли не рвоту. Очень часто, обозвав, не без основания, распущенным мальчишкой, мама выгоняла меня из-за стола. Вообще в нашей неладной семье встречи за столом в те годы редко проходили благополучно. Недаром Валя, когда ему еще и трех лет не было, умел показывать папу за столом. Делал он это следующим образом: ударял кулаком по столу и восклицал: «Молчать, гаяять!» После завтрака, если у меня находилась книга, то все было хорошо.
3 апреля
Читал я, если не было у меня новой книги, «Капитана Гаттераса». То место, где перечисляются запасы провианта, найденные экспедицией уже на краю гибели. Все эти страницы были в жирных пятнах. Избрал я их не только потому, что там перечислялась провизия, а еще и потому, что начиная с этого происшествия в делах экспедиции происходил поворот к лучшему. Вообще в это время намечалось уже некоторое замедление в моем развитии. Я стал слишком уж охотно перечитывать знакомые книги, а к новым иной раз испытывал необъяснимую, ничем не вызванную антипатию. Так я почему-то вдруг не стал читать «Детей капитана Гранта». Книга толстая, рисунки завлекательные, а я не пошел дальше первых страниц. Очевидно, я был перегружен бедами, беспорядочным чтением и всеми грузами, которыми обременяет первый год школы. Я бессознательно боролся с этим. Страх боли, к сожалению, стал сопровождаться и страхом усилия вообще. Я стал нетерпелив и неусидчив.
5 апреля
Вот кончается и эта книга, вся зима – с 10 ноября по сегодняшний день. Снова все тает, как в дни, когда я начинал свою первую тетрадь в Кирове, в сорок втором году. С того времени это пятая тетрадь. В первый раз в жизни удалось вести непрерывные записи вот уже десятый месяц. Что получается? Удалось, несомненно, рассказать кое-что о детстве, о Маршаке, о сегодняшних моих днях – это последнее получается хуже всего. Удалось вот в каком смысле: я впервые записываю все, как было, без всякого умалчивания, по возможности, и ничего не прибавляя… Я убедился, что могу рассказывать о более сложных предметах, чем предполагал. Страшные мысли о моей немоте почти исчезли. Если я еще проживу, не слабея и не глупея несколько лет, то опыт, приобретенный за эти последние месяцы, может мне пригодиться.
6 апреля
Иногда я отправлялся во флигель к писарю, о котором старшие говорили с брезгливостью и даже некоторым ужасом, – он был взяточник. Это было нечто в нашем кругу невозможное, подобное черносотенцу. Со мной писарь был приветлив. Голова у него была круглая, стриженая, казачья, смуглое добродушное лицо. Он мне нравился, но в присутствии взяточника я испытывал связанность и неловкость. Да, да, его преступность была несомненна. Получая грошовое жалованье, он с большой своей семьей жил хорошо, лучше нас. Однако любовь к чтению влекла меня даже к такому сомнительному человеку. У писаря в гостиной со столами в плюшевых скатертях, с трюмо, с фикусом стоял и большой книжный шкаф, откуда мне разрешалось брать книги для чтения. Взяточник выписывал много журналов и среди них «Ниву» со всеми приложениями.
Для «Нивы» и приложений он выписывал из издательства переплеты, которые до сих пор я видел только в объявлениях о подписке на этот журнал. Я брал серовато-голубоватый первый том полного собрания сочинений Чехова. Дальше первого тома не шел. Весь наш класс и я тоже обожали смешные рассказы, карикатуры, юмористические журналы. Поэтому я читал и перечитывал только юмористические рассказы Чехова. Брал и самый журнал. Каждый раз писарь делал из газеты обложку, предохраняющую переплет от порчи. Однажды у каких-то знакомых увидел я в зеленом переплете с золотым тиснением сказки Гауфа. Вероятно, это было какое-то старое издание – на шмуцтитуле выступили желтоватые пятнышки. Большой формат, картинки во всю страницу, особый запах редко открываемой книги очаровали меня. С массой предупреждений дали мне эту книжку почитать, и, несмотря на то, что она была незнакома мне, прочел я ее с наслаждением. И ее владельцы, прежде чем дать мне, завернули в газетную обложку. Иной раз, когда совсем нечего было читать, я шел к Иваненко – это была большая семья, казачья, вероятно, потому что отец припоминается мне в сером бешмете. Там я просил у моей сверстницы Наташи сказки [братьев] Гримм – растрепанные, без переплета и без первых страниц. Так, добыв где-нибудь книжку, я проводил время до вечера – точнее, до сумерек, когда мы шли гулять с мамой и Валей в городской сад. И непременно где-нибудь, или у Пушкинского дома, или в раковине в саду, играла музыка, тревожившая мою душу. Так и шли дни за днями тихо-тихо, почти без происшествий. Если Майкоп в полдень с криком кур и стуком ножей внушал мне уныние, то особенная, воскресная, тоска просто оглушала меня. Почему? Теперь мне трудно понять. Конфетти, затоптанные в песок городского сада. Пыль. Майкопское мещанство – мужья в картузах, жены в шляпах, детишки в штанах с разрезом сзади. Важные, осуждающие мещане. Пьяные. Драки у пивной. Не могу поймать, что именно мучило меня.
12 апреля
В час иду к Маршаку[182] . Он выглядит лучше, чем в мой прошлый визит к нему. Волосы снова стоят дыбом, и я этому рад. Последний год он их причесывал гладко, отчего казался присмиревшим. Вчера у него был сердечный припадок, от этого Маршак говорит особенно глухим и грудным, столько лет знакомым голосом. Я рассказываю, что писал о нем. Слушаю его стихи. Следы вчерашнего припадка исчезают без следа. Маршак ссорится со своей постаревшей секретаршей Розалией Ивановной, которая не может сразу найти переводы из Гейне, сделанные Самуилом Яковлевичем накануне, ссорится с редакторшей неизвестной никому из нас газеты «Тревога». Редакторша сказала по телефону: «Вы нас подводите, где же стихи?» – и получила в ответ по телефону же целый взрыв. Я иной раз испытываю настоящее счастье, наблюдая все это, погружаясь в столь напоминающую молодость, кипящую примаршаковскую обстановку. Наконец прощаемся, причем сегодня мы оба довольны друг другом. (Любопытно, что Маршак только от меня узнал, что Элик поет песни белорусские, английские, русские. Он очень удивился.)
20 апреля
В конце августа 1906 года отправился я в первый класс. Шел я в училище охотно. Я забыл все неприятности. Я знал, что больше не встречусь с Чконией. Я знал, что теперь у нас будет несколько учителей. Удивило меня то, что в классе оказалось вдвое больше учеников, чем в прошлом году. Это все были мальчики, поступившие прямо в первый класс…
В первый же день в дверях нашего класса появился живой, полный человек, чем-то похожий на Наполеона. Одет он был в учительский вицмундир, но казался одетым лучше остальных. Манжеты его были белоснежны. От него чуть-чуть пахло духами. Впрочем, все это мы заметили позже. При первой же встрече мы несколько растерялись. Новый учитель вошел быстро. За ним длинный гардеробщик Иван тащил стойку с делениями и с подвижной дощечкой, назначения которой мы не поняли. «Das ist das Fenster!»[183] – крикнул учитель металлическим тенором еще в дверях. «Das ist die Wand!»[184] – и не успели мы опомниться, как урок уже пошел полным ходом. Новый учитель не стоял на месте и не умолкал ни на одну минуту. Тон, взятый им – повелительный, а вместе с тем и веселый, – покорил нас. Мы и смеялись, и выполняли все приказания учителя, и к концу урока знали несколько слов по-немецки. А после урока учитель подвел нас к непонятной стойке и измерил рост каждого из нас.
21 апреля
Измерив рост, учитель рассадил нас по-новому и, попрощавшись весело, ушел. Так мы познакомились с новым учителем немецкого языка и нашим классным наставником. Звали его Бернгард Иванович Клемпнер. Он вел нас от первого класса до окончания училища. Это был блестяще остроумный, глубоко образованный, необыкновенный, своеобразный человек. Мало кто влиял на меня так сильно, как Бернгард Иванович. Мало кого я так искренне любил. На это он отвечал мне самой искренней неприязнью. Он, человек справедливый и никак не придирчивый, со мною бывал – правда, очень редко – и несправедливым, и придирчивым. И до сих пор, когда я вижу его во сне, со мною он разговаривает подчеркнуто холодно и неохотно. Впрочем, началось все это позже, а пока мы всем классом влюбились в нового учителя и он был ровен со всеми нами. Мы узнали вскоре, что Бернгард Иванович – состоятельный человек, московский адвокат, бросивший по каким-то загадочным причинам Москву и приехавший учителем немецкого языка в глухой северокавказский городишко. Только недавно Наташа Соловьева рассказала, что, по словам его брата, он резко перевернул свою жизнь, когда невеста вдруг ушла от него к его другу. Так ли это? Не знаю. Во всяком случае, таинственность появления только увеличивала нашу склонность к нему. Поселившись у некоей Медведевой, сдающей комнаты с пансионом, он перевез к себе пианино и играл не по-майкопски долго и звучно. Как мы узнали вскоре, он кончил Московскую консерваторию. В этот первый год своего пребывания у нас он сильно пил и вел в клубе большую карточную игру. Однако не было случая, чтобы он пропустил у нас урок. Всегда в форме, чуть пахнущий духами, он весело и повелительно входил в класс и ухитрялся вести уроки так, что казалось, будто ты читаешь интереснейшую книжку. У него была та редкая, заражающая, почти безумная веселость, которая помогла мне впоследствии понять иронические, алогические прыжки фантазии лучших из романтиков. Нас он чаще всего называл «капустики» или «петухи». «Путч-перепутч!» – кричал он, получая неправильный ответ. Он рассказывал нам сказки о слабых и сильных глаголах.
22 апреля
Бернгард Иванович, при всей своей веселости, не терял той властности, о которой я уже дважды говорил. Она была не менее заметна во всем его существе, чем его веселость. Он всем своим существом показывал, что настолько силен, что может позволить себе в классе любую вольность, ничего не теряя в нашем уважении. Говоря о нем, нельзя не подчеркивать этой второй его сущности, и вместе с тем он был совершенно противоположен властному Чконии, а мы слушались его не меньше. Однажды заболел Фарфоровский, учитель истории в старших классах. У нас был свободный урок. Проходя по коридору, я услышал знакомый тенор за дверью в седьмой класс. Бернгард Иванович давал урок истории. Я встал у двери и слушал. Он говорил, как всегда, горячо, весело и понятно. В седьмом классе притихли. Заслушались. Он рассказывал о Смутном времени. Кончив урок, он заметил меня в коридоре и спросил: «Какие новости?» Я признался, что слушал его и понял, что Смутное время – та же революция. Бернгард Иванович расхохотался и погладил меня по голове. С этого началась наша столь непродолжительная дружба.
26 апреля
И вот пришел конец первой четверти. Бернгард Иванович на последнем уроке появился с нашими табелями. Весело и наставительно подвел он итоги нашим успехам и неудачам, а затем стал раздавать четвертные отметки, пожимая руки лучшим ученикам. Каково же было мое удивление, когда я оказался чуть ли не вторым учеником в классе! У меня оказалась одна тройка по рисованию, двойка по чистописанию, о которой вообще и говорить-то не стоило. Удивление мамы, недоверчивая усмешка папы – вот чудеса-то!
5 мая
По субботам полагалось сдавать дневники Бернгарду Ивановичу, а в понедельник он возвращал их нам с отметками за неделю. В одну из суббот я забыл дневник. Забыл его и Камрас. Бернгард Иванович приказал нам принести дневники ему домой в воскресенье утром… И завязался интереснейший разговор обо всем: о школе, о Москве, о книжках и даже об эсерах и эсдеках. Бернгард Иванович спросил у меня, какая между ними разница, и остался доволен, когда я в общем верно определил ее. И в заключение произошло чудо. Бернгард Иванович сыграл и спел нам целую оперу «Фра-Дьяволо»[185] . У него был клавир. Мы, замерев, стояли один по правую, другой по левую сторону пианиста. Играл, пел и рассказывал содержание оперы Бернгард Иванович так же горячо, как вел уроки в классе. Один раз он даже больно ударил меня кулаком по руке, которую я нечаянно держал на самых басах, думая, вероятно, что они пианисту не понадобятся. Но в это время Бернгард Иванович добивался фортиссимо всего оркестра, и мне попало, на что увлекшийся музыкант не обратил никакого внимания. Капельки пота выступали на лбу его, высоком и белом.
6 мая
Очарованные вернулись мы домой. Увидев, с какой жадностью слушаю я музыку, Бернгард Иванович предложил мне учиться у него играть на рояле. Для начала он показал, как расположены ноты в басовом и скрипичном ключе, и объяснил то, чего я не заметил, глядя на его маленькие, энергичные руки, бегающие по клавишам. Я был уверен, что правая и левая играют одно и то же, и очень удивился, узнав, что каждая рука играет свое. Когда я прибежал домой и рассказал за обедом, что буду учиться у Бернгарда Ивановича музыке, папа пренебрежительно усмехнулся. Ведь у меня не было музыкального слуха. Наши восторженные рассказы привели к тому, что в следующее воскресенье к Бернгарду Ивановичу пришло в гости уже человек шесть первоклассников. И снова, как это случалось потом много-много раз, стоял я возле рояля, а Бернгард Иванович пел, играл и рассказывал одну из классических опер.
7 мая
В это время любители ставили пьесу, которая называлась «Благо народа»[186] . Папа играл в ней главную роль. Пьеса эта (кажется, переведенная с немецкого) была, если я не ошибаюсь, издана в тоненьких желтеньких книжечках «Универсальной библиотеки». Следовательно, она славилась в те времена. А может быть, это была классическая пьеса? Не могу вспомнить, что о ней говорили взрослые и фамилию автора. Действие разыгрывалось в Лидии, у царя Креза, в то время, когда гостил у него Солон. Какой-то юноша изобретал хлеб, но не мог (кажется, так) дать его голодной толпе в нужном количестве, за что народ едва не убивал его. Крез и Солон, по соображениям, видимо, очень высоким, но в те времена недоступным мне, отравляли изобретателя. Чашу с ядом подносила юноше его невеста, дочь Креза, не зная, что отравляет жениха. Ставили пьесу долго, добросовестно, как в Художественном театре. Папа, придя домой из больницы, пообедав и поспав, надевал тунику, тогу красного цвета, сандалии, чтобы привыкнуть носить античную одежду естественно. Он репетировал свою роль перед зеркалом, стараясь двигаться пластически. И тут я впервые окунулся в неведомый нам, реалистам, классический мир. На некоторое время моя любовь к доисторическим временам и рыцарским замкам была отодвинута. Как мечтал я о спектакле, на который меня обещали взять! И вот, когда уже афиши были расклеены по городу, я заболел ангиной. Спектакль имел огромный успех. Весь город был в театре. И к величайшему счастью моему, «Благо народа» решили сыграть еще раз. Не в пример первым афишам, большим, на тумбах и заборах появились афиши-крошки, в тетрадочный лист. Они сообщали, что спектакль будет повторен, так незаметно и скромно, что я стал беспокоиться, прочтут ли их. Поэтому – или по случаю дурной погоды – народу и в самом деле собралось очень, очень немного.
9 мая
Итак, в дождь и грязь, перебравшись через площадь против дома Соловьевых, мимо городского сада, полный праздничных предчувствий, пришел я с мамой в Пушкинский дом. Сердце мое дрогнуло, когда я увидел освещенный, но угрожающе пустой зал. Однако со свойственным мне оптимизмом, которым сменяются дурные предчувствия, когда беда и в самом деле начинает грозить, я объяснил пустоту зала тем, что еще рано. Пройдя через белую дверцу из единственной (кажется) ложи над оркестром, мы вошли в узкий проход между стеной и уходящей высоко вверх декорацией. Я взглянул на колосники, и у меня закружилась голова. В квадратном актерском фойе, влево от сцены, куда мы спустились по деревянным ступенькам, собрались люди в тогах и латах. Яков Власьевич Шаповалов[187] разгуливал в вышитой тунике и поблескивал очками. Осмотревшись и прислушавшись, я испытал такой ужас, такое отчаянье до слез, до замиранья внизу живота. Выяснилось, что сбор так мал, что не оправдает вечерового расхода. Спектакль надо отменять. Папа стоял, улыбаясь, как будто не понимая, в каком я отчаянье, и поддерживал предложение отменить спектакль. Но вдруг на верхних ступеньках лестницы, ведущей на сцену, появился рослый Селивановский[188] в шлеме и латах. Он обратился к собравшимся с краткой речью. Селивановский сказал, что он уполномочен группой участников спектакля предложить следующее: сложиться и внести те тридцать рублей, которых не хватает на оправдание расходов. Хочется поиграть! «Я лично, – сказал Селивановский, положив руки на сияющую золотом грудь, – вношу пять рублей. Надеюсь, что вы со мною согласитесь». К моей величайшей радости, предложение Селивановского было охотно принято. Всем, видимо, хотелось поиграть. Деньги были собраны, зазвонил звонок, мы с мамой заняли места в полупустом зале.
10 мая
В оркестровой яме у ног Пушкина, осыпаемого морскими брызгами, крупными, как виноград, заиграл оркестр под управлением Рабиновича. Как теперь я понимаю, главная доля вечерового расхода падала на музыкантов. Оркестр гремел, пока по занавесу кто-то не постучал кулаком изнутри, отчего он весь заколебался снизу доверху. Это служило оркестру знаком, что пора кончать. Закончив музыкальную фразу, Рабинович опустил черную деревянную трубу, на которой играл, и повелительным жестом оборвал музыку. Стало тихо. Кто-то поглядел со сцены в дырочку, проделанную среди волн, изображенных на занавесе. Это я заметил потому, что дырочка, до сих пор светившаяся, потемнела и за нею блеснул раз-другой чей-то глаз. Публика покашливала, и я сам удивился, как отчетливо я отличил мамин кашель. Она села далеко позади – вероятно, для того, чтобы не смущать знакомых актеров. В те времена в Пушкинском доме освещение было керосиновое и поэтому свет в зрительном зале не гасили, актеры видели ясно знакомых. И вот, наконец, занавес дрогнул и взвился под потолок. Новая моя любовь – Древняя Греция – поглотила меня с головой. И не только меня. Отчаянные майкопские парни, наполнявшие галерку, и случайно забредшие обыватели, разбросанные по партеру, смотрели на Креза, Солона, бедного изобретателя и прочих эллинов с величайшим вниманием и волнением. Так же, как и я, не разбирали они, кто как играет. Но зато, когда жена зубного врача Круликовского, исполнявшая роль дочери Креза, протянула кубок с ядом моему папе, с галерки крикнул кто-то сдавленным, неуверенным голосом, словно во сне: «Не пей!» «Не пей!» – поддержали его в партере. После окончания спектакля актеров долго вызывали, и я хлопал,, стучал ногами и кричал чуть ли не громче всех.
13 мая
А в городе и в стране тем временем спокойная жизнь не хотела налаживаться, да и все тут. Помню отчетливо разговоры о роспуске Первой Государственной думы, о Выборгском воззвании, над которым папа посмеивался. Убийство Герценштейна, доктор Дубровин, Союз русского народа, погромы – вот обычные темы разговоров[189] …
И вот пришло лето. На последнем уроке Бернгард Иванович раздал нам табели, пожал руку лучшим ученикам, и мне в том числе, поздравил с переходом во второй класс и простился с нами до осени…
В это лето папа стал сотрудничать в газете «Кубанский край», подписываясь псевдонимом «Не тот». Коротенькие заметки его мама читала с неопределенным, скорее осуждающим выражением, и мне они тоже поэтому казались какими-то не такими.
14 мая
Папа вскоре взял на себя представительство по распространению «Кубанского края» в Майкопе. Для продажи газеты подрядили Якова. Ему дали кожаную сумку, пятьдесят номеров газеты и отправили торговать. Он должен был получать копейку с каждого проданного номера. Ушел Яков утром, а вернулся к вечеру, растерянный и даже похудевший. За весь день он продал всего девять экземпляров «Кубанского края». Старшие огорчились. Материально папа не был заинтересован в этом деле, но ему было неловко перед редактором, его знакомым. Взялся по его просьбе за распространение газеты – и вот что вышло. Но дня через два все наладилось. Не знаю, кто надоумил старших поручить продажу газет уличным мальчишкам. Одному из них дали на пробу десять экземпляров. Через полчаса он примчался весь в поту и завопил: «Давайте еще! Все продал!» С помощью этих газетчиков дело пошло. Они за день обегали весь город, и майкопцы узнавали о событиях, потрясавших страну.
21 мая
К этому времени стала замирать моя любовь к девочке из цирка и я почти влюбился в Милочку Крачковскую. Надо сказать, что я с первой встречи на лугу за городским садом относился к этой девочке особенно. Я тогда не умел еще влюбляться, но отличал ее от всех. Таким образом, я не то что влюбился, а старое чувство стало ясней. Я любовался на нее с глубоким благоговением.
28 мая
При каждой встрече с Милочкой я любовался ею с таким благоговением и робостью, что и подумать не смел заговорить с нею или хотя бы поздороваться. У Варвары Михайловны (так звали мать Милочки) с моей мамой не завязалось знакомства. Однажды мы, гуляя, встретили все семейство Крачковских. Старшие разговорились, а я не мог сказать ни слова Милочке. А она и не думала обо мне, она сидела, строгая, размышляла о чем-то своем, глядела прямо перед собою своими огромными серо-голубыми глазами. Ее каштановые волосы сияли, словно ореол, над прямым лбом, две косы лежали на спине. Сколько раз, сколько лет все это меня восхищало, и мучило, и до сих пор снится во сне. Итак, старшие разговорились, уселись против большой лавки Кешелова на скамеечке и тут разыгралось некоторое событие. Приказчики Кешелова забастовали. Как мы узнали впоследствии, они потребовали прибавки жалованья. Хозяин отказал. Тогда они прекратили работу и ушли, заперев в лавке хозяина. Это последнее событие мы увидели своими глазами. Оживленные, как бы опьяненные своей храбростью приказчики высыпали из трех магазинных дверей, заперли их тщательно и одну из них заложили метлой. Хозяин кричал, ругался, стучал в дверь так отчаянно, что метла прыгала, как живая, но освободиться не мог. И тут у матерей завязался спор, который и привел к вечной холодности между ними. Варвара Михайловна забастовщиков осуждала, а мама восхваляла. Обе они сердились, но улыбались принужденно, желая показать, что спорят на принципиальные темы и сохраняют спокойствие. Мама повторяла упорно: «А мне это нравится. Люди смело борются за свои права. Действуют. Мне это нравится».
29 мая
Теперь я должен рассказать нечто, до сих пор таинственное для меня. Никогда в жизни я больше не переживал ничего подобного. Было это зимой, когда я учился во втором классе. Я шел из училища и встретил Милочку. Обычно я поглядывал на нее украдкой, а она и вовсе не смотрела на меня. Но тут я нечаянно взглянул прямо в ее прекрасные серо-голубые глаза. Мы встретились взглядами. И что-то мягко, но сильно ударило меня, потрясло с ног до головы. И мне почудилось, что и она остановилась на миг, точно в испуге. И глаза Милочки, точно я поглядел на солнце, остались в моих глазах. Я видел ее глаза, глядя на снег, на белые стены домов. Несколько лет спустя я спросил Милочку, помнит ли она эту встречу и пережила ли она что-нибудь подобное тому потрясению, которое я испытал. Она сказала, что не помнит ничего похожего. Причастие, разлившееся теплом по всем жилочкам, и этот мягкий, но сильный удар, глаза, отпечатавшиеся в моих, – вот чего я не переживал больше никогда в жизни.
12 июня
На большой улице, куда ты попадал, пройдя армянскую церковь и свернув направо, открылся постоянный синематограф, или кинематограф, братьев Берберовых. Только назывался он «электробиограф». Об этом сообщали две длинные, окаймленные электрическими лампочками вывески, буквы на которых шли сверху вниз. Висели эти вывески вдоль дверей, обычных, какие ведут в самые простые обывательские квартиры. Но, войдя в эти двери и поднявшись во второй этаж, ты оказывался у кассы. К моему удивлению, в электробиографе первые ряды стоили дешевле дальних и назывались третьи места. Они отделены были от вторых и первых барьером. Реалисты платили за билет на третьи места двадцать копеек. Получив в кассе билет и программу, ты проходил в узкое фойе, где и ждал начала сеанса. В те годы на вторых сеансах я не бывал. Добыв заранее деньги на билет, я долго ждал, когда же, наконец, застучит мотор, приводящий в действие динамо-машину электробиографа. Электричества городского тогда не существовало, и бр. Берберовым приходилось добывать его своими силами. Услышав шум мотора, я шел мимо армянской церкви и, остановившись на углу, ждал, когда нальются светом лампочки, окаймляющие вывески.
13 июня
Душевное движение, вызываемое видом электрических лампочек, горящих на улице при дневном свете, оказалось очень долговечным. На этих днях я шел по Комарову. Чинилась линия. И вот – было это, примерно, часа в три, и солнце сияло вовсю – вспыхнули на высоких столбах уличные фонари. И разом, не успев понять почему, ощутил я радость, точнее, предчувствие радости. И только через несколько мгновений понял я, что предчувствую начало сеанса в электробиографе братьев Берберовых. Обычно сеанс этот состоял из трех частей. В коротеньких антрактах между ними открывались двери и в зал впускали непонятных мне людей, позволивших себе опоздать к началу. Пропущенную часть программы опоздавшие имели право досматривать во втором сеансе. Три части заключали в себе видовую или научную картины, драму и комическую. Иной раз добавлялась и феерия, действие которой разыгрывалось чаще всего или на луне, или в подводном царстве. Феерии были почти всегда цветными. Когда я смотрю теперь цветные кинофильмы, то вспоминаю феерии, которые не очень любил в свое время, как теперь недолюбливаю их сине-голубых и малиново-сизых внучатных племянников. Книги, прочитанные в те годы, я могу рассказать и сейчас, даже те, которые впоследствии не перечитывал. (Например, «Руламан».) Разумеется, я говорю о любимых книгах. Могу рассказать я и пьесы, которые видел тогда. Например, «Благо народа» или «Суету»[190], которую смотрел в малороссийской труппе Гайдамаки и Колесниченко. В подробностях могу припомнить и «Сорочинскую ярмарку», исполненную там же. А кино, столь обожаемое мною кино, какими картинами оно покорило меня? Не могу припомнить ни одной. Объясняется это, вероятно, тем, что я слишком уж много перевидал их тогда. Программы менялись каждую неделю, а я не пропускал ни одной. Если очень уж постараться, то я вижу пальмы и белые домики Ниццы из видовой картины, железную дорогу где-то в горах, снятую с паровоза, барку, плывущую по узенькой реке во Франции. Это уж из какой-то драмы. Вижу пожилую француженку с энергичным лицом – злодейку множества драм. В драмах часто стреляли, и выстрелы замечательно изображал ударом по басовой ноте хромой пианист Попов.
14 июня
Сидел Попов в маленькой комнатке справа от экрана и в приоткрытую дверь видел, что на нем происходит. Бернгард Иванович похвалил Попова, и я, без того преисполненный любви ко всему, что связано с электробиографом, стал слушать его игру с особенным восхищением. На рояле у Соловьевых мы без всякого успеха перепробовали все басовые ноты, пытаясь повторить звук, с помощью которого Попов изображал выстрел. Скоро Попов приобрел в городе большую известность. Все знали этого маленького армянина, хромающего на обе ноги. Знали и почему он хромает – после костного туберкулеза. Знали, что он очень хороший пианист, кончивший консерваторию. Почему он попал в Майкоп и служил аккомпаниатором в кино? Вот этого никто не мог объяснить, а я и не задавался таким вопросом. Мне казалось, что занимает Попов должность в высокой степени славную и завидную.
24 июня
Сегодня ровно год, как я решил взять себя в руки, работать ежедневно и, уж во всяком случае, во что бы то ни стало вести записи в своих тетрадях, не пропуская ни одного дня, невзирая ни на болезнь, ни на усталость, ни на какие затруднения. Впервые за всю мою жизнь мне удалось придерживаться этого правила целый год подряд. И я доволен и благодарен… Я стал записывать о своем детстве все, что помню, ничего не скрывая и, во всяком случае, ничего не прибавляя. Пока что мне удалось рассказать о себе такие вещи, о которых всю жизнь я молчал. И как будто мне чуть-чуть удалось писать натуру, чего я никак не умел делать.
3 июля
В то майкопское лето я прочел впервые в жизни «Отверженных» Гюго. Книга сразу взяла меня за сердце. Читал я ее в соловьевском саду, влево от главной аллеи, расстелив плед под вишнями; читал, не отрываясь, доходя до одури, до тумана в голове. Больше всех восхищали меня Жан Вальжан и Гаврош. Когда я перелистывал последний том книги, мне показалось почему-то, что Гаврош действует и в самом конце романа. Поэтому я спокойно читал, как он под выстрелами снимал патронташи с убитых солдат, распевая песенку с рефреном «…по милости Вольтера» и «…по милости Руссо». К тому времени я знал эти имена. Откуда? Не помню, как не помню, откуда узнал некогда названия букв. Я восхищался храбрым мальчиком, восхищался песенкой, читал спокойно и весело, – и вдруг Гаврош упал мертвым. Я пережил это, как настоящее несчастье. «Дурак, дурак», – ругался я. К кому это относилось? Ко всем. Ко мне за то, что я ошибся, считая, что Гаврош доживет до конца книги. К солдату, который застрелил его. К Гюго, который был так безжалостен, что не спас мальчика. С тех пор я перечитывал книгу множество раз, но всегда пропуская сцену убийства Гавроша.
5 июля
Я прочел впервые в жизни томик рассказов о Шерлоке Холмсе и вдруг полюбил его отчаянно, больше «Отверженных». С месяц я думал только о нем. У Соловьевых в саду стоял тополь, на котором, усевшись между тремя ветвями, идущими круто вверх, скрывшись в листьях, я читал и перечитывал Холмса.
6 июля
Вообще, трудно, пользуясь словами сегодняшними, передавать ощущения тогдашние. Они другого качества. Не то что сильнее, чем у взрослого человека, не то что туманнее, – другие. Того человека, меня одиннадцатилетнего, на свете нет. Многие мои свойства не просто изменились, а переродились, другие исчезли, умерли, и я теряюсь, пробуя передать точно, что было пережито тем, другим, которым я был в 1908 году. Я помню, как Лебедев как-то ругал некоторых иллюстраторов детских книг за то, что они придавали щенку человеческое выражение. Не изображаю ли я себя понятнее, постижимее? Прежде всего, повторяю еще раз, я был неприятным, неряшливым, переразвитым в одном и отсталым в другом направлении мальчиком. Я легко плакал, легко обижался и вечно был готов огрызнуться, отругаться, причем делал это нестрашно, всякий угадывал, что я не силен. Я был неумен, наивен не по возрасту, и вместе с тем сильные поэтические ощущения иногда овладевали мною, и я из дурачка становился человеком. Любовь к матери и страх за нее не слабели.
7 июля
Итак, я читал Гюго и Конан Дойля с одинаковым восторгом, смотрел на взрослых и слушал, что они говорят, с ужасом и жадным вниманием, был переброшен из детства в переходный возраст одним ошеломляющим ударом, испытывал желание писать стихи, смотрел в телескоп на небо и делал из своих астрономических сведений дурацкие выводы, видел то страшные, то непристойные сны, даже ночью не имел покоя. И я слышал, как жаловалась мама, что я ничем не интересуюсь и равнодушен ко всему. А мне она говорила, что я рохля, росомаха, что из таких детей ничего не выходит. И в самом деле я, вечно не стриженный, рассеянный, грубоватый и неловкий, мог бы привести в ужас кого угодно.
9 июля
Именно в то лето стало появляться у меня смутное предчувствие счастья – вечный спутник моей жизни. Вспыхнув, это предчувствие озарило все, как солнце, выглянувшее из-за туч. Я в то лето полюбил, встав рано, едва взойдет солнце, идти купаться на Белую. В этот час предчувствие счастья всегда сопровождало меня. Вызвав свистом своего невидимого коня, я ехал не спеша к деревянной лестнице над водокачкой и спускался в лесок внизу. На улицах было еще пусто, а в леске и вовсе безлюдно. Я раздевался под кустами у речного рукава, который любил и тогда. В то лето я научился плавать.
21 июля
Пантелеев дал мне прочесть свою повесть. Прочел пока одну главу. Кое-что есть. Но очень много дубового. У него, как у всех одиноких и замкнутых на семь замков художников, образовались свои каноны, своя поэтика. Он старательно выполняет свои законы, а мы об этом и не догадываемся. Мы видим довольно неуклюжее, топором вырубленное строение. Он, когда пишет, подчиняется обязательному для внутреннего его слуха размеру. Растягивая фразы, громоздит эпитеты, чтобы все улеглось так, как ему нужно («…дикое, черное, страшное, безобразное…» – о бреде мальчика), а мы, кроме нагромождения, ничего и не слышим. И за всем этим ощущаешь силу чистую, но не находящую выхода. Деревянная непробиваемая скорлупа скрывает эту драгоценную силу. А иной раз кажется, что эту силу ощущаешь только потому, что знаешь автора лично. Тут эта сила находит себе выражение. Тут, в жизни. А в повести он связан по рукам и ногам – и связал он себя сам. У этого много читающего человека нет любви к литературе как к мастерству. Он сидит над каждой страницей ночами, заменяет один средний вариант другим, в лучшем случае равноценным, чудовищно напрягаясь, пробует дышать ухом, смотреть локтем и, не добившись результатов, падает духом. А говоря смелее – нет у него чувства формы, таланта. Точнее, есть, пока он живет, и нет, когда он пишет.
22 июля
Прочел всю повесть Пантелеева. Пятнадцать листов написаны в четыре, кажется, месяца. Чувствуешь правду в описании отца и матери, и тут же – тугословие, тяжеломыслие. Кажется, что человек не только не любит свое ремесло, а ненавидит, как каторжник. Так и выступает прокуренная комната, чудаческий подвиг, бессонница, каторжный, бесплодный труд или не знаю еще что. Я начал было работать с утра, но мысль, что повесть не прочитана, стала меня мучить, и, возмущаясь своей зависимостью от людей, я работу бросил, а читал с карандашом в руках и дочитал ее до обеда. Не успел я докончить этот самый обед, как пришел Пантелеев со своей редакторшей и гостем, мальчиком, по имени Коля, сыном умершей его приятельницы. Когда я увидел столь мне знакомую голову Алексея Ивановича, то все мои мысли о том, что он недостаточно талантлив, заметались и смешались. Выглядит он своеобразно. Перебитый в детстве нос делает лицо его некрасивым. Черные глаза, строгие и умные, замечаешь не сразу. Широкий, с провалом нос придает и глазам Алексея Ивановича оттенок болезненный, нехороший. Но через некоторое время особое обаяние его непростого лица заставляет забыть первое ощущение. Суровое, печальное выражение его покоряет. Замечаешь маленький горестный рот под короткими усиками. Густые, преждевременно поседевшие волосы – седину в них я увидел чуть ли не в первую нашу встречу, двадцать пять лет назад, – дополняют общее впечатление, печальное и достойное. Держится он независимо, несколько даже наступательно независимо. Эта независимость, даже когда он молчит, не теряет своей наступательной окраски. А он крайне молчалив. При всей своей мужественной суровости, замкнутости, в одиночестве он не остается. Более того – он избалован вниманием. Отношения его с женщинами странны. Точнее – никто не знает его романов. Во время войны он был женат.
23 июля
Продолжаю рассказывать о Пантелееве. Во время войны он был женат, и я познакомился с его женой. Она показалась мне более чем некрасивой – просто неприятным существом. Впрочем, трудность заключалась в том, что все три женщины, которые присутствовали на новоселье у Пантелеева, куда я попал поздно, показались мне усохшими машинистками, одна другой хуже. И я просто верить не хотел, что одна из них его жена. И я постарался не выяснять, которая именно она. Так что и до сих пор я надеюсь, что женат он был на какой-то четвертой, отсутствовавшей. С женой он вскоре разошелся. Почему? Не знаю. Итак, о романах его мне совершенно ничего не известно, но избалован Алексей Иванович именно женщинами. Я видел женщин, влюбленных в него, и не только таких страшных девоподобных старух, как гостьи его на московском новоселье, а достаточно привлекательных женщин. Впрочем, я выразился неточно. Я видел двух-трех вполне привлекательных женщин, которые влюбились бы в Алексея Ивановича, дай он им надежду. А как охотно возятся с ним женщины, когда он заболевает. Я, кажется, когда-то рассказывал уже, как сестра-хозяйка нашего Дома творчества ставила ему горчичники, а он, смягчив несколько свое суровое и печальное выражение, не без удовольствия покряхтывал.
Я познакомился с ним в 1926 году, когда он пришел в детский отдел Госиздата со своей первой рукописью. С тех пор мы были в дружеских отношениях замедленного действия. Мы перешли на ты, встречаясь, разговаривали как друзья, но встречи наши были редки, от случая к случаю. Только за последние два года я подошел к нему ближе, замедленные дружеские отношения как бы стали вступать в силу. Во всяком случае, раза два за это время я был близок к тому, чтобы поссориться с ним, как с настоящим другом. И огорчал он меня так, как может огорчить только близкий человек. Так что я постарался несколько отстраниться от него с прошлого года. Тем не менее это один из немногих людей, к которым я привязан. И многое в нем я уважаю. Тем более приятно и непривычно мне говорить о нем беспристрастно.
1 августа
В третьем же, кажется, классе я писал пересказ поэмы Майкова «Емшан». И в середине этой работы меня вдруг осенила мысль, что я могу писать и не обычным школьным языком. И я написал картинно («Но что это? Гордый князь бледнеет…» и так далее). Харламов[191] предложил мне прочесть пересказ вслух и похвалил меня. Он сказал: «Лучшие пересказы у Шварца и Истаманова. У Шварца поэтический, а у Истаманова – деловой». После этого Харламов занялся синтаксическим разбором одного из предложений моего пересказа, и я был поражен и польщен, когда вызванный мой одноклассник обнаружил в предложении этом «обстоятельство образа действия» и еще неведомо сколько вещей. А я писал и не думал об этом. Весть об успехе пересказа разнеслась по училищу. Меня с неделю дразнили «красноносый поэт», а потом забыли об этом.
2 августа
К этому времени Бернгард Иванович меня совсем уже не выносил, обходил взглядом, рассказывая что-нибудь классу, одергивал нетерпеливо, когда я отвечал урок. После успеха моего пересказа он подошел ко мне в коридоре, обнял ласково и спросил: «Ты, говорят, написал хорошее сочинение. О чем?» После такого вопроса я не в силах был ответить, что написал всего лишь пересказ. И я пробормотал, что сочинение было на тему о любви к отечеству. Не успел я договорить: «и о народной гордости», как Бернгард Иванович с недовольным лицом отошел от меня. Он ведь знал, что в третьем классе не пишут сочинений. «Емшан» действительно рассказывал о любви хана к родным степям, но это не давало мне права говорить, что я написал сочинение, пересказывая поэму. Сам же учитель сказал «сочинение» в смысле условном. Таким образом отношения мои с Бернгардом Ивановичем еще ухудшились. Он все жил в армянском семействе недалеко от нас. Он познакомился со всей интеллигенцией города, но ни с кем не сошелся близко, ни у кого не бывал… Он держал в отношениях с майкопцами строгую дистанцию. На лето Бернгард Иванович уезжал за границу. Он кончил Московскую консерваторию у Гольденвейзера. Он знал наизусть множество стихов Гете и Гейне и читал их нам, когда был доволен классом. Он кончил юридический факультет. Он был первым европейски образованным человеком, которого я увидел в своей жизни, и знания его не были грузом или придатком, он владел своими знаниями. Естественно, что он держался чуть-чуть в стороне от остальных, и все признавали за ним это право.
14 августа
[Шмелев][192] был первый писатель, которого я увидел в своей жизни. Я немедленно потерял и ту небольшую долю рассудка, которой обладал в те времена. Я не спускал с него глаз. И все лето выставлялся перед ним самым отвратительным образом. То я читал наизусть пародии Измайлова, которые тогда были очень в ходу. То острил. То кувыркался. То орал. И сейчас стыдно вспомнить.
15 августа
Иногда я вел себя, желая выставиться, совсем уже непонятно. В то время было много разговоров о знаменитом гипнотизере Фельдмане. И вот, купаясь, и дурачась, и выставляясь, я крикнул одному из кадетиков: «Я тебя загипнотизировал! Недаром моя фамилия – Фельдман». Шмелев усмехнулся, и я был этим совершенно осчастливлен. Потом мне стало несколько стыдно. Особенно когда приятели мои спросили по пути домой: «Значит, ты Фельдман?» И я никак не мог объяснить им, что заставило меня так глупо соврать. Каждый вечер, сидя на пристани, в самом конце, недалеко от маяка, Шмелев ловил рыбу принятым на Черном море способом – на веревочной леске с грузилом. В конце лески наживлялось креветками пять-шесть крючков. Размахивая грузилом над головой, снасть эту забрасывали насколько хватало лески в море. Конец ее держали на пальце, чтобы почувствовать, когда рыба клюнет, и подсечь ее. Шмелева сопровождал постоянно молодой грек, нечто вроде его комиссионера. Одет он был, как все греки, чуть-чуть слишком изящно, но был тих и столь же молчалив, как его хозяин. Мы обычно сидели возле, наблюдали за рыболовом. Однажды Шмелев подсек невидимую добычу сильным движением, вскочил и, напряженно перебирая руками, потянул туго натянувшуюся леску из воды. И мы увидели в зеленовато-голубой воде очень крупную рыбу, фунтов на восемь. Дрожащими руками Шмелев схватил сачок и с помощью своего грека вытянул рыбу на мол. Называлась эта рыба горбыль или горбуль. Грек сказал, что первый раз в жизни видит, чтобы такую рыбу поймали на крючок. И я подумал: «Это счастье далось Шмелеву, потому что он писатель». В судьбе Шмелева в эти годы назревал поворот к счастью. Он вдруг нашел свою дорогу. Через два-три года повесть его «Человек из ресторана»[193] имела настоящий успех. И рассказы Шмелева стали очень хороши. Помню напечатанный во время войны пророческий рассказ о спекулянте, который из-за аварии машины попал со своей дамой в крестьянскую избу. Страшное напряжение приводило к взрыву, он угадал и показал.[194]
16 августа
Друзья мои кадеты рассказали один раз с восторгом, что молчаливый Шмелев вчера вечером разговорился, и это было необыкновенно интересно. Они услышали историю с привидениями. Однажды Шмелев шел домой и увидел на дороге, освещенной луной, огромное, черное четырехугольное существо, которое двигалось прямо на него. Шмелев закричал, бросил в него – не могу вспомнить что, – и это существо рассыпалось и исчезло. И я, выслушав, подумал, что с таким необыкновенным человеком и должно происходить нечто подобное – удивительное, не похожее ни на что. Вся моя туапсинская жизнь была полна ощущением, что тут же недалеко живет настоящий писатель.
Вторым знаменитым человеком в Туапсе был пианист Игумнов[195], тогда еще молодой человек. Он жил еще выше нас, на горе, и я часто видел его длинную фигуру и длинное задумчивое лицо, когда он с длинной тростью, скорее с посохом, раздвоенным на конце, словно жало, спускался к морю. О нем рассказывали, что студенты попросили его участвовать в их благотворительном вечере, а он отказал, сказав, что если он согласится играть у одних, то его сразу начнут просить все, а ему необходимо отдохнуть. Это я понял так: игра Игумнова столь волшебно прекрасна, что, услышав ее однажды, все захотят, чтобы он играл еще и еще.
19 августа
Желание [писать стихи] не исчезло, пока я шел домой. Небо хмурилось. Стал накрапывать дождь. И дома это желание возросло до такой силы, что я взял карандаш и предался, наконец, этой новой страсти. На желтой оберточной бумаге, в которой я принес из булочной хлеб, сочинил я следующие стихи:
Сижу я у моря. Волна за волной, Со стоном ударив о берег крутой, Назад отступает и снова спешит И будто какую-то сказку твердит. И чудится мне, говорит не волна – Морская царица поднялась со дна. Зовет меня, манит, так чудно поет, С собой увлекает на зеркало вод.Дальше забыл. Почему я стал писать именно эти стихи? Почему взбрела мне в голову морская царица? Откуда я взял этот размер, эти слова? Не знаю теперь, как не знал и не понимал тогда. Я чувствовал страстное желание писать стихи, а какие и о чем, – все равно. И я писал, сам удивляясь тому, как легко у меня они выливаются и складываются, да еще при этом образуется какой-то смысл. Любопытно, что в те годы к стихам я был равнодушен. Не помню ни одного, которое нравилось бы мне, в которое я влюбился бы или хотя бы просто запомнил его. Но, так или иначе, решив стать писателем в семилетнем, примерно, возрасте, я через пять лет написал стихи, движимый неудержимым желанием писать. Все равно о чем и все равно как. Я стал писать не потому, что меня поразила форма какого-то произведения, а из неудержимой, загадочной жажды писать. И это определило очень многое в дальнейшей моей судьбе. Хотя бы то, что я очень долго глубоко стыдился того, что пишу стихи. И что еще более важно – литературную работу я до сих пор, при всем моем уважении к профессиональности, считаю еще и делом глубоко, необыкновенно глубоко личным. Итак, летом 1909 года, в мраке и хаосе, в котором я суетился, как дурак, я темно и хаотично, но вдруг почувствовал путь. Началось медленное, медленное движение к жизни. В августе 1928 года, проезжая через Туапсе, я пошел знакомой дорогой на гору и прошел почтительно мимо домика, где я наткнулся на выход из тьмы.
20 августа
Несмотря на рыбную ловлю, море, порт, купанье, встречу со Шмелевым, стихи, я в последние дни стал скучать по Майкопу и стремиться вон из Туапсе. Помню, как я поднял коробочку, валявшуюся в палисаднике нашего домика. Мне стало жалко эту коробочку: мы уедем, а она останется, бедняга, в этом чужом городе. Незадолго до отъезда я бродил с одним из кадетиков на реке Туапсинке. С наслаждением шагали мы по зарослям густым, как в тропиках, потом выбрались на шоссе, ведущее к Сочи. Прошли с версту. И тут кадетик рассеянно, по общемальчишеской привычке швырнул камнем в ласточку. И попал! Птичка упала на шоссе и забилась. Мы бросились к ней. Взяли ее на руки. Обрызгали водой из родника. Подули ей в клюв. Ласточке как будто полегчало. Во всяком случае, когда мы посадили ее на ветку дерева, так высоко, как только могли, – птичка не упала. Она сидела неподвижно, не улетая, не двигая головой, но клюв ее был закрыт и она не похожа была на умирающую. И всю дорогу допрашивал меня кадетик: как я думаю, поправится ласточка или нет. А я утешал его, а сам придумывал рассказ о мальчике, который, пока был кадетом, пожалел ласточку, а выросши, расстрелял рабочую демонстрацию. Но написать его не мог. Почему-то было стыдно.
22 августа
Пока что весь мой душевный опыт, все поэтические ощущения, все, что я мог бы сказать, как бы отделены стеной от того, что я говорю в стихах или в задушевных разговорах. Я еще ничего не выразил, но мне уже легче оттого, что я пробую голос, бормочу.
29 августа
Начались занятия. Движение в сторону некоторого просвета продолжалось. Я стал учиться несколько лучше, но высоты, которую занимал в первом-втором классе, так и не достиг. Товарищи относились теперь ко мне как к равному. Я тщательно скрывал, что пишу стихи, но меня упорно считали поэтом и будущим писателем, неизвестно почему.
7 сентября
К музыке девочки [Соловьевы] относились не просто, она их трогала глубоко. Играть на рояле – это было совсем не то что готовить другие уроки. Они договорились с Марьей Гавриловной Петрожицкой, что они будут проходить с ней разные вещи, и это свято соблюдалось, сколько я помню, до самого конца, с детства до юности. Варю нельзя было попросить сыграть Четырнадцатую сонату Бетховена, а Наташу – Седьмую. «Гриллен» Шумана играла Леля. Так же делились и шопеновские вальсы. Впервые я полюбил «Жаворонка» Глинки в Лелином исполнении. Потом шопеновский вальс (как будто opus 59). Потом «Венецианского гондольера» Мендельсона. Потом «Времена года» Чайковского. «Патетическую сонату», кажется, тоже играла Варя, и я вдруг понял ее. От детства до юности почти каждый вечер слушал я Бетховена, Шумана, Шопена, реже – Моцарта. Глинку и Чайковского больше пели, чем играли. Потом равное с ними место занял Бах. И есть некоторые пьесы этих композиторов, которые разом переносят меня в Майкоп, особенно когда играют их дети.
8 сентября
Строгая, неразговорчивая, загадочная Милочка держалась просто и дружелюбно со мной, и тем не менее я боялся ее, точнее – благоговел перед ней. Я долго не осмеливался называть ее Милочкой, – так устрашающе ласково звучало это имя. На вечерах я подходил к ней не сразу, но, правда, потом уж не отходил, пока не раздавались звуки последнего марша. Я научился так рассчитывать время, чтобы встречать Милочку, когда она шла в гимназию. Была она хорошей ученицей, первой в классе, никогда не опаздывала, перестал опаздывать и я. Иногда Милочка здоровалась со мной приветливо, иной раз невнимательно, как бы думая о другом, то дружески, а вдруг – как с малознакомым. Может быть, мне чудились все эти особенности выражений, – но от них зависел иной раз весь мой день. В те годы я был склонен к печали. Радость от Милочкиной приветливости легко омрачалась – то мне казалось, что мне только почудилась в ее взгляде ласка, то в улыбке ее чудилась насмешка. Положение усложнялось еще и тем, что в училище я обычно шел теперь вместе с Матюшкой.[196] Часто, хотя он с Милочкой был знаком мало, я относил ее приветливость тому, что со мной Матюшка. Любопытно, что Милочка как-то сказала мне уже значительно позже: «Ты часто так сердито со мной здоровался, что я огорчалась». И я ужасно этому удивился. Что-то новое вошло в мою жизнь. Вошло властно. Все мои прежние влюбленности рядом с этой казались ничтожными. Я догадался, что, в сущности, любил Милочку всегда, начиная с первой встречи, когда мы собирали цветы за городским садом, – вот почему и произошло чудо, когда я встретился с ней глазами. Пришла моя первая любовь. С четвертого класса я стал больше походить на человека. В толстой клеенчатой тетради я пробовал писать стихи… Но в стихах моих не было ни слова о Милочке. Никому я не говорил о ней.
9 сентября
Любовь делала меня еще более мечтательным, чем в раннем детстве, и еще более скрытным. Я прятал от всех мои стихи, но и в стихах ни в чем не признавался. Начиная их, я не знал, чем их кончу, о чем буду писать, и теперь не могу припомнить ни одной строчки. И вот однажды я увидел письмо Сергея Дудкина, студента, который некогда был выслан из Петербурга и, уж давно восстановленный во всех правах, вернулся в университет. Он писал маме. Я рассеянно взглянул на письмо, и вся душа моя дрогнула. «Пришлите Женину поэзию, – писал он, – знакомый редактор обещает устроить в свой журнал одно-два стихотворения». Тут же лежал мамин ответ: «Подумавши, я решила не посылать Женины стихи. Я боюсь, что ему может повредить…» – забыл, что именно. То ли, что мама тайно узнала о моих стихах, то ли слишком раннее появление в печати. Я стоял как громом пораженный. Мне было все равно, напечатают меня или нет. В тот момент было все равно. Да я, унаследовав недоверчивое и мрачное мамино честолюбие, и не верил, что мои стихи могут быть напечатаны. Нет, поразило меня, что мама, Сергей Дудкин и еще, вероятно, многие другие знают о том, что я пишу стихи. Я чувствовал себя опозоренным, оскорбленным. Навеки запомнил я тоненькие, длинные буквы дудкинского письма, его «з» и «т», похожие друг на друга, так что слово «поэзия» я прочел сначала как «поэтия». Ужасное, унылое ощущение преследовало меня довольно долго, а стихи я не мог писать с полгода.
10 сентября
К моему величайшему удивлению, в первой четверти я получил четверку за поведение. Я думал, что веду себя, как другие, но Бернгард Иванович сообщил мне, делая выговор за такую отметку, что на меня жалуются все учителя. А я не шалил, а просто веселился. Сочиняя печальные стихи и часто предаваясь печали, я тем не менее стал веселее, чем был. И в классе меня стали любить. Прежде ко мне были скорее безразличны, а теперь ко мне прислушивались, смеялись моим шуткам, и случалось, что своим безумным весельем я заражал весь класс. Вот за это я и получил четверку по поведению.
21 сентября
Если первые школьные годы я ничего не приобретал, а только терял, то за последний 1909/10 год я все-таки разбогател. Как появляются новые знания: знание нот, знание языка, – у меня появились новые чувства: чувство моря, чувство гор, чувство лесных пространств, чувство длинной дороги. И чувства эти, овладевая мной, переделывали на время своего владычества и меня целиком… Я писал не много и плохо, но умение меняться, входить полностью в новые впечатления или положения было началом настоящей работы. Чувство материала у меня определилось раньше чувства формы, раньше, чем я догадался, что это материал. Но я понимал смутно и туманно, что какое-то отношение к литературным моим не то что занятиям, а мечтаниям – имеет это недомашнее, небудничное состояние.
15 октября
К четвертому классу отступило увлечение каменным веком. «Руламан»[197] стал воспоминанием прошлого. На первое место вышел Уэллс. «Борьба миров», «Машина для передвижения во времени» – вот два первых романа Уэллса, которые мы прочли. В первом – поразили космические впечатления, уже сильно подготовленные тем летом, когда впервые с помощью Сергея Соколова[198] я увидел лунный ландшафт. И еще более – ощущение, похожее на предчувствие, которое возникало, когда в мирную и тихую жизнь вдруг врывались марсиане. Одно время мне казалось, что Уэллс, вероятно, последний пророк. Бог послал его на землю в виде английского мещанина, сына горничной, приказчика, самоучки. Но в своего бога, в прогресс, машину, точные науки, он верил именно так, как подобает пророку. И холодноватым языком конца прошлого века он стал пророчествовать. Снобы не узнали его. Не принимали его всерьез и социологи, и ученые. Но он пророчествовал. И слушали его, как и всякого пророка, не слишком внимательно. А он предсказал нечто более трудное, чем события. Он описал быт, который воцарится, когда придут события. Он в тихие девяностые годы описал эвакуацию Лондона так, как могли это вообразить себе очевидцы исхода из Валенсии или Парижа.[199] Он описал мосты, забитые беженцами, задерживающими продвижение войск. Он описал бандитов, которые грабят бегущих. И, читая это, я со страхом и удовольствием (тогда) предчувствовал, что это так и будет и что я увижу это. А в «Машине для передвижения во времени» такое же слишком уж сильное впечатление произвели на меня морлоки, живущие под землей.
16 октября
Когда я перечитывал этот роман во время последней войны, мне казалось, что их подземелья ужасно похожи на бомбоубежища, а морлоки – на побежденные народы. Их ненависть к выродившимся победителям казалась убедительной. Но все это пришло позже, все эти рассуждения. Тогда мы восхищались Уэллсом и проникались его верой во всемогущество науки и человеческой мысли бессознательно. Сознательно же любили мы простоту и силу его выдумки. И тон – простой, убедительный, бытовой, отчего чудеса казались еще более поразительными, – мы оценили уже тогда. Восхищались мы и рассказами Уэллса. Примерно в это же время (а может быть, годом позже) папа выписал мне журнал «Природа и люди» с приложением – полное собрание сочинений Конан Дойля и половина полного собрания сочинений Диккенса. Вторая половина шла приложением к журналу будущего года. Тут мы прочли впервые фантастические и исторические вещи Конан Дойля. Оранжевая с черным, похожим на решетку, узором и серая с голубоватым оттенком и портретом Диккенса в медальоне – таковы были обложки приложений. Помню радость, с которой я вынимал их из бандероли. Впоследствии журнал стал давать еще одно приложение: ежемесячный альманах «Мир приключений». И наряду с этим я увлекался еще стихотворениями Гейне. Это было еще и под влиянием Бернгарда Ивановича. Он часто теперь читал нам в конце урока Гейне, а кто-то – кажется, еще Кропоткин – говорил об обаянии стихотворений на полузнакомом языке. И я остро почувствовал все особенности Гейне. И прочел «Флорентийские ночи».[200] Другая его проза тогда не задела меня. А «Флорентийские ночи» – полюбил.
17 октября
То, что мы проходили наших классиков в качестве обязательного предмета в школе, мешало нам понимать их. И я помню, что с наслаждением читал в хрестоматии отрывки, которые предстояло проходить, и они же теряли всю свою прелесть, когда учитель добирался до них. Но в четвертом классе это ощущалось уже менее резко. И вот я вдруг полюбил Гоголя. Но как бы со страхом. Так любят старших. Уэллс, Конан Дойль были товарищи детства. А в Гоголе я уже тогда смутно чувствовал божественную силу. Пушкина – не понимал по глупости… Диккенса я еще не успел полюбить, кроме разве «Пиквикского клуба» в гениальном переводе Введенского. И кроме вышеперечисленного я читал все, все, что попадалось. От переплетенных комплектов старых журналов (и среди них «Ниву» за 1899 год, где было напечатано «Воскресение» Толстого с иллюстрациями Пастернака, которые восхищали меня). И вот я решил прочесть «Войну и мир». И эта книга внесла нечто необыкновенно здоровое во всю путаницу понятий, в которой я тонул. И при этом я не боялся ее, как «Мертвых душ». Эта глыба была насквозь ясна, и герои «Войны и мира» были мне близки без всяких опасений насчет того, что они старше. Если бы удалось мне припомнить, что я пропускал, а что поглощал с жадностью при всех бесконечных перечитываниях «Войны и мира», то я понял бы историю своего развития. Чехова я тоже еще не научился понимать, как и Пушкина. И вот я жил со всем этим пониманием и непониманием. Терзаемый вечными сомнениями и припадками самоуверенности жил я в то лето.
18 октября
Как ни стараешься писать точно, непременно приврешь. Я неточно написал о моем отношении к Гоголю. Это вовсе не было, хотя бы и смутное, уважение к «божественному». Просто я чувствовал, что надо бы подумать, что, кажется, здесь есть еще что-то, кроме того, что я понимаю, и немедленно решал: «Потом, потом!» К сожалению, эта мысль: «Потом, потом!» – была постоянной в то время. При каждом случае, требующем напряжения, я отмахивался, зажмуривался, – «Потом, потом!» Но все же надо сказать, что некоторые места гоголевских ранних вещей меня поражали тогда. Например, первые же слова «Страшной мести» («Шумит, гремит конец Киева»). Я сразу подчинялся и переносился в новый мир. Что, впрочем, было нетрудно. Удивительно было бы, если бы провел хоть день, никуда не переносясь. Я был, конечно, чудовищем безграмотности и безвкусицы, как и среда, в которой я жил. Но помню, что журнал «Пробуждение» с претензией на роскошь раздражал меня. Верстка приложений к нему – в тоненькую рамочку – наводила на меня тоску. Однажды я увидел в этом самом журнале многокрасочный портрет любимого моего Виктора Гюго. Он изображен был во весь рост на каком-то камне – очевидно, на вершине скалы, плащ его развевала буря. И небо, и камень освещены были какими-то красными, синими, фиолетовыми цветами. Портрет сначала показался красивым, потом подозрительно красивым. Почему? На этот раз я не подумал каким-то чудом: «Потом, потом». И я понял, что Гюго освещен бенгальскими огнями, что недорого стоит. И это доведенное до выражения чувство было для меня такой редкостью, что запомнилось на всю жизнь. Итак, я жил сложно, куда сложнее, чем забывчивые взрослые могли представить себе. И не мог бы выразить то, чем живу, даже если бы захотел. И играл с увлечением в плотины. Богатство ручьев в высшей степени благоприятствовало этой игре. Она продолжалась и расцветала.
20 октября
Чем дальше, тем больше я помню, тем труднее отбирать, о чем говорить. В то лето с нами была толстая книга «История воздухоплавания».[201] Кончалась она Лилиенталем и Сантос-Дюмоном. Мы ее читали и обсуждали бесконечно. Весь мир говорил тогда О воздухоплавании. Тогда же шло всеобщее увлечение французской борьбой. Шло множество разговоров об Айседоре Дункан, о Далькрозе, о культуре тела, о красоте и силе тела. (У нас, в нашем кругу, они только начинались.) Появилось множество статей и книжек о здоровье, о способах питания, о жевании, о голодании. Жоржик[202] стал вегетарианцем оттого, что прочел о том, что они сильнее, выносливее. В нашем монашеском кругу, где в жизни никогда никто не обращал внимания на эту сторону человеческого существования, были несколько смущены «культом тела». Но гимнастику приветствовали. Кроме воздухоплавания, говорили мы и о борцах, и о джиу-джитсу, и о боксе. Я не считался сильным, но гимнастикой занимался с азартом. И с тем же азартом строил запруды. Журчит и шумит ручей, над головой свод из листьев. Камни цокают водяным стуком, когда кладешь их под водою друг на друга. И вот плотина готова.
21 ноября
Осенью 1910 года всех поразило сообщение – Толстой ушел из Ясной Поляны. Куда?
22 ноября
Все говорили и писали во всех газетах только об одном – об уходе Толстого. В Майкопе пронесся слух, что он едет к Скороходовым в Ханскую. Не знаю до сих пор, имел ли основание этот слух. Где-то я читал впоследствии, что Толстой собирался ехать на Кавказ, но куда, к нам или в Криницу? Это глухое упоминание: на Кавказ – как будто подтверждает слухи о Ханской. Как бы то ни было, уход Толстого всколыхнул наш круг особенно. За столом непрерывно вспыхивали споры, наши тяжелые, бестолковые майкопские споры, из-за которых я возненавидел, вероятно, споры на всю жизнь. Разумеется, я был в полном смысле этого слова подросток в те времена. Это значит, что я не был умнее взрослых. Но чувствовал я, как все подростки, временами остро, тяжесть и бессмысленность, когда никто друг друга не слушает, а голоса повышаются, безысходность споров, которые вели старшие. Я это угадывал. Вспоминая студенческие годы, мама с умилением рассказывала о «спорах до рассвета». А я ужасался. Но вот Толстой заболел. Он лежал в домике начальника станции Астапово, и врачи у нас обсуждали бюллетени о его здоровье и пожимали плечами: дело плохо. Все бранили сыновей, лысых и бородатых, которые громко разговаривали и пили водку в буфете на станции. Так рассказывали в газетах. Осуждали Софью Андреевну. Но я прочел в одной из газет, как она в шапочке, сбившейся набок, подходит к форточке комнаты, где лежит муж (внутрь ее не пускали), и старается понять, что делается внутри. И мне стало жалко Софью Андреевну. Вести из Астапова шли все печальнее. В ясный ноябрьский день вышел я на улицу и встретил Софью Сергеевну Коробьину.[203] Было это возле фотографии Мухина. Софья Сергеевна остановила велосипед и сообщила: «Толстой умер». И хоть мы ждали этой вести, сердце у меня дрогнуло. Я огорчился сильнее, яснее, чем ждал.
23 ноября
Устроили большой вечер памяти Толстого.[204] В Майкоп приехал младший брат Льва Александровича – Юрий.[205] Он был и выше, и шире, и собраннее брата. И говорил лучше, Лев Александрович считался плохим оратором. Так вот, на большом толстовском вечере он говорил вступительное слово. А потом шел концерт. Репетиция шла у нас. Папа читал две сцены из «Войны и мира»: охоту на волка и дуэль Пьера и Долохова. Во втором же отделении – сказку об Иванушке-дурачке и черте. Не помню точное название сказки. На репетиции я попался. В «Войне и мире» в те времена я пропускал все военные рассуждения и многое из того, что относилось к Пьеру. Выслушав сцену дуэли, я спросил: поправился ли Долохов после дуэли с Пьером? Папа укоризненно покачал головой. Мама насмешливо засмеялась. Считалось, что я прочел «Войну и мир». Я тогда с удивительной легкостью не читал то, что мне было трудно или скучно. И вот вечер состоялся. Юрий Коробьин, стоя спокойно и уверенно за столом, начал так: «У России было четыре солнца: Петр, Ломоносов, Пушкин и Толстой». Эти четыре солнца показались мне тогда подобранными случайно. И я с насмешкой рассказывал об этом начале так часто, что запомнил его. Папа, читая сказку об Иванушке, засмеялся вместе с публикой и с трудом овладел собой. Это понравилось, и, кажется, даже в газете написали об этом.
24 ноября
Мы в это же время решили вдруг выпускать журнал. Мы, пятиклассники. Я написал туда какое-то стихотворение с рыцарями и замком. Помню, что там, как в какой-то немецкой балладе, прочитанной Бернгардом Ивановичем, в четырех строках четыре раза повторялось слово «черный». «Поднималися черные тени, вырастая из черной земли», остальные две строчки я забыл. На обложке был портрет Толстого, нарисованный Ваней Морозовым. На второй странице напечатано было стихотворение. Впрочем, «напечатано» сказано по привычке. Весь журнал был рукописный, вышел в одном экземпляре, в формате листа писчей бумаги. Итак, на второй странице поместил свои стихи Васька Муринов. Посвящены они были Толстому и начинались так: «Зачем так рано, вождь свободный, Ты покидаешь бренный мир!» Помню, что старшие подсмеивались над таким началом. Когда Ваське сказали, что говорить «рано», когда человек умирает восьмидесяти двух лет, неточно. Это грустно. Это трагично, но «рано» сюда не подходит. Помню, как Васька встревожился, когда услышал это, и настаивал на своем определении. И я был с ним согласен, хотя вообще все его стихи казались мне какими-то старомодными. Выспренними.
12 декабря
Когда я вспомнил, что читал и не читал «Войну и мир», передо мною ясно выступило представление о способе, которым я читал книги. При малейшем напряжении я перескакивал через трудное или скучное место. Страницы без «разговоров» были для меня невыносимы. Я уже говорил, что мне выписали «Природу и люди» с приложениями. Романы Диккенса я не начинал читать, пока они не подбирались полностью. А когда они приходили целиком, выяснялось, что потеряно начало. Я начал читать «Пиквикский клуб» сначала. Мне показалось скучно. Потом подвернулся мне томик из середины. Я заинтересовался. Принялся искать по всему дому и собрал роман целиком и перечитывал множество раз. И отдал в переплет. И возил эту книжку за собою всюду, даже когда уже был студентом, хотя к этому времени знал роман чуть ли не наизусть. И тем не менее начало романа я перечитал уже, вероятно, в двадцатых годах. Как отпугнуло оно меня в детстве, так я его и избегал до зрелого возраста. Так же прочел я «Николая Никльби» – кусок из середины, кусок из конца и, наконец, много позже, всю книгу целиком. Я сказал как-то, что обрадовался, узнав, что «Давид Копперфильд», которого мне подарили в детстве, только начало. Неверно. Новый толстый роман под тем же названием, что моя тощенькая книжка, в красивом переплете с вытисненным узором из цветов, вьющихся вдоль корешка и названия, ошеломил меня. Все, что в жизни Копперфильда выходило за пределы моей книжки, казалось мне недостоверным.
13 декабря
Я вовсе не обрадовался, я долго не читал нового «Копперфильда», хотя старого моего знал чуть ли не наизусть. Чтение было для меня наркотиком, без которого я уже тогда не мог обходиться. Было наслаждением. И всякий вид принуждения убивал для меня это наслаждение. В это время началось у меня увлечение «Сатириконом» (тогда он, по-моему, еще не назывался «Новым»[206] ). Я с нетерпением ждал того дня недели, в который он обычно приходил. Газеты раскладывались тогда по столам читальни, а журналы лежали на особом столе, за барьером, возле библиотекарши. Берущий журнал докладывал ей об этом. И вот я еще издали замечал, меняя книгу: на обложке рисунок новый! Пришел свежий номер «Сатирикона».
14 декабря
Сначала я рассматривал только рисунки – Реми, Радакова, стилизованных маркиз и маркизов под стилизованными подстриженными деревьями у беседок и павильонов, подписанные Мисс. А затем принимался за чтение. Рассказы Аверченко, Ландау, позже – Аркадия Бухова. Отдел вырезок под названием, помнится, «Перья из хвоста». Рассказы, подписанные: «Фома Опискин», «Оль Д'ор». И так далее, вплоть до почтового ящика. Забыл еще Тэффи, которая печаталась еще и в «Русском слове». Она и Аверченко нравились мне необыкновенно. И не мне одному. В особенности – Аверченко. Он в календаре «Товарищ»[207] числился у многих в любимых писателях. Его скептический, в меру цинический, в меру сентиментальный, в меру грамотный дух легко заражал и увлекал гораздо больший слой читателей, чем это можно было предположить. Саша Черный первые и лучшие свои стихи печатал в «Сатириконе», чем тоже усиливал влияние журнала. «В меру грамотный»… «дух» – нельзя сказать. Я хотел сказать, что он, Аверченко, как редактор схватил внешнее в современном искусстве.
15 декабря
Это был дендизм, уверенность неведомо в чем, вера в то, что никто ни во что не верит. Все это я смутно почувствовал много-много позже. А тогда меня необыкновенно прельщал общедоступный эстетизм и несомненный юмор журнала. Боже мой, с какой мешаниной в башке пришел я к четырнадцати годам жизни. У нас огромным успехом пользовалась повесть А. Яблоновского о гимназистах[208] . Название ее забыл. Там гимназисты читали Писарева и безоговорочно принимали его статью о Пушкине. С таким же почтением говорилось о Писареве в «Гимназистах» Гарина. В подражание этим героям любимых наших книг и мы решили заняться серьезным чтением. Кто мы? Не помню. Был там Матюшка. Кажется, Жоржик. Кто-то из приезжих ребят, из казачат. Прочли мы статью о Пушкине – писаревскую статью – и признали ее. Девочки Соловьевы участвовали в этих чтениях. И, кажется, Милочка? Не помню. Начали читать Бокля и не дочитали. Все мы были при этом ярыми врагами идеализма. И при этом увлекались хиромантией. Отгадыванием характера по почерку. А я еще и молился. И был суеверен до крайности. Вечерами в темных майкопских улицах, в темных аллеях городского сада меня охватывал мистический страх. Иногда мучительный, но вместе с тем и доставлявший наслаждение. Бог, которого я познал в Жиздре, был запрятан в самую глубину души, со всеми невыдаваемыми тайнами. А по утрам мы занимались гимнастикой по Миллеру, который рядом с Боклем и Писаревым знаменовал для меня тогда начало новой жизни. Много раз начинал я новую жизнь и всегда одинаково: с Бокля и Миллера. Впрочем, однажды прочел чью-то анатомию и физиологию.
18 декабря
От этой путаницы понятий спасали меня ясные правила поведения, установившиеся неведомо как. Та самая загадочная сила, которая заставляла меня в приготовительном классе пить молоко, которое я мог вылить в подвале на пол, и сейчас играла достаточно сильную роль в моей жизни. Я не курил и даже не пробовал закурить. Почему? Не ругался. Даже нарушая правила поведения, оставался добродетельным. Ужас, испытываемый при этом, убивал радость. Но при этом я вечно бывал счастлив. Я уже тогда начал приобретать предчувствие удивительных, счастливых событий… Поэтические мои ощущения бывали неопределенны, но так сильны и радостны, что будничный мир и обязанности, с ним связанные, отходили на задний план. «Как-нибудь обойдется». Вот второе (после чувства законности) – ясное, точное, ощутимое душевное состояние, которое определяло мое поведение. И, наконец, третье – тот ужас, который я пережил, когда мама отошла от меня, перерос в честолюбие. Я хотел славы, чтобы меня любили. Вот так я и жил.
21 декабря
Итак, жил я сложно, а говорил и писал просто, даже не просто, а простовато, несамостоятельно, глупо. Раздражал учителей. А в особенности родителей. А из родителей особенно отца. У них решено уже было твердо, что из меня «ничего не выйдет». И мама в азарте выговоров – точнее, споров, потому что я всегда бессмысленно и безобразно огрызался на любое ее замечание, – несколько раз говаривала: «Такие люди, как ты, вырастают неудачниками и кончают самоубийством». И я, с одной стороны, не сомневаясь, что из меня выйдет знаменитый писатель, глубоко верил и маминым словам о неудачнике и самоубийстве. Как в моей путаной мыслительной системе примирялось и то и другое, сказать трудно. Забыл. Точнее, утратил эту особенность мыслительную. Вот я иду по саду. В конце аллеи, главной аллеи, правее мостика, ведущего в ту часть сада, где трек, где городской сад уже, в сущности, не сад, открылся новый, летний электробиограф. Праздник. Весна. На главной аллее множество народа. Я иду боковой дорогой. Застенчивость моя все растет. Пройти по главной аллее для меня пытка. Мне чудится, что все мне глядят вслед и замечают, что я неуклюжий мальчик, и говорят об этом. И тут же я думаю: «Вот если бы знали, что мимо вас идет будущий самоубийца, то небось смотрели бы не так, как сейчас. Со страхом. С уважением». Думаю я об этом без малейшей горечи. Холодно. Новый электробиограф под названием «Иллюзион» выглядит празднично. Слышен рояль, сопровождающий картину. И рядом с мыслями о том, что я будущий самоубийца, я испытываю бессмысленную уверенность в будущем счастье. Разговоры с мамой кончались ссорой. Разговоры с отцом – всегда почти слезами.
22 декабря
Думаю, что и меня такой сын привел бы в ужас и отчаянье. До здоровой моей сущности тогда я и сам не мог бы добраться. А отец был силен и прост. Иногда я его приводил в ярость. И ужасал. Иногда два-три его слова показывали мне, как взрослые далеки от меня, и тут удивлялся я. Вот пример последнего случая. После долгих разговоров, соврав, что такие-то уроки выучены, а таких-то завтра нет, а по такому задано повторить, я, выслушав упреки за реферат, за склонность к развлечениям, за отсутствие к серьезным вещам хотя бы приблизительного влечения, добился того, что меня отпустили в кино. Вместе с Валей. К этому времени против электробиографа братьев Берберовых был открыт еще чей-то. Вот мы и пошли туда. Купили билеты. Купили ириски. И вышли на улицу ждать начала сеанса. Была хорошая погода. Вскоре мы увидели папу в его темном, шерстяном плаще, привезенном из Берлина. Он шел с кем-то из знакомых и озабоченно разговаривал с ним. Поравнявшись с нами, папа засмеялся и сказал знакомому: «Счастливцы! Стоят себе, едят конфетки, и больше им ничего не надо». И вся сложная, полная обязанностей, да еще и невыполненных, запущенных дел, нескладная, запутанная моя жизнь вдруг после папиных слов осветилась для меня. И я удивился и обиделся. После каждой поездки в Екатеринодар папа восхищался Тоней. Он рос как настоящий Шварц. В классе шел первым. Отлично декламировал. «За столом зашел разговор об элеваторе, – рассказывал папа, – и Тоня объяснил его устройство толково, понятно, спокойно». С тех пор всю жизнь, взглядывая на знаменитый в те дни, второй по величине в мире, элеватор в Новороссийске, я вспоминал Тоню и то, как рассказывал он об его устройстве за столом.
29 декабря
Теперь, когда многое ожило в моей памяти, я начинаю думать вот что: первые, необыкновенно счастливые, полные лаской, сказками, играми шесть лет моей жизни определили всю последующую мою жизнь. Я был изгнан из рая, но без всякой вины с моей стороны. Сначала я рвался назад, требовал, негодовал. Потом, после долгих неудач, уверовал, что я этого рая недостоин. И стал мечтать, читать и опять мечтать, причем огромную роль в мечтах этих играло следующее: я начинаю работать. Да, меня все хвалят, приходит слава и так далее и тому подобное, но прежде всего – я начинаю работать. С утра до вечера.
1952
2 января
На душе беспокойно, и тревога не знает, за что уцепиться. Вечером заходил Рахманов. Я пошел его провожать и на обратном пути вспоминал старые обиды. Меня вечно обижал Шкловский[209], который невзлюбил меня с первой встречи, году, вероятно, в двадцать третьем! Но меня сегодня мучило не это, а то, что я держался перед ним виновато, зная об этом его чувстве. Тынянов меня любил, что Шкловского сердило еще больше.
2 февраля
Поездка на пароходе оказалась памятной[210] . С нами ехал человек с именем, человек, «из которого что-то вышло», особенно известный в Майкопе, так как он был родом из какой-то станицы Майкопского отдела. Это был певец зиминской оперы, тенор Дамаев. Мы увидели его за столом в ресторане. Папа с ним поздоровался и объяснил нам, кто это. И я с уважением – больше, чем с уважением, – глядел на человека, которого коснулась слава. Таинственная, недоступная слава, о которой твердили с детства, мечтали и не добивались. Полная, красивая, стареющая Екатерина Александровна – простая учительница, а могла бы стать знаменитой певицей. Но каждый раз, когда она пробовала запеть, нервная спазма сжимала ей горло. И она отказалась от славы. Вынуждена была отказаться. Погибло контральто удивительной красоты.
3 февраля
Голос ее слышал только Василий Федорович [Соловьев], которому она доверяла. А больше никто. Исаак[211] мог бы стать знаменитым артистом – и не стал. Мамин брат Федя. Сколько их, по той или другой причине отвергнутых таинственной и неуловимой славой. А тут с нами за столом, наконец, сидит человек, о котором я много раз читал в «Русском слове». Иные говорили, что он неважный актер, но голос его все называли отличным, и я с ужасом даже вглядывался в его простое, станичное, красное лицо: Через некоторое время в ресторане появился совсем удивительный человек, очень маленького роста и неслыханной толщины. Голову он держал откинутой назад – мешал подбородок. В наружности его было что-то надменное и вместе с тем младенческое. Он пил кофе, в который вместо сливок положил большой кусок сливочного масла. Папа объяснил, что это один из способов лечить толщину. Это был сам Зимин, владелец оперы Зимина и мануфактурных фабрик, кажется, в Серпухове. Опера, как я услышал тут впервые, всегда являлась делом довольно убыточным: оплачивать хор, оркестр, кордебалет, балерин и певцов в состоянии было только государство. Зимин нес ежегодно 20 процентов убытку. Оперу он мог держать только потому, что фабрики его давали огромную прибыль.
6 февраля
Пока [папа] был в Сочи, мы купались с ним в купальне. Здесь мы еще раз встретили Дамаева и Зимина. Папа разговаривал с Дамаевым, и тот отвечал ему снисходительно и холодновато, как приличествовало знаменитости. Но лицо у него сохраняло станичную простоту. И он начинал заметно полнеть, что я тогда не любил. Точнее – не прощал. Но бедного Зимина я не мог презирать или не прощать. Тут уж толщина была бедой, болезнью. Его живот, как шар, плавал перед ним, и он угрюмо и брезгливо прыгал в воде, пытаясь окунуться. Ужасно составлено предложение. Зимин, прыгая, угрюмо и брезгливо глядел вперед, неведомо куда. Толстый, маленький, сердитый, чудовищный младенец.
11 февраля
В Сочи скоро мы записались в городскую библиотеку. Книги ходил менять я. Брал книги для мамы и Софьи Сергеевны[212] и для себя. И среди этих книг особенно памятен мне был Мопассан, которого читать мне запрещали. Но я успевал прочесть некоторые из его рассказов, пока шел в библиотеку. Я поднимался наверх, в город, по крутой каменной лестнице. И вот, сидя на ступеньках, глотал страницу за страницей. Это был, кажется, Мопассан в издании «Шиповника». Некоторые рассказы потрясали меня. Например, «Хорля» и «Мисс Гарриет». Некоторые обжигали.
4 марта
И вот впервые после 1904 года приехали мы в Екатеринодар. То есть я приехал впервые, папа бывал там часто. Тоня отсутствовал, но зато впервые после большого промежутка времени все четыре брата – Исаак, Самсон, Лев и Александр – съехались вместе. Мы поселились в бабушкином доме, я совсем не узнал его, ничего общего не имел он с тем, который остался в моих воспоминаниях…
Самсон очень интересовал меня. Он был заметным провинциальным актером. На зиму у него был подписан контракт с солидным антрепренером Бородаем. Он был брит, что в те времена сразу отличало актера, невысок ростом, плотен. Глядел меланхолично и обладал удивительным даром смешить меня, что ему нравилось. Я быстро подружился с ним, точнее, стал его страстным поклонником. Ведь он приближался к славе. Папа с уважением и легкой завистью узнал, что к Бородаю Самсон подписал контракт на пятьсот рублей в месяц. (Ему платили полтораста, кажется. Папе. В майкопской больнице.) Дружба с Самсоном оказалась прочной. Он был так же вспыльчив, как в ранней молодости, но не было случая, чтобы он повысил на меня голос, рассердился на меня хоть раз в жизни. Я с наслаждением вспоминаю, как, сидя в саду, в беседке, папа и Самсон рассказывают о своем детстве. Как Исаак отобрал у них пятнадцать копеек, подаренные дедом, и купил себе пшенки. «Пойду дам ему в морду», – сказал Самсон, к величайшему моему удовольствию.
5 марта
Я иду в картинную галерею и удивляюсь, что она такая маленькая, – по воспоминаниям она казалась мне больше. Я еду с Сашей на трамвае и удивляюсь, что он так быстро идет. Но Саша отрицает это. Его я тоже уважаю. Он, считавшийся таким плохим студентом, он, о котором дедушка говорил, что его учение обошлось дороже, чем всех братьев, взятых вместе, оказался очень хорошим адвокатом. И слава его росла. Из него тоже что-то вышло. Или было близко к этому. В то время я очень уважал Шварцев, на которых был так мало похож. О них говорили – все Шварцы талантливы. У них были очень отчетливо выраженные семейные черты. Это они знали и даже гордились этим. Гордились даже своей вспыльчивостью: «Я на него крикнул по-шварцевски». Они были определенны, и мужественны, и просты – и я любовался ими и завидовал. Нет, не завидовал – горевал, что я чужой среди них. В летнем театре в городском саду в тот сезон играла опера. И я отправился в оперу в первый раз в жизни. Надежда и Лидия Максимовны[213] ахали и причитали со свойственной им восторженностью: «Что ты переживешь! Счастливец! В первый раз в жизни – в оперу! Я бы потеряла сознание, если бы пошла в оперу в первый раз такой большой». Я ждал невесть каких чудес. Шел «Садко». К моему ужасу, я очень скоро почувствовал, что мне скучно. Да как еще! Я попросту засыпал. (Это несчастное свойство – засыпать в театре, как только пьеса мне не нравится, я сохранил на всю жизнь.) К последнему акту в театр пришел Саша и сел возле. Я покаялся ему, что обманул ожидание дам. Саша ободрил меня, сказав, что они склонны к преувеличению, а «Садко» – опера и в самом деле скучная. Впрочем, и дамы признали, что лучшая опера – «Сказки Гофмана».[214] «На ней-то уж ты бы не уснул». Думаю, что и труппа была слаба для «Садко».
6 марта
Тони в городе не было, но я увидел его карточку: худенький, большеголовый мальчик, со шварцевскими волосами – жесткими, волной поднимавшимися над лбом, – с выражением спокойным, даже вялым. На карточке он стоял, прислонившись плечом к дереву, длинный, узкоплечий. Я представлял его иначе. Сильнее. Уж слишком много рассказывал о его достоинствах папа. Я полагал, что Тоня совершенен во всех статьях.
7 марта
Дня за три до нашего отъезда отправился в Иркутск Самсон. Бородай прислал ему аванс, хотя Самсон не просил его об этом. Получив деньги, Самсон растрогался и сказал, что все-таки антрепренер его – хороший человек. Он уважает артиста. Провожать Самсона мы поехали на вокзал. Тут я впервые увидел актерские сундуки, они же шкафы. Они стояли, блестя металлом и темнея кожей, пока не приехала за ними тележка и не повезла сдавать в багаж. И вот я простился с дядей, простился с доброй, восторженной, пухлой, миловидной Надеждой Максимовной. Всю жизнь была она со всеми ласкова. Она уже овдовела, была совсем старушкой, когда немцы взяли Ростов. Когда за ней пришли, она приняла яд. И так как она еще дышала, то немцы вынесли ее, уложили в машину и увезли. Но тогда, глядя в широкое окно желтого вагона второго класса, она мирно и ласково улыбалась мне, и мы ничего-ничего не знали. После отъезда Самсона в городе стало пустовато. Я томился вечерами.
11 марта
Итак, мы переехали опять в дом Капустина, и начался последний период нашей жизни в Майкопе… В это же время наметилась дружба, самая сильная дружба в моей жизни. Я разговорился с Юркой Соколовым и с Фреем[215], стоя возле раздевалки для младших. Я был в том вдохновенно веселом состоянии, которое нападало на меня уже тогда. Мы стояли и смеялись. Это был мой первый разговор с Юркой. Его очень уважали в училище… Он внушал уважение сдержанностью, Соколовской серьезностью, ловкостью в гимнастических упражнениях и главное – талантливостью. Он был замечательный художник.
13 марта
После того как внезапно, от разрыва сердца, околел великолепный, черный, умнейший Марс, Истакановы взяли у Шапошниковых нового щенка, родного брата Марса, но белого, с коричневыми пятками. Это был нервный, шалый пес. Я поглядел ему в глаза, и меня как бы ударило предчувствие открытия, и при этом печального для меня. И в самом деле, через мгновение я угадал, что мешает псу быть таким же великолепным и умным, как Марс. Бестолковая, шалая, нескладная его душа. Мне вдруг тогда же показалось, что я похож на него. На пса. Вот я и тянулся к устроенным семьям вроде Соловьевых и ясным душам, как у Юрки Соколова. Вскоре после веселого разговора возле гардероба для младших вдруг заболел Фрей. Боялись, что у него рецидив костного туберкулеза. У него повысилась температура, появились боли в его страшно изрезанной, укороченной ноге. Я подошел к Юрке и предложил навестить Фрея. Так началась наша дружба. Сначала мы дружили втроем. Потом девочки Соловьевы втянулись в нашу компанию. Юрка играл на скрипке, Фрей на виолончели. Чаще всего им аккомпанировала Варя, которая лучше всех, смелее всех играла с листа. Есть одно гайдновское трио, которое меня сразу переносит в комнату девочек Соловьевых, к роялю. Но я начинаю метаться от избытка воспоминаний. С чего начать?
15 марта
Дома я был счастлив, когда все расходились: Валя – спать, прислуга – к себе на кухню, старшие – в гости. Я бродил по комнатам, наслаждаясь одиночеством. Только в столовой горела висячая лампа, остальные комнаты были едва освещены. И я бродил, бродил по этим комнатам, думая – и не думая. Тут было и ощущение, выросшее к этому времени: «Мы, Млечный Путь, вселенная». И второе, новое: «Дождь, деревья за окном, я», – все это не менее многозначительно. И я наливал спирт в блюдечко, и зажигал его, и синее пламя вызывало особое, исчезнувшее позже чувство. Жег я и газеты на подносе. У меня была тут своя комната. И я уходил спать, полный необыкновенного подъема, поэтического подъема, в котором сливалось все: восторг перед огнем, перед собственной значительностью, перед миром. И никакого желания писать. Никакого!
16 марта
Прежние мои стихи мне не то чтобы не нравились, а удивляли меня. Как будто их написал не я, а кто-то другой. И не слишком-то хорошо. Но дело не в качестве, а в том, как чужды они мне стали. До сих пор, когда я вспоминал мою жизнь, мне казалось, что она резко делится на периоды с явственной границей между ними. А теперь, перебирая внимательно год за годом, месяц за месяцем, я замечаю, что резких границ не было, перемены происходили медленно. Старые мои навыки не умирали так быстро, как мне это представлялось по воспоминаниям. А некоторые – видимо, необратимые, неизменимые – душевные свойства живы и сейчас. И среди них первое – то восторженное состояние духа, когда за туманом, неясно, чувствуешь, предчувствуешь нечто прекрасное. И чувство это настолько радостно, что и не пытаешься понять, чем оно вызвано. Нет потребности. И связанная с этим состоянием духа мечтательность, никогда в жизни не покидавшая меня, мешала действовать. Вот почему я не писал. Больше всего почему-то увлекался я в то время стихами Гейне. Слабость русских переводов я не всегда понимал. Но начинал об этом догадываться. Дело в том, что Бернгард Иванович нам иногда читал на уроках, уже перед самым звонком, стихи Гейне. Так что я схватывал смысл их не вполне, а музыкальность их Бернгард Иванович подчеркивал; [они] вызывали у меня ощущение, подобное тому, которое я так любил: за туманом – счастье или нечто прекрасное. Я ощупью брожу в темноте, стараюсь найти определение тому, что и не пытался увидеть до сих пор. Медленно назревала и моя дружба с Юркой Соколовым. Он жил теперь во флигельке у Соловьевых. Там, где Василий Федорович прежде принимал больных. И я заходил к Соколовым, преодолевая страх перед молчаливым, высоким Василием Алексеевичем.[216]
18 марта
Итак, друзьями моими все более близкими становились Соколовы, Соловьевы и Женька Фрей. Я начинал выбираться из одиночества…
А влюбленность в Милочку все росла.
19 марта
Словом, от прежнего рассказа, когда пишешь о том, что вспоминается, придется отказаться. Слишком уж много хочется назвать. Попробую внести порядок в то, что пишу. О вере. О музыке. О книгах. О любви. О дружбе. Это выглядит как будто и литературно. Но я просто хочу понять и назвать то, что помню. О вере. Во что же я верил? Чем жил? Любимый папин разговор был о том, что я «ничем не интересуюсь». Я каждый раз испытывал бессильное возмущение. Почему он так думает? Я живу полной жизнью. Разговоры с друзьями кажутся мне глубоко содержательными. Я живу… Чем? И вот тут и начиналась ярость человека немого или плохо говорящего на языке собеседника. «В твои годы я уже начинал интересоваться политикой. Ты бы прочел хотя бы Петра Лаврова. Его „Письма”». Но тут мама вдруг вмешалась и сказала: «Подожди. Прочтешь невесте, заперев предварительно двери». И папа засмеялся добродушно, чего никогда не бывало, если мама вмешивалась в разговор. Вот почему я запомнил именно этот, один из многих, разговоров. Чем я жил? Неужели восторженное состояние, которое я испытывал, гуляя, было единственным признаком веры во что-то? В эти же дни начало на меня находить отвращение к той колее, в которой я жил. Мне хотелось убежать. Бродить по морю. Наняться грузчиком. Или в хозяйство какого-нибудь казака в станице. Зачем? Иногда желание это усиливалось до того, что я думал не без удивления: «Неужели я и в самом деле убегу?» Однажды разговор «об интересах», поднятый отцом, кончился тем, что я сказал о своем желании все бросить и бежать. Во имя чего? Куда?
20 марта
Отец был смущен моим заявлением. Я не стал ему понятнее, не стал понятен и себе. Только теперь я понимаю, что «интересов», или цели, или веры, у меня тогда не было. Была потребность этого – и глупость. Я был глуп, как новый истамановский щенок. А жизнь вокруг шла сложная, необычно сложная для России. В добавление к Миллеру, к увлечению борцами, к разговорам, долетавшим и до нас через посредство «Сатирикона», издательства «Шиповник», множества переводных романов (Шницлер, Генрих Манн, Уайльд, проглатывавшихся с одинаковым уважением. Впрочем, нет. Вспоминаю, что Генриха Манна и Габриеле Д'Аннунцио, и еще Пшибышевского я читать не мог), – к разговорам об «освобождении», о «красоте», о «смене вех», о «здравом смысле», о «Весах», о «символизме» и к насмешкам над символизмом вдруг добавилось увлечение, всеобщее увлечение Джеком Лондоном. Попробуй что-нибудь вывести из всей этой массы самых противоположных и искаженно понятых течений. Естественно, что здоровый и простой Лондон необыкновенно захватил и нас, школьников, и взрослых. Вспыхнувшая в те годы любовь к «телу», к здоровью, к силе вдруг получила столь необходимое социологическое, привычное обоснование. За это любили Лондона взрослые. А мы – за то же, за что любят его школьники и до сих пор. Итак, веры у меня не было, и та мешанина умственных и духовных течений, которая бушевала (или, точнее, колыхалась) вокруг, никак не могла мне помочь. Я не верил, но потребность в вере, в цели, в миросозерцании у меня была сильна. И это на время заменяло цель. Желание цели. Но при склонности к мечтам это желание легко удовлетворялось мечтами о том, как я вдруг… Что?
21 марта
Как я вдруг совершу подвиг, и все поймут, что я… Кто? Какой подвиг? Но я так ясно видел все подробности своей славы, что самый подвиг для меня терялся в тумане.
22 марта
Итак, перейдя в шестой класс на шестнадцатом году жизни, я не знал, зачем живу, во что верю, но испытывал страстную потребность верить и знать, куда иду. Бездеятельность моя, видимо, пугала меня уже и тогда, и ужасала лень. Все мои мечты начинались с того, что я действовал – смело, разумно, и работал не разгибая спины. Так было в мечтах. А наяву, как я вижу теперь, мои идеи о бессмысленности той жизни, которую я веду, о побеге – были неосознанным желанием сбросить е плеч все обязанности. То есть – не работать. То есть – та же лень. Безграмотность и бездеятельность в той области, которую я считал своей, в литературе, в поэзии, – вот что могло бы оправдать меня, – но я и тут ограничивался мечтами и неопределенно величественно-поэтическими представлениями. Чувствование у меня смешивалось с уверенностью в будущей славе. Недоверие к себе с неведомо на чем основанной уверенностью в собственной гениальности. И ко всему этому – влюбленность, которая усиливалась с каждым днем. Чувство реальности заставляет меня добавить, что все это вышеописанное заключалось в неряшливом, невысоком подростке. Нос у меня имел непонятную особенность – краснел без видимых причин. Это меня мучило. Я вечно скашивал глаза на кончик носа, чтобы проверить, какого он цвета в данную минуту. Я легко ревел. Слезами кончались мои споры с отцом и Бернгардом Ивановичем. Я плакал от бессилия, оттого что не в силах был доказать, что не так ничтожен, как им кажется. Да и чем я мог это доказать? В рассказе все получается многозначительнее и логичнее, чем это было на самом деле. Но веры я жаждал и мечтал неведомо о чем так жадно, что, случалось, не узнавал на прогулке друзей.
23 марта
Но незначительность, немасштабность моя подчеркивалась слишком уж явной жаждой успеха. Я следил за впечатлением от каждого моего слова. Я старался не победить, но очаровать. Первая моя мысль была не о деле, а об успехе. Впрочем, довольно казнить бедного мальчика. Главный судья – наш класс – как раз в это время стал меня любить. А уж где-где, а в классе строги. И общественное мнение класса не создается случайно.
Итак, о вере я рассказал. Теперь скажу о книжках, о которых сказал уже несколько слов, но путано и несвязно. Я тогда делил книжки на старые (то есть классические или такие, как Шеллер-Михайлов и Станюкович) и современные. В последние я валил все: и Шницлера, и Уайльда, и Генриха Манна, и Октава Мирбо. Все, кто выходил в издательстве «Современные проблемы» или В. М. Саблина (в зеленых коленкоровых переплетах с золотым тиснением). В этом издании я прочел Стриндберга и, кажется, Шоу. И Метерлинка. Я считал, что все это писатели одного возраста, молодые, и был удивлен, когда узнал, что они – например, Мирбо, и Франс, и Шницлер – вовсе не молоды. Путаница от этого чтения поднималась отчаянная. А тут поверх этого лег Джек Лондон – и всё заслонил. (И Миллер приобрел основу: сильный человек стал героем литературным.) Первые романы его: «Дочь снегов», «Сын солнца», «Мартин Иден» – особенно последний – были проглочены с восторгом. Вот что я с трудом могу восстановить, вспоминая, на чем воспитывался тогда я, глупый подросток. И книги я принимал как явление природы. Я не обсуждал их, не критиковал, а принимал такими, как они есть. Некоторых авторов я просто не мог читать, но не осуждал их за это.
27 марта
В это же время я вдруг стал понимать Чехова. До сих пор, до шестого класса, я перечитывал и помнил только первые три тома. И вдруг – словно туман рассеялся – я стал понимать остальные. Началось, кажется, со «Скрипки Ротшильда». Я легко плакал, разговаривая – точнее, ссорясь – с отцом или Бернгардом Ивановичем, но книги читал без слез. Не то говорю. Книги не могли меня заставить плакать. Прочтя о смерти Гавроша, я рассердился, обиделся на Гюго за его жестокость. Но не заплакал. А «Скрипка Ротшильда» вдруг довела меня до слез. Еще до этого, когда у Истамановых Мария Александровна[217] читала вслух «Новую дачу», я понял ее. Еще до этого я угадал, что Чехов необыкновенно правдив. Но по-настоящему я понял его и влюбился на всю жизнь в шестом классе. Я так часто говорил, хваля Чехова (и других, которых уважал): «Хорошо замечено», – что Фрей и Юрка смеялись надо мной и дразнили этими двумя словами. Впрочем, трудно, как я вижу сейчас, понять и поймать, какого писателя когда полюбил. А Гоголь? Его я полюбил, вероятно, первым из русских классиков. Но полюбил со страхом. Он поражал, и пугал, и заставлял ужасаться. И Чехов поражал, но не пугал. Он… Нет, о настоящей любви говорить не смею больше.
28 марта
В Майкопе образовался или открылся – не знаю, как сказать вернее, – народный университет.
29 марта
И вот в жизни моей прибавилось несколько памятных дней. Вечер. Мы толпимся в фойе Пушкинского дома. Оставшийся от какого-то торжества огромный портрет Шевченко, писанный углем, натянутый на раму, стоит у стены. Под усатой, большелобой головой идет надпись: «Як умру – похороните мене на могили». (Я не знал тогда, что это значит «на кургане», и удивился этим строкам.) Здесь и Женька Фрей, и Юрка Соколов, и Матюшка Поспеев. Пришла на лекцию и моя мама, и Беатриса,[218] и Соловьевы. Я стою, болтаю и смеюсь.
30 марта
И вдруг меня словно током ударяет, сжимается сердце – я вижу две косы, светящийся ореол волос над лбом – это Милочка в своем синем форменном платьице, маленькая и все преобразившая, все изменившая вокруг. Я кланяюсь ей, и она отвечает ласково и чуть удивленно. И она, видимо, не ожидала меня увидеть тут. Она проходит в зал. Я стою перед портретом Шевченко, не смея идти в зал вслед за Милочкой. Мама с Беатрисой проходят мимо. И вдруг мама говорит испуганно и вместе с тем сердито, как всегда, когда обеспокоена: «Что с тобой? Почему ты такой бледный?» – на что я отвечаю обычным своим тоном: «Ничего я не бледный!» И думаю с удивлением: «Вот как, значит, я люблю Милочку – бледнею, когда вижу ее». И вот и я вхожу в зрительный зал и занимаю такое место, чтобы видеть Милочку. Перед раздвижным занавесом, заменившим поднимающийся с морем, Пушкиным, брызгами величиной с виноград, стоит столик с графином. Стул. Володя Альтшуллер[219] появляется за столом. Воцаряется тишина. Володя своим мягким, достойным тоном читает очередную лекцию по политической экономии, которую я полностью пропускаю мимо ушей. Увы, только две вещи занимают меня: я сам и Милочка. Я издали вижу такое знакомое и такое каждый раз покоряющее меня удивительное существо. Сияющий нимб волос, косы. Она поворачивается к подруге, спрашивает ее о чем-то и оглядывается, может быть, почувствовав мой пристальный взгляд. Она не видит меня, но я и вижу, и угадываю ее серо-голубые огромные глаза. Когда же, наконец, перерыв? Встретившись, я не смею к ней подойти, сесть рядом с ней и думать нечего. Но в перерыве я подхожу и разговариваю храбро.
31 марта
Я говорю и жадно вслушиваюсь в каждое слово, ловлю каждый взгляд, и вторую половину лекции переживаю это великое и памятное событие – встречу с Милочкой. Так проходит лекция по политической экономии. Помню чью-то лекцию о Лермонтове. Приезжий лектор картинно описывал, как нежно любила поэта бабушка, как любовалась своим черноглазым внуком, сидящим на ее коленях. И я заметил, что мать Милочки, Варвара Михайловна, улыбнулась мечтательно. И горькое чувство, похожее на предчувствие, поразило меня. Я знал, что Варвара Михайловна меня не любит. Догадывался, что. слушая лектора, она мечтает о том, что вот Милочка выйдет замуж и у нее будут дети, – но не такого мужа, как я, представляет в мечтах Варвара Михайловна. Нет, не жениться мне на Милочке! Вот все, что уношу я с лекции о Лермонтове.
3 апреля
Музыку я любил всегда, и почтительной, безнадежной любовью, веря в свою немузыкальность. За хороший слух я уважал любого человека. Даже злодея. Читая «Камо грядеши», я возмущался Нероном. Но в одном месте там Сенкевич написал, что среди приветствий толпы музыкальное ухо Нерона уловило и крики, обидные для него. Этого упоминания о музыкальности было довольно для меня. Он уже был для меня злодеем, заслуживающим почтительного удивления. Фальшиво петь я отучился. Училище у нас было в основном казачье, а казаки – народ музыкальный. Пели у нас на переменах, на прогулках, пели Соловьевы и Соколовы. Все больше украинские песни. Вторить я так и не научился, но в унисон пел, попадая в тон. У меня вдруг обнаружился сильный баритон, и наш учитель пения, чех Терсек, когда я иной раз, шутя, давал всю силу голоса, на которую способен, разводил руками и говорил даже как бы растерянно: «Да у него здоровенный баритон!» Как я читал вообще и все вначале, так и музыку любил вообще. Но вот начался отбор. Первая музыкальная пьеса, которую я узнал и отличил, был «Жаворонок» Глинки. Его играла Леля Соловьева. И вместе с девочками Соловьевыми развивался музыкально и я.
К тому времени я стал вдруг понимать Бетховена. Largo? maesto[so] – из Седьмой, кажется, сонаты; Первая соната, Восьмая, Четырнадцатая, «Аппассионата». Шопена один вальс – кажется, opus 59. И со свойственным мне подсознательным желанием остановиться, передохнуть, успокоиться – я очень неохотно соглашался слушать новое.
5 апреля
Учился я плохо. Тоска охватывала меня на всех почти уроках: «Сколько до звонка?» – спросишь одними губами, поймав взгляд одноклассника, имеющего часы. Он четыре раза сжимает и разжимает пальцы. Двадцать минут! Счастье, если это такой урок, на котором можно разговаривать или незаметно читать. Стены класса примерно до высоты человеческого роста выкрашены, кажется, клеевой краской, а повыше – выбелены. И я принимаюсь мечтать, что до границы краски наш класс наполнен водой и я плаваю, плаваю от стены к стене, потом выплываю в коридор. В шестом классе были развешаны на стенах литографии с картин Иванова – старая Москва, бояре, церковки, улицы. Я начинал раздумывать о старой Москве и о боярах. Большие таблицы, не раскрашенные, черные, без растушевки, штрихами изображали исторических лиц: Валленштейна, Гумбольдта. У кого-то из них – кажется, у большелобого Гумбольдта – улыбка менялась: она была то холодноватой, то ласковой – так мне казалось. И я считался с этим.
7 апреля
Зов таланта, если он у меня был, оказался достаточно сильным, чтобы увести от будней, но недостаточно сильным, чтобы найти дорогу к новой работе, к настоящей работе. Я понял прелесть свободы, но не догадывался, зачем она мне. Сколько верст прошел я по комнатам, зажигая то спирт, то газеты. Сколько я ходил по городскому саду, пьянея от движения, от воздуха, в котором с февраля уже угадывалась весна, а потом читал так же, пьянея и только.
8 апреля
Завтра десять лет, как веду я записи в этих счетных тетрадях. Это девятая из них. Вел я записи и до войны, но они пропали. Я сам сжег их, когда уезжал в блокаду. Казалось, жизнь кончена, не стоит беречь бумаги. Да я и раньше был небрежен к тому, что пишу. У меня нет многих моих книжек и некоторых пьес. Например, «Приключения В. И. Медведя» и «Приключения мухи»[220], «Нос»[221] (кажется) и другие подписи к картинкам – это книги. Пьесы: «Остров 5 к»[222], «Брат и сестра»[223], «Пустяки»[224] … А в Кирове показалось, что [жизнь] продолжается. И я, получив, выпросив в Когизе тетрадку, стал писать – неровно, по кусочкам, спотыкаясь, не смея писать о себе, не умея, не решаясь описывать то, что вокруг. В то время страшная кировская зима, с ее нелюдимой, дымной красотой, кончалась. Мы жили на огромной улице Карла Маркса; кажется, 51-а, в длинном деревянном двухэтажном театральном доме, во дворе. Выйдя из ворот, я видел направо, на верхушке холма, роскошное не по городу, белое здание театра. А налево вниз бежали домишки. И далеко-далеко огромная улица (начиналась она далеко за театром, чуть ли не у вокзала) замыкалась заводом.
9 апреля
Итак, ровно десять лет назад, когда жили мы на длинной улице Карла Маркса, на бесконечной улице – я так и не смог пройти ее из конца в конец, – я почувствовал, что жизнь продолжается. И стал писать вот в такой тетради, понемножку, совсем не умея рассказывать о сегодняшнем дне.
18 апреля
Мы слушали по радио сводки. Они были печальны, но как я не мог поверить, что возьмут Ленинград, так. не верил я в поражение. Не верил, да и все. Я походил по детским домам, эвакуированным в Котельнич.
19 апреля
Касаясь стриженых голов обедающих детишек, воспитательница рассказывала, что печальные новости пришли об этом, и об этой, и о той. «Сиротки. Получены сведения из Ленинграда». А дети – четырех-пятилетние – были веселы: гость пришел! Побывал я у строгой коренастой женщины – рабочая Кировского завода, депутат горсовета, уполномоченная по эвакуированным детям. Она была известна всему городу. Рассказывали, как уселась она в кабинете секретаря райкома и заявила, что не выйдет оттуда, пока секретарь не добудет круп для ее подопечных. Тот и ругался, и грозил ей, потом начал смеяться – ничего не помогало. И он добыл ей круп. Из-под земли, что ли. Она рассказала мне обо всех своих учреждениях, вспомнила Ленинград. Вспомнила мужа (старого путиловца тоже), оставшегося на заводе. Сохраняя суровое выражение, она показала его карточку, маленькую, для паспорта. И сказала, глядя на седого мужа своего: «Ну тут-то хоть улыбнись! К фотографу пришел! Сниматься!» Вот единственная фраза, что пригодилась мне для пьесы, да и' то через шесть лет. Когда я писал «Первый год»[225] .
В Котельниче были только ленинградские дошкольники. И я, вернувшись в Киров, договорился о поездке к школьникам, о которых собирался писать.
23 апреля
Приезжаем. В огромной комнате – плита, которая кажется тут маленькой. По диагоналям под потолком висят флажки. Воспитательницы клеют за столом стенгазету. Здесь и столовая, и кухня. На плите готовится ужин для нас. Я узнаю, что приехал в интернат в печальный и торжественный день: уходит на войну первый воспитанник интерната, достигший призывного возраста, Женя Шелаев, глава семьи. Кроме Бори у него есть еще маленький братишка Леша и две сестренки. И всем им Женя – как отец. Воспитательницы, вздыхая, клеют газету и жалеют, что им приходится расставаться с мальчиком: «Мы на него опирались», «Он стоял во главе тимуровской команды», «Он никогда не повышал голоса, а все его слушались».
Сплю ужасно. Утром воспитательницы рассказывают, что Женя Шелаев не спал всю ночь, просидел на кровати братишки своего Леши, все глядел на него. Знакомлюсь с Женей Шелаевым. Русый, очень спокойный мальчик, говорит тихо. Привлекателен. Мне приходит в голову: не сын ли он моего одноклассника? Осторожно отводит он разговор об отце. Отец оставил мать.
Давно. Отчества его – не догадываюсь спросить. А время идет. Скоро Жене уезжать. Он спешит – состоялось решение колхоза проводить сироту. А Женю это пугает. Брат Боря заработал для Жени сто рублей героическим путем. Узнав, что на очистку уборных интерната ассигнована эта сумма, он взялся за эту грязную работу и выполнил ее.
24 апреля
Приходит седой, пожилой, румяный брюнет, председатель колхоза, суровый мужик. Он принес в дорогу новобранцу пышек, вареных яиц. Он усадил его рядом с собою на скамейку, минут десять они сидели рядом и молчали. Председатель выполнял решение колхоза – провожал Женю. Потом он произнес следующую речь: «Ну, Женя, служи. Начальников – жалей. Пошлют на курсы – не отказывайся. Все выполняй». И ушел. В коридоре появились колхозницы – принесли Жене шаньги и огурцы. Они плачут. Женя стоит и глядит на них просто, неторжественно, скорее жалобно, недоумевая. Чем ближе время, тем Женя темней. За завтраком пытает его сестренка. Я не пошел смотреть, как Женя прощается с дошкольниками и младшим братом.
25 апреля
Но зато я запомнил навеки вот что: прощаясь со мной, Женя говорит недоумевающе и тихо: «Напишите что-нибудь обо мне на память». И мы расстаемся навсегда. Как все добросовестные или совестливые мальчики, он очень скоро попал на передний край, в танковую часть. И был убит, как сообщили мне в Кирове зимой его воспитательницы.
4 мая
Я не могу слышать, когда о детстве или о молодости вспоминают снисходительно, с усмешкой, удивляясь собственной наивности. Детство и молодость – время роковое. Угаданное верно – определяло всю жизнь. И ошибки тех дней, оказывается, были на всю жизнь. То, что мы старались все называть, понимать как бы заново, в сущности, определило многое и в хорошую и в дурную стороны. Я научился становиться лицом к лицу с предметом. Без посредников. Но зато потерял веру в чужой опыт и в то, что можно что-нибудь узнать не непосредственно. Трудно описать, как мы постепенно, постепенно сближались. Первое время Юрка часто сердился на меня. Застенчивость моя в те дни до того меня охватывала иногда, что самому было противно. Я иду по улице. Навстречу Юрка. Ну что тут такого? А я начинаю горбиться, краснею, во весь рот улыбаюсь по-дурацки, так что Юрка даже прикрикнет на меня. Скоро его, полушутя, стали называть моим воспитателем. Да, теперь припоминаю, что первое время он спорил со мной, как он признался позже, просто иной раз потому, что его раздражала настойчивость и шумность, с которой я утверждал то или иное. Особенно о Чехове он много спорил со мной и только когда мы были уже совсем хорошо знакомы, признал, что я прав.
9 мая
Сегодня День Победы. Семь лет назад вечером Красная площадь была переполнена народом. Прожектор освещал головы, головы – так рисовали толпу на старых иконах. Я шел к площади от Балчуга и чувствовал ясно, что в те годы было у меня редкостью. Я чувствовал ясно, что так же вот заполнялась народом площадь в роковые и счастливые дни. Я вижу исторический вечер. Я вспоминал и глядел на площадь, как на чудо. А потом прожектора взвились в небо, и оно покрылось световым клетчатым узором – сейчас мне кажется, что цветным. Кто-то из актрис сказал, что это похоже на ткань шотландку. Верно и неверно. Для ткани узор был слишком высок, воздушен и жив. Он все подрагивал там, высоко, струился. А внизу сдержанно гудела толпа.
13 мая
Я сегодня утром кончил пьесу «Медведь», которую писал с перерывами с конца 44 года. Эту пьесу я очень любил, прикасался в последнее время к ней с осторожностью и только в такие дни, когда чувствовал себя человеком.
21 мая
Я начал писать ежедневно в этих тетрадях, не давая себе отдыха, стал рассказывать о себе – по нескольким причинам. Первая, что я боялся, ужасался, не глухонемой ли я. Точнее, не немой ли. Ведь я прожил свою жизнь и видя и слыша, – неужели не рассказать мне обо всем этом? Впрочем, это не точно. Я должен признаться, что этого здорового нормального ощущения своего возраста я еще не переживал. Более того. Я думал так: «Надо же, наконец, научиться писать». Мне казалось (да и сейчас еще кажется), что для этого есть время. Пора, наконец, научиться писать для того, чтобы рассказать то, что видел. Пора научиться писать по памяти – это равносильно тому, чтобы научиться живописцу писать с натуры. И вот я стал учиться. И по мере того как я погружался в это дело, я стал испытывать удовольствие от того, что рассказываю, худо ли, хорошо ли, о людях, которых уже нет на свете. Они исчезли, а я, вспоминая их, рассказываю только то, что помню, ничего не прибавляя и не убавляя. Многих из них я любил. Все они оставили след в моей душе. Таким образом, говоря, я говорил за некоторых из них. То есть не «говоря», а «работая» – хотел я сказать. А потом и воспоминания о более далеких людях стали мне нравиться. Они жили, я могу засвидетельствовать это. Иногда мне трудно удержаться от обобщений, – но я видел это! Как же не делать выводов. Хорошо сказал Коля Чуковский, когда я, года два назад, провожал его с Томкой[226] в Дом творчества. Томка носилась под деревьями, что-то вынюхивала со страстью, шла по чьим-то следам, останавливалась, вдруг наставив уши. «Она замечает в тысячу раз больше, чем мы! – сказал Коля. – Но не делает выводов. Не обобщает». Но каждый раз, когда я пытаюсь обобщать, то теряюсь. И мне кажется, что я влез не в свое дело.
24 мая
Наши школьные вечера всегда казались необыкновенными, все обязанности снимающими, все угрызения совести угашающими событиями. Что там думать о запущенных делах своих и о страшных уроках, когда завтра вечер! Да еще устраивались они, как правило, по субботам или под праздник. Значит, после вечера еще целый день, в который можно чего-нибудь придумать: дописать сочинение, на которое дано было две недели, а я еще к нему и не приступал. Довольно рассуждать. Реальное училище, переродившееся, потерявшее все признаки будней. На вешалках младших – пальто гимназисток, пахнет духами. В синих платьицах с белыми фартуками, таинственные, приводящие в мучительное смущение, оцепенение, едва только подумаешь о том, чтобы заговорить с ними, девочки. Я только кланяюсь и вглядываюсь. Где же Милочка? Издали вижу – не смею видеть, – угадываю я знакомый ореол волос и сине-серые глаза. И тогда праздничность и волшебность происходящих событий подтверждается. Я здороваюсь издали. Подойти не смею. Потом. Когда начнутся танцы. Умеющие рисовать дарят своим избранницам программы вечера – бристольский картон. Нарисованные на самом лучшем бристольском картоне розы, или фиалки, или пейзажи окружают старательно написанный текст: «Первое отделение – то-то и то-то, второе то-то – танцы». В зале стоят стулья для первых рядов, скамейки для последних. Для гостей и для хозяев.
25 мая
Освещены все длинные коридоры училища, а не только начала, как в те вечера, когда приходишь на занятия в физический кабинет. Налицо не только учителя, но и их жены. Все они вместе с членами родительского комитета будут сегодня помогать приему гостей: в одной из комнат, в одном из классов, вынесены парты, стоят столы с конфетами, пирожными, кипит огромный самовар, стоят в огромном количестве стаканы, блюдечки. Ложечки лежат грудой – прозаические, вероятно, оловянные ложечки нашей школьной столовой (на большой перемене мы получаем горячие завтраки). Но даже они не нарушают общего праздничного характера вечера. Впрочем, комната эта придет в действие много позже, во время танцев, а сейчас вечер только начинается. Бегают распорядители с бантами. Гуляют по коридорам гостьи – в начале вечера отдельно. Так же – отдельно девочки, отдельно мальчики – рассаживаемся мы в зале. Эстрады нет. Рояль стоит ближе к середине, перед первым рядом. Тут же выстраивается наш хор, которым дирижирует Терсек. Участвовал в этом хоре и я, когда был исполняем «Хор охотников» из оперы Вебера «Волшебный стрелок»… Маленький, стройненький, непоколебимо серьезный Миша Чернов обладал прелестным дискантом. Однажды он пел что-то, а подпевали ему четыре мощных баса из семиклассников. Вот это был единственный случай, когда хор имел настоящий успех и бисировал. Обычно же ему вежливо хлопали. И только. За хором кто-нибудь читал. Или мелодекламировал, что было модно.
26 мая
Мне не хочется перечитывать все, что я писал о себе. Я не могу вспомнить, рассказывал ли я о своих выступлениях на училищных наших вечерах. Я выступал на них дважды: вероятно, в четвертом и пятом классе. Мелодекламировал. Один раз читал «Трубадур идет веселый» Немировича-Данченко, музыка Вильбушевича, Второй раз – «Каменщика» Вал. Брюсова, как сообщалось в украшенных акварельными рисунками программах из бристольского картона. Читал я и на вечере памяти Кольцова. Бернгард Иванович много возился со мной, добиваясь, чтобы из меня вытащить хоть что-нибудь, но результаты, видимо, получались средние, потому что Марья Александровна сказала: «Что это все ты да ты читаешь. Пусть Жоржик попробует» И Жоржик тоже однажды появился перед публикой. С обычной своей гримасой, выражающей у него смущение, которое он решил во что бы то ни стало преодолеть, Жоржик прочел под аккомпанемент Бернгарда Ивановича какие-то стихи и сделал это, несомненно, не хуже, чем я. Кроме «Трубадура» и «Каменщика» я читал в одном случае на бис «Нет, я не верю в смерть идеала». Вспомнил! Четвертое стихотворение было «Галилей»[227] . Четыре стихотворения на два выступления. Так полагалось.
27 мая
Стихотворение «Галилей» вдруг выплыло в памяти почти целиком: «Изнемогая от мученья/ Под страшной (или тяжкой?) пыткой палачей, / На акт позорный отреченья / Уже согласен Галилей. /Ликует судей сонм пристрастный!/ „Фанатик мысли побежден“./ И вот предстал пред ними он – / Больной, измученный, несчастный./ Он шепчет: „Да, мое ученье – / Клянусь, с начала до конца – / Больного мозга заблужденье/ И бред, безумный бред глупца./ Я еретик, я без боязни/ (выпало – что? вспомнил:) Ученье церкви отрицал./ Я веру в бога колебал./ И сознаюсь – достоин казни“. (Тут несколько строк не выплыли из тумана. Помню только, что Галилей слышит, как суд „над ним безбожно вслух смеется“.) И кончалось стихотворение так: „Я стар, я раб, я изнемог,/Я трус, а все-таки – верти?тся!“ Стихотворение мне нравилось. Но про себя я, никому не смея в этом признаться, осуждал два последних слова. Мне казалось, что полагается говорить: „ве?ртится“. И следует сказать, кто именно. Например: „А все ж она верти?тся“, если по условиям техническим нельзя изменять ударения.
На наших вечерах иногда выступали и гимназистки. Одна из них, фамилию которой забыл, смелая, разбитная, первая из многочисленного разряда женщин, попавшаяся мне, некрасивых, но державшихся как хорошенькие. Она читала, и очень ловко, стихотворение «В защиту маленьких». Кончалось оно строчкой: «И только, только одному есть место в маленьком сердечке». Прозвище этой гимназистки было Настурция. Прочтя эту строчку, как бы в страшном смущении, Настурция, закрыв лицо фартуком форменного своего платья, убежала под гром рукоплесканий. Любопытно, что была она не маленького роста.
28 мая
Затем выступал кто-нибудь из наших музыкантов – играл на скрипке маленький Терсек, иной раз составлялся квартет, струнный, забыл какой. Пел сильным металлическим тенором Тер-Егиазаров: «За чарующий взор искрометных очей я готов на позор, под бичи палачей»[228] – здоровенный, с синими свежевыбритыми щеками, почти без лба, невероятно волосатый… Читал юмористические стихи и рассказы Женька Гурский. В заключение играл оркестр мандолинистов, балалаечников и гитаристов. Оркестр готовился к выступлениям тщательно. Помню, как мой одноклассник Евгений Федоров (не писатель) звал со своей характерной картавостью: «Рлебята, вечрлом на сыгрловку». Два отделения заполнялись, таким образом, довольно плотно. Но самым привлекательным для меня был антракт. В антракте я, как правило, решался, наконец, подойти к Милочке. Я был с ней на ты. В те дни нашего долгого романа она была со мною ласкова; что же меня пугало? То самое, что определило судьбу моей любви и привело ее к печальному концу, – беспредельная, религиозная почтительность перед Милочкой. Впрочем, я и сейчас не пойму, – печальный ли это конец? Да, она не вышла замуж за меня… А впрочем, конечно, это было печально.
30 мая
Но вот оркестр из балалаек, мандолин и гитар в последний раз исполнял на бис обычно какую-нибудь украинскую песню и вставал, улыбаясь. Оканчивалось и второе отделение программы. Зал освобождали от стульев – частью выносили их, частью уставляли вдоль стен под репродукциями картин из Третьяковской галереи в светло-коричневых рамках… Когда зал освобождали, деревянная створчатая стена раздвигалась, и в классе, из которого парты к тому времени убирали, располагался с детства знакомый оркестр под управлением Рабиновича. Пол посыпали белым порошком. Мыльным, чтобы ноги скользили по крашеному деревянному полу, как по паркету. Воля Рудаков (сын нового податного инспектора, переведшегося недавно в Майкоп), стройный, красивый, высокий и легкий, дирижировал вдохновенно танцами. «Вальс!» – объявлял он тенором и приглашал старшую Авшарову. И начиналась самая интересная, главная, богатая событиями часть вечера, от которой зависело все.
1 июня
К этому времени, то есть к началу танцев, я был уже в зале и после ряда ходов, не менее сложных, чем шахматные, оказывался рядом с Милочкой. То, что я подходил к ней в антракте, уже казалось мне событием устаревшим, не дававшим никаких прав, несмотря на то, что был ею встречен приветливо. Но вот я возле – до сих пор не смею сказать: «Мы вместе». Это слова грубые и отрезвляющие. Подойти мне удалось вместе с кем-нибудь из Соловьевых или заговорив с кем-нибудь из стоящих возле Милочки. Иногда я решался пригласить Милочку на какой-нибудь из легких танцев.
Но так или иначе, подойдя к Милочке, я не отходил уже от нее весь вечер. Но и тут я тщательно избегал (избегал, словно кощунства) всякого намека на мою влюбленность. Я был путаным, слабым, ленивым человеком, но одно во мне горело сильно и ясно полным огнем: это любовь к Милочке. Я иной раз писал на листе бумаги слово «Милочка» – и мне казалось, что даже в этом сочетании букв есть нечто необыкновенное, необъяснимо волнующее душу. О чем мы говорили? Обо всем. Об учителях, об училище, о товарищах и подругах. И если разговор завязывался, то вечер я считал счастливым и у меня появлялась тень надежды, что Милочка меня тоже не то чтобы любит, куда там, а выделяет. Разговаривали мы, гуляя по коридорам.
7 июня
Не хочется мне что-то писать о Майкопе. В июне 1923 года мы с Мишей Слонимским поехали гостить на соляной рудник имени Либкнехта под Бахмутом… В те дни я стоял на распутье. Театр я возненавидел. Кончать университет, как сделал это Антон, не мог. Юриспруденцию ненавидел еще больше. Я обожал, в полном смысле этого слова, литературу, и это обожание не давало мне покоя. Но я был опустошен, как рассказывал уже однажды. Я никогда не любил самую форму, я находил ее, если было что рассказывать. И я был просто неграмотен до невинности при всей своей любви к литературе. Но единственное, чего я хотел, – это писать. Я попробовал через Зощенко устроить две-три мелочи в юмористических журналах тех дней. Точнее, он дал мне два или три письма для обработки. Я сдал их ему, он одобрил и снес в редакцию. И они, как я узнал потом, были напечатаны. Но я к тому времени был уже в Донбассе. Кроме того, я попробовал писать для детей.
8 июня
Я написал очерк о Свене Хедине для журнала «Воробей», который собирались издавать при «Ленинградской (тогда Петроградской) правде». Этот очерк не понравился Маршаку и напечатан не был, что меня очень огорчило. Заказал мне очерк Сергей Семенов[229], но ко времени моего отъезда власть уже перешла от него к Маршаку. Итак, в июне 1923 года я, нищий, без всяких планов, веселый, легкий, полный уверенности, что вот-вот счастье улыбнется мне, переставший писать даже для себя, но твердо уверенный, что вот-вот стану писателем, вместе с Мишей Слонимским, который тогда уже напечатал несколько рассказов, выехал я в Донбасс… Я с удовольствием издали еще, высунувшись в окно, узнал стройную, высокую, совсем не тронутую старостью отцовскую фигуру. Мы не виделись с осени 21 года. Он мне очень обрадовался. Приезд Слонимского, о котором я не предупредил, его несколько удивил, но даже скорее обрадовал, – писатель!
9 июня
Папа был доволен, что я приблизился к таинственному, высокому миру – к писателям, к искусству. Я играл, и обо мне хорошо отзывались в рецензиях Кузмин[230] и не помню еще кто. Правда, первое имя смущало отца. Он спросил меня как-то скороговоркой: «Позволь, но ведь Кузмин, кажется, из порнографов?», вспомнив соответствующие статьи в толстых журналах. Но так или иначе – все-таки обо мне отзывались в печати. А когда театр закрылся, я работал секретарем у Корнея Чуковского, что тоже радовало отца. Поэтому Миша Слонимский, сын одного из редакторов «Вестника Европы», племянник известного профессора Венгерова, представитель религиозно уважаемого мира людей, «из которых что-то вышло», тоже обрадовал папу своим появлением у нас в доме. И вот мы сели на больничную тачанку и поехали на рудник.
14 июня
Когда Театральная мастерская распалась, я брался за все. Грузил в порту со студенческими артелями уголь, работал с ними же в депо на Варшавской железной дороге, играл в «Загородном театре» и пел в хоре тети Моти[231] . Первый куплет был такой: «С семейством тетя Мотя/Приехала сюда./Певцов всех озаботя/Своим фасоном, да». Кроме того, я выступал конферансье. Один раз по просьбе Иеронима Ясинского[232] в ресторане бывший «Доминик», который ему поручили превратить в литературный. Затея эта не состоялась, но я выступал перед столиками однажды. В этот вечер там были Тынянов, Эйхенбаум, еще кто-то, не помню, – они занимали два больших стола, составив их вместе. Поэтому я имел успех – они относились ко мне с доверием. Я был наивный конферансье. Я, по своей идиотской беспечности, и не думал, что люди как-то готовятся к выступлениям. Я выходил да импровизировал, почему и провалился однажды с шумом на одном из вечеров-кабаре в Театре новой драмы[233] . (Там устраивались эти вечера, чтобы собрать хоть немного денег на зарплату актерам.) Однажды меня позвали на какой-то банкет во вновь открываемом нэповском предприятии. Я должен был «вносить оживление» за сколько-то миллионов. Веселить. Что и сделал весьма охотно. Я уже тогда умел не смотреть в глаза фактам. Но все это вместе и страшно напряженная семейная жизнь тех дней привело к полному душевному опустошению… И вот в Донбассе, в Брянцевке, под Бахмутом, когда мне было уже 26 лет, – душа моя стала распрямляться и оживать. Я вернулся к тому состоянию, которое способствовало росту к полной свободе. Да еще на юге. Да еще летом.
15 июня
Мама еще не приехала. День проходил так: папа рано утром уходил в больницу, а мы пробовали писать.
16 июня
[Слонимский] работал. А я притворялся, что работаю. В полной невинности и беспечности своей, ожидая, что вот-вот что-то пойдет само собой, я начал писать сказку для детей в прозе. После первой же страницы я понял, что ничего у меня не выходит. Напряженный тон, неумение рассказывать, неясность замысла. Я поступил просто: взял да и бросил работать… Я, сидя за тетрадью, читал книжку, положенную рядом, хотя никто уже не проверял, работаю я или нет. Так проходило время до трех часов. К этому времени мы шли за папой в больницу и обедать к Васильевне. В шахтерских домиках, в двух шагах от больницы, жили подсобные рабочие, и среди них занимал домик тихий печник с длинными усами. За все время нашего знакомства я не услышал его голоса. За него говорила здоровенная и лихая баба, жена его, Васильевна. Кормила она нас обедами, дешевыми и обильными. Папа однажды серьезно испугался, увидев, сколько съел я плова.
17 июня
После обеда нам полагалось лежать – и я, и Слонимский были худы до крайности в те времена. (Впрочем, он сохранил эту особенность… Он тощ по-прежнему. Но виски поседели. Воротник расстегнут, у него что-то со щитовидной железой. Огромные глаза. Огромный тонкогубый рот. Но основа – все та же.) Я в те дни перечитывал письма Чехова все с той же свежестью восприятия, что и в первый раз. Нет, с большей. Я был другим человеком, когда читал их в первый раз, студентом, за века до 23 года.
21 июня
В шестом классе мы держали выпускные экзамены. Первые выпускные. Никаких прав шестиклассное образование не давало, но тему для сочинения получали мы из округа, задачи тоже, и рассаживали нас за столиками в зале, и весь педагогический совет присутствовал при начале экзаменов. В седьмом классе, который считался добавочным, все повторялось сначала…
Предполагалось, что выпускного вечера у нас не будет. Но вот кто-то из товарищей забежал сказать, что он все-таки состоится. И я, и без того полный счастья от того, что кончились благополучно экзамены, от лета, от хорошего дня (был дождь, но прояснилось) – совсем опьянел. И понял, что это только начало. Я не то что предчувствовал, что вечер будет счастливым, а был спокойно уверен в этом, как это изредка случается и сбывается в удачные дни. И вот он пришел. И я, как всегда, стоял у входа. И угадал Милочку еще издали, когда она шла, приближалась к калитке училищного двора, мимо решетчатого нашего забора, вместе с Олей Янович светлым июньским вечером. Но он успел уже потемнеть, пока кончилось первое отделение программы и я поговорил с Милочкой, и второе, когда я подошел к ней наконец. Во время перерыва в танцах мы вышли во двор сначала большой компанией, потом мы остались втроем, и наконец ушла и Оля. Ночь была ясная. Окна училища освещены. Мы подошли к бассейну, где у нас плавала единственная рыбка. И я, сделав над собой сверхъестественное усилие, спросил Милочку, что бы она ответила, если бы я объяснился ей в любви? Милочка сказала, что она не поверила бы мне, потому что я, как ей кажется люблю другую. Кого же? Олю Янович. Я стал возражать, и постепенно мое объяснение из предположительного превратилось в утвердительное. Я был как в тумане. Страха я уже не чувствовал. Я упорно не соглашался ни на какие отговорки, настаивал на одном: «Милочка, я тебя люблю. Скажи мне, любишь ли ты меня». Конечно, я не смел говорить об этом так прямо, как написал сейчас. Я спрашивал: «Как ты ко мне относишься?» Васька, очевидно, не пришел на вечер, потому что я провожал Милочку домой. По дороге она попробовала сказать, что нам о любви говорить рано, мы еще дети. Я резко возразил против этого, хотел сказать, что мне уже пятнадцать лет, но не сказал. Цифра эта показалась мне не слишком внушительной. И так мы шли темной, но ясной ночью и дошли наконец до Милочкиного дома. Но я не отпустил ее. Я преградил ей путь к калитке, упершись рукой в забор, и требовал ответа. Я требовал только, чтобы она ответила мне: да или нет. Если нет, я никогда больше не буду говорить с ней о своей любви. Если да, то я ее буду любить всю жизнь и никогда не оставлю ее. Таков смысл того, что я бормотал, стоя прямо против нее, упершись рукой в забор. Милочка молчала, опустив голову. Один раз начала, но запнулась на первой букве, а какой – «н» или «д», я не мог понять. «Если она скажет – да, надо будет ее поцеловать», – подумал я. Но она все молчала. Я чувствовал, что она не может сказать «нет», но радости не было в моей душе, потому что я был отуманен, ошеломлен необычностью происходящего, собственной моей непонятной мне настойчивостью. И вот вдруг Милочка сказала: «Да». Я сделал шаг вперед, протянув руки, и напугал бедную девочку. Она метнулась вправо и молча скрылась, я слышал, как побежала она по двору. А я пошел домой, не понимая, что произошло. Она сказала: «Да». Но я напугал ее. Она обиделась. Убежала. Но все-таки она ответила: «Да». Зачем я протянул к ней руки? Что будет? На все это я получил ответы, завтра, 9 июня. Вот что произошло сорок лет назад.
22 июня
Утром 9 июня старого стиля, то есть ровно сорок лет назад, я проснулся с ощущением неблагополучия. Я уже не помнил, что Милочка сказала мне: «Да», не придавал этому значения. Передо мной стояло одно: Милочка, когда я хотел ее поцеловать, протянул к ней руки, сделал шаг вперед, – ужаснулась, рванулась в сторону и убежала. Я шагнул вперед молча, неуклюже. Зачем я это сделал? В середине дня меня известили, как вчера, что у гимназисток будет вечер выпускниц и мы приглашены. Мне стало как будто полегче. И вот я пришел на вечер в женскую гимназию…
Первое, что я обнаружил, придя на вечер, – Милочка не пришла! Я стал искать ее. Вышел на улицу. Крачковские жили совсем близко от гимназии. Дошел до поворота к ним. Милочки нет. Тогда я попросил Олю Янович и Лелю Соловьеву пойти узнать, что с ней. Это было так же несвойственно мне, как и мое вчерашнее поведение: я посмел показать свои чувства! Но Оля и Леля не удивились и не смутились, а очень просто согласились. И через полчаса вернулись с Милочкой. Но Милочка едва поздоровалась со мной. Я пришел в отчаянье. Студент Шапошников залюбовался Милочкой и попросил меня познакомить его с ней. Я резко отказал, чем крайне удивил его. А я подошел к Милочке, которая упорно не отходила от подруг, и сказал, что хочу поговорить с ней. Она пожала одним плечом, но послушалась. И вот, ходя взад и вперед по дворику, освещенному гимназическими окнами, мы объяснились. Я ходил, срывал листики акаций, сдергивал в пучок и был счастлив. Ровно сорок лет прошло.
23 июня
10 июня сорок лет назад я проснулся с ощущением счастья. После вчерашнего разговора я был переброшен в новый мир. Я, бродя с Милочкой взад и вперед по гимназическому длинному дворику, выяснил все: что она в самом деле рассердилась на меня вчера. (За что? Это не было названо.) Но теперь – прощает. (Почему? Это не было тоже сказано. Я был так сокрушен своей дерзостью, что даже назвать ее не смел. Подумать даже не мог о таких словах: «Милочка, прости за то, что я хотел тебя поцеловать».) Теперь я понимаю, что мы говорили обо всем этом, но другими словами. И она подтвердила, что любит меня тоже. И мы с наслаждением стали говорить о том, что до сих пор только смутно угадывали. О том, когда она впервые заметила, что я люблю ее, о разных встречах в прошлом, несчастных и счастливых, и о том, почему это получалось так. Но вот загремел последний марш, и Милочка простилась со мною. Кто-то из подруг ночевал у нее, поэтому проводил я ее только до уголка. Я сказал шутливо, что, как рыцарь, буду стоять тут на углу, ждать, пока она не дойдет до дому. И мы расстались. Днем я встретил ее с Олей, и мы немножко поговорили, и Милочка была со мной ласкова. И этот день я причислил к счастливым. Вечером у папы играли бетховенские квартеты. Он играл первую скрипку, сердился, останавливал партнеров, но вот, наконец, они сыгрались, а я сидел в уголке и слушал. Впервые со всей ясностью ощутил я, что произошло, и поверил, что можно радоваться. Эти дни сорок лет назад во многом определили мою жизнь. Началась полоса радостей, а больше мучений такой силы, что заслонили от меня весь остальной мир. История с неудавшимся поцелуем тоже определила многое. Я был немыслимо почтителен к Милочке. Я не смел «назначать ей свидание», самая мысль об этом приводила меня в ужас. Поэтому я бегал по улицам, искал встречи. Я не смел сказать ей ласкового слова. Но любил ее все время. Всегда. Изо всех сил.
24 июня
Сегодня исполнилось два года с тех пор, как начал я вести эти тетради на особых условиях, заключенных с самим собой. Многолетние занятия детской литературой ограничивают круг предметов, о которых позволяешь себе писать. Детский писатель – сочинитель, литератор по преимуществу, потому что имеет дело с читателем, требующим особой формы рассказа. Желая избавиться от всех этих неудобств, я и решил во что бы то ни стало писать нечто ни для чего и ни для кого. Научиться рассказывать все. Чтобы совсем избавиться от попыток даже литературной отделки, я стал позволять себе все: общие места, безвкусицу. Боязнь общих мест и безвкусицы приводит к такой серости, что читать страшно. Пустыня желтого цвета под солнцем имеет выражение. Пустыня серого цвета без солнца с серым небом – это уже и не страшно хотя бы. Позволив себе все, я окончательно запретил себе зачеркивать что бы то ни было, даже попытки литературной отделки. Запретил себе перечитывать то, что написано, так что я, вероятно, повторяюсь. К чему это привело? Начав писать все, что помню о себе, я, к своему удивлению, вспомнил много-много больше, чем предполагал. И назвал такие вещи, о которых и думать не смел. Но боюсь, что со всеми своими запрещениями я их именно только назвал, а не описал. И чем я взрослее, тем труднее мне описывать. Но я не врал. В первые дни записей я своими рассказами раза два был близок к тому, чтобы заслонить от себя пережитое или по-новому осветить. Но это прошло. Пережитое воскресило для меня день за днем – иногда с такой ясностью, что терялось ощущение чуда, с которым я смотрел на майкопские времена.
26 июня
Возвращаюсь в Майкоп. Этим летом, то есть летом 12 года, мы – я, мама и Валя – поехали в Анапу. Я долго ловил на улице Милочку, чтобы сказать ей об этом, да так и не поймал. И уехал. О том, чтобы переписываться с ней я, конечно, все равно и не заикнулся бы. И передать записку через Олю или кого-нибудь еще, что, мол, до свидания, Милочка, уезжаю, я и не подумал. Это было бы неслыханной дерзостью. Ехали мы в Анапу не через Туапсе, а железной дорогой, через Екатеринодар, до станции Тоннельная. Там мы наняли извозчика и отправились в Анапу. Эта дорога тоже очень памятна мне. Шла она полями и степью все вверх да вверх. Хуторок в деревьях с палисадниками, дети бегут за фаэтоном, бросают букетики полевых цветов, и снова пыльная дорога все вверх да вверх. Но вот подъем достиг высшей точки, и мы видим синюю, знакомую, вечно праздничную пелену моря. Не пелену. Нет. Мы видим море, и каждый раз, хоть мы и ждем этой встречи, но удивляемся радостно, и я, и мама, и Валя: «Море!» Поселились мы в комнатке с выбеленными стенами и кривым зеркалом, и началась анапская жизнь. Мы отправлялись с утра к морю, а потом я сбегал. Я никогда в жизни не любил в жару подолгу лежать на солнце. Меня через двадцать минут охватывала тоска. Я купался, плавал как можно дольше, одевался не спеша, но к двенадцати часам мне уже нечего было делать на море. И я тянулся, не спеша, по главной улице с бульваром, мимо магазина с рыбками, раковинами, сушеными крабами, тросточками, открытками к городскому саду.
27 июня
В то лето мой дядюшка-адвокат, как и все Шварцы того поколения, страстно влюбленный в театр, решился попробовать себя в качестве антрепренера[234] . Стройный, густоволосый, толстогубый, как все Шварцы того поколения, скорее негритянского, чем семитического типа, он вызывал у меня зависть, которую я тогда не понимал ясно. Я завидовал и восхищался. Цельность, простота и сила моих старших родственников – вот что вызывало чувство, похожее на ревность. Бог дал им силу, а меня обошел. И в тоске по простоте я искал у себя шварцевских черт и не находил. А они любили говорить: «По-шварцевски», «Мы, Шварцы» и так далее. В маленьком летнем анапском театре в это время обычно шла репетиция. Саша взялся держать антрепризу для того, чтобы играть. Он играл героев-любовников, под псевдонимом, если я не ошибаюсь, «Молотов». К этому времени в труппе все успели уже перессориться. Если мне удавалось проникнуть в пустой зал, то репетиция не доставляла мне никакого удовольствия. Артисты либо репетировали в полтона – нет, в четверть тона, – с таким видом, будто делают кому-то величайшее удовольствие. (Я хотел сказать – одолжение.) А еще чаще они не репетировали, а препирались. Саша – бритый, в белом костюме, с широким резиновым поясом, заменяющим в те времена жилет, – брал в этих боях верх – во всяком случае, на словах. Он принадлежал к числу тех людей, которые умнеют, когда сердятся. Он заставлял противников умолкнуть, но положение от этого не упрощалось. Актеры умолкали, но пожимали плечами и сохраняли негодующее выражение на бритых своих лицах. Беда была в том, что дело прогорало, а в таких случаях сохранять уважение к антрепренеру было бы нарушением всех актерских привычек. Анапская газета, в довершение всех бед, ругала труппу и холодно отзывалась об игре г-на Молотова. Из всей труппы запомнил я только Урванцова, фамилию которого встречал в журнале «Театр и искусство». Он писал для «Кривого зеркала» пьесы, имевшие успех, и считался настоящим петербургским артистом. Но и он был сердит и репетировал едва слышно.
28 июня
Кончилось дело тем, что комическая старуха ушла из труппы как раз перед Сашиным бенефисом и он попросил маму выручить – сыграть характерную роль в какой-то пьесе, которую я забыл начисто. На спектакле я не был: оставался с Валей. Но в газете появилась рецензия, в которой о бенефицианте писали холодновато, а маму очень хвалили, радовались, что труппа приобрела такую сильную актрису. Похвалу эту мама приняла не по-шварцевски: прочла ее недоверчиво и весь день была не в духе. Больше она не играла. Я посмотрел у Саши только один спектакль: «Темное пятно»[235] . В театре, полупустом, на стенках висели объявления: «Просят занимать места согласно взятых билетов», что мне казалось неграмотным и увеличивало недоверие ко всему учреждению. Но немецкая комедия, где главного героя (адвоката-негра) играл Саша, увлекла меня. Саша играл с английским акцентом и был и в самом деле похож на негра. Не только цветом лица. Актеры забыли, что они в ссоре. Малочисленная публика подобралась удачно, много аплодировали, смеялись. Если бы я думал о Саше с осуждением: как мог молодой адвокат, на хорошем счету, заняться антрепризой – то во время этого спектакля понял бы его поступок. Но я и без того не осуждал Сашу. Это ему шло.
11 июля
Вчера я читал повесть Данина, которую он сейчас переписывает[236] . Первые 84 страницы повести мне очень понравились. Ему в повествовательной форме удобно. Свободно. Он легко находит средства для того, чтобы рассказать то, что ему нужно, и не теряет спокойного, убедительного тона. Степенного, истового. Кажется, что у него много сведений, а слов достаточно. Вполне достаточно для большого количества сведений, но только для них, для этих сведений, для передачи этих сведений. Будь их чуть больше, могло бы показаться, что рассказчик привирает, старается убедить меня в чем-то. А я вот никак не могу добиться той свободы, когда слова сами идут под руку, не овладел я прозой за два года. Не хватает мне средств для того, что я хочу рассказать. …Лето 1912 года незаметно-незаметно перешло в осень, а каникулы – в последний год учения в майкопском реальном училище; я был полон одним: своей неизменной любовью, поэтому все внешние изменения проходили где-то за пределами жизни. Занятия, уроки, будни, праздники – все это было фоном, который был сознаваем по одному признаку: мешал он или способствовал встречам с Милочкой. Но я менялся.
12 июля
Правда, все по-прежнему я развивался душевно и отставал умственно, как и всю мою жизнь. Но душевная жизнь заставляла меня и задумываться. Вот тут и образовалась особенная манера думать: лицом к лицу с предметом, – о которой я писал. А кроме того, произошло событие, определившее мою жизнь. Произошло это так. Осень стала вполне осенью. Прошел день моего рождения, 8 октября, и мне исполнилось шестнадцать лет. Я часто теперь встречался с Милочкой. О свидании я, конечно, и думать не смел. О том, чтобы назначить свидание. Я ловил ее на улице, по дороге в библиотеку. Первая ученица в классе, Милочка кроме того читала так же много и беспорядочно, как я. Я уговаривал ее, когда она выходила, переменив книгу, пойти погулять в городской сад, и она соглашалась, молча поворачивая в боковую аллею. Иногда она сама поворачивала туда. Это время было самым трудным в истории наших отношений. Мы еще дичились друг друга. Говорить было не о чем. И осенний сад с мокрыми деревьями – в эти часы и в такие дни я не бывал в нем до сих пор – глядел незнакомо и неласково. Но я стал писать в эти дни. И произошло вдруг то событие, о котором я говорил. Я писал стихотворение, как всегда, очень приблизительно зная, как я его кончу. Писал просто потому, что был полон неопределенными поэтическими ощущениями. И вдруг мне пришло в голову, что я могу описать облако, которое, как палец, поднялось на горизонте. Я его не видел, а придумал. И это представление, с непонятной мне сегодня силой, просто ударило меня. Не самый этот образ, а сознание того, что в стихотворении я хозяин. Что я могу придумывать. Эта мысль просто перевернула меня. Я хозяин! И я написал стихи о распятии, очень плохо вырезанном деревенским плотником, но перед которым, плача, с деревенской верой молилась женщина. Я был в восторге.
13 июля
Эта выдумка тоже с неожиданной силой осветила, или, не знаю как сказать, переделала, мою привычную систему писать. Нет, даже способ жить. Я не могу теперь объяснить, что особенно необыкновенно значительное чудилось мне в этой выдумке. Но я помню чувство счастья, когда описывал погоду, в которую молилась у креста женщина. Я до такой степени ясно представил себе камни возле дома Санделя – камни, на которых появились точки от дождевых капель, камни «рябые от дождя», как я написал, – что даже сегодня это стихотворение, когда я стал вспоминать его, показалось мне связанным с квартирой Соколовых. Потом я описал заросли мака по дороге к «камням» за Белой. И это ощущение огромного хозяйства, мне принадлежащего – состоящего из вещей и пережитых и найденных, не случайных, а передающих то, что мне нужно, – перевернуло мою жизнь. Я словно заново научился ходить и смотреть, а главное – говорить. Полная моя невинность в стихотворной технике не только не мешала, а скорее помогала. Я просто ломал размер. Я обожал Гейне в чтении Бернгарда Ивановича, и размер его стихов помог мне втискивать то, что я хочу, в мои разорванные стихотворные строки. Кроме того, мне помогло следующее событие. Я за это время получил право заходить внутрь библиотеки, к книжным полкам, выбирать себе книги. И я вытащил книжку небольшого формата с непривычного цвета переплетом. Открыл ее и прочел: «Целовала их ночь в глаза»[237] . И эта строчка ударила меня и словно раздвинула границы моего хозяйства еще шире. Это были пьесы Блока. Я прочел заглавие и положил книжку на место. Мир мой расширился, но лень и страх перед напряжением, усилием, перед новыми открытиями пребывали в нем по-старому. Я прочел из Блока всего одну строчку и стал его хвалить чуть не в каждом разговоре с Фреем и Юркой Соколовым, но прошел год, прежде чем мне попались его стихи. А пьес я так и не трогал. Итак, я писал помногу – целые поэмы.
14 июля
Названия этих первых вещей я помню до сих пор: «Мертвая зыбь», «Четыре раба», «Офелия», «Похоронный марш»[238] . Были эти стихи необыкновенно мрачны. Я был до того счастлив в то время, что не боялся описывать горе, мрак, отчаяние, смерть. Для меня все эти понятия были красками – и только. Способом писать выразительно. Я нашел способ что-то высказывать, говорить свое – и вместе с тем как это было скрыто, запрятано за картинами вроде той, что я описывал: дождь, распятие, вырезанное деревенским плотником, женщина, плачущая у этого уродливого креста. Рассказывалось все это тяжело, нескладно, но я был счастлив и доволен… Я овладел (или нашел дорогу к овладению) тем, что стало для меня и верой и целью, самым главным в жизни, как я теперь вижу. Я нашел дорогу к писательской работе. Понял, что есть вещи и я. И я тут полный хозяин. И все. То, что я писал, было, конечно, чудовищно. Это было бормотанием одиночки в пустыне. Но я бормотал не что придется, а высказывался. Прошло, вероятно, с полгода, пока я прочел свои стихи Милочке. Прочел сам, ибо непривычный человек не мог бы поймать мой размер. Читал я, объясняя и доказывая, что тут я хотел сказать и как хорошо сказал. И Милочка иногда соглашалась со мной, а иной раз, по правдивости своей, не скрывала, что стихотворение ей не понравилось. Любопытно, что чужие стихи раздражали меня. Хвалил я одного Блока, не читая его. Пушкин не открылся мне. Лермонтова не понимал. Конечно, я схватывал нечто у своего времени, у своих современников, но бессознательно. Прочел я два стихотворения Маяковского, напечатанные, кажется, примерно в это время в «Новом сатириконе», – и пришел в восторг[239] . Мне почудилось, что у нас есть что-то общее. Но не искал других его стихов, не испытывал потребности. «Потом как-нибудь». И писал с каждым днем косноязычней. Я-то понимал, о чем бормочу, и радовался.
15 июля
Овладев этой своей дорожкой, я стал смелее и увереннее. Теперь я не сомневался, что «из меня что-то выйдет». Самомнение мое умерялось одним только сознанием: «Еще никто не знает, что я за молодец».
Я стал много спокойнее и увереннее, особенно вне дома. Я изменился, а в семье все осталось по-прежнему. Вот тогда-то Юрка, по своей манере начиная, и отдумывая, и снова набирая дыхание, сказал, наконец, по зрелом размышлении: «У вас нет семьи. Поэтому ты ищешь ее у нес или у Соловьевых». У нас и в самом деле семьи не было… Всё ухудшались и отношения с Бернгардом Ивановичем. Он с чуткостью ненависти заметил, что я стал много самоувереннее, чем раньше, и считал, что никаких оснований для этого у меня не имеется. С остальными же, от одноклассников до знакомых, отношения мои сильно улучшились. Несмотря на то, что я писал мрачные стихи и иногда и в самом деле приходил в отчаянье, в основном я был весел, и не просто, а безумно весел, и часто заражал этим свойством моих друзей. Кажется, в это же время я спросил Юрку Соколова, когда мы гуляли в леске за Белой, умен ли я. Усмехнувшись, Юрка дал уклончивый ответ. И когда я удивился и обиделся, он ответил: «Чудак ты, – да разве дело только в уме?» О Фрее же он говорил: «Вот очень хорошо устроенная голова». Оба они уже кончили в это время реальное училище и готовились в университет. Точнее, готовили латынь, чтобы поступить в университет. Мы снялись втроем у Лабунского, который считался лучшим фотографом, чем Амбражевич. Вот эта фотография. Оба расписались на память и оба пародировали меня. «Хуже всего быть лишним и смешным», – сказал я Оле Янович как-то, когда мы возвращались от Зайченко[240] . А они подслушали. А «хорошо замечено», – я говорил, хваля прочитанное.
16 июля
Юрка Соколов на этой карточке сидит в светлой рубашке. Женя Фрей стоит. Чтобы получилась правильная линия, отчетливая композиция сверху вниз, Лабунский поставил Женю Фрея на кирпич… Фотографию считали удачной. Хуже всех вышел Юрка. Из-за позы, при которой ноги мои оказались ближе к объективу чем следует, я кажусь длинноногим и узкоплечим, хотя отличался сложением «геркулесовского типа», как вычитали мы в какой-то брошюре о гармоническом развитии тела. Торс я имел развитой.
17 июля
Зимою приехала в Майкоп опера[241] . Откуда? Не помню. Шли «Аида», «Кармен», даже «Борис Годунов». Это было событием. Бернгард Иванович имел с нами предварительную беседу о предстоящих спектаклях. Одни оперы он хвалил больше, другие меньше. Вспомнив, как он играл нам дома «Кармен» и хвалил эту оперу, я поторопился назвать и ее. Но в ненависти своей ко мне Бернгард Иванович, не глядя на меня, заявил: «Многие до сих пор считают, что „Кармен“ не опера, а оперетта». Я к этому времени знал историю оперы. Фрей рассказал мне, что говорил о ней Ницше – со слов Фрея я имел представление об этом философе, примерно такое же, как по одной строчке о Блоке, и относился к нему с уважением. (Сейчас понял, как я развивался. Я делал прыжок, а потом надолго задерживался на одном месте, отбрасывал в страхе то, что могло бы заставить меня идти дальше. Поэтому ровно идущие сверстники то отставали, то перегоняли меня.) Я любил «Кармен» еще и вот почему. Летом в Анапе я иной раз вечером шел в городской сад, где в белой музыкантской раковине, выходящей на большую площадь среди низких кустов, играл довольно хороший оркестр. Они вывешивали в рамке, справа от раковины, программу концерта, что мне казалось признаком высокого мастерства. И вот там, впервые в жизни, я услышал Антракт к четвертому действию «Кармен». Когда после первых аккордов и мелодии все инструменты – нет, скрипки – трелями пошли подниматься все выше и выше, захваченная врасплох вялая душа моя очнулась и тоже вплелась в это движение, понеслась ввысь. Это было такое ясное, почти зрительное ощущение движения именно вверх, под углом, что я изумился и обрадовался этому чувству, как подарку. А Бернгард Иванович обругал оперу! Тем не менее я пошел ее слушать. Слушал и «Аиду», и «Бориса Годунова» – и вот тут оперу я полюбил. На всех представлениях в первом ряду сидел Бернгард Иванович. Он сказал, что удивлен: оркестр небольшой, но хороший, отличный дирижер, есть и приличные певцы, в особенности баритон. После этого разъяснения мы стали слушать оперу еще доверчивее. С восторгом.
18 июля
Тут я впервые услышал об успехе «Бориса Годунова» в Париже, о Дягилеве, о Баксте, о Русском балете. О балете говорили не с монашеским интеллигентским насмешливым осуждением, а как о высоком искусстве. Говорил Фрей, который читал и знал много больше меня. Для Юрки все это не было новостью. Я помню, как после «Бориса» он говорил, что французам вещи, нам столь близкие, должны казаться загадочными, – Восток! Так прибавилось имя Дягилева, Анны Павловой, Бакста к представлениям об искусстве, существующим у меня. С фантазией лентяя представлял я себе, что это за постановки, что это за художники, что это за актеры. С боязливой фантазией – а вдруг все это окажется не так, как я представляю себе? И я не читал ничего о них, бегло просмотрел эскизы Бакста – и со страхом почувствовал, что они кажутся мне слишком красивыми, и задушил эту мысль. И всем расхваливал Дягилева и «Мир искусства»[242], как Блока – по одной строчке. Сейчас вдруг мне показалось, что, может быть, в этом страхе было здоровое ощущение, что мне предстоит своя дорога, что на учение я туповат? Кто знает. К приезду оперы мы с Милочкой уже часто ссорились, что было естественно, и я стремился скорее, любой ценой выпросить прощение, помириться в тот же день, что уже было неестественно. У нас в реальном было особое выражение: «солка». Это значило – насолить той, в кого влюблен, если поссорился с ней. Не подходить к ней на вечере. Умышленно ухаживать за другой. Кто-то из наших, на вид грубоватый куркуль, сказал, что в любви «солка» – самое главное. И Юрка сказал, что после этих слов он почувствовал к нему уважение. Вот это было для меня больше чем недоступно – мне просто и в голову не приходило хитрить, обижать Милочку умышленно, чтобы наказать. Я был прямо и открыто влюблен да и только. А Милочке хотелось, чтобы я главенствовал, был строг и требователен. Узнал я это на одной из опер. За день до этого мы собирались к Зайченко. Милочка сказала, что она не пойдет. Отказался идти и я. В театре из разговоров в антракте выяснилось, что Милочка все-таки была у Зайченко. Я не посмел обидеться. Каково же было мое удивление, когда Милочка, выбрав минутку, попросила меня: «Не сердись». «Не сердись», – повторяла она с наслаждением.
19 июля
И меня осенило – таков был мой излюбленный способ мыслить (я хотел сказать – единственный способ думать) в те дни. Единственный доступный для меня. Когда Милочка с явным, глубоким наслаждением сказала: «Не сердись», меня осенило: она в глубине души жаждет властного мужского обращения. А я, дурак, молюсь на нее, выпрашиваю чуть-чуть любви, не смею даже спросить, в котором часу она пойдет в библиотеку. И часто потом Милочка говорила мне «Не сердись» без всякого повода с моей стороны. Но от понимания до действия у меня было так далеко! Я был связан по рукам и ногам страшной силой своей любви. Или своей слабостью? Однажды мы шли вечером через большой пустырь, тот самый, где в 1905 году я увидел первый в моей жизни митинг, где ходили канатоходцы, крутились перекидные качели и вертелись карусели на пасху. Теперь тут было пустынно, темно. Мы остановились возле остатков какого-то решетчатого забора. Видимо, кто-то когда-то собирался огородить эту площадь, да и раздумал. Мы, как это бывало часто, ссорились. Выясняли отношения. Слова «наши отношения» я повторял так часто, что Милочка воскликнула однажды: «Не могу я больше слышать этих слов», – после чего меня осенило, что я дурак. Но тем не менее я продолжал расспрашивать Милочку, любит ли она меня, не кажется ли ей это и так далее, при каждой встрече. Что-то подобное, вероятно, происходило и на этот раз. И в пылу ссоры, чтобы уверить Милочку в чем-то, я взял ее за руку – и сразу умолк. Замолчала и она. Это было счастье, какого я не переживал еще. Счастье особенной, освященной силой любви – близости. Так мы и пошли – потихоньку, молча, держась за руки, как дети. С этого скромнейшего прикосновения началась новая эра в истории нашей любви. Ссориться мы стали меньше. При каждой встрече я брал Милочку за руку. Ее чуть полная, по-детски, кисть, чуть надушенная духами, которые я узнаю и теперь, серо-голубые глаза, ореол светящихся надо лбом волос – вот что заслоняло от меня всю жизнь. И однажды я обнял Милочку за плечи.
20 июля
Дело уже шло к концу учебного года. Пришла ранняя майкопская весна. Теперь мы добирались домой дальними дорогами, спускались вниз, к Белой, шли дорожкой между кустами, где по майкопскому обыкновению то пахло цветами и тополем, то тянуло человеческими отбросами. Проходя узкой дорожкой между деревьями, мы иногда останавливались, и я обнимал Милочку, и она опускала мне голову на плечо, и так мы стояли молча, как во сне. И много-много времени прошло, пока я осмелился поцеловать ее в губы. И то не поцеловать, а приложиться осторожно своими губами – к ее. И все. За все долгие годы моей любви я не осмелился ни на что большее. В 21 году, когда мы переехали в Ленинград и мне казалось, что я погубил свою жизнь, я уходил на Васильевский остров, на Средний проспект, к тому дому, где встречались мы с Милочкой в последние месяцы моей любви. Я смотрел на окна ее комнаты, и мне казалось, что, будь она моей женой, вся моя жизнь была бы другой. Не знаю, было бы это на самом деле? Но тогда я бывал от этих детских ласк, от стихов, от весны как в тумане. И если бы мне сказали, что Милочка выйдет за другого, – я просто не поверил бы. Это было бы уж слишком страшно. О нашей, нет, о моей любви знали все. И вот однажды Василий Соломонович позвал меня в свой кабинет после уроков. Он спокойно и серьезно, без тени раздражения, спросил меня, не хочу ли я остаться на второй год? Нет ли у меня для того особых причин? Если нет, то он предлагает мне подтянуться, иначе меня не допустят к экзаменам. Я сказал, что причин таких у меня не имеется, и обещал подтянуться. Оказывается, на совете (в дружеских, правда, тонах) говорили о моей влюбленности и высказывали предположение, что я хочу остаться на второй год из-за Милочки: в женской гимназии было восемь классов – следовательно, она кончала школу свою годом позже меня. И я стал изо всех сил стараться исправить свои отметки. Страх второгодничества еще крепко сидел во мне.
21 июля
Вот пришел день последней классной работы по аналитической геометрии. Решил я задачу правильно, – мой ответ совпал с ответами остальных. Как всегда, раздавая тетрадки с отметками, Василий Соломонович говорил каждому несколько слов о его работе. Моя тетрадка лежала последней. Взяв ее, Василий Соломонович улыбнулся и сказал: «Вот как мы с вами кончили учебный год». Задача была решена на пятерку. Мне удалось догнать класс – не слишком-то, впрочем, надежно.
24 июля
Пришли дни последних выпускных экзаменов, месяц прощания с майкопским реальным училищем. Как и год назад, добыл я картонку от счетной книжки – от переплета счетной книжки такого же примерно формата, как та, на которой я пишу. На картонке этой я написал расписание выпускных экзаменов и вычеркивал потом с суеверной тщательностью, как в прошлом году, каждый из них после того, как я сдавал его. Изменившийся строгий зал наш с далеко отставленными друг от друга столами. Дружная майкопская весна, уже, в сущности, лето. Первый экзамен – по русскому языку. Василий Соломонович прочитывает вслух и потом пишет на доске не совсем обычную тему: «Влияние воспитания на образование характера по роману Тургенева „Дворянское гнездо“ – и не помню еще по каким сочинениям. Помню, что я доказывал, что воспитание не является единственным влиянием в образовании характера. Получил я за сочинение свое четверку. Зато едва не провалился по аналитической геометрии, сделав неправильный чертеж: в припадке затмения я не поместил вершину эллипса на пересечении координат. За письменную работу я получил двойку и выплыл с трудом на устной. Выплыл я и на физике и получил тройку по закону божьему, – два самых опасных для меня экзамена. Со второй половины экзаменов страх почти пропал, волновался я больше из суеверия. Дни, назначенные на подготовку, мы занимались с утра до вечера. Потом собирались рано утром в опустевшем уже училище, – занятия в младших классах и их экзамены уже кончились. И мы выясняли, как сегодня вызывают: по алфавиту или с начала и с конца. Если по алфавиту, то я был свободен на час-другой. Ведь в седьмом классе от сорока пришедших в приготовительный класс осталось человек восемь, а с второгодниками было нас всего двадцать с чем-то. И когда, ответив и получив очередную тройку, я выходил из училища, то было обычно около часу. И я шел в городской сад.
25 июля
Итак, шло лето 1913 года, и я сдавал последние мои экзамены. В неопытной детской человеческой майкопской среде я занимал свое место. И все происходящее – и страшные экзамены и мучения, которые причинял рост моей любви, – все это радовало скорее. Я живу! Иногда напряженная радость жизни приводила к тому, что я приходил в восторг от самого себя. Я верил, что я замечательный человек: из-за моих стихов, из-за любви – не знаю из-за чего. Мне нравилось теперь разговаривать с людьми. Я перестал их бояться, но еще больше теперь зависел от них.
26 июля
До первых чисел июня собирались мы в опустевшем училище, никак не понимая, что кончается огромный период нашей жизни и мы расстаемся навеки. Очень уж весело нам было в то время. До того весело, что мы не говорили, а орали, не ходили, а бегали. Шум в пустых и гулких коридорах училища поднимали мы такой, что Михаил Осипович Чехагидзе, наш надзиратель, то и дело бегал нас успокаивать. На балконе, расположенном на крыше широкого крыльца, на стенах у стеклянных дверей, ведущих в зал, мы расписались все на память, а я нарочно крупнее всех, да еще обвел фамилию свою рамкой. На беду расписался я химическим карандашом, и, когда прошел дождь, фамилия моя выступила с ужасающей ясностью. И Бернгард Иванович вызвал меня на балкон и, не глядя на меня из ненависти, так отругал, что я совсем забыл о том, что живу взрослой, сложной и счастливой жизнью. Так я получил свой последний выговор в училище. И печальнее всего было то, что [я] любил Бернгарда Ивановича и восхищался им, несмотря ни на что. Так мы и расстались, не объяснившись и не договорившись. Но самым счастливым временем тех дней были поиски Милочки. Свидания все не назначались, я должен был искать ее. В городском саду я угадывал ее издали-издали, стоило только ее косам мелькнуть и просиять на солнце. Помню день, когда я уже не надеялся найти Милочку, пришел в отчаянье и вдруг увидел ее за оранжереей, за домиком садовника. И когда я подошел к ней, задыхаясь, запаренный, и спросил: «Наверное, у меня дикий вид?» – она молча и с нежностью взглянула на меня.
27 июля
Встречи наши усложнялись еще и тем, что Варвара Михайловна терпеть не могла меня. Она обожала Милочку и каждого, кого считала возможным женихом, каждого, кто влюблялся в нее, начинала ненавидеть всеми силами своей измученной, сердитой души. Когда о моей любви заговорили на педагогическом совете, там, на мою беду, присутствовала и Варвара Михайловна как член родительского комитета. Она всячески нападала на меня и до этого. Нападала в разговорах с Милочкой. Уничтожала меня в ее глазах, действуя очень разумно: доказывала, что я неряха – вон, мол, брюки чуть не до колен в майкопской грязи. И волосы растрепаны. И козырек на фуражке висит – надорван с одной стороны, И неловок – не танцую, горблюсь. И плохо учусь. От Милочки я знал об этой вражде, которая еще выросла после педагогического совета. «Если при мне так говорят, то что же говорят за глаза!» – сказала она Милочке. Из-за всего этого встречаться нам приходилось, соблюдая осторожность. Боюсь, что Милочке доставалось от матери сильнее и чаще, чем я думал. А она, Милочка, жалела ее и любила. Итак, шли последние экзамены, дни стояли удивительные. В эти как раз дни Леля играла «Grillen» Шумана, и достаточно мне услышать эту вещь, как прошлое не вспоминается, а воскресает во мне и теперь… Как раз в эти дни уезжал сдавать латынь Юрка Соколов. Уезжал он на этот раз в Армавир. Вечер. Мы стоим возле соловьевского дома и говорим о предстоящем событии. И Юрка говорит, что если и теперь он не выдержит экзамена, то это будет ужасно. Хоть умирай. Почему? Выясняется, что он старше меня чуть ли не двумя годами. Ему скоро восемнадцать. И эта цифра поражает и меня. Но он возвращается веселый из Армавира. Экзамен сдан, и он посылает свои документы на естественный факультет Петербургского университета. Закончились и наши экзамены двумя выпускными вечерами – нашим и гимназическим. Все. Безумно веселый, все понимающий и ничего не понимающий, стою я на пороге жизни и не сознаю этого.
28 июля
Мне выдали аттестат об окончании реального училища. Кем быть? Я давно решил стать писателем, но говорить об этом старшим остерегался. Считалось само собой разумеющимся, что я должен после среднего получить и высшее образование. Но куда идти? Казалось бы, что самым близким факультетом к избранной мной профессии был филологический. Но для реалиста он был невозможен из-за латинского и греческого языков. И как все, не знающие куда идти, я выбрал юридический факультет. В этом году, ввиду незнания латыни, я не мог поступить в университет. Но в Москве открылся Коммерческий институт, куда ушли все лучшие профессора из университета после разгрома Кассо[243] . Старшие решили так: послать кои документы в Коммерческий институт. Если меня туда не примут, то все-таки жить в Москве, слушать лекции в университете Шанявского и готовить латынь, которую и попытаться сдать в декабре. И вот и мои документы уехали в Москву. Теперь мне более печально расставаться с реальным, чем тридцать девять лет назад. Подожду еще. Буду рассказывать то, что я забыл. В седьмом классе Бернгард Иванович заново поразил пас – он преподавал в седьмом классе законоведение. Юрка Соколов сказал по поводу этих уроков: «Его нервная система работает вдесятеро быстрее, чем моя». Его красноречие было редким, да, пожалуй, я в жизни не видел подобного оратора. Как в шутках своих, и в манере преподавать он был смел, повелителен и парадоксален. И в речах своих (а уча нас законоведению, он именно произносил речи, а не рассказывал по-учительски) он был своеобразен, смел. Он говорил бурно, быстро, ясно и, когда хотел, шутливо. И металлический тенор его весной, когда были открыты окна, отчетливо слышался на другой стороне улицы. Кончив речь, он заставлял нас выступать, причем непременно выходя со своего места, становясь перед партами лицом к классу. «Приучайтесь говорить. В высших учебных заведениях вам придется выступать на семинарах, читать рефераты». Я был смел в те дни и поэтому выступал довольно часто, применяя все тот же единственный мой метод мышления: лицом к лицу с предметом.
29 июля
К моему огорчению, эта система в данном случае оказывалась беспомощной. Чаще всего Бернгард Иванович заставлял нас определять, что такое общество, что такое государство и так далее. С наивной смелостью малограмотного человека я брался решать эти задачи и убеждался быстренько, что говорю глупости. Говорили глупости мы все, но Бернгарда Ивановича больше всего раздражали мои. Он утверждал часто, что самоуверенность вообще необходима, но у меня она переходит границы. Вот мы говорим по очереди, а Бернгард Иванович слушает внимательно, прикрыв по своей привычке рот и подбородок маленькой белой рукой. Иногда, если мысль кажется ему интересной, он взглядывает в лицо говорящему своими острыми черными глазами. И я, как всегда с людьми, которых я люблю, угадываю каждое его чувство, не мысль, а окраску его мыслей. Я давно уже привык к его возрастающей с каждым годом неприязни, но все удивляюсь: «Как же это можно не любить меня?»
2 августа
Привыкнув к тому, что знание дается мне вдруг, что меня осеняет неожиданно – я все жду такого толчка или прыжка с прозой, какой был со стихами сорок лет назад или когда я в 1928 году писал «Ундервуд» и вдруг догадался, что пьеса не постройка, а скорее рудоносная жила и ты должен подчиняться ее законам, угадывать, куда свойственно идти героям. Это не затрудняет, а облегчает работу, так как форма подсказывается тебе. А необходимость писать правду ограничивает в худую сторону. А кроме того я пишу немузыкально. У меня почему-то слишком много местоимений и вообще лишних слов в каждом предложении. И с этими своими небогатыми средствами я подошел к самым счастливым и печальным временам моей жизни.
5 августа
Уже тогда полностью определился основной мой недостаток: я через посредство людей ощущал и постигал божество. Я зависел от людей. В Милочке заключалась для меня поэзия. Может быть, и набожность прежних дней целиком ушла в чувства к ней. Я постигал божество только через людей и себя расценивал в зависимости от их оценки, от их отношения. Мы ссорились все чаще. Чем ближе подходили мы друг к другу, тем большей близости бессознательно хотели. Но она была невозможна. И со своей открытостью и бесхитростностью я все обвинял Милочку. В чем? Что она не так сказала что-то мне, обнаружив тем самым равнодушие. Что она только притворяется, что любит меня. Боже мой, и сейчас стыдно вспомнить, как я был придирчив и надоедлив. Но все же пока что это богатое событиями лето шло счастливо. Мы продолжали встречаться, каким-то чудом в маленьком городке ни разу не попадаясь Варваре Михайловне.
6 августа
В одну из наших ссор я принял неожиданное для себя решение. Вместо того чтобы на другой же день искать с ней встречи, я ушел в горы с Соколовыми и Соловьевыми. Они готовились к этому путешествию давно, но я в то лето стоял от всех в стороне. Предполагалось, что я плохой ходок – раз, и утонул в своих любовных делах – два. Но когда я сказал, что присоединяюсь к путешественникам, они приняли меня охотно. И к событиям моей жизни прибавилось еще одно. Еще одно радостное событие, свет которого согревает и светит через все годы до сегодняшнего дня. Вышли мы из города на рассвете в сторону станицы Тульской. Мы редко ходили гулять в эту часть, степную часть майкопских окрестностей. Малознакомая и вместе с тем до мелочей понятная степная дорога то отходила, то вплотную приближалась к обрывистому берегу Белой. Курганы, большей частью разрытые в давние годы и снова заросшие травой, тянулись по нашему пути. Каменная баба белела на одном из них. Часа через два мы шли уже через Тульскую, через площадь со станичным управлением, церковью, школой, лавкой. Майкоп ушел за тридевять земель. Жизнь уже стала дорожной.
7 августа
Мешки, которые мы несли, дорожные мешки, рюкзаки, назывались почему-то «сидора?». Так называют их в туристских группах и сегодня. Лямки сидоро?в еще не натерли плечей. Мешки удобно лежали за спиной. В них мы несли одеяла, крупу, шпик, смену белья – общественный и личный багаж. Я со страхом ждал минуты, когда начну отставать и задерживать всех, но, к великому счастью моему, минута эта все не наступала… Вырисовывается лесок на горизонте. Медленно-медленно, все меняя место, то он левее, то он правее дороги, – входит он в нашу жизнь. Теперь уже понятно, что дорога не минует его, и я жду с нетерпением этого счастья. И оно наступает. Мы идем в тени, спускаемся в балочку, по дну которой бежит ручей. Пить до привала воспрещается, и, с тоской поглядев и послушав, я прощаюсь с водой и в шевелящейся тени деревьев выбираюсь наверх. Снова степь. Теперь на горизонте широко разлеглась станица Абадзехская – синеют ее пирамидальные тополя, голубеет церковь. Воздух дрожит от зноя. Лица девочек Соловьевых принимают спокойное до суровости выражение – они скрывают усталость. Юрка Соколов замечает, что сидора? обнаглели. Но вот, наконец-то, станица Абадзехская входит в нашу жизнь, окружает белыми хатами, палисадниками с мальвой.
8 августа
Здесь мы сделали первый привал. Берег реки, низенькая изгородь, чьи-то сады. Купанье в знакомой воде с незнакомого берега. Все довольны переходом и приятно удивлены тем, что я не устал, а я – больше всех. Собираем хворост, разводим костер, девочки варят кондёр – не то суп, не то кашу из пшена со свиным салом. Не то очень густой суп, не то жидкую кашу. Сейчас я почувствовал вкус его и вкус деревянной ложки. К вечеру мы были в Каменномостской, и я увидел тот самый цвет воды, что подействовал на меня с такой неожиданной силой, когда я узнал его впервые. И чувство это не обмануло, оказалось стойким, вспыхнуло с той же ясностью. Мы посидели над скалой, с которой, по преданию, черкесы сбрасывали пленных. Потом решили спуститься к самой воде, что я совершил со страхом. Тропинка была узкая и в одном месте совсем исчезала, пришлось делать не то шаг, не то прыжок, скорее прикасаясь к скале, чем держась за нее. Вода не теряла своей прелести внизу, была еще прекрасней и, как всегда, тянула за собой. Юрка швырнул, столкнул, скатил [бревно] с острого и крутого камня в как бы построенный из синей воды, как бы неподвижный и страшно напряженный порог, стоящий над плоским камнем. Бревно исчезло, потом вынырнуло, стоя, да так, стоя, и пронеслось между всеми теснинами и стремнинами и плавно вынеслось на берег, в заливчик пониже. И Юрка забегал по берегу, запрыгал с камня на камень, делая вид, что сейчас бросится в воду, чтобы так же выплыть в заливчик между скалами. Обратно идти было так же страшно, но другого пути не было. И мы благополучно поднялись наверх, и загорелся вечерний костер, и запах дыма навеки соединился с тех пор с дорогой.
9 августа
Когда в Комарове жгут весной листья, прибирают во дворах и на пустырях, я сразу пробуждаюсь от сегодняшнего дня и чувствую дорогу, ночлег в горах, не унизительную, будничную, а праздничную тревогу тех дней. Мы спали, завернувшись в одеяла. Я все не мог закутаться, и девочки Соловьевы заботливо помогли мне. Я болтал, смешил всех. Лицо горело, я был опьянен и все не давал спать никому, да и никто не хотел спать. Со стороны мы, вероятно, показались бы сумасшедшими, вот почему я так снисходителен к компаниям наших сверстников (сверстников – по тогдашнему нашему возрасту), которые так шумно, взявшись под руки, шагают по комаровским улицам или хохочут, заняв скамейки друг против друга, в электричке. Хохочут во что бы то ни стало. С утра мы двинулись в путь. Степная дорога осталась позади. Даховское ущелье с бешеной синей Белой на дне. Лесные склоны до неба. Вот ради чего мы отправились путешествовать – это уже мы в горах… Теперь мы углублялись в горы. В Геймановской сторожке – почему она носила имя старого кавказского генерала Геймана, не помню, – мне ужасно хотелось есть. Девочки пекли тут пирожки, и мне казалось, что время, когда они будут готовы, никогда не придет. Мы были уже на территории заповедника, где зубры доживали мирно последние годы, последнее десятилетие своей истории. В двадцатых годах их истребили браконьеры. А пока сторож рассказывал, как зубры любопытны: бегут на шум шагов – и добродушны: никогда не бодаются.
10 августа
И сторож показал нам фотографии, сделанные каким-то путешественником возле сторожки в лесах. Старый бородатый бык удивленно глядит из-за дерева. Стадо зубров бредет лесом. К вечеру, если я не забыл сроков, пришли мы к Желобу. Так называлась узкая расщелина между скалами. В начале своем ущелье это было настолько узким, что дикие козы легко перепрыгивали с одной его стороны на другую. Это наблюдали Соловьевы в одну из своих предыдущих экскурсий. Дальше Желоб несколько расширялся. В проходах между скалами открывался вид на лежащую глубоко внизу долину и горы вокруг. Ночью мы вышли на скалу и, лежа над долиной, глядели, глядели. В небе стояла полная луна, горы чернели на светлом небе. Нет, не чернели. Они были темнее неба, мы видели только зубчатые их очертания – остальное исчезало в темно-серой тени. Они казались легкими, и мы понимали, что это чудо, что это только на несколько часов совершилось с ними. И эта ночь осталась верной спутницей на всю жизнь. И уже много позже в разговорах, желая определить нечто несомненно прекрасное, Юрка говорил значительно: «Это как тогда на Желобе». Тут недалеко впервые увидел я кош – черкесскую пастушескую хижину. Коровы, которых выгоняли на подножный корм, отвыкали за лето от людей. Увидев нас, они очень удивились. Они ходили за нами следом. Остановишься – и коровы остановятся, пойдешь – и они идут. Глядят несердито, опустив голову, исподлобья. Пастухи, узнав, что мы знакомы с Христофором Шапошниковым, пригласили нас в кош, угостили сыром. Христофора они необыкновенно уважали. Обратный путь оказался еще легче для меня – я верил в себя.
11 августа
У папы на письменном столе лежали длинные полоски бумаги для рецептов. Вот на них-то я и писал свои стихи, писал часто, чуть не каждую ночь – ведь они давались мне легко. И становились все неуклюжее – как я убедился в 23 году, перечитывая их с ужасом.
20 августа
Мне купили костюм, готовый, у Богарсукова. У Чумалова купил я галстук и воротничок 37-й номер. Мы собираемся в Москву. Из Коммерческого института ответа все нет, но у папы отпуск, и он решает провести его в Москве, поработать у кого-нибудь из светил-хирургов, что тогда было принято, и заодно пристроить меня куда-нибудь, если не в Коммерческий институт, то к Шанявскому, чтобы год не пропадал. И мы едем. Незадолго до этого произошло крушение на станции Сосыка. Мы видим обожженную траву под откосом. Обломки вагонов. В первый раз в жизни попадаю я в вагон-ресторан – и радуюсь блеску судков, огромным окнам, мягкому стуку колес. Мы едем в III классе, и я считаю это вполне понятным, даже хорошим тоном. Так ездят и Соловьевы, и Истамановы, и даже Зайченко, люди состоятельные…
Едем по Курской дороге.
21 августа
Я впервые в жизни вижу высокие белые вокзалы, и они кажутся мне чужими, неприветливыми, да и папа говорит, что Владикавказская железная дорога куда богаче и благоустроенней. Тоскливое чувство – вокруг новый мир, в котором я одинок, – не исчезает, а усиливается в дороге. Маленькая станция, раннее утро. Странный крик детских голосов. Они повторяют одно и то же слово, и знакомое, и незнакомое: «Млачка, млачка, млачка». Я выхожу на площадку и вижу: с десяток девочек с кувшинами, бутылками, кружками продают молоко. На другой, такой же маленькой белой станции с желтеющими деревьями я был озадачен незнакомым птичьим криком. Кто-то объяснил мне, что это галки. Рассвет. Я стою на площадке вагона и слышу торопливые, как бы негодующие выкрики, слышу возню в ветках, хлопанье крыльев и удивляюсь чужому миру. Десять лет я не выезжал с юга, и каких десять лет – от семи до семнадцати. В Москву мы приехали вечером и остановились на Тверской в меблированных комнатах «Мадрид» или что-то в этом роде. Помещались они во втором этаже, примерно на том месте, где театр им. Ермоловой. Утром вышел я взглянуть на Москву. Чужой, чужой мир, люди, люди, люди – и всем я безразличен. Отвратительная суета, невысокие грязные дома, множество нищих, жалкие извозчики одноконные, с драными пролетками. Я спустился к Охотному ряду – грязь, грязь, и дошел до Большого театра. Вот он мне понравился…
В Коммерческом институте чужие и враждебные канцелярские служащие порылись в каких-то списках и сообщили: «Не принят за отсутствием вакансии».
22 августа
Кажется, Малая Бронная была продолжением Владимиро-Долгоруковской, вела к Тверскому бульвару. Маленькие лавки, маленькие киношки, пивные, серый полупьяный, в картузах и сапогах, народ, вечером никуда не идущий, а толкущийся на углах у пивных, возле кино. Босяки, страшные, хриплые проститутки – тут я их увидел на улице впервые. Так вот она, столица! Вот предел мечтаний майкопской интеллигенции, город людей, из которых что-то вышло. Обман, мираж, выдумка старших. Где сорок сороков? Бедные, подмокшие на осенних дождях церквушки теряются среди грязных домов.
23 августа
Храм Христа Спасителя поражал своим невиданно огромным золотым куполом, но я знал, что знатоки не одобряют его и считают просто несчастьем, что витберговский проект не был осуществлен[244] . Я пошел в неряшливо содержащийся Кремль. По его булыжной мостовой трещали колеса пролеток, проезжали ломовики с рогожными тюками, что казалось мне тоже признаком чисто московским. Рогожное богатство. Не понравился мне и дворец. Старая Русь и николаевская перемешаны, как в московской солянке. Общее было – рогожная, неряшливая, осенняя московская окраска. И духа истории поэтому не ощутил я в Кремле. Старая – отодвинута, новая – в Петербурге. Соборы внутри были как бы в дремоте, народу нет. Святые глядят отчужденно, не то что в Жиздре. Только Василий Блаженный привел меня в чувство, разбудил ненадолго. И внутри – узкие переходы, узорная роспись стен.
Он – не спал. В Кремле я бывал почти каждый день. Я попытался понять, откуда я глядел десять лет назад на дворцовую крышу? Где я увидел такую массу печных труб? И не увидел. Об истории больше не думал, не мучил себя. Это был Кремль 13 года, площадь Москвы, огражденная древними, но живущими сегодня, сегодня стенами. Узнав, что в одном из кремлевских зданий заседает Окружной суд, я зашел туда. В маленьком зале слушалось дело о краже. Молодой, но плешивый, длинный, узкоплечий адвокат, на которого я смотрел с уважением, с благоговением – московский адвокат! – оказался дурачком, в чем я не сразу признался себе. Присяжные были солидные, пожилые, седые, в визитках. Одному из присяжных во время складной, но ничтожной речи защитника стало дурно, что этот пшют, судя по улыбке, приписал мощи своего красноречия. Подсудимого оправдали. Я шел домой в тоске. Горевал.
24 августа
Я тосковал и горевал, потому что с каждым днем становилось яснее, что нет на свете той Москвы, о которой я привык думать как об окончательной, абсолютной инстанции, более высокой, чем Петербург, сборище совершенств во всех областях. На домах, знакомых по фотографиям, по открыткам, – точнее, на знаменитых домах Москвы штукатурка облупилась, темнели пятна, казались дома озабоченными, служащими. Только дом Пашкова – Румянцевский музей – казался на своем холме прекрасным[245] . Печально я шел из Окружного суда на Владимиро-Долгоруковскую. На углах лоточники продавали виноград – новое разочарование. Ташкентский виноград по сравнению с нашим, майкопским, казался мне деревянным, не случайно засыпанным опилками, которые с трудом отмывались. Взяв у отца рубль, отправился я однажды в театр. Я, судя по Майкопу и Екатеринодару, считал, что подойдешь к кассе, купишь билет – и все. Но всюду все билеты были проданы. Маруся Зайченко рассказывала, что в Художественном театре билеты всегда проданы, но все было продано и у Корша, и в опере Зимина. Только у Незлобина мне удалось купить билет на галерку. Шло «Горячее сердце». Хорошо, но не слишком, почувствовал я с первых же явлений. Почему? Я знал, что мечта каждого актера служить в Москве. Почему же столько средних артистов ходит по сцене? Мне понравился Нелидов, но Лихачев! Какой же это Вася? Что это значит? Что за несправедливость, глупость, недоразумение? В конце спектакля вместе с актерами вышел кланяться лысоватый, улыбающийся человек. Только утром из «Русского слова» я узнал, что это был режиссер спектакля Зонов. Я, сам того не подозревая, попал на премьеру. В рецензии Зонова хвалили, называли талантливым, и я пожалел, что не рассмотрел его получше. Борис Григорьевич Вейсман[246] пригласил нас обедать. В Москве он процветал. Занимал он большую квартиру где-то на углу Тверской и одного из переулков, идущих к Дмитровке.
25 августа
Я шел к веселому, приветливому Вейсману, которого помнил с 1909-го (кажется) так, будто видел его вчера… Вейсман, вырвавшийся из майкопской жизни в другой мир, встретил нас приветливо, но в обращении его я угадал ту же враждебность, что мучила меня в московской толпе, что разлита была в осеннем, туманном московском воздухе. Мы были чужие тут. Я знал, что Вейсман развелся с Анной Ильиничной, рассказывали, что его новая жена – красавица. Но эта пышная московская женщина была нам тоже чужда. Когда за обедом подали артишоки, папа, вместо того чтобы поглядеть, как их едят другие, сказал громко: «Объясните, как с этой штукой обращаются». А Вейсман, вместо того чтобы так же весело и шутливо ответить, стал объяснять без улыбки, что листики обрываются и съедается их мясистая часть. Не улыбнулась и его жена. Вейсман со своей квартирой и красавицей женой принадлежал к тому миру, который так страшен был мне; более того, он являлся одним из хозяев этого мира. Он рассказал за обедом, как они были на днях в Большом театре. Пел Собинов, и его освещали прожектором. Они сидели в ложе бенуара. Они стали громко возмущаться безвкусицей этого приема. Директор театра, который сидел в ложе рядом, встал и вышел, и прожектор погас. Ха-ха! Встал, вышел и приказал погасить дурацкий прожектор!
26 августа
В мою сторону хозяин московской жизни, по слову которого директор вставал и бежал гасить прожектора на сцене театра, и не глядел. Через несколько дней он позвонил к нам на Владимиро-Долгоруковскую. Папы не было дома. Вейсман сказал, что сожалеет об этом, – у него есть место в ложе в Большой. «Ах, жалко, жалко!» – повторял он задумчиво. Я ждал, что он позовет меня, но не дождался. И больше мы никогда в жизни не разговаривали и не видались. Но краткая эта встреча прибавила к темной той московской осени еще одну тучу. Нет, счастье отвернулось от меня, просвета нет. Я в чужом городе, где такие, как я, никому не нужны. И я все бродил, бродил по улицам. На Тверской, примерно там, где теперь почтамт, один из домов почему-то выступал фасадом вперед до середины панели. Здесь образовывался угол, особенно теснилась толпа прохожих, и на зеленой стене, перегораживающей панель, висела низко вывеска-реклама нескольких магазинов с зеркалом посредине. Сколько раз видел я свое унылое лицо в этом зеркале, а московская толпа колебалась, шагала, теснилась на ходу вокруг. «Да, тут знакомого на улице не встретишь!» – повторял много раз папа с некоторой даже гордостью за Москву, а меня это как раз и ужасало. Познакомились мы еще с одними хозяевами Москвы, совсем другого рода. Известный акушер и гинеколог (родильный дом на Молчановке до сих пор носит его имя) – доктор Григорий Львович Грауэрман приходился отцу двоюродным братом. В студенческие годы был он репетитором в семье Сатиных, да так и остался в этой известной дворянской, интеллигентской, московской семье на всю жизнь. О нем Белочка[247] говорила как о человеке, «из которого что-то вышло». Блеск его имени увеличивался еще и тем, что Рахманинов был племянником Сатиных.
27 августа
Дом у Страстного монастыря. Позади Страстного монастыря. Второй или третий этаж. Высокий, выше моего высокого отца, стройный, аристократический Григорий Львович, молчаливый и сосредоточенный. За ним неотступно следует пес, шерстью напоминающий сеттера, но гораздо более крупных размеров. Григорий Львович так же чужд, глядит на нас так же издали, из другого мира, как и Вейсман, но мне это менее обидно. Григорий Львович просто занят, озабочен. Молчаливостью и повадками своими напоминает он мне Василия Федоровича Соловьева. За обедом мы знакомимся с четой Сатиных. Он низенький по сравнению с Григорием Львовичем, отяжелевший человек с седыми короткими волосами. Она седая представительная дама. Но если бы меня спросили, кто из трех этих людей принадлежит к старой, интеллигентской дворянской семье, я сразу указал бы на Григория Львовича. За обедом, не помню по какому поводу, разговор заходит о «Сережиных концертах». Говорят о них так просто, что я не смею верить, что речь идет о Рахманинове. Полушутя, когда речь заходит о газетах, Григорий Львович говорит, что привык к «Русским ведомостям»: «Русское слово» я не умею читать». Темная, тяжелая, солидная мебель, степенные, солидные люди. Возвращаясь домой, я не был обижен, как после обеда у Вейсманов, но все же огорчен. И среди внушающих доверие москвичей мне места не было.
29 августа
Я увидел афишу, что в Политехническом музее писатель Марк Криницкий прочтет лекцию на тему о слове (точное название забыл). Бородатый и нервный человек доказывал не слишком красноречиво, но без признака робости, что слово бессильно, передает подлинный смысл приблизительно и несовершенно. Огромная аудитория музея была наполнена до отказа и слушала внимательно. Я был полон двумя чувствами. С одной стороны, я Криницкого презирал, так как не читал ни строчки его и знал, что его не принимают всерьез. С другой стороны, я необыкновенно уважал его и разглядывал, как чудо: все-таки он был настоящий писатель. Книжки его печатались, я видел их в книжных магазинах и железнодорожных киосках. Я не сомневался, что все московские писатели придут на лекцию, и жадно искал их в первых рядах. Особенно хотелось мне видеть Бунина. Одна строчка его стихов сыграла в моей жизни тогдашней роль вроде вышеуказанной блоковской. Я прочел у Бунина: «Курган был жесткий, выбитый, кольчуга колола грудь»[248] .
30 августа
По этой строке я влюбился в него, и любовь эта не ослабела с годами, нашла подтверждение.
Бунина не было. Так как после лекции должен был состояться диспут, то создался президиум. В него не избирали, а сам Криницкий, обращаясь в публику, называл известных лиц, звал на эстраду. Одни отказывались, другие шли. Увы! Среди этих известных лиц я не знал ни одного. Кто-то из них выступал, кто-то сидел в президиуме молча. Криницкий стал просить, чтобы выступил сухенький, маленький еврей с неподвижным лицом, сидящий в первом ряду. Он отказывался. «Выступите!» – попросил Криницкий, и его лицо сложилось в гримасу, которую я понял так: «Ну что вам стоит! А мне это нужно». Еврей с неподвижным лицом согласился, маленькая его фигурка появилась на кафедре, и вдруг все с тем же неподвижным лицом он заговорит страстно, быстро, легко и литературно, за что я тотчас же осудил его. За литературность. Ко времени диспута я уже пробрался к самой трибуне. Я глядел на оратора, на зал и вынужден был все-таки согласиться с тем, что речь держит мастер своего дела. Аудитория притихла, стулья не скрипели, все заслушались. Маленький еврей, фамилия его оказалась Абрамович, взял «слово» под защиту: «Словами Камиль Демулен поднял народ на взятие Бастилии, слова спасают жизни и призывают смерть. Без слов у нас не было бы самого понятия „точность“ – и так далее и тому подобное. Успех Абрамович имел огромный. Я, презирая Криницкого, тем не менее в глубине души верил больше его косноязычию, чем лихой, блистающей скорей клеенчатым, чем лаковым блеском речи его оппонента. Криницкий в заключительном слове держался своего. „Это для вас – (и он назвал Абрамовича по имени-отчеству) – слова – друзья. А для меня…“ и так далее. Приближался конец папиному отпуску. Он все это время работал у хирурга Герцена.
31 августа
Незадолго до его отъезда отправился я в университет Шанявского на Миусскую площадь. Там я записался на лекции юридического факультета. Мне очень понравилось в коридорах здания, показались необыкновенно уютными диванчики в углублениях за колоннами в холле второго этажа. Там свисали с потолка лампы в кубических матовых фонарях. С одной из лестниц в длинное окно увидел я Миусскую площадь – унылую, осеннюю, брандмауэры домов, закат за домами. Рамка придавала этому виду особую выразительность, примирившую меня с его московской окраской. В другое окно (кажется, из холла второго этажа) виднелся второй корпус университета, или второе его крыло. Я вглядывался в огни этого корпуса с особым уважением: говорили, что там работает профессор Бахметьев, болгарин. О его опытах по анабиозу рассказывали чудеса. Увидел я библиотеку, лекционные залы. Одна аудитория была очень велика – круто падающим амфитеатром напоминала она мне большой зал Политехнического музея. Но была она парадна, нова. Стиль модерн, в котором был выстроен университет Шанявского, очень нравился мне. И был-то он выстроен недавно, году в 10-м, вероятно. В канцелярии были вежливы, но я чувствовал, что не нравился строгим девицам, записывающим меня, как не нравился Вейсману, Грауэрману, Сатиным, Москве вообще. Мы отправились с папой искать комнату и нашли ее на 1-й Брестской у площади Брестского вокзала, он же Александровский, ныне Белорусский. Прежняя наша комната на Владимиро-Долгоруковской была для одного меня велика. Новая комната оказалась длинной, кишкоподобной, хоть и чистой. В углу у окна стоял дамский письменный столик с затейливым стеклянным шкафчиком модерн.
1 сентября
Крошечный столик с маленьким шкафчиком со стеклянной дверцей, поделенной на четырехугольнички. Лампочка в виде декадентски вытянутой бронзовой девушки. Собрание сочинений Уайльда в издании Маркса и Куприн в том же издании. Тетрадки. Полоски бумаги со стихами и тоска, тоска, одиночество, одиночество. Сколько часов просидел я у этого столика, в тысячный раз перечитывая Куприна и Уайльда, которых купил у букиниста, или сочиняя отчаянные письма Милочке, или стихи и даже рассказы. Любил я Уайльда и Куприна? Не очень. Но они подвернулись мне и не беспокоили меня в моей знаниефобии. Занятия в университете Шанявского шли вечерами. И я убедился в ужасе, что не могу слушать профессоров – и каких! Мануйлов, читающий политическую экономию, Кизеветтер, о котором говорили, что он второй оратор Москвы (первым считали Маклакова), Хвостов, Юлий Айхенвальд (критик) и многие другие внушали мне только тоску и ужас, и я не в силах был поверить, что их дисциплины (тут я впервые услышал это название) имеют ко мне какое-то отношение… Я не имел ни малейшей склонности к юридическим наукам и чем ближе их узнавал, тем более ненавидел. Папа уехал. Я проснулся утром в своей комнате с чувством свободы. Я сам себе хозяин! Сделав гимнастику, я вышел.
2 сентября
Вся Москва тогда была покрыта сетью молочных магазинов Чичкина и его конкурента Бландова. Чуть ли не на каждом квартале в облицованных кафелем (белым изнутри, зеленым с улицы) магазинах продавались молочные продукты и колбасы. В утро первого дня самостоятельной моей жизни я вышел на Тверскую и купил хлеба, газету и, подумавши, коробочку конфет – помадки в гофрированных белых бумажных одежках. Тут же меня озарила великая мысль, что обедать меня тут никто не может заставить. Точнее, есть первое. И я купил фунт колбасы у Чичкина, решив, что это и будет моим обедом. Горничная, с огромными светлыми ненавидящими глазами, молча принесла мне самовар. Я долго-долго пил чай, ел, причем съел нечаянно и целый фунт колбасы, принесенный на обед. Прочел «Русское слово», и в положенный час явился учитель латинского языка, еще одно московское горе. Предполагалось, что, выучив в полгода гимназический курс латыни, я сдам его в декабре при Московском учебном округе, где такие экзамены принимались. (Весной их разрешалось сдавать при любой гимназии.) Учителя папа нашел по газетному объявлению. Это был сердитый еврей с бородкой сероватого цвета. Когда он закрывал рот, бородка до странности сильно приближалась к усам, как это бывает с беззубыми. Но у учителя моего все зубы были на месте. Презирал он меня откровенно и не без основания: я не умел учиться. А высокая школьная техника уклонений и обманов не годилась для взрослого парня, встречающегося с учителем один на один. В течение часа, раздражаясь, захлопывая рот так, что усы и бородка смыкались в одно целое, требуя, и объясняя, и насмехаясь, и пожимая плечами, он ругал меня и удалялся, наконец, причем я, в сознании вины своей, не радовался даже этому.
4 сентября
За несколько дней до папиного отъезда приехала в Москву Маруся Зайченко. Поселилась она в Георгиевском переулке на Спиридоньевке. Она встретила меня приветливо, но тут я впервые ощутил разницу между летней и зимней дружбой. Она была озабочена курсами, музыкой, московскими своими делами. В Москве она была своя, пришлась ко двору, и ей не в силах я был втолковать, чем я тут огорчаюсь и мучаюсь. Но она видела, что в Москве я нелеп, и все уговаривала опомниться, взять себя в руки, найти себе тут место. Она водила меня по московским переулкам, чтобы показать, в чем особая прелесть города. И в самом деле – я полюбил Гранатный переулок и до сих пор не могу забыть его. И в первый день моей самостоятельной жизни я отправился, огорченный учителем, туда, в Гранатный. Мечтать. Собаки лечатся травой, а я успокаивал угрызения совести своей хождением. Сначала я останавливался у старинного особняка с колоннами. Одни говорили, что он уцелел от московского пожара, другие – что это позднейшая подделка. Правы оказались первые, но в 13 году я не знал, кому верить, и это раздражало меня. Я выбрал для мечтаний особняк на другой стороне улицы. И сегодня я представлял себе в подробностях, как я в этом особняке живу, окруженный почетом и славой. Ранними осенними сумерками побрел я в университет Шанявского. Деревянные Тверские-Ямские. На одном из самых печальных деревянных бедных домов мемориальная доска сообщает, что жил здесь народный поэт Дрожжин. И вот я в аудитории, с тоской еще более острой, чем в училище, жду перерыва между лекциями. И ничего, ничего не слышу. С почтением и презрением гляжу я на сосредоточенные лица профессоров: «Дисциплины ваши не то что противоречат, а несоизмеримы всему моему миру». В перерыве я сижу на черном диване в нише за колоннами в холле второго этажа в тоске и одиночестве. И не иду на лекцию.
5 сентября
И возвращаюсь домой. И вижу, что у швейцара на столе уже лежит вечерняя почта, но конверта со знакомым, таинственным и прекрасным, острым почерком – не обнаруживаю. Я угадываю это сразу, едва взглянув на почту, и тоска уже открыто мертвой хваткой берет меня за горло. Таков был первый день моей вольной жизни в Москве. Не привыкший к систематическому труду, изнеженный мечтательностью, избалованный доброжелательными и терпеливыми друзьями, югом, маленьким городом, где половину прохожих я знал если не по имени, то в лицо, я оказался один – и при этом безоружным и оглушенным силой своей любви – в сердитой Москве. И понемногу я стал умнеть. Прежде всего я заметил, что я окружен людьми несчастными. Толкущиеся у пивных, у кино москвичи в картузах и сапогах томились и ругались, иногда и дрались, собирая вокруг молчаливую толпу. Вот женщина несет узел, который ее задавил. Она присела на выступе забора. Терпит. Счастливыми казались только молочно-розовые приказчики у Чичкина и Бландова да охотнорядские молодцы. И я стал думать – думать, вероятно, впервые в жизни. Однажды, сидя на черном диванчике в холле второго этажа и глядя на таинственные окна бахметьевской лаборатории, я вдруг понял, как легко человек понимает уже открытое, найденное, названное и как медленно открывает, идет вперед. И ужаснулся. Я думал невесть как ясно и ново, но думал. Только не на лекциях. Понимал я только историка Фортунатова да критика Айхенвальда. Первого любил, а второго ненавидел. Я тогда уже понял, что у писателя и критика разные виды сознания, нигде не сходящиеся, противоположные. Больше общего можно найти между математиком и писателем. Айхенвальд весьма рассудочно старался быть поэтичным. Когда он мягким и вкрадчивым голосом говорил: «Слог Гончарова напоминает ряд комнат, устланных коврами», – я испытывал отчаянье.
6 сентября
И уже тогда ужасало меня название книги его: «Силуэты русских писателей». Силуэты! Да еще в дополнение ко всему фраза о Гончарове, слог которого напоминает ряд комнат, полностью находилась и в его книге. А я с безграничной требовательностью человека из маленького города, мальчика из маленького города, ждал от профессора чудес. И, не признавая, я все же прятал это в глубине души. Я испытывал отчаянье: «И тут ничего хорошего!» Но звание «профессор» имело для меня непререкаемое обаяние. В отрицании моем не было уверенности. Был страх: может быть, все-таки это я ничего не понимаю. Кажется, в этом же году Айхенвальд обидел Белинского, назвав его «умным мальчиком» или что-то в этом роде, а Сакулин гневно за него вступился. Где я слышал Сакулина? Это было имя еще более известное, чем Айхенвальд, во всяком случае более солидное, почтенное, академическое Но и он показался мне до такой степени чужим! К Белинскому у меня было свое отношение, я его ощущал живым человеком, любил, несмотря на то, что он был критиком. Он жил в моей душе не только тем, что написал, а тем, что рассказывалось о его жизни. Словом, к моему отношению к Белинскому, так же как и ко мне лично, споры Сакулина с Айхенвальдом отношения не имели. Мне было неинтересно. Я поглядывал на Сакулина и все старался угадать в нем признаки выдающегося молодого ученого. И не мог угадать. А Айхенвальд на горячую речь Сакулина отвечал мягко. Сказал только, что в своем выступлении Сакулин оказался гораздо более критиком-импрессионистом, чем он, Айхенвальд. Впрочем, возможно, что спор о Белинском разгорелся позже, когда я уже был студентом настоящего университета. Но отношение мое к обоим спорщикам и предмету спора было именно такое, как я рассказываю. Зато Фортунатов мне ужасно нравился. У него была кроткая, вразумительная стариковская речь. Вразумительность подчеркивалась еще и тем, что у него была привычка повторять концы фраз, как бы диктуя. Седая бородища.
7 сентября
Выпуклый лоб. Седые волосы. Мне всегда казалось, что большая борода скрывает, прячет подлинное лицо еще действительнее, чем маскарадная полумаска. Скрыты такие определяющие человека черты, как рот и подбородок. Поэтому Фортунатов походил и на Дарвина, и на Уоллеса[249], но сквозь эту маску так и светилось добродушие, которого жаждала моя душа. Ученый он был, по слухам, второстепенный, но огромная аудитория на лекциях его была полна. Лектор-то он был первоклассный. Однажды в самой середине лекции из рядов слушателей раздался вдруг чей-то громкий, возбужденный голос, выкрикивающий короткие непонятные фразы. На таинственного нарушителя порядка зашипели, и он умолк. Через некоторое время, говоря об интендантах в середине XVIII века во Франции, Фортунатов рассказал, что короля еще можно было обидеть, но интендантов задевать не разрешалось. И снова чей-то голос, чудовищно врываясь в чинное, добродушное стариковское журчание профессорской речи, прокричал: «Нельзя ли оставить интендантов в покое!» На этот раз множество голосов закричало в ответ: «Замолчите! Вон из аудитории! Не мешайте слушать!» Какой-то грузин, судя по акценту, выбежал на ступеньки в проходе между рядами и закричал: «Это провокация! Университет хотят закрыть! Не поддавайтесь на провокацию!» Когда установилось спокойствие, Фортунатов тем же журчащим голосом продолжил свою лекцию и довел ее до конца. В перерыве выяснилось, что кричал сумасшедший, которого увезли. С лекции я пошел к Марусе Зайченко, горя желанием рассказать ей о событии, но не застал ее дома. Больше происшествий не было. С каждым днем мучительнее было мне слушание лекций, не имеющих отношения ко мне. С каждым днем хуже делалась погода. А тут еще выяснилось, что я не умею обращаться с деньгами. Папа присылал мне по тому времени очень много: пятьдесят рублей в месяц. И они расходились у меня неведомо куда с загадочной быстротой.
9 сентября
И вот, наконец, мне достался каким-то чудом билет в Художественный театр. Кажется, кто-то из многочисленных знакомых Маруси Зайченко не мог идти в этот день на спектакль, и мне уступили билет как новому человеку, которому пора приобщиться к главному чуду города. Трудно представить, каким благоговейным почетом окружен был в те годы Художественный. Слово «театр» не всегда прибавлялось, когда называли его. «Был вчера в Художественном. Достал билеты в Художественный»…
Итак, я шел в Художественный. С утра я готовился к этому чуду: то есть совсем уж ничего не делал. И глупость моя и полное неумение жить привели к тому, что я в конце концов так плохо рассчитал время, что опоздал, подумать только – ухитрился опоздать в театр, который славился той особенностью, что опоздавших в зал не пускали. Вежливый пожилой капельдинер объяснил мне не без удовольствия, что придется обождать антракта. Шел спектакль «Николай Ставрогин», инсценировка «Бесов». Незадолго до премьеры в газетах появилось письмо Горького, полное упреков по адресу театра[250] . Как можно инсценировать реакционнейший роман Достоевского? Режиссеры отвечали[251] . Вся эта полемика была в те дни так же чужда мне, как спор Сакулина с Айхенвальдом. Я просто несколько удивился, что у Достоевского могут быть реакционнейшие романы, и не слишком поверил этому. В спектакле я пропустил только первую сцену, на паперти, – как я узнал потом, одну из лучших. Остальное произвело смешанное [впечатление] из-за двух развившихся в Москве чувств – из недоверия и желания верить. Безжалостный и не знающий скидок, суровый, выросший в стороне от Москвы – один, так сказать, демон и другой – так страстно желающий восхищаться. Я не смотрел, а страдал.
10 сентября
Качалов мне показался маловыразительным, против чего демон почтения и славопочитания поднял такую бурю, что я сдался. Остальные тоже казались мне просто приглушенными, а не правдивыми. Исключение представляла Лилина, которая играла хромоножку удивительно и одна только походила на героиню Достоевского. Произвел на меня впечатление и Берсенев – Верховенский-младший. Не помню, кто играл Шатова[252], но самые страшные сцены спектакля вызвали у меня не ужас, а смущение. Вот и еще одно московское чудо зашаталось! Но через некоторое время, когда я проходил Камергерским переулком, у самых дверей театра остановил меня мальчик и предложил билет на «Вишневый сад». Несмотря на цену (три рубля), я купил билет. Место оказалось удивительным – в партере, как раз против прохода, в самом центре. И тут оба демона умолкли, душа у меня открылась, и я уверовал. Фирса еще играл Артем, а Епиходов был неожиданный: Чехов[253] . Понравился он мне необыкновенно – так я увидел этого удивительного артиста впервые. Сцену со сломанным кием, когда он беспомощно бунтует, зная, что ничего из этого не выйдет, просто от отчаяния, провел он так, что я с удивлением подумал: «Так вот, значит, как можно играть?» Так я впервые в жизни увидел артиста, лучшего из всех, каких я знал. Смотрел я третьим спектаклем «Синюю птицу», которая понравилась, но меньше.
11 сентября
Я полюбил Третьяковскую галерею, она казалась мне дружественной во враждебной Москве. Правда, в репродукциях картины нравились мне больше, чем в подлинниках, но я скоро привык к ним. Я ходил туда часто, каждый раз, когда тоска особенно сильно меня душила. Невысокий красный кирпичный дом каждый раз как-то успокоительно взглядывал на меня. Он стоял во дворе скромно. Он меня не разочаровал – я ничего не знал о нем заранее… Однажды я прочел афишу футуристов. Вечер должен был состояться на Дмитровке – забыл название учреждения, кажется, Литературно-художественный кружок[254] . У них над домом, у кружка этого, была на фронтоне мозаичная с золотом, как мне казалось, претенциозная вывеска. В афише запомнились слова: «Доители изнуренных жаб». Я купил билет. Через туман и тревогу свою, как издали, без возмущения и восторга смотрел я на картины глухого, серо-синего тона с полосами и лучами, выставленные вокруг кафедры в зале. Чьи – забыл.
12 сентября
В картинах этих ничего я не почувствовал, да и не мог почувствовать, но угадал, что у художников есть какая-то своя задача, и вовсе не наглость, безграмотность, стремление к саморекламе заставляет их писать таким именно образом. Рядом со мной стоял человек в визитке, адвокатского типа. Он смотрел на картины серьезно, без осуждения, как мне показалось. Я подумал наивно: «А вдруг эти картины можно легко объяснить?» И попросил своего соседа сделать это, но он пожал плечами, и я понял, что он, как и все газеты, считает картины безграмотными, наглыми, саморекламными. В вечере участвовали Маяковский, братья Бурлюки и не помню, кто еще. Зал, небольшой и неуютный, был неполон. Народ подобрался вялый, но явно недоброжелательный. И все участники вечера, кроме Маяковского, чувствовали это. Они эпатировали буржуа несвободно. Им было неловко, и только Маяковский был весел. Играл. Не актерски играл, а от избытка сил. Рост, желтая кофта с широкими черными продольными полосами, огромная беззубая пасть – все казалось внушительным и вместе с тем веселым. Понравились мне и его стихи. И еще стихи Бурлюка-младшего – рослого блондина в студенческом сюртуке. Маяковский был храбр, остальные храбрились, и чувство неловкости и напряжения все не проходило. В середине вечера среди публики выросла вдруг стройная фигура молодого человека во фраке. Столь же напряженно, но решительно храбрясь, стал он выкрикивать обвинения против устроителей вечера. Обвинял он их в самозванстве. Настоящие футуристы, эго-футуристы, – в Петербурге. Маяковский, стоя на трибуне, жестами пытался остановить оратора. «Здесь только один настоящий поэт – Маяковский», – выкрикнул оратор. Тогда Маяковский развел руками: тут, мол, не поспоришь – и удалился. В дальнейшем выяснилось, что фамилия оратора – Вадим Шершеневич. Выступление его зал выслушал в гробовом молчании. Вообще весь этот бунтовской вечер казался любительским. Кроме Маяковского.
13 сентября
Только Маяковский и в самом деле не боялся зала. Время шло, выпал снег, извозчики выехали на санках. Санки были такие узкие, что дам полагалось поддерживать за талию. Седоку полагалось. Время шло, а я не привыкал к Москве. Напротив – окончательно ее возненавидел. Одиночество душило. А новые знакомства не завязывались да и только. Однажды у Шанявского я поспорил со швейцаром, который во что бы то ни стало хотел подать мне пальто. Мой сосед, щупленький, со впалыми щеками, слушал этот спор, улыбаясь. И к моему величайшему удовольствию, заговорил со мной, когда вышли мы на темную и мокрую Миусскую площадь. Разговор было завязался, и спутник мой сказал: «Вы, я вижу, тоже не любите, когда швейцар подает вам пальто». Я признался и объяснил это тем, что у меня не было денег, чтобы дать на чай. Спутник мой потемнел и сказал сердито: «Не в том дело! Противно это лакейство в человеке». – «И это, конечно, тоже», – торопливо подтвердил я, но было уже поздно. Спутник мой сухо попрощался со мной, и это знакомство не состоялось. Я вечерами с тоской глядел на окна противоположного корпуса. Тут семья сидит за самоваром, там дети готовят уроки, а я один. Хозяйка была немка с крашеными щеками и недоумевающими глазами; хозяин, плешивый немец, вспоминается мне всегда со спины, без пиджака, в помочах. А лица его я как будто и не видел. Знакомство с ними я и не пробовал завести. Горничная меня ненавидела. И вот я жил и жил в тоске и одиночестве. Никто не говорил мне: «Пойди постригись», и я ужасно оброс волосами. Калоши прохудились, и одна из них упала, когда я садился на трамвай, да так и осталась лежать на мостовой.
16 сентября
Все это вместе: отвращение к лекциям, одиночество, неудержимые мечтания о будущем счастье, сознание собственной слабости и любовь – любовь, все заслоняющая, мучительная любовь, – привело к тому, что я стал опускаться. Я сказал учителю, что заниматься с ним не буду больше. Распрощался с университетом Шанявского. Вставал в двенадцать, лениво валялся до часу – это в семнадцать лет! Потом покупал в киоске газеты и тонкие журналы: «Огонек», «Всемирную панораму», еще какие-то. Кажется, «Солнце России». Те из них, которые в данный день вышли, и прежде всего «Новый сатирикон». И плитку шоколада. Возвращался домой, валялся и читал. Потом покупал колбасы на обед. Она казалась мне, по сравнению с майкопской, невкусной, что было не случайно. Карлович был учеником Вейденбаха, который владел секретом варить колбасу без крахмала. Вечером я шел бродить по улицам или в оперу Зимина, куда легко было достать билеты, или в цирк Никитина, где выступал укротитель Генриксен с недрессированным тигром по имени Цезарь. Этот последний выскакивал из клетки – точнее, из длинного железного решетчатого коридора, ведущего на арену, превращенную в круглую клетку. И укротитель заставлял Цезаря обойти арену и вернуться в решетчатый коридор. Все это я видел как бы издали, слышал, как будто уши мои были заткнуты ватой. И из оперы и цирка уходил я в Гранатный переулок к облюбованному мной особняку. В мечтах моих было одно здоровое место: начало. Начинались они всегда одинаково: я мечтал, что вот каким-то чудом начинаю работать. Меняюсь коренным образом, пишу удивительные вещи и – главное – с утра до вечера, не разгибая спины. Возвращался я домой утешенный, полный надежд, давая себе торжественное обещание завтра же начать новую жизнь. И с утра начиналось то же самое. Вот во что превратился я при первой же встрече с жизнью.
17 сентября
Года два назад пошел я взглянуть на Гранатный переулок и, к некоторому даже ужасу своему, увидел юношу, шагающего по противоположной стороне. Он был давно не стрижен, одет неряшливо, в длинном пальто и мятой шляпе. Он неопределенно улыбался, – видимо, своим мечтам, и вот пути наши, как нарочно, сошлись, и я увидел нечто подобное себе старых лет, особенно нелепое в Москве пятидесятого года. Итак, дни моей одинокой, самостоятельной, постыдной жизни приходили к концу. Предполагалось, что я останусь в Москве на зимние каникулы, но я послал маме умоляющее, ласковое письмо с просьбой разрешить мне провести каникулы дома. До этого у нас произошла ссора без всякой вины с моей стороны. По маминому адресу пришел каталог книжного склада. Забыв, что в свое время ко дню рождения она выписала мне из Петербурга полное собрание сочинений Гейне, не зная, что фирмы такого рода рассылают потом годами свои каталоги заказчикам, мама решила, что это я подшутил над ней. В одном из писем она спросила, какие книги нужны мне для занятий, она пришлет деньги. Каталог показался ей моим ответом. Она обиделась, и я тоже. Но после моего ласкового письма она сразу ответила мне так же ласково. Предполагалось, что я поеду домой на деньги, высланные мне на декабрь. Увы, они были к 15 декабря истрачены. И я сам не мог понять куда. Пришлось просить о новых деньгах, которые я и получил с сердитым папиным письмом.
19 сентября
И я уехал. Злой нашей горничной я не мог дать причитающийся за последний месяц рубль, обещал прислать из Майкопа. И она громко ругала в кухне людей, которые шоколад жрут, а долгов не платят. Так кончился бесконечный, как мне казалось тогда, и постыдный период моей жизни. Много лет я и вспоминать его не любил.
20 сентября
Стою у вагонного окна и смотрю, смотрю и потихоньку ем копченую колбасу. Мне стыдно есть ее на людях без хлеба. Снег, снег, черные деревушки, все те же белые, неприветливые вокзалы – Тула, Орел, Курск. Я ошеломлен несчастной, постыдной своей жизнью в Москве и все думаю, думаю. Я за эти месяцы стал старше. Я отчетливо понимаю, что сам виноват в своих бедах. Лень, распущенность, смутное представление обо всем. Обо всем знаю одну строчку. И я мечтаю, как переделаю свою жизнь в Майкопе. О возвращении в Москву и думать не хочу. Я ошеломлен, что Москва приняла меня так сурово. Все вокруг ново и трезво. До сих пор ездил я поездом летом или осенью. Зимняя дорога непривычна для меня и печальна, как все, что я пережил. Невесело думаю я и о Милочке. Она все та же и по-прежнему не знает, любит меня или нет. Но за всеми этими мыслями вспыхивает от времени до времени радость. Предчувствие счастья. Сознание праздничности самого бытия моего – эти вспышки радости вопреки всему – вечные мои спутники…
Вот и таинственные, значительные майкопские улицы. Всю жизнь вспоминала мама, как встретила меня на вокзале. «Я даже испугалась: волосы чуть не до плеч, штаны с бахромой, ступает как-то странно, мягко. Что такое? Оказывается, башмаки без каблуков и почти без подошв – вернулся сын из Москвы». Два дня никуда я не выходил: меня переодевали, переобували, стригли. Тоня Тутурина сказала Соловьевым, что я ехал в ужасном виде. Старшие подумали и решили, что я останусь дома.
21 сентября
Решили, что латынь я могу выучить и в Майкопе и сдать ее весной при армавирской гимназии. А лекции слушать начну в настоящем университете, раз университет Шанявского мне так страшно не понравился. Папа, как мне кажется, не был доволен этим решением. Считал, что оно не мужественно, не просто. Так разумно придумали: чтоб не терять года, я живу в Москве, учу латынь, слушаю лекции – и вот на тебе: я являюсь домой патлатым, страшным, разутым, лекций не слушал и латынь не учил. Что это значит? Что я за человек? Я и сам не мог на это ответить. Но мама испугалась моего вида, угадала, что первая встреча с самостоятельной жизнью далась мне дорого, и настояла, чтобы я остался в Майкопе еще на полгода. Не знаю, кто был прав. Мне в октябре 13 года исполнилось семнадцать лет. Я считал себя взрослым, да, в сущности, так оно и было, если говорить об одной стороне жизни, и был полным идиотом во всем, что касалось практической, действенной, простейшей ее стороны. Поэтому, например, не хватало мне денег на месяц. Я просто не умел считать и надеялся, разбрасывая деньги по мелочам, но быстренько, что как-нибудь оно обойдется. Поэтому так же разбрасывал я время. Поэтому мне и в голову не пришло пойти в какую-нибудь редакцию или к какому-нибудь писателю, показать, что пишу, сделать хоть какой-нибудь шаг по писательской дороге, хотя уж давно не представлял для себя другой. Слабость и несамостоятельность, с одной стороны, и крайняя восприимчивость и впечатлительность, с другой, могли бы, вероятно, привести и к роковым последствиям, если бы в идиотстве моем не было бы и здоровой стороны. Например, ужас перед пьянством. Чтобы напиться, действия не требовалось. Купить водку не трудней, чем плитку шоколада. Ну, как бы то ни было, я вернулся домой невредимым, причем считал себя очень поумневшим и очень изменившимся. Но не прошло и недели, как зажил я прежней майкопской жизнью, ссорясь с мамой и братом, будто и не уезжал.
22 сентября
Ближе к весне я вдруг стал брать у Марьи Гавриловны Петрожицкой уроки музыки. Вышло это из-за «Grillen» Шумана. (Вот когда я полюбил эту пьесу, а не годом раньше.) Дав Леле Соловьевой разбирать эту вещь, Марья Гавриловна сказала, что вряд ли она кому-нибудь из слушателей будет нравиться. Узнав, что я влюбился в эту вещь, Марья Гавриловна решила, что мне следует учиться музыке. Наши согласились. И вот я стал учиться.
23 сентября
И к моему величайшему удивлению, я оказался музыкальным – так по крайней мере утверждала Марья Гавриловна. Ученье пошло с неожиданной быстротой. Инструмента у нас еще не было, но Варя Соловьева, взявшая надо мною шефство, не давала мне «повернуть в конюшню», как впоследствии, много лет спустя, определил эту мою склонность Корней Чуковский. Она ловила меня на улице, один раз сняла с забора, через который я перелезал, убегая от нее, и с упорным, неподвижным лицом вела к роялю. И я сидел и играл упражнения тогда обязательного у всех учительниц Ганона. И какого-то Шпиндлера. Первая вещь, которую сыграл я по нотам, был его «Крестьянский танец». Месяца через полтора разбирал я уже «Fur Elise» Бетховена, потом «Сольфеджио» Филиппа Эмануэля Баха. И, ко всеобщему удивлению, с этой последней вещью Марья Гавриловна выпустила меня на ежегодном концерте своих учеников весной 14 года. Приняли меня весело и добродушно – я играл после малышей, – долго хлопали и удивлялись, какие успехи сделал я за два месяца. И я впитывал эти похвалы с особенной жадностью после московского безразличия. Квартира дедушки ликвидировалась после смерти бабушки. И нам прислали рояль, тот самый рояль, на котором я играл спичечными коробками, когда мне было шесть лет.
24 сентября
Теперь я начинаю играть упражнения и гаммы дома. Папа доволен тем, что у меня обнаружились какие-то таланты. Итак, я занимаюсь латынью и музыкой. Я не один. Московская жизнь кажется мне сном – таков внешний ход моей жизни от зимних каникул до весны. Четырнадцатый год мы встретили весело, ходили ряжеными по знакомым. Помню, что были у Шаповаловых, у Оськиных. Я был одет маркизом, мне напудрили волосы, и все говорили, что это мне идет. И Милочка была со мною ласковее обычного. Потом снова отошла от меня, как бы уснула, потом опять стала чуть ласковее. Вот это и являлось для меня настоящей жизнью.
27 сентября
Итак, приближалась весна 1914 года. Как я вижу теперь, Юрка Соколов появился в Майкопе очень рано. Теперь мне кажется, что по причинам денежного характера он не дожил второго семестра в Петербурге. Это при тогдашней предметной системе в университете было возможно, экзамены разрешалось сдавать и осенью. Во всяком случае, приехал он много раньше Сергея. Мы встречались часто; почти все время, говоря точнее, проводил я либо у них дома, либо на участке. Говоря точнее, мы скорее почти не расставались. Юрка рисовал, а я валялся на диване в той самой комнате, где прошло столько дней моего детства. Валялся и читал. Либо мы разговаривали о том мире, в который входили. После долгих колебаний показал я Юрке свое стихотворение «Четыре раба», скрыв, что оно мое. А когда он сказал, что в стихотворении «что-то есть», я назвал автора с такой охотой, что Юрка улыбнулся. И с тех пор я все свои стихи показывал ему. И он обсуждал каждое мое стихотворение со своей обычной повадкой, начиная или собираясь начать говорить – и откладывая, пока мысль не находила наиболее точного выражения. И я обижался, если он ругал меня, и отчаянно, но не слишком уверенно спорил и полностью соглашался с ним, когда проходила обида. К этому времени у меня была теория, объясняющая необыкновенную неуклюжесть моих стихов. Я услышал где-то еще одну строчку, на этот раз Верлена: «Музыка прежде всего», – и стал доказывать, что это верно[255] . Но музыка не в аллитерации и не в звуках – тут стихам за музыкой никогда не угнаться. Музыка – в содержании. А та музыка, за которую сражаются сегодня («лила, лила, качала два тельно-алые стекла»)[256], гибельна и не нужна. Юрка принял эту теорию не без интереса. Итак, у меня было уже два читателя: Милочка и Юрка, а от всех остальных я скрывал свои стихи, как самую большую тайну. Только в одной области был я скрытен еще более – в любви. Ни одному человеку не рассказывал я о своих любовных радостях и бедах и очень удивлялся, когда читал юмористические рассуждения о влюбленных, всем надоедающих своими излияниями. И сверстники мои, рассказывающие в подробностях о своих связях с женщинами, тоже были непонятны мне. Связи мои не были любовными, но и о них молчал я как убитый. Мной с первой встречи овладело чувство прелести тайны в этой части моей жизни («никто не знает, что мы делаем»). Итак, приближалась весна 1914 года, и я после Москвы наслаждался жизнью среди друзей, на юге, в маленьком, с детства понятном городе. Начались выпускные экзамены. И мне пришлось подналечь на занятия. И вот пришел ясный, совсем летний день, когда мы поехали в Армавир сдавать латынь. Нас было четверо: Жоржик Истаманов, Гостищев, Левка Камрас и я. Дорога была еще новая, нестрогая. На середине пути машинист взял нас на паровоз.
28 сентября
И, стоя рядом перед грудью паровоза, мы мчались через кубанские степные знакомые места и чувствовали себя до того свободными, и счастливыми, и беспечными!
2 октября
Утром пошли мы на экзамен. Присутствовали на нем латинист, хмурый и нескладный, и инспектор – черный, моложавый, легкий. Был еще третий – забыл кто. Латинист сказал сердито, раздавая нам листки для перевода с латинского на русский: «Если что не поймете, меня спрашивайте». Я имел глупость подумать, что и так все понимаю, отчего едва не провалился. Читая мой перевод, латинист только кряхтел и пробормотал в конце: «Говорил вам, спрашивайте меня». Спас меня устный экзамен.
3 октября
Зарядили дожди. Мы все сидели дома, играли на рояле, слушали граммофон. Среди пластинок была одна – Толстой читал отрывок из «Круга чтения», кажется. Я все заводил ее, и этот голос живого человека, старческий и слабый, мучил меня. Он никак не сливался с моим представлением о Толстом. Толстой был вне нашего мира, в мире воображаемом, что ли, а голос-то был из обычного, ежедневного мира.
8 октября
У Фреев, в маленьком флигеле во дворе дома Родичевых, на меня вдруг повеяло мюнхенским ветром. Комплекты «Симплициссимуса»[257] и еще каких-то чисто мюнхенских журналов, рисунки, изображающие карнавал, рисунки стилизованные, рисунки с резкими контурами. Толя Фрей рассказывал об академии, о том, что Мюнхен – немецкие Афины, о том, как Штук[258] знаменит в городе. Они вызвали его, насвистывая условную мелодию, на балкон. Штук вышел, увидел, что это незнакомые студенты, но не рассердился, а засмеялся. Эта мелодия была условным знаком близких друзей. Все это мне и нравилось и нет. И у Юрки, как выяснилось из наших бесконечных разговоров, было тоже ощущение, что это все-таки не настоящее. Да, прелестна карикатура в одном из журналов. Называлась она «Сила привычки». Только что умерший бородатый бельгийский король Леопольд приказывает апостолу Петру, который от удивления роняет ключи от райских дверей: «Eine Zimmer mit zwei Betten»[259] . Великолепны карикатуры «Симплициссимуса» на Вильгельма – открытие памятника там, где лошадь его оставила навоз. Но вот стилизованный барельеф, где бородатые люди с нарочито толстыми икрами, – он должен быть гармоничным и лаконичным, как в Древней Греции, а вызывает раздражение. Должен признаться, что у меня, упорно неграмотного парня, раздражение усиливается тем, что в барельефе мне чудится профессорское высокомерие.
10 октября
Утром получил письмо от сестры Бориса Степановича Житкова. Готовится издание сборника его памяти. Поручено это дело ей, и она просит меня принять участие, написать о Борисе воспоминания. И я в некотором смятении. Я помню о нем очень многое. Точнее, он занимал в моей жизни большое место – но что об этом расскажешь? Очень многое тут не скажется. А что скажется – пригодится ли?[260]
11 октября
Что же я могу написать о Борисе Степановиче? Услышал я о нем впервые от Маршака. Я вернулся из Артемовска, из второй своей поездки во «Всесоюзную кочегарку»[261] . В журнале «Воробей» появилась первая моя вещь «Рассказ старой балалайки». Маршак рекомендовал меня в «Радугу». Там я сделал стихотворные подписи к рисункам и появились книжки «Вороненок» и «Война Петрушки и Степки Растрепки».[262] Был я полон двумя вечными своими чувствами: недовольством собой и уверенностью, что все будет хорошо. Нет, не хорошо, а великолепно, волшебно. Не в литературном, а в настоящем смысле этого слова, я был уверен, что вот-вот начнутся чудеса, великое счастье. Оба эти чувства – недовольство собой и ожидание чуда – делали меня: первое – легким, уступчивым и покладистым, второе – веселым, радостным и праздничным. Никого я тогда не осуждал – так ужасала меня собственная лень и пустота. И всех любил от избытка счастья. И вот Самуил Яковлевич мне сказал, что появился новый удивительный писатель: Борис Житков. Ему сорок один год («Однако», – подумал я). Он до сих пор не писал. Он и моряк – штурман дальнего плавания, и инженер – кончил Политехнический институт, и так хорошо владеет французским языком, что, когда начинал писать, ему легче было формулировать особенно трудные мысли по-французски, чем по-русски. Он разошелся с семьей (с женой и двумя детьми) и женился на некоей турчанке по происхождению, в которую был влюблен еще студентом. Теперь это уж немолодая женщина-врач, окулист. Поселились они вместе на Петроградской стороне, начали жизнь заново. Он пишет и учится играть на скрипке, а она на рояле. И она удивительный человек, все понимающий. Гимназию кончил он в Одессе, вместе с Корнеем Чуковским, и, попав в Ленинград, свою рукопись принес ему, но тот ничего не сделал. Тогда Маршак заставил Житкова писать по-новому.
12 октября
Целыми ночами сидели они, вырабатывая новый житковский язык, создавая новую прозу, и Маршак с восторгом говорил, повторял всюду об удивительном, почти гениальном даре Житкова, который обнаружился, едва понял тот, как прост путь, которым художник выражает себя. Он избавился от литературности, от «переводности» – то есть от безразличного языка, особенно ощутимого в переводных книгах. «Воздух словно звоном набит!» – восторженно восклицал Маршак. Так Житков описывал ночную тишину. По всем этим рассказам представлял я себе седого и угрюмого великана (о физической силе и о силе характера его тоже много рассказывал Маршак). Без особенного удивления увидел я, что Житков совсем не похож на мое представление о нем. В комнату вошел небольшой человек, показавшийся мне коротконогим, лысый со лба, но с длинными волосами, с острым носом, туманным взглядом. Со мной он заговорил приветливо, было это, кажется, у Маршака дома, а главное, как равный. Я не ощущал его как старшего, потому что он сам себя так не понимал. Да, я почувствовал к нему уважение, но не то, несколько парализующее, как рядовой к генералу, школьник к директору. Я теперь не могу вспомнить, как скоро это вышло, но я стал бывать у них дома на Матвеевской, 2, на углу Большого на Петроградской стороне. Мы перешли на ты. И всегда с ним было легко: да, он был неуступчив, резок, смел, силен, – но не ощущалось в нем ни признака того окаменения, которое свойственно старшим. Какое там окаменение – он был все время в движении, и заносило его иной раз, как машину на повороте, и попадал он не на тот путь. Какое там окаменение: он жил, как все мы, и это сближало его с нами. Когда мы только что познакомились, дружба его с Маршаком казалась нерушимой. Всюду появлялись они вместе – оба коротенькие, оба решительные и разительно непохожие друг на друга. Оба с завидной для меня энергией работали.
13 октября
Вернувшись из Донбасса и начав работать секретарем редакции тогдашнего журнала «Ленинград» (издававшегося «Ленинградской правдой»), я часто видел, как тесная кучка людей, человек в пятнадцать, окружая письменный стол в левом углу комнаты (а мы работали в правом), титанически, надрываясь, напрягая все силы, сооружала – не могу найти другого слова – очередной номер тоненького детского журнала «Воробей». Я ни разу, кажется, не досидел до конца очередных работ, но ни Маршак, ни в особенности Житков не теряли высоты, не ослабляли напряжения. Если Маршак иной раз позволял себе закашляться, схватившись за сердце, или, глухо охнув, уронить голову на грудь, то Житков и на миг не давал себе воли. Улыбаясь особым своим оскалом, то с отвращением и насмешкой, то вдохновенно, он искал все новые повороты и решения и часто, к гордости Маршака, находил нужное слово. Именно – слово. Журнал строился слово за словом. Посторонний зритель не всегда замечал, чем одно слово лучше другого, но тут и Маршак и Житков умели объяснить невежде, кто прав. Маршак неясной, но воистину вдохновенной речью с Шекспиром, Гомером и Библией, а Житков насмешкой, тоже не всегда понятной сразу, но убийственной. Желая уничтожить слово неточное, сладкое, ханжеское, он, двигая своими короткими бедрами и вертя плечами, произносил нарочито фальшивым голосом: «Вот как сеет мужичок». И мы его понимали. Да, в те дни оба они были вдохновенны и, главное, ясны, особенно Житков был вдохновен и сурово праздничен, как старый боевой капитан в бою. И Маршак любил говорить о Житкове с восторгом и даже умилением: «Вот как повернулась жизнь у человека! Сказка, волшебство. Вот и слава у него уже настоящая начинается: тот-то сказал о нем так-то, а другой этак-то». И договорил: «А семья, а дом, а жена».
14 октября
«А как скромно и разумно живет Житков – курит махорку! Не меняй жизнь, если будешь много зарабатывать! Живи, как жил. А то затянет тебя в колесо!» – говорил мне Маршак с искренним ужасом перед колесом, которое видел вблизи когда-то, а я слушал с интересом, как будто предостерегал меня путешественник от жары, какая бывает в Сахаре. Я в жизни своей не был богат, да и Маршак сам только повидал, что это такое. Повидал он как следует, вблизи, и что такое прежняя литературная среда. «Ты не представляешь, что это за волки. Что теперешняя брань – вот тогда умели бить по самолюбию!» И Маршак из тех времен вынес умение держаться в бою. «Надо, чтобы тебя боялись!» Я не верил, к сожалению, этому совету, а Борис Степанович в нем и не нуждался. Он с восторгом лез в драку и держал людей, которых считал чужими, в страхе. Сразу угадывалось: этот кусается. Оба коротенькие, храбрые, энергичные, они с честью дрались за настоящую детскую литературу и в пылу борьбы считали ее единственной. «Когда у меня есть время, я могу халтурить во взрослой литературе», – сказал однажды Маршак. А выросший в атмосфере этой борьбы Золотовский[263] пожаловался (правда, несколько лет спустя): «Какому-то Каверину дали квартиру, а мне отказали». После «Воробья» Житков и Маршак стали работать в детском отделе Госиздата. Поставили они себя там строго, никому не спускали и ездили драться в Москву. Борьба вдохновляла их, все им удавалось, даже чудеса. Как-то по дороге из Москвы Маршак предложил соседке, что угадает ее имя и отчество. И угадал. Тогда Житков угадал имя и отчество другой их попутчицы. Они рассказывали нам об этом, смеясь, но и гордясь. Знай наших! Поехал я с ними смотреть дачу в Сиверскую, и чуть успел поезд отойти, как оба уже сцепились из-за места с желтеньким гражданином чиновничьего вида и всю душу вложили в эту ссору. Они кипели от избытка сил.
15 октября
Однажды пришли они в детский отдел возбужденные, опьяненные – поссорились со Шкловским. «Его так отчитал Борис, – умилялся Маршак, – что это будет ему хорошим уроком». За что влетело Шкловскому, понять было трудно. Угадывалось: за то, что чужой. «Вот я придумал тему, дарю ее вам: радиоприемник на металлическом зубе». Эта фраза Шкловского больше всего возмущала Житкова, и он все повторял ее неестественным голосом, передразнивая: «Дарю ее вам!» Через некоторое время сам пострадавший зашел в отдел. Был Шкловский мастер ссориться, привычен к диспутам, рассердившись, как правило, умнел, а тут, видно, несколько растерялся. Сидел на подоконнике нахохлившись, если так можно сказать о человеке лысом, и доказывал Маршаку и Житкову, что они поступили с ним нехорошо. Замятину, который зашел за ним, Шкловский наивно пожаловался: «Житков говорит, что я не остроумен. Разве это верно?» И Замятин покачал головой со своей сдержанной европейской повадкой и ответил: «Никак не могу с этим согласиться». И, подумав, добавил: «Уж скорее можно обвинить вас в недержании остроумия». И, почувствовав, видимо, что и его добротная репутация тут ему не защита, удалился не торопясь и увел с собой Шкловского. Да, Замятин раздражал наших бойцов, и репутация его (инженер, преподаватель политехникума, один из строителей ледохода «Ленин», в прошлом большевик, а ныне неустрашимый фрондер и сверх всего этого писатель, славящийся отличным русским языком) не признавалась нами. Он был чужой. И Маршак рассказывал сердито, как однажды ночью на Моховой, он слышал, Замятин громко разговаривал с дамой по-английски. «Как английский дворник!» И русский язык Замятина со всеми его орнаментами не признавался у нас. Да, это было не переводно, но холодно, поддельно, не народно.
Приходит время рассказать, как поссорились и разошлись Маршак с Житковым. И не хочется. И тяжело, и очень сложно, и темно.
16 октября
Я боюсь вспоминать о событиях роковых. О таких, которые при возникновении своем казались мелкими, нелепыми, а оказались необратимыми. Расхождения, возникавшие между Маршаком и Житковым, вначале выглядели ужасно забавными, а в конце концов оказались просто ужасными. Непримиримость и нетерпимость обоих наших учителей шла на пользу делу, пока обращена была на врагов великой детской литературы. Но вот осколки собственных снарядов стали валиться внутрь крепости. И зашибать своих. И этого нужно было ждать. И Житков и Маршак были несмирные люди. И уж слишком готовые к бою всегда, при любых обстоятельствах. Однажды, после очередного приезда из Москвы, Маршак пожаловался угрюмо, что они поссорились в вагоне со школьниками. С целым классом, который возвращался из экскурсии в Москву. Это был, кажется, единственный бой, который проиграли наши борцы! «Я забыл, что с целым классом никогда нельзя связываться», – сказал Маршак, как всегда, частный случай возвышая до явления, что покоряло меня в те дни. А Житков вообще промолчал об этой проигранной битве. И вот пришли дни, когда друзья стали ворчать друг на друга. Борис Степанович впервые за сорок лет был окружен доброжелательством. На него просто любовались. Каждое слово его ловили. Но нет, он не был создан для подобной сладости. В те годы в институте Герцена профессорствовала Ольга Иеронимовна Капица, мать знаменитого физика, и начинала свою научную деятельность Екатерина Петровна Привалова. Первая тогда занималась детским фольклором, а вторая работала в детской библиотеке института, богатейшей и единственной в Союзе по количеству детских книг и журналов, собираемых чуть ли не с XVIII века. Ольга Иеронимовна, благостная, добрая, полная, и Екатерина Петровна, и тогда и теперь похожая на умную, нескладную и не слишком счастливую бестужевку, дружили с нами.
17 октября
Немногочисленные детские писатели тех дней собирались часто в детской библиотеке такой же тесной кучкой вокруг стола, как в «Новом Робинзоне». Только стол тут был круглый и стоял посреди комнаты. У всего здания института был вид как бы полуобморочный, он еще не вполне ожил, не был освоен на всем своем огромном пространстве. Опечатанные шкафы в коридорах, бесконечные переходы, закопченные, сырые, с забитыми окнами и запертыми висячими замками дверьми. На всем еще лежал отпечаток голодного и холодного 18/19 года. Руководство Герценовского института само, видимо, побаивалось своего богатства. Во всяком случае, редчайшую детскую библиотеку свою руководители несколько раз порывались закрыть и вывезти вон, но каждый раз Маршак и Житков со всеми живыми людьми института поднимали шум на весь Союз, клеймили позором чиновников от просвещения, перепуганных и растерявшихся, ненавидящих свое собственное дело. И они, чиновники, отступали, ворча. В те дни мрачные противники антропоморфизма и сказки, утверждавшие, что и без сказок ребенок с огромным трудом постигает мир, захватили ключевые позиции педагогики. Детскую литературу провозгласили они довеском к учебнику. Они отменили табуретки в детских садах, ибо таковые приучают к индивидуализму, и заменили их скамеечками. Изъяли кукол, ибо они гипертрофируют материнское чувство, и заменили их куклами, имеющими целевое назначение: например, толстыми и страшными попами, которые должны были возбуждать в детях антирелигиозные чувства. Пожилые теоретики эти были самоуверенны. Их не беспокоило, что девочки в детских садах укачивали и укладывали спать и мыли в ванночках безобразных священников, движимые слепым и неистребимым материнским инстинктом. Ведь ребенка любят не за красоту. Вскоре непоколебимые теоретики потребовали, чтобы рукописи детских писателей посылались в Москву до их напечатания в ГУС, в Государственный ученый совет. Вот что делалось вокруг детской литературы. Я рассказываю об этом, чтобы стало ясно, как редки и как нужны были такие педагоги, как Привалова, Капица и немногие другие живые люди, затерявшиеся в сырых просторах Герценовского института.
18 октября
Но Борис Степанович был с ними строг именно потому, что они хотели делать одно с ним дело. Они восхищались Житковым, ловили каждое его слово, но нет, он не был создан для подобной сладости. В скитаниях своих пропитался он горечью и не умел и не хотел жить иначе. Однажды Капица организовала встречу детских писателей со студентами. В большом зале читали мы студентам, точнее, студенткам – их было подавляющее большинство. Слушали они скорее испуганно, чем с интересом. Теоретики бесчинствовали и тиранствовали в то время в педагогике, и каждый день грозил какой-нибудь ошеломляющей новостью вроде всё отменяющего и всё объединяющего комплексного метода. И детских писателей поэтому слушали студентки с недоверием. К чему бы это? Чем все это кончится? Чего вы от нас хотите? Но Капица сияла. Она, вероятно, страдала приливами крови к голове, всегда была несколько излишне румяна, а тут разрумянилась еще больше, как после бани. Она подплыла к Житкову и спросила почтительно: «Как вам понравилась наша аудитория?» И безжалостный Борис буркнул в ответ: «Горняшки!» И Ольга Иеронимовна, не проронив ни звука, проплыла дальше, только улыбка ее стала беспомощной, а румянец приобрел сизый оттенок. Вот каков был Борис. Он рассказывал однажды, как бродил по какому-то портовому городу на Красном море без копейки денег. «Как ты попал туда?» – «Ушел с парусника». – «Почему?» – «По превратностям характера». И вот к такому характеру Маршак стал все больше, все откровеннее поворачиваться самой трудной стороной своего многостороннего существа. Он стал капризничать. Это был его способ отдыхать от напряжения, в котором пребывал круглосуточно. Ведь Маршак почти не спал. И вот, требуя отдыха, сердце у него останавливалось, пальцы немели, он закашливался и не мог откашляться. Однажды он приехал к Житкову и не мог вернуться домой. Задыхался до утра.
19 октября
Все это было только одним из его свойств, но за этими жалобами, требованием внимания и сочувствия заподозрил Житков покушение на свою свободу. Стали раздражать Бориса вечные призывы к оружию, под знамена – немедленно, сегодня, все оставив. Сводились эти призывы обычно к правке чьей-то рукописи и продолжались до рассвета. Обижался он на Маршака и за уступки «педагогическим дамам». «Вот как сеет мужичок!» – восклицал он по поводу рукописи, уже принятой и одобренной редакцией. Но все это, может быть, и разъяснилось бы и рассосалось. Ведь раздражение вызывалось, в сущности, мелочами. И Житков не мог не знать, что Маршак любит его, за него дерется бешено, а все обиды – незлокачественные, нечаянные. Но разрыв все назревал. Обстановка среди тесной группы писателей тех лет, собравшихся вокруг Маршака и Житкова, все усложнялась. Становилось темно, как перед грозой, – где уж было в темноте разобрать, что мелочь, а что и в самом деле крупно. И, думаю, главным виновником этого был мой друг и злейший враг и хулитель Николай Макарович Олейников. Это был человек демонический. Он был умен, силен, а главное – страстен. Со страстью любил он дело, друзей, женщин и – по роковой сущности страсти – так же сильно трезвел и ненавидел, как только что любил. И обвинял в своей трезвости дело, друга, женщину. Мало сказать – обвинял: безжалостно и непристойно глумился над ними. И в состоянии трезвости находился он много дольше, чем в состоянии любви или восторга. И был поэтому могучим разрушителем. И в страсти и трезвости своей был он заразителен. И ничего не прощал. Если бы, скажем, слушал он музыку, то в требовательности своей не простил бы музыканту, что он перелистывает ноты и в этот миг не играет. Он возвел бы это неизбежное движение в преступление и глумился бы нал ним – и нашел бы множество сторонников. Был он необыкновенно одарен. Гениален, если говорить смело.
20 октября
Как многие люди, чувствующие сильно, он мыслил ясно и умел найти объяснения каждому своему заблуждению, возвести его в закон, обязательный для всех. И если Житков колебался, зная в глубине души, что раздражению своему против Маршака он, в сущности, обязан «превратностям характера», то Олейников, во всяком случае в отсутствие Маршака, не знал в своих обвинениях преград. Был он в тот период своей жизни особенно зол: огромное его дарование не находило применения. Нет, не то: не находило выражения. То, что делал Маршак, казалось Олейникову подделкой, эрзацем. А Борис со всем анархическим, российским недоверием к действию видел в самых естественных поступках своего недавнего друга измену, хитрость, непоследовательность. И Олейников всячески поддерживал эти сомнения и подозрения. Но только за глаза. Прямой ссоры с Маршаком так и не произошло ни у того, ни у другого. Совершалось обычное унылое явление. Люди талантливые, сильные, может быть даже могучие, поворачивались в ежедневных встречах самой своей слабой, самой темной стороной друг к другу. Вот и совершилось постепенно нечто до того печальное, а вместе и темное, ни разу прямо друг другу в глаза не высказанное. Ссора эта развела Маршака и Житкова навеки, похуже чем смерть. Об умершем друге горюют, а каждое их воспоминание друг о друге в те дни вызывало у бывших друзей чувства похуже горя. И всех нас эта унылая междоусобица так или иначе разделила. А теперь во имя точности должен я сказать, что эта демоническая или, проще говоря, черт знает что за история, развиваясь и углубляясь, не убивала одной особенности нашей тогдашней жизни. Мы были веселы. Веселы иной раз до глупости, до безумия, до вдохновения, и Житков легко поддавался этому безумию. И бывал совсем добр и совсем прост.
21 октября
Сейчас трудно представить, как мы были веселы. Пантелеев вспоминал, как пришел он в 26 году впервые в жизни в детский отдел Госиздата и спросил в научном отделе у наших соседей, как ему найти Олейникова или Шварца. В это время соседняя дверь распахнулась и оттуда на четвереньках с криком: «Я верблюд!» выскочил молодой кудрявый человек и, не заметив зрителей, скрылся обратно. «Это и есть Олейников», – сказал редактор научного отдела, никаких не выражая чувств – ни удивления, ни осуждения, приученный, видимо, к поведению соседей. Денег у нас никогда не было. Мы очень хорошо умели брать взаймы. Была даже формула для этого.
22 октября
«Дай руп на суп, трешку на картошку, пятерку на тетерку, десятку на шоколадку и тысячу рублей на удовлетворение прочих страстей». В нашем веселье, повторяю, приветствовалось безумие. Остроумие в его французском представлении презиралось. Считалось доказанным, что русский юмор – не юмор положения, не юмор каламбура. Он в отчаянном нарушении законов логики и рассудка. («А невесте скажите, что она подлец»[264] .) И угловатый, анархический Житков, русский из русских, с восторгом принимал это беззаконие. Веселый, отчаянно улыбающийся, он – равный нам, не взрослый и все-таки старший, – сидел охотно в компании в пивной, угощал широко, когда бывали у него деньги, повторяя одесскую, флотскую поговорку: «Фатает, не в армейских». Он любил принимать, и у него охотно бывали. Радоваться гостям – это далеко не такой частый дар. А он радовался настолько, что со свойственным ему отчаянным нетерпением часто, не дождавшись, встречал гостей на улице. Я любил, очень любил его небольшую и очень петербургскую, выходящую окнами в полутемный колодец двора квартирку. Войдя, попадал ты в коридор. Направо – дверь в кухню, дальше – дверь в столовую, дальше – в комнату, где стояло пианино и письменный стол Бориса, некоторая помесь гостиной и кабинета, а последняя дверь направо вела в комнату, не имеющую назначения. Дверь налево вела в ванную. Эти сведения ничего не прибавляют к образу Житкова. Пишу потому, что мне приятно вспоминать – и о коридоре, и о столовой, и о кабинете со скромным письменным столом, на котором листы писчей бумаги, перегнутые пополам вдоль, – Житков писал в два столбика. В конце работы сегодняшнего дня ставил он число и месяц. У пианино стоял пюпитр с нотами. Борис учился скрипке потому, что это трудно, и еще потому, что ноту надо находить самому.
23 октября
По его мнению, готовые и раз навсегда утвержденные клавиши рояля давали некоторую вредную иллюзию ученику, что это он нашел звук. И в соединениях кем-то подготовленных звуков-нот рояля существовала кем-то навязанная правильность, чего не допускала свободолюбивая душа Бориса. Он сердился на Чехова: «Так мелко писать: „Офицер в белом кителе“[265] . И здесь, видимо, раздражало Бориса, что используется установившееся представление. «Офицер в белом кителе», – повторял он, отчаянно улыбаясь, опустив углы губ презрительно, пожимая плечами. «Офицер в белом кителе». Все заранее утвержденное или утверждаемое всеми настраивало Бориса подозрительно. Это был прирожденный ересиарх, который, однако, по свободолюбию своему ересь свою не определял, не втискивал в известные рамки. Ибо даже еретические, установленные им самим законы стесняли его. Ты чувствовал, что он верует, и верует страстно – но во что? Он не только веровал, но и проповедовал, и отлучал от своей церкви, и принимал в ее лоно, и все по признакам неуловимым или едва уловимым только в данный вечер со всеми его особенностями. Проповедовал он отрывисто и все спешил для ясности перейти к притчам, к примерам из жизни. Всегда, в сущности, кто-то изобличался во внутренней нечестности, в кокетстве, в ломании, в трусости, в несамостоятельности. Своя, самостоятельная задача все освящала. «Он меня спрашивает: синее или желтое, а я хочу говорить о том, теплое или холодное», – любил он повторять в ненависти своей к заранее утвержденному и всеми признаваемому, – он и нового года, например, не встречал. Он собирал друзей в весеннее равноденствие, требуя решительно, чтобы каждый надевал что-нибудь белое: или рубаху, или брюки. И Маршак говорил и проповедовал непонятно, но куда менее угловато и, главное, менее нетерпимо, менее деспотично. «Борис все хочет поставить на ребро», – говорил часто он с горечью.
24 октября
С годами убедился я в том, что вера в людях вообще часто остается неосознанной самими ее носителями. И от таких людей ты не требуешь символа веры. Напротив, скорее умиляет его отсутствие. Есть что-то трогательное, когда человек, повинуясь сам не зная чему, делает свою работу наилучшим образом, бывает добр, сам не зная почему, правдив вопреки собственным интересам. Эту человеческую особенность можно было бы назвать и мировоззрением, если неосознанное мировоззрение возможно. Так или иначе, эту неосознанную человеческую особенность уважаешь, повторяю, не требуя ни символа веры, ни теории. За исключением тех случаев, когда подобные люди начинают проповедовать, к чему их неосознанная вера понуждает чаще, чем хотелось бы. И в их жизни угадываешь систему их веры куда отчетливее, чем в их проповеди. Борис часами пилит на скрипке. Важная педагогическая дама с умилением повествует, как еще более важный человек сказал ей, когда она хотела подать милостыню: «Не плодите нищих». – «Фу, какая гадость!» – говорит ей Борис громко. Борис заводит рыжего кота и терпеливо дрессирует его. «Стань бёзьяном!» – кричит он, и кот мягко, как бы переливаясь, вздымается и стоит на задних лапках, широко раскинув передние. «Але гоп!» – и кот прыгает в обруч, пробивая бумагу. Борис рассказывает о своих путешествиях так, что его воспоминания становятся как бы и моими. Расхаживая вокруг стола, отчаянно улыбаясь, он говорит об Аравии, где солнце такой яркости, что тень кажется ямой.
25 октября
Вода в заливе так прозрачна, что, когда идешь к берегу под парусом, кажется, что летишь по воздуху. Арабы показали длинный песчаный холм и сказали, что это могила Евы. Во время тайфуна на Тихом океане пальмы ложатся на землю, как трава, а воздух становится твердым, как доска, держит, если ты обопрешься на него. Станешь против ветра, откроешь рот – и ветер тебе забивает глотку, раздувает щеки.
Многие его книжки вначале были рассказаны за столом или около стола. В этих коротких воспоминаниях – со скрипкой, дрессировкой кота, с поисками наибольшей выразительности, с резкостью, и прямотой, и упрямством – я чувствую веру Бориса. А в прямых проповедях уловить ее не мог. Иной раз говорил он совсем странные вещи. Однажды он сказал нам, что Елена Данько[266] ведьма. «Как ведьма?» – «А очень просто». И Борис стал серьезно доказывать, что Данько способна заколдовать человека, что-то сделать такое, когда он переступает порог. Одна его знакомая ведьма, например, умела лишать человека мужской силы. И Данько тоже, видимо, может испортить, когда захочет. «Но если ведьме скажешь, что она ведьма, ей ничего с тобой не сделать. Я Данько сказал, кто она». – «И что она ответила?» – «Ничего, только странно посмотрела». И Софья Павловна, жена Бориса, имела особый таинственный дар – давала какие-то камушки, которые приносили счастье.
«Вавича»[267] Борис писал безостановочно, нетерпеливо, читал друзьям куски повести по телефону. Однажды вызвал Олейникова к себе послушать очередную главу. Как всегда, не дождавшись, встретил Борис Олейникова на улице, дал ему листы рукописи, сложенные пополам, и приказал: «Читай, я тебя поведу под руку». И Олейников подчинился, а потом с яростью рассказывал друзьям об этом. Житкову необходимы были слушатели, он был избалован неутомимостью Маршака, но новые друзья были злее.
26 октября
Об Олейникове и Хармсе[268], о постоянных гостях Житкова в конце двадцатых и в тридцатых годах, говорить мимоходом трудно, а рассказать о них полностью не берусь. Расскажу вкратце об общем положении дел вокруг Бориса. Появление Хармса (и Введенского[269] ) многое изменило в детской литературе тех дней. Повлияло и на Маршака. Очистился от литературной, традиционной техники поэтический язык. Некоторые перемены наметились и в прозе. Во всяком случае, нарочитая непринужденность как бы устной, как бы личной интонации, сказ перестал считаться единственным видом прозы Разошелся с Маршаком и Олейников Разошелся – не то слово. Прямой ссоры и с ним не было у Маршака, но он разорвал отношения с ним. Хармс оставался другом Маршака, а вместе – и другом Житкова и Олейникова. Не хочется объяснять – долго, и я не справлюсь с этим, – но Хармс, о котором Маршак говорил, что он похож на молодого Тургенева или на щенка большой породы, умышленно, вызывающе странный, и в самом деле стоял вне этой свалки, происходящей за глаза, вне этой драки с неприсутствующим противником. Но у Житкова с мрачной серьезностью своим глубоким басом поддерживал он неслыханное, черт знает какое глумление Олейникова над Маршаком. Олейников брызгал во врага, в самые незащищенные места его, серной кислотой. И ходил его очередной враг, сам того не подозревая, изуродованным. Я отошел и от Маршака, и от Житкова. И я был облит серной кислотой. Но с Житковым дружеские отношения все же сохранились. Не такие, как были. Олейников обоих нас изуродовал в представлении друг друга. Только я знал, что изуродован, а Житков никак этого не предполагал. Он прожил несладкую жизнь, привык к врагам, но друзей, столь демонических, до последних дней своей жизни, к счастью, не разглядел и не разгадал. А они глумились над ним, как глумились!
27 октября
Есть писательское отношение к чужому методу работы, исключающее его, полное ненависти и презрения, – как у Толстого к тургеневской системе писать[270] . В этом есть здоровое непонимание: как можно не видеть то, что я вижу!
Ненависть эта переходит и в жизнь. Когда Гончаров услыхал, что умер Тургенев, он сказал: «Притворяется…»
Но ненависть и ядоиспускание, твердо установившиеся у Житкова, стали уж черт знает какими. Я в последние год-два почти не бывал у Бориса. Но вот я встретил его и Софью Павловну недалеко от нас на канале. Она была бледна, шла медленно и призналась: «Вы знаете, я заболела», – но не сказала чем Скоро услышал я с ужасом, что у нее тяжелое психическое заболевание: она сошла с ума, помешалась на ревности к Борису. Она занавесила окна в их полутемный двор, чтоб не переглядывался он с девицами напротив, не пускала его одного из дому, целыми ночами его мучила. И вот ее отвезли в психиатрическую больницу. Скоро она вернулась оттуда, но прежняя жизнь кончилась. Житковы развелись, и, мало этого, Софья Павловна подала в суд, обвиняя мужа в том, что он хотел ее, здоровую женщину, заточить в сумасшедший дом. Я давно не бывал на Матвеевской, 2, но меня утешало чувство: захочу и пойду. И вот выяснилось: не пойти. Дом Житковых умер. Борис переехал в надстройку. А дело в прокуратуре росло и развивалось. Меня вызвал следователь – коротко остриженный, толстый, выпуклоглазый – ничего человеческого в нем не ощущалось. Говоря гладко, с такими интонациями, будто читал вслух, он пытался внушить мне, что жалоба Софьи Павловны имеет основание: Борис, мол, в самом деле хотел ее оклеветать. «Зачем?» – «Чтобы общественное мнение не осудило его за то, что он бросает жену». Это было чудовищно неверно, что я и пытался доказать следователю. Мои показания он выслушал холодно.
28 октября
Иной раз мне казалось даже, что следователь не слышит меня. Нельзя сказать, что он думал о своем. Нет. Он пребывал в нечеловеческом юридическом мире, и не было у нас ни одной точки соприкосновения. Они появились бы, согласись я с тем, что Борис – злодей, но этим путем умилостивить следователя я никак не мог. Кончилось дело тем, что он предложил мне записать мои показания, что я и сделал обычным почерком своим, явно противоречащим самим стенам городской прокуратуры, где состоялась моя встреча с большеротым, выпуклоглазым ее представителем. Из прокуратуры я вышел совсем несчастным: нелепости, разрывающие жизнь Житковых, как бы отравили и меня. Если бы я мог допустить, что есть черт и ведьмы, то все происходящее имело бы хоть какое-то объяснение. А тут вместо жизни, обернувшейся недавно празднично, воцарилось уныние и безумие. Впрочем, дело в прокуратуре было скоро прекращено. В нашем доме Борис жил некоторое время один в однокомнатной квартире, где завел корабельную чистоту. Варил и настаивал настойки и наливки. Рисовал к ним этикетки акварелью. Много писал. Однажды, когда он пил у нас чай, Екатерина Ивановна, передавая ему сахар, пожаловалась, что не могла нигде в магазинах найти щипцов. Утром она получила добытые где-то в комиссионном щипцы в виде птичьих лап, с запиской Бориса, что это подарок временный – щипцы мельхиоровые будут заменены серебряными.
Я подхожу к концу своего рассказа со смутным чувством. Я сказал все, что мог. Или почти все. Но не уверен, что получилось достаточно похоже. Говоря о демонизме Олейникова, я для точности напомнил о его веселости. Не следовало ли напоминать почаще и о его уме? Он бывал, как и Хармс, очень умен, честен, думая и говоря, – а это также иной раз оживляло, как убивала его злоба. Бывал он и печален.
29 октября
Он был безжалостно честен и по отношению к себе. Но сила чувства сбивала его сильный ум с пути. Он страстно веровал в то, что чувствовал. Однажды он осуждал Хармса за то, что тот гордится своим отцом. Отец Олейникова был страшен, и вот сын не в силах был представить себе, что кто-нибудь может относиться к отцу иначе, чем с ненавистью и отвращением.
Во второй, послемаршаковский, период своей жизни Житков все хотел что-то создать – сбить, точнее. Собираясь, обсуждали они журналы нового вида, книги небывалого типа, но до конца – даже до настоящего начала – дело не доходило. Взрывчатая сила Бориса помогала ему писать, но мешала организовывать и строить. Так вот и шел он по жизни, коротенький, сбитый, как каменный, отчаянно улыбаясь, все нарываясь на драку, но верно держась друзей. Кому-то он всё посылал деньги, за Олейникова просто болел душой. Он снял в Песочной дом и заставлял Олейникова ехать туда, поправиться, успокоиться. Да, так вот и шли мы, понимая и не понимая, что ждет нас впереди. И Борис рядом как равный, а вместе с тем и как старший. И в тумане, в дорожной суете, раздражаясь и бранясь по-соседски, видя друг друга слишком близко, мы угадывали его силу все-таки и чувствовали благородство этой силы…
И вот однажды пришел Борис Степанович к Бианки, бледный и мрачный, с бутылкой коньяку. Не отвечая на вопросы, выпил он эту бутылку один. И, уже уходя, признался: «Черта видел. Получил повестку с того света». Пояснить свое странное признание Борис отказался. Вскоре он слег. К этому времени был он женат на черненькой, не очень молодой, молчаливой, в высшей степени интеллигентной женщине. Чем он болел – ни за что не хотел говорить. Лечился голодом, хотя сам сказал как-то, что от его болезни голод не помогает.
30 октября
Я заходил к нему. Он лежал на узкой своей койке, отощавший и побледневший, но неуступчивый. Иногда только мелькало в таком знакомом лице его незнакомое выражение как бы некоторого смущения, виноватости. Он не привык болеть. Говорили, что он болен тяжело, что у него рак легкого. Он перебрался в Москву, к сестрам, и оттуда о здоровье его приходили все дурные вести, но я им не верил, не хотел верить. Я знал, как силен Житков. Мускулы у него были железные, выносливость и упорство воистину морские. В 1938 году мы поехали в Гагры. И там я узнал о смерти Бориса. И ужасно обиделся. Обиделся на то, что он умер, – это не шло ему, его вечной подвижности и упрямой жизнедеятельности. Обиделся на собственную глупость, вечную нерадивость в дружбе. Всю жизнь растрачивал я, сам не замечая как, время, дружбу, себя, все утекало между пальцами, все мне казалось – успею да успею. И вот нет Житкова, как и многих других, все кончено, необратимо и непоправимо. Борис занимал большое место в моей жизни, встречался я с ним или нет. Как многие сильные люди, он влиял и на дело, и на близких кроме всего прочего и самым фактом своего существования. И вот в мире моем стало пустыннее. Вскоре я узнал, что хоронили его, как подобает [хоронить] большого человека. Смерть его всколыхнула, вывела из равновесия больше людей, чем можно было предположить. А Шкловский плакал на похоронах горькими слезами. Вот его ссора с Борисом оказалась не роковой, они сблизились за последние годы, уважали друг друга. Так вот и кончился путь, который никак не могли бы мы угадать в начале. Угловатая судьба Бориса, сила его с завихрениями заносила его, уводила куда не ждешь – и привела к славе, к ошибкам, к победам, к чудачествам и к смерти. Он был сильнее нас, но жил в движении, как мы, и мы любили его за это.
1 ноября
В Гаграх, прочтя в газете о смерти Бориса, я обиделся, как уже рассказывал, а вечером пошел в свою любимую прогулку по шоссе. Я все мечтал, и шел, и опьянел от этого. Мне стало казаться, что в мире вокруг есть правильность, что луна над горой, шум прибоя внизу и я – связаны, и в этой связи есть нечто утешительное, подающее надежду. И я стал дирижировать оркестром, играющим музыку памяти Житкова. Счет шел на четыре четверти, музыка звучала неясно, но значительно. Часто наступали паузы на два такта. Полное молчание на два такта – и новая длинная-длинная музыкальная фраза, что меня очень трогало. Черное море, столь близкое Житкову, определяло душевное состояние, посвященное его памяти.
2 ноября
Возвращаюсь в Майкоп 14 года.
16 ноября
Я не верил в события большие, идущие извне, – в моей жизни их не было. Те, что ворвались в мою жизнь в детстве, казались мне доисторическими. От восьми– до семнадцатилетнего человека – огромное расстояние. И вдруг объявлена была всеобщая мобилизация. Улицы заполнились плачущими бабами, казаками, телеги, как во время ярмарки, заняли всю площадь против воинского присутствия. Пьяные с гармошками всю ночь бродили по улицам. Многие из знакомых вдруг оказались военными, впервые услышал я слово «прапорщик». В мирное время ниже подпоручика не было чина в армии…
Пришло письмо от папы. Его нижегородская служба оборвалась. Он был назначен по мобилизации в войсковую больницу Екатеринодара.
17 ноября
Я еще не мог представить себе, что спокойнейшей майкопской жизни с тоскливым безобразием праздников, с унынием плюшевых скатертей пришел конец. Но вот к вечеру ясного дня закричали на улице мальчишки-газетчики. До такой степени поразила издателей майкопской газеты небывалая новость, что забыли они о расходах и доходах. Мальчишки бесплатно раздавали цветные квадратики бумаги, на которых напечатаны были всего четыре слова: «Германия объявила нам войну». «Германия?» – спросил удивленно Василий Федорович. Все ждали, что начнет Австрия. Вечером того же дня, на закате, пошли мы к Соколовым на участок. По дороге говорили только об одном. Закат, уж слишком красный, раскинулся на полнеба, и Юрка сказал, что если бы был суеверен, то подумал, что в этом небе – какое-то пророчество. Немного погодя сказал он, улыбаясь, что из четырех братьев, по теории вероятности, хоть один будет убит. На участке озабоченные взрослые обсуждали, когда кончится война, и тут, впервые до высказывания Китченера[271], услышал я, что продлится она несколько лет. Сказал это Василий Алексеевич Соколов. Я, кажется, рассказывал уже как-то, что среди майкопской интеллигенции Соколовы отличались знаниями и умом. (У них я, например, услышал о теории относительности Эйнштейна, впоследствии названной малой, и Юрка и Сергей старались объяснить мне ее, начав с примера о поездах, идущих друг мимо друга. Было это, очевидно, непосредственно после ее опубликования.) Среди общей уверенности в том, что немцев раздавят разом (споры шли только о том, понадобятся ли для победы недели или месяцы), – заявление Василия Алексеевича неприятно удивило. А он спокойно и доказательно развил свою мысль, опираясь на факты Балканской войны, где понадобилось достаточно много времени, чтобы осилить слабую Турцию[272] . На другой день, впервые во взрослом состоянии, увидел я на улицах демонстрацию, но с трехцветными флагами, царскими портретами, иконами. Была уже ночь, когда на площади в пыли, поднятой толпой, священники служили молебен. Мне казалось, что я вижу сон. События ворвались в нашу жизнь и никак с ней не соединялись.
18 ноября
Да, ворвавшиеся в нашу жизнь события не усваивались, но непрерывно ощущались. Все было окрашено войной. Тут и начало развиваться губительное чувство, которое можно назвать так: «Пока». Все, что делалось, делалось на время. То, что совершалось вокруг, не принималось как настоящая жизнь. Когда кончится война, тогда я и начну жить и работать, а пока… Все пока да пока, а когда оставшиеся в живых несчастные мои ровесники приходили в сознание, то часто оказывалось, что жить уж поздно. Ошеломленный войной и любовью, поехал я в Екатеринодар к родителям. Армавир был неузнаваем. Я говорю о вокзале. Маленький армавирский вокзал впервые показал мне то, к чему так приучили нас войны. Целые семьи, проводившие отцов на фронт, спали на узлах и мешках. Прапорщики с новенькими чемоданами. Пассажиры, задержанные событиями в пути, потемневшие, помятые, пробирающиеся с курортов дамы с детьми. Расписание отсутствует. У кассы столпотворение. Я дал рубль носильщику, чтобы он достал мне билет. Когда пришел поезд, носильщик прибежал, схватил мой нескладный, слишком легко раскрывающийся чемодан и втиснул меня на площадку, набитую до отказа. Потом сказал, что я доеду и без билета, достану его по дороге, и исчез. Поезд тронулся. Я был в штатском костюме, что справили мне после окончания училища, в черной касторовой шляпе, которую достал неведомо где. Я взял в дорогу «Пиквикский клуб», который лежал на чемодане, поставленном стоймя. Не успел я прийти в себя, едва отошел поезд, как на площадку втиснулся обер, сопровождаемый щеголеватым кондуктором. Со строгим лицом обер рванулся ко мне, дернул меня за плечо так, что я перевернулся и опрокинул чемодан, отчего упал и рассыпался «Пиквикский клуб». В результате этих действий, против которых я громко протестовал, обер пробрался к двери.
19 ноября
Он отпер дверь своим ключом и втащил на площадку какого-то подростка в белой рубахе и казацких штанах. И сразу же после этого напал на меня: «Человек на ступеньках висит, на краю гибели, а вы тут крик поднимаете». После этого, багровый, с трясущимися щеками, стал он проверять билеты. Узнав, что я безбилетный, приказал он щеголеватому кондуктору высадить меня на следующей станции, что тот и выполнил не без удовольствия. Наш вагон был одним из последних в длинном-длинном составе. Я бросился бежать к далекой станции, оставив чемодан и «Пиквикский клуб» на земле у вагона. Билет я успел взять. И когда мчался обратно, поезд тронулся. Изо всех вагонов кричали мне: «Прыгай! Садись!» Но я несся к своему чемодану. И когда добежал, было уже поздно. Поезд удалялся. С последней площадки щеголеватый кондуктор с усмешечкой смотрел на меня. Я уставился прямо ему в глаза с ненавистью, проклиная его в бессильной злобе, а поезд все набирал ходу. Когда я подходил к станционному домику, вокруг было уже тихо, как в степи. Над карнизом на доске чернело название станции: «Отрада Кубанская». Я вошел в пустую комнату с единственным диваном, с закрытым уже окошечком кассы, и вдруг тишину нарушил женский плач, горький, отчаянный вой. Вошел какой-то железнодорожник, и я узнал, что за стеной – гроб с телом молодого армавирского богача Баронова, разбившегося при автомобильной катастрофе. Жена плачет-убивается. И я ужаснулся. А железнодорожник, весь в машинном масле, тощий, пожилой, подсел ко мне.
20 ноября
Добродушно и наивно глядя на меня, он расспросил, как я попал сюда, кто такой, и посочувствовал моему горю. Следующий поезд придет ночью. Железнодорожник скрылся за одной из дверей с надписью: «Посторонним вход воспрещен», а я отправился бродить вокруг, бросив на деревянном диване свой чемодан и «Пиквикский клуб». Кому они тут были нужны? Кто их возьмет? За станцией дорога, убегающая в степь, уводящая из полосы отчуждения, от железнодорожного мира, тронула своей прелестью, шевельнулось было предчувствие счастья, но жалобный плач отрезвил меня разом. Ждать здесь до ночи казалось ужасным, непереносимым горем. И шелковское ощущение: «нехорошо, не к добру» – стало все яснее говорить в душе. Кончилось все: мирная жизнь, счастье, – что будет впереди? Почему я попал как раз на ту площадку, где оберу понадобилось открыть дверь? Неспроста высадили меня на станции, где стоит гроб и горько плачет женщина. Я вернулся на платформу. Железнодорожник подсел ко мне. Со стороны Армавира показался дымок паровоза. Железнодорожник скрылся и показался снова с видом человека, несущего хорошие новости. Приближался воинский поезд. Если сесть на площадку офицерского вагона, можно доехать до Кавказской. Так и начальник станции советует сделать. Пришел поезд из теплушек и одного классного вагона. Мой доброжелатель, подмигивая мне и кивая обнадеживающе, помог внести чемодан на площадку, сказал: «Ничего, ничего, доедете», – и исчез. Я, держа в руке билет, ждал с нетерпением, чтобы мы тронулись. Пусть высадят, но хоть на другой станции.
21 ноября
Но вдруг на площадке появился незначительного, скорей чиновничьего, чем офицерского вида капитан. Увидев меня, он взъерошился и велел уйти вон. Показывая билет, я забормотал, что мне разрешил ехать тут начальник станции, что я пробираюсь к мобилизованному отцу – вот телеграмма, что я… Ничего не желая слушать, фыркнув: «Начальник станции – подумаешь!» – он решительно приказал мне высаживаться. «Не понимаю, чем я вам мог помешать», – сказал я и, взяв чемодан и книжку, двинулся к выходу. «Ах, это и есть весь ваш багаж? – спросил вдруг капитан мягко. – Ну ладно, тогда оставайтесь». Я снова поставил свои вещи у окошка, а капитан скрылся в вагоне. Поезд тронулся наконец. И я расплакался позорно, глядя в окошко и ничего не видя. Минут через десять капитан опять появился на площадке – может быть, для того, чтобы пригласить меня в вагон. Я не повернулся к нему, желая скрыть слезы. Но он их заметил, видимо, потому что стал объяснять, какая ответственность лежит на нем как на начальнике эшелона. Тут поневоле будешь строгим. Я молчал, и капитан, не желая смущать меня, удалился. Слезы мои высохли. Я достал плитку шоколада, купленного в Армавире, и стал есть по кусочку. Но туман на душе не рассеивался, да я и боялся ясности. Смерть, плач вдовы, все мелкие и крупные обиды сегодняшнего дня – на все это лучше было не смотреть. И больше всего пугало сознание, что все эти события – только признаки, приметы недоброго времени, надвигающегося на всех. И в Екатеринодаре все было освещено новым, сумрачным светом. Наши поселились в одной из комнат большой Сашиной квартиры. Я встретился с Тоней, как в первый раз. Мы подолгу говорили. Вышло так, что я показал ему мои стихи, поразившие его своей бесформенностью. И вместе с тем что-то задело его в них. Это он не сразу признал. Спорил.
22 ноября
Он даже написал пародию на мои стихи: «Стол был четырехугольный, четыре угла по концам. Он был обит мантией палача, жуткой, как химеры Нотр-Дам». Все это (кроме химер Нотр-Дам) было похоже. Особенно описание стола. Но я упорно доказывал, что я пишу по-своему, что таково мое понимание музыки. К моей радости, через некоторое время я заметил, что Тоня начинает относиться к моей ни на что не похожей манере писать с некоторым уважением. А я выслушал и запомнил разгром моих рифм, которые вовсе и не были рифмами. Наметилось некоторое подобие дружбы с Тоней, но я с майкопской, почти сектантской, нетерпимостью не принимал многого из его высказываний. Самая манера выражаться, книжная, и, о ужас, «неестественная», не нравилась мне, вызывала подозрение. Но я скоро заметил, что, не боясь пользоваться книжными, а не своими оборотами, Тоня говорит всегда умно. Он оказался куда образованнее меня, с чем я скоро вынужден был считаться. Итак, с Тоней завязывалась дружба, я бывал в городском саду, в театре, ездил в рощу, название которой забыл, – единственная чахлая рощица в степных окрестностях Екатеринодара. Снова трамвайный звон вечером у городского сада как будто обещал счастье, но я чувствовал твердо: что-то отнялось. Я чувствовал, что пересажен, а привиться не могу, как только что в Москве… Ходили мы с Тоней на Кубань. Большая река, но чужая. Папа ходил в военной форме. Саша рассказывал, что в адвокатской комнате суда вывесили расписание, кому заходить ночью в редакцию за последними новостями. Сделали на три недели, а внизу написали: «К этому времени война кончится». Мы собирались в Москву.
23 ноября
Снова меня принялись одевать и обувать для Москвы. На этот раз в студенческую форму. Я подал заявление в канцелярию начальника области о выдаче свидетельства о благонадежности. Мне сказали, что его пошлют в Московский университет. На руки таковые не выдаются. Запах сургуча, унылые люди, чувство неловкости. С поездами дело было худо, но вагон «Петербург – Новороссийск» ходил. Беллочка устроила так, что кто-то из ее знакомых купил нам билеты в Новороссийске. Вообще вокруг нашего отъезда подняла она суету, характерную для нее. Писала в Москву двоюродному своему брату Аркадию об оказании нам покровительства, все время искала знакомых влиятельных московских людей, которые могли пригодиться нам на всякий случай. Этот коротенький екатеринодарский период жизни окрашен чувством конца чего-то, пустоты, чужого налаженного быта – Сашиного, Исаака. Мы ехали откуда-то на трамвае: Саша, Исаак, папа с мамой и я. Папины братья сошли на остановке, отправились в клуб. И он сказал мрачно: «Шварцы богатые ушли, а Шварцы бедные остались». Тогда я рассердился: ни Саша, ни Исаак богаты не были. Очевидно, отец хотел сказать: счастливые. Но, вспоминая, понял, что пугало отца. В сорок лет остался он вдруг без дома, без единой вещи, без уверенности в завтрашнем дне, с недружной и непонятной семьей. Было чего заскучать. В назначенный вечер явились мы на вокзал. У вагонов шла чуть ли не драка, но нам вручили билеты, и мы заняли плацкартные места. И я поехал снова в Москву, в ту Москву, о которой вспоминал с ужасом. Но на этот раз Тоня, курсистки, с которыми мы познакомились дорогой, отличная погода – все утешало меня.
24 ноября
Белые здания вокзалов Курской дороги уже не казались мне чужими. Я ехал в студенческой форме, с Тоней. Вагон был полон студентами, все больше Коммерческого института, в большинстве грузинами и армянами. Все познакомились друг с другом, и главное московское горе – одиночество – теперь не грозило мне. Поднятая на ноги Беллочкина родня в первый же день, точнее – в утро нашего приезда, устроила целый консилиум. Один дядя, благообразный и красивый, давал множество советов: где снимать комнату, сколько она стоит. Советовал Тоне называть себя Антон Исаич, чтобы не будить настоящим своим отчеством в людях антисемитизм. Я смутно чувствовал, что это смешно, но не признавался себе в этом, – столько наговорила мне Беллочка об уме своих кузенов. Дядя Аркадий, лысый, светлоглазый, скептический, с лицом человека, который не дурак пожить, больше помалкивал и позвал к себе обедать. Оба дяди считались дельцами. Но что они делали? Аркадий состоял, кажется, биржевым маклером. Его квартира выглядела по-московски знакомой. Все та же мебель модерн, пол затянут бобриком, пианино. Прилично и достойно жил дядя с молодой, разбитной, вечно напевающей женщиной, у которой был мальчик лет пяти. Русская, тоже очень московская, необыкновенно шла она к зиме, к магазинам Абрикосова, к опере Зимина, куда у дяди Аркадия был абонемент. Мы сняли с Тоней комнату наверху над дядиной квартирой в Дегтярном переулке на Тверской и стали постоянными его гостями. У меня всю жизнь отсутствовало канцелярское счастье. Когда мы пришли оформляться в университет, выяснилось, что свидетельство о благонадежности не пришло сюда.
25 ноября
Я дал об этом телеграмму в Екатеринодар. В канцелярии начальника области выяснилось, что свидетельство мое по ошибке заслали в Петроград. Мама, со своей подозрительностью, решила, что это подстроено мной, так как Милочка поступила на Бестужевские курсы. Я огорчился этой задержкой. Меня еще по пути мучило предчувствие, что в канцелярии меня как-то обидят. Но когда мы с Тоней зашли поглядеть на юридический факультет (правая дверь во дворе нового здания), меня утешил старик швейцар. Он повел нас в гардеробную. Там, по тогдашней традиции, уже висели отпечатанные на машинке карточки, указывающие каждому его вешалку, и мы увидели три таблички: «Шварц Антон Исаакович», «Шварц Борис Львович», «Шварц Евгений Львович». По странному совпадению студент, носящий имя и отчество моего старшего брата, умершего шестимесячным, поступил в этом же году в тот же университет, что и я. Оказался он, впрочем, остзейским немцем, неприятным и туповатым. Это выяснилось позже, а пока табличка с моей фамилией успокоила меня. Очевидно, университетская канцелярия, помещавшаяся где-то в мрачных катакомбах старого здания, не придавала значения задержке свидетельства. Оно и в самом деле скоро пришло, и канцелярское приключение забылось. Да, на этот раз у меня был студенческий матрикул. Я был студентом Московского университета. Он, правда, считался слабым. Я говорю о юридическом факультете, разгромленном Кассо. Но все-таки это был университет, Московский университет. И тем не менее тоска, московская тоска, скоро охватила меня. Я не прививался! Одиночество прошлого года исчезло. В Москве жили Истаманов, Лешка Кешелов, Камрасы. Комнату я снимал вместе с Тоней – и ничему это не помогло. С первого же дня возненавидел я юридический факультет с его дисциплинами. Студенты, которые были, конечно, не глупее моих одноклассников, показались мне дураками, ломаками, ничем.
26 ноября
Чужим я чувствовал себя и у дяди Аркадия. Это был Тонин дядя. И Тоня, выдержанный, хорошо говорящий, образованный, ясный, был принят в его семье как свой. У меня особенно испортились отношения с ним после одного случая. Маруся Зайченко делала сбор для какой-то курсистки, растратившей или потерявшей общественные деньги. Аркадий взял нас на «Лакме» к Зимину. В антракте я рискнул попросить у него для этой курсистки 25 рублей. Благодушное лицо Аркадия с устрашающей легкостью превратилось в каменное, надменное. И он отказал. Это было для меня открытием. Людей подобного рода я еще не видал в своей жизни. Ряд отвлеченных представлений вдруг наполнился содержанием. Я своими глазами увидел собственника во всей его силе. Сказался он по ничтожному поводу, но тем больше поразил. На Тоню он тоже произвел сильное впечатление. Дело было не в отказе, а в технике отказа. Я задел его веру, его божество – от этого и стало надменным его бритое, равнодушно-благожелательное лицо. И я впал у него в немилость. Он почувствовал во мне не врага, но чужого. Я продолжал бывать у него, но он все поучал меня по мелочам: как причесываться, как одеваться – а иначе ничего, мол, из вас не выйдет…
После монашеской интеллигентской майкопской среды эта и пугала, и удивляла меня. Но, легкая, практичная, трезвая, веселая, она шла московским оживленным улицам с театрами миниатюр, ресторанами, тумбами с афишами, польскими кофейнями, спекулянтами.
27 ноября
Впрочем, два этих последних понятия только-только начали появляться и утверждаться. Ведь война только-только начиналась. Первых раненых мы увидели на маленькой станции по дороге в Москву, ночью, и мне стало жутко. Но первые беженцы, первые «варшавские кафе», первые разговоры о спекулянтах – уже существовали. Москва была еще богаче, еще оживленнее, еще грязнее и еще мрачнее, чем в прошлом году. Но квартира внизу, где мы так часто обедали, не замечала невыносимой для меня тогда московской тоски. Любимым разговором было – сравнивать Москву и Петроград в пользу первой. Итак, я ходил в университет, слушал Байкова, читавшего римское право, лекции которого, и без того мне чуждые, окончательно отравлялись разговорами о том, что это карьерист, ставленник министерства, в науке – пустое место. Бывал и на практических занятиях по римскому праву у Бобина. Но больше всего пользовался я правами и преимуществами предметной системы, благодаря которой никто не интересовался, бываю я в университете или нет. Вот я и не бывал. И однажды в припадке тоски отправился вечером на Николаевский вокзал, не зная расписания, наугад. Мне, когда я поступал к Шанявскому, выхлопотали паспорт сроком на четыре года, до призыва на военную службу, что облегчало мне путешествия, – университетское удостоверение было действительно только в Москве и на сто верст вокруг. Я знал, что поезда в Петроград отходят по вечерам, – и в самом деле, через час я впервые в жизни ехал по дороге, столь знакомой мне впоследствии, ехал в Петроград повидать Милочку, заставить ее меня любить. Она ведь снова не знала, любит ли меня. Было это, вероятно, 10–11 сентября. Я хотел побывать на именинах Милочки 16-го. Я вышел в Клину, который славился своими пирожками.
28 ноября
Вот тут я вдруг понял, что вырвался из чужой, не принимавшей меня московской жизни и увижу сегодня Юрку Соколова, Соловьевых. Встречу с Милочкой я не представлял себе, это было слишком уж важно. Тоска исчезла, как исчезает иной раз боль, едва приходишь к доктору. Испытывая легкую дрожь, увидел я город. Солнце светило, к моему удивлению. И вот я вышел на Невский, сел на трамвай седьмой номер. И скоро почувствовал в самой глубине, в трезвой и неподкупной глубине: да, это не Москва. Я еще не понимал, в чем дело, но чувствовал новый город. Юрка жил на Петербургской стороне, в огромном доме сразу за Тучковым мостом, выходящем и на Большой, и на набережную, и на Средний проспект. Вход был со Среднего. Юрка обрадовался, что всегда меня глубоко трогало. И пошел показывать мне город. На трамвае проехали мы садоводство.
29 ноября
На это садоводство я до сих пор взглядываю, проезжая. Оно против собора. Через остановку мы слезли и вышли к Неве. Я как-то не понял ее из трамвая по дороге с вокзала. Но тут понял. И уже ясно почувствовал своеобразие города, о котором умалчивали у Аркадия. Мы дошли до спуска к Неве, с китайскими зверями, и сели на пароходик, который довез нас до пристани у Сенатской площади. И смутное чувство, что этот город не чужой, что и он принимает меня, зародилось во мне. Юрка вывел меня на Морскую. Богатство, как всегда в России, будило чувство неловкости, и дамы вызывающе глядели из колясок: «Мы в своем праве! Троньте только!» Возле памятника Николаю ходил старичок в старенькой солдатской форме, в кивере. Такой же старичок шагал у Александровской колонны. Дворец глухого красного цвета не очень понравился мне. Статуи на крыше, казалось, толпятся и не связаны со зданием. К боковому подъезду подкатила маленькая каретка, лакей в ливрее помог выйти маленькой старушке. Кто приехал? Мы знали, что царь живет в Царском Селе. Какая-нибудь старая фрейлина? Но это было так далеко от нас, что едва задело воображение. Зато раздавшийся на Дворцовом мосту странный дуэт – флейты и барабана – ударил по сердцу. Шли юнкера, неспешным шагом, штыки в ниточку…
Обедали мы в польской столовой. И вечером пошли к Соловьевым. Жили они очень высоко, на Восьмой или Седьмой линии, у самого Среднего проспекта, дом 31-Б. Они приняли меня ласково. У них сидела в гостях Милочка, странная, непонятная, петроградская. Она все постукивала носком башмачка, все думала о чем-то и улыбалась своим мыслям. И начались мои терзания. Юрка Соколов нарисовал карандашом карикатуру на нас.
30 ноября
Собственно говоря, это был рисунок, а не карикатура. За столом сидела Милочка, с новой своей неопределенной улыбкой, с шапкой вьющихся волос, а из угла комнаты глядел на Милочку я, худой, угнетенный, мрачный, явно стараясь понять изо всех сил, что она думает, что с ней. Рисунок этот ужаснул меня, я даже хотел разорвать его. Во всяком случае – помял, чем рассердил Юрку. В любви своей дошел я до странного состояния. Я отчетливо видел все недостатки Милочки. Она была не вполне нашей, не понимала того, что легко схватывали я, Юрка, из Соловьевых – Варя. Юрка рассказал мне, как в музее Милочка, глядя на какую-то картину, прошептала: «Хорошенькая головка!» Я был беспощаден к ней, какой-то трезвый голос говорил мне: «Сейчас она даже некрасива. Смотри! То, что она говорит, не слишком умно. Слушай! Она не понимает того, что понимаем мы. Она не очень хорошо играет на рояле. Играя, она открывает рот, не разжимая губ. Это не слишком красиво». С удивлением я заметил однажды, что люблю Милочку для себя. Мне легче было бы пережить ее смерть, чем измену. Я никогда не жалел ее. Я любил ее свирепо, бесчеловечно – но как любил! То, что в других меня разочаровало бы, вызывало только боль, когда я замечал это в Милочке. Я не жалел ее, странно было бы жалеть бога. Поездка в Петроград оказалась мучительной. У Милочки бывал Третьяков, тот самый юнкер, которого я ненавидел в Майкопе[273] . На этот раз были поводы для ревности. И я по своей слабости переживал это чувство открыто, не скрывал его. В Петрограде было много магазинов с вывеской «Цветы из Ниццы». Недалеко от Милочки (она жила на Среднем проспекте Васильевского острова, в доме 47) был как раз такой магазин. Я купил букет хризантем.
1 декабря
Ничего другого, кроме этих цветов, лиловатых, растрепанных, с длинными лепестками, в магазине и не было – вероятно, по случаю войны. 16 сентября 1914 года пошел я вечером к Милочке, понес свои хризантемы. И мы поссорились в этот день, в день ее ангела. И, придя в ужас и отчаяние от невозможности понять новую, петроградскую Милочку, как не понимал, впрочем, за год до этого Милочку майкопскую, я выхватил из вазы растрепанные большеголовые цветы, бросил на пол и растоптал. И Милочка сказала дрогнувшим голосом: «Вот так у нас и будет. Все, что ты мне отдаешь, ты потом растопчешь». И это до того не было похоже на правду, что я подумал: «Нет, Милочка все-таки ничего не понимает. И сказала она это как-то неестественно». Я был беспощаден к ней – и как безумно я любил ее. Уже у Наташи и Лели были строгие лица, когда мы у них бывали. С такими лицами переносили они обычно зубную боль, температуру, неприятности в гимназии. В данном случае хотели они скрыть, как неприятно им видеть то, что Юрка так беспощадно изобразил в своем рисунке. И он, встретивший меня радостно, теперь стал суховат со мной. Не одобрял моего поведения. Но я видел это как бы сквозь сон. Я почти не разговаривал с Соловьевыми и Соколовыми. Кто-то из родственниц петроградских Юрки болел легкими. Какая-то Юрина тетка. Ему надо было проводить ее в Финляндию, в санаторию. Он предложил мне поехать с ним, но я отказался, чего не могу простить себе до сих пор. Так во мгле и тумане провел я дней десять и вернулся в Москву. Взбудораженный, ошеломленный, я еще дальше чувствовал себя от московского круга. Примерно в эти дни произошел разгром немецких магазинов на Кузнецком? Негде проверить. Или это случилось во второе полугодие? В университете состоялась единственная студенческая сходка на моей памяти. Обсуждали и, помнится, осуждали этот погром. Во всех речах я чуял глупость.
2 декабря
Петроград все мучил меня. И вот я сочинил поэму, шуточную и грустную в такой мере, что в любом месте можно было сказать, что это я так. Тоже для смеху. В ней я описывал свою поездку.
3 декабря
О самом главном в поэме умалчивалось. Ни о любви моей, ни о Милочке не говорилось. Более того, перечисляя друзей, собравшихся у Соловьевых, я Милочку не назвал, но написал умышленно: «Мы в сборе, теперь мы все». Написав, послал Юрке. И вдруг получил от него ласковое письмо, в котором он поэму хвалил. Написали мне об этом и девочки Соловьевы. Однажды я встретил девушку, лицо которой показалось мне знакомым. Это была Зина Лабзина, та, что некогда дружила с Милочкой, жила рядом с ней. Она узнала меня. Я зашел к ней в гости. Говорили о Майкопе, о школьных наших годах и, естественно, о Милочке. Вышел я от нее полный такой тоски, что заехал домой, взял сверток с бельем и несессер, который купил в минуту расточительности, в сафьяновом футляре, с мыльницей, щеткой, флаконами для одеколона, впрочем, пустыми. Тоня на этот раз встретил мой отъезд неодобрительно, что на мое решение не повлияло. На этот раз попал я на почтовый поезд, шедший бесконечно долго. Приехал я в Петроград часа в три дня. Встретил меня Юрка весело: «Написал поэму, а теперь приехал посмотреть, какое впечатление произвел?» Он, оказывается, переписал ее и сделал к ней концовочки пером. Я был счастлив; первый раз Юрка меня так похвалил. Именно в этот приезд сказал он мне: «Тебя любят всегда, а уважают иногда». Милочка вспыхнула, когда увидела меня, – обрадовалась, она не ждала моего приезда. Но уже на другой день все полетело кувырком. Третьяков, несомненно, стоял на моем пути, и я обезумел, потерял голову от ревности. Пришел он к Милочке. Посидев некоторое время, я сбежал, потом вернулся во двор, пробрался в какой-то закоулок под Милочкиным окном. Тускло светились двойные рамы, занавески. Стоял туман. Я глядел и не знал, что делать, готов был на все. Жила Милочка в полуторном этаже. Швырнуть полено? Взобраться по трубе? И я вернулся к Милочке.
4 декабря
Вернулся туда, к ним, спокойный, как ни в чем не бывало. Милочка и Третьяков сидели чинно за столом, беседовали. Надо сказать, что соперник мой не имел ничего юнкерского в своем характере, был, может быть, еще более робок, чем я. Он только, вероятно, начинал влюбляться в Милочку, поглядывал на меня сквозь очки несколько смущенно. Он не мог не знать, что я в нее влюблен много лет. Когда Третьяков стал прощаться, я заявил, что побуду еще немного. Милочка сделала недоумевающее лицо и пошла проводить Третьякова до двери. Вернувшись, отказалась она говорить о Третьякове, о своих чувствах к нему и ко мне. На другой день я пришел рано, Милочки не было дома. Злая хозяйка ее, ожесточившаяся от одиночества, не здороваясь, пустила меня в Милочкину комнату. Подождать. Там я увидел на столе тетрадь, Милочкин дневник, как я подозревал. Без колебаний и угрызения совести открыл его я. Боль моя к этому времени достигла такой силы, что кроме нее ничего я не испытывал. Я столько раз ревновал Милочку без всяких причин, что и на этот раз хотел одного: успокоиться – и верил в это. Прежде всего увидел я запись в день моего приезда: «Я почему-то очень обрадовалась», – писала она. Дальше она рассказывала, что обращалась со мной ласково, и заканчивала пренебрежительно: «Он, конечно, страшно рад». И, не веря себе, ужасаясь, прочел я правду: Милочка влюбилась в Третьякова и жаловалась на его непонятное поведение: «Он избегает называть меня по имени». Уж я-то понимал почему! Никаких признаков любви она в Третьякове не замечала. Но я-то их видел отлично. Да и не в его чувствах было дело, а в ее! Я ушел, не дождавшись Милочки, бродил по переулкам, которых никогда потом не видел. Вышел на узенький канал с деревянным мостиком, постоял у перил. Все выглядело новым, ясным, безнадежно ясным: беда пришла. Вернувшись к Милочке, я не признался ей, что прочел ее дневник. Я сказал, что меня «осенило».
5 декабря
«Меня осенило! – сказал я Милочке. – Я больше не буду тебя ни о чем спрашивать. Мне все и так понятно». И я, приводя разные случаи, замеченные и вычитанные в дневнике, закончил решительным и твердым утверждением: «Меня ты больше не любишь. Ты влюблена в Третьякова». Все это Милочка выслушала покорно, с легким смущением, не отрицая и не подтверждая. Да я и не давал ей говорить. Мы попрощались с ней на углу, у остановки 7-го номера. И я уехал на вокзал. Все было по-новому ясно, и улицы, и город лишились значительности, не обещали мне больше счастья. Я ходил взад и вперед мимо своего вагона, и вдруг на перрон, откуда-то снизу, с пустого пути, прыгнул Юрка. У него не было денег на перронный билет и на трамвай. Он пешком пришел на вокзал и по путям пробрался к поезду. Он не собирался провожать меня, появился на вокзале неожиданно. Он был скорее печален, чем сердит. Разговор завязался неопределенный. Я не в силах был рассказать ему о своей беде, а он чувствовал, что произошло нечто более тяжелое, чем обычная ссора с Милочкой. В поезде не стало легче. Вся с детства любимая прелесть железнодорожного путешествия исчезла. Гудел паровоз, стучали колеса – ну и что? Оставив на своем месте пальто, я вышел на какой-то станции. Вернувшись, увидел, что место мое занято. Я подошел к студенту, занявшему место, и со всей ясностью и простотой, новой у меня, попросил его пересесть. Он попробовал спорить, но потом смутился и послушался. И мне на миг стало легче. Легче мне стало и когда какой-то молодой человек, уже под Москвой, помог мне собрать вещи, завернул мой узелок в газету. «Наверное, видно, как я измучен», – подумал я. И, приехав в Москву, я почувствовал, что жить не могу. И я решил идти на войну.
6 декабря
Когда я решил идти на войну, мир, потерявший цвет, ласковость, таинственность, стал понемногу как бы приходить в чувство. Я не был уже в одиночестве, один против своей беды. Я стал мечтать, к сожалению. У меня появились надежды – бессмысленные, но успокоительные, одурманивающие надежды – поразить, наказать Милочку за ее измену военной славой или славной смертью. Кроме того, уход на войну одним ударом разрубал запутавшийся узел моих университетских дел. Я безнадежно отстал, не бывал на семинарах, лекциях и так далее. Я ненавидел юридические «дисциплины», – само это слово наводило тоску. И я не верил, что подготовлюсь к экзаменам. Точнее, понимал, как это будет трудно, труднее, как мне казалось, чем воевать с немцами. И, наконец, третье, чтобы до конца оставаться правдивым. Меня и в самом деле мучило достаточно ясное чувство вины. Правда, мой возраст не был еще призван, но кое-кто из наших реалистов уже воевал. Мне казалось, что я мог бы взять на себя часть общей тяжести. Сначала я решил поступить в военное училище. Я поехал куда-то далеко, опять к Яузе, там, мне сказали, я могу получить все справки о поступлении на военную службу. Весь мир уже не был так оголен, как в первые дни моего горя. Мне показалось значительным, что воинское присутствие недалеко от больницы, где я заглянул год назад в прозекторскую. В угрюмой, сургучной, канцелярской, недоброжелательной комнате писарь неохотно дал мне все справки. Выяснилось, что я – православный, рожденный русской и по документам русский – в военное училище поступить могу только с высочайшего разрешения, так как отец у меня еврей. Для поступления же добровольцем препятствий не имелось. Писарь дал мне книжечку: правила поступления охотником. Я выбрал артиллерийский дивизион, расположенный на Ходынке, – кто-то посоветовал мне идти в артиллерию. Тоня сказал мне насмешливо: «Ты уже потому охотник, что несешь дичь!» Но я был тверд.
7 декабря
Я сообщил домой, что иду на фронт добровольцем. Написал Юрке и получил ответ. Он отговаривал меня от этого. Он осторожно намекнул на подлинную причину моего решения: «Мяса ешь поменьше!» В то же время сообщил он мне, что Наташа бросила курсы, пошла в сестры милосердия – в Еленинскую общину. Там был почти монашеский устав – домой не отпускали, посещение знакомых не допускалось. Когда (несколько месяцев спустя) она уезжала на фронт, Соколовы стояли вдали, только знаками с ней попрощались. И это укрепляло мое решение. Если бы не отвратительная, невыносимая для меня канцелярская застава, через которую в первые месяцы войны надо было пробиться, чтобы попасть в армию, я пошел бы добровольцем. Несмотря на то, что мне исполнилось уже восемнадцать лет, я терялся, выходя из привычного мне круга. Меня оскорблял и пугал тон, с которым писари разговаривали со мной. А тут еще пришла телеграмма отца: «Запрещаю как несовершеннолетнему поступать добровольцем». И вторая телеграмма, извещающая о приезде мамы. Она приехала растерянная, и давно утраченная близость между нами помешала настоящему объяснению. Спорить нелепо, раздраженно я мог, но тут было не до того. В общем, все же мое желание идти на фронт дрогнуло. Я сдался. Мама провела в Москве недели две. Я доставал ей билеты в театр. Обидел ее без всякой вины с моей стороны: обещал ее встретить и проводить после спектакля в Художественном, и мы разошлись с ней в толпе, а она так и не поверила, что я пришел вовремя. Побывали на торжественном спектакле в Большом в пользу инвалидного фонда (шел один акт оперы, акт из Островского – «Свои люди – сочтемся» и акт из балета)[274] . Я был на галерке, а мама в партере. Очень долго играли гимны союзных держав, и, глядя на маму сверху, я боялся, что ей трудно стоять.
8 декабря
Было ей тогда тридцать девять лет, здоровье ее с годами окрепло. Выяснилось, что порок сердца, который прослушивали у нее все врачи, исчез. Да, исчез начисто, шумы в сердце пропали, мои детские страхи оказались напрасными. Но я привык бояться за нее и угадывал, что ей неудобно и трудно стоять между креслами, что и подтвердилось. Мама сказала после спектакля, что она боялась упасть. Садовская играла сваху в «Свои люди – сочтемся», пела и даже сплясала или показала вид, что это сделала. И мама впервые увидела артистку, которая, как думал Дризен, повлияла на восемнадцатилетнюю любительницу. Садовская была прекрасна. Побывали мы с мамой и в Третьяковке. Румянцевский, помнится, почему-то был закрыт в это время. Повидала мама Камрасов, Истаманова, побывала у Аркадия и поняла, как я живу. И пришла в ужас. И, как я узнал потом, писала папе, что я ничего не делаю, «ничем не интересуюсь» (вот вечное обвинение тех лет) – и, может быть, лучше было бы пойти мне и в самом деле на войну? Теперь мне кажется, что она была права. Но она не решилась, не посмела отправить меня в эту жестокую школу. И уехала. Приближались рождественские каникулы. Мы с удовольствием думали о поездке домой.
14 декабря
Я не слышал Шаляпина: ждал, пока билеты свалятся мне в руки. Да так и не дождался. Я не читал почти ничего нового, а все перечитывал Толстого и Чехова. «Анна Каренина» так и лежала у меня на столе, ездила со мной всюду, как недавно «Пиквикский клуб». Читал «Новый сатирикон» и тоненькие журналы, а толстые не читал. Разве, если попадутся под руку. Дочка Марии Гавриловны Маруся Петрожицкая, незадолго до того кончившая с серебряной медалью Московскую консерваторию, решила, что мне следует заниматься музыкой. Чуть странная, в платьях вроде античных хитонов, с большим бледным лицом и небольшими глазами, она взялась за это дело энергично, даже комнату ходила снимать со мною, искала подходящую для занятий музыкой. Впрочем, в Лебяжьем переулке поселился я самостоятельно. Туда я привез пианино, взятое напрокат, – кажется, Блютнера, с тремя педалями, средняя являлась модератором. Я брал уроки у прекрасной пианистки, повесил над пианино портрет Бетховена, но уроков не учил и так и не научился хоть ноты читать. Комната у меня была странной формы, многоугольная. Окно выходило в сторону Москвы-реки – виден был Каменный мост, набережная, вода.
15 декабря
Я слышал, как гудел лифт, поднимаясь, – углы моей комнаты были вызваны необходимостью построить шахту для него. В консерватории объявили вечер памяти Чюрлениса. Маруся Петрожицкая должна была играть по рукописи его вещи. Она взяла меня на репетицию перелистывать ноты. Оказывается, я и этого не умел. Были мы на выставке этого художника, где-то на Тверской. Он писал музыку, и тогда мне, в тумане моем, казалось, что я понимаю его. Все больше и больше военных встречалось теперь на улицах и в театрах. По офицерской традиции они стояли у своих мест, повернувшись лицом к сцене, пока в зрительном зале не гаснул свет. Объясняли эту традицию по-разному. Кто говорил, что офицеры стоят лицом к тому месту, где положено быть царской ложе, кто – исходя из предположения, что в зале находится некто невидимый старше их чином. В переулках, на площадях, у казарм – всюду, всюду учили солдат. Однажды, это уж ближе к весне, пошел я к вечеру в Кремль. Возвращаясь, я увидел, как со Знаменки навстречу мне идут не спеша рослые люди, на которых все оглядываются. Иные даже останавливаются, смотрят им вслед. И когда они подошли ближе, священный трепет, майкопский благоговейный ужас охватил меня. Шел человек, из которого воистину «вышло что-то»: Шаляпин! Предполагали снимать картину «Иван Грозный»[275] . Видимо, с тогдашними киношниками и шагал Шаляпин в Кремль. Он угадывал наш трепет, но был царственно спокоен. И я подумал, что надо же, наконец, увидеть Шаляпина на сцене.
19 декабря
Без огня моей любви я опустел. Мне не хочется рассказывать о тех годах. Я просто жил и хотел нравиться, только нравиться, во что бы то ни стало; куда меня несло, туда я и плыл, пока несчастья не привели меня в себя и я не попал в Петроград 21 года артистом Театральной мастерской. Я был женат, несчастен в семейной жизни, ненавидел свою профессию, был нищ, голоден, худ, любим товарищами и весел, весел до безумия и полон странной веры, что все будет хорошо, даже волшебно.
30 декабря
Петроград оказался воистину призрачным. В искусстве. В нашей области – одни еще не умерли, а другие еще не родились. Старые имена не имели под собой почвы. А на новой почве росли странные искусственные цветы.
31 декабря
Ясинский, например, вступил в партию и вошел в литературную группу «Космист» с неопределенной, но вдохновенно левой программой. Вожди ее не знали, что возопят в ближайший день, но держались уверенно, будто знали. Собирались они часто в салоне (так его и называли: салон) у Мгеброва и Чекан[276], столь же вдохновенно левых артистов. В темном коридоре посетителям преграждала путь застава: стол с двумя свечами, за которым восседал суровый старик, адмирал в отставке Мгебров, отец хозяина. Он собирал деньги за вход, на освещение – по миллиону, кажется, с человека. Если денег не было, пускал и так. В просторном зале у стены стоял овальный стол с альбомами, полными фотографий хозяйки в тунике – она не то была ученицей Далькроза, не то Дункан. Рояль. Стулья вдоль стен. Вот там выступали шумно космисты, и плясали босоножки, и декламировал, и при этом талантливо, рассеянно-вдохновенный Мгебров. И все это вместе с Далькрозом, и туникой, и романтическим театром, и вдохновенным Мгебровым считалось тем новым, что растет на смену умершему искусству.
1953
7 января
В 1921 году меня поразили своей красотой деревья на Мойке, против елисеевского особняка, в то время – Дома искусств. Несмотря на то, что был уже октябрь, они стояли пышные, без единого желтого листика, и мне чудилось, что они обещали мне счастье. Но зима наступила скоро, суровая, с двадцатиградусными морозами. Мы жили коммуной, купили дров на театральные деньги и топили высокие чугунные буржуйки. На боках их выступали светящиеся красные пятна. На трубах мы подогревали сыроватый черный хлеб и ели. И обеды готовили мы коммуной, и я, после долгого промежутка времени, обедал каждый день. Кроме того, в пустующей кухне палкинских номеров топили мы огромную плиту и, замесив на воде тесто, пекли прямо на плите лепешки и ели. На Кузнечном рынке покупали крупу, чаще всего ячневую, репу, которую я до тех дней никогда не пробовал, картошку – и ели. Дрова, еда – все это радовало, как может радовать только в голодные и холодные годы. Скоро мы нашли приработок: в «Живой газете» Роста. В страшные морозы ездили мы по клубам. В одном из них нам дали архив, чтобы мы топили буржуйку, банковский архив.
8 января
Когда в 1922 году наш театр закрылся, я, после нескольких приключений, попал секретарем к Корнею Ивановичу Чуковскому. Человек этот был окружен как бы вихрями, делающими жизнь вблизи него почти невозможной. Находиться в его пределах в естественной позе было невозможно, – как ураган в пустыне. Кроме того, был он в отдаленном родстве с анчаром, так что поднимаемые им вихри не лишены были яда. Я, цепляясь за землю, стараясь не щуриться и не показывать, что песок скрипит у меня на зубах, скрывая от себя трудность и неестественность своего положения, я пытался привиться там, где ничего не могло расти. У Корнея Ивановича не было друзей и близких. Он бушевал в одиночестве без настоящего пути, без настоящего языка, без любви, с силой, не находящей настоящего, равного себе выражения, и поэтому – недоброй. По трудоспособности трудно было найти ему равного. Но какой это был мучительный труд! На столе у него лежало не менее двух-трех-четырех работ – вот статья для «Всемирной литературы»[277], вот перевод пьесы Синга[278], вот предисловие и примечания к воспоминаниям Панаевой[279], вот начало детской книжки. Он страдал бессонницей. Спал урывками. Отделившись от семьи проходной комнатой, он часов с трех ночи бросался из одной работы в другую с одинаковой силой и с отчаянием и восторгом.
9 января
Иногда выбегал он из дома своего на углу Манежного и обегал квартал – по Кирочной, Надеждинской, Спасской, широко размахивая руками и глядя так, словно тонет, своими особенными серыми глазами. И весь он был особенный – нос большой, рот маленький, но толстогубый, все неправильно, а красиво. Лицо должно бы казаться грубоватым, а выглядит миловидным, молодым, несмотря на седые волосы. На улице на него оглядывались, но без осуждения. Он скорее нравился ростом, свободой движения, и в его беспокойстве было что угодно, но не слабость, не страх. Он людей ненавидел, но не боялся, и это не вызывало осуждения и желания укусить у встречных и окружающих. Я приходил по его приказу рано, часов в восемь. Я в своем обожании литературы угадывал каждое выражение его томных глаз. Показывая руками, что он приветствует меня, прижимая их к сердцу, касаясь пальцами ковра в поясном поклоне, он глядел на меня, прищурив один свой серый прекрасный глаз, надув свои грубые губы, – с ненавистью. Я не слишком обижался, точнее, не обижался совсем. Ненависть этого рода вдруг вспыхивала в нем и к Коле – первенцу его, и к Лиде, и изредка к Бобе, и никогда к Муре, к младшей. По отношению к Марии Борисовне не могу ее припомнить. Она часто спорила на равных правах, тут шли счеты, в которые я боялся вникать. Но нас он часто обдавал этой неприязнью. И он спешил дать мне поручение, чтоб избавиться от меня. В те дни занимался он Панаевой. Я шел то в Публичную библиотеку, то к кому-нибудь из историков литературы.
10 января
А однажды ходил я доказывать, что ему, Корнею Ивановичу, неправильно назначили налог. И я в гор– или губфинотделе на канале Грибоедова, в великолепном кваренгиевском здании против мостика со львами, доказывал кому-то, что произошла ошибка, и, помнится, сбросили Корнею Ивановичу миллионов шестьдесят. Он поклонился мне в пояс и закричал своим особенным тенором, что я не секретарь, а благодетель. Научил он меня править корректуру в гранках, помечать ошибки на полях и в строчках. Иногда у нас завязывались разговоры, но среди них он вдруг явно уходил в себя, прищурив один глаз, но и до этого знака невнимания, говоря, он жил своей жизнью. Какой? Не знаю. Но явно трудной. За несколько месяцев до моего секретарства разыгралась громкая история с письмом, которое послал он за границу Алексею Толстому, который тогда редактировал в Берлине сменовеховский журнал «Накануне»[280] . В письме этом он приветствовал разрыв Толстого с эмиграцией, рассказывал, в каком унылом окружении живет, звал Толстого в Петроград. Письмо Толстой напечатал, и все оскорбленные, названные в письме, подняли шум. В Доме искусств, в Доме литераторов начались бурные собрания, на которых Чуковский отсутствовал по болезни. Говорили, что он близок к сумасшествию. Не знаю. Он вечно и почему-то каждый раз нечаянно обижал кого-нибудь. И Андреев жаловался, и Арцыбашев вызывал его на дуэль[281], и всегда он приходил в отчаянье и был близок к сумасшествию, но оживал. Но проходили эти бон не бесследно. Иногда мне казалось, что измучен он нешуточно и все глядит внутрь, на ушибленные в драке части души. Вряд ли он был душевно болен, но мне казалось, что душа у него болит все время.
11 января
Однако, когда требовали дела, Корней Иванович выбегал – именно выбегал – из дому и мчался огромными шагами к трамвайной остановке. Он требовал, чтобы и я так делал всегда: «Если трамвай уйдет из-под носа, так вы не будете виноваты». И, приехав, примчавшись, куда ему нужно, он спокойно и при этом весело и шумно проникал к человеку, главному в учреждении. «Вы думаете, он начальник, а он человек!» – восклицал он своим насмешливым, особенным, показным манером, указывая при слове «начальник» в небо, а при слове «человек» – в пол. «Идите всегда к самому главному!» Он добивался того, чего хотел, и дела его шли средне – обычная история с людьми подозрительными и мнительными. Дела могли бы идти отлично, если бы Корней Иванович понимал, что у него меньше врагов, чем это ему чудится. И, защищаясь от подозреваемого противника, он вечно оказывался, к ужасу своему, нападающей стороной. Это вносило путаницу и ранило в тысячный раз нежного, нечаянно завязавшего драку Чуковского. Впрочем, иной раз мне казалось, что он уже и без всякого повода испытывает часто непреодолимое желание укусить и обидеть – и при этом вполне бескорыстное, ненужное, не объяснимое самозащитой. Ненависть схватывала его, как судорога, и он кусался. Кого он уважал и любил в те времена? Может быть, Блока. Отчасти Маяковского. Любил хвалить Репина. Вот и все. Однажды он стал читать, улыбаясь, Сашу Черного – стихи «Корней Белинский»[282] . Я их не очень помню. Кончаются они тем, что Чуковский силен, только когда громит бездарных людей, а в остальном – ничто. Начал Корней Иванович читать улыбаясь, а кончил мрачно. Думая о своем. И, прищурив один глаз, сказал: «Все это верно». Маршак не раз говорил: «Что за критик, не открывший ни одного писателя».
12 января
И вместе с тем какая-то сила, внушающая уважение, все время угадывалась в нем. Маршак сказал однажды: «Он не комнатный человек». Стихи он запоминал и читал, как это свойственно настоящим поэтам. Любил, вероятно, и некоторых прозаиков, но не так, как Некрасова, например. Одна черта, необходимая для критиков, у него была: он ненавидел то, что другому только не нравилось бы. Но любил с такою же силой – редко. Мешало ему то, что настоящего дара к прозе у него не было. Во многих детских стихах язык у него обнаруживался (конец «Мойдодыра», например), а в прозе в его развязанности чувствовалась скованность, ограниченность. В прозе проявлялась та сила, которая так легко сгибала и выпрямляла длинную его фигуру, играла его высоким голосом, жестикулировала ручищами. Актерская сила, с фейерверками, конфетти и серпантином. Когда начинал он рассказывать о писателях, часто не вспоминал, а сочинял. А прозаик без памяти – невозможен. Однажды он рассказал, как приехал на какой-то вечер Скиталец, пьяный, хотел прочесть свое стихотворение: «Мне вместо головы дала природа молот» и прочел: «Дала природа ноги». Я посмеялся, а потом вспомнил, что эти строки вовсе и не Скитальца, а пародия на него Измайлова[283] . Значит, вся история сочинена. Не было у него памяти, чтобы запомнить, и языка, чтобы рассказать. Та сила, внутренняя, которая угадывалась, заставлявшая его уходить в себя посреди разговора или бегать вокруг дома посреди работы, была нема и слепа и только изредка сказывалась в стихах. Не радовала она его, а грызла и бродила, отчего он и кусался. Вот я возвращаюсь, выполнив поручения. И докладываю: я побывал у Лернера[284] . В Публичной библиотеке.
13 января
Попытался достучаться к Замирайло[285], но напрасно. Все поручения выполнены. Я докладываю об этом Корнею Ивановичу. Высокие потолки, высокие окна без занавесок, свет бьет в лицо, Корней Иванович смотрит на меня своими непонятными глазами, и чувство нереальности всего происходящего охватывает меня. Зачем ходил я к Лернеру, в Публичную библиотеку, к Замирайло? Нужно ли было Корнею Ивановичу, чтобы я выполнял все эти поручения, или он просто хотел от меня избавиться? И нужен ли ему вообще секретарь? Да и сам Корней Иванович – тот ли, которого я столь почитал издали в студенческие времена за то, что он был в самом центре литературы, представлял ее и выражал. Что он такое на новой почве, в новой жизни? Существует ли он? Мысли подобного склада часто овладевали мной в те дни: существует ли Давыдов[286], или в старые времена он был совсем другой артист? Таков ли был Радаков[287], когда «Новый сатирикон» существовал? Что умерло, что уцелело, что растет, а где искусственные цветы? В те дни появились магазины «приказчиков Елисеева», «приказчиков Соловьева». Мне казалось, что люди, уцелевшие от старой жизни, делятся на два вида: «приказчики быв[шего] Елисеева» и «бывший Казанский собор, ныне Антирелигиозный музей». Корней Иванович не подходил ни к тому, ни к другому виду, и я часто не понимал, существуем ли мы – и патрон, и секретарь. Для меня это были самые трудные дни: переход от актерской работы к литературной. В те дни я дружил с Колей Чуковским и все советовался с ним, расспрашивал, – выйдет ли из меня писатель. И Коля отвечал уклончиво. Однажды он сказал: «Не знаю. Писателя все время тянет писать. Посмотри – отец все пишет, все записывает, а ты нет». И в самом деле: я никак не осмеливался писать.
14 января
У Корнея Ивановича была толстая, переплетенная в черный переплет тетрадь, знаменитая «Чукоккала»[288], альбом, которым дорожил он необыкновенно. Там были и рисунки Репина, и стихи Сологуба, Блока, автографы Горького, Куприна – всех, в сущности, поэтов, писателей, журналистов, живших в Петербурге, Петрограде, Ленинграде.
Молодой Лева Лунц[289], в сущности мальчик, веселый, легкий, хрупкий, как многие одаренные еврейские дети его склада, уезжал к родным за границу. «Серапионовы братья» собрались проводить его. Были и гости. Среди них – Замятин. Я тоже был зван, и Корней Иванович дал мне «Чукоккалу», чтобы я попросил участников прощального вечера написать что-нибудь. Вечер был так шумен и весел, что альбом пролежал на окошке в хозяйкиной комнате весь вечер, и никому я его не подсунул. Вечер, повторяю, был веселый, только главный его виновник грустил. Он недавно перенес суставной ревматизм. И в тот вечер ему нездоровилось – он с трудом открывал рот – болела челюсть в суставе, и это его тревожило. Мы не верили в дурное и не предчувствовали, что Лева Лунц уезжал умирать. Мы подсмеивались над его челюстью «слегка испорченной», а это был симптом возврата болезни. Он уехал к родным, но с парохода его уже вынесли на руках, и он до самой смерти не вставал с постели. Но тогда мы в это не поверили бы. На другой день после веселых проводов я у Чуковского не был. Вечером зашел Коля и сообщил, что папа очень беспокоится, – где «Чукоккала». Утром я Корнея Ивановича не застал – он унесся по своим делам. Но на промокательной бумаге письменного стола в нескольких местах было написано: «Шварц – где „Чукоккала“?» И я понял, что и в самом деле первое его движение, первое выражение чувства – запись.
15 января
Корней Иванович неоднократно горевал о дневниках своих, которые вел всю жизнь. Они остались на даче в Куоккале[290] . Полагаю, что дневники его и в самом деле – клад, да еще и загадка. Это будет неслыханная смесь искренности и той непонятной для постороннего читателя лжи, что вызывалась мнительностью, подозрительностью и судорожным желанием укусить. Я работал, или считалось, что работаю, и, несмотря на мгновенья растерянности, о которых рассказывал, несмотря на неестественное положение в полосе отчуждения, в пустынных вихрях, временами все же бывал счастлив. Так или иначе, я все дальше и дальше уходил от театра, и вокруг меня все жило интересами литературы. Я слышал имена современников Чуковского. Говорил он о них недостоверно, с усмешечкой, без настоящего интереса, но я наслаждался. Смеясь, глядит он на портрет Мережковского, приложенный к какой-то книге. Писатель сидит в кресле у себя в кабинете. На стене распятие и непосредственно под ним кнопка звонка. Заметив эту подробность, Корней Иванович хохочет весело и нарочито громко. «Весь Митя в этом!» – восклицает он. Мне не вполне ясно, почему весь Митя в этом, но и я смеюсь, я доволен – разговор повел меня в литературу, в самую ее середину. А Корней Иванович, оборвав смех и потемневши, рассказывает, как Мережковский и Гиппиус, уже решив бежать, ходили по издательствам и собирали авансы. До отъезда были они с Корнеем Ивановичем ласковы, все просили советов и помощи, подписывая договоры в непривычных обстоятельствах, а бежав, стали обливать грязью. Гиппиус посвятила ему стихи, где говорила, как радует ее всегда приход «седого мальчика с душою нежной», а за границей ругала его, как торговка. Улыбаясь довольной улыбкой, вспоминает Корней Иванович: «Брюсов говорит: „Мне сегодня исполнилось сорок лет“, а я отвечаю: „Пушкин в эти годы умереть успел!“ (Впрочем, речь, возможно, шла о тридцати годах и о Лермонтове.)
16 января
Больше всего мне понравился и меньше всего вызвал сомнений рассказ Корнея Ивановича о Короленко. Чуковский сказал ему однажды: «Как хорош у вас, Владимир Галактионович, слесарь в рассказе „На богомолье“. Сразу видно, что он списан с натуры». Надо знать Корнея Ивановича, чтобы почувствовать своеобразную ядовитость этого заявления. Оно было построено по любимому его образцу. Сначала похвала, а потом удар ножичком в спинку. Я так и слышу, как невинно и вкрадчиво звучит тенор Чуковского: «Списан с натуры». И Короленко ответил спокойно: «Еще бы не с натуры – ведь это Ангел Иванович Богданович»[291] . Корней Иванович восхищался этим ответом. А для меня в нем было целое откровение. Вот он, настоящий реализм. Взять характер интеллигента, редактора толстого журнала, со всеми особенностями («Черт Иванович» – называли Богдановича наборщики) – и перенести в другую среду, да так, что он стал еще яснее и выразительнее. Вот тебе и с натуры. Работа у Чуковского сошла постепенно на нет к весне 23 года. К моему отъезду в Донбасс. Расстались мы друзьями. Только перед самым уже отъездом заспорили мы с ним по поводу статьи его о Блоке[292] . Мне казалось, что поэт, узнавший, что крестьяне сожгли его имение и сказавший на это просто: «Туда ему и дорога», заслуживает более сложного разбора. Спор этот Корней Иванович запомнил. Он, уже когда я уехал, говорил Коле, что гонорар за статью, вызвавшую такой спор, он переведет мне. Но не перевел. На этом и кончилась моя служба, но встречаться нам приходилось часто. И он всегда был добр ко мне. Но и тут сказывались особенности его натуры. Кончая редактировать одно из изданий «От двух до пяти», он сказал мне однажды, что я буду приятно удивлен: он обо мне написал в своей книжке. Случайно увидел я корректуру ее и прочел: «В детскую литературу бросились все – от Саши Черного до Евгения Шварца».
17 января
Я не обрадовался. Фраза показалась мне неопределенно оскорбительной, на что она и рассчитывала. Но я и не огорчился и не удивился. Я ждал чего-нибудь в этом роде. И вот вышла книжка. Фраза «…от Саши Черного до и т. д.» исчезла. Вместо этого было сказано: «Даровитый Евг. Шварц наиболее удален от экикик» и добавлено, что я внес в детскую литературу стариковский сказ вместо – забыл чего. Этим отзывом я был польщен[293] . Слово «даровитый» для меня все освещало. Я себя и за человека не считал. Именно в то время стало мне казаться, что я открыл особый вид привидений, к которым причислял и себя. Не вполне воплотившиеся, не нашедшие себе формы существа, сила которых останется невидимой. Таким казался мне иной раз и Корней Иванович, и именно этим объяснял я себе его смутную нелюбовь к людям и пустыню вокруг.
Осталось мне рассказать немногое, да я и не знаю, стоит ли рассказывать. Относится эта история к его пресловутой вражде с Маршаком. Все охотно рассказывали эти анекдоты, потому что каждому данная вражда представлялась понятной. А ее как таковой – не было. Во всяком случае, по сравнению с татарской, бешеной, убийственной для обеих сторон житковской или олейниковской ненавистью, о ней и говорить-то не стоит. Чуковский не любил Маршака, как и всех прочих. Не больше, чем родного сына. Может быть, более откровенно. Во время [Первого] съезда [писателей], узнав, что Маршак был на приеме, куда Чуковского не позвали, этот последний, построив фразу по любимому своему образцу, сказал: «Да, да, Самуил Яковлевич, я так был рад за вас, вы так этого добивались!» И это заявление все весело повторяли. А для Чуковского оно было попросту добродушно. Любопытный разговор имел Корней Иванович с Хармсом о «Мистере Твистере».
18 января
Встретивши Хармса в трамвае, Корней Иванович спросил: «Вы читали „Мистера Твистера?“ – „Нет!“ – ответил Хармс осторожно. „Прочтите! Это такое мастерство, при котором и таланта не надо! А есть такие куски, где ни мастерства, ни таланта – „сверху над вами индус, снизу под вами зулус“ – и все-таки замечательно!“ Так говорил он о Маршаке. Зло? Несомненно.
Но вот во время войны я привез письмо Марины Чуковской[294] . Она просила передать его срочно Корнею Ивановичу. Она узнала случайно, что Коля находится в месте, где газеты нет, где сидит он без работы под огнем, рискует жизнью без всякой пользы. Она просила Корнея Ивановича срочно через Союз добиваться Колиного перевода. С вокзала я завез письмо Корнею Ивановичу и, не застав его, просил передать, что зайду вечером. Встретились мы раньше в столовой Дома писателей. Было это во втором этаже, где кормили ведущих и нас, приезжих. Я спросил Корнея Ивановича о письме, и лицо его исказилось от ненависти. Прищурив один глаз, он возопил своим тенором, обращаясь к сидящему за нашим столом какому-то старику. Забыл – чуть ли не к Гладкову. «Вот они, герои. Мой Николай напел супруге, что находится на волосок от смерти, – и она пишет: „Спасите его, помогите ему“. А он там в тылу наслаждается жизнью!» – «Ай-ай! – пробормотал старик растерянно. – Зачем же это он?» Вот как ответил Корней Иванович на письмо о первенце, находящемся в смертельной опасности. Нет, я считаю, что Маршака он скорее ласкал, чем кусал.
В апреле прошлого года встретил я Корнея Ивановича на совещании по детской литературе. Незадолго до этого исполнилось Чуковскому семьдесят лет. Оглянувшись, я увидел стоящего позади кресел Чуковского, стройного, седого, все с тем же свежим, особенным топорным и нежным лицом.
19 января
Конечно, он постарел, но и я тоже, и дистанция между нами тем самым сохранилась прежняя. Он не казался мне стариком. Все теми же нарочито широкими движениями своих длинных рук приветствовал он знакомых, сидящих в зале, пожимая правую левой, прижимая обе к сердцу. Я пробрался к нему. Сначала на меня так и дохнуло воздухом двадцатых годов. Чуковский был весел. Но прошло пять минут, и я угадал, что он встревожен, все у него в душе напряжено, что он один, как всегда, как белый волк. Сурков в это время делал свой вступительный доклад – читал его, и аудитория слушала вяло. Чувствуя это, Сурков иной раз отрывался от рукописи, говорил от себя, повысив тон, на нерве, выражаясь по-актерски. Обратившись к Маршаку и Михалкову, сидящим в президиуме, Сурков воскликнул, грозя пальцем: «А вас, товарищи, я обвиняю в том, что вы перестали писать сатиры для детей!» Чуковский, услышав это, сделал томное лицо, закивал головой и продекламировал подчеркнуто грустно: «Да, да, да, это национальное бедствие!» И снова на меня пахнуло веселым духом первых дней детской литературы.
Вот и кончен рассказ мой о Чуковском.
20 января
Осенью 22 года, уже чувствуя себя петроградским жителем и забывая постепенно Ростов, я увидел объявление о том, что в Доме искусств открывается прием в забыл что. То ли в студию, то ли в литературный университет. Читают – Замятин, Чуковский, Шкловский и так далее. Я записался туда. На лекции Корнея Ивановича была такая толпа, что он едва пробрался к своему столу, влез на него в валенках и спрыгнул по другую сторону к величайшему удовольствию аудитории. Разбирали Бунина. Прочел доклад слушатель старшего курса студии с деревянным лицом и голосом из того же материала – Николай Тихонов. В докладе он доказывал, что Бунин – провинциал, старающийся показать свою образованность. Я обожал Бунина, и Буратино с дурно обработанной чуркой на том месте, где у людей обычно находится лицо, с пепельным париком над чуркой – ужаснул меня. Года через два, уже зная, что он не так осиноподобен, как почудилось мне при первой встрече, я спросил его, зачем сочинил он доклад подобного рода. «Ты не понял! – воскликнул он. – Я пародировал Чуковского. Неужели ты не заметил, как он был недоволен!» Я заметил, но отнес это к сути доклада.
22 января
Возвращаюсь к 21 году. Я чувствовал себя смутно, ни к чему не прижившимся. Театр, несмотря на статью Шагинян «Прекрасная отвага» и похвалы Кузмина[295], – шатался. Морозы напали вдруг на нас – и какие.
В нашей комнате лопнул графин с водой. Времянки обогревали на час-другой. Попав с улицы в тепло, я вдруг чувствовал, что вот-вот заплачу. Холодова[296] была в ссоре со всей труппой и неистовствовала, что я не следую ее примеру. И в такие вот смутные дни я стал слушать лекции среди людей непонятных и чуждых, как бы несуществующих. Скоро я убедился, что не слышу ни Чуковского, ни Шкловского, не понимаю, не верю их науке, как не верил некогда юридическим, и философским, и прочим дисциплинам. Весь литературный опыт мой, накопленный до сих пор, был противоположен тому, что читалось в Доме искусств. Я допускал, что роман есть совокупность стилистических приемов, но не мог поверить, что можно сесть за стол и выбирать, каким приемом работать мне сегодня. Я не мог поверить, что форма не органична, не связана со мной и с тем, что пережито. То, что я слышал, не ободряло, а пугало, расхолаживало. Но не верил я в прием, в нанизывание, остранение, обрамляющие новеллы, мотивировки, оксюморон и прочее – тайно. Себе я не верил еще больше. Словом, так или иначе я перестал ходить на лекции. А театр погибал, его вымораживало из Владимирской, 12, разъедало, разбивало…
Я шагал по улице и увидел афишу: «Вечер „Серапионовых братьев“. Я знал, что это студийцы той самой студии Дома искусств, в которой я пытался учиться. Я заранее не верил, что услышу там нечто человеческое.
23 января
Дом искусств помещался в бывшем елисеевском особняке, мебель Елисеевых, вся их обстановка сохранилась. С недоверием и отчужденностью глядел я на кресла в гостиных. Пневматические, а не пружинные. На скульптуры Родена – мраморные. Подлинные. На атласные обои и цветные колонны. Заняв место в сторонке, стал я ждать, полный недоверия, неясности в мыслях и чувствах. Почва, в которую пересадили, не питала. Вышел Шкловский, и я вяло выслушал его. В то время я не понимал его лада, его ключа. Когда у кафедры появился длинный, тощий, большеротый, огромноглазый, растерянный, но вместе с тем как будто и владеющий собой Михаил Слонимский, я подумал: «Ну вот, сейчас начнется стилизация». К моему удивлению, ничего даже приблизительно похожего не произошло. Слонимский читал современный рассказ, и я впервые смутно осознал, на какие чудеса способна художественная литература. Он описал один из плакатов, хорошо мне знакомых, и я вдруг почувствовал время. И подобие правильности стал приобретать мир, окружающий меня, едва попав в категорию искусства. Он показался познаваемым, в его хаосе почувствовалась правильность. Равнодушие исчезло. Возможно, это было не то, еще не то, но путь к тому, о чем я тосковал и чего не чувствовал на лекциях, путь к работе показался в тумане. Когда вышел небольшой, смуглый, хрупкий, миловидный не по выражению, вопреки суровому выражению лица да и всего существа, человек, я подумал: «Ну вот, теперь мы услышим нечто соответствующее атласным обоям, креслам, колоннам и вывеске „Серапионовы братья“. И снова ошибся, был поражен, пришел уже окончательно в восторг, ободрился, запомнил рассказ „Рыбья самка“ почти наизусть.
24 января
Так впервые в жизни услышал я и увидел Зощенко. Понравился мне и Всеволод Иванов, но меньше. Что-то нарочитое и чудаческое почудилось мне в его очках, скуластом лице, обмотках. Он бы мне и вовсе не понравился, но уж очень горячо встретила его аудитория, и соседи говорили о нем как о самом талантливом. Остальных помню смутно. Не понравился мне Лунц, которого я так полюбил немного спустя. Но и полюбил-то я его сначала за живость, ласковость и дружелюбие. Проза его смущала меня, казалась очень уж литературной. Но потом я прочел «Бертрана де Борна» и «Вне закона» и понял, в чем сила этого мальчика. На вечере он читал какой-то библейский отрывок, где все повторялось: «Моисей бесноватый», что меня раздражало. В конце вечера выступил девятнадцатилетний Каверин, еще в гимназической форме, с поясом с бляхой. И он действительно прочел нечто стилизованное. Уже на первом вечере я почувствовал, что под именем «Серапионовых братьев» объединились писатели и люди мало друг на друга похожие. Но общее ощущение талантливости и новизны объясняло их, оправдывало их объединение. Среди умерших, но продолжавших считать себя живыми, и пролеткультовскими искусственными цветами они ощущались как люди живые и здоровые.
Экспрессионизм, казавшийся самым подлинным видом современного искусства. Впрочем, меня занесло вдруг в ту область, которую ненавижу. Говоря яснее: на этом вечере я вдруг почувствовал, что не все так далеко от меня в тогдашней литературе, как немецкий экспрессионизм, например. Делается нечто, доказывающее, что я не урод, не один. Есть кто-то, думающий, как я.
25 января
Нет, я записал вчера неточно. Дело было не в том, что нашлись люди, думающие так, как я. Я ничего еще не думал. Думать можно, когда работаешь. Просто я почувствовал атмосферу менее враждебную, чем во всем остальном тогдашнем Петрограде. Более живую. Вскоре я познакомился с ними ближе. И в самом деле они оказались разными людьми. Что общего было у Лунца с Никитиным, у Каверина – со Всеволодом Ивановым? Ближе всего сошелся я со Слонимским. Он в те дни просыпался поздно, часов в одиннадцать, но и тогда не вставал, все курил и думал, глядя рассеянно огромными своими глазами в неприбранную свою душу. Ему лучше всего удавались рассказы о людях полубезумных, таких, например, как офицер со справкой: «Ранен, контужен и за действия свои не отвечает» (герой его «Варшавы»). И фамилии он любил странные, и форму чувствовал тогда только, когда описывал в рассказе странные обстоятельства. Путь, который он проделал за годы нашего долгого знакомства, – прост. Он старался изо всех сил стать нормальным. И в конце концов действительно отказался от всех своих особенностей. Он стал писать ужасно просто, занял место, стал в позицию нормального. Только какие-то железы у него на шее гипертрофировались, а исхудал он еще больше, чем в первые годы нашего знакомства. И чувство формы начальное потерял, а нового не приобрел. У него всегда была ясная голова, он умел играть в шахматы вслепую, был грамотнее всех товарищей в точных науках, и рассудок помог ему наступить на шею своей теме. Да иначе и не могло получиться. Он все думал и думал в те дни, в 22 году, но рассеянный его вид тем не менее внушал уважение.
28 января
Итак, я заходил к нему чаще всего по утрам. Он вставал поздно. Чтобы наказать его за это, Лева Лунц расклеил объявления от Дома искусств до Дома литераторов на Бассейной. В объявлении сообщалось владельцам коз, что им предоставляется бесплатно для случки черный козел. Являться только от 7 до 8 утра – и приводился Мишин адрес. Так как многие в те годы держали коз, то Мише долго не давали спать. Ему пришлось пройти по следам Лунца и тщательно сорвать, содрать со стен все объявления. Но он не обижался. Он держался с достоинством не сразу заметным, но несомненным. И не стал бы он обижаться на дружескую шутку. История в те дни шагала быстро.
29 января
И «Серапионовы братья», хоть и возникли всего за год до моего с ними знакомства, уже имели предания и исторические рассказы. Уже успела уехать на юг Муся Алонкина[297], которую все очень любили, даже старики. Вова Познер[298], тоже ушедший в мои дни в историю, или, проще говоря, уехавший в Париж, написал Мусе Алонкиной стихи, где говорилось: «…Волынский, Кони, тысячелетия у ног твоих лежат!» А кончались они так: «…Вы кажетесь мне, Мусенька, отделом охраны памятников старины». И Миша Слонимский был в нее влюблен и даже считался ее женихом. А. Грин, удалившийся к 22 году в Старый Крым, в 20–21 г. тоже влюбился в Мусю. И существовало предание, что однажды утром Миша проснулся, почувствовав на себе чей-то взгляд. Первое, что он увидел, – руки у самого своего горла. Это А. Грин пришел, чтобы задушить Мишу из ревности, но не довел дело до конца. А вот и исторический факт. Миша и Грин в шашлычной выясняли отношения и, не выяснив их до конца, обнаружили, что денег у них больше нет. Тут Грина осенила идея: самый простой выход – это поехать и выиграть в лото. Нэп уже был в действии. На Невском, 72, работало электрическое лото. Грин и Слонимский отправились туда, не сомневаясь, что выиграют, и, о чудо, и в самом деле выиграли. Удивились они этому только на другой день, увидев, как много у них денег, и припомнив, как они их добыли. В мое время Дом искусств шел уже к своему концу и чудес там больше не случалось.
30 января
Обсуждали друг друга молодые большей частью у Миши в комнате, причем он по привычке слушал чтение почти всегда лежа. Обсуждалось прочитанное пристально. Если рассказ нравился мне, я, тогда совсем потерявший дорогу и всякое подобие голоса, испытывал некоторое желание писать. Но всегда желание это вытравлялось начисто последующим обсуждением. Друзья мои с непостижимой для меня уверенностью пользовались тогдашним лексиконом своих недавних учителей. Я не отрицал этого вида познания литературы, я его не мог принять, органически не мог… Утешала меня идиотская уверенность, что все будет хорошо. Отсутствие языка имело для меня и утешительную сторону – я в силу этого не мог думать. В 25 лет без образования, профессии, места, я чувствовал себя счастливым хотя бы около литературы.
31 января
Я впитывал каждое слово, каждую мысль, но не все принимал, нет, далеко не все, – органически не мог. Я вырос иначе, в маленьком городе. Но вместе с тем, благодаря огромному расстоянию между знанием и выводами из него, действием, – я уважал, почти религиозно, своих новых друзей. Они были там, в раю, среди избранных! В литературе. Меня раздражала важность Николая Никитина. Когда он пускался в рассуждения, орудуя своими тяжеловесными губами и глядя бессмысленно в никуда через очки водянистыми рачьими глазами, никто его не понимал. Думаю, что, несмотря на глубокомысленность выражения, он сам не понимал, что вещает. Да, он был важен в те дни. Коля Чуковский спросил у него, когда Никитин вернулся из Москвы: «Какая там погода?» И Никитин ответил важно, глубокомысленно, значительно, глядя неведомо куда своими бесцветными глазками: «Снега в Москве великие». Я отлично понимал Никитина – но готов был преклоняться перед ним: старшие его хвалили, считалось, что он чуть ли не самый талантливый из молодых. А я? В те дни, помогая Чуковскому составлять комментарии к Панаевой, я спросил его однажды с тоской: «Неужели я и в примечания никогда не попаду?» И Корней Иванович ответил со странной и недоброй усмешкой: «Не беспокойтесь, попадете!» Я смотрел на них, на молодых, суеверно, снизу вверх, из них уже «что-то вышло», их сам Горький хвалит, а вместе с тем и сверху вниз: учиться ни у них, ни у старших я не мог. Мне все казалось, что писать надо не так. А как? И тут я был бессилен. Федин – красивый, очень худой, так что большие глаза его казались излишне выпуклыми, напоминал мне московского студента – из тех немногих, что нравились мне. Он явно знал, что красив, но скромно знал. Весело знал, про себя.
1 февраля
Нельзя было осуждать его за это. Его самочувствие напоминало особое удовольствие славного, простого парня, который надел новый костюм. Да еще знает, что он идет ему. При всей своей простоте – Федин всегда чуть видел себя со стороны. Чуть-чуть. И голосом своим пользовался он так же, с чуть заметным удовольствием. И он сознательно стал в позицию писателя добротного, честного, простого. Чуть переигрывая. Но с правом на это место. Я слушал отрывки из романа «Города и годы» с величайшим уважением, как классику, и очень удивился, когда роман прочел. Без правильного, славного фединского лица, без голоса его, без убеждения и уверенности, с которыми он читал, роман перестал светиться изнутри. Казался ложноклассическим. «Трансвааль» слушал я в квартире Федина за славным, просторным его столом с самоваром. Славная беленькая дочь его Ниночка, бегая, ушиблась и не заплакала, а вся покраснела из желания скрыть боль. Выдержать. И выдержала. Дора Сергеевна говорила с нами с улыбкой несколько как бы примерзшей к ее губам: она подозревала, что мы ее не любим, но ничем этого не показывала. Хозяин был Федин, и дом велся просто, гостеприимно, доброжелательно, по его, по-хозяйски. И опять «Трансвааль», когда читал его хозяин, показался драгоценнее, чем когда я прочел его в книге. Но я не смел или почти не смел говорить о том даже самому себе. Я с радостью все старался рассмешить, развеселить моих новых друзей, не ощущая странности, а может быть, и унизительности моей позиции. Впрочем, нет. Все они, кроме, может быть, Никитина, принимали меня как равного. Лева Лунц жил в глубинах дома в маленькой, полутемной и сырой комнате. Он был умный мальчик, более всех умный и более всех мальчик. Он с блеском кончал университет и еще не решил окончательно, кем быть – ученым или писателем.
2 февраля
Это был совсем еще мальчик. И никак не теоретик группы. У группы не было теории. То, что Лева Лунц говорил, выслушивалось не без интереса и только. Да и Лева, настаивая на необходимости сюжета и прочих тогда модных стилистических приемах, больше с азартом убеждал, чем сам был убежден. Это пока что была игра. А его рассказы, написанные по правилам игры, отличались столь редкой тканью, жидкой фактурой, что не нравились ему самому. Зато в драматургии, где у Лунца теория вытекала из самой его работы, он, несмотря на молодость, имел уже настоящий опыт. Одно правило, найденное им, я запомнил. «Не следует выбирать место действия, не ограниченное стенами или еще чем-нибудь. Слишком легки выходы». Спорить с этим правилом можно сколько угодно, но оно живое и родилось из опыта. И в пьесах он уже был не мальчиком, и ткань его пьес казалась в те дни драгоценной. В мальчике живом и веселом бродила, играла сила. Любили в те дни такую игру: Лева Лунц садился посреди, остальные вокруг. И все должны были повторять его движения. И тут он был воистину вдохновенен и вдохновлял всех, доходил до шаманского состояния. И при этом весело, легко, играя, не выходя за пределы игры. У него была ясная, здоровая голова, но слабенькое, еще мальчишеское, хрупкое тело. И сырая его комната, и недоедание сломили мальчика.
3 февраля
И кончилась игра, которая отличает настоящие драгоценные камни от поддельных. Лунц уехал совсем больным, с парохода вынесли его на руках, и до самой смерти он, такой живой и быстрый, не вставал. Он писал друзьям. Получил письмо и я, коротенькое, веселое, но последние слова были такие: «И я был свободным волком, как сказал Акела, умирая». В 24 году, уже написав свою первую книжку, я приехал во второй раз в Артемовск. Работал в газете. И однажды утром, развернув номер сменовеховской газеты «Накануне», с ужасом прочел, что Лева Лунц умер. В заметке было строк пять-шесть. Я оглядел новых своих друзей и понял, как трудно объяснить, какое случилось несчастье, какого чудесного юноши больше нет на свете. Он радовал чистотой и благородством силы, весело игравшей в его душе. Как это объяснить и рассказать? Это были самые близкие мои друзья: Лунц и Слонимский. Всеволод Иванов и Никитин совсем не были близки. Первый держался в стороне и скоро уехал в Москву, второй – просто недолюбливал, хотел сказать, меня. Нет – всех. Ласков со мной был и Зощенко, но я побаивался его, как и все, впрочем. В те дни был он суров, легко сердился, что сказывалось чаще всего в том, что смуглое лицо его темнело еще больше. Но иногда он и высказывался. Однажды утром, сидя у него в комнате, я наблюдал благоговейно, как представитель какого-то московского издательства вел переговоры с ним и Никитиным. Он просил рассказы для журнала или альманаха, это было еще для молодых редкостью, новостью в те дни. Никитин спросил о гонораре и стал требовать прибавки. Это показалось мне как бы кощунственным. И Зощенко потемнел и встал, и заявил строго: «А я отдаю вам рассказ за пять червонцев».
4 февраля
Чем ближе знакомился я с Михаилом Михайловичем, тем больше уважал его, но вместе с тем все отчетливее видел в нем нечто неожиданное, даже чудаческое. Рассуждения его очень уж не походили на сочинения. В них начисто отсутствовало чувство юмора. Они отвечали строгой и суровой, и, как бы точнее сказать, болезненной стороне его существа. Точнее, были плодом борьбы с болезненной стороной его существа. Это была совсем не та борьба, что у Миши Слонимского. Михаил Михайлович боролся с простыми вещами: бессонницей своей, сердцебиением, страхом смерти. И он опыт свой охотно обобщал, любил лечить, давать советы, строить теории. Был он в этой области самоуверен. При молчаливости своей – словоохотлив. Какая-то часть его сознания тянулась к научному мышлению. И казался он мне, при всей почтительной любви моей, иногда наивным, чудаковатым в этой области. Но это шло ему. Ведь и рассказы его, в сущности, поучали, указывали, проповедовали, только создавались они куда более мощной, могучей стороной его существа. Heilige Ernst[299], о которой говорила Мариэтта Шагинян, сопутствовала всей его работе, всей жизни. Вот он с женщинами был совсем не мальчик, но муж. И его любили, и он любил. Но всегда – любил. У него были романы, а не просто связи. В достаточной мере продолжительные. Однажды при нем стал читать свою непристойную поэму один молодой поэт. И Зощенко так потемнел, что молодой поэт прекратил чтение и стал просить прощения у Михаила Михайловича, как будто провинился перед ним лично.
5 февраля
В стороне держался Илья Груздев, неестественно румяный, крупный, сырой, беловолосый, белоглазый, чуть заикающийся. Молчаливо улыбаясь, он охотно поглядывал на женщин черных, суховатых, крайне энергических, восполняющих, как я думал, нечто, отсутствующее в его рыхлом существе. Но с течением времени я убедился, что молчаливый и смирный этот человек самолюбив и властолюбив до потери сознания. Вырос Груздев в тяжелых условиях. Не помню уже, отец или мачеха притесняли его, и притесняли сверх всякой меры. Страшно. Он этим объяснял болезнь свою, повышенное кровяное давление, сказавшееся у него еще в молодости, и многие стороны своего характера. В серапионовских кругах считался он критиком средним. Уже тогда начинал он писать о Горьком осторожным языком человека застенчивого и самолюбивого. Но какой-то дар у него был. Однажды я зашел в Госиздат, где он тогда работал в «Звезде» или «Ковше», и Груздев рассказал о Самозванце, заикаясь чуть, но вдохновенно и так ясно, что целая эпоха осветилась мне.
6 февраля
Он был историком и в этой области чувствовал себя, очевидно, свободнее, чем в той, в которой работал. И не только свободнее – он говорил, как художник, и Шуйские, которым бояре дали кличку «Шубины» за романовские полушубки, и Басманов, не по времени чистый, умирающий на пороге спальни царевича, – всех с того памятного разговора я почувствовал, как живых. Я кончаю говорить о Груздеве. Мы были некоторое время в ссоре – выяснилось, что поддразниванье мое, которому я не придавал значения, он принимал так тяжко, что я просто растерялся, когда на меня пахнуло этой стороной его воспаленного, замкнутого существа. Словно клапан вышибло из котла с азотной кислотой. Затем восстановились отношения, осторожные с обеих сторон.
7 февраля
Веня Каверин, самый младший из молодых, чуть постарше Лунца, кажется, был полной противоположностью Груздеву. Он был всегда ясен. И доброжелателен. Правда, чувство это исходило у него из глубокой уверенности в своем таланте, в своей значительности, в своем счастье. Он только что кончил арабское отделение Института восточных языков, писал книгу о бароне Брамбеусе, писал повести – принципиально сюжетные, вне быта. И всё – одинаково ровно и ясно. Как это ни странно, знания его как-то не задерживались в его ясном существе, проходили через него насквозь. Он и не вспоминает сейчас, например, об арабском языке и литературе. Его знания не были явлением его биографии, ничего не меняли в его существе. Еще более бесследно проходили через него насквозь жизненные впечатления. Очень трудно добиться от него связного рассказа после долгой работы.
8 февраля
Приехав откуда-нибудь, он искренне старается вспомнить, как живут наши общие друзья, и не может. События их жизни прошли через его ясную душу, не шевельнув ни частицы, не оставив следа. Особенно раздражало это во время войны: «Как живут такие-то?» – «Да ничего!» Бог послал ему ровную, на редкость счастливую судьбу, похожую на шоссейную дорогу, по которой катится не телега его жизни, а ее легковой автомобиль. Зощенко как-то, желая утешить Маршака в тяжелую минуту его жизни, сказал: «В хороших условиях люди хороши, в плохих – плохи, а в ужасных – ужасны». Каверин был хорош потому еще, что верил в то, что ему хорошо. Не все удачники понимают, как они счастливы, и ревниво косятся на соседа-бедняка. Для Каверина это было просто невозможно. Мы часто отводили душу, браня его за эгоизм, самодовольство, за то, что интересуется он только самим собой, тогда как мы пристально заняты также и чужими делами. Но за тридцать лет нашего знакомства не припомню я случая, чтобы он встретил меня или мою работу с раздражением, невниманием, ревнивым страхом. Нас раздражало, что ясность ему далась от легкой и удачной жизни. Но у Вирты жизнь сложилась еще удачней, а кто видел от него хоть каплю добра? Ни тени предательства, ни попытки бросить товарища в трудную минуту, отказаться отвечать на его горе мы не видели за все тридцать лет дружбы от Каверина. Мы отводили на нем душу еще и потому, что недостатки его были так же ясны и просматриваемы, как и все его существо. И вдруг поняли – жизнь показала, время подтвердило: Каверин благородное, простое существо. И писать он стал просто, ясно, создал в своих книгах мир несколько книжный, но чистый и благородный. И мы любим теперь его и весь его дом. Лидочка, его жена, заслуживает отдельного рассказа, так же, как Юрий Николаевич Тынянов, брат ее, которого я любил так осторожно и бережно, как того требовало хрупкое его удивительное существо. Поэтому вряд ли я осмелюсь рассказывать о нем. А жалко.
9 февраля
Юрий Николаевич Тынянов был удивительнее своих книг. Когда он читал вслух стихи, в нем угадывалась та сила понимания, которую не передать в литературоведческих трудах. Его собственное, личное, связанное с глубоко его ранившими превратностями судьбы, понимание Кюхельбекера, Грибоедова, Пушкина – тоже было сложнее и удивительнее, чем выразилось в его книгах. Я познакомился с ним, когда он был здоров и счастливо влюблен в молодую женщину. С ней мимоходом, не придавая этому значения, разлучил его грубый парень Шкловский. И она горевала об этом до самой смерти, а вечный мальчик Тынянов попросту был убит. Это бывает, бывает. Юрий Николаевич был особенным, редким существом. Измена, даже мимолетная, случайная, от досады, имела для него такое значение, которое взрослому Шкловскому и не снилось.
Когда я Юрия Николаевича видел в последний раз, он все так же по-прежнему походил на лицейский портрет Пушкина, был строен, как мальчик, но здоровье ушло навеки, безнадежная болезнь победила, притушила победительный, праздничный блеск его ума, его единственного, трогательного собственного знания. И больше я о нем не буду писать. Не хочется рассказывать о нем трезво. Не тот человек. В начале двадцатых годов молодые писатели, мои друзья, почти все были холосты, Веня Каверин женился едва ли не первым. Я увидел Лидочку на одном из серапионовских вечеров, бледную, темноволосую, маленькую, похожую и не похожую на брата. Очень тихая, она ничем не выдавала своей силы. Только с течением времени я увидел, как на плечах несла она свой дом и все несчастья, что выпали на долю ее брата. Маршак полушутя говорил, что Лидочка пишет лучше Вени. Во всяком случае, она могла бы писать. Я знаю это не по книгам ее, а по ней самой. Она умеет заметить, запомнить и передать все то, что проходит через Веню, не изменив, не пошевелив и частицы его души. Брак с Лидочкой с самых первых дней не усложнил, а облегчил жизнь этого счастливца. Софья Борисовна пришла на помощь.
10 февраля
Мать Юрия Николаевича Тынянова имела все радости и горести, какие дают большие, но несчастливые дети. Правда, Лидочка скорее утешала ее, но и Лидочкину семью, пока Веня не стал на ноги, опекала и поддерживала она. В 39 году, уже умирающая, с помраченным сознанием, летом в Луге, на Вениной даче, говорила она только об одном: а Наташа поела? А Лидочка поела? А Коля поел? Пока сознание теплилось в ней, она все беспокоилась, все заботилась о близких, до самой смерти. И Лидочка унаследовала ее душу, еще украшенную тыняновской талантливостью, прелестью.
Полонская жила тихо, сохраняя встревоженное и вопросительное выражение лица. Мне нравилась ее робкая, глубоко спрятанная ласковость обиженной и одинокой женщины. Но ласковость эта проявлялась далеко не всегда. Большинство видело некрасивую, несчастливую, немолодую, сердитую, молчаливую женщину и сторонилось от нее. И писала она, как жила. Не всегда, далеко не всегда складно. Она жила на Загородном в большой квартире с матерью, братом и сынишкой, отец которого был нам неизвестен. Иной раз собирались у нее. Помню, как Шкловский нападал у нее в кабинете с книжными полками до потолка на «Конец хазы» Каверина, а Каверин сердито отругивался. Елизавета Полонская, единственная сестра среди «серапионовых братьев», Елисавет Воробей, жила в сторонке. И отошла совсем в сторону от них уже много лет назад. Стихов не печатала. Больше переводила и занималась медицинской практикой, служила где-то в поликлинике. Ведь она была еще и врачом, а не только писателем. Вот я и поговорил о всех «серапионах», чтобы доказать себе, что не глухонемой. Интересно было бы для ясности сказать о каждом в теперешнем, сегодняшнем его виде. Интересно то, что они не изменились. Только одни их свойства развились, а другие ослабели. Мишина мнительность приобрела совсем уже невозможные размеры. Оправданием ему служит то, что для этого были основания. Никитин совсем не изменился. Так же значительно орудует губами, только над беззубым уже ртом.
11 февраля
Я так доволен, что могу рассказывать о ненавистных и любимых людях, что забросил и пьесу, и либретто балета[300] . Рассказывая, я ни разу ничего не придумал, не сочинил, а если и ошибался, то нечаянно. Это наслаждение – писать с натуры, но не равнодушно, а свободно – вероятно, могло открыться мне и раньше, но я слишком уж боялся какого бы то ни было усилия. Неужели у меня не хватит времени воспользоваться новым умением? Надо начать работать, а не только наслаждаться работой. Я все избегаю черного труда, без которого не построишь ничего значительного. Хочется построить что-нибудь значительное. Возвращаюсь к старым моим знакомым, некогда молодым писателям. Федин совсем тот же. Может быть, чуть-чуть окрепло чувство: «Значит, все, что я о себе думал, правда!» Оправданием ему служит то, что для этого были основания. Полонская с месяц назад приехала отдохнуть в Дом творчества. Недоумевающее, вопросительное выражение дошло у нее до крайности. Она захворала. Врач сказал, что с таким давлением нельзя ей оставаться тут, и ее увезли в Ленинград. До болезни гуляла она медленно-медленно и все просила меня раздобыть ей палку. Каверин уже дедушка. Лидочка приезжает сюда из Москвы нянчиться с внучкой, а Веня поглядывает на нее и не верит, что он дед. Да и в самом деле – во времена нашей юности, когда мужчины носили бороды, деды выглядели иначе.
13 февраля
Вероятно, в начале двадцатых годов, а может быть, и ближе к середине, увидел я безобразное, а вместе с тем привлекательное, безразлично-брезгливое, а может быть, глубоко сосредоточенное лицо Эренбурга. Он зашел к кому-то из «серапионовых братьев». Сохраняя не то брезгливое, не то горестное выражение рта, рассказывал он, сонно глядя мимо собеседников, что пишет сейчас «Жанну Ней», поставив себе простую задачу: сделать книгу, над которой плакали бы. Он достал из портфеля и показал готовый план книги, похожий на генеалогическое дерево или штатное расписание. Разноцветные кружки или квадратики, соединенные прямыми линиями, занимали длинный лист бумаги. Меня этот план почему-то рассердил и напугал, но Федин, у которого я отозвался с насмешкой о такого рода планировании, спросил удивленно: «А как же иначе?» – и достал из стола лист, весьма похожий на эренбурговский, со схемой будущего своего романа. Кажется, «Братьев». В те дни я прочел «Хулио Хуренито», лучшую, вероятно, из эренбурговских вещей. Книжка задевала, но скорее отрезвляла, чем опьяняла. Схему придумывать можно, но настоящая работа опрокидывает ее. Бог располагает. В романах же Эренбурга уж очень отчетливо просвечивало, как человек предполагает. Дурного в этом я не видел. Скорее испытывал зависть к его трудоспособности и рассудку. Но успех его тех лет, неистовый, массовый, казался мне необъяснимым. Я шутя уверял, что он продал душу черту. Толпа забила Большой зал Консерватории, где он выступал. Студенты прорывали наряды милиции и мчались наверх по лестнице. Потом, позже угадал я его дар: жить искренне, жить теми интересами, что выдвинуты сегодняшним днем, и писать о них приемами искусства сегодняшнего дня.
14 февраля
Так иной раз появлялись и исчезали люди из другой, из московской или еще более далекой жизни. Появился Толстой, но литературную среду, близкую мне, не поколебал. Он встал в стороне, завел знакомство только с Фединым и Никитиным. Он поставил себя в положение более независимое, чем кто-либо, – независимое в отношении своих собственных дел. Писал он, как в то время требовалось. Разве только иногда позволял себе слишком уж откровенно делать вещи для большого заработка вроде «Заговора императрицы». Зато жил весело, не по времени широко, словно помещик, и выходило у него это естественно, как будто иначе и не полагалось людям, подобным ему. И все у него получалось. В книжках, даже наименее удачных, – вдруг, как подарок, – страница, другая, целая глава. А «Ибикус», хотя Миша Слонимский бранил его за умышленную традиционность, обрадовал в те дни от начала до конца. А «Детство Никиты». По традиции дуря и чудачествуя, жил он в своем имении в Детском широко и свободно, как писал. Он ни в чем не стеснял себя, был телесен во всем. Вот он вышел на станции, по дороге на юг. Цыганка – сидит на перроне и ни на кого не глядит, перекладывает в мешки, что набрала. И Толстой, вышедший из вагона, стоит над ней и откровенно, нельзя сказать, наблюдает – всасывает, как насос, впитывает то, что видит. Так он смотрел, писал, ел, и пил, и любил. А чудачество – тоже непритворное – помогало ему по традиции. Он не притворялся, но пользовался по традиции этой своей особенностью, как пользовался талантом, здоровьем, впечатлительностью. Ругали его скорее беззлобно: уж очень он весь был понятен и живописен. О нем не то что сплетничали, а любили поговорить – о его заработках, обедах, приемах. А он шагал себе, как бы не замечая шума и разговоров, радуясь себе.
15 февраля
Жил, как хотел, и Павел Елисеевич Щеголев, огромный, большеголовый, седой, с внимательным лицом и жадными губами. И Щеголев разрешал себе больше, чем другие. Однажды ему позвонила домой знакомая и стала отчитывать за то, что не платит он гонорар одной молодой своей сотруднице за статью в «Былом»[301] . Щеголев стал жаловаться на дела. «Хорошо, я дам вам взаймы три рубля», – сказала знакомая, желая уязвить прибедняющегося. «Вот спасибо!» – ответил Щеголев спокойно. Он зарабатывал ухватисто, не стесняясь тем, что ученый и профессор. И Корней Иванович говорил о нем, хохоча: «Он бывает просто счастлив, когда поймает какого-нибудь декабриста на слабости или позе. По-человечески счастлив». Но и Щеголеву прощалось многое за талант, за классическую «Дуэль и смерть Пушкина», за монументальность фигуры, за смелость. Рассказывали с восторгом, как за ужином, раздраженный площадной бранью одного писателя, он встал и обрушился на скандалиста всем своим ростом и дородством, подмял под себя, как медведь, и основательно поучил. Года два назад попалась мне фотография двадцатых годов: правление Модпика[302] . Я увидел забытое и характерное выражение, свойственное в те времена людям, завоевавшим положение, создавшим себе имя. Особенно заметно это выражение у Павла Елисеевича, он смотрел с карточки через плечо. Перевести на слова это выражение можно так: сознание своего веса. С «серапионами» отношения у него были сложные, он, рассчитываясь за книжки их, которые издал у себя, учел ужины, которыми угощал их в шашлычной. Они хохотали, но обижались.
17 февраля
Читаю Пруста. Вышло так, что я до сих пор прочел только «Под сенью девушек в цвету» и следующие. Не читал первой половины «Девушек» – роман с Жильбертой Сван[303] . Книга несомненно непереводимая, более непереводимая, чем стихи, где хоть размер диктуется автором. Но и немногие пробившиеся живые слова перенесли меня и в мое детство: ожидание матери, меня уже отправили спать, а гости шумят весело. Есть одно прямое совпадение: я восхищался (не смея перенять) произношением Крачковских («вирьятно», «назло») – как мальчик у Пруста – произношением семьи Свана. Если отбросить, заставить себя отнестись снисходительно к тонкостям болезненным, женственным, то многое трогает. Прежде всего правдивость во что бы то ни стало. Но это и порождает «тонкости». А переводный язык придает им литературную, мертвую, бескровную оболочку. Книжка на первый взгляд не французская. Но если вглядишься, то ощущается в ней «эспри»[304], и мы чувствуем себя своими в области, где хозяином «Geist»[305] . Впрочем, храбрость, с которой путешествует он внутрь себя, и смелость, с которой говорит он о своих открытиях правду, создают подобие «heilige Ernst». И внимательность, равная ко всему, иногда кажется божественной. Это не безразличие, а равная ко всему внимательность. Он много читал, литературность перевода преувеличивает эту его особенность, но сила Пруста не в этом. Но он всю свою «литературность», все знания направил на то, чтобы рассказывать о себе правду. И получился результат. Не то что я, сделавший принципиальную ошибку. Я отказался для «естественности» от всякой литературности, и у меня не хватило средств для того, чтобы быть правдивым. Впрочем, у меня не было и другого – чувства аудитории.
18 февраля
Возвращаюсь в двадцатые годы. Владимир Васильевич Лебедев считался в то время лучшим советским графиком. Один художник сказал при мне, что Лебедев настолько опередил остальных, оторвался, что трудно сказать, кто следующий. Кроме того, в свое время он был чемпионом по какому-то разряду бокса. И в наше время он на матчах сидел у ринга на особых местах, судил. У него дома висел мешок с песком, на каком тренируются боксеры. И он тренировался. Но, несмотря на ладную его фигуру, впечатления человека в форме, тренированного, он не производил. Мешала большая, во всю голову лысина и несколько одутловатое лицо с дряблой кожей. Брови у него были густые, щеткой, волосы вокруг лысины – тоже густые, что увеличивало ощущение беспорядка, неприбранности, неспортивности. И одевался он старательно, сознательно, уверенно, но беспокоил взгляд, а не утешал, как человек хорошо одетый. Что-то не вполне ладное, как и в соединении нездорового лица и здоровой фигуры, чувствовалось в его матерчатом картузе с козырьком, вроде кепи французских солдат, в коротеньком клетчатом пальто, нет, полупальто, в каких-то особенных полувоенных ботинках до колен, со шнуровкой. Глаз на нем не отдыхал, а уставал. Он держался просто – как бы просто, одевался как бы просто, но был сноб. Особого рода сноб. Ему импонировала не знатность, а сила. Как и Шкловский и Маяковский, он веровал, что время всегда право. Все носили тогда кепки и толстовки, и лебедевская одежа была его данью времени.
19 февраля
Он примирял то, что ему было органично, с тем, что требовалось. Не по расчету, а по внутреннему влечению: время всегда право. Он любил сегодняшний день, то, что в этом дне светит, дает наслаждение, питает. И носителей этой силы узнавал, угадывал и распределял по рангам с такой безошибочностью, как будто титулы их не подразумевались, а назывались вслух, как в обществе, уже устоявшемся. Повторяю и подчеркиваю: никакого подхалимства или расчета тут не было и следа. Говорила его любовь к силе. И судил он, кто силен, а кто нет, – с той же тщательностью, знанием и опытом, как и сидя на ринге. Он любил сегодняшний день и натуру, натуру! Натурщица приходила к нему ежедневно, и несколько часов он писал и рисовал непременно, без пропуска. Так же любил он кожаные вещи, у него была целая коллекция ботинок, полуботинок, сапог. Полувоенные чудища со шнуровкой до колен были из его богатого собрания. Собирал он и ремни. Обширная его мастерская ничем не походила на помещение человека, коллекционирующего вещи. Как можно! Мольберт, подрамники, папки, скромная койка, мешок с песком для тренировки. Но в шкафах скрывались редкие книги, коллекция русского лубка. Сами шкафы были отличны. Он любил вещи, так любил, что в Кирове сказал однажды в припадке отчаяния, боясь за свои ленинградские сокровища, что вещи больше заслуживают жалости, чем люди. В них – лучшее, что может человек сделать. Да, людей он не слишком любил. Он любил в них силу. А если они слабели, то слабела и исчезала сама собой и его дружба. Его религия не признавала греха, чувства вины.
20 февраля
Он спокойно обладал, наслаждался натурой, сапогами, чемоданами, женщинами – точнее, должен был бы спокойно обладать и наслаждаться по его вере. Но кто не грешен богу своему! Спокойствие-то у него отсутствовало. При первом знакомстве об этом не догадывались. Кто держался увереннее и мужественнее? Но вот Маршак сказал мне однажды, что близкий Лебедеву человек жаловался, пробыв с ним месяц на даче. На что? На беспокойный, капризный, женственный характер Владимира Васильевича. Я был очень удивлен по незнанию, по тогдашней неопытности своей. Впоследствии я привык к этому явлению – к нервности и женственности мужественных здоровяков этой веры или, что в данном случае все равно, этой конституции. Относясь с религиозным уважением к желаниям своим, они капризничают, тиранствуют, устают. И не любят людей. Ох, не любят. С какой беспощадностью говорит он о знакомых своих, когда не в духе. Хуже завистника! Они мешали Лебедеву самым фактом своего существования. Раздражали, стесняли, как сожитель по комнате. Кроме тех случаев, о которых я говорил выше. Когда безошибочное чутье сноба не подсказывало ему, что некто сегодня аристократ. В разговорах своих Лебедев резко двойственен. Иногда он точен и умен. Он сказал, например, Маршаку: «Если я рисую понятно – это моя вежливость». Но иной раз, сохраняя спокойствие, только изредка похохатывая, неудержимо несет он такое, что ни понять, ни объяснить невозможно.
21 февраля
Одна любимая лебедевская фраза часто цитировалась среди его учеников и молодых друзей. Он говорил часто с религиозным уважением: «У меня есть такое свойство». «У меня есть такое свойство – я терпеть не могу винегрета». Маршак считал, что этому причиной – повышенное чувство формы. Винегрет – явное смешение стилей. «У меня есть такое свойство – я не ем селедки». Этому свойству непочтительные ученики Лебедева давали непристойное объяснение. Увы, несмотря на его снобизм, дендизм, некоторую замкнутость, окружающие вечно подсмеивались над ним. То, что он великолепный художник, ничего не оправдывало, это было до такой степени давно известно, что не принималось во внимание, не замечалось. Да и к большому таланту его применялись соответственно высокие требования. Петр Иванович Соколов говорил: «Карандашом можно передать мягкость пуха и такую грубость, перед которой грубость дерева, грубость камня ничего не стоят. А Лебедев знает, что мягкость пуха приятна, – и пользуется». К другим художникам относились снисходительнее. Но и Лебедев был беспощаден к окружающим и шагал своей дорогой, вдумчиво и почтительно слушаясь себя самого.
Старый Союз писателей помещался на Фонтанке[306] в чьей-то небольшой квартире – кажется, Фидлера[307] . На стенах висели фотографии старых писателей – например, Пыпина. Рояль был покрыт чехлом, на котором расписались писатели тех дней, а потом подписи их вышили мулине. Нет, скучно мне писать об этой квартирке, где, дымясь, дотлевали старые писатели и прививались довольно вяло новые. Самыми людными бывали собрания секции поэтов. Небольшой зал, как у средней руки адвоката, до отказа набивался народом и прокуривался до синевы еще прежде, чем начинали читать стихи. А читалось их необыкновенное количество, отчего, как мне казалось, воздух затуманивался еще больше. В этой туманной, дымной и вместе с тем недружной, недоверчивой среде поэтические волны замирали быстро, ни одного слушателя не затронув. Я не мог себе представить стихотворения, которое хоть чуть шевельнуло бы это болото. Царствовали две интонации: есенинская и блоковская. Изредка выступали заумники, которые тоже никого не удивляли и не задевали. Однажды только было нарушено холодное завывание и вялое внимание. Да и то скорее своеобразием фигуры читающего и первой строчкой прочитанного. У дверей в разгаре одного из вечеров появился председатель Союза Федор Кузьмич Сологуб. Был он в тяжелой шубе с бобровым воротником, вроде поповской, тяжело дышал после крутой лестницы. Ему закричали с разных сторон: «Федор Кузьмич! Прочтите что-нибудь!» И он сразу, без паузы, пробираясь вдоль стены от передней к двери в комнату налево, начал, тяжело дыша: «Когда я был собакой…» Его тяжелое лицо, и русское и римское, сохраняло полное спокойствие, будто он был в комнате один. И все притихли, и что-то как будто прояснилось на мгновение. Шел человек чужой, но поэт, умирающий, но еще живой.
Заканчиваю одиннадцатую из начатых в апреле сорок второго года тетрадей. Первую из них заполнял я чуть ли не пять лет, последнюю – пять месяцев. Это были месяцы трудные, и если бы я не овладел, наконец, «прозой», то совсем уж нечем было бы утешиться. Мне впервые, когда я стал писать о Житкове, стало казаться, что я не глухонемой.
В старом Союзе писателей, на Фонтанке, бывал я редко. Все то же, появившееся со дня приезда в Петроград, чувство, что эти люди сегодня как бы не существуют, скорее укреплялось с годами. Маршака я считал за человека, Житкова тоже, а вот Сологуб казался привидением, больше пугал, чем привлекал. Никто из моих новых друзей, молодых писателей, не был знаком с Сологубом. То есть знакомы-то были все, но не больше, чем я. Дома у него никто из моих друзей не побывал ни разу. Поэт Симеон Полоцкий[308], в те дни молодой и смелый, рассказывал, как носил ему свои стихи. Войдя, он представился: «Симеон Полоцкий». Сологуб оглядел его и отвечал сурово: «Не похож». Так же сурово отнесся старик к его стихам. Однако, когда Полоцкий уходил, он проводил его в переднюю и подал ему пальто. Полоцкий воспротивился было. Тогда старик топнул ногой и крикнул свирепо: «Это не лакейство, это вежливость». Мне все кажется, что я уже писал о Сологубе однажды. Я дал зарок не перечитывать то, что пишу, да и где найдешь то, что затерялось в одиннадцати тетрадях. Но помню, что о юбилее его – ничего не писал. Праздновался он широко, в Александринке, но смутно чувствовалось, что он не по-настоящему широк и так же несолиден, как весь нэп. В газетах о нем почти не писали. Вивьен прочел в концертном отделении стихи Цензора, напечатанные в «Чтеце-декламаторе» по ошибке под фамилией Сологуба. В заключение юбиляра забыли, никто не потрудился отвезти его домой. Думаю, что каждый побаивался это сделать. Чувствовал ли Сологуб свою призрачность? Едва ли!
Вернее, все, что делалось вокруг, казалось ему временным, ненастоящим, как мне его юбилей. В гробу он лежал сильно изменившимся, с бородой. Замятин говорил речь на гражданской панихиде, и мне казалось, что нет на свете речи, которая не показалась бы кощунственной и суетной над открытым гробом. Союз писателей после смерти Сологуба возглавлялся молодыми. Я был вне его интересов и смутно теперь вспоминаю то Федина, то Тихонова, то Слонимского в маленькой комнатке президиума и неизменного казначея и секретаря – седую, румяную, маленькую, аккуратнейшую Анну Васильевну Ганзен[309] .
22 февраля
Когда работа в детском отделе Госиздата более или менее наладилась[310], мы часто ездили в типографию «Печатный Двор» то на верстку журнала, то на верстку какой-нибудь книги. И хотя был я от своей вечной зависимости от близких то обижен, то озабочен, поездки эти вспоминаются как бы светящимися, словно картонажиками со свечкой внутри. Они полны воображаемого счастья – игрушечного, но все-таки счастья. В дни, когда ездил я на «Печатный Двор», я ощущал себя свободным – непрочно, ненадолго, но свободным от служебной колеи, домашнего гнета. Причем по инертности моей я с неохотой пускался в путь. И только на новом пути, на двенадцатом номере, у Геслеровского переулка, среди непривычных домов Петроградской стороны, на плохо знакомых улицах меня вдруг радостно поражала свобода от огорчений и забот. Конец трамвайного пути. Я иду по переулку, напоминающему мне неведомо что – какую-то прогулку по Екатеринодару в самом раннем детстве. «Печатный Двор» никогда не встречает одинаково. То он выше, то ниже, чем казался, то не того цвета, чем я представлял себе. И знакомое со времен «Всероссийской кочегарки» обаяние типографии охватывает меня. Впервые увидел я на «Печатном Дворе», как работает офсет, показавшийся мне чудом, – я не мог уловить машинность, повторяемость движений многочисленных его рычагов. И в блеске его никелированных частей, в мостиках и лесенках я вдруг ощутил однажды что-то, напоминающее пароход. Вместо желания уяснить – углубить ощущение – я испытал страх. Я побоялся спугнуть воспоминание, испугался напряжения. И я поспешил в литографию, где на камнях работали наши художники.
23 февраля
В литографии при входе оглушала машина, моющая камни. Огромное квадратное корыто тряслось как в лихорадке, и стеклянные шарики с грохотом перекатывались по сероватой поверхности. Знакомые художники работали в комнатах дальше. Работал там Пахомов, простой, просто по-крестьянски смотрящий на урожай и на то, как бы его прибрать тихонько к рукам, светлый, похожий на крестьянского парня. Работал там Цехановский – широколицый, с черными усиками, черноволосый, похожий на Лермонтова, с которым находился, по слухам, в родстве. Этот был не прост, туговат, много н упрямо думал, имел склонность к теориям. Работал там Успенский, деликатный, мнительный, очень вежливый. Через двенадцать-тринадцать лет он погиб при первых бомбежках Ленинграда. Работал там Юдин, по прозвищу Муравьед, тоже вежливый, маленький, долгоносый, внутренне крепкий, как камушек. В вопросах искусства крепкий, как камушек. И он погиб через двенадцать-тринадцать лет в боях под Ленинградом. И работал там Курдов, потомок курда, попавшего в плен в войну 77 года, широкогрудый, с разбойничьими лапищами, густоволосый, с чубом на лбу, страстный охотник в те годы – понятный, веселый. И работал там Васнецов, краснолицый, с выпученными светлыми глазами, казалось, что он вспылил да так и остался. И работал там Чарушин, в те годы ладный и складный, и, не в пример Пахомову, уж до того простой, что это вызывало внутренний протест и заставляло подозревать нечто темное в его душе. Лебедев сердился на него за то, что он стал писать рассказы, видя в этом измену, подозревая, что ему не хватает дарования, чтобы выразить себя с помощью изобразительного искусства. Рассказы Чарушин писал уж до того просто, до того открыто, будто говорил доктору: «А». Конечно, не все они работали зараз.
24 февраля
Но кого-нибудь из них я непременно встречал в литографии. Лебедев требовал, чтобы художник делал обложку и рисунки непременно собственноручно на камне. Это был золотой век книжки-картинки для дошкольников. Фамилия художника не пряталась, как теперь, где-то среди выходных данных, а красовалась на обложке, иной раз наравне с фамилией автора книги (Лебедев – Маршак, например). Художники были даже несколько надменны; трудно иной раз было догадаться, кто кого иллюстрирует. От презрения к литературности в живописи всего шаг был до некоторого презрения к литературе вообще. Именно этим чувством вызвано было раздражение Лебедева против Чарушина, пишущего рассказы. Именно поэтому, иллюстрируя стихи Маршака о том, что там, где жили рыбы, человек взрывает глыбы, Лебедев изобразил не взрыв, не водолаза, а двух спокойно плавающих рыб. Все тогдашние собранные Лебедевым художники были талантливы в разной степени, каждый по-своему, но, конечно, было у них и общее, обусловленное временем. Все они пытались разрешить рисунок на плоскости; например, Лебедева очень легко было узнать и в Цехановском той поры, и в Пахомове, хотя они были очень мало похожи друг на друга. А в Самохвалове – большом, застенчиво ухмыляющемся, беззубом, самолюбивом – можно было узнать всех понемногу, а больше всего Пахомова. Время сказывалось, а поскольку Лебедев был его главным жрецом – то сказывался и он лично. Хотя следует признать, что он очень считался с существом каждого: с любовью к морю – у Тамби, к животным – у Чарушина, к лошадкам – у Курдова. Он понимал почерк каждого.
25 февраля
И требовал знания, знания, помимо разрешения на плоскости, знания, прежде всего знания натуры. «Мирискуснический» – было ругательством. Бакст вызывал гримасу отвращения, Сомов – снисходительную усмешку. Как это часто бывает, расцвет школы лебедевской группы сопровождался нетерпимостью – признаком горячей веры. Отрицался целый разряд художников, о которых впоследствии говорилось снисходительно или добродушно, – признак упадка школы. Лошадь на скачках – прекрасна. И после скачек исчезает из глаз толпы. Я видел много людей прекрасных в работе своей, но не исчезающих в минуты бездействия. И многие из них, когда просто жили, а не мчались изо всех сил к цели, были в общежитии так же неудобны, как лошади, позови ты их после скачек домой – поужинать, поболтать. Упражняясь в письме с натуры, я боюсь все время, что нарушаю пропорции, особенно когда рассказываю о людях, к которым равнодушен. Но все мы обречены видеть то, что видимо, и только смутно угадывать то, что составляет в человеке главную его суть. И для первого легче найти слова. Но я все же повторю, чтобы назвать то, что невидимо: Лебедев был талантлив, талантлив, талантлив, и школа его – тоже. Итак, посмотрев на офсет и отложив на то время, когда начну жить по-настоящему, определение тех чувств, что он вызвал во мне, я мимо грохочущей машины переходил в литографию к художникам, которых вижу сейчас куда отчетливее, чем в те дни. С тех пор я успел рассмотреть их ближе, да и зрение улучшилось. Тогда я их видел и не видел, они были фоном, той обстановкой, в которую меня занесло.
26 февраля
Я был в хороших отношениях с ними по тем же причинам, о которых рассказывал как-то: от счастья или от ожидания счастья. И от желания нравиться. Я относился к ним с искренней приязнью: я любил нравиться, а без партнера эта игра невозможна. Я знал их во имя этого, был к ним внимателен во имя этого и теперь не нахожу в этом ничего дурного. Игра шла не на деньги. Желание нравиться было моей болезнью – слабостью, возможно. Так я думал тогда. А теперь считаю, что это было здоровой стороной моего существа. Я не умел жить один. Так ли это худо? Из литографии я возвращался туда, где мне и надлежало быть: на верстку. Здесь у меня были знакомые наборщики, но не друзья, как в «Кочегарке» или «Ленинградской правде»[311] . Там я в типографии бывал много чаще, чуть не каждый день, а сюда приезжал раз в месяц. Но и тут завязывались интересные разговоры. Больше всего раздражала ленинградских наборщиков вошедшая в моду московская верстка. В те годы нарушены были все традиции верстки, и как раз в Москве началось это движение. Делались типографским способом обложки с такой игрой шрифтов, что иной раз читалось не совсем то, что хотелось автору. Заголовок книги, выпущенной к столетию Малого театра, издали звучал излишне развязно: «Сто лет малому». Отсутствие прописных букв и распределение слов создавало этот фокус. Слово «театру» глаз находил не сразу. И внутри книг, с точки зрения старых наборщиков, нарушались все законы приличия. Не туда ставились колонцифры, клише, отбивались невозможно толстой чертой начала и концы глав, а иной раз и каждой полосы. Об этом чаще всего и беседовали мы с наборщиками.
27 февраля
Один из них (в «Ленинградской правде») прочел мне целую лекцию о том, что такое ленинградские наборщики и чем отличаются они от московских. Итак, уйдя из литографии, я отправлялся на верстку. Шрифты назывались по номерам и по именам. На рукописи чаще всего писалось: «рубленым». Этим шрифтом набирались книги для дошкольников. Иногда – «цыганом». Никогда – «елизаветинским». Этот шрифт с завитками у «щ» и «ц» считался манерным, мирискусническим. На верстке, особенно журнальной, необходимо было присутствовать, потому что никакая наша наклейка не оказывалась достаточно предусматривающей все случайности. При оборке клише обычно выяснялось, что уместилось меньше текста, чем предполагалось. Две-три строчки рассказа не влезали в предназначенную им полосу. И вот тут я принимался сокращать, выгадывать на переносах, абзацах, одном-двух словах, убирать лишние строчки. Это не требовало постоянного моего присутствия возле наборщиков, поэтому я и бродил по всему «Печатному Двору», так как от праздничного моего состояния мне на месте не сиделось. В стеклянной загородке посреди большого цеха помещался Герасимов[312], директор типографии, или его заместитель по производственной части. Проделал он этот путь от простого наборщика. Умер в должности директора Гослитиздата года три назад. До самых последних дней мы встречались с ним дружелюбно. Мне казалось, что вспоминает он при виде меня стеклянную свою контору и простые заботы тех лет. Он не менялся, сколько ни встречал я его, от двадцатых до сороковых годов: крупный, крупноголовый, лысый, бритый, степенный, внимательный, в блузе с пояском. Заходил я и в машинное отделение.
28 февраля
Здесь на ручном станке делали первый оттиск сверстанной страницы. Возле ротационной машины мастера, строгие и сосредоточенные, словно доктора, занимались приправкой клише – что переносило меня к первым дням знакомства с типографией и версткой, к осени 1923 года. Если клише задерживалось, я отправлялся в цинкографию. (Чтобы не зачеркивать – оговариваюсь: мастера у ротационной приправляли клише в полосах, подписанных к печати, не имеющих ко мне отношения. Но и полосы только верстались. На огромном «Печатном Дворе» печаталось, набиралось, версталось множество книг.) В наборных цехах было тихо, а в цинкографии – еще тише. Сильный химический запах поражал при входе. В ваннах с кислотой безмолвно доспевали клише. Штриховые – легче, тоновые – труднее. Здесь я не задерживался. Клише – либо готово, либо нет. Кислоту не поторопишь, а острая химическая среда не располагала к разговорам. В обеденный перерыв на конторках наборщиков появлялись бутылки с молоком, они его получали на вредность. К воротам «Печатного Двора» подъезжали тележки с колбасой, бутербродами. Я стою в большой комнате – корректорской или для технических редакторов. Мне очень нравится одна из редакторш – большеротая, большая и смешливая, нравится безнадежно – я никогда с ней не заговорю об этом: я влюблен в другую. Домой иду я пешком, чтобы подольше не расставаться с чувством свободы, усиленным еще тем, что я сбросил с плеч одну обязанность, которая тяготила меня уже несколько дней: номер сверстан. Прохожу мимо рынка с вывеской «Дерябкинский рынок открыт целый день», – получается, что вывеска в стихах и размер этот идет к темному, тесному рынку.
2 марта
Брань и нетерпимость, сопровождавшая подъем детской литературы (точнее – расцвет книжки для детей), – многих свихнула. Вера с годами поблекла, а недоверие – расцвело. Я, при тогдашней неустроенности своей, склонен был отравляться, заражаться резко выраженным отрицанием. Из-за этого я не понял как следует Николая Федоровича Лапшина. В данном случае ученики были строже учителя. Лебедев относился к Николаю Федоровичу с уважением, считался с его мнением о своих работах, но ученики совсем его не признавали. Чуть больше признавали Тырсу. В суждениях своих молодые исходили из предположения, что старшие уже определились, проявились полностью. А в середине тридцатых годов с удивлением многие из молодых признали, что Тырса, как умная лошадка на скачках, приберег силы и теперь обогнал всех фаворитов. А к сороковым годам с уважением заговорили о Лапшине – его акварели, совсем для него неожиданные, оказались прекрасными, своеобразными, и его строгие хулители только руками разводили. Лапшин, с длинным, спокойным, очень русским лицом, знал много, много читал, но все помалкивал. В комнате художников в детском отделе Госиздата, в витрине, где выставлялись выпущенные книжки, устроили как-то выставку карикатур. Точнее, устроилась она сама собой – Лебедев нарисовал Курдова с засученными рукавами, разбойничьими ручищами, вьющимся чубом на низком лбу. Карикатуру повесили за стеклом в витрине. Время было урожайное – скоро вся витрина заполнилась карикатурами, но никому не удалась карикатура на Лапшина. Его спокойное, достойное, длинное лицо не поддавалось. Зато карикатур на Тырсу было множество. Его высокая фигура, борода, жесты были характерны, схватывались. Он тоже много читал и знал, но говорил, высказывался охотнее Лапшина.
3 марта
Я помню разговор его с Тыняновым, где Тырса заступался за Боткина, цитируя «Испанские письма». Говорил Тырса горячо, убежденно. Его несколько узкоплечая, легкая, узкогрудая фигура сверх меры выросшего мальчишки с неожиданно бородатой головой вполне взрослого человека часто появлялась в отделе. То он приносил иллюстрации (причем Лебедев очень одобрял его лошадок), то приходил за гонораром. Этот последний, бывало, задерживался, и в таких случаях Тырса, как говорили художники, пел. Он возмущался, и в голосе его появлялись певучие, негодующие и вместе с тем жалобные ноты. Он охотно вступал в споры, и тут обнаруживалась особенность, сильно отличающая всех трех художников старшего поколения от младших. Лебедев, Лапшин, Тырса, особенно двое последних, были много образованнее младших. Лебедев это свойство прятал. Подчеркнутая, элегантная образованность «мирискусников» была ненавистна. «Эрудиты» только что доказали свое бессилие в разных областях искусства. Поэтому в закрытых шкафах скрывались у Лебедева редкие и ценные книжки по искусству и его коллекции. Он подчеркивал свою осведомленность в боксе, в спорте, но помалкивал о фресках Боттичелли. Он скрывал свои знания, а молодые художники весело и открыто и в самом деле не знали ничего. При некоторых поворотах вдруг казались они похожими на гвардейских подпоручиков. Аристократичность заменялась причастностью к высочайшему из искусств, а обеспеченность – беспечностью. Они были аристократически щедры, не зная цены деньгам. Лебедева чаще всего ругали они за скупость (Пахомова – тоже). Это было не по-гвардейски. Чарушин обвинялся в мещанской робости.
4 марта
Он, Чарушин, нарушал правила хорошего тона. В первые дни своего становления любили они выпить при случае. В дальнейшем начались кутежи ежедневные: художники заскучали. Жизнь без общего наркоза представлялась им немыслимой. А старшие обходились без этого. И работали. Закваска у них оказалась здоровой. В особенности у Лапшина и Тырсы. Не только художники, и писатели были мало образованы по сравнению с писателями предыдущего поколения: те знали языки, читали Данте и Шекспира в подлиннике. Символисты отлично разбирались в философии. Все «серапионы» были свободны от этого (кроме Лунца и, может быть, Полонской). «Серапионы» знали больше, чем молодые художники детского отдела Госиздата, как люди с гуманитарным направлением ума. Но немногим. То, что делалось в живописи и музыке, проходило мимо, запоминались только отдельные имена, без настоящего представления о том, что ими сделано. Леня Арнштам, в те дни начинающий музыкант, грубоватый мальчик, обращаясь со вступительным словом к писателям, собравшимся в Доме искусств послушать его игру на рояле, начал так: «Писатели свински необразованны в музыке». И это было справедливо. Я не делаю никаких выводов. Видимо, для того чтобы работать в искусстве, нужны знания особого качества, а не количества. Полная невинность в области общего образования как будто бы шла художникам на пользу больше, чем «Серапионам» их полузнания. Отказываюсь говорить об этом. Тут опять из области зрительной удаляешься в умозрительную. Поэты, например, при одинаковых знаниях пили не в пример больше прозаиков – столько же, сколько вполне необразованные художники. Пойди тут пойми.
5 марта
Я делаю записи в эту тетрадку по утрам. Вчера, кончив писать, включил приемник и услышал: «…Министр здравоохранения Третьяков. Начальник Лечсанупра Кремля Куперин» – и далее множество фамилий академиков и профессоров-медиков. Я сразу понял, что дело неладно. А когда пришла газета, то выяснилось, что дело совсем печальное, – тяжело заболел Сталин. С тех пор все окрашено этим сообщением. Все говорят только об этом. Изменились радиопередачи. На почте заведующая сказала: «Не хочется работать сегодня. Просыпаюсь: ой, что это, неужели я поезд проспала! Утреннюю зарядку не передают, а все какие-то симфонии, симфонии. Я сразу поняла: что-то случилось». Обсуждается каждое слово бюллетеня. Зоя выразила негодование по поводу того, что собралось столько врачей, а не могут помочь. Сегодня бюллетень так же мрачен, как вчера. Попробую продолжать работу над прозой.
Итак, то, что Лебедеву и старшему поколению художников досталось с бою, молодые получили даром как несомненную истину. И, повторяя, – преувеличили. Не повторили, а как бы передразнили. Темное дело – преемственность в искусстве. На учениках направление кончается, а на противниках – начинается новое, и всякий раз на одно поколение, кроме тех случаев, которые это утверждение опровергают. Двадцатые годы, боевые, переходили в тридцатые. Как будто более спокойные. Но я тут отошел от Госиздата, «Печатного Двора», художников книжки. Я стал писать пьесы и вернулся к театру, но в другом уже качестве: писал пьесы и, оцепенев от удивления, смотрел, как их ставят. На первой своей премьере я, едва заговорили артисты, засмеялся – до того это было странно, непохоже на мое представление о пьесе. Пришел в себя, услышав, что говорят зрители.
6 марта
Сегодня сообщили, что вчера скончался Сталин. Проснувшись, я выглянул в окно, увидел на магазине налево траурные флаги и понял, что произошло, а потом услышал радио. Через час еду в город – в пять общее собрание в Союзе.
Возвращаюсь в двадцатые годы. В конце их я сблизился от тоски и душевной пустоты с некоторыми тюзовскими актерами и стал своим человеком в театре. Я переживал кризис своей дружбы-вражды с Олейниковым, не сойдясь с Житковым, отошел от Маршака и, как случается с людьми вполне недеятельными, занял столь же самостоятельную и независимую позицию, как люди сильные. С одной разницей. У меня не было уверенности в моей правоте, и я верил каждому осуждающему, какое там осуждающему – убивающему слову Олейникова обо мне. Но поступить так, как он проповедовал, то есть порвать с Маршаком, я органически не мог. Хотя открытые столкновения с ним в тот период имел только я. И так как распад состоялся и я отошел в сторону один, испытывая с детства невыносимые для меня мучения – страх одиночества. Вот тут, весной 27 года, я познакомился с тюзовскими актерами – Макарьевым и Зандберг, его женой. Они жили тогда на углу Аптекарского переулка и улицы Желябова.
Мне сегодня писать трудно. День мрачный, ночью не спалось. По радио передают печальную музыку.
7 марта
Вчера в Союзе состоялось траурное собрание. Против обыкновения, зал наполнился за полчаса до срока. Анна Ахматова вошла, сохраняя обычную свою осанку, прошла вперед, заняла место в первых рядах. В президиуме – никого. Зал, переполненный и притихший-притихший, ждет. Не слышно даже приглушенных разговоров. Но вот в президиуме появляются Кочетов и Луговцов – секретарь партийной организации. Тише не делается, это невозможно, зал становится неподвижнее. Но не успел секретарь договорить: «Предлагаю почтить память почившего вождя…» – зал встает и стоит смирно дольше, чем обычно в подобных случаях. Плачут женщины. После того как прочитано сообщение Совета Министров и ЦК, Кочетов обращается в зал: «Кто просит слова, товарищи?» После паузы поднимается Владимир Поляков. Его длинное и длинноносое лицо, хранящее обычно свойственное всему виду эстрадников скептическое выражение: «Меня не надуешь», – сегодня торжественно и печально. И все же необычность происходящего нарушается. Собрание делается более традиционным. Только зал по-прежнему тих и неподвижен. После выступления нескольких поэтов и Пановой Прокофьев читает проект письма в ЦК, которое и принимается.
9 марта
Во главе ТЮЗа стоял Брянцев. Он вышел из самых глубин Передвижного театра под руководством Гайдебурова. Этот идейный, средний театр имел великую способность ко внутренним идейным расколам. Вечно из него кто-нибудь уходил с негромким интеллектуальным взрывом. Видимо, режим в театре был таков, что Гайдебурова не боялись. Ушедшие затевали свое дело, обычно не слишком прочное. Из таких, если не ошибаюсь, уцелели всего два: Новый театр, неузнаваемо изменившийся со времен отпочкования[313], и ТЮЗ[314] . С Гайдебуровым ушедшие сохраняли отношения достойные. Во всяком случае, Александр Александрович, упоминая его имя, делал лицо вежливое и строгое. И Гайдебуров с таким же лицом сидел на премьерах Брянцева. Александр Александрович был прост и крайне-крайне идеен… ТЮЗ оказался в чисто театральном отношении сильнее своего предка.
10 марта
Причины были следующие: особенности зрительного зала Тенишевского училища и особенности зрителей. Брянцеву пришлось решать чисто формальные задачи с первых же шагов. В бывшем лекционном зале сцена, как таковая, отсутствовала. Ряды шли полукругом, поднимаясь амфитеатром. Брянцев посадил оркестр в глубокую оркестровую яму перед первым рядом. Позади того места, где некогда возвышались кафедра лектора и эстрада, в стене была сделана просторная четырехугольная выемка, соединившая бывший лекционный зал с соседним помещением. Этот неглубокий, но высокий и широкий проем был видимостью, подобием традиционной сцены. Настоящая сценическая площадка, где и разыгрывалось действие, строилась перед проемом. Между площадкой и оркестром было свободное место, обыкновенный пол, – и туда сбегали в случае надобности актеры. Для уходов и выходов пользовались проемом в стене и боковыми проходами, ведущими за кулисы. Актер в ТЮЗе по причинам конструктивным, связанным с особенностями тенишевского зала, таким образом был придвинут, приближен к зрителю. Был он ближе к зрителю, чем во взрослом театре, и по причинам внутреннего порядка: зритель уж очень щедро и открыто отвечал на все происходящее на сцене. ТЮЗ открылся в 22 году. В театрах ломали традиционную форму. Мастера – смело, имея свою задачу, а все прочие – думая, что так надо. Удивить своеобразием формы трудно было. Но ТЮЗ с первого спектакля расположил к себе и архаистов, и новаторов.
11 марта
Классики понимали, что в таком зрительном зале спектакль иначе не решишь, а снобы находили все, что требовала мода: и конструкции вместо декораций, и своеобразную сценическую площадку, и все другое прочее – забыл номенклатуру тех лет. Да и вообще к ТЮЗу в те годы относились благожелательно люди, от которых зависела репутация театров на тогдашний день. С Брянцевым не могло быть серьезных счетов: его участок, его хутор лежал в стороне. И успех спектаклей у тюзовского взрослого зрителя был единодушнее и чище, чем в других театрах. Театральных деятелей не расхолаживала зловещая мысль: «И я так мог бы» в тех случаях, когда восторженные вопли юных зрителей доказывали, что постановка имеет успех. Этот успех не пробуждал ревности в недобрых душах театральных деятелей: хутор Брянцева лежал в стороне. И он со своей блузой, бородкой, брюшком, речами о воспитании, о необходимости большого искусства для маленьких, сознательно или бессознательно держался за свой отделенный от всех участок. И в благоприятных этих условиях театр расцветал в отпущенных ему рамках. Правда, самые сильные из актеров стремились туда, туда, в менее добродетельные, но более известные театры. У них не было чувства радости от того, что служишь высокому делу и ничего тебе за это дурного не делают. Ты в безопасности. Тут не дерутся. Они лезли туда, туда, в свалку, считая, что настоящее искусство там, а не тут, в сторонке. Они убегали. И только в торжественные дни ТЮЗа возвращались, и сидели в президиуме, и говорили речи о том, как много в их жизни значила работа с Брянцевым.
12 марта
Так ушли из театра Черкасов, Чирков, Пугачева, Полицеймако. Мало этого. Микроб, способствующий делению организма на части, занесен был, видимо, Брянцевым из гайдебуровского театра, в середине тридцатых годов из ТЮЗа выделилась большая группа актеров с Зоном во главе. Образовался Новый ТЮЗ – менее педагогично добродетельный[315] . «Они дают зрителю пирожные, а нужно давать черный хлеб!» – вот одна из формул, принадлежащих Макарьеву, кое-что объясняющая в причинах раскола. Всякий успех без его непосредственного участия казался Макарьеву незаконным, неправильным, непедагогичным. Главным признаком черного хлеба считал он серость. Раскол произошел по гайдебуровским традициям – с негромким интеллектуальным шумом. Зон, при посторонних упоминая имя Брянцева, делал лицо вежливое и строгое, и с таким же видом Брянцев сидел на его премьерах. Брянцев имел, помимо всего, всегда подлинное, а не раздуваемое из полемических соображений педагогическое чувство – чутье, направление? – не знаю, как его назвать. Он чувствовал зрителя. В те годы, когда развивался Брянцев, были убеждены, что пророки скромны и покрыты пеплом, истина говорится в придаточных предложениях с покашливаньем и заминкой, что кто красив, тот подозрителен. Брянцев со своей бородкой, блузой, говорком, белыми глазками был именно таким пророком.
13 марта
Но все-таки пророком. Или скорее – жрецом. У него было божество. И он, не забывая хозяйственных соображений, без которых развалился бы храм, помнил и для чего храм построен. Говорил просто до чрезвычайности, подчеркнуто избегая громких слов, наивно мигая белыми глазками, – о нет, не был он простаком и вел дело тонко. В тот период Художественный театр от избытка сил выбросил множество ветвей – вернее, породил много здоровых детей, развивавшихся в новой среде, в новом направлении, как, например, Вахтанговский театр, но связанных с отцом своим, тогда еще живым и крепким[316] . И в ТЮЗе преподавала систему Станиславского и помогала режиссерам работать с артистами над ролью Лиля Шик, по сцене Елагина, очень образованная, очень московская, очень крупная, с крупными чертами лица, похожая на портрет мисс Сиддонс, который и висел у нее над кроватью. Аристократизм высокой театральной среды угадывался и в жестах ее, и в подборе слов (увы, и она не чуждалась ненавистной мне фразы «в каком-то смысле»), и во всем характере ее жизни. И у нее было божество, и служила она ему с истинным благочестием. Она внесла в ТЮЗ дух второго поколения мхатовцев: дух Сулержицкого, Михаила Чехова, студий. И прежде всего дух Вахтангова несомненно сопутствовал ей. В существе ее угадывалась духовность и другого рода – она была человеком верующим. Я любил разговаривать с ней. Отчетливые московские, мхатовские жесты ее и говор меня трогали и радовали. Два этих служителя тюзовского храма – Брянцев и Елагина – помогали делу своей верой.
14 марта
У Зона веры, духовности в том качестве, в той мере, что у Брянцева и Елагиной, не наблюдалось. Но у него было чувство божества, вызванное трезвостью натуры. Он отлично понимал, что дело есть дело, понимал необходимость веры. Он понимал, что речами на собраниях и нытьем и канюченьем в разговорах места в искусстве не завоюешь. И он стал учиться. Учиться упорно, безостановочно, от постановки к постановке, ища все новые и новые приемы, за что неоднократно был обвиняем Макарьевым в беспринципности. Он писал пьесы с Бруштейн, то условные, то реалистические – в зависимости от времени, решал их от раза к разу все интересней и, наконец, стал учиться системе у самого Станиславского, причем пользовался своими знаниями для работы, а не для молитв и деклараций. Он все рос, а Брянцев, занятый руководством, слабел. Он имел одну, известную всему театру, особенность: засыпал на репетициях, на чтении новых пьес, объясняя это малокровием мозга. И эта особенность усилилась, и он перестал почти ставить без сорежиссеров. Самые сильные в труппе стали тяготеть к Зону, а самые слабые, боясь за себя, напоминая всем и каждому о своей верности идее детского театра, – к Брянцеву. И Макарьев выступал из всех скважин, всех пор ТЮЗа. Каждый новый успех Зона объявлялся каким-то не таким, в каком-то смысле провалом. И театр раскололся. Дальнейшая судьба обоих театров печальна. В конечном итоге Зона погубило отсутствие истинной духовности. В труппе его перессорились в эвакуации.
15 марта
И эти ссоры привели к тому, что в мирное время театр закрылся. Театр Брянцева – не закрыт, но и не существует. Он принадлежит к тому виду организмов, смерть которых не сразу заметна окружающим. Этот давно засушенный цветочек, единственный детский театр Ленинграда, под монотонными речами Макарьева шелестит, и покачивается, и получает положенную дотацию, и посещается зрителями – совсем как живой. Но его нет на свете, как и зоновского ТЮЗа. Теперь, вспоминая мою работу в этих театрах, я понял, что не любил их, хотя первый большой успех в жизни имел именно там, в зале бывшего Тенишевского училища, еще до раскола театров. Мне о них писать неинтересно, душа не приходит в движение.
16 марта
В ТЮЗах, ютящихся, что там ни говори, в сторонке от главного пути, в тени, собирались люди троякого вида. Первые – самого редкого: застенчивого. Эти люди до того любили искусство, что не смели приближаться слишком близко к самому солнцу. Здесь, в тени, в холодке, душа их раскрывалась смелее и они создавали иной раз настоящие ценности. Таких людей, насколько я мог заметить, собралось больше всего вокруг Образцова. (Сперанский, например.) Так же мало было людей второго вида: неудачников, теоретиков. Они делали вид, что выбрали детский театр по принципиальным соображениям и не идут в театры обыкновенного типа из отвращения к ним. Этот вид был малочислен по причинам производственного характера: от этих беспокойных и бесплодных людей старались отделаться. Третий вид, самый многочисленный, разнообразный и текучий, состоял из людей, попавших в детский театр, так сказать, по течению. Занесло их в ТЮЗ – тут и работают во всю свою силу из любви к театральной работе, а не к педагогической. Роли есть, зритель отзывчивый – ну и славно! Самых сильных артистов, занесенных в детский театр, то же течение уносило в другие театры или киностудии, как Любашевского, или Кадочникова, или многих других, о которых я уже писал.
7 апреля
Вчера у нас был Пантелеев. Как всегда, жил одновременно двумя жизнями – общей с нами и собственной. Все думал не то о грехах своих, не то об обидах. Однажды схватился даже за щеку, так что я подумал, не зуб ли у него заболел. Но это были только признаки его второй жизни. Он сокрушался. Сосредоточенный, с горестным выражением маленького рта под жесткими усиками, с боксерским изуродованным носом (хотя он и не занимался никогда боксом), с печальными глазами, и несоизмеримый, прежде всего несоизмеримый с окружающими. И от этого замкнувшийся и до сих пор не раскрывшийся.
Несоизмеримости своей он не радуется. Недаром он так много читал о психических и нервных болезнях и лечился у гипнотизера. Но существо его все существует, крепко существует, не поддается гипнозу, упирается.
9 апреля
Сегодня одиннадцать лет с тех пор, как я веду эти тетради. Это – двенадцатая. Из них восемь с половиной тетрадей, несколько больше, чем с половиной, написаны с середины 50 года. Мне так несвойственна непрерывность в какой бы то ни было работе, что я все подсчитываю и умиляюсь. Сегодня, в одиннадцатую годовщину, я ровно на половине двенадцатой тетради. Я даже подогнал так, чтобы девятого апреля быть ровно на половине тетради. Первая из них заполнялась пять лет, а теперь выходит так, что в среднем я писал чуть больше целой тетради в год. Но польза есть! О, чудо, – польза есть.
[Пантелеев] мучается над рукописью, прокуривая комнату до синевы, выправляя каждую букву. От ученических своих лет, от могучей редакторской воли Маршака он не освободился и не освободится, вероятно, никогда. Но и в упорстве и впечатлительности его есть одно всепронизывающее свойство: благородство. Он верный друг. Он ни разу не оступился, ни разу не свернул в болото во имя личного спокойствия, личной удачи. Он при всей замкнутости своей никак не одиночка. Он человек верующий. Литература для него не случайное дело. Это надежный работник.
26 апреля
Видели мы столько, сколько XIX веку и присниться не могло, а язык остался прежний. Только упростившим язык до полной чистоты удалось сказать правду. Большинство же, вроде попугая, что я видел у Николаевой[317], орет: «Радость моя!» во всех случаях жизни, даже когда кошка подбирается…
Литература типа розановской начинает у меня тоже вызывать потребность отпора. Темпераментность и талантливость не скрывают все того же посредника между мною и явлением. Ученый или святой могут помочь, а литератор, как ребенок возле паровоза, говорит: «Пых, пых», – и гудит. Только у ребенка здоровое желание ответить на впечатление, а у литератора – подменить, или поправить, или отмести паровоз.
1 мая
Вчера вечером читал Бунина ранние рассказы [18] 95 года и ужасался. В некоторых из них та сила, после которой страшно мне писать. Бунину тогда было 25 лет, а он пишет о двух стариках на хуторе под праздники рождественские[318] . Все верно, без привидений и нового вида действующих лиц, вроде Института микробиологии. Все просто, и все-таки после того, что пережито, писать так, как Бунин и Чехов, было бы притворством. Или мне это кажется от страха? Читал, точнее, дочитывал Розанова. Он не свободен, по-российски. Не по-русски, а по-российски, государственно. Впрочем, по моей неспособности думать подобным образом я не чувствую себя уверенным, когда пробую тут утверждать что-то. Его рассуждение о виновности «деток» показалось мне изуверским. И тут же он обвиняет Гоголя в том, что он детей описывает неподобающе[319] .
2 мая
Мы, как никто, чувствуем ложь. Никого так не пытали ложью. Вот почему я так люблю Чехова, которого бог благословил всю жизнь говорить правду. Правдив Пушкин. А ложь бьет нас, и мы угадываем всех ее пророков и предтеч.
5 мая
Маршак к этому времени совсем отошел от «Ежа». С группой более чем верных, самоотверженных редакторш он делает, как всю жизнь, все, все, что может, отрываясь для еды с раздражением, с детской обидой, страдая бессонницей, строя, сбивая, сколачивая. В те дни он все сбивал, искал – бывалых людей, сколачивал книги – сборники и после бессонных ночей с Гомером, Шекспиром, Библией на устах сбил несколько книжек, но, увы, в горячке этих страданий породил двух-трех големоподобных чудовищ. Они ожили по вере его, но пошли крушить, кусать и злобствовать, по ущербному существу своему. И первый, на кого они бросились, был их создатель. Но определилось все это позже, пока только варилось, перегонялось и плавилось в вечно запертой мастерской, откуда доносился иной раз только голос Маршака, читающего нарочито невыразительно, чтобы не помешать точности восприятия, отрывок из некоего воскрешаемого мертворожденного рассказа. Иной раз один бывалый человек сидел угрюмо на подоконнике и поглядывал на всех недоверчиво, в то время как за дверью оперировали другого. Мы же делали «Еж» и слишком часто ничего не делали. Впрочем, бывало, в припадке энергии выпускали два-три интересных номера.
6 мая
Время было напряженное: коллективизация, индустриализация. От нас требовали деловой книги. Этажом ниже помещался Учпедгиз, где я прирабатывал тогда в журналах-учебниках, выходивших ежемесячно в помощь педагогам. Меня называли там «скорая помощь»: я сочинял им рассказики на разные грамматические и синтаксические правила. Редакторы Учпедгиза все упрекали нас в легкомыслии. Особенно один из них, имевший репутацию очень талантливого педагога. Ходил он всегда, опустив голову, спрятав кисти рук в рукава, как на морозе, носил синие очки. Со мной был снисходительно ласков и все посмеивался и повторял: «Чиж», «Чиж», куда ты летишь, «Еж», «Еж», куда ты ползешь?» Но мы не унывали, и я асе ухитрялся сохранять равновесие.
7 мая
Продолжаю о начале тридцатых годов. Маршак в те дни любил повторять: «Время суровое», и это вносило известную правильность, даже величественность в смутные чувства и унылые наши мысли. Уж очень невеселая свалка все тянулась в «Молодой гвардии». Так отзывалась она на «суровое время». Возможно, что работники ее были и талантливы, и умны или хотя бы просто добросовестны, толковы, но никто не проявлял этих своих полезных свойств. Все яростно чистили друг друга, и вот постепенно «Еж» поплелся к своей гибели. Сохранять равновесие становилось все трудней, и я решил уходить. И в 1931 году подал заявление об уходе, договорившись с Учпедгизом о работе.
9 мая
Возвращаюсь в тридцатые годы. Рапповские времена отражались в высшей степени на неустойчивости литературных репутаций. Приехав из Липецка, я не без удивления узнал, что считаюсь писателем хорошим. Мне дали пропуск в закрытый распределитель с особо роскошным пайком. Месяца через три, хоть я и ничего не успел написать худого, мой паек уменьшился вдвое. Потом стал совсем плохим. Затем резко вырос и наконец стал академическим.
10 мая
Читаю дневники Толстого[320] . Сегодня у него Чичерин хорош, завтра плох, «люблю Чичерина», «Чичерин узок» и так далее, и не только к нему он так переменчив – ко всем. Между двумя встречами столько переживалось и передумывалось, что Толстой не узнавал друзей. Словно годы проходили.
11 мая
И, встретив друга, изменившийся за сутки Толстой заново, как чужого, проверял его. Братьев и то в своих изменениях не успевал он полюбить, привязаться к ним прочно. «С Сережей трудно». «С Николаем трудно». Любви, которая слепа или, по крайней мере, прощает грехи, он не знал.
12 мая
Первый раз в жизни я испытал, что такое успех, в ТЮЗе на премьере «Ундервуда». Я был ошеломлен, но запомнил особое, послушное оживление зала, наслаждался им, но с унаследованной от мамы недоверчивостью. А даже неумолимо строгие друзья мои хвалили, Житков, когда я вышел на вызовы, швырнул в общем шуме, особом, тюзовском, на сцену свою шапку. Утром я пришел в редакцию. Все говорят о текущих делах. Я закричал: «Товарищи, да вы с ума сошли! Говорите о вчерашнем спектакле!» Неумолимые друзья мои добродушно засмеялись. Молчаливый Лапшин убежденно похвалил. Я был счастлив.
13 мая
Но держался я тем не менее так, что об успехе моем быстро забыли. Впрочем, Хармс довольно заметно с самого начала презирал пьесу. И я понимал за что. Маршак смотрел спектакль строго, посверкивая очками, потом, дня через два, глядя в сторону, сказал, что если уж писать пьесу, то как Шекспир. И жизнь пошла так, будто никакой премьеры и не было. И в моем опыте как будто ничего и не прибавилось. За новую пьесу я взялся как за первую – и так всю жизнь.
Дочитал рукопись Ликстанова ночью, пока не спалось. Впечатление очень плохое. Как я с ним буду писать пьесу? Он пропитан, словно керосином, страхом гнева редакторского. И знание материала, и интересное время – все в романе погибает, как склад продуктов, залитый керосином.
14 мая
Евгений Шварц во всех своих изменениях знаком мне с самых ранних лет, и я знаю его так, как можно знать себя самого. Со своей уверенной и вместе с тем слишком внимательной к собеседнику повадкой, пристально взглядывая на него после каждого слова, он сразу выдает внимательному наблюдателю главное свое свойство – слабость. В личных своих отношениях, во всех без исключения, дружеских и деловых, объясняясь в любви, покупая билет на «Стрелу», прося передать деньги в трамвае, он при довольно большом весе своем и уверенном, правильном, даже наполеоновском лице, непременно попадает в зависимость от человека или обстоятельств. У него так дрожат руки, когда он платит за билет на «Стрелу», что кассирша выглядывает в окно взглянуть на нервного пассажира. Если бы она знала, что ему, в сущности, безразлично, ехать сегодня или завтра, то еще больше удивилась бы. Он, по слабости своей, уже впал в зависимость от ничтожного обстоятельства – не верил, что дадут ему билет, потом надеялся, потом снова впадал в отчаяние. Успел вспомнить обиды всей своей жизни, пока крошечная очередь из четырех человек не привела его к полукруглому окошечку кассы. Самые сильные стороны его существа испорчены слабостью, пропитаны основным этим его пороком, словно запахом пота. Только очень сильные люди, которые не любят пользоваться чужой слабостью, замечают его подлинное лицо. Сам узнает он себя только за работой и робко удивляется, не смея, по слабости, верить своим силам.
Трудность автопортрета в том, что не смеешь писать то, что в тебе хорошо. Ну слабость, слабость – а в чем она? В том, чтобы сохранить равновесие, во что бы то ни стало сохранить спокойствие, наслаждаться безопасностью у себя дома. Но что нужно для его спокойствия?
15 мая
Я чувствую, что следует сказать точнее, что разумею я под его слабостью. Это не физическая слабость: он моложав, здоров и скорее силен. В своих взглядах – упорен, когда дойдет до необходимости поступать так или иначе. Слабость его можно определить в два приема. Она двухстепенна. На поверхности следующая его слабость: желание ладить со всеми. Под этим кроется вторая, основная: страх боли, жажда спокойствия, равновесия, неподвижности. Воля к неделанию. Я бы назвал это свойство ленью, если бы не размеры, масштабы его. В Сталинабаде летом 43 года Шварц получил письмо от Центрального детского театра, находящегося в эвакуации. Завлит писал, что они узнали, что материальные дела Шварца не слишком хороши, и предлагали заключить договор.[321] Соглашение прилагалось к письму. Шварц должен был его подписать и отослать, после чего театр перевел бы ему две тысячи. Шварц был тронут письмом. Деньги нужны были до зарезу. Но его охладила мысль: пока соглашение дойдет, да пока пришлют деньги… и в первый день он не подписал соглашения, отложив до завтра. Через три дня я застал его, полного ужаса перед тем, что письмо все еще не послано. Но не ушло оно и через неделю, через десять дней, совсем не ушло. Это уж не лень, а нечто более роковое. Человеком он чувствует себя только работая. Он отлично знает, что, пережив ничтожное, в сущности, напряжение первых двадцати-тридцати минут, он найдет уверенность, а с нею счастье. И, несмотря на это, он днями, а то и месяцами не делает ничего, испытывая боль похуже зубной.
16 мая
В этом несчастье он не одинок. Таким же мучеником был Олейников, все искавший, полушутя, способы начать новую жизнь: то с помощью голодания, то с помощью жевания – все для того, чтобы избавиться от проклятого наваждения и начать работать. Так же, по-моему, пребывает в мучениях Пантелеев. Было время, когда в страстной редакторской оргии, которую с бешеным упрямством разжигал Маршак, мне чудилось желание оправдать малую свою производительность, заглушить боль, мучившую и нас. У Шварца было одно время следующее объяснение: все мы так или иначе пересажены на новую почву. Пересадка от времени до времени повторяется. Кто может, питается от корней, болеет, привыкая к новой почве. Из почвы военного коммунизма – в почву нэпа, потом – в почву коллективизации. Категорические приказы измениться. И прежде люди, пережив свою почву, либо работали некоторое время от корней, либо падали. А мы все время болеем. Изменения в искусстве несоизмеримы с изменениями среды, мы не успеваем понять, выразить свою почву. Я не знаю, убедительна эта теория или нет, но Шварц некоторое время утешался ею. При своей беспокойной ласковости с людьми любил ли он их? Затрудняемся сказать. Олейников доказывал Шварцу, что он к людям равнодушен, ибо кто пальцем не шевельнет для себя, тем более уж ничего не сделает для близких. Мои наблюдения этого не подтвердили. Без людей он жить не может – это уж во всяком случае. Всегда преувеличивая размеры собеседника и преуменьшая свои, он смотрит на человека как бы сквозь увеличительное стекло, внимательно.
17 мая
И в этом взгляде, по каким бы причинам он ни возник, нашел Шварц точку опоры. Он помог ему смотреть на людей как на явление, как на созданий божьих. О равнодушии здесь не может быть и речи. Жизнь его немыслима без людей. Другой вопрос – сделает ли он для них что-нибудь? Сделает ли он что-нибудь? Среди многочисленных объяснений своей воли к неподвижности он сам предложил и такую: «У моей души либо ноги натерты, либо сломаны, либо отнялись!» Иногда душа приходит в движение, и Шварц действует. Тогда он готов верить, что неподвижность его излечима. Иногда же приходит в отчаяние. Бывают дни и недели, когда он не шутя сомневается в собственном существовании. В такие времена он особенно говорлив и взгляд его, то и дело устремляемый на собеседников, особенно пытлив. В чужом внимании видит он, что как будто еще подает признаки жизни. В таком состоянии, шагая по комаровскому лесу зимой, он увидел однажды следы собственных ног, сохранившиеся со вчерашнего дня, – и умилился. Поверил в свое существование. На этом и кончу. Автопортрет затруднен двумя обстоятельствами: я лучше знаю себя изнутри, внешний облик неясен мне. Я слишком много о себе знаю. И, наконец, как я могу говорить о своей влюбчивости и верности, о дочери, о жене, о друзьях? Кроме того, некоторые считают, что я талантлив. Если это верно, то многое в освещении автопортрета должно измениться, переместиться. Если это так – то дух божий носится над хаосом, который пытался я нарисовать.
19 мая
Когда я писал автопортрет, то забыл добавить, что приобрел способность находить равновесие в промежутке между двумя толчками землетрясения, и греться у спичек, и с благодарностью вспоминать отсутствие тревоги как счастье.
6 июня
Владимир Михайлович Конашевич тоже из людей, которым искусство дает спокойствие и равновесие… В противовес нам Конашевич много работает. Боюсь напутать, но он делает что-то на мокрой бумаге, отчего достигаются какие-то эффекты цвета. Он всегда спокоен и ласков. Это приятно, это ценишь, но в меру: чувствуешь, что этого добра у него много.
17 июня
Я выбрал для отдыха Новый Афон,[322] потому что собралось там несколько знакомых: Коля Степанов[323] с женой Лидочкой, Гофман,[324] женатый на Соне Богданович – дочке Ангела Ивановича, – молодые литературоведы. Здесь же отдыхал Борис Михайлович Эйхенбаум с женой Раей Борисовной. Он был учителем этих молодых, и они уважали его и часто обсуждали, находя в нем лично слабости, как и подобает ученикам. Это были чистопородные литературоведы, в особенности Гофман. Взвешивая на руке только что вышедший первый, кажется, том эйхенбаумовской книжки «Лев Толстой», Гофман воскликнул с некоторым даже раздражением, что, мол, исследователь-литературовед, в сущности, не ниже, а может, и выше исследуемого писателя, чем вызвал у меня подобие ужаса. Вызвал бы и ужас, но я слишком счастлив был в те дни и уверил себя, что как-то неправильно его понял. Но все они, несомненно, любили именно свою науку, а не литературу. Я попал в среду людей, живущих интересами литературы, но явно более к ней холодных, не отравленных ею до конца, как те, что окружали меня до сих пор. Этот холод и давал им возможность теоретизировать с такой уверенностью. Но он же отнимал у них нечто. Они понимали многое, иногда же потрясали глубиной непонимания, как существа другого вида. Это относилось к Степанову меньше. А к Гофману, в их кругах считающемуся самым выдающимся, – в полной мере.
18 июня
У них была своя система определять литературное произведение по его законам, – прекрасно. Но у меня не было уверенности, что законы открывают они верные. Или первостепенные. И еще мучил меня страх: а вдруг правы они? Тогда я никогда не стану настоящим писателем? Впрочем, слова «мучил» и «страх» слишком сильны. Иной раз мелькало у меня подобие страха. Уж слишком уверенно они разговаривали. Как ученые, уже решившие все задачи. Гофман даже негодовал на Эйхенбаума за то, что в самой той книжке, которую он столь почтительно взвешивал на ладони, Эйхенбаум позволяет себе пользоваться биографическим методом. «Это он нарочно! – сердился Гофман. – Это его каприз». Как многие верные ученики, обвиняли они учителя, что тот переменчив, по-настоящему никого из них не любит, холоден. А он, легенький, седенький, большеголовый, лысый, был необыкновенно ровен, внимателен, благожелателен. Я познакомился с ним за семь лет до встречи в Новом Афоне – он нисколько не изменился за эти годы. Но вот что удивительно: не изменился, совсем не изменился он и до наших дней. Тогда он выглядел старше своих лет, а сегодня – по возрасту.
30 июня
О Шостаковиче услышал я впервые, вероятно, в середине двадцатых годов. И когда я увидел его независимую мальчишескую фигурку с независимой копной волос, дерганую, нервную, но внушающую уважение, я удивился, как наружность соответствовала рассказам о нем. Встретились мы в доме, ныне умершем, стертом с лица земли временем. С детства приученный к общему вниманию, Шостакович не придавал ему значения. Смеялся, когда было смешно; слушал, когда было интересно, говорил, когда было что сказать. В его тогдашней среде тон был принят иронический, и говорил он поэтому насмешливо, строя фразы преувеличенно литературно правильно, остро поглядывая через большие на худеньком лице круглые очки. Играл он тогда на рояле охотно и просто показывая, что сочинил. Тогда рассказывали, что и пианист он первоклассный и только по какой-то случайности не занял первого места на Шопеновском конкурсе в Варшаве. После знакомства встречались мы редко. Но с первой встречи я понял, что обладает он прежде всего одним прелестным даром – впечатлительностью высокой силы. Это, как бы сложно ни шла его жизнь, делало его простым. О нем рассказывали, что, играя в карты и проигрывая, он убегал поплакать. Одни знакомые его получили из-за границы пластинку, тогда еще никому не известную: «О, эти черные глаза». Услышав великолепный баритон, вступивший после долгого вступления, Дмитрий Дмитриевич расплакался и убежал в соседнюю комнату. Но разговаривал он так, что казался неуязвимым. Андроников очень похоже изображал, как, резко артикулируя и отчетливо выговаривая, произносит он: «Прекрасная песня, прекрасная песня: „Под сенью цилиндра спускался с го-op известный всем Рабиндра-анат Таго-op!“ Прекрасная песня, прекрасная песня, побольше бы таких песен». В Ленинграде его очень любили.
1 июля
Любили настолько, что знали подробно о его женитьбе, о его детях, о его работах. Обо всем этом говорили одинаково и весело и уважительно. Он писал современно в том смысле слова, какое придавал ему Петр Иванович[325] в те дни. Его музыку не то что понимали, но считали зазорным не понимать. Впрочем, многих его музыка и в самом деле задевала. Заражал восторг понимающих. Когда внезапно грянул гром над его операми, все огорчились и как обрадовались Пятой его симфонии![326] Я ближе познакомился с Шостаковичем во время войны. Повинуясь своей впечатлительности и тем самым божеским законам, чувствовал он себя связанным со всеми общими бедами. Он пришел выступать на утренник в филармонии, не спрашивая, нужен ли этот утренник и разумен ли.[327] Такой вопрос был бы не военным. А всякое «уклонение» в те дни казалось подозрительным. Дважды или трижды утренник прерывался воздушной тревогой. Зрителей и участников уводили в бомбоубежище, а потом возвращали на места послушно. В 42 году, в сентябре, приехав в подтянутую, опустевшую Москву, с маскировкой на домах, с высокими заборами вокруг разбомбленных зданий, я впервые увидел Шостаковича ближе.[328] Мы оба жили в гостинице «Москва». При первом разговоре поразил он меня знанием Чехова. «А скажите, Евгений Львович, сколько раз упоминается у Чехова горлышко бутылки, блестящее на плотине?» Для меня любовь к Чехову – признак драгоценный, и я был тронут и обрадован. По-прежнему Шостакович не придавал значения своей славе, был прост, хотя и дерган, говорил, когда было что сказать, смеялся, когда было смешно. Задумываясь внезапно, постукивал пальцами по виску. Увлекаясь, дергал за рукав или за руку. Но при всех нервических признаках фигурка его оставалась мальчишеской, независимо стояли волосы надо лбом, очки казались слишком большими по лицу. Он в Доме кино просмотрел фильм о Линкольне и все хвалил его[329] . Рассказывал.
2 июля
И, кончив рассказывать, задумался о следующем обстоятельстве. Картина начинается с того, что юношу, заподозренного в убийстве, едва не линчевала толпа. «Вот мы с вами не побежим сейчас на улицу, если узнаем, что некто в доме напротив совершил убийство». Дмитрия Дмитриевича тревожило отсутствие чувства законности в нас и окружающих. «Мы не будем требовать немедленного наказания злодея». Как многие большие люди, при всей особенности, отъединенности он чувствовал свою связь с людьми, и чувство жалости и чувство ответственности при впечатлительности его вспыхивало сильно и действенно. Мариенгоф рассказал такой случай: Шостакович терпеть не мог театрального деятеля Авлова[330] . Но вот Авлов по какому-то делу попал под суд. Шостакович сказал Мариенгофу, что Авлов на суде показался ему человеком совсем другим, что держался он с достоинством и, видимо, ни в чем не виноват. «Вот и съездили бы к прокурору СССР да попросили бы за Авлова», – сказал Мариенгоф полушутя. И Шостакович поехал в Москву и, как взрослый, добился приема у прокурора, и дело Авлова было пересмотрено. Его оправдали. Ради незнакомого и неприятного человека вышел он из привычного отъединения. Серьезный, с независимыми трепаными волосами, падающими на лоб, глядя на прокурора СССР через слишком большие на мальчишеском его лице очки, добился он достаточно трудного успеха. Тот же Мариенгоф сказал однажды, что он в тяжелом состоянии, а вот приходится ехать в Москву. Нахмурившись, Шостакович заявил тотчас же, что он поедет с Мариенгофом. Еле уговорили его домашние и сам Мариенгоф. А были они только в приятельских отношениях. Друг у Дмитрия Дмитриевича был один: Иван Иванович Соллертинский. Когда у Маршака заболел в Алма-Ате сын, Шостакович поехал проводить Самуила Яковлевича на вокзал. Сам поехал.
3 июля
Когда он женился, ему, пока находился он по делам в Москве, по невозможно дешевым ценам купили обстановку. Так сложились тогда обстоятельства. Мебель ничего не стоила. Комиссионные магазины были забиты. Разных профессий деляги из Москвы и их жены, как воронье, слетелись на эту ярмарку, покупали рояли по двести и екатерининские буфеты по полтораста рублей, что делягам, впрочем, не пошло впрок. Вернувшись, Шостакович увидел купленную для него мебель. И, узнав, сколько за нее заплачено, ушел немедленно из дому. Он собрал деньги всюду, где мог, и заплатил владельцам настоящую цену. Надо добавить, что он далеко не расточителен. Все вышеописанные проявления его существа для него вполне органичны, что особенно драгоценно. Его действия вряд ли опираются на теорию или заповеди консерваторские. И среда не поощряла к этому. Он охотнее всего говорит о футболе, дружит с футболистами, следит тщательно за результатами матчей; если пропустит по радио – звонит к знакомым, спрашивает, не слыхали ли, чем кончилась очередная встреча. Ни признака неясности или сладости, трезвость, простота, принимаемая привыкшими притворяться товарищами его по работе за оскорбление.
Возвращаюсь к нашей московской встрече. По телефону он начинал разговор так: «Говорит Шостакович», – подчеркивая букву О, как бы боясь, что его примут за другого. Он знал себе цену, но вместе с тем я узнавал в нем знакомое с детства русское мрачное недоверчивое отношение к собственной славе. Мы стояли рядом в очереди в столовой ЦДРИ за получением пропусков. Я – как командировочный, Шостакович – потому, что было первое число месяца. Директор Дома дважды подходил к нему и предлагал подождать в кабинете, и Шостакович оба раза сухо отклонил эти любезности. Сказалась его тоже органичная воспитанность.
4 июля
Однажды мне пришлось побывать с ним в доме, где среди гостей присутствовали певцы из Большого театра. Дмитрий Дмитриевич сразу затосковал, пальцы заиграли по виску, по столу. На обратном пути его спросили: «Вы не любите певцов?» И, резко артикулируя, преувеличенно литературно-правильно он ответил: «Совершенно несомненно, что афоризм Леонкавалло: „И артист человек“ – нуждается в ревизии». Он, не шутя, утверждал, что единственный недостаток Чехова – это женитьба на Книппер. «Нет, нет, вы ее не знаете! Этого нельзя простить». Впрочем, приехав на очередное драматургическое совещание из Кирова в Москву и зайдя к Маршаку, я увидел Шостаковича в обществе актера. Маршак, он и Яншин праздновали начало работы над постановкой «Двенадцати месяцев». Я зашел к Маршаку с вокзала, с чемоданчиком. Получив приглашение позавтракать с ними, я предложил банку консервов, привезенную с собой. Маршак стал отказываться, но Шостакович мигнул: давайте, мол! И я вспомнил, что и о его великолепном аппетите много рассказывали. Это, конечно, был тоже нервический аппетит. Шостакович терял слишком много энергии, все время требовал топлива.
5 июля
Нервность, нервность – чувствую, что надо еще раз напомнить об этой стороне его существа, проникающей остальные. Весьма часто на нервной почве бьются в истерике, дерутся, обижают слабых. Но благородство материала, из которого создан Шостакович, приводит к чуду. Люди настоящие, хотят этого или не хотят, платят судьбе добром за зло. На несчастья, обиды и болезни отвечают они работой. И трепаный, дерганый Шостакович, небрежно одетый, с большими очками на правильном небольшом остром носу, подчиняется тому же особому закону, что Моцарт, Бетховен и подобные им. Он работает. Когда я по неграмотности спросил, нужно ли ему проверять на рояле то, что он пишет, то получил ответ: «Так же не нужно, как вам читать ваши произведения вслух». Нервность Шостаковича, его снобическая манера говорить, его нездоровье и здоровье – все-все оборачивается, перерабатывается, высказывается в работе. Конечно, нервность делает его иной раз человеком трудновыносимым для окружающих. Но вот с двумя своими детьми он необыкновенно ровен и терпелив, а сколько я видел случаев, когда нервность обрушивалась именно на эту, наименее защищенную, часть семьи.
Я знаю, что сильных людей не любят, успех чужой переносят с трудом, и все-таки это обычное до пошлости явление удивляет меня, как неслыханная новость, когда обнаруживаю я его в жизни. Я знал, что Шостакович раздражает, нет, оскорбляет самым фактом своего существования музыкальных жучков столь же скептических и цинических на деле, как Шостакович на словах. Они чувствуют в нем изменника великому делу нигилизма. И всё говорят о нем.
6 июля
Как только эти жучки сползаются вместе, беседа их роковым образом приводит к Шостаковичу. Обсуждается его отношение к женщинам, походка, лицо, брюки, носки. О музыке его и не говорят – настолько им ясно, что никуда она не годится. Но отползти от автора этой музыки жучки не в силах. Он живет отъединившись, но все-таки в их среде, утверждая самым фактом своего существования некие законы, угрожающие жучкам. Их спасительный нигилизм как бы опровергается. И вот они жужжат. Все это я знал по рассказам и принимал равнодушно. Но года два назад в среде более высокой, среди композиторов по праву, я вдруг обнаружил ту же ненависть. Сами композиторы помалкивали, несло от их жен. Одна из них, неглупая и добрая, глупела и свирепела, едва речь заходила о Дмитрии Дмитриевиче: «Это выродок, выродок! Я вчера целый час сидела и смотрела, как он играет на биллиарде! Просто оторваться не могла, все смотрела, смотрела… ну, выродок да и только!» Я не посмел спросить, почему же не могла она оторваться, какая сила влекла ее к этому выродку. И она продолжала: «Нет, он выродок, выродок! Вчера приходит и сообщает: „У нас петух хуже цепной собаки! Бросается на людей. Когда я завязывал башмак, он попытался клюнуть меня в лоб, но, к счастью, я выпрямился, и удар пришелся в колено. Остался синяк, остался синяк. Бросается на всех. Заходите посмотреть, заходите посмотреть“. А? Какова наглость? У него петух бросается на людей, а он зовет: „Заходите“. Выродок!» Я ужаснулся этой ненависти, которой даже прицепиться не к чему, и пожаловался еще более умной и доброй жене другого музыканта. Но и эта жена прижала уши, оскалила зубы и ответила: «Ненавидеть его, конечно, не следует, но что он выродок – это факт». И пошла, и пошла. Я умолк.
7 июля
И когда я рассказал об этих потрясших меня разговорах одному дирижеру, тот ответил: «Чего же вы хотите? Эти композиторы чувствуют, что мыслить, как Шостакович, для них смерть». Дирижер подразумевал музыкальное мышление. Мужья чувствовали страх, а их жены – еще и ненависть. Вот почему, как загипнотизированная, глядела одна из них и не могла наглядеться, чувствуя, что перед ней существо другого мира.
Как относился Шостакович к этой ненависти? Не знаю. Но вот два его рассказа на эту тему. «Все мы знаем, как Римский-Корсаков относился к Чайковскому. Для этого достаточно бросить взгляд на алфавитный список собственных имен, упоминаемых в „Летописи моей музыкальной жизни“. Тогда как совершенно ничтожный Ларош упоминается десятки, а может быть, и сотни раз, Чайковский всего шесть-семь. Да и как упоминается-то! „Приехал Чайковский, и, следовательно, опять будет пьянство“. „Опять был вечер с Чайковским и шампанским“. Когда появилась Шестая симфония, Римский-Корсаков объявил, что этот сумбур уж совершенно непонятен. Правда, великий Никиш ухитрился растолковать кое-какие фрагментики этого неудачнейшего опуса, что по существу не спасает автора от полного провала. Это мы все знали из книг, но не знали, что говорится о Чайковском у Римских-Корсаковых, так сказать, за чайным столом. Как довольно часто случается в подобных случаях, проговорились дети. В день столетнего юбилея Римского-Корсакова один из многочисленных его сыновей, профессор биолог, сообщил собравшимся семистам композиторам и примерно такому же количеству гостей, что будет выступать как ученый. Вначале он поведал о тесной дружбе, существовавшей в свое время между его гениальным отцом и Петром Ильичем. Они обожали друг друга, как закадычные друзья.
8 июля
И даже были знакомы домами. Покончив с этой беллетристической частью, докладчик перешел к ученой. Он показал собравшимся генеалогическое дерево Римских-Корсаковых, уходящее своими корнями в самую глубь русской истории. «Пусть вас не смущает слово: „Римский!“ – воскликнул ученый и привел исчерпывающие доказательства того, что данное прозвище явилось результатом служебной командировки, но отнюдь не примеси итальянской крови. Тогда как Петр Ильич Чайковский является, увы, не русским, с чисто научной точки зрения. Он сын французского парикмахера Жоржа, похитившего супругу Ильи, забыл, как отчество. Наглый француз бросил бедняжку, и добрый Илья, забыл, как отчество, усыновил ребенка. И на этом месте доклада все семьсот композиторов и такое же количество гостей поняли, до какого накала доходили за чайным столом Римских-Корсаковых разговоры о Петре Ильиче, ухитрившемся, несмотря на легкомыслие, шампанское и прочее, создать себе мировое имя. Ученый сын выдал родителей. И тут даже не отличающийся излишней впечатлительностью композитор Шапорин взял слово и заявил с трибуны, что столетие со дня рождения одного великого русского композитора не может служить поводом для дискриминации второго». Однажды Шостакович спросил: «Что вы скажете о композиторе N.? – (И он назвал фамилию совершенно неизвестную.) – Не знаете? Странно! А между тем этот самый N. учился у Лядова одновременно с Прокофьевым, и, тогда как Прокофьев получал тройки, а иногда и двойки, N. учился на круглые пятерки. И что же? Ловкач и проныра Прокофьев завоевал себе мировое имя, тогда как N., несмотря на семнадцать симфоний и одну „Поэму сатания“, никому не известен. „Какова темка-то! – восклицает он, играя на рояле тему сатаны. – И никто меня не знает, тогда как ловкач и проныра Прокофьев известен всему миру“.
10 июля
Прочел в «Казаках»[331], что Оленин, мечтая, испытывал «страх труда», когда пытался найти форму для мечтаний.
Шостакович рассказывал об операции удаления гланд, которую ему сделали в Москве прошлым летом. «Это одно из самых позорных воспоминаний моей жизни. Когда я пришел в операционную комнату, то мной овладела первая пагубная мысль. Профессор имеет отличную репутацию. Но Бетховен имел еще лучшую. Тем не менее в его обширном музыкальном наследии можно отыскать два-три неудачных опуса. Что, если моя операция окажется неудачным опусом профессора? Это вполне допустимо и совершенно естественно и даже не отразится в дальнейшем на отличной профессорской [репутации][332] . Этот ничтожный процент неудач для него может оказаться весьма значительным лично для меня. Тут я увидел, что вся операционная затемнена, как во время войны. Только над столом висит как бы электрическая пушка, которая должна освещать мои гланды. И вторая пагубная мысль овладела мной: а что, если произойдет короткое замыкание как раз посреди операции? И тут я закрыл рот и отказывался открыть его, несмотря на уговоры всего персонала от профессора до медицинских сестер и санитарок. В конце концов все же им удалось усовестить меня. Не верьте, если вам будут говорить, что эта операция коротка и безболезненна. Она длится бесконечно. А боль настолько сильная, что я далеко отбросил в один из тяжелых моментов профессора ударом правой ноги».
12 июля
Николай Павлович Акимов, маленький, очень худенький, ногам его просторно в любых брючках, производит впечатление силы, вихри энергии заключает в себе его субтильная фигурка. Энергия эта не брызжет наружу, по-одесски, наподобие лимонадной пены. Она проявляется, когда нужно. Пусть только заденут его на заседании или на обсуждении работы театра, – новый человек удивится и, если он вызвал отпор, ужаснется силе, которую привел в действие. Проявляется его сила и в неутомимой настойчивости, с которой ведет он дела театра, не пугаясь и не отступая. В отношениях с людьми ясен и прям. Невозможно представить себе, что он спрашивает случайно встретившегося знакомого: «Ну, как дела? Как жена? Что дочка?» Разговоры подобного рода ведутся чаще всего из боязливого желания поддержать мирные и смирные отношения. Его летящему к очередной цели существу просто непонятны потребности подобного рода. И кроме того, ему некогда. Даже людей, которых он любит, забывает он в пылу борьбы. Во время атаки не до нежностей. Из-за этого он прослыл среди людей тепловатых – человеком холодным. И в самом деле его ясный и острый смысл действует на многих отрезвляюще и даже оскорбляюще. Из неясного, укромного мирка – на свет и мороз!
13 июля
Находясь вечно в действии, он отдыхать не умеет. В последние годы хоть есть научился сидя. В Сталинабаде он завтракал, да и обедал, стоя у стола в своей комнате, похожей на мастерскую. Основное место занимал в ней стол с пузырьками красок, набором кисточек, аппаратиками для работы: игрушка с зеркальцем, помогающая увидеть эскиз по-новому, электрический пульверизатор и тому подобное. Эскизы и портреты висели по стенам этой небольшой мастерской. Он не умел отдыхать. И в свободные минуты писал гуашью, акварелью, сангиной, тушью портреты знакомых. Пробовал работать и маслом. А в 47 году, уехав отдыхать на Рижское взморье, привез он оттуда более пятидесяти портретов, сделанных за месяц отдыха. Он всегда в действии. Еще раз оговариваюсь: при этом нет у него ни признака суетливости. Он деятелен совсем не так, как театральный администратор или коммивояжер. Держится спокойно, слушает охотно, внимателен, пристально внимателен все время. Рассказчик он отличный, но рассказывает, когда надо, не для того, чтобы блеснуть, а чтобы поделиться наблюдениями. Память у него сильная, запас наблюдений обширный, и всегда он их обобщает отчетливо, трезво и верно. И всей своей внимательной, строгой и ясной манерой обращения наводил он на свою многообразную труппу одинаковый страх. Турецкая[333], ненавидевшая и отрицавшая его за глаза, сама рассказывала, что после личных объяснений она выходила из его кабинета в холодном поту в буквальном смысле этого слова. «Да что же это такое? – изумлялась она, приходя в чувство. – Почему я его так боюсь? Ведь он прост!» – и так далее, и так далее. Вероятно, поэтому получает он так много анонимных писем. Уж очень боятся ссориться с ним лично. Артист Филиппов, напившись до изумления, заявил пассажирам метро, что он – Герой Советского Союза. Было это в 44 году.
14 июля
Театр играл в это время в Москве. «Кричу я, скандалю, – рассказывал Филиппов на другой день. – Все притихли, вдруг, батюшки мои, вижу, уставились на меня из уголка знакомые голубенькие глазки. Николай Павлович! Подходит он ко мне: „Идите за мной!“ В вагоне стало еще тише. И я притих. Вышел за ним на остановке, и он меня так отчитал, что весь хмель выдохся, хоть пей сначала!»
15 июля
Акимов скрытен, но все видят, что он скрывает, – уж слишком он ясен и отчетлив. И тем самым правдив. Как правило, весь театр знал точно, как он поступит в том или другом случае, и обсуждал намерения его на все лады, только сам Акимов помалкивал таинственно. Все они, снобы, характер поведения которых сформировался в двадцатых годах, как позора боялись какой бы то ни было изъявительности. Самый крайний из них, Андрей Николаевич Москвин, покраснел, как девушка, когда за столом в присутствии семьи выяснилось, что он недавно выступал с докладом в одной из секций Академии наук и имел успех. Здесь уже и речи не может быть о скрытности в каких бы то ни было целях. Москвин бескорыстно служит великому закону замкнутости. У него это превратилось в искусство для искусства. Акимов по ясности своей неспособен на подобные крайности. Он скрытен разумно, когда нужно. Но и он признался, как мучительно было на похоронах матери: все глядели и понимали его чувства. С неожиданной яростью обрушился он однажды на новую постановку «Трех сестер» в МХАТе.[334] Они так явно, непристойно страдали!
16 июля
Каков он в искусстве? Я не смею говорить о живописи, вообще об изобразительных искусствах. Ясно одно, что в них ему не проявить всех своих сил. Он все время стремится в пограничные области. И еще одно: как режиссер он изменился за эти годы, усложнился, окреп. В портретах же своих, да, пожалуй, и в декорациях, он все тот же, что и в двадцатых годах. В литературе (точнее, в драматургии) обладает великим даром: трезвым, неподкупным чувством целого. Он драгоценный советчик, когда работаешь над пьесой. Он прям и беспощаден в своих высказываниях, как бы ни относился к человеку. В отличие от многих занятых людей он читает. Не только то, что нужно, – читает из той почти физической потребности в книге, что выработалась у многих современных людей. Помню, как тронул и удивил он меня, когда в Сталинабаде заговорил о Лермонтове с силой понимания, неожиданной для его сильно освещенного существа. У него почти нет теней – так считал я – и поэтому не только тепловатые туманы недоступны ему. Пушкин сказал, что поэзия должна быть, прости господи, глуповата.[335] Я боялся, что поэзия в некоторых своих сторонах непостижима для Акимова. И вдруг такое понимание Лермонтова. И я убедился, что он сложнее, чем я думал. И с течением времени убедился я, что есть у него вера. Во что? Не знаю. Но поступки его обнаруживали, что, кроме кодекса денди 20-х годов, есть у него еще некий кодекс. И он слушается его.
17 июля
Когда Комедия готовилась к эвакуации из Ленинграда, я заходил часто в здание Большого драматического театра. Сам театр выехал в то время уже в Киров, актеры Комедии разместились в актерских уборных. Акимов и Юнгер жили, кажется, в кабинете замдиректора. Бывал я там потому, что Акимов упорно настаивал на моем отъезде из города. Был конец ноября, голод уже разыгрался в полную силу. Люди начинали умирать. И Акимов делал все, чтобы вывезти как можно больше людей из блокады. И не только ему близких. Он сказал как-то, что, выехав из города, он, вероятно, начнет резать людей, израсходовав все свои добрые качества на борьбу за увеличение списка людей, которых берет с театром. Он вернул в труппу сокращенных артистов, злейших своих врагов, предупредив, что на Большой земле снова их сократит. Его ясная и твердая душа не могла примириться с тем, чтобы люди умирали без всякой пользы в осажденном городе. Возвращался из театра я обычно в полной тьме. Никогда не переживал я подобной темноты на улицах. Ни неба, ни земли. Идешь ощупью, как по темной комнате. И мне не верилось, что все это правда. Голод, тьма, тревоги, бомбежки. Это было до такой степени нелепо, что я не мог поверить, что от этого можно умереть. А кругом уже умирали, и Акимов со всей ясностью понимал, что тут надо действовать. Двое из его труппы были погружены в самолет на носилках. Один из них умер в Кирове – артист Церетелли. Ни питание, ни лечение, ни вспрыскивание глюкозы не могли уже спасти его. Остальные – остались живы. И когда я встретился с театром в Сталинабаде, – эти живые уже дружно ненавидели Акимова. Все забылось, кроме мелких обид. Ежедневных, театральных, жгущих невыносимо, вроде экземы. Но театр жил. И когда Акимов добился перевода театра в Москву, ненависть сменилась уважением. После того как гастроли в Москве прошли с сомнительным успехом, уважение сменилось раздражением.
18 июля
Но и в раздражении и в ненависти театр был послушен. Я по своему положению в театре ясно видел все эти превращения: обе стороны были со мной откровенны. И я испытывал привычный ужас перед стихией – впрочем, столь же отвлеченный, как перед темнотой и бомбежками в Ленинграде. Акимов же понимал, что тут надо действовать. Театральный коллектив склонен неудачи приписывать руководителю, удачи же – своим достоинствам. Он склонен обвинять худрука в измене высоким принципам театрального искусства, формулировать которые он не дает себе труда. Короче говоря, тут дурное настроение вымещается не на слабейшем, а на сильнейшем. Немирович-Данченко, познакомившись с Акимовым в Тбилиси, изложил ему целую теорию потрясений театрального коллектива, имеющую свою периодичность. А ведь Немирович имел дело со счастливейшим театром! Акимов, как и Немирович, действовал, и театр, то ворча, то мурлыча, делал свое основное дело: показывал спектакли.
И что важно: Акимов мог ошибаться, мог терпеть неудачи, но качество, фактура, самая суть дела остались у него на первом плане. Вот он появляется в театре, маленький, тощенький, голубенькие глазки пристально глядят из-под очков, заряженный энергией, лишенный и признака суетливости, но далеко не лишенный суетности, жадный до всего земного. В записной книжке записаны все дела на сегодняшний день. Несмотря на маленький рост, он кажется самым взрослым в своей труппе, более взрослым, чем лысый, продувной, лихой администратор Львин, более взрослым, чем старые, крайне принципиальные актрисы и сильно пьющие, поседевшие в разложении своем герои. Он знает, чего хочет, а они томятся, он думает, а они более склонны к чувствам. Очень умно, очень ясно он действует, приказывает, настаивает – настаивает на своем, даже когда не прав. Он больше воплощен, более существует, чем окружающие его. Он ведет. Он действует. И по закону движения иногда разгоняется до того, что летит, как вихрь, вместе с театром. Летит, летит!
19 июля
Акимова надо будет переписать: многое, но не все рассказано. Трудно писать людей, которых любишь. Он очень, очень мажорен. И не может быть не ограничен, как все действующие люди. Холодный, ясный азарт достижения опьяняет его, не дает остановиться. И заносит его при всей разумности иной раз в сторону от цели. Но таков уж он уродился. Он рассказывал однажды, как в детстве сестре его подарили интересную книгу и она сказала, что прочтет ее потом, вечером. И он испытал ужас, а потом и презрение. Что за человек! Значит, она не хочет, в его понимании этого слова, читать книгу. Не умеет хотеть! Откладывает! Акимов, как большинство художников, расчетлив. Он любит вещи – вероятно, поэтому держится за них, может перебить удачную покупку в комиссионном магазине даже у близких друзей – единственный вид измены, который я у него наблюдал. Но и тут он ясен, и сила желания его так проста! Нужно для дальнейшего, для переписки отыскать его рассказы, я их записывал как-то в Сталинабаде.
Я сегодня не в форме, и мне трудно писать. Вчера вечером позвонил по телефону и зашел Шостакович. Он живет на даче недалеко от нас, но я сам не захожу к нему, зная, что есть у него дни, когда он не переносит людей. Недавно был у него Козинцев, которого встретил он приветливо, не отпускал. Вдруг внизу показались еще трое гостей – все его хорошие знакомые. Дмитрий Дмитриевич вскочил, пробормотав: «Простите, простите, опаздываю на поезд», – выскочил из дачи и побежал на станцию. Ну как тут пойдешь к нему? Пришел он похудевший, серый, под глазами круги, – выпил вчера, болит живот… Собеседника не слушает. Слушает что-то в себе. Нечто безрадостное. И вместе с тем мажорен, очень мажорен, когда рассказывает. Проведя с ним два часа, я устал, как от бессонницы.
20 июля
При последней встрече я обратил внимание на руки Шостаковича: пальцы тонкие, но не слишком длинные, и очень сухая блестящая кожа усиливает впечатление нездоровья. И мажорен, очень мажорен! Он рассказывал о болезни очень близкого к нему человека. Случайно обнаружили рентгеном инфильтрат в обоих легких. Это настолько обеспокоило Дмитрия Дмитриевича, что он уезжал в Москву выяснить на месте, что там случилось. Рассказывал он об этом так: «Крайне неприятно, крайне неприятно и совершенно неожиданно. Это или бывший туберкулез, или начинающийся». И добавил с удовольствием: «А может быть, и глисты. Может быть, и глисты. Они оставляют такие же следы».
7 августа
Театральная мастерская верила в то, что где-то есть настоящие режиссеры и настоящие театры. Другой веры у Мастерской не было, но готова она была верить во всю силу свою, которую ощущала, хоть и довольно смутно. И еще до того, как решился наш переезд в Ленинград, почему-то именно я с Гореликом[336] поехал за режиссером в Москву. В это время отношения в театре уже запутались – жить ему было нечем, а своим постоянным режиссерам верил он недостаточно. Кроме того, полуголодное существование артистов и процветание администрации – вечные ножницы трудных времен – усложняли обстановку.
9 августа
На другой день пошли мы с Гореликом к Чаброву[337] . За этим и приехали в Москву. Звать его в режиссеры. О нем говорилось у нас следующее: он известный пианист, друг Скрябина. Настоящая его фамилия Подгаецкий. Когда Камерный театр ставил «Покрывало Пьеретты», Подгаецкий, под фамилией Чабров, так сыграл Пьеро – мимическую роль, что прославился на всю Москву.[338] После этого помогал он Таирову ставить танцы. Успех «Принцессы Брамбиллы» приписывали ему.[339] С Таировым Чабров поссорился, собирался уходить, о чем заговорили в театральных кругах. Многие утверждали, что он режиссер не слабее Таирова. Жил Чабров в квартире-музее Скрябина. В большой комнате окнами в переулок встретил нас человек с широкой грудной клеткой, плешивый, с медвежьими хитрыми глазками. Мне показалось вдруг, что он бабник, а не Пьеро.
10 августа
Чем-то напомнил он мне нашего училищного сторожа Захара, баптиста, человека, ошеломившего меня в детстве разговором о девках. Но в дальнейшем показался мне Чабров простым и ясным. К нам он вряд ли собирался ехать, но и не отказывал решительно. Увидев, что я разглядываю гравюру в углу кабинета: тело юноши выброшено волнами на скалу, – он привел слова Скрябина: «Вот юноша, которому уже нечего желать».
Сюжет гравюры, видимо, беспокоил Скрябина, он часто возвращался к этой теме, а после смерти композитора сын его утонул, купаясь. Не помню, на этот ли раз или во время предыдущих разговоров Чабров спросил: «А какие у вас актеры – темпераментно-глупые или застенчиво-умные? Я умею работать только с темпераментно-глупыми». Возвращался я в вагон живее, чем всегда. Жизнь, казалось, продолжается. Разнообразие ее, сказавшееся в неожиданной простонародной внешности Пьеро – режиссера и музыканта, ощущение настоящего искусства, пробивающегося через любую почву, утешили меня, но ненадолго. По дороге домой у нас едва не случилось пожара, когда ставили мы самовар в вагоне. Комендант поезда грозил и ругался. На станциях с бранью и кликушескими воплями ломились к нам мешочники. Говорили на станциях все о холере. И я снова погрузился как бы в туман, из которого театральные заклинания о конструкциях вместо декораций, циркачах вместо актеров, о комедии дель арте в новой трактовке не в силах были вывести. Чабров к нам не приехал. Он удалился за границу, где, по слухам, снова стал пианистом. Говорили, что он особенный успех имеет в Испании. А мы осенью всем театром поехали в Ленинград, чтобы там и закрыться и разойтись.
20 августа
В 24 году в подвальчике на Троицкой открылся театр-кабаре под названием «Карусель». Успех «Летучей мыши» и «Бродячей собаки» еще не был забыт, и подобные театрики, по преимуществу в подвалах, открывались и закрывались достаточно часто[340] . Играя в живой газете Роста[341], познакомился я с сутуловатым до горбатости, длинноруким Флитом[342] . Он был доброжелателен. Горловым тенорком, закидывая назад голову, словно настоящий горбун, остроносый, с большим кадыком, расспрашивал он, встречаясь, как идут мои дела, и пригласил написать что-нибудь для нового кабаре. Я почтительно согласился. И сочинил пьесу под названием «Три кита уголовного розыска». В ней действовали Ник Картер, Нат Пинкертон и Шерлок Холмс. Выслушали пьесу в кабаре угрюмо и стали говорить, что в «Балаганчике»[343] у Петрова шла уже пьеса на подобную же тему, сочиненная Тимошенкой. Я сразу ужаснулся. Как я смел думать, что могу сделать что-нибудь для этих избранников. Я объяснил только, что программу с подобной пьесой в «Балаганчике» не видел, и удалился. Но пьесу все-таки решили они ставить. Странное дело, отказ ужаснул меня, а согласие – не обрадовало. И я стал бывать на репетициях с полной уверенностью, что меня это все не касается.
26 августа
Когда я вернулся из Артемовска, то недели две испытывал страх: я был без места. Но вот Слонимскому поручили редактировать журнал «Ленинград» при «Ленинградской правде», и я пошел по его рекомендации туда же в секретари. А в «Радуге» поручили мне подписи, стихотворные подписи к двум книгам…
Издательство «Радуга» процветало в те дни. Первые, а возможно, и лучшие книги Маршака и Чуковского расходились отлично. Налогами частников еще не душили, и во всех книжных магазинах продавались книжки издательств «Мысль», «Время». И еще многих других, главным образом – переводы. Известные переводчики нанимали белых арапов – людей, просто знающих язык, и только редактировали, а иной раз и не редактировали переводы своих подручных.
27 августа
Несмотря на процветание издательства, деньги получить было в высшей степени трудно. Платили они мне, по-моему, 250 рублей за книжку. Но по частям. Один раз заплатили талонами на магазины Пассажа. Целый лист, похожий на листы почтовых марок, с талонами разной ценности. Я купил себе костюм. В ожидании денег сидели мы в проходной комнате… Раза два видел я там Мандельштама – озабоченный, худенький, как цыпленок, все вздергивающий голову в ответ своим мыслям, внушающий уважение. Корней Иванович и Маршак, словно короли, показывались не так часто, и денег, разумеется, ждать им не приходилось. Но и с нами расплачивались в конце концов. И впервые с приезда жить нам в Ленинграде стало полегче. «Рассказ старой балалайки», написанный до «Радуги», все лежал в Госиздате и был напечатан в 25 году, уже после того, как вышли «Вороненок» и «Война Петрушки и Степки Растрепки». На книги свои я смотрел с тем же странным чувством, как на работу в «Карусели». Я начинал, едва начинал, приходить в себя после падения всех сил и всех чувств, после актерской полосы моей Жизни. Но я был как в тумане. Сегодня я вижу то время яснее, чем тогда, в те дни.
28 августа
То, что в «Радуге» напечатал я несколько книжек, то, что Мандельштам похвалил «Рассказ старой балалайки», сказав, что это не стилизация, подействовало на меня странно – я почти перестал работать. Мне слава ни к чему. Мне надо было доказать, что я равен другим. Нет, не точно. Слава была нужна мне, чтобы уравновеситься. Опять не то, голова не работает сегодня. Слава нужна мне была не для того, чтобы почувствовать себя выше других, а чтобы почувствовать себя равным другим. Я, сделав то, что сделал, успокоился настолько, что опустил руки. Маршак удивлялся: «Я думал, что ты начнешь писать книжку за книжкой». И предостерегал: «Нельзя останавливаться! Ты начнешь удивляться собственным успехам, подражать самому себе». Но я писал теперь только в крайнем случае.
30 августа
Особняк Черновых на бывшей Садовой улице, ныне улица Энгельса в Ростове-на-Дону. Двадцатый год. Театр Театральная мастерская захватил особняк, не без участия хозяев. Дочка их, ее муж, брат мужа – все артисты театра. Старики Черновы забились в одну комнату в глубинах особняка. Изредка покажется в коридоре маленький седой армянин с изумленными, осуждающими глазами и скроется…
Зал черновского особняка, большой для богатого дома, превращен был в крошечную театральную залу. А мы, случайно встретившиеся, едва вышедшие из юношеского бесплодного, несамостоятельного бытия, стали профессиональными актерами. И не верили этому. Быт в те дни был сложен.
31 августа
Ростовские мальчики и девочки, знакомые еще с гимназических времен, разных характеров, разных дарований, полные одним и тем же духом – духом своего времени. Сначала собирались они и обсуждали книги и читали рефераты о литературных событиях двух-трехлетней давности. Назвали они свою компанию (это была, конечно, компания вроде тех, что вертелись этим летом вокруг нашего дома) «Зеленое кольцо». Тогда только что прошла пьеса Гиппиус под этим названием о молодежи, которая жаловалась, что «попала в щель истории» и не находит себе места в жизни. И эта компания пыталась от избытка сил найти подобие веры, но пышная и мутная символически-религиозно-философская культура тех дней только манила их, импонировала, но оставалась им в сущности чуждой. Оставались они теми же юношами-подростками… Компания эта так и разошлась бы, но в ядре ее подобралось несколько людей, по-настоящему любящих, нет, влюбленных в театр. В 17 году поставили они «Незнакомку» Блока. В 18-м – уже при нашем участии – «Вечер сценических опытов». Мы – это краснодарская компания, переехавшая в Ростов учиться: Тоня, Лида Фельдман, я. Ставил все спектакли Павлик Вейсбрем, которому только что исполнилось 19 лет. Во второй спектакль, в «Вечер сценических опытов», входили «Пир во время чумы», отрывок из «Маскарада» и отрывок из какой-то пьесы Уайльда, не вошедшей в собрание его сочинений, совсем не помню какой. Вроде мистерии. Вейсбрем говорил вступительное слово, переполненный зал слушал внимательно. Он говорил о счастье действовать и объединять людей. Вот по нашей воле сошлись тут люди, забыли о своих интересах, подчинились искусству. Второй спектакль еще более объединил компанию. Это уже был кружок.
1 сентября
Но и кружок этот, вероятно, распался бы, не сойдись так исторические события. Наиболее определившиеся из молодежи и раньше держались крепко за это дело. Самым любопытным из всех них был Павлик Боратынский, о котором Вейсбрем говорил, что он «человек трагический». Он, как все герои своего времени, был временем порожден и нарушал его законы как хотел. Впрочем, время как раз поощряло к этому роду нигилизма. Он необыкновенно спокойно, весело и бескорыстно лгал, чем восхищал и ужасал меня. Красивый, стройный, спокойный, почти мальчик, с женщинами он был безжалостен, за что они и не слишком обижались… Актер он был не просто плохой, а ужасный. Вейсбрем совершил с ним чудо – он очень сильно сыграл Вальсингама в «Пире во время чумы», но и только. И, несмотря на это (или именно поэтому), он страстно любил театр. Еще до того, как Театральная мастерская стала государственным театром, он совершил преступление. Не было денег на декорации и на оплату зала. И Павлик украл шубу у богатого клиента, пришедшего к его отцу, адвокату. И театр был спасен. Боратынский был решителен, насмешлив, умен. Восхищался Андреем Белым – «Серебряный голубь» и «Петербург» были его любимыми книгами. Но вместе с тем был и хорошим организатором, и это ему во многом были мы обязаны тем, что театр не распался, пока обстоятельства не объединили нас крепче, чем было до сих пор. Жизнь не то что изменилась или усложнилась, а начисто заменилась. И в этой новой жизни нам нашлось вдруг место и как раз потому, что существовал театр. И вот мы реквизировали особняк Черновых, к изумлению хозяина.
3 сентября
Да, теперь мы были настоящим театром, хотя не слишком-то верили этому. И зарплата, которую мы получали, была столь призрачна, и люди столь по-другому знакомы, что думалось: «Да, мы, конечно, театр, но все же и не вполне». И театральные критики, в новых условиях растерявшиеся, не могли нас уверить, и хваля и браня, что мы существуем. Самым значительным подтверждением факта нашего существования был хлеб. Внизу, в высокой сводчатой комнате черновского особняка, нам раздавали наш хлебный паек… Театр давал нам крошечную зарплату, право обедать в столовой Рабис и этот хлеб. И постепенно, постепенно реальность его существования утвердилась именно этими фактами. Во всем остальном было куда меньше основательности. Вряд ли у нас были какие-нибудь театральные вкусы и верования. Мы были эклектичны по-провинциальному, и потому что сорок лет назад в театре все дрогнуло, перемешалось и еще неясно было, кто победил. В Художественном театре ставили «Синюю птицу». «Гамлета» ставил у них Гордон Крэг. Начался период стилизаций. Появились режиссеры-«эрудиты». О маленьких театрах вроде театра Комиссаржевского говорили и писали больше, чем о больших.[344] Возрождали, насилуя себя всячески, Комедию дель арте, о чем недавно я прочел прелестную запись в дневнике Блока о знакомых, которые лежат под столом и бегают на четвереньках, и о том, как не соответствует это умной и печальной русской жизни.[345] Но сам он был связан как-то с театром Мейерхольда, который репетировал в Териоках Стриндберга[346] . Обрывки всего этого доходили до нас, и мы во все это верили и не верили. И у нас было два режиссера – Любимов и Надеждов…[347]
На редкость разными людьми были наши режиссеры. Любимов, вышедший из недр Передвижного театра,[348] был нервен до болезненности, замкнут, неуживчив, молчалив и упрям. Тощенький, большелобый, в очках, смертельно бледный, сидел он на репетициях в большом черновском кресле, сжавшись, заложив ногу за ногу. По нервности он все ежился, все складывался, как перочинный ножик. Добивался он от актеров того, чего хотел, неотступно, упорно, безжалостно. Только не всегда ясно, по своему путаному существу понимал он, чего хотел. Второй режиссер – открытый, живой красавец Аркадий Борисович Надеждов. Этот играл и в провинции, и с Далматовым, и у Марджанова, от которого подхватил словечко «статуарно». Работал Надеждов и у нас, и в полухалтурном театре (кажется, называли его «Свободный»)[349], и ставил массовые зрелища в первомайские или октябрьские дни… Он внес в Театральную мастерскую веселый, легкий дух профессионального театра. На так называемых режиссерских экспозициях был он смел и совершенно беспомощен. Нес невесть что. А ставил талантливо. Не было у него никакой системы, нахватал он отовсюду понемногу – это сказывалось в его речах. Но вот он приступал к делу. Его красивое лицо умнело, становилось внимательным. Любовь к театру, талант и чутье помогали ему, а темперамент заражал актеров. Как это ни странно, но столь непохожие друг на друга режиссеры наши никогда не ссорились. Впрочем, Надеждов был уживчив, да и вряд ли считал Мастерскую основным своим делом. Чего же тут было делить ему с Любимовым? Надеждов поставил у нас «Гондлу» Гумилева и «Иуда – принц искариотский» Ремизова. А Любимов – «Гибель „Надежды“ Гейерманса и „Адвокат Пателен“.
4 сентября
Пятым, а вместе с тем и первым по времени выпуска (по-моему, с него и начал наш театр свою жизнь в качестве государственного) был «Пушкинский спектакль». Туда вошел без изменения перенесенный из «Вечера сценических опытов» «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери» был поставлен заново. Между двумя этими пьесами Антон Шварц и Холодова читали стихи. Второй постановкой была «Гибель „Надежды“. Третьей – „Гондла“, затем „Адвокат Пателен“ и „Иуда – принц искариотский“. От постановки к постановке привыкали мы к тому, что Театральная мастерская – настоящий театр. Директор наш, Горелик, был вместе с тем и секретарем Наробраза. Он принадлежал к виду молчаливых и властных людей. Несмотря на свой возраст (ему было 22-23 года), он заставлял себя слушаться как старший. Он вел театр со свирепой и молчаливой энергией… Идеологом театра являлся сам заведующий Наробразом К. Суховых. Я знал его как фельетониста „Кубанского края“, где подписывался он – „Народин“. Это был высокий, постноватый на взгляд человек, с длинными прямыми волосами и морщинистым лицом. Было ему, вероятно, под сорок.
5 сентября
Суховых перед каждым спектаклем выступал перед занавесом, говорил вступительное слово, увязывая пьесу с сегодняшним днем. Одна была близка ему как трагедия, другая – как широкое историческое полотно, третья – как продукт народного творчества, – Луначарский приучал широко мыслить.
У нас была страстная жажда веры, а пророка все не находилось. Художники у нас были случайные, из проезжих. «Гибель „Надежды“ делал Николай Лансере, „Гондлу“ – Арапов, „Иуду“ – Лодыгин. Как я тосковал в театре! Как не верил, что дело это имеет какое-то отношение ко мне. Николай Лансере написал задник – море.
6 сентября
Я ждал своего выхода в «Гибели „Надежды“ возле самого этого задника. И, несмотря на близость к холсту, цвет моря вызывал у меня тоску по временам, вдруг ушедшим в туман, – по беспечным временам, когда шли мы пешком по шоссе, приближаясь к Адлеру. А теперь я женат, я артист, я ненавижу свое дело. Я не пишу, как в те дни, когда шли мы с Юркой по морю, а главное, не знаю, как писать. Спасительное чувство, что все это „пока“, и мечты утешали меня, особенно возле этого задника, изображающего море. Таковы были наши декорации. Думаю, что были они профессиональнее, чем постановки наши и игра. Попробую рассказать об актерах. Самой заметной фигурой был Марк Эго. Он успел побывать в настоящем театре, да еще в каком – в Художественном. И более того, во Второй студии, той самой, где Мчеделов поставил „Зеленое кольцо“[350] . Если Художественный в те дни начинал утрачивать былое обаяние, то студии в наших глазах стояли необыкновенно высоко, – и вот Марк Эго пришел прямо оттуда. Шумной, простоватой, но сильной своей натурой завоевал он заметное место на незримом, но вечно волнующемся актерском форуме. Небольшого, нет, среднего роста, густоволосый, черноволосый, румяный, он не очень походил на актера в старом представлении. МХТ любил принимать в студию именно таких: интеллигентных, темпераментных, недовольных… Но Марк был еще и простоват. Не в смысле разума. Никак! В смысле вкуса. Сказывалось это прежде всего в псевдониме: Эго! И в отсутствии чувства юмора: он брал у времени всерьез его случайные, шумные, третьесортные признаки (Марк Эго). Так он и играл, и жил, и обсуждал театральные дела.
8 сентября
Заметную… роль играл в театре Антон Шварц. Он был образованнее, да и умнее всех нас. Говорил на заседаниях художественного совета всегда ясно и убедительно. Спокойствием своим действовал умиротворяюще на бессмысленные театральные междоусобицы. Читал он великолепно. Играл холодновато. Он и Марк Эго были героями, а на амплуа героини – Холодова, играющая тогда под фамилией своей настоящей – Халайджиева. Она была талантливее всех, но именно о ней можно было сказать, что она человек трагический. По роковой своей сущности она только и делала что разрушала свою судьбу – театральную, личную, любую. Она была девять лет моей женой.
Вот входит в репетиционную комнату Костомолоцкий[351], костлявый и старообразный, и на пороге колеблется, выбирая, с какой ноги войти… Голос у него был жестковатый, неподатливый, но владел своим тощим телом он удивительно. Это был прирожденный эксцентрический артист.
9 сентября
Этот новый вид актерского мастерства чрезвычайно ценился в те дни. Через несколько лет Костомолоцкий прославился в постановке «Трест Д.Е.» у Мейерхольда в бессловесной роли дирижера джаза.
Более традиционным комиком являлся армянин, адвокат Тусузов[352], осторожный, неслышный, косо поглядывающий из-под очков своими маленькими глазками. И все-то он приглядывался, и все-то он прислушивался, выбирая дорожку побезопаснее. Одинокий, он и в театре держался бобылем, не вызывая, впрочем, враждебных чувств в труппе. Уж очень он был понятен и безвреден со всеми своими хитростями. И актер был хороший – он до сих пор играет в Театре сатиры. Рафа Холодов, рослый, красивый, играл любовников, что давалось ему худо. Он мгновенно глупел и дурнел на сцене и все злился – явные признаки того, что человек заблудился. И только в дни наших капустников, играя комические и характерные роли, он преображался. Исчезал недавно кончивший гимназию мальчик из солидной семьи, которому ужасно неловко на сцене. Угадывался вдруг талант – человек оживал. И в конце концов он так и перешел на характерные роли и стал заметным актером в Москве с тридцатых годов. Фрима Бунимович, или Бунина, тогда жена Антона Шварца, преданнейше в него влюбленная, огромноглазая, большелобая, маленькая, худенькая, была одарена разнообразно. Она все светилась, светилась, никогда не была спокойна, и черные глазища ее все мерцали, как от жара. Иногда бывали у нее припадки, когда ее сгибало, она поднималась, как мостик, от пяток к затылку, дугой. Она и рассказы пробовала писать, и стихи. И томилась без ролей, и все обхаживала в вечной тревоге Тоню.
16 сентября
Разные то утешительные, то враждебные мне люди собрались и образовали театр. Вечер. Дежурный режиссер сегодня Надеждов – по очереди присутствуют они на спектаклях, то он, то Любимов. Насмешливо щурясь, по-актерски элегантный, любо-дорого смотреть, бродит он возле актерских уборных, торопит актеров, называя их именами знаменитостей: «Василий Иванович, на сцену! Мариус Мариусович! Николай Хрисанфыч!» Но вот Суховых придает спокойное, даже безразличное выражение своему длинному лицу.
17 сентября
И выходит на просцениум. Свет в зрительном зале гаснет. Начинается. Мы собираемся у дверей единственного входа на крошечную нашу сцену. Глухо доносятся из-за занавеса слова Суховых. Он говорит об эпохе реакции, о борьбе темных и светлых сил. О победе пролетариата, которому нужно искусство масштабное, искусство больших страстей. Вежливые аплодисменты. Насмешливое лицо Надеждова становится строгим и внимательным. Суховых торопливо проходит через сцену. «Занавес», – шепотом приказывает Надеждов, и начинается спектакль, и только катастрофа – пожар, смерть, землетрясение – может его прервать. Так мы служили в театре в 20/21 году. И все события, которые разыгрывались за его стенами, занимали нас смутно, только врываясь к нам через его стены. Так, во время врангелевского наступления предложили нам идти в Красную Армию добровольцами. Многие записались, но тут же ночью мобилизация была отменена. Во время изъятия излишков у буржуазии ночью дали вдруг свет. В нашу комнату вошли рабочие с винтовками, спросили добродушно: «Артисты?», посмотрели удостоверения и вышли, ни на что и не взглянув. Впрочем, с первого взгляда можно было догадаться, что излишков у нас нет.
18 сентября
Иногда мы зарабатывали в «Подвале поэтов». Длинный, синий от табачного дыма подвал этот заполнялся каждый вечер, и мы там за тысячу-другую читали стихи, или участвовали в постановках, или сопровождали чьи-нибудь лекции. А лекции там читались часто, то вдруг о немецких романтиках, то о Горьком (и тут мы ставили «Девушку и смерть»), то о новой музыке. Однажды на длинной эстраде появился Хлебников. Говорили, что он возвращается из Персии. Был он в ватнике. Читал, сидя за столом, едва слышно, странно улыбаясь, свою статью о цифрах[353] . На другой день Халайджиева видела его на рынке, где он пытался обменять свой ватник на фунт винограда. Очевидно, Рюрик Рок не заплатил Хлебникову за вчерашнее выступление. Рюрик Рок был как будто председателем Союза поэтов – во всяком случае, все дела «Подвала» сосредоточены были в его руках и он платил нам за участие в их вечерах. Рюрик Рок, настоящая его фамилия была Геринг, являлся полной противоположностью Хлебникову. Нет, он никогда не улыбался странно, был румян, черноволос, спокоен, деловит. Одет он был далеко-далеко не в ватник. Примыкал к школе ничевоков, а может быть, стоял во главе ее[354] . Школа эпатировала буржуа, но эти последние были уж до того эпатированы, что сидели смирно в уголках и только радовались. Ничевоки не угрожали их жизни и излишкам. Вскоре поступил я в политотдел Кавфронта. Об этом театре рассказывать долго, да и приглушенные, тлеющие впечатления тех упадочных лет до сих пор неприятны мне. Я ненавидел актерское ремесло и с ужасом чувствовал, что меня занесло не туда.
20 сентября
По моему особому счастью, когда переезд Театральной мастерской в Петроград был решен и подписан, денег у меня не оказалось. У меня тут был особый дар – работал я как все, но деньги не шли ко мне, а придя, не задерживались. И я пошел в последний раз на рынок. Называю его так по ленинградской привычке. Я пошел на базар продавать студенческую тужурку. Базар начинался длинной человеческой рекой, тянущейся вдоль бульваров, под акациями. Впадала эта река в огромное человеческое озеро, над которым виднелись островки: мажара с арбузами или клетками, из которых высовывались длинные гусиные шеи, или кадками со сметаной и маслом. На циновках прямо на земле горою вздымались помидоры, и капуста, и синенькие, и на таких же циновках разложены были целые комиссионные магазины: тут и фарфор, и старые ботинки, и винты, и гвозди, и книжки. Вещи обычно удавалось продать еще на бульваре. Если дойдешь до самого базара, – худой признак. Значит, нет спроса на твой сегодняшний товар. Студенческую тужурку купили скоро, и сердце у меня вдруг сжалось, когда увидел я, как парень с маленькой головой уносит ее. Мне почудилось, что это моя молодость уходит от меня. Было мне двадцать четыре, почти двадцать пять лет, и я все как-то не верил, что мы уедем в Петроград и я как-нибудь выберусь из колеи, которую ненавидел. Но вот уже поданы вагоны – две теплушки, с нарами для актеров в одной и театральным имуществом в другой. Стоят они вправо от вокзала, вход через ворота. Вот вагоны и погружены. Осенний, почти летний вечер – засушливое, жаркое лето 21 года все тянется. Я измучен не столько сборами, сколько слезами и истериками близких. Вагоны стоят.
21 сентября
Тоня и Фрима уехали в Москву, и неясно было, присоединятся ли они к нам по пути. Надеждов оставался в Ростове. Уехали вперед Литваки[355] и Беллочка Чернова. Казалось, что театр вот-вот распадется. Куда ж мы едем? И едем ли? Но вот нас прицепили к какому-то составу.
22 сентября
И мы так долго маневрировали, что я не поверил себе, когда началось движение вперед, без остановки у стрелок, без свистков, без помахиваний флажками. В высоких, метра в полтора, бидонах плескалось подсолнечное масло – весь капитал театра. Деньги падали каждый день, и поэтому заказаны были специальные бидоны и все, что нам причиталось, обращено в масло. Бидоны подтекали, что нас несколько беспокоило, но знатоки утешали, утверждали, что это неизбежно. Под нарами уместились наши личные бидоны. Один – с превратившейся в подсолнечное масло студенческой моей тужуркой, подъемными, зарплатой за месяц. Перед самым нашим отъездом приехал папа и привез, зная, как плохи мои дела, второй бидон, покрашенный в красно-коричневую краску. Это было все наше имущество. По тогдашним ценам этого могло хватить месяца на два жизни, что меня глубоко утешало. Ни разу я не был так богат. И вот мы все удалялись от Ростова, и я все оживал. Это был непривычный путь – теплушки наши останавливались вдали от вокзалов, где-нибудь на пятом пути, и поэтому все остановки выглядели одинаковыми. Пробираясь под колесами, обходя бесконечные составы, бежали мы к рынку, или к водокачке умываться, или за кипятком, или к уборным. А Павлик Боратынский и Львов – администратор наш и Барсов – второй администратор мчались к дежурному по станции, чтобы нас не отцепили или перецепили к новому составу. Однажды и я от нечего делать присоединился к ним. Дежурный в гимнастерке, бледный и словно опьяненный всеми трудностями, что окружали его, то начинал слушать, то вскакивал и бросался к телефону, то снова говорил нашим: «Слушаю вас, товарищи», – и, получив сверток с колбасой и салом, исполнил нашу просьбу, успокоившись.
24 сентября
Так мы ползли и ползли. Все чаще приходилось закрывать дверь теплушки, потому что хлестали дожди, так что видели мы одни вагоны на станциях. Но вот дней через пятнадцать в нашей железнодорожной жизни, вошедшей в колею, стало медленно-медленно назревать настоящее событие. Более мелкие события – Курск, Орел, Серпухов – ничего не изменили в нашей жизни, хотя их мы ждали тоже с нетерпением. Но тут мы приближались к Москве! Тут предстояло нам прожить дня три-четыре – таков был срок пребывания на этой станции, узловой из узловых. Думали мы, что прибудем туда вечером, но и ночью не увидели Москвы. И только на рассвете остановились мы среди путей и составов, которым не было конца. Москва-сортировочная. Мы вышли к виадуку. И я сквозь утренний и душевный туман увидел с моста огромный золотой купол храма Христа Спасителя. И вспомнил, что с самой первой встречи город принял меня холодно, враждебно, да так и сохранил этот обычай навсегда. И напрасно ждал я от Москвы прояснения моей жизни, поворота к лучшему. Ничего хорошего тут с нами не случится. Но вот мы перешли виадук, увидели мощенную булыжником дорогу, услышали цоканье подков – ломовики везли какие-то ящики к станции. И мне вдруг захотелось, так захотелось в Москву. Несколько возчиков курили у лестницы, ждали нанимателя. «Сколько возьмете до Москвы?» – «Десять рубликов». Это значило десять тысяч. Но тем не менее, установив, где будут наши вагоны, к вечеру мы были в Москве. Она была озабочена, нездорова, слаба, но меня встретила непримиримо. Куда хуже, чем летом, когда приезжал я к Чаброву. Мы думали оторваться от театра, остаться тут, в Москве.
25 сентября
В те дни в Москве еще можно было найти комнату, но страшно показалось в эти осенние дни оставаться там в одиночестве, без театра. Не устроился в Москве и Тоня, решил ехать с нами. Жили мы в Москве, пока шли хлопоты о прицепке наших вагонов. Побывали в Камерном театре, посмотрели «Саломею»[356] … К моему огорчению, «Саломея» ужаснула меня. Кроме Ирода – Аркадина, все остальное не походило, не подходило к той простоте и пустоте, в которой очутился мир. Это выглядело оскорбительно, бестактно, провинциально. Вчерашний обед. В высшей степени черствые именины. Не помню, тогда или чуть позже увидел я «Мистерию-Буфф» у Мейерхольда и тоже огорчился[357] . Я так любил влюбляться. Тут я увидел отказ от всех законов, возмущающих в Камерном. Но радости от этого не ощутил. Оголенная сцена не была использована – слишком большая свобода не вызывала сочувствия, уважения. При такой свободе – все можно и ничем не убедишь. Только года через два, увидав «Великодушного рогоносца»[358], я был потрясен и убежден – родились новые законы. Сильное впечатление, наиболее унылое, произвело кафе «Стойло Пегаса»[359] .
26 сентября
Я ненавидел актерскую работу и, как влюбленный, мечтал о литературе, а она все поворачивалась ко мне враждебным, незнакомым лицом. «Стойло Пегаса» мало чем отличалось от ростовского «Подвала поэтов». То же эпатирование буржуа, в высшей степени для них утешительное. Та же безграничная свобода, при которой все можно и ничем не удивишь, но еще более обескураживающая. За несколько дней до нашего приезда в «Стойле Пегаса» состоялся вечер, посвященный памяти Блока, с кощунственным, и лихим, и наглым, и ничего не стоящим названием[360] . Кафе в тот день было переполнено. Имажинисты позволяли себе все, но никто не удивлялся. Тем не менее ощущение скандала, и скандала невеселого, возле могилы, нарастало. И вдруг Тоня поднялся и прочел стихотворение «Рожденные в года глухие». Когда закончил, полная тишина воцарилась в «Стойле», и председатель, не то Кусиков, не то Мариенгоф, только и нашелся сказать что «Да-а!» В тот вечер, что были мы, выступал с речью об имажинистах Брюсов. Я увидел его в первый и последний раз в жизни. Высокий, узкоплечий, он походил на свои портреты и зловеще вместе с тем отошел от них. Как он стар! Взгляд особенно тусклый, даже оловянный. Вся значительность, словно штукатурка, обвалилась со всего его существа. Говорил он убедительно, холодновато и безразлично. Он доказывал, что новая поэтическая школа прежде всего определяется языком. Маяковский создал новую форму, а вместе с тем и школу. А имажинисты – эпигоны. Попадаются у них красивые строчки – например, у Кусикова: «Радуга – дуга тугая» – и только. Слушали Брюсова терпеливо и вяло. Оживились, когда на кафедре появился сутулый, черный, бледный, неряшливо одетый москвич и стал возражать.
27 сентября
Широко расставив руки, и опираясь на кафедру, и низко наклоняясь, он почти касался ее своей черной, редкой, кустистой бородкой. Он как бы хвалил Брюсова, но все смеялись – очевидно, этот сутулый считался в кафе человеком острым. Я не понимал его намеков. Он все издевался над академизмом Брюсова, но еще что-то местное было в его словах, понятное только местным. Уж слишком они оживились. А Брюсов сидел за своим столиком неколебимо, как олимпиец, и поглядывал бесстрастно. Оловянность глаз его повергала меня в отчаяние. Еще раз увидел я, что Москва – не бог весть что. И чужда, так чужда, что я готов был в ножки ей поклониться, только бы приняла она меня. Но понимал, что это не помогло бы. Что мне эти рисуночки на стенах, дым, жестокость испитых морд, девицы, перепуганные до извращения. Ад. За столиками оживились. Взгляды устремились в угол. Пронесся как бы ветерок: «Есенин пришел!» – «Где?» – «Вон, с Мариенгофом за столиком». Я к этому времени оцепенел, впал от ужаса в безразличное состояние. Нет, не уйти мне из театра. Некуда. Со страхом, как бы сквозь сон, взглянул я в указанном направлении и увидел два цилиндра и два лица: одно – круглое и даже детское, другое – длинное и самоуверенное. Нет, из театра бежать некуда. Тоня куда более цельный и спокойный – и тот не остается тут, несмотря на московские знакомства. А меня Москва, как всегда, и подавно не примет.
28 сентября
Садились мы на старом, столь памятном Николаевском вокзале. Огромный состав подали к пассажирской платформе. Приехали Тоня и Фрима со всем своим багажом. Тоненькую ее фигурку, согнувшуюся над чемоданами, запомнил я почему-то до сих пор. Она бегала и беспокоилась, а мы помогали погрузке, и шел дождь, и все спешили: через несколько минут состав должен был по расписанию отойти. И отошел, к нашему величайшему удовольствию, даже гордости, – вот как мы теперь едем. И всюду останавливались мы на станциях и стояли по расписанию, хоть и подолгу. И уж мы не пропустили ни одной станции, ни одного самого крошечного разъезда.
29 сентября
Мы прибыли в Петроград очень быстро, к исходу третьих суток. 5 октября 1921 года. Теплушки наши поставили на товарном дворе у покатых, мощенных булыжником платформ, построенных так, чтобы ломовики могли подъезжать к самым дверям вагонов. Впрочем, может быть, построены были они для погрузки артиллерии и грузовых машин. Утром пришли к нам Макс и Толя Литваки. Какие-то вещи их прибыли с нами. Удостоверившись в их целости, отправились они домой, а я от нечего делать – с ними. Мы свернули на Суворовский проспект. Маленький, тесный, не по-ростовски угрюмый, темнел рынок в самом его начале. И Ленинград казался мне темным, как после тифа, еще в лазаретном халате. Я шел по улице, где через восемь лет предстояло мне, переломив свою жизнь, начать ее заново, и ничего не предчувствовал.
30 сентября
До сих пор приезжал я в Ленинград – нет, в Петроград – ненадолго и ехал быстро: усну в Клину, а проснусь в Любани. А в октябре 21 года я успел разглядеть города, и леса, и поля, мимо которых прежде пролетал во сне. Мы ехали на север, переселялись в чужой край. Исчезли выбеленные глиняные хаты, города белые и кирпичные, все в садах. Тут дома пошли бревенчатые, темно-серые, почти черные. Деревянные улицы. И продавали на станциях картофельные лепешки, пироги из ржаной муки с морковью. Все казалось чужим, хоть и не враждебным, как в Москве, но безразличным. Этому бревенчатому северу не до нас, самому живется туго. И, шагая по Суворовскому, испытывал я не тоску, как несколько дней назад в Москве, а смутное разочарование. Мечты сбылись, Ростов – позади, мы в Петрограде, но, конечно, тут житься будет не так легко и просто, как чудилось. Петрограду, потемневшему и притихшему, самому туго. Навстречу нам то и дело попадались красноармейцы, связисты – тянули провода: ночью сгорела телефонная станция. Вот и Таврический сад. Вот знаменитый дом – «башня», как называли его символисты, – где жил Вячеслав Иванов. И в самом деле с угла похож его фасад на башню. Башня опустела так основательно, что не тревожит воображения…
Я узнаю, что играть мы будем на Владимирской, 12, а жить на углу Владимирской и Невского в номерах палкинской гостиницы, позади бывшего ресторана Палкина. Комнаты отличные, огромные, светлые, но холодные. К вечеру должны мы переехать.
2 октября
По темной лестнице попадаем мы в просторную кухню с соответствующей плитой. Из нее в коридор. В одной комнате, большой и высокой, с прекрасной, почти помголовской мебелью, помещаются Тоня и Фрима, рядом – в такой же – мы… Труппа съезжалась понемногу. Большая часть задержалась в Москве.
3 октября
Словом, два-три дня прожили мы во втором этаже палкинского дома вдесятером, вшестером. И – о, чудо! – вели совместное хозяйство, и я был уверен, что завтра тоже удастся пообедать. Фрима свою влюбленность в Тоню переносила и на близких его – она жалела меня, была со мной ласкова, я светился отраженным светом для нее. И мы вместе пошли на Кузнечный рынок – вот как я его увидел в первый раз. Он был богаче того, что огорчил меня в начале Суворовского, но все же темен, особенно сейчас, в осенние дни. На тротуаре перед рынком продавали репу – и ее увидел я в первый раз в жизни, и показалось мне, что она соответствует рынку. Но мы купили ячневой крупы и картошки и сварили обед, причем Фрима ела совсем немного, утверждала, что не может есть того, что готовит сама. Купили мы с помощью дворника сажень дров и свалили в чулане или бывшей ванной возле угловой. Подобных дров не встречал я потом ни разу. Они были березовые, каждое полено – в пуд, и огнеупорны полностью. На мой ростовский взгляд, топить дровами было расточительством. Они нужны, чтобы разжечь каменный уголь. Но тут нам пришлось встретиться с дровами, и вот какой печальной оказалась встреча.
Наш палкинский дом был переполнен крысами. Ночью дрались они за витринами Помгола на коврах, и бюро, и штучных столиках, бегали по нашим большим комнатам, стучали в коридоре. Мрачный Юля Решимов строил для крыс ловушки из наших пудовых дров. Закутавшись до ушей в кашне, сидел он в кресле, держа в руках веревочку, не сводя глаз с чулана. Раз! Готово, одной нет. Труппа съехалась.
4 октября
Днем шли мы на репетицию. Дом на Владимирской, 12, холодный и огромный, с нелепым фойе, как бы вылепленным из грязи, изображающим грот, и с целым рядом фойе, ничего не изображающих, с небольшим театральным залом и такой же сценой. Впрочем, и сцена и зал нам показались достаточно просторными. В этом же доме помещалась когда-то редакция или контора «Петербургской газеты». Над переходом посреди здания, тоннелем, ведущим с улицы во двор, сохранилась вывеска, а в одной из зал – переплетенные за много лет комплекты газеты. Тут мы и репетировали. Я в ожидании выхода просматривал «Петербургскую газету» за [18] 81 год. Поразила меня статья Лескова. В конце марта или раньше был открыт подкоп через Садовую, и Лесков жаловался отчаянно, что теперь никто, никто не может быть спокоен за свою жизнь. Репетировал Любимов. Он переставлял роль Холодовой. Нет, о свалке, которая все нарастала в театре, нет сил писать и сегодня, через тридцать два года.
5 октября
Говоря коротко – театр готовился к открытию сезона, а внутри было неблагополучно. Бытовая сторона наладилась проще и легче, чем в Ростове: мы вели общее хозяйство, во главе которого стоял Николаев. Наняли кухарку – шепелявую, словно ушибленную Машу…
Мариэтта Шагинян относилась к нашему театру доброжелательно еще с ростовских времен. В журнале «Жизнь искусства» (а может быть, «Искусство и жизнь») появилась ее статья о нашем театре под названием «Прекрасная отвага»[361] . Мы с Тоней однажды пошли к ней в Дом искусств, где она жила. Он помещался в елисеевском особняке на углу Мойки и Невского. Увидев деревья вдоль набережной, высокие, с пышной и свежей зеленью, несмотря на осень, я испытал внезапную радость, похожую на предчувствие. Длинными переходами попали мы в большую комнату со следами былой роскоши, с колоннами и времянкой. И тут я впервые увидел Ольгу Форш, которая была у Шагинян в гостях. Мариэтта Сергеевна принадлежала к тем глухим, которые говорят нарочито негромко. Выражение она имела разумное, тихое, тоже несколько нарочитое, но мне всегда приятное. Приняла она нас ласково.
6 октября
Зато Ольга Дмитриевна пленила меня и поразила с первой встречи. Она принадлежит к тем писателям, которые в очень малой степени выражают себя в книжках, но поражают силой и талантливостью при личном общении. Форш, смеясь от удовольствия, нападала на Льва Васильевича Пумпянского[362], которого я тогда вовсе не знал. Смеялась она тому, что сама чувствовала, как славно у нее это получается. Говорить приходилось громко, чтобы слышала Шагинян. Казалось, что говорит Форш с трибуны, и это усиливало еще значительность ее слов. И прелестно, особенно после идиотских театральных наших свар, было то, что нападала она на Пумпянского с высочайших символистско-философских точек зрения. Бой шел на небесных пространствах, но для обличений своих пользовалась Ольга Дмитриевна, когда ей нужно было, земными, вполне увесистыми образами. И мы смеялись и понимали многое, понятия не имея о предмете спора. Обвиняла Ольга Дмитриевна Пумпянского в том, что он, сам того не желая, служит дьяволу и тянет за собой молодежь. Откидывая голову, важно, как важная дама, и весело, как всякое существо, играющее от избытка силы, описывала она спину этого служителя сатаны, которая выдавала его полностью, и цитировала его, и изображала. Домой мы шли по Гороховой, проводив куда-то Шагинян и думая, по незнанию города, что улица эта так же близка к углу Невского и Владимирской, как и к углу Невского и Мойки. И уж мы шли, и шли, и шли. И я совсем затосковал. Конечно, эта литературная атмосфера казалась мне куда более человеческой, чем в «Стойле Пегаса». Но я не посмел и слова сказать у Шагинян.
7 октября
Я был влюблен во всех почти без разбора людей, ставших писателями. И это, вместо здорового профессионального отношения к ним и к литературной работе, погружало меня в робкое и почтительное оцепенение. И вместе с тем, в наивной, провинциальной требовательности своей, я их разглядывал и выносил им беспощадные приговоры. Я ждал большего. От них, от Москвы, в свое время. А писатели стали бывать у нас в гостях. Взял нас под покровительство Кузмин, жеманный, но вместе с тем готовый ужалить. Он все жался к времянке. Рассказывал, что в былые времена обожал тепло, так топил печь, что она даже лопнула у него однажды. С ним приходил Оцуп[363], поэт столь положительного вида, что Чуковский прозвал его по начальным буквам фамилии Отдел целесообразного употребления пайка. Появился однажды Георгий Иванов[364], чуть менее жеманный, но куда более способный к ядовитым укусам, чем Кузмин. В труппе к этим дням произошло некоторое расслоение: существовала комната миллиардеров – Тусузов, Николаев, Холодов. Они жарили картошку в масле под названием пом-де-терр – миллиардер, пекли пирожки. Однажды к доброй и прелестной Зине Болдыревой собрались писатели, и она была в отчаянии, что нечем их угостить. И она попросила миллиардеров, чтобы уступили они ей пирожков. Они решительно отказали. Тогда Зина, едва вышли они зачем-то, схватила тарелку с пирожками и унесла.
8 октября
Гости ели пирожки, ничего не зная, а миллиардеры, к ужасу бедной Зины, шипели у двери…
Чтобы поправить наши дела, мы халтурили. На Владимирской, 12, помещался до нашего приезда Дом Политпросвета, если я не путаю названия учреждения. Стоял во главе его седой и доброжелательный человек Гольдербайтер. Он пригласил нас читать на вечере Некрасова, и мы согласились, и я в первый раз выступил в Петрограде, читал стихи: «Было двенадцать разбойников, был Кудеяр-атаман»[365] . И – вот чудо! – имел успех. Флит – один из писателей, с которыми познакомились мы еще до открытия сезона, устроил нас играть в живой газете Роста. А Юлька Решимов нашел работу в новом театре миниатюр, который собирались открыть на Петроградской стороне, и меня устроил туда же. И вот вышли мы на репетицию. По Садовой трамваи ходили. Мы доехали до Большого проспекта, добрались до кинотеатра «Молния». Он казался необитаемым, деревянная белая молния на стене почернела, а от лампочек, что некогда судорожно вспыхивали на ней, сохранились одни патроны. Мы вошли в боковую дверцу, с переулка. Репетицию вел Раппопорт, один из авторов «Иванова Павла»[366], крошечное белолицее существо с черной бородкой.
9 октября
Ставили какую-то крошечную пьеску Андреева, в которой я играл. Остальные пьесы забыл. Репетировали в пальто, – так было холодно. Вышли на полумертвый Большой проспект. Темнело. Я вспомнил, как увидел проспект этот впервые, как бегала, вздрагивая, красная молния по стене кинотеатра, и тоска охватила меня. Унылый театр, унылая роль, пустая душа, даже музыка для меня как бы распалась на составные части, не затрагивала, как чужая. И даже мучения мои прошлых лет показались прекрасными рядом с сегодняшней пустотой. Мы втиснулись в переполненный трамвай и отправились домой, где было уныло, как в бреду.
И на другой день, сам понимая, что это безнадежно, отправился я в адресный стол и запросил адрес Соколова Юрия Васильевича. И я получил их целых шесть – и ни одного настоящего.
На репетиции в бывшую «Молнию» съездили мы всего раза три… Театрик погиб, не успев открыться, как это часто случалось в те дни. В живой газете Роста выступали мы часто, почти каждый день. Вдруг ударили морозы, да еще какие. За нами приезжал грузовик. Флит много лет вспоминал, как Холодова сидела, прижавшись, съежившись в уголке, в летних своих туфельках. Ездили мы всё по заводским клубам, там в актерских уборных отогревались у буржуек. В одном клубе буржуйку топили банковским архивом, толстыми бухгалтерскими книжищами. Провели мы концертов тридцать, но и тут нам не заплатили.
11 октября
В недрах руководства происходили обычные совещания: как провести открытие, кого звать на спектакль, кто будет писать рецензии, но меня на эти совещания не приглашали. В оркестровой яме появились музыканты – репетиции шли уже с музыкой. Эти наши новые работники были шумны, безразличны, насмешливы и, как все оркестранты, прекрасно организованы. Платить им приходилось каждый день – точнее, за каждую репетицию, иначе собирались они в коридоре и шумели. Среди них был человек, на которого все показывали: сын Римского-Корсакова. Высокий-высокий, с маленькой головой, с маленькими светлыми усиками, с растерянным взглядом, румяный. Играл он, кажется, на кларнете. Премьера приближалась. А Дом Политпросвета все еще жил своей жизнью, не сдавался. В какой-нибудь из многочисленных комнат непременно читалась лекция.
12 октября
Кони, тяжело опираясь на две свои палки с резиновыми наконечниками, медленно двигался по бесконечным пустым, полутемным залам, отыскивая отведенную для его лекции. Он казался очень старым в те дни, но выступал повсюду, на множестве вечеров и собраний, посвященных столетию со дня рождения Некрасова.
И рядом с этой цифрой странно было слышать, как встретил он, Кони, Некрасова возле сквера Александрийского театра, как бывал Кони у него дома на углу Литейного и Бассейной. Однажды, увидев Кони среди театральных зал, я поплелся за ним следом послушать его. На этот раз говорил он не о Некрасове, лекция была на какую-то юридическо-этическую тему. И со старомодным красноречием рассказал Кони о Монте-Карло. «Позвольте повести вас за собой по аллее роскошного сада» – и так далее. Теперь мне кажется, что рассказ, который я ни с того ни с сего отправился слушать, был рассказан недаром. В нем заключалось пророчество. Скоро эти бесконечные залы осветились роскошно, и в них открылись и рулетка, и столы для девятки – словом, заработал в полную силу настоящий игорный дом. А мы неуклонно приближались к премьере, и вот она состоялась. И нас приняли отлично. И рецензии в журналах и в какой-то из газет оказались доброжелательными, а Халайджиеву изругали – и потому, что она «встала на дыбы и пошла не в ту сторону», и потому, что рецензенты, хорошо относясь к театру, угадывали, что, обругав Халайджиеву, никого они там не огорчат[367] .
14 октября
Так мы жили, а зима становилась все холоднее, а нэп – все последовательнее. Мы уж не получали дотации и не могли никак отопить все наше многозальное помещение. Политпросвет уже выбрался, мы занимали его одни. Вода в пожарной бочке на сцене превратилась в глыбу льда. Холодов в роли Иуды – принца искариотского отморозил себе палец на сцене – роль его была слишком уж велика, он не успевал бегать наверх, в актерские уборные, отогреваться у времянки. Впрочем, слово «времянка» появилось как будто только во вторую мировую войну. Тогда же, в двадцатых годах, все называли эти печурки буржуйками. Отопление в нашем театральном зале было старинное, так называемое амосовское. По новым экономическим законам, мы должны были перейти на самоокупаемость, а даже полных сборов не хватило бы на отопление. А мы собирали публику только первое время. Кассовая, так называемая, публика, уходила теперь после первого акта и говорила билетерам: «Летом досмотрим»… Но, так или иначе, к весне 22 года наш театр развалился, погиб, и никто из нас не огорчился этому.
24 октября
Я решил начать учиться заново и пошел да и поступил в Институт восточных языков – дело по тогдашним временам простое. Со мною сердито, даже несколько брезгливо поговорил сидевший за письменным столом человек с седыми висками. Он спросил, на какие части разделяется Коран, и тут я впервые услышал, что на суры! Но в общем мои ответы удовлетворили его, и он велел мне идти в мандатную комиссию. Но я не пошел. Я почувствовал, что не овладеть мне и этой наукой. Но тут же устроился в студенческие артели грузить уголь. Грузили мы в порту, и я был поражен, почувствовав, как худо слушается тачка – как велосипед, когда едешь в первый раз. На деревянную высокую эстакаду уголь подавался краном, и мы в тачках по доске везли его к железнодорожным путям. И вот колесо тачки упорно съезжало с доски, и мы учились править тачкой. И научились. Четыре часа работали мы на эстакаде, четыре – в трюме, а потом шли домой, ночью, впрочем, совсем светлой, пешком. Уголь долго не отмывался. Глаза казались подведенными. Работали мы и в депо Варшавского вокзала, подавали колеса под ремонтируемые вагоны. Вернее, в мастерских дороги. И мы там обнаружили в траве поворотный круг и починили его – точнее, выпололи вокруг него траву и смазали его маслом, – и так перевыполнили норму, что бригадир пришел в некоторое смятение.
26 октября
Николай Алексеевич Заболоцкий лежал на широком своем двухспальном, покрытом ковром диване[368] . Глаза его, маленькие и светлые, глядели тускло, и один он все закрывал. Проверял зрение. У него подозревали туберкулез глаза. Процесс как будто бы удалось прекратить. Но Николай Алексеевич все прикрывал один глаз, проверял, не возобновился ли процесс. Он не то чтобы пополнел, а как-то перешел за собственные границы. Мягкий второй подбородок, вторые беловатые щеки за его привычными кирпичными – общее впечатление переполнения. На стене против дивана в овальной раме портрет нарумяненной дамы с напудренными волосами. Над книжным шкафом – морской пейзаж. Далее крестьянка в итальянском костюме, положив на траву младенца, молится у статуи мадонны. Над диваном большая гравюра с портрета Толстого – кажется, репинского. Под углом к нему рисунок: амазонка скачет на коне. Николай Алексеевич полюбил живопись, полюбил упрямо, методично, не позволяя шутить над этим. Особенно гордится он дамой в овальной раме. «Это Рокотов!» В Москве известно всего шесть его картин, и одна из них у Николая Алексеевича. Николай Алексеевич лежал на диване.
27 октября
И из глубин своего [прошлого], переполненного болезнями, тревогами, сонно поглядывал на меня своими голубыми глазками. И мы долго не виделись – из глубин прошедшего с тех пор времени поглядывал он на меня своими голубыми глазками. Словно стараясь узнать или понять, как я придусь к новым его болезням, тревогам и мыслям. Я попробовал подшутить над новыми его приобретениями. Он сначала посмеялся, а потом сказал сурово и осуждающе: «Я вижу, ты в живописи мастак!» И только сложными маневрами удалось мне помириться с ним и приблизиться к нему через ямы и канавы, вырытые временем, болезнями, тревогами и чудачествами. Я пришел в шесть, а хорошими знакомыми мы стали к девяти. Если бы не вечный мой страх одиночества, не Катерина Васильевна, не Наташа, которая росла, в сущности, и у нас, – я бы мог и уйти, не познакомившись снова с Николаем Алексеевичем. Угловатость гениальных людей стала меня отталкивать. Он может и чудачествовать, и проповедовать, и даже методично, упорно своевольничать: жизнь его и гениальность его снимают с него вину. Страдания его снимают с него вину.
1 ноября
Заболоцкого увидел я в первый раз в 27 году. Был он тогда румян (теперь щеки у него кирпичного цвета), важен, как теперь, и строг в полной мере. Свои детские стихи подписывал он псевдонимом «Яков Миллер». И когда начинал он говорить особенно методично и степенно, то друзья, посмеиваясь, называли его «Яша Миллер». Он говорил о Гете почтительно и, думаю, единственный из всех нас имел поступки. Поступал не так, как хотелось, а как он считал для поэта разумным. Введенского, который был полярен ему, он, полушутя сначала или как бы полушутя, бранил. Писал ему:
Скажи, зачем ты, дьявол, Живешь, как готтентот. Ужель не знаешь правил, Как жить наоборот.А кончилось дело тем, что он строго, разумно и твердо поступил: прекратил с ним знакомство. Писал он методично. Взявшись за переделку для детей Рабле, он прекрасным своим почерком заполнял страницу за страницей ежедневно[369] . Думаю, что так же писал он и свои стихи. И он имел отчетливо сформулированные убеждения о стихах, о женщинах, о том, как следует жить. Были его идеи при всей методичности деревянны. Вроде деревянного самохода на деревянных рельсах. Деревянный вечный двигатель. Но крепки. Скажет: «Женщины не могут любить цветы».
2 ноября
И упрется. И подведет под это утверждение сложную, дубовую конструкцию. Заболоцкий – сын агронома или землемера из Уржума, вырос в огромной и бедной семье, уж в такой русской среде, что не придумаешь гуще. Поэтому во всей его методичности и в любви к Гете чувствовался тоже очень русский спор с домашним беспорядком и распущенностью. И чудачество. И сектантский деспотизм. Но все, кто подсмеивался над ним и дразнил: «Яша Миллер», – делали это за глаза. Он сумел создать вокруг себя дубовый частокол. Его не боялись, но ссориться с ним боялись. Не хотели. Не за важность, не за деревянные философские системы, не за методичность и строгость любили мы его и уважали. А за силу. За силу, которая нашла себе выражение в его стихах. И самый беспощадный из всех, Николай Макарович, признавал: «Ничего не скажешь, когда пишет стихи – силен. Это как мускулы. У одного есть, а у другого нет». Несмотря на то, что имел Николай Алексеевич склонность поступать разумно и по-своему, был он отчасти и внушаем. Однажды все мы постриглись под машинку. Нахмурившись, отчитывал он нас за нелепость этого поступка. Стрижка портит волосы. Священники не стригутся, а лысеют редко, а женщины – никогда. Стрижка – школьный предрассудок. Но через несколько дней пришел он в Детгиз стриженный наголо. При подчеркнуто волевой линии поведения жил он в основном, как и все. Хотел или не хотел, а принимал окраску среды, сам того не зная. И все же был он методичен, разумен, строг и чист.
3 ноября
Был я вчера и сегодня по делу в Доме книги, и те лестницы и комнаты, что должны были бы напомнить годы, о которых я столько вспоминаю и пишу, напротив, разрушили представление о них. Слишком напомнили те годы. Напомнили время, когда были они сегодняшним днем, без всякой значительности. Будничным сегодняшним днем. Я хочу хотя бы оставшиеся мне годы быть самим собой, – но эта симуляция мне не удается.
Германа писать нетрудно, характер у него резкий, с красками, которые сами бросаются в глаза. Но они столько раз уже бросались мне в глаза и даже ушибали, что не хочется браться за эту работку. Друзьями не были мы никогда. Я в свое время, еще до войны, испугался некоторых не темных, а уж слишком ясных его черт, и мне с тех пор с ним неловко. Он обладает тем бесстыдным бешенством желания, которое украшает мужчину, когда дело касается женщины, и уродует, когда вопрос идет о собачьей чуши. Все позволено в любви и на войне. Возможно. Но есть еще и мир. Он талантлив. С ним не скучно. В Москве было даже весело. Но, увы, мне с ним неловко.
4 ноября
Пробовал, читая переписку Боткина и Тургенева, выписывать слова, несвойственные мне, но такие, что могли бы пригодиться[370] . И выяснил с удивлением, что пользуюсь литературным языком сороковых годов. Точнее, теми же словами и многими оборотами.
11 ноября
Театр новой драмы объединял молодых режиссеров: Грипича, Тверского, Константина Державина, Владимира Соловьева. Актеры подобрались все молодые, так же мало похожие на профессиональных, как мы в свое время. Были тут и люди, любящие театр, и просто так называемые интересные люди, не знающие, куда себя приспособить. Художниками были Володя Дмитриев, Моисей Левин и Якунина, тогда его жена. Близко к театру стояли Александра Яковлевна Бруштейн и Адриан Пиотровский – авторы. После долгих волнений Халайджиеву – она переменила фамилию на Холодову – приняли в Театр новой драмы, да и меня заодно не то зачислили в труппу, не то я сам зачислился, часто бывая в театре, – трудно установить. Я стал близко к театру в числе любопытных людей и несколько раз играл, хотя считалось, что собираюсь я стать писателем, играю уж так, заодно, пока. Да и выяснилось вскоре, что быть в штате или не в штате труппы, в сущности, все равно. Театр был на подъеме, не умер и не рассыпался, как многие, возникавшие в те дни. Получил театр постоянное помещение в центре города, в первом этаже бывшего Тенишевского училища на Моховой. В большом лекционном зале играл ТЮЗ, а в первом, вход прямо с Моховой, – мы. И, несмотря на все эти признаки своего существования, театр не имел одного: никому жалования не платили. Точнее, платили от случая к случаю всем поровну. И это в те дни было естественно и являлось признаком молодого театра. И мы терпели. Вряд ли в театре было хоть подобие штатного расписания.
12 ноября
Помесь любительского кружка и левого, ищущего новых путей театра – вот что такое был Театр новой драмы. Количество режиссеров в нем показывало на полную веротерпимость в этой области. Соловьев ставил «Восстание ангелов» в инсценировке Бруштейн, Тверской – пьесу Стриндберга, Грипич – «Смерть Тарелкина» и Державин – «Приключение Гофмана» по рассказу Дюма, где призрак обезглавленной балерины приходит к Гофману на свидание[371] . Черная бархотка на шее скрывает след гильотины… И все эти разные пьесы по-разному и решались. Стриндберг – со всем арсеналом молодых театров символического толка, а Дюма – Державин – приемами романтического театра. Интереснее всех был Грипич, по-настоящему талантливый человек. «Смерть Тарелкина», поставленная самостоятельно, до Мейерхольда[372], не в декорациях, а в конструкциях, произвела на меня сильное впечатление. Но вот Адриан Пиотровский написал пьесу «Падение Елены Лей». Человек это был любопытнейший, – так я и не понял, в чем суть его существа, пока вихрь не унес его неведомо куда[373] . Хорошего роста, с большой головой, странными белыми глазами, носил он в те дни прозвище «райский мальчик», мало что определяющее в нем и скоро исчезнувшее. Был он сыном знаменитого эллиниста профессора Зелинского, и отец, по слухам, считал Адриана Ивановича одним из лучших эллинистов в Европе. Владел Пиотровский и латынью и отлично переводил античных классиков. С таким даром и знаниями, казалось бы, у него один путь – кафедра и академия.
13 ноября
Но нет, он увлекся театром, пришел к нему туманными какими-то путями. Отец, любивший его и отличавший от других подобных сыновей своих, был, как рассказывали, глубоко огорчен этой изменой науке и написал единственную, вероятно, в своей жизни дилетантскую статью, весьма неясно утверждающую, что современный театр погиб и несет гибель всем причастным ему. Но Адриан Иванович все писал о театре и для театра и служил где-то по театральной части. Большая голова его со светлыми редеющими волосами то узнавалась в ложе Большого драматического театра, то в балете, то у нас, в Новой драме, и всем он был столь же мало понятен, как мне, и все за ним не то подозревали что-то по линии политической и над чем-то подсмеивались по линии личной его жизни. Но считались с ним. Я любил разговаривать с этим несомненно непростым человеком, и в его белых глазах чудилось мне что-то похожее на слепые глаза статуй. И вот он принес пьесу «Падение Елены Лей», где ощущение историчности переживаемых нами событий переплеталось с античным эпосом. Елена Лей была, хоть дело и происходило в наши дни, вместе с тем и троянской Еленой. Ее уход предопределял гибель некоей капиталистической столицы. Женщина – носительница жизненной силы – уходила к рабочему, влюбившись в него. И Театр новой драмы поставил эту пьесу, и принята она была как событие[374] . Ее понимали и те, которые в искусстве жили вчерашним днем, и те, которые отказались от него.
14 ноября
И в самом деле. Главный отрицательный герой понимал историчность, величественность всех происходящих событий, писал на мраморном столике в кафе некие таинственные слова. «Это по-гречески?» – спрашивал его собеседник. «Нет, по-арамейски», – отвечал миллиардер, родной дядя Елены Лей. Рабочие поднимались из своих трущоб чуть ли не к колосникам по перекладинам веревочной клетки – так оформил эту сцену Левин. Великие события: восстание, свержение правительства капиталистов, победа молодого класса – все, о чем ежедневно читали мы в газетах, тут приобрело эпический, поэтический характер, переплелось с Гомером и чуть ли не с Библией. И это как бы уясняло многим сегодняшний день, и зал ежедневно был полон. Тут помогло успеху и оформление Левина, и постановка Грипича, и, наконец, актеры. Появился в труппе Володя Чернявский, худой, стройный, с лицом поэта, вскормленного – точнее, истомленного – временем между двумя революциями, между пятым и семнадцатым. Среди разношерстной любительской труппы оказался настоящий артист, вполне угадывающий все сложности пьесы, живущий ими. И значительный, таинственный, обреченный на гибель миллиардер у Володи ожил и приобрел нужное количество плоти и крови. Хорошо играла Холодова – Елена Лей. Прекрасно, как тогда говорили, эксцентрично, играл Алеша Волков сыщика. (С гибелью условного театра не находит себе применения его совсем особое дарование.) Словом, с пьесой нашлись и актеры, и все ободрились.
15 ноября
Александру Яковлевну Бруштейн нужно видеть, для того чтобы понять. Только тогда постигаешь силу ее любви к театру, к литературе, наслаждаешься темпераментом и веселостью этой любви. Честность, порядочность ее натуры угадываешь сразу. Она в театре была не столько автором, сколько другом, само присутствие которого как бы утверждало, объясняло существование нашего случайного коллектива. Она и тогда плохо слышала, а вместе с тем более чуткого собеседника трудно было найти. Всегда подтянутая, собранная, вглядываясь в собеседника своими карими быстрыми глазами через очки, появлялась она в театре – и сразу ее окружали. И насмешливый и веселый картавый говор ее сразу оживлял и освежал. И она болела всеми горестями театра. Чтобы помочь нашей нищете, придумала она «гримированный вечер». Гости платили за вход, и их за особую плату еще и гримировали. И нэпманы вели себя, как замаскированные, необыкновенно оживлялись. Таких вечеров было два. Я конферировал. На первом имел успех, а на втором провалился так позорно, что вызвали с какого-то концерта Бонди и уж он довел программу до конца. Я по глупости и беспечности своей и не подозревал, что конферансье как-то готовят свои выступления, а выходил и нес, что бог на душу положит. Но в театре не рассердились на меня. Без всяких на то оснований они любили меня, верили. Когда два года спустя были напечатаны первые мои детские книжки, Александра Яковлевна сказала радостно: «Ну и хорошо. А то рассказываешь: Женя Шварц, Женя Шварц, а на вопрос, что он сделал, ответить-то и нечего».
17 ноября
Старые театры считались разрушенными, новые побеждали, но как уверенно занимал свое место считавшийся мертвым Александрийский театр и как призрачны были победители! Привычные формы существования уважались бессознательно даже людьми, считавшими себя врагами этих форм. Новое искусство кричало о своей победе, но и в самом шуме было нечто, внушающее подозрение. На одном из спектаклей «Елены Лей» появился Мейерхольд. Вот он во втором ряду, хищная птица, скорее всего орел, резко, по-царски отличный от всех и обликом и судьбой. И спектакль понравился ему. Глава школы утвердил работу. Но в те же дни открылся в том же помещении ТЮЗ. И Брянцев оказался куда более воплощенным в жизнь, чем все режиссеры Театра новой драмы. Грипич, рослый, румяный, черноволосый, отлично ставил и худо говорил. Когда он выступал, все вытирая левый глаз с набегающей слезой (он у него болел что-то), то трудно было поверить, что этот же человек отлично ставит. И Брянцев сумел доказать вкрадчиво и вместе с тем уверенно, что он – существует, а Театр новой драмы – явление призрачное. Привело это к тому, что Брянцев отобрал помещение Новой драмы для декоративных мастерских ТЮЗа. И театр в том виде, как я рассказываю, исчез. Переименовался, переехал в помещение Пролеткульта, получил там театральную залу, ставил пьесы Толлера[375], – но утратил свежесть и удачливость. Смерть и новое воплощение не пошли ему впрок. И он скоро захирел окончательно. «Елена Лей» многим принесла счастье.
18 ноября
Левин стал одним из самых известных театральных художников. Володю Чернявского упорно звал к себе Мейерхольд, и тому пришлось напрячь всю свою робкую, хрупкую, обреченную поэтическую душу, чтобы отбиться от славы, которая шла к нему. Его бледное, измятое личико и стройная тощая фигура остались принадлежностью ленинградских театральных кругов, но как-то вне театров. Он считался хорошим чтецом, выступал по радио, но, как и театры его молодости, так и не воплотился полностью в жизнь, пока смерть не пришла за ним. «Елену Лей» напечатали в «Красной нови»[376] . Казалось, что Адриан Пиотровский нашел свой путь, выбрался на свет. Написал он еще одну пьесу: «Смерть командарма», которая без особенного успеха прошла в Большом драматическом[377] . И либо этот полууспех, либо его сумеречная душа привели к тому, что в ленинградском искусстве снова занял он заметное, но трудноопределимое место – не то театроведа, не то руководителя чего-то там. Воплотился он в несколько неожиданном месте – на кинофабрике. Он стал тут заведующим сценарным отделом, фактически художественным руководителем. И, глядя на его не то слепые, не то античные глаза, я удивлялся, что ему этот кабинет с большим директорским столом. Что ему Гекуба – я понимал, а что ему полудиректорская должность – никак не мог осмыслить. А он себя чувствовал тут как дома. Однажды позвонил телефон в противоположном углу его кабинета, и он, выйдя из-за стола, пошел по ковру через комнату. И все увидели, что он в носках. Он преспокойно разулся под столом, пока шло совещание. В 35 году встретился я с ним в Тбилиси[378] .
19 ноября
Он путешествовал с женой. И попал в автомобильную катастрофу. Я зашел к нему в больницу, и в разговоре он упомянул о том, что врач сказал ему: «Впервые встречаю человека со столь развитым комплексом неполноценности». Но я до сих пор не вполне ясно понимаю, почему этот человек променял научную или литературную деятельность на административную? Неужели тут виною «комплекс неполноценности»? Умер Моисей Левин, высокий, седой с молодости, умер Володя Чернявский, исчез Тверской[379], исчез Пиотровский – нет никого почти, кто помнит Театр новой драмы. Нет, впрочем, – жив Грипич. Он все так же румян и черен, считается одним из лучших режиссеров, работает, кажется, в Саратове. Его очень старались перевести в Ленинград, главным режиссером в Комедию, но дело почему-то разладилось. Впрочем, суть не в том, кто жив, кто умер. Исчезла среда, питавшая наивные, туманные, призрачные новые театры начала двадцатых годов. И с этой средой бесследно, не успев породить традиций и наследников, растаяли в жестком суровом воздухе тридцатых годов эти невоплотившиеся до конца организмы. Не знаю, стоит ли их жалеть. В их конструкциях вместо декораций, в их экспрессионистических пьесах, в их системе игры уже начинали прорезываться штампы, которые утвердились бы, вероятно, если бы молодые театры окрепли. Но если их не жалко, то жалко самого духа, беспокойного и производительного, который их порождал. Сейчас царит степенный и солидный дух, занимающий штатную и нормально оплачиваемую должность. И когда говорят об оживлении театра, то без всякой веры в необходимость этого дела.
5 декабря
Григорий Михайлович Козинцев изящен, тонок, и говорит он тонким, почти женским голосом. Живет он в большой, высокой квартире с двумя уборными, ванной, железной дверью, которая закрывается не одним ключом. Кабинет его – с книжными полками до потолка, с коврами на полу, со старинным сундуком, с деревянными скульптурами (очень трогательная мадонна в человеческий рост глядит спокойно и благочестиво на книжные полки и письменный столик хозяина), несмотря на множество вещей, кажется просторным. Сейчас Григорий Михайлович ставит в Александрийском театре «Гамлета»[380], и целая полка занята английскими книгами о Шекспире. Он знает множество вещей и думает много, на множество ладов. Который поток мыслей, из множества существующих, определяет его, трудно сказать. По снобической, аристократической натуре своей, сложившейся в двадцатые годы, он насмешливо скрытен. Как Шостакович. И Акимов. Но уязвим и раним он сильно. На удар отвечает он ударом, но теряет больше крови, чем обидчик. Он – помесь мимозы и крапивы.
6 декабря
Деревянная черная чья-то фигура до пояса, с изящными пальцами, вмонтирована в стену над дверью. Их несколько – хозяин любит деревянные скульптуры. Против мадонны на книжной полочке, в застекленной рамке, – автограф Маркса. Много немецких и английских книг по Шекспиру. Козинцев отлично знает его… Работает он, как все кинорежиссеры, много. Студия, условия производства приучили их к этому. Он денди. А всякий денди прежде всего держится естественно. А естественность, даже напускная, требует все же правдивости.
7 декабря
И строгая опрятность денди приучает их к опрятности, брезгливости душевной. Я говорю о снобах и денди по страсти, по призванию. Грязные дороги для них немыслимы. И в Козинцеве радует брезгливая, брюзгливая, капризная, но несомненная чистота. Его дорога – вся на свету. А в кино это не так уж часто случается. Высокий, тонкий, с тонким, длинным лицом, темноглазый, бледный, в минуты сильного волнения он теряет сознание. Это, правда, случается с ним редко. Но на приеме в Кремле у главы государства, где они с Траубергом докладывали о новом их сценарии «Карл Маркс»[381], держался Козинцев спокойно, а потом упал в обморок. Некоторая хрупкость угадывается и в его уязвимости. Обида проникает в самые недра его существа. Но тут он не теряет сознания. Я с удовольствием гляжу, любуюсь быстротой, с которой отвечает он на удар… В полемике он быстр и остроумен. Есть ли у него вера? Что он любит и ненавидит вне своего открытого круга понятий и чувств? Есть ли у него нечто, кроме любви к деревянной скульптуре и к комментариям к Шекспиру? Каковы его масштабы? Я не знаю… И еще более скрыты от людей его страсти и привязанности в жизни… В работе он невыносим. Он неровен, придирчив, требователен, капризен. К концу работы вся его группа издергана и все готовы нервничать, придираться, капризничать. Он мнителен. И не без причин.
8 декабря
Он из хорошей медицинской семьи. Женщины их рода отличаются стойкостью. Анна Григорьевна, мать Григория Михайловича, – белоснежная, легкая, худенькая, изящная, до самой последней болезни своей, пока не слегла, была подтянута, приодета. Она была из тех старых людей, присутствие которых не тяготит, а радует. А было ей за восемьдесят…
Вырос Григорий Михайлович, окруженный любовью семьи, но в годы трудные, в те дни, когда Киев все переходил из рук в руки. Ему пришлось рано заботиться о заработке. Фрэз говорил мне, что тонкий, но вместе с тем не женский голос Григория Михайловича – следствие того, что он в ранние годы свои играл в театре Петрушки. Все кричал за него тоненьким голосом, кричал, да так и остался. В Ленинграде появился он в начале двадцатых годов. Вместе с Траубергом выпустил он афишу. ФЭКС – Фабрика эксцентрического театра[382] . На ней было все: и типографские паровозики, которые в объявлениях верстались перед расписанием поездов, и вызов старым штампам, и все признаки нарождающегося нового шаблона. «Фабрика» – дань индустриальной эпохе. «Эксцентрического» – значит, отнюдь не реалистического театра, а какого-то там другого. Я прочел афишу эту вяло, в полной уверенности, что это непрочно, со смутным чувством, что где-то, когда-то читал нечто подобное. Но Фэксы – так стали звать Козинцева, Трауберга и их группу – оказались жизнеспособными. Вскоре завоевали они себе место – и заметное место! – на кинофабрике и в киноинституте или на киноотделении ИСИ[383] – не помню, как называлось тогда место, где учили киноактеров, да так и не выучили ни одного. И не потому, что худо учили, а по переменчивости времени. Когда первый курс кончил институт, то выяснилось, что эксцентрические актеры никому не нужны, а требуются реалистические. И в кино стали звать актеров из Александринки, Художественного и так далее. Не брали эти актеры уроков бокса, не умели фехтовать, в акробатике являлись полными невеждами – а их снимали, – так изменилось время. Но самая верхушка ФЭКСа, благодаря великому свойству левого искусства тех дней, а именно – чувству современности, не покинула завоеванных позиций. Напротив, расширила и укрепила их. Ярлычок «ФЭКС» понемножку отклеивался, и очередной порыв ветра сорвал его и унес так далеко, что и не вспоминается это словечко. Менялся и Козинцев – ибо таков основной признак интеллигенции двадцатых-тридцатых годов. Но у него были границы, за которые он живым не перешел бы. Вот отчего после бесконечных переделок «Белинского»[384] он едва не съел свои коллектив и сосудистые болезни напали на него. Он волей-неволей переходил за границы, которые возможны для его организма, и поплатился за это. Он все же – скаковая лошадь. Благородное создание. Но все же, когда думаю я о вере и возможностях его, – одна мысль пугает меня. А что, если он, как в детстве, подлаживал свой голос под Петрушку? И теперь, после многих напряжений, потерял свой голос?
9 декабря
Когда буду переписывать о Козинцеве, надо будет сказать, что, когда выпущена была афиша ФЭКС, ему исполнилось всего только 18 лет. Он очень рано почувствовал себя ответственным за свои поступки. Взрослым. Когда к нему приходит с обиженным и сосредоточенным видом молодой режиссер Граник, тридцати семи лет от роду, за творческой помощью – я поражаюсь. Восемнадцати лет Козинцев и то отверг бы таковую. Принял бы ее за наглое вмешательство в свою работу. Учиться – можно. Но именно для того, чтобы работать самостоятельно, без инструкторской руки на руле.
10 декабря
Наука – наукой, строгость – строгостью, но в областях чужих ученые бывают часто до того неточны и нестроги, хоть плачь. Область сознания, где человек хозяин, которой он владеет, очень мала. Но в ней он чувствует себя до того уверенно, что, сам не замечая того, перелезает в соседние. И вот ученый уже собирает картины или книги по искусству. Что Шишкин, что Дюлак, что Нестеров, что Маковский – он обо всех может свое слово сказать. И чудно и обидно, что слабости эти развиваются у него в расцвете сил, после несомненных и почтенных открытий и побед в своей области. И вот он уже собирает Айвазовского и Бердслея, ругает Гроссмана, и хвалит Вирту, и обзывает Хлебникова кокаинистом, и восхищается Щипачевым. Трудно представить себе человека, который в комнате умен, а в коридоре – напыщенный дурак. А сколько таких чудес в разных областях сознания. И когда это случается с людьми, которых уважаешь, то огорчаешься. Правда, есть люди вроде Владимира Ивановича Смирнова[385], которые сохраняют силу и разум, переходя от математики к музыке и литературе. Может быть, глупеют в соседних областях ученые первого, но не высшего сорта? Возможно. Впрочем, ухожу из чужой области.
22 декабря
Читаю письма Толстого времени «Войны и мира» и наслаждаюсь и ужасаюсь. Степень точности и требование правдивости до самого последнего предела – вот что доставляет наслаждение. Ему даже письма стыдно писать, потому что в письме не тем показывается человек, чем при встрече. Очень русское, очень знакомое (по Житкову – даже пережитое) свойство, о чем я забыл сказать, рассказывая о Борисе Степановиче. Эта жажда правдивости до предела так пронизывала всего Житкова, была так заметна, что в поисках трудноопределяемых черт его веры я забыл назвать эту легкоуловимую. Эта жажда радует, радует, а потом начинает пугать. Правдивость, утверждаемая столь свирепо, начинает пожирать самую правду. Отрицается сама возможность рассказывать правдиво. В деревья верят, а в лес – не хотят. И чувство наслаждения правдивостью исчезает.
Я вдруг ощущаю в этой требовательности не жажду сказать правду, а уже и подозрительность. Опять это увидел я, как явление в лаборатории, на характере Житкова.
25 декабря
Сегодня звонил Товстоногов относительно «Медведя», которого он прочел. Ему очень нравится первый акт, менее нравится второй и совсем не нравится третий, кроме некоторых сцен. Он просит выслушать его соображения, где я хочу, – у них в театре, у меня дома – и так далее. Я слушал слова заинтересованного человека, действительно заинтересованного, желающего пьесу поставить, как музыку. Заходил к Тоне. Он все пробует написать, найти теорию художественного чтения[386], и я с завистью слушаю его рассуждения.
1954
6 января
Ильф, большой, толстогубый, в очках, был одним из немногих, объясняющих, нет, дающих Союзу право на внимание, существование и прочее. Это был писатель, существо особой породы. В нем угадывался цельный характер, внушающий уважение. И Петров был хоть и попроще, но той же породы. Благороден и драгоценен был Пастернак. Сила кипела в Шкловском.
12 февраля
Человек Бианки простой, попросту уважающий свою профессию и склонный от сознания значительности дела своего – поучать. И вокруг него – писательская атмосфера. Несмотря на тяжелые болезни, живет Бианки достойно, окружен людьми, работает.
13 февраля
И вот вчера праздновался его юбилей. Слушал я речи с двойственным ощущением – удовольствия и отвращения. Удовольствия – оттого, что хвалят, а не ругают. И хвалят человека простого, который прожил жизнь по-мужски. Пил зверски, но и работал и в свою работу веровал. И если принимать во внимание все, то он, со своим высоким ростом и маленькой головой, с чуть-чуть птичьим выражением черных глаз, с черными густыми волосами назад, маленьким красивым ртом, – похож на свои книжки. Угадывалось в нем существо здоровое, без темных чувств. Ошибки его были ясными, с мужчинами такие случаются. Но по сравнению с тем, что бормоталось, читалось и выкрикивалось о нем на юбилее, казался он недоступно сложным, и то, что происходило с ним, не похоже на то, что изображалось в речах. Ну вот и я запутался. Говоря короче, юбилей радовал, а ораторы и хвалители раздражали.
Уж слишком часто они же, теми же самыми голосами, с той же ораторской техникой, – бранили. Уж слишком часто в тех же руках, где сегодня кадило, видели мы разбойничьи, да где там разбойничьи – чиновничьи ножики. Поэтому удовольствие от юбилея было чисто рассудочным, а отвращение' – чистосердечным. Они говорили о Бианки в тех же выражениях, что о Форш, – а, честное слово, между двумя этими юбилярами огромная разница.
18 марта
Режиссер Цетнерович Павел Владиславович человек очень высокого роста. Репетирует он неутомимо, не замечая времени, как оратор, нарушающий регламент[387] . Он тощий, узкоплечий, седой, ставит на режиссерский столик три стакана с очень крепким чаем, а под стул – бутылочку из-под боржома. «Тут мое лекарство», – сообщил он, когда я, по неведению, едва не опрокинул этот сосуд. Кажется, там черный кофе. И все время он мечется. То он на сцене, то в партере, и кричит, кричит. Кричит он указания актерам. Например: «Володя, тут вы затормозите, чтобы накопить, а я потом дожму, в поэтическом плане». «Лучше. Насыщенно. Но это еще не потолок». «У этих фраз правильные рельсы, но ты не снижай, и тогда эмоция сама выплеснет». «Маша, тут у тебя есть привкус истошности». «Тут эмоция отошла, осталась материнская настойчивость» – и так далее. И актеры понимают его. Это сложное существо, актерский коллектив, в основном слушается своего долговязого и седого повелителя, но полное подчинение, священный трепет – отсутствуют. На замечания актеры, правда, невнятно и глухо огрызаются. Они в коридоре обсуждают трактовку образов и глухо и невнятно спорят с ней. Полного подчинения свирепый режиссер добиться может. Но священный трепет – другое дело. Тут нужна режиссеру слава, многие победы или очень молодой коллектив. Между тем Цетнерович очень уж моложав. Кажется иной раз, что ему лет пятнадцать, несмотря на его седые волосы, и авторитет свой он укрепляет, доказывает, что уже взрослый, – так же шумно и обидчиво, как в том возрасте. Сейчас еду на генеральную. Вечером постараюсь дописать, что из всего этого получится. Получилось вот что: премьеру отложили еще на четыре дня, то есть до 24-го[388] . От сегодняшнего дня, следовательно, почти на неделю. Не знаю, что из этой новой премьеры выйдет. Сегодня шло плохо.
19 марта
Вчерашняя генеральная репетиция вызвала тот самый нездоровый, сонный отзыв всего моего существа, который я терпеть не могу. Я дважды на самом деле засыпал да и только. Было человек полтораста зрителей – детей. Все девочки, ученицы третьего класса. «Реакции», как говорили на заседании художественного совета, были правильные, но то, что творилось на сцене, ни на что не было похоже. Я удивлялся, как девочки поняли хотя бы то, что деревья плакали. Слез не было. Не вышли. На нижних ветвях повисли не то значки, не то сережки, да и их тоже не осветили. Ужасна была избушка. Я, вместо того чтобы прийти в ярость, впал в безразличное состояние. Засыпал не только на репетиции, но и на художественном совете.
8 апреля
Возвращаюсь в шестнадцатый год. Весна, и я готовлюсь к экзаменам. Действительно готовлюсь вместе с Лешкой Кешеловым. Он учится в Коммерческом институте, и кое-какие предметы у нас совпадают. Мы готовим статистику по учебнику Каблукова, брата знаменитого своею рассеянностью химика. Сдаю я экзамен у самого профессора и получаю «весьма». Получаю я «весьма» и по судебной медицине и с блеском сдаю теорию права, сам себе удивляясь. Доцент-философ Успенский хвалит меня, а в особенности Тоню, за блестящий его ответ о Гегеле. Последний вопрос был: справедливость по Платону. И больше не сдавал я никогда экзаменов на столь ненавистном мне юридическом факультете. Кончался, осыпался первый период моей жизни, а я, все засыпая, не понимал этого да и только. Писать я стал совсем худо – утратил свою майкопскую дикость, а культура того времени не прививалась.
10 апреля
Вчера состоялась премьера «Двух кленов». Успех был, но не тот, который я люблю. Мне все время стыдно то за один, то за другой кусок спектакля. Возможно, что не я в этом виноват, но самому себе этого не докажешь. Видимо, с ТЮЗом московским, несмотря на дружеские излияния с обеих сторон, мне больше не работать. Тем не менее и успех и атмосфера успеха имелись налицо.
12 апреля
Владислав Михайлович Глинка – один из самых привлекательных и немузыкальных людей, каких я встречал в жизни. Слишком большой запас слов, как у не по возрасту развитых и начитанных детей, за что их в классе и уважают, но больше – дразнят. Работа во дворцах, с военными материалами к этому запасу слов, к этой богатой манере выражаться прибавила и несколько преувеличенную, как бы придворную манеру держаться. Такова вредность его профессии.
13 апреля
Он много знает. Его специальность – восемнадцатый век, начало девятнадцатого. Русский отдел Эрмитажа, в сущности, его детище. Знает Глинка – впрочем, отлично – и военные поселения. Когда мы познакомились, занимался он как раз Аракчеевым. Любит он музейную свою работу, но кому может пройти безнаказанно ежедневное пребывание в высокоторжественных залах Эрмитажа. Чувство юмора и музыкальность в бытовой области, где есть у нее свои законы, у Владислава Михайловича отсутствуют начисто. И это усиливает эрмитажное влияние. Рассказывает он охотно. И хорошо. И всегда интересно. Но и тут сказывается отравление музейным ядом и литературность все того же излишне развитого пятиклассника. Познакомился я с ним в тридцать восьмом году. Жили мы в Мельничных Ручьях, на литфондовской даче… Места для прогулок тут были небогатые. Мы с Катюшей брели не спеша к развалинам имения Всеволожского через овраг, заросший орешником. Стандартные литфондовские дачи тянулись вдоль недавно разбитой, поросшей травой улицы, окаймленной неглубокими канавками. И, возвращаясь с прогулки, увидели тонкую, высокую фигуру Владислава Михайловича.
14 апреля
Одетый, как всегда, очень корректно, по-городскому, держа голову чуть набок, правдиво и просто глядя через очки, заговорил он, как всегда, литературно и непросто о рукописи своей, которую должен был я прочесть. По нездоровой, преступной бездеятельности моей я не дочитал его романа, отрывков романа о военных поселениях. Но тем не менее поговорили о романе по существу. Заезжал он к нам еще раза два, и постепенно деловое знакомство перешло в личное. Все общие знакомые говорили о нем хорошо. Иные – с оттенком насмешки, которая приходилась на долю его манеры держаться и выправки, но и эти, вспомнив, видимо, простые, чуть по-обезьяньи глубоко посаженные глаза, спешили похвалить его. А я чем больше встречался с ним, тем яснее понимал, какую роль в его жизни играет форма. Он подчинялся ей с полным к ней уважением, она его вела. Я это особенно отчетливо [понял], когда перешел с ним на ты. Новая форма обращения неожиданно изменила наши отношения. Он стал проще, доверчивее, перестал обижаться на шутки. Люди при таких отношениях часто переходят на ты, а он, перейдя на ты, установил такие отношения. А обидчив был он сильно. Он не кричал, не ссорился, не требовал к ответу, но его манера обращения менялась, и он на некоторое время исчезал. (Я не люблю слово «манера», но, рассказывая о Глинке, трудно найти другое.) Человек, приверженный форме, неизбежно несколько угловат: жизнь многообразней любых форм, и Глинкина обидчивость вызывалась именно этими его столкновениями с жизнью. Придется, видимо, мне записывать за Глинкой. Его язык никак не могу вспомнить. И с удивлением вижу, что он из тех друзей, которые на слуху. Он мне ясен не фактами, а способом выражать себя.
15 апреля
Голос его звучит всегда неразговорно. С такими интонациями читают вслух пьесы или диалоги из романов. Голос человека, читающего вслух, всегда меняется. И голос Владислава Михайловича, говор его, – напряжен.
У него большая семья. Брат, погибший во время войны, в самом ее начале, оставил ему двух сирот. Мальчика, который теперь, правда, кончает Нахимовское, и девочку, ныне студентку. Мать Глинки живет у него. Жена Глинки работает где-то, помогает тащить семью. Дочка Глинки учится в медицинском институте. Вся эта нескладно мной перечисленная семья при восьмистах рублях эрмитажного жалованья захирела бы, и Глинка изо всех [сил] работает, чтобы свести концы с концами. Он консультирует в театрах и киностудиях, когда там готовятся исторические спектакли, пишет статьи, рецензии. Кроме того, пишет книги, что является второй его профессией, так как он не только историк, но и писатель, член ССП. Автор книг и детских, и взрослых. И в книгах его все то же великолепное знание материала и несвободный, напряженный голос. От всех своих дел он так устает, что его чуть обезьяньи глазки глядят часто не только просто, но и скорбно. Иной раз приходит он к нам совсем стариком. Не седые волосы и не впалые щеки, а общее выражение придает ему этот вид. У него больные ноги – отсутствие в них пульса. И болезнь усиливается иной раз. Но, отдохнув, он снова приобретает свой мужественный, подтянутый характер и появляется в дверях весело, условно весело выкрикивая шутливые приветствия. Отдыхает он иной раз в селе Михайловском. И без малейшей иронии, чуть печально, сообщает: «Да, еду ко святым местам». Когда гостила у нас Варя[389], мы пошли в Эрмитаж, и проводником нашим по его залам был Глинка. По ряду причин в те дни сонные мои чувства проснулись. Эрмитаж не мучил меня, а радовал.
16 апреля
И главное мучение Эрмитажа было снято. Не рассеивалось внимание. Картины не кричали, перебивая друг друга: «Смотри на меня». Не попрекали за неграмотность и холодность. Владислав Михайлович вел к самой значительной из них и говорил так, что убеждал нас в ее значительности. На бледных его скулах вспыхнул румянец. Он чувствовал, что мы увлечены, и это увлекало его самого. Становилось все темнее, а свет еще не зажигали – вечное несчастье, осеннее несчастье музея. Но я впервые в жизни не чувствовал себя чужим в этом царстве. По дворцу, в котором картины не то жили, не то служили украшению стен, водил нас придворный. Верный своему повелителю. Было в его литературных интонациях нечто расхолаживающее, но тогда, в сумерках, понятое мной. Художник пристрастен, партиен. Он влюблен в того или другого мастера. Влюблен так лично, так близко, что часто не может рассказать об этом, как о любви к жене или детям. И любовь к одному мастеру делает его несправедливым к остальным. Объяснения Глинки были ровны. Он не был одинаково почтителен ко всем. Далеко нет! Но известная степень почтительности распространялась даже на художников, по его мнению, незначительных. Художник – это пророк, а музейный работник – священник. В его славословиях есть расхолаживающая повторяемость, ежедневность – несчастье каждого священника. Но если пламя веры чего-нибудь стоит, то Глинка был сегодня хоть и не пророком и не святым, но истинным праведником. Ему пятьдесят один год. Половину, большую половину своей жизни, благоговейно прослужил он своим богам. И я, отбросив дилетантское, дешевое презрение к священникам, молился с ним.
20 апреля
Был сегодня в городе на премьере «Гамлета» в постановке Козинцева. Временами понимал все, временами понимал, что не хватает сегодня сил для того, чтобы все понять. Поставлена пьеса ясно и резко, с музыкой, ударами грома, с подчеркнутой пышностью декораций на огромной сцене. Я давно не был в театре. Понимать Шекспира – это значит чувствовать себя в высоком обществе, среди богов. И я временами наслаждался тем, что до самой глубины без малейшей принужденности чувствую то, что происходит на сцене.
23 апреля
У нас гастролирует театр Французской комедии[390] . За билетами дежурят ночами, в Москве разговоров о театре я слышал множество. Азарт охватил всех. У меня боролись два чувства: интерес к театру и отвращение к давке. На Союз прислали тридцать пять билетов. Их разыграли в лотерею, и я проиграл и обиделся, но промолчал. Однако вчера вечером мне позвонили, что для меня есть билет на сегодняшний утренний спектакль[391] . Узкие, неудобные коридоры, пышный зал, новые кресла с высокими желтыми спинками. В зале все знакомы, как на премьере «Гамлета». Спектакль непривычный. По-настоящему нравится мне, то есть поражает, как чудо, артист, играющий учителя танцев, Жак Шарон. Он до такой степени совпадал с музыкой, так танцевал, а вместе с тем показывал, как надо танцевать, а на лице хранил томное, печальное выражение – мелодия шла в миноре, – что я ожил, как в присутствии высшей силы. Остальное было хорошо, но понятно. Сенье играл умно[392] . Дамы показались очень уж много пережившими. У Бретти[393] лицо беззастенчиво. И такой же рот. И так далее и прочее. Тут думаешь, и рассуждаешь, и понимаешь. А я люблю удивляться. Но с самых давних лет французские писатели то этак, то так рассказывали мне об этом театре. И русские то хвалили его, то бранили. Когда я шел, имелось у меня «предзнание», которое укрепилось и приобрело прелесть трехмерного существования. К концу я устал от балета обыкновенного, не удивительного. И все же я видел театр единой формы. И очень сдержанную манеру игры.
24 апреля
Когда я посмотрел несколько лет назад фильм «Дети райка»[394], то был введен в околотеатральную и театральную среду французского театра сороковых годов. Фильм «На рассвете»[395] и еще две-три французские картины удивили, как будто заговорил, да еще по-русски, некий условный персонаж. При доставшемся мне складе сознания я понимал явление только с помощью искусства. К живописи я был глуховат. Дебюсси раздражал в высшей степени капризной и необязательной программностью. А литературу французскую я признавал умозрительно, но не любил и не понимал. В детстве любил «Отверженных», даже обожал. И все. И вдруг явление под названием «французы» оказалось в кино понятным да еще и близким. Это я расценил как событие, не столь близко задевающее, как те, что бьют тебя в антракте, но достаточно многозначительное. Вчерашний спектакль ничего не прибавил к моему новому знанию, но и ничего не отнял. Разве прибавилось вот что: минор в менуэте Люлли выражает изящное, балетное, а может быть, и просто танцевально-бальное томление. Возвращаюсь к кино. На «Гамлете», к концу, я устал. Устал и на вчерашнем легчайшем, газированном представлении. А в октябре, на Пленуме, после целого дня заседаний, после очень плохого фильма показали великолепный итальянский – «Два сольди надежды»[396] . И этот конец утомительнейшего дня с мучительнейшими антрактами воскресил, и утешил, и перевесил все пережитое до сих пор. Фильм шел еще на итальянском языке, не был дублирован. Но было уже ясно: явление «итальянцы» близко, постигнуто до дна. Итальянцы – это не Габриель Д'Аннунцио. Они говорят по-русски.
25 апреля
Стал смотреть старую свою пьесу о молодых супругах, и захотелось мне как будто переделать ее. Не попробовать ли взять героев отчетливее и сложнее. И подумать о сюжете, что я до сих пор не делал, пуская героев идти. Распуская их. Все же пьеса – очевидно, постройка. Материал, конечно, требует, чтобы с ним [считались}, но все же пьеса – это постройка, а не жила, за которой надо следовать, подчиняясь ей.
27 апреля
Когда в ТЮЗе дети начинают увлекаться происходящим на сцене, то роняют металлические номерки от вешалок. Динь! Динь! Когда же на сцене делается поспокойнее, они ныряют под стулья и долго шарят в темноте. Ищут. Сегодня вдруг вспомнил. Зрительный зал во время спектакля, когда идет моя пьеса, особенно интересен мне, не менее сцены, что вполне понятно, впрочем. Но бывает интересен и без причин личного характера. Если бы не было мне противопоказано отвлеченно мыслить, я обдумал бы это существо, наполняющее зрительный зал. Оно то неожиданно понимает все, то глохнет, когда не ждешь. Оно смелее, чем на собраниях и митингах, полагая, очевидно, что тут можно. Оно скучает в чисто служебных местах. Ну, и так далее, довольно мыслить о коллективном мышлении. Но, не испытав, никто не поймет, как радует, как любишь зрительный зал во время успеха твоей пьесы. Как трогает он тебя пониманием. Одиночество – горе, а зрительный зал подтверждает, что ты не один. Зато как пугает существо, наполняющее зал, когда восхищается тем, что отвратительно. Не поймешь, – все сумасшедшие, а ты здоров, или все здоровы, а ты сумасшедший. И то и другое страшно. Но человек, переживший успех пьесы, никогда этого не забудет и не спутает с успехом неполновесным, вроде того, что перенес я только что в МТЮЗе.
28 апреля
Чувство успеха у меня связано с чувством полного успокоения, до глубины. Исчезают тревоги ожидания. Словно тучи расходятся. Глаза смотрят с жадностью на открывшийся, освещенный солнцем, праздничный мир. Я живу и чувствую, что живу. Но продолжается это всегда очень недолго.
30 апреля
Любовь моя к Наташе росла вместе с ней. Мне интересен Андрюша, очень нравится Машенька[397], но разве я любуюсь и удивляюсь на них, как на маленькую Наташу! Любовь к дочери пронизывала всю мою жизнь, вплеталась в сны. Когда я приехал в Песочную во второй раз, я, чтобы не испугать дочь и не пережить самому того, что в прошлый приезд, заговорил с бабушкой, не глядя на Наташу. И вдруг услышал звон бубенчиков. Я оглянулся. Это Наташа старалась обратить на себя внимание. Она трясла лакированные, новые вожжи с бубенцами, висевшие на углу кровати. Я их еще не видел. Когда я обернулся, Наташа показала мне на свою новую игрушку и улыбнулась застенчиво. Когда немного погодя пошел я к дверям, чтобы прихлопнуть их поплотнее, Наташа горестно вскрикнула и чуть не заплакала. Она думала, что я ухожу. Так я снова занял место в ее жизни. Уже прочно. Мы уходили с ней гулять на речку, разглядывали с узенького пешеходного мостика бегущую воду. Говорил все я, а Наташа только требовала объяснений, указывая пальцем. Сама высказывалась редко. Только однажды, когда мы вышли на улицу после дождя, она показала на лужу, покачала головой и сказала укоризненно: «Ай, ай, ай!» Часто ходили мы к дощатому забору, за которым жил теленок, рассматривавший нас так же внимательно, как мы его. Наташа долго считала его собакой, пока не столковались мы на том, что это – му. Му-ля-ля. Я избегал особого детского языка, не любил его, но Наташа уже пользовалась им, и мне приходилось с этим считаться. В те дни необыкновенно боялась Наташа чужих. Однажды провожали они меня на станцию – Дуня и Наташа у нее на руках. Я болтал с ней, потом отвернулся на мгновенье. Взглянув на дочку снова, я не узнал ее: она сгорбилась, замерла неподвижно, уставилась в одну точку – что такое? К Дуне подошла девушка, и Наташа приняла все меры, чтобы чужая не заметила ее. Попрощавшись с Наташей, оставался я ждать в крошечной высокой сосновой рощице. И перебирал слово за словом.
4 мая
За прошлый год пережили мы много. Наташа болела скарлатиной, а я не отходил от нее. И после болезни радовалась она всякий раз, когда я появлялся. Во время болезни она вдруг заговорила. И стала называть меня – «папа», а потом – «батька». Старуха няня, стоя с Наташей у окна, сказала: «Вон твой батька идет», и Наташе это новое прозвище почему-то очень пришлось по душе. Итак, мы очень сблизились с дочкой за зиму, но, поднимаясь на крутой песчаный холмик, я думал на прошлогодний лад, что Наташа меня не узнает. Дача глядела из палисадника своего приветливо в три окошечка.
5 мая
Пришел я как раз к тому времени, когда укладывали Наташу спать. Она стояла в одной рубашонке на кроватке, слушала, как рассказываю я свои приключения. А когда я взглянул в ее сторону, то протянула мне обе руки и попросила: «Покачай меня». И мать сказала наполовину сурово, наполовину уступчиво: «Ладно уж, пусть батька тебя уложит». За окном стоял ясный летний день. Я взял Наташу на руки так, что голова ее легла ко мне на плечо, и зашагал по комнате не спеша, и запел ее любимую колыбельную песню подчеркнуто спокойным голосом на мотив песни «Шел козел дорогою, дорогою, дорогою». В то лето песня была еще проста, слова подбирались, какие в голову придут. Но с годами и она выросла, и усложнилась, и приобрела твердый сюжет, изменять, точнее, сокращать который не полагалось. В тридцать первом году в этот ясный летний день, любуясь и удивляясь легенькой, темноволосой двухлетней дочке моей, пел я, вразрез со всем окружающим меня летом: «Уходи скорей, мороз, уходи в свои леса». Наташа очень любила, чтобы я укачивал ее, и поэтому всячески боролась со сном. Но он брал свое, дочка затихала, тяжелела. И в этот день, когда я наконец положил ее в кроватку, черные ресницы ее и не дрогнули. Она не забывала, кто уложил ее спать. Через положенный срок услышал я, сидя на террасе, сонный ее голос: «Батька…» – и я взял ее на руки.
…Вместе с любовью к дочке росло у меня вечное беспокойство за нее. Но вот еще издали слышу я ее и наконец вижу в садике белое ее платьице. Я окликаю Наташу. И она замирает.
6 мая
Она замирает, выпрямившись, как будто мой зов испугал ее, а затем бросается мне навстречу, повисает у меня на шее. Иногда не приходится окликать ее, она замечает меня, когда поднимаюсь я к даче. Тогда, как пушок, на легких своих ножках несется она мне навстречу. На полпути останавливается, словно не веря своим глазам, и, убедившись, что это я, еще прибавляет ходу. Владелица дачи, которую все звали «тетя Катя», одинокая, быстрая, деловая, взбалмошная, заметила, как встречает меня Наташа, как любит меня, и любовалась этим. Но высказывала чувства свои на особый лад. Внимательно глядя на Наташу, кричала она ей мужским своим баском: «Я твоего папу посажу в колодец!» – «А!» – вскрикивала Наташа отчаянно. «Что ты, что ты, она шутит!» – успокаивал я. Наташа взглядывала на сияющую от удовольствия тетю Катю. «Катя, ты шутишь?» – «Нет!» – «Говорит, не шутит!» – восклицала Наташа горестно и обнимала мои колени, чтобы спасти меня. И тетя Катя хохотала баском, довольная. Однажды привез я Наташе туфельки, которые очень ей понравились. Сидя в новых туфельках на качелях, Наташа разглядывала их, и тут тетя Катя побежала через двор. «Смотри, какие мне папа туфельки привез!» – сказала Наташа ей. «Ах, какой хороший твой папа! – ответила тетя Катя ласково. – Как он тебя любит!» И Наташу потряс непривычно мирный ответ ее мучительницы. И она сказала мне с удивлением: «Что говорит!» Но мы редко оставались с Наташей дома, когда я приезжал. Обыкновенно шли мы песчаными улочками, нет, одной улочкой, даже переулочком с разбросанными домиками – то они на холмике, то поперек дороги. Через полминуты-минуту озеро разворачивалось перед нами, с далеким синим леском на той стороне, с песчаной косой вправо, с берегами то чистыми, то в камышах. По дороге проходили мы мелкий заливчик, то соединенный с озером, то отрезанный песчаным перешейком. И в нем всегда плавало семейство уток, и мы восхищались утятами. В самом начале дачной жизни Наташа говорила меньше, чем могла. И все удивляла меня.
7 мая
После коротких вопросов или ответов она, по неожиданному поводу, произносила несколько связных фраз, которые казались мне целой речью, умиляли и веселили. Вот, в один из первых приездов идем мы вдоль озера. На полянке возле дачи играет в одиночестве маленькая девочка. Наташа останавливает меня – я веду ее за руку – и с вежливым полупоклоном спрашивает: «Сколько лет?» – «Три», – отвечает девочка. «Как зовут?» – «Наташа!» – «Тоже!» – сообщает мне дочь удивленно. Некоторое время обе Наташи смотрят друг на друга молча. «Вытри ей нос!» – говорит мне сурово чужая Наташа. Я повинуюсь. Молчание продолжается. «Пойдем, дочка!» – говорю я и беру ее на руки. И тут и происходит то, что я так люблю. Наташа, вежливо и старательно кланяясь, обращается к девочке с целой речью: «Пожалуйста! – говорит она. – Пожалуйста! Играйте тут на травке! Ждите нам. Пожалуйста!» В эту же прогулку, глядя на озеро, она спросила: «Зачем вода бежит к нам?» – «А ты скажи, чтобы она ушла!» – «Уйди, вода!» – приказала Наташа. И тут как раз подул ветерок, озеро подернулось рябью, словно пошло от берега. И Наташа встревожилась, огорчилась. Она подбежала к самому озеру и, присев на корточки, заговорила нежно: «Водица, что вы, дурочка, куда вы, я не ругаю, стойте!» В это лето наслаждался я прелестным зрелищем – постепенным расцветом человеческого сознания. Очень рано, познавая мир, стала искать Наташа общие законы. Вот срывает она цветок на лугу. «Это как называется?» – «Кашка», – отвечаю я. Наташа задумывается. Потом, сорвав какой-то желтый цветок, спрашивает: «А это макароны?» Я хохочу, и Наташа радостно хохочет за мной, угадывая, что я доволен ее вопросом. «Девочки мама как называется?» – спрашивает она. «Мама». – «А мальчика мама?» Однажды в жаркий день решили мы искупаться в озере. Пока снимал я рубашку, исчезла Наташа на миг из-под наблюдения, и этого оказалось довольно. Когда я нашел ее глазами, сидела она в озере, в воде по самую грудку, как в ванне. И притом одетая. В платьице, в сандалиях. Поняв, что поступок ее ужаснул меня, Наташа вышла из воды и стала убедительно, вразумительно утешать меня: «Не бойся, не бойся, там собак нету!» И, утешив, вернулась в воду. Была она в то лето куда храбрее, чем впоследствии. Боялась она только собак да еще темноты.
11 мая
Наташе исполнилось три года, но и мой взгляд на этот возраст изменился. Мне она никак не казалась очень повзрослевшей. Разве только поумневшей. За зиму я привык к тому, что Наташа говорит длинными и связными фразами. Вот она играет, укладывает спать куклу и вдруг вскакивает и бежит к игрушечному своему телефону. И происходит следующий разговор: «Алло. Здравствуй, Милочка! Да что ты говоришь! Какой ужас! До свидания, Милочка!» И, подбежав ко мне, Наташа рассказывает: «У Милочки и папа уехал, и мама уехала. Няня сама зарабатывает, сама на рынок ходит». Воображение у нее все время играло. Но вместе с воображением развилась и боязливость. Однажды вечером знакомая строгая старуха, которой Наташа сказала: «У вас муха на лбу», – рассказала к случаю басню «Пустынник и медведь». Рассказ она вела привычно строгим голосом, сурово глядя на Наташу. И к концу повествования заметил я, что дело плохо. Наташа, замерев и широко открыв огромные свои глазищи, не мигая, глядела на старуху. Усваивала только сюжет: друг нечаянно убивает своего друга, разбив ему голову камнем. Я попробовал вмешаться и, мигнув старухе, смягчил историю, сказав, что медведь поцарапал пустынника. «Нет, убил!» – поправила меня старуха негодующе, потрясенная моей безграмотностью. К моей радости, Наташа выслушала старуху спокойно, и я пошел укладывать дочку спать. Она разделась, улеглась – и тут гроза разразилась. Неудержимо, отчаянно рыдая, воскликнула она: «Какая глупая сказка, ой, ой, боюсь!» Я умолял Наташу успокоиться, доказывал, что старуха все перепутала, что медведь вызвал доктора и пустынника спасли.
12 мая
«Вот это умная сказка!» – соглашалась со мной Наташа, но тут же, плача еще отчаянней, кричала: «А та какая глупая! Ой, ой, у меня медведь прячется под кроватью». К счастью, тут вернулась домой мама и так строго и отрезвляюще прикрикнула на дочку, что Наташа сразу отрезвела. С мамой за эту зиму образовались у Наташи любопытные отношения. Иной раз Наташа уговаривала ее, как старшая. Однажды попыталась она даже объяснить маме, что я не такой уж плохой человек. Сидя рядом с мамой, лежащей на тахте, довольная тем, что и я тут и что Ганя[398] относительно мирно настроена, она показала ей на меня: «Смотри-ка, смотри!» – «Ну?» – «Это батька». – «Ну и что?» – «Он хороший!» – «Не хороший, а обыкновенный». Наташа пожала плечами и, повторяя интонацию, чуть армянскую, своей бабушки, сказала рассудительно и укоризненно: «Что говорит!» Вот мы собрались с Наташей гулять. Натянули рейтузы, надели, застегнули шубку, завязали шарф, и вдруг дочь вспомнила: «По маленьким делам». Ганя вспыхнула: «Это издевательство! Одевали, одевали – и опять раздевать! Потерпишь!» Наташа бросается к маме и начинает убеждать ее, как маленькую: «Что ты, мамочка, как можно, ведь это вредно, мамочка!» Но когда Наташа пробовала капризничать, достаточно было маме прикрикнуть, и Наташа трезвела. Впрочем, капризничала она редко. Как это случается в шумных семьях, она рано привыкла держать себя спокойно и сдержанно. Чаще овладевал ею страх вроде того, о котором я рассказал. Но к этому времени появился у нее еще один страх, который был у нее и в прошлом году, но в умеренной степени. Ей сделали уколы противодифтерийной сыворотки. Нет, прививку сделали. На беду заключалась она в трех уколах. И как трудно было затащить Наташу к врачу! После второго укола, когда убеждали мы Наташу, что доктор только посмотрит, а укол был все же сделан в третий раз, как обиженно рыдала она, повторяя: «Зачем вы меня обманули?» Но это все я рассказываю о зиме. Летом я приезжал к Наташе в Разлив обычно на несколько часов. Я укладывал ее спать, причем колыбельная песня сильно развилась. Начиналась она так: «Жила-была Травушка, Травушка-муравушка, захотела башмачки, прибежала в магазин…»
13 мая
Дальше пелась, в тридцать втором году, еще относительно короткая песенка, все время дополняемая Наташей. Заключалась она в том, что девочка по имени Травушка-муравушка приходила в магазин, а продавец отвечал ей, что для травушек нет у него башмачков. Девочка возражала, что это у нее имя такое, а на самом деле она обыкновенная девочка. И продавец просил прощения, и все дело кончалось на этом. История эта была, в сущности, только вступлением к старой песенке: «Уходи скорей, мороз…» – и так далее.
22 мая
Наташе в апреле исполнилось четыре года. Дружба наша выросла. Колыбельная песня стала сложней. Теперь продавец отвечал Травушке-муравушке, что у него есть туфельки для девочек, сапожки для мальчиков, а башмачков нет. Он давал Травушке совет пойти в лес, где жук, сидящий в пеньке, выпилит ей красивые деревянные башмачки. Когда песня доходила до этого места, Наташа обычно начинала дремать. И уже сквозь сон слушала, как Травушка-муравушка так все и делала, как ей советовал продавец, а потом шла домой, где папа укладывал ее спать.
24 мая
В октябре 33 [года] состоялась в ТЮЗе премьера «Клада»[399] . Генеральная не удалась. Никто не ждал успеха. Но, придя на просмотр с публикой, мы увидели нечто поразившее, даже испугавшее нас. Вестибюль оказался переполнен. Весь Ленинград собрался на просмотр. Я вошел как раз в тот момент, когда Н. Тихонов спорил запальчиво с неопытным тюзовским администратором, доказывая, что он имеет все права быть на просмотре. Успех был неожиданный и полный. В «Литературном Ленинграде» появился подвал: «ТЮЗ нашел клад»[400] . Стрелка вдруг словно бы дрогнула, пошла на «ясно»…
Наташе я стал теперь много читать. И прежде всего и больше всего «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», а потом и «Сказку о царе Салтане». Первая сказка трогала ее больше. «Но мне милей королевич Елисей» – эти слова трогали ее до слез.
25 мая
Сложность душевной жизни детей непостижима даже для ближайших наблюдателей. Уж очень близки ощущения сложнейшие и простейшие. Как рассказала мне Наташа много лет спустя, мысли о том, «как люди засыхают», начались у нее не только от разъяснений няньки. Шла она однажды по Литейному и подумала о встречном: «Вот дядька идет». И вдруг ее осенило – а дядька ведь, взглянув на нее, подумал: «Вон девочка идет». Значит, она, Наташа, такая же, как все. Значит, и она может засохнуть! И эта мысль вдруг овладевала ею, особенно когда начинала играть печальная музыка или вечерами. Наташа, которая, казалось, двух мыслей связать не может, когда их ей навязываешь, где-то в глубине развивающегося сознания своего переживала достаточно сложные, вызванные умозаключениями открытия. Именно переживала. Я, полный дурачок в целом ряде понятий, открыл же в шесть-семь лет весь ужас понятия «никогда»… Наташа жила все на той же даче. Мысли о «скучном» привели к тому, что она не выносила грустных или скучных, по ее определению, слов. Однажды спел я ей, глядя на яхту, бегущую по озеру: «Белеет парус одинокий». Все ей понравилось, кроме слова «одинокий». Его она запрещала петь как слишком грустное. Требовала, чтобы заменял я его словами «мачи мочи», нейтральными.
26 мая
Так много лет мы и пели: «Белеет парус мачи мочи». Теперь поет Наташа эту песню Андрюшке, но полностью. Его печальные слова и грустные слова, то есть концы, хотел я сказать, не задевают… Разница между Наташей одного года и двух была огромна, но пяти или шести – незначительна. За два последних лета в Разливе окончательную форму приняла песенка о Травушке-муравушке. По Наташиной просьбе добавил я следующие события в историю с башмачками. Жучок ей выпилил обувь уж больно тяжелую. Позвали мышку обточить и облегчить башмачки. Когда уже заканчивала она это дело, появился охотник. Он подумал, что мышка кусает девочку, и хотел ее застрелить. Но Травушка объяснила охотнику, как обстоит дело, и он попросил у мышки прощения и угостил ее салом. И только после всех этих приключений прибегала Травушка домой, и папа укладывал ее спать и пел ей песенку: «Уходи скорей, мороз, уходи в свои леса». За это время без малейшего участия с моей стороны – за 34 и 35 год разработала Наташа со многими подробностями окончание «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях». И в самом деле, пока несчастья – рассказ идет не спеша, а как все наладилось – так: «Я там был, мед, пиво пил» и все. И конец. А больше всего огорчали Наташу семь богатырей.
27 мая
Царевна спаслась, а семь богатырей и не знают об этом! И Наташа рассказывала: «Царевна говорит: „Еликсей (так называла Наташа Елисея), Еликсей, поедем к семи богатырям“. А он говорит: „Хорошо, поедем“. Приезжают они, а богатыри ужинают. Царевна говорит: „Поди спроси: где моя невеста?“ А сама стала под окошко. Еликсей входит и спрашивает: „Где моя невеста?“ Володя – Наташа дала имена всем богатырям: младшего звала Володя, а старшего – Петя – Володя шепчет: „Не говорите, не говорите!“, а Петя отвечает: „Нет, надо сказать“. И все они заплакали. А царевна входит в комнату и говорит: „Вот она я!“ В те же годы появился у Наташи сборник андерсеновских сказок. Читал я их, стараясь пропускать места религиозного характера, чтобы не вступать в объяснения. Но однажды просто с разгона прочел и запнулся. И Наташа сказала мне утешающе: „Папа, папа, я знаю. Андерсен еще при боге жил“.
29 мая
Наташе исполнилось уже семь. Впервые в кротчайшем ее характере появилось нечто новое. Она обиделась, когда хозяйские девочки собрали больше черники, чем она, и опрокинула мрачно свое ведерко и пошла домой. Однажды, приехав, застал я Наташу в полном горе: она побила хозяйских девочек, и они отказались с ней играть. И я, после соответствующих объяснений, пошел к хозяйке и склонил девочек к миру. Вскоре узнал я, что плясала она перед ними и пела: «А мой папа-то писатель, а ваш папа не писатель». И тут поговорил я с ней так строго и серьезно, что больше никогда в жизни она это не вспоминала. Не хвастала. И вообще вдруг смягчилась опять ее душа.
9 июня
Что бы я ни переживал в те годы, Наташа занимала свое место, и удивляла, и утешала, и беспокоила, и все это до самой глубины. Исполнилось Наташе в этом году восемь лет – по тогдашним правилам осенью можно было вести ее в первый класс… В свои восемь лет была Наташа девочкой стройной, ладной, все по-прежнему огромноглазой, по-прежнему все думающей, воображающей, соображающей. Особенно важные разговоры завязывались у нас вечерами, когда укладывалась Наташа спать и просила: «Ну еще немного, ну полминуточки, ну пять минуточек посиди со мной». И я соглашался и все удивлялся: когда же это Наташа успела вырасти?
10 июня
Она размышляла вечерами, а я любовался удивительным зрелищем растущего человеческого сознания. Вот она сообщает, удивляясь: «Папа, все, что я делаю, – это только один раз». – «Как так?» – «А больше этого никогда не будет. Вот провела я рукой. А если опять проведу – это будет второй раз. И мы с тобой никогда больше не будем сидеть. Потому что это будет завтра, а сегодня больше никогда не будет?» И она глядит на меня, широко раскрыв огромные свои глазищи, испуганная и очарованная, как страшной сказкой, своим открытием.
11 июня
Очень нравились мне отношения, установившиеся у Наташи с дедушкой. Дом у нас был неласковый до суровости. А Наташа обнимала деда за шею, похлопывала ласково, даже покровительственно по щеке – никто из нас не решился бы в детстве на сотую долю подобной вольности. И папа очень был доволен. Он все мечтал о дочке и вот дождался внучки. И она так радовалась каждому его приходу, так доверчиво посвящала его во все свои дела и заботы, так ласкалась к нему, что папа привязался к ней глубоко и при первой тревоге появлялся лечить и утешать.
12 июня
Кончалось это последнее дошкольное лето Наташиной жизни. Много волнений пережито было с выбором школы, с записью Наташи в первый класс… И вот 1 сентября я пошел провожать Наташу в 14 школу Дзержинского района, на Моховой улице. Наташа была бледна, рассеянна, готова одинаково и к испугу и к восторгу. Мы прошли до угла, до знакомого кондитерского магазина и свернули на Пестеля. В знакомом гастрономе погляделись в витринные стекла, чтобы Наташа полюбовалась своим новым, праздничным школьным платьем. Но погляделась Наташа в это прозрачное зеркало рассеянно, поглощенная будущим, к которому мы и двинулись. У ларька на углу свернули мы на Моховую. Вошли в сводчатый, с лепными розетками по сводам, тоннель ворот. Шум оглушил нас – старшеклассники гоняли мяч во втором дворе. Там же, во втором дворе, у трехстворчатых стеклянных дверей в школу толпились родители с новичками. Дежурная учительница сказала приветливо, но решительно: «Попрощайся с папой, девочка, он зайдет за тобой после занятий». Этого мы не ждали. Наташа надеялась, что я провожу ее до дверей класса. Она заплакала, обняла меня судорожно, но сразу же овладела собой, сделала храброе, даже отчаянное лицо и, словно в бой, решительно вступила в школьные двери. И я почувствовал до самой глубины всю значительность этого события. Зашел я за Наташей рано, боясь, что испугается она, не найдя меня в вестибюле.
13 июня
Я пришел первым. Немного погодя появилась няня с кошелкой. В ней желтел батон, белели мешочки. Няня по дороге зашла в магазины. До конца занятий оставалось еще минут двадцать. Пахло известкой и краской после недавнего летнего ремонта, знакомый запах первого дня занятий. Стояла особая, тоже никак не забытая, неполная тишина школьных коридоров, то и дело нарушаемая. То пробежит кто-то, скользя по полу коридоров, как по льду. Они только что натерты. И вдали стукнет дверь. Это кто-нибудь отпросился из класса, не столько по необходимости, сколько устав сидеть неподвижно. Вот целый взрыв криков, как бы затушеванный и быстро обрывающийся. Старшеклассники развеселились не в меру, и учитель усмирил их быстро. Вот, словно сонное бормотанье, – кто-то читает вслух. Все издавна, с детских лет, понятно до самой глубины, понятны и вешалки в низком сводчатом коридоре направо, с целыми рядами еще летних пальто самых разных размеров, с гардеробщицей, задремавшей у перил, понятны круглые часы над лестницей, расписания за стеклом в деревянных рамках. Школа снова приблизилась, вошла в мою жизнь, снова огорчаться мне и радоваться школьным событиям и отметкам и волноваться в дни экзаменов.
14 июня
И мы услышали мерный и легкий топот и шелест и увидели идущих вниз первоклассников и первоклассниц. Для них-то наслаждением являлось послушание, новостью – подчинение школьным законам. Они сияли праздничным светом первого, ничем не омраченного дня занятий. Так шли они по школьной лестнице, парами, но вдруг увидели нас, вставших им навстречу родителей. И нарушился разом весь новый порядок – дети, все забыв, бросились к нам – правда, для того, чтобы скорей-скорей рассказать об удивительных событиях, пережитых с утра. И среди них – Наташа, совсем не похожая на ту, что заплакала, судорожно обняв меня у школьной двери. Она была такой же праздничной, сияла, как все первоклассники… И мы пошли домой, переполненные впечатлениями школы, так близко вошедшей в нашу жизнь. В знакомой кондитерской на углу Литейного купили мы торт, чтобы день стал совсем уж праздничным. Так и кончилась дошкольная полоса Наташиной жизни и началась десятилетняя школьная, о которой рассказывать не берусь.
15 июня
Кончил вчера тетрадь, в которой рассказал о Наташе дошкольных ее лет. Чтобы не путаться в обилии воспоминаний и чтобы радоваться и удивляться, рассказывал я в основном о летних, дачных днях моей жизни. Рассчитываю я, что мои тетрадки прочтутся? Нет. Моя нездоровая скромность, доходящая до мании ничтожества, и думать об этом не велит. И все же стараюсь я быть понятым, истовым, как верующий, когда молится. Он не смеет верить, что всякая его молитва дойдет, но на молитве он по меньшей мере благопристоен и старается быть правдивым… Сегодня в Союзе общее собрание писателей. Иду, словно к зубному врачу. Что-то будет?
16 июня
Все так и было, как я предполагал, даже хуже и безнадежней. Рассказывать об этом не хватит умения. История с Зощенко выплыла снова. Постаревший, исхудавший, с обострившимся носом, бледный до ужаса, словно потерявший и человеческие измерения – один профиль, – и цвет лица живого человека, он говорил, и мучению этому не было конца. Не предвиделось конца. И больше не буду рассказывать.
17 июня
Был вчера у Акимова, которого за последнее время рассматриваю все внимательнее и холоднее. Обиды, нанесенные ему, растаяли, исчезли, что помогает смотреть. Пуля, а не человек. В ней есть и сила, но и связанная с нею ограниченность. С ним так же трудно спорить, как с пулей. И трудно представить себе, что этого сплава свойств на небольшом патроне достаточно для дел, которые могут иметь большие последствия. Но это именно так. Для того чтобы быть деятельным, надо сплавиться, сбиться, сковаться именно в такое пулеподобное резко ограниченное создание. При всей запутанности моей, жизнь я люблю страстно, и жизнедеятельные люди вызывают у меня особое чувство, более всего похожее на ревность. Он обладает тем, чем я любовался, – и только. Правда, при моем честолюбии добытая слава казалась бы мне поддельной, успех плохой пьесы в моей постановке никак не радовал бы, но он отбивал, отгрызал у врагов, у судьбы и заслуженный успех, и все-таки, что ни говори, утолял он жажду многих. С угла спрашивают, с угла Невского и Литейного, за квартал до его теперешнего театра: «Нет ли у вас лишнего билетика?» И я ревную той особой ревностью, когда любуются победителем. Я не был бы, вероятно, ни при каких обстоятельствах, способен управлять, отбивать, отгрызать. Но все-таки… Вчера в первые минуты встречи держались мы рядом и разговаривали, но вот разница систем и двигателей привела к тому, что стали мы, скорее, перекликаться. Особенно он, Николай Павлович, призывал меня часто к вниманию: «Послушай меня ровно три минуты». «Сосредоточься на одну минуту». И сам переставал слушать, когда я говорил, что было естественно. Ибо от чувства некоторой неловкости, обычной при встречах с людьми до такой степени инопородными, испытывал я страх пауз и перескакивал с предмета на предмет. Весь этот процесс прерывался телефонными разговорами. Пристально, с высоким, напряженным вниманием, весь уйдя в это дело, Акимов занимался удалением из коллектива, театра плохого дирижера, что далеко не так просто. И мне казалось бы неважным. Но для него это было первостепенным.
24 июня
Сегодня четыре года, как ведутся мои счетоводные книги, а едва оторвусь я от описания характеров людей, так или иначе со мной связанных, так и теряюсь. Причем люди эти не должны быть близкими. Близких описывать не хватает трезвости. Но так или иначе, я втянулся в эту работу, и, стараясь сохранять бесхитростность, переходящую в серость, и запрещая себе зачеркивать, чтобы видна была фактура, черновик с его непроизвольной правдивостью, пишу я каждый день. И даже уезжая. А для меня это чудо; чем дольше оно продолжается, тем больше я удивляюсь и утешаюсь.
12 июля
Сегодня утром стал читать письма Чистякова, купленные на днях в городе[401] . Это имя связано с Юркой Соколовым, то есть с самым важным временем моей жизни. Когда Юрка учился в Училище поощрения художеств, когда почтительно глядели мы на Шильниковского – студента самой Академии, – услышал я о Чистякове впервые. Память о нем, обаяние его имени разрастались. Говорилось, что подобного учителя не было никогда, ссылались на имена и высказывания знаменитых его учеников. Поминали его так часто, что уже много позже, услышав полные почтения рассказы Форш, – я обрадовался так, словно веру моей молодости воскресили, подтвердили правоту тех дней. Начал я читать Чистякова с некоторым страхом: а ну как разочаруюсь? Но все оказалось выше, чем я ждал. Прежде всего, – обрадовал, как подарок, великолепный язык, которым все скажешь, чего душа ни пожелает. И затем – особая, несколько печальная содержательность художника, в своем прямом деле не выразившего себя во всей полноте. Отсюда, вероятно, и дар его педагогический. Он преподавал с той же силой, что и картины писал. А на живопись смотрел он вот как: «Искусством, живописью нужно петь, хвалить и славить бога, увлекаться, а не малевать что-то грязное, пошлое и кое-как, на скорую руку, вдобавок. На это есть карандаш, тушь, фотография…»
5 августа
Сложность этого лета увеличилась оттого, что приехал Шкловский, мой вечный мучитель. Он со своей уродливой, курносой, вечно готовой к улыбке до ушей маске страшен мне. Он подозревает, что я не писатель. А это для меня страшнее смерти. Когда я не вижу его, то и не вспоминаю, по возможности, а когда вижу, то теряюсь, недопустимо разговорчив, стараюсь отличиться, проявляю слабость, что мне теперь невыносимо. Беда моя в том, что я не преуменьшаю, а скорее преувеличиваю достоинства порицающих меня людей. А Шкловский, при всей суетности и суетливости своей, более всех, кого я знаю из критиков, чувствует литературу. Именно литературу. Когда он слышит музыку, то меняется в лице, уходит из комнаты. Он, вероятно, так же безразличен и к живописи. Из комнаты не выходит, потому что картины не бросаются в глаза, как музыка врывается в уши. Но литературу он действительно любит, больше любит, чем все, кого я знал его профессии. Старается понять, ищет законы – по любви. Любит страстно, органично. Помнит любой рассказ, когда бы его ни прочел. Не любит книги о книгах, как его собратья. Нет. Органично связан с литературой. Поэтому он сильнее писатель, чем ученый.
6 августа
Недавно перечитал я «Третью фабрику»[402] . Это, несомненно, книга, и очень русская. Здесь вовсе не в форме дело, что бы ни предполагал Шкловский. Бог располагает в этой книжке. И форма до того послушна тут автору, что ее не замечаешь. И, как в лучших русских книжках, не знаешь, как ее назвать. Что это – роман? Нет почему-то. Воспоминания? Как будто и не воспоминания. В жизни, со своей лысой, курносой башкой, Шкловский занимает место очень определенное и независимое. У Тыняновых он возмущал Леночку тем, что брал еду со стола и ел еще до того, как все усаживались за стол. И он же посреди общего разговора вдруг уходил в отведенную ему комнату. Посылают за ним, а он уснул. Но он же возьмет, бывало, щетку, и выметет кабинет Юрия Николаевича и коридор, и переставит мебель на свой лад. Сказать человеку в лицо резкость любил. Глядя на режиссера Герасимова, сказал: «Я не могу к вам хорошо относиться, вы напоминаете мне человека, которого я ненавидел». – «Знаю. Савинкова?» – спросил Герасимов. «Да. Это неспроста». Герасимов пропустил таинственный, но явно обидный смысл, скрытый в слове «неспроста», и полушутя стал рассказывать, как завидуют его наружности актеры. Он всегда играет злодеев, а это, как известно, самые лучшие роли. На диспутах Шкловский не терялся. В гневе он краснел, а Библия говорит, что это признак хорошего солдата. По-солдатски был он верен друзьям. Но тут начинается уважение к времени, со всеми его последствиями. Сам он отступал, бывало, и отмежевывался от своих работ. Друзей не тянул за собой. Но себя вдруг обижал. На похоронах друзей плакал. Любил, следовательно, своих всем существом. Органично. Слушает он недолго, но жадно. И поглощает то, что услышал, глубоко. Так глубоко, что забывает источник.
7 августа
Однажды у Тыняновых зашел разговор об одном писателе. И я объяснил присущую тому озабоченность и суетливость тем, что известность пришла к нему как бы приказом от такого-то числа, за таким-то номером. От этого данный писатель в вечных хлопотах. Если его назначили известным, то, стало быть, могут и снять.
И он с ужасом присматривается, приглядывается, прислушивается – не произошло ли каких изменений в его судьбе. Старается. Оправдывается. И нет у него и минуты спокойной. Шкловский выслушал это внимательно, против своего обыкновения. И в конце вечера, когда разговор вернулся все к тому же писателю, Шкловский сказал: «Вся беда в том, что его назначили известным…» – и так далее. Мысль задела его, и он ее поглотил, и стала она его собственной. Это не значит, что он похищал чужие мысли. Если говорить о качестве знания, то его знание делалось знанием, только если он его принимал в самую глубь существа. Поглощал. Если он придавал значение источнику, то помнил его. Поэтому в спорах он был так свиреп. Человек, нападающий на его мысли, нападал на него всего, оскорблял его лично. Он на каком-то совещании так ударил стулом, поспорив с Корнеем Ивановичем, что отлетели ножки. Коля говорил потом, что «Шкловский хотел ударить папу стулом», что не соответствовало действительности. Он бил кулаками по столу, стулом об пол, но драться не дрался. Вырос Шкловский на людях, в спорах, любил наблюдать непосредственное действие своих слов. Было время, когда вокруг него собрались ученики. Харджиев, Гриц и еще, и еще. И со всеми он поссорился. И диктовал свои книги, чтобы хоть на машинистке испытывать действие своих слов. Так, во всяком случае, говорили его друзья. «Витя не может без аудитории». Был он влюбчив. И недавно развелся с женой.
8 августа
Развод и новая женитьба дались ему непросто. Он потерял квартиру, и денежные его дела в это время шли неладно. Он поселился с новой женой своей в маленькой комнатке. Жил трудно. И шестидесятилетие его в этой комнатке и праздновалось. Собрались друзья. Тесно было, как в трамвае. Уйти в другую комнату и уснуть, как некогда, теперь возможности не было. И Виктор Борисович лег спать тут же, свернулся калачиком на маленьком диванчике и уснул всем сердцем своим, всеми помышлениями, глубоко, органично, скрылся от всех, ушел на свободу, со всей страстностью и искренностью, не изменяющими ему никогда. И тут вдруг появилась Эльза Триоле – пришла женщина, о которой тридцать с лишним лет назад была написана книга «Письма не о любви»[403] . А он так и не проснулся.
9 августа
Борис Михайлович Эйхенбаум так давно знаком всем нам, так нежен, так бел, что говорить о нем точно как бы кощунство. Не то я сказал: «нежен» – не то слово. «Субтилен» – вот это несколько ближе. Он со всеми нами ласков и внимателен, что любишь, но в глубине души недостаточно ценишь. Не на вес золота, как ласку и внимание людей более грубых. Кажется, что это ему легко и в глубине души он благожелательно равнодушен к тебе – и только. Когда была жива Рая, человек куда более воплотившийся, Боря относился к людям куда более контрастно и отчетливо. Эта субтильность его подсказывает еще темную, но неотвязную мыслишку: такому нетрудно быть порядочным, хорошим даже человеком, и вместе с тем нет человека, который, познакомившись с ним, не уважал бы его в конце концов. Как в Шкловском, угадываешь в нем непрерывную работу мысли. Менее страстную, более ровную и более научную. Вот в науке своей воплотился Борис Михайлович со всей полнотой.
10 августа
Недавно поразило меня, когда разглядывал я толпу, как разно заведены люди, шагающие мне навстречу по улице. Разно, очень разно заведены и Шкловский и Эйхенбаум, но двигатели в них работают непрерывно, и топливо для них, горючее, добывается, течет непрерывно от источников здоровых. Любопытство, жажда познания, а отсюда любовь к одному, отрицание другого. И Шкловский тут много ближе к многогрешным писателям, а Эйхенбаум – к мыслителям, иной раз излишне чистым. Сейчас они оба живут в Доме творчества, и как ни зайдешь – то у одного, то у другого какие-то открытия. Борис Михайлович беленький, легенький, с огромной, нет, точнее, с просторной головой. Волосы вокруг просторной, красной от летнего загара лысины кажутся серебряными. Он очень вежливо, что ему никак не трудно, очень внимательно встречает тебя и рассказывает, что такое Бах. Он в последнее время занимается Полонским, ему заказана статья к однотомнику[404], и все думает и думает о музыке. Он приобрел проигрыватель и целую библиотеку долгоиграющих пластинок. Составил к ним карточный каталог. Читает упорно книги по музыковедению. Никто не заказывал ему статью о Бахе, но он все думает о нем, думает. Шкловский, когда входишь в сад Дома творчества, на площадку между столовой и самим домом, где стоит в цветочной клумбе на высоком деревянном постаменте бюст Горького, Шкловский, повторяю, поворачивает к тебе всю свою большеротую, курносую, клоунскую маску. Смотрит Шкловский и как бы взвешивает на внутренних весах, выносит он тебя нынче или не выносит. И если стрелка весов за тебя – заговаривает.
11 августа
В последний раз он говорил о том, что в первых вариантах «Войны и мира» сюжет зависит от воли героев, от их сознательных решений. Князь Андрей отказывается от Наташи для того, чтобы Пьер мог на ней жениться. И постепенно убирает все сознательные поступки, и сюжет развивается вне воли героев. Впрочем, рассказав это, Шкловский добавил: «У меня нет уверенности, что это интересно. Я теперь совсем потерял ощущение того, что интересно и что нет».
9 сентября
А вчера звонил Козинцев. Ему предлагают писать «Дон Кихота». Он позвонил об этом мне, и мне вдруг захотелось написать сценарий на эту тему. Хожу теперь и мечтаю[405] .
10 сентября
Продолжаю думать о «Дон Кихоте». Необходимо отступить от романа так, как отступило время. Ставить не «Дон Кихота», а легенду о Дон Кихоте. Сделать так, чтобы, не отступая от романа, внешне не отступая, рассказать его заново.
13 сентября
Начал читать «Дон Кихота», и стало страшно. Трудно схватить его дух. Сервантес был сын врача – единственное утешение.
14 сентября
Продолжаю читать «Дон Кихота», и прелесть путешествия по дорогам, постоялые дворы, костры понемногу отогревают насторожившееся мое внимание. Притаившуюся мою впечатлительность. Особенно тронула сцена у пастухов, где Дон Кихота принимают и угощают. Вообще, видимо, начинать сценарий следует сразу на большой дороге, с разговора о том, чем питаются странствующие рыцари, о том, что они не спят, о литературе[406] . Потому что из всех нападок на рыцарские романы следует сохранить то, чем можно поспорить с абстрактными героями нынешних книг. Страстная любовь к жизни стареющего человека – вот что еще можно придумать себе, когда будешь работать. Не Дон Кихот страстно любит жизнь, а автор. Драки, рвота, поносы, кровь! Особенно драки! Дон Кихота избивают с удивительной периодичностью. И я, понимая, что это протест против непрерывных побед рыцарских романов, просто не знаю, как поступать с этим в сценарии. Но вот рыцарь и оруженосец тронулись в путь, и надежды мои оживают. Утешает меня и то, что по мере развития романа, к счастью, автор начинает любить Дон Кихота, и тот из настоящего сумасшедшего обращается в безрассудного безумца, из маньяка – в одержимого высокой идеей. И если удастся передать прелесть путешествия, с одной стороны, и показать, что видит Дон Кихот и что видит Санчо Панса, – то, может, и одолеем? Главное – не давать себе замирать почтительно, опустив руки по швам перед величием собственной задачи и романа, которого касаешься.
15 сентября
Сегодня утром пришло мне в голову вместо планов, которые никогда у меня не удаются, написать сразу сценарий «Дон Кихот». Мне куда легче думать, переписывая. Дон Кихот имел прозвище: Алонзо Добрый. Он и читать начал по доброте, чтобы успокоить боль сердца. И на дорогу вышел, убедившись, что жить и любить можно иначе, чем соседи, а непрерывно совершая подвиги. Неужли добро может породить зло? Теперь мелочи, которые приходят в голову. Вор, укравший Серого, рыдает от угрызений совести, но иначе поступить не может. А может быть, этот вор и есть противоположность Дон Кихоту. «Уж очень я озлобился!» Он же говорит: «Добро не может породить зла. Но в чем добро? Да в уничтожении зла. А раз не уничтожил ты зла – следовательно, не сотворил ты добра. А что ты сотворил? Зло! Значит, такой же ты злодей, как и я». Он должен говорить: «Я простой, я круглый, словно шарик или нечто в этом роде». Очень мила дочь хозяина. Она любит рыцарские романы не за драки и не за повести, а за жалобы влюбленных. Она добра, как Дон Кихот. И, перевязав ему раны, отправляется за ним. И вор, переодетый цыганом, как в романе, с ними. Можно придумать множество переодеваний. Это приводит к тому, что в честном человеке подозревает Дон Кихот переодетого Хинеса де Пасамонте. В последнюю ночь перед своей смертью бродит Дон Кихот и прощается с миром. И перед смертью начинает понимать речи деревьев, слушает разговор Росинанта и Серого. Дочь трактирщика, к ужасу Дон Кихота, иной раз говорит неправду. И объясняет это. Рассуждая, говорит: «Я не умна – моя бабушка умна, у нее нашлось к старости время подумать». – «У женщин нет времени думать».
16 сентября
Продолжаю читать «Дон Кихота» и думать о сценарии. Вчера, впервые за год, а может быть, и еще за больший срок, спустился возле [дачи] Державиных и внизу свернул направо, повторил прогулку, когда-то ежедневную. Прорыты глубокие канавы. По чистому песчаному дну бегут ручьи. Все это незнакомо. Но журчат новые ручьи, как старые. Прорублена широкая просека, по ней дохожу до поворота к морю. И все думаю о Дон Кихоте. Прибой был, видимо, эти дни сильный. Обломки камыша, похожие на груды карандашей, показывают, извиваясь валиками по песку, как прибой успокаивался, отходил шаг за шагом. Вода. Дно. Камни. А я все думаю. Мне становится ясен конец фильма. Дон Кихот, окруженный друзьями, ждет приближения смерти. И, утомленные ожиданием, они засыпают. И Дон Кихот поднимается и выходит. Он слышит разговор Росинанта и Серого. Разговор о нем. Росинант перечисляет, сколько раз в жизни он смертельно уставал. Осел говорит, что ему легче потому, что он не умеет считать. Он устал, как ему кажется, всего раз – и этот раз все продолжается. Ночью не отдых. Отдыхаешь за едой. А когда нет еды, то начинаешь думать. А когда делаешь то, чего не умеешь, то устаешь еще больше. И оба с завистью начинают было говорить, что хозяин отдыхает. И вдруг ворон говорит: «Не отдыхает он. Умирает». И с тоской говорят они: «Да что там усталость. В конюшне – тоска». Оба вспоминают утро. Солнце на дороге. Горы. И Дон Кихот соглашается с ними. Он выходит на дорогу и слышит, как могила просит: «Остановись, прохожий». Надгробный памятник повторяет это. И никто не останавливается, не слушает.
17 сентября
Продолжаю читать «Дон Кихота» и все глубже погружаюсь в его дух. Все думаю, что вор может быть тенью Дон Кихота, его противоположностью. Думаю, что словами о золотом веке следует окончить сценарий. Он едет и говорит об этом все тише, тише, пока на экране не выступает слово «конец»[407] . А начало сценария – брань экономки. Она бранит его в ясное-ясное утро. Санчо седлает Росинанта. Жена Дон Кихота говорит. Не то пишу – жена Санчо Пансы говорит: «Почему я, твоя жена, которой сам бог велел бранить мужа, молчу себе или плачу тише, чем птичка, а его экономка, на которую он даже и не взглянул никогда, кричит на него, как власть имущая». И Панса объясняет: «Потому что он добр, а я строг». Они едут по горе, по дороге, которая идет петлями, неуклонно спускаясь вниз, но то приближается к дому, то удаляется от него. И каждый раз, когда они на линии дома, – брань слышнее. Нет, не так. Они едут по дороге. А экономка бежит по тропинке вниз. И, браня, снабжает Дон Кихота провизией, которую забирает в свою сумку Санчо Панса. И Дон Кихот считает это волшебством, а Санчо объясняет ему, как просто догоняет его экономка. Но Дон Кихот не слышит. «Трусость и предательство слушать то, что противоречит твоей вере, поверять ее разумом». Встреча с каторжниками? Или с мельницами? Надо второй раз перечитать «Дон Кихота».
18 сентября
Прочел статью Державина об инсценировках «Дон Кихота»[408], и сразу слегка побледнел тот мир, близость которого я чувствовал все последние дни. Я испугался.
Никаких экранизаций не хотелось бы мне делать, никаких инсценировок. Я на это не способен. Я сразу пугаюсь. Изобилие материала меня не вдохновляет – изобилие материала о романе, а не в нем самом. Я верю только в мое собственное ощущение духа того времени. Нет, Дон Кихота. И веру эту так легко ослабить или затуманить. Знание источников делает вооруженными тех людей, в настоящее понимание которых не верю да и только. Но судить и рядить предстоит все же им. Тем не менее что бы то ни было, а сад, по которому бродит Дон Кихот ночью, не затуманивается. Уже стал чем-то вроде личного моего воспоминания. Но ведь Доре вносил самого себя и множество выдумок, не отступая от романа[409] . Можно было бы показать и такой фокус: рассказать всю историю, строго следуя Сервантесу – сюжетно. А себе дать волю в трактовке, как делал это Доре. Не знаю, – знаю только, что пока читаю роман – • интересно и завлекательно, а едва коснусь работы вокруг него – трезвею и смущаюсь. Едва я начинаю думать о вольной переработке, – сразу слышу разговоры. Дон Кихот, объезжающий гостиницу при луне, так ясен, что хоть садись и пиши. Вплоть до запаха соломы и навоза. Влюбленная девочка, дочь аудитора, племянница солдата. Мальчик в костюме погонщика. Всех – хоть садись и пиши. Страшно начинать и еще страшнее ждать. А ну как совсем отрезвею? Впрочем, сегодня вопрос должен решиться. Я еду на студию, чтобы там договориться насчет этой самой работы и решить вопрос.[410]
19 сентября
Вечером иду я на музыку. И мне приходит в голову, что Дон Кихот должен крайне удивиться, увидев, что после боя Санчо Панса окровавлен. В рыцарских романах о грязи, распухшем, как яблоко, носе и всем безобразии драки – не говорилось. Колдовство. Его в конце сравнивает некто с цветком, названным в честь Георгия Победоносца – георгином. Он не приносит плодов. Не радует благоуханием. Он велик и только. И то бледен, как мрамор памятника, то красен, словно кровь. Трезвая осень вокруг. Плоды везут на базар. Цветы умерли или проданы. И только георгин утешает: стоит и не боится осени. Пока не увянет.
20 сентября
Росинант говорит: «Нельзя стоять на месте, когда голос хозяина, шпоры и удила приказывают идти вперед». И ему не улежать на смертном одре, если жалость, совесть и негодование прикажут, пришпорят и возьмут под уздцы. Дон Кихот говорит, рассуждая о странствующих рыцарях: «Увы, Санчо, нельзя нам, рыцарям, больше трех дней отдыхать и радоваться победе и принимать награды. Иначе так отяжелеешь, что не взберешься на коня». Вот пока все, что думал о сценарии…
Санчо говорит: «На моем теле больше места для колотушек».
21 сентября
В половине второго у Козинцева обсуждали «Дон Кихота». Григорий Михайлович начинает интересоваться сценарием. Но пока ни он, ни я не знаем, что делать, куда повернуть. Я знаю куски, которые начинают кристаллизоваться.
23 сентября
Начинаю приходить в себя после вчерашних разговоров, и «Дон Кихот» освобождается от тумана. Ладно. Будем держаться романа. Но и Доре держится романа, и Кукрыниксы, и современные Сервантесу художники и авторы гобеленов, что висят в Эрмитаже. И каждый из них следует роману на свой лад. Я перечитал роман и вижу, что там целый мир, который дает возможность рассказать то, что хочешь. А хочу я рассказать следующее: человек, ужаснувшийся злу и начавший с ним драться, как безумец, всегда прав. Он умнеет к концу жизни. Умирает Дон Кихот с горя. И потому что отрезвел, то есть перестал быть Дон Кихотом. Можно и пересказать весь роман, не отступая ни на шаг. Введя историка или автора. Или голос. Или разговоры на перекрестках. Или экономку в придорожном трактире, где собирает она о своем господине новости. А в финале, который я хотел дописать, я могу сказать что угодно, если после слов Дон Кихота о том, что он Алонзо Добрый, мы услышим голос, говорящий: «Так, по некоторым слухам, кончилась история Дон Кихота. Но с другой стороны – тысячи тысяч людей утверждают, что Дон Кихот живет. Как же это? Почему? Потому что Дон Кихот выехал в четвертый раз, как нам кажется. Как нам удалось узнать». И идет финал, придуманный нами. О святости мечты. И о великой святости действия, которому завидуют мечтатели. И осмеивают действующих.
24 сентября
Снова перечитываю «Дон Кихота», на этот раз выписывая из этой энциклопедии все, что может понадобиться для работы, разбив на отделы: одежда, вооружение, пища, дорога и так далее. Теперь о другом: о чем я вчера думал. Очень немного народа смеется только когда хочется. У многих смех стал подобием междометия, выражающего смущение, недоверие, растерянность. В этих случаях смех не появляется сам собою, как ему положено, а произносится как слово. И раздражает часто своей ублюдочностью: ни чувство, ни мысль. Лживое, поддельное, принужденное высказывание. Это первое. А вот второе. В желании рассказать анекдот или просто смешной случай и в радости рассказчика, когда он вызывает смех, есть известная слабость. Ему нужно чужое чувство, чтоб разгорелось его собственное. И он смеется в большинстве случаев, вместе со слушателями. В этом есть нечто женственное. Не у всех, впрочем. Некоторые рассказывают не от слабости, а от избытка сил. И вообще смех – явление коллективное. Редко смеется человек один в комнате, даже читая, или вспоминая, или придумывая что-нибудь смешное. А читая вслух или рассказывая – непременно засмеется.
2 октября
От репинских Пенат осталось только название. Мы успели побывать там в 40 году. Видели его картины. Произвела впечатление последняя – автопортрет глубоким стариком уже. Отчетливо чувствовалось, что жил здесь человек 80-х годов. Зеркала, расписанные цветочками. Пуфики, драпировки. Внизу – знаменитый стол с вращающейся серединой, чтобы гости сами обслуживали друг друга. Придумала его как будто Нордман-Северова. И дух ее витал в нижнем этаже дома, как его – в верхнем. А теперь тут, за забором, только стенды с фотографиями да могила владельца.
7 октября
Работа над «Дон Кихотом» пошла полным ходом. Написал первые семь страниц на машинке. И продолжаю. Что-то все время чувствую очень твердо, боюсь только испортить. Пишу с наслаждением.
8 октября
Вчера вечером прочитал начало сценария Пантелееву и, как всегда, стал сомневаться после чтения, так ли следует начинать. И придумал новое начало. И сегодня все время о нем думаю. А что, если начинать всю историю с того, что Дон Кихот останавливается на перекрестке четырех дорог, пробует прочесть надпись на придорожном камне и обнаруживает, что она давно стерлась. Тогда, по рыцарскому обычаю, бросает он поводья на шею коня – пусть Росинант приведет к подвигам. Но Росинант заснул. И никуда не хочет идти. И мимо рыцаря, прикованного к месту, проходят различные люди, из разговоров с которыми и выясняется, кто он и что он. И все думаю я на этот счет и думаю и не могу решить. Во всяком случае, попробую я это начало сделать. Проходят мимо козопасы с копьями, проезжают молодые, и, наконец, Самсон Карраско. Этот уверен в превосходстве науки над мечтаниями. И, может быть, в финале встречаются они на перекрестке еще раз. Ты возьмешь у меня знаний, а я у тебя научусь ненависти к злу, и любви к добру, и любви к действию.
10 октября
Все думаю о «Дон Кихоте». Мое начало кажется мне теперь милым, что раздражает меня. Дух романа суровее. Тоска по добру прорывается через колотушки, жестокость, условное остроумие тех дней и такую же рассудочную поэзию. То, что нам дорого, сказывается в «Дон Кихоте» как бы украдкой. Контрабандой. Причем автор как будто сам смущен тем, что у него высказывается. Дон Кихот говорит умно и трогательно – и тут же автор спешит пояснить: эти речи удивительны у безумца! Они как бы и приводятся для того, чтобы показать, какая удивительная, достойная описания вещь – безумие. И если нарушить эту как бы непроизвольно сказывающуюся поэтическую, человеколюбивую сторону, точнее, если дать ей выйти открыто на первый план – ничего хорошего не выйдет. Воздух романа строг, сух, жесток. И этого нельзя забывать. Поэтому детски откровенное начало меня смущает. То начало, что я написал.
11 октября
Вчера вечером охватила меня вдруг без причины и без подготовки комаровская тоска. Впрочем, причина была – дождь и тьма. Но потом я взялся переделывать начало сценария и успел даже переписать переделку на машинке. Из уважения к Дон Кихоту делаю я по-новому – точнее, по-старому: пишу сначала от руки и только потом перепечатываю. И это мне помогает очень и как будто даже ускоряет дело. Не мешала ли мне машинка в последние годы? В новом варианте выгодно, что показываю я рыцаря настоящего, пока идут надписи. Есть с чем сравнивать Дон Кихота, когда видят его зрители впервые. Начало, правда, немножко похоже на литературный сценарий «Золушки», но в картину тот пролог не вошел. И новое начало ближе к открытой стороне романа – насмешливой. В первом варианте слишком отчетливо говорилось о доброте Дон Кихота. Кончил я писать в четвертом часу. Тоска исчезла – завтрашний день приблизился.
14 октября
Больше всего я боюсь, что переживу постепенную потерю того, что накапливалось с детских лет, – чувство моря, чувство осени, чувство путешествия, чувство влюбленности, чувство дружбы. Принимались они каждый раз как открытия. До последних дней богатство росло. Чувство формы продолжало развиваться, сказываясь иной раз с неожиданной силой. Так было недавно со стихами Пушкина, когда я понял особым образом слова: «Глубокий, вечный хор валов, Хвалебный гимн отцу миров»[411] . Слово «хвалебный» рядом с «хором валов» в применении к движению волн показалось мне наполненным особым содержанием, больше, чем звуковым и смысловым, но связанным и с тем и с другим. Так же, как «полупрозрачная наляжет ночи тень»[412] . Испытал однажды чисто физическое чувство освобождения и особого освежения, когда слушал долго Баха в четыре руки. И встречал эти чувства, как открытия, с удивлением и благодарностью. И больше всего я боюсь, что богатство это начнет раз от разу уменьшаться и я перестану верить, что возможны переживания подобного рода. Впрочем, страх этот ослабляется прочным и неизменяющим чувством: ожиданием счастья. И великим даром: умением закрывать глаза. Вчера был у Вейсбрема в странной его квартирке в одну комнату. Ковры, два дивана, портьеры, книжные полки, стол с пузатой и высокой лампой с абажуром. И рыцарь в латах в углу. Поднимешь забрало – видишь печальное усатое молодое лицо из папье-маше. И четыре кошки, подобранных на лестнице. Из них одна вот-вот окотится. В субботу прогон «Кленов»[413] .
16 октября
Сегодня смотрел в ТЮЗе последний комнатный прогон перед переходом на сцену «Двух кленов». Все прошло в той драгоценной и редкой обстановке доверия, которая и помогает актерам творить чудеса. А мне начинает в эти редкие часы казаться, что мы не напрасно живем возле этой громоздкой, неоправданно самодовольной махины. Возле театра.
23 октября
В Ленинграде Малюгин. Скоро должен ко мне зайти. Есть знакомства, как бы сцементированные временем, с которым они связаны. Близкое знакомство с Малюгиным образовалось во время войны, в Кирове, во время эвакуации, где каждого человека, каждого соседа, точнее, хочешь не хочешь, а видишь во всех подробностях, с каждой родинкой. До этого я встречался с Малюгиным на премьерах и в редакциях, и он мне нравился главным образом тем, что по отношению ко мне был благожелателен. А это оценишь, когда человек не сладок, даже грубоват и говорит неприятные вещи с легкостью, не боясь обидеть. В Кирове после полумертвого Ленинграда, теплушек, всей страшной дороги увидел я его как бы впервые в жизни, во всяком случае, новыми глазами. Мы встретились в театре, на лестнице актерского входа, у второго этажа. Очень светловолосый, худенький, улыбающийся, он вдруг, увидев меня ближе, со свойственной ему прямотой, стал глядеть на меня с открытой жалостью и уважением. Тут он вдруг понял, что такое блокада, – так сказал он мне уже несколько месяцев спустя. Занимал он маленькую комнату, недалеко от так называемого коридора женатиков. Артисты второго положения жили тут семьями, отделившись друг от друга театральными драпировками. Малюгин держал себя строго. Школил. Работал много. Стул у стола стоял жесткий. Жесткий высокий топчан, накрытый белым покрывалом. Столовый столик. Под стеклом, на письменном столе вырезка. Отрывок из статьи Гейне о том, что ему – немногое надо: хижину в горах, несколько книг, скромную пищу из долины да дерево возле хижины, на котором висело бы несколько его врагов[414] . И у Малюгина они были.
24 октября
У него сохранилось и до сих пор еще выражение мальчишеское и недоброе. Вызывающее. При светлых волосах – глаза темные и недобрые. Лоб наморщен с одной стороны, и бровь одна приподнята, что вечно придает ему выражение вызывающее. Рот маленький, нижняя губа выдвинута чуть, и это подтверждает общее впечатление. Положение завлита в театре наименее защищенное, и если у труппы с ним нет отношений дружеских, то в трудные времена охотнее всего отводят душу на завлите. Малюгин был много деятельнее и влиятельнее, чем обычный завлит. Он и заменял Рудника, когда тот уезжал в Москву, и дежурил в зрительном зале, следил, чтобы спектакль не рассыпался. И не скрывал своего отношения к актерам. Он ни за что не позволял им, скажем, переставлять слова, переиначивать текст ролей. И заявлял им об этом решительно, приподняв бровь вызывающе. У людей и без того уйма неприятностей – бытовых, семейных, эвакуационных, а тут еще этот мальчишка. От Рудника принимали они многие пинки и толчки, но тот был директор и худрук. Это было в порядке вещей. Нет, Малюгина не любили и ругали с особой скрытностью актерского коллектива не за резкость, и обиды, и ушибы, им нанесенные, а, напротив, за то, что ничего он не делает. А он, повторяю, был самый деятельный завлит из всех, что я видел. Впрочем, в Большом драматическом театре все не любили всех, не любили давно и в закоренелой, окостеневшей нелюбви своей не выходили из равновесия. Не трогали друг друга. Приехав в Киров, я почти тотчас же стал писать «Одну ночь» и кусок за куском читал Малюгину. И по его выражению, больше, пожалуй, чем по словам, угадывал, что работа идет. Эти дни, вероятно, больше всего сцементировали нас.
25 октября
Постепенно узнавал я, встречаясь с Малюгиным чуть ли не каждый день, что он – из взрослых людей. Он был главой семьи. Мать его, сестра и племянница жили где-то в Средней Азии, на реке Чу, и он заботился, беспокоился и, наконец, взяв отпуск, отправился к ним на недельку. А езда по тем трудным дорогам в те трудные времена заняла, вероятно, с месяц. Ласков и заботлив был он и со второй сестрой. Хоть была она старше, работала хирургом в госпитале. И, как большинство хирургов, держалась уверенно, самостоятельно, я чувствовал, что и тут Леонид Антонович – глава семьи. И в их дружном, уважительном отношении друг к другу, при характере его вызывающем и мальчишеском, чудилось мне что-то здоровое. Я только что ушел от смерти и страстно вглядывался в жизнь, и воображение работало с наслаждением, и я представлял себе семью малюгинскую и как сын – единственный мужчина в семье – научился быть взрослым и ощущать свою ответственность. Это происходит далеко не так часто, как думают. И в его отношении к театру и к работе ощущалось то же драгоценное свойство. Он был взрослым среди капризничающих, ожидающих приношений и даров неведомо откуда и неведомо за что актеров, вечных подростков. И не просто взрослым – и Рудник был таковым, – а взрослым, сознающим свою ответственность, берущим свою долю ноши. Были у него не только враги, но и друзья, и он – вот чудеса-то – отвечал им на письма. И посылал им то книги, которые ему вдруг удалось добыть в Кирове, то посылки. Одна знакомая прислала ему послание на двенадцати страницах, и цензор написал на полях: «В последний раз пропускаю такое длинное письмо»[415] . Пьеса моя в Москве была забракована, и я взялся за новую[416] .
26 октября
И вторую пьесу, хоть писалась она и не для Большого драматического, Малюгин встретил так же внимательно, со свойственным взрослым уважением к чужому труду. А когда бригада артистов с Малюгиным во главе отправилась на фронт, он привез нам оттуда пачку табаку – легко сказать: не самосада, не махорки, а табаку! При панической, безоглядной любви к себе, охватившей данный театр, каждое проявление внимания трогало. Вскоре театр вернулся в Ленинград. И оттуда присылал Леня то книжку, то табаку, а однажды толстую плитку шоколада – вот как снабжали теперь в блокадном Ленинграде. Шел 43 год… А мы уехали в июле 43 года в Сталинабад. Так кончился первый период нашего знакомства. Некоторое время мы даже и не переписывались. Я этого не умею делать. Но встретились как хорошие друзья. Так прибавился еще один близкий человек, которого встречаешь всегда радостно, хоть и не часто. И о котором знаешь, что он тебе рад. Словом, хороший знакомый, живущий в другом городе. К этому времени стал Малюгин писать пьесу. Он показывал кусочки друзьям. А мне – решился не сразу. И пьеса мне понравилась. И Ермоловский театр ее поставил. И Малюгин, и театр получили Сталинскую премию[417] . Через некоторое время целый ряд журналистов сочинили пьесы, но премии им не дали.
27 октября
И все – и друзья, и враги – стали внимательно разглядывать Малюгина как человека, отмеченного судьбой. И впервые обнаружили то, чем обладал он всегда: грубоватость, иной раз ненужную, подчеркнутую прямоту. И объяснили это тем, что получил он Сталинскую премию. А Малюгин в новом своем качестве оставался все тем же парнем, хоть и вполне взрослым и отвечающим за свои поступки, но с недобрыми мальчишескими глазами и вызывающе приподнятой правой бровью. Однажды рассказывал он нам, как жил в доме отдыха в Грузии, где директор поражал их всех наглостью и заносчивостью да еще и кормил худо. И Малюгин вызвал директора к себе в комнату. И спросил: «Вы что – хотите потерять место? Так я вас уберу отсюда». И отчитал его так, что директор, до настоящей минуты поражавший всех наглостью и заносчивостью, только глазами хлопал. И переродился. И я наслаждался, слушая эту историю, угадывая в Малюгине крайне занимающие меня черты молодого человека сороковых годов. Характерным для молодого человека наших дней было и умение считать. Не знаю, откуда идет оно: от стипендии, которая приучает учитывать каждую копейку, – но это теперь свойство нередкое. Или идет оно от трудного детства? Но есть рабочие семьи, где будут питаться чаем с хлебом, но купят «Победу» или построят дачу. Есть квартиры, где вечные ссоры из-за счетчиков. Мне известна квартира, где не завели кошку, хоть и погибали от крыс, – не могли договориться, кто будет ее кормить. А жили в квартире инженерно-технические работники. Малюгин в этой области был вполне нормален. Не доходил до вышеописанных извращений. Но денег не швырял. «Ездить в „Стреле“ – пижонство», – сказал он мне убежденно.
28 октября
Один из друзей Малюгина, как раз из таких, которые стали чутко и мнительно приглядываться к нему после того, как был тот отмечен судьбой, жаловался: «Подъезжаем к Москве, а Малюгин спрашивает: „Как ты думаешь, хватит у нас средств поднять такси?“ Конечно, Малюгин тут шутил. Но, с другой стороны, были и несомненные доказательства того, что считать он умел. И несмотря на это, все друзья были ему должны. Точнее, благодаря этому. Люди, которые умеют считать, дают взаймы просто. У них нет суеверного, коллекционерского отношения к деньгам. Они относятся к этому делу трезво. Однажды мне предложили обменять квартиру на Москву. И я согласился было. Но владелица квартиры потребовала с меня в придачу к моей ленинградской площади двадцать семь тысяч. И Малюгин сразу предложил мне эту сумму взаймы. „Берите, пока есть!“ Я не рискнул на это. „Берите, пока есть“. У людей, внезапно отмеченных судьбой, не проходит чувство рока. Что внезапно дано, могут столь же просто отнять. И вот пришли черные, роковые дни драматургического пленума[418] – того самого, на котором был и Малюгин роковым образом присоединен к космополитизму. Как раз в тот час, когда ему выступать, во всей Москве погас свет. Да что там свет – остановилось движение в метро. Почему – мы не знаем до сих пор. Город был как бы без чувств, однако пленум продолжал свою работу…
В контроле, на лестнице, где сидела встревоженная дежурная, горела свечка. Я бродил в тоске по гостиным, темным и незнакомым, потом пробирался в зал.
29 октября
Все это было как во сне, с одною разницей: ты знал твердо, что это не сон, и тут уж не проснуться. Вынес Малюгин испытание это мужественно, как и следовало ожидать от молодого человека сороковых годов. Положительного молодого человека. Он мог дышать в отравленной атмосфере, что образовалась вокруг него. Отрицательный молодой человек в ту пору в слабости своей сам отравлял атмосферу, свято веря, что это поможет ему дышать. Мы встречались довольно часто в те дни, роковые дни. И как в дни удачи, смутно, а вместе с тем упорно верили, что возможно прояснение. И оно забрезжило: Малюгин написал пьесу о Чернышевском, и ее как будто собирались поставить. Но не осмелились[419] . Свет померк. Но он написал роман о студентах[420] . Свет забрезжил. Но его не приняли, сначала обещав напечатать. Огромный роман. Свет померк, но не вполне, – к этому времени уже стало ясно, что дела Леонида Антоновича улучшаются. Пошла на периферии его новая пьеса[421] . А потом ее поставил и Охлопков. Точнее, театр его[422] . Ибо на обсуждении пьесы Охлопков стал ругать и постановку, и пьесу, что непристойно для главного режиссера. Пьесу-то брал он? О чем раньше думал? И Малюгин ответил ему со всей резкостью, словно его не ругали не так уж давно на все корки. Малюгина-то. Когда на другой день рассказывал он об этом происшествии Штоку, тот ответил: «Перечтите „Горе от ума“. На балу Чацкий говорит речь. Затем идет ремарка: „Оглядывается. Все танцуют“. Но свет пробивался все отчетливей, тучи расходились, и когда в этом году, в апреле, приехал я в Москву – небо совсем очистилось. Я позвал Малюгина на репетицию[423], он не мог прийти. И, смеясь, словно сам себе не веря, объяснил почему.
30 октября
Его вызвал для разговоров о новом сценарии министр кинематографии! А на другой день уехал он и режиссер его куда-то на юг выбирать натуру. Так мы и не увиделись, но вот 22 октября узнал я, что Малюгин в Ленинграде. Мне с яростью рассказывали актеры Комедии, что он непростительно грубо ругал их последнюю постановку. «Вишневый сад». Приехал он с бригадой ВТО, и все они со столичной уверенностью бранили «Чайку» в Александринке, но особенно «Вишневый сад». Фамилий остальных членов бригады и не вспоминали, настолько Малюгин всех заслонил. И вот – возвращаюсь к тому, с чего начал, – я дозвонился не без труда ему в «Европейскую» и узнал, что страдные дни просмотров и обсуждений прошли, и он как раз собирался мне позвонить. И мы договорились, что 23-го утром он придет ко мне, а я в ожидании начал писать о нем все, что запомнилось, начиная с кировских времен. И вот он позвонил, и я, полный представлений 42 года, увидел совсем, нет, не совсем, но сильно отяжелевшего человека, изменившегося Малюгина. Ничего мальчишеского не осталось ни в лице, ни в существе. Тогда взрослый человек был намечен, угадывался за мальчишеским вызывающим выражением темных глаз, приподнятой бровью. Теперь Малюгин отяжелел, заматерел. У него и прежде было выражение «всеми недоволен», но за ним чувствовалось желание вызвать веселый шум, как в игре в «свои соседи». А теперь оно огрубело, и недоброе выражение глаз утратило игру. Легкость. Сердитый мужчина за сорок стоял и улыбался мне. Вскоре старое знакомство, сцементированное тяжелыми временами, взяло свое. Но долго не проходило трезвое и резкое ощущение последней встречи.
21 ноября
Завтра собираюсь я поехать в Москву. 70 лет Александре Яковлевне. В Доме актера будет праздноваться ее юбилей, меня пригласили[424] . Кроме того, министерство требует поправок в сценарии «Марья Искусница». Каких, не знаю. Выезжать приходится в понедельник. Поправки – дело для меня мучительнейшее. Я хотел на юбилее просто прочесть приветствие, но Дрейден убедил меня, что это дело неинтересное. Но говорить перед чужими людьми тоже как будто неинтересно. Все это наполнило меня, было, тревогой. И вдруг сейчас, вечером, подумал я с наслаждением о поездке, новых людях, даже поправки не показались мне столь унылыми. Живу я уж очень неподвижно, в чем есть, конечно, своя прелесть. Но сейчас мне хочется поехать в Москву. Моя неподвижность и страх перемен дошли до того, что я сегодня со страхом переменил мою старую записную книжку, переписал в нее телефоны. Читал не слишком убедительные очерки Амфитеатрова «Антики»[425] . О Риме. Все не могу добыть Тацита. Все мне кажется, что пророчество сбылось и третий Рим существует. Впрочем, опять я лезу не в свою область. Зон обижен на меня. Он считает, что я недостаточно хлопотал, чтобы он ставил «Два клена». Это мне непривычно. А впрочем, ладно. Сегодня в «Ленинских искрах» появилась рецензия…[426] Сегодня оставил Козинцеву четырнадцать страниц сценария и три страницы плана. Двадцать пять эпизодов. Никогда еще не работал я так жадно.
22 ноября
Когда приехал я в Москву весной 43 года, было воскресенье, Комитет закрыт, и я прямо с Курского вокзала зашел к Маршаку. У него сидели и завтракали Шостакович и Яншин, постановочная тройка по «Двенадцати месяцам». Я предложил присоединить банку консервов, что была со мной, и Шостакович кивнул: давайте, давайте. После завтрака Маршак сообщил, что приглашен обедать к какому-то своему поклоннику. И тут же позвонил ему, что не может прийти, так как приехал его старый друг. После чего и я был зван. Я отказывался для вида, но был доволен. Обед оказался неестественно, по тогдашним временам, изобильный. И мы задержались и почувствовали по пути, что приближается комендантский час (в те времена, кажется, десять), и мы опаздываем. У Маршака был пропуск, но забыл он его дома. И мы увидели, что идет последний троллейбус, как раз нужный нам номер, но до остановки далеко. И Маршак вышел на мостовую и поднял руку. И троллейбус остановился. И Маршак сказал: «Я писатель Маршак. Мы опаздываем домой. Подвезите нас!» И вагоновожатый согласился. И Маршак рассказал мне, как попросил в подобном же случае милиционера помочь ему и тот усадил Маршака в попутную машину. В грузовик. И я с удовольствием чувствовал себя в сфере Маршака, в обаянии его энергии и уверенности особого рода. Скорее поэтической. И множество стихотворений прочитал он между завтраком и обедом. А когда мы вернулись, стал читать «Двенадцать месяцев». Я всегда плохо сплю в дороге, хотя бы и в отдельном вагоне. И обед был непривычно богат. И я стал засыпать. И Маршак с удивлением воскликнул: «Да ты с ума сошел!»
28 ноября
Сегодня в «Ленинградской правде» напечатана заметка о премьере «Двух кленов». Хвалят[427] … Говорил с Козинцевым – он придумал сюжет полностью. Боюсь, что это мне будет или трудно, или обидно. Впрочем, увидим.
29 ноября
То, что придумал Козинцев, оказалось вполне обсуждаемым, а три выдумки – блистательны. Сегодня выяснилось, что придется поехать на дачу, чего мне на этот раз никак не хочется. Потихоньку начинаю погружаться в домашние сумерки. Давно не хотелось мне так работать, как сейчас. Настроение при этом – будничное.
Продолжаю уже на даче. Настроение смутное. Привык я теперь к городской жизни. Сегодня прочел кусочки «Дон Кихота» – сценария – Пантелееву. Он хвалил, а мне показалось, что вышла только одна сцена – с мальчиком. Впрочем, посмотрим.
2 декабря
Был на просмотре «Дела» у Акимова[428] . Понял – впрочем, не в первый раз, – что, кроме действия и характеров, играет огромную роль в лучших русских пьесах, – язык. В пьесе «Дело» он до того поэтичен, просторен, великолепен («Это он Каин, он Авеля убил». «У меня есть такой инструмент, которым выну из тебя душу без всякого скрипа»[429] ), до того народен, что хоть плачь. Кончает пьесу отрицательный герой. Здесь сила ненависти авторской доходит до полного проникновения, до такой чуткости, что и любви не всегда дается. Ничтожнейший из чиновников, вечно голодный Тарелкин понят и волей автора говорит вдруг, как пророк, как обличитель, как поэт, и он и кончает эту страшную, великолепную и сумеречную, как черный бриллиант, пьесу. Есть в ней еще одна особенность. Эта пьеса никогда не шла и поэтому не профильтрована постановкой, отчего ее траурный блеск приобретает некоторую неправильность, сложность, диковатость. Репетировали в той самой комнате, где тридцать три года назад готовились к началу гастролей и мы, Театральная мастерская. И та же лепка на стенах – на карнизах, я хотел сказать. Старухи с юным телом и русалочьими хвостами и над ними молодые полуголые русалки. А между ними заштукатуренная и потерявшая форму полоса орнаментов: не то амуры, не то цветы. Не заштукатуренная, а забеленная. Сила выражения – опять возвращаюсь к пьесе – снимает и сюжетную мрачность пьесы. Поэтичность, сила выражения настолько божественны, что человеческие вещи, о которых говорится, отступают в черном блеске. Радует сила, с которой говорится о зле. Следовательно, зло можно победить.
13 декабря
Вчера встретился я в ТЮЗе с их делегатским собранием. Говорил, удивляясь гладкости, с которой я это делаю, о детской литературе, о съезде, о себе – и так целых тридцать семь минут. Потом Гернет читала отрывок, две сцены из своей новой пьесы[430] . Очень смешно и легко. Очевидно, ей это и надо делать: чистую комедию. Дети были довольны. Они сидели спокойно и весело. Но вот их начали отрывать от общей массы по одному. И, оказавшись на кафедре в полном одиночестве, каждый из них цепенел, холодел и читал по бумажке свои выступления, полные слов вроде «беззаветный», «повествуют» и прочее. Я, говорящий спокойно, потерявший страх, глядел на них сочувственно. И какая сложная жизнь за этими словами. Девочка, лоб в мелких прыщиках, на щеке фурункул, недавно угомонившийся, цвет лица нездоровый, кожа блестящая, а стихи читает до того простые, что хоть плачь. Выходит мальчик, смуглый и храбрый, – и демон кафедры хватает его за глотку. Нас записали на пленку.
21 декабря
На вечернем заседании выступил Шолохов[431] . Нет, никогда не привыкнуть мне к тому, что нет ничего общего между человеческой внешностью и чудесами, что где-то скрыты в ней. Где? Вглядываюсь в этого небольшого человека, вслушиваюсь в его южнорусский говор с «h» вместо «г» – и ничего не могу понять, теряюсь, никак не хочу верить, что это и есть писатель, которому я так удивляюсь. Съезд встал, встречая его, – и не без основания. Он чуть ли не лучший писатель из всех, что собрались на съезд. Да попросту говоря – лучший. Никакая история гражданской войны не объяснит ее так, как «Тихий Дон». Не было с «Анны Карениной» такого описания страстной любви, как между Аксиньей и Григорием Мелеховым. Не люблю влезать не в свою область. Постараюсь повторить то же самое, но точнее. Всю трагичность гражданской войны показал Шолохов. Без его книги – так никто и не понял бы ее. И «Анну Каренину» упомянул я напрасно. Страсть здесь еще страшнее. И грубее. Ну, словом, бросаю чужую область – смотрю я на «Тихий Дон», как на чудо.
28 декабря
Все, что я думал о «Дон Кихоте» и придумал по мере сил, никуда не годится. Особенность этого романа в том, что всякая попытка внести правильность и драматургический сюжет в его великолепную растрепанность и свободу [терпит неудачу]. Попробую сделать нечто иное. Что? Прежде всего – убрать тот несколько излишне светлый тон, которым я начал. «Дон Кихот» мрачен по цвету. Или, точнее, строг. Может быть, взять отдельно три эпизода? Может быть, написать пролог? Я вошел было в какой-то мир, но ничего общего (кроме одной сцены) с «Дон Кихотом» не отыскалось. Новый способ работы для меня. Я шел в ту сторону, что легче, а тут придется связать себя.
29 декабря
Посмотрел сегодня начало «Дон Кихота» (сценария) и убедился в том, что я не так уж плохо писал его. Особенно один кусок – с Андресом. Завтра начну писать новое начало.
30 декабря
Начал по-новому «Дон Кихота». Точнее, начал план главы. Боюсь, как бы не повредила мне излишняя почтительность.
1955
1 января
А «Дон Кихот» стоит и не двигается. То, что начал я вчера, не пригодилось. Надо сделать просто парикмахерскую, где цирюльник рассказывает новости. Тому, кто купил землю у Дон Кихота. Тут надо попробовать в нескольких словах дать все начало романа. Купец проявляет крайнее недоверие. «Не верю», – когда говорят ему о Дон Кихоте и прочем тому подобном.
…Я начинаю бояться «Дон Кихота». Я не люблю излишней свободы, но когда связан, то это еще хуже.
6 января
Мы в Ленинграде. Был вчера вечером у Козинцева, читал начало «Дон Кихота», уже третье с тех дней, что начал я работать. Со 2-го до вчерашнего дня написал я больше десяти страниц на машинке, не считая вариантов, отвергнутых мною самим. Удивляюсь собственной трудоспособности. Работал-то я, в сущности, один день, – народ мешал. Этого самого второго января, что начал я работу, перебывало у меня в течение дня общим счетом – семнадцать человек. И я был скорее доволен. Тишина последнего года начала угнетать меня.
19 января
Хотел затеять длинную работу: «Телефонная книжка». Взять нашу длинную черную книжку с алфавитом и, за фамилией фамилию, как записаны, так о них и рассказать. Так и сделаю.
Акимов. О нем говорил не раз: ростом мал, глаза острые, внимательные, голубые. Всегда пружина заведена, двигатель на полном ходу. Все ясно в нем. Никакого тумана. Отсюда правдивость. Отсюда полное отсутствие, даже отрицание магического кристалла. Через него в некоторых случаях художник различает что-то там неясно. Как это можно! Жаден до смешного в денежных делах. До чудачества. Даже понимая, что надо потратиться, хотя бы на хозяйство – отдаст деньги не с вечера, а утром, когда уже пора идти на рынок. Знает за собой этот порок. Однажды я осуждал при нем скупую женщину.
20 января
И он возразил: «Не осуждай, не осуждай! Это страсть. Не может человек заставить себя расстаться с деньгами – и все тут». Так же, говоря о ком-то, признал: «Он, как умный человек, позволяет себе больше, чем другие». И то и другое высказывание – нечаянное признание. Я не раз замечал, что художники скуповаты. Возможно, оттого, что уж слишком связаны с вещью. Но Акимов жаден еще и до власти, до славы, до жизни и, как человек умный, позволяет себе больше, чем другие. Жаден до того, что не вылезает из драки. Есть множество видов драки. Теперь в театральных кругах победил вид наиболее мучительный для зрителя: вцепившись в противника когтями, разрывая пальцами рот, ударяя коленом в пах, борец кричит: «Необходима творческая среда!», «Без чувства локтя работать немыслимо!», «Социалистический реализм!», «Высокая принципиальность!», «Не умеют у нас беречь людей!», – и так далее. Акимов в драке правдив, ясен и смел до того, что противник, крича: «Мир хижинам, война дворцам!» или нечто подобное, – исчезает. Охлопков любит говорить, что наше время подобно эпохе Возрождения: сильные люди, борьба страстей и так далее. Эта поэтическая формула разрешает ему куда больше, чем позволяет себе умный человек. Единственный боец, на которого я смотрю в этой свалке с удовольствием, – Акимов. Он не теряет чувства брезгливости, как безобразник эпохи Возрождения, не кричит, кусая врага: «Прекрасное должно быть величаво»… и, наконец, он чуть ли не единственный имеет в своей области пристрастия, привязанности, обнаруживает чуть ли не гениальное упорство. Правдив, правдив! Любит он и женщин. Иной раз кажется мне, что, помимо всего прочего, и тут сказывается его жадность – к власти, к успеху. Любит и вещи, как Лебедев, но с меньшей строгостью, традиционней. Я с ним никогда, в сущности, не был дружен – мы несоизмеримы. Я отчетливо, и он, думаю, тоже понимает всю противоположность наших натур. Но жизнь свела нас, и я его чувствую как своего и болею за него душой.
21 января
В случае удач его мы встречаемся реже, потому что он тогда занят с утра до вечера, он меняет коней – то репетирует, то делает доклады в ВТО, то ведет бешеную борьбу с очередным врагом, то пишет портрет, обычно с очень красивой какой-нибудь девушки. И свалить его с ног могут только грипп или вечный его враг – живот. Вот каков первый из тех, что записан в моей телефонной книжке. Среди многих моих друзей-врагов он наносил мне раны, не в пример прочим, исключительно доброкачественные, в прямом столкновении или прямым и вполне объяснимым невниманием обезумевшего за азартной игрой банкомета. Но ему же обязан я тем, что довел до конца работу, без него брошенную бы на полдороге. И не одну. А как упорно добивался он, чтобы выехали мы в блокаду из Ленинграда. Впрочем, бессмысленно тут заводить графы прихода и расхода. Жизнь свела нас, и, слыша по телефону знакомый его голос, я испытываю сначала удовольствие. И только через несколько минут неловкость и скованность в словах и мыслях, – уж слишком мы разные люди.
Вторым на букву «А» записан Альтман. Прелесть Натана Альтмана – в простоте, с которой он живет, пишет свои картины, ловит рыбу. Он ладный, желтолицый, толстогубый, седой. Когда еще юношей шел он пешком по шоссе между южнорусскими какими-то городами, навстречу ему попался пьяный офицер, верхом на коне. Заглянув Натану в лицо, он крикнул вдруг: «Япошка!» И в самом деле в лице его есть что-то дальневосточное. Говорит он с акцентом, но не еврейским, без напева. В отличие от Акимова пальцем не шевельнет для того, чтобы занять подобающее место за столом баккара.
Во время эвакуации, находясь в Молотове, сказал задумчиво: «Я до сих пор не придавал значения званиям и орденам – но с тех пор, как это стало вопросом меню…» Причем это последнее слово он произнес, как природный француз. Там же ловил он тараканов в своей комнате и красил их в разные цвета. А одного выкрасил золотом и сказал: «Это таракан-лауреат».
22 января
А потом подумал и прибавил: «Пусть его тараканиха удивится».
Есть во всем его существе удивительная беспечность, заменяющая ту воинствующую независимость, что столь часто обнаруживают у гениев. Натан остается самим собой безо всякого шума. Когда принимали в союз какую-то художницу, Альтман неосторожно выразил свое к ней сочувственное отношение. И Серов, громя его, привел это неосторожное выражение: «Альтман позволил себе сказать: на сером ленинградском фоне…» – и так далее. Отвечая, Альтман заявил: «Я не говорил – на сером ленинградском фоне. Я сказал – на нашем сером фоне». И, возражая, он был столь спокоен, наивен, до такой степени явно не понимал убийственности своей поправки, что его оставили в покое. Да, он какой есть, такой и есть. Всякий раз, встречая его – а он ездит в Комарове ловить рыбу, – угадывая еще издали на шоссе его ладную фигурку, с беретом на седых – соль с перцем – густых волосах, испытываю я удовольствие. Вот подходит он, легкий, заботливо одетый (он даже трусы заказывает по особому рисунку), на плече рыболовные снасти, в большинстве самодельные и отлично выполненные; как у многих художников, у него золотые руки. Я люблю его рассказы – их прелесть все в той же простоте, и здоровье, и ясности. Как в Бретани – жил он в пансионе – вдруг шум за стеной. За каменной стеной сада, где они обедали. Натан взобрался на стену – все селенье, включая собак, копошилось и шумело возле. Прибой – нет, прилив – на этот раз был силен, дошел до самой стены пансиона и, отходя, оставил в ямах множество рыбы. «Тут и макрель, и все, что хочешь. И ее брали руками». И я вижу и стену пансиона, и берег. Стал этот незамысловатый случай и моим воспоминанием. Так же, услышав о реке Аа, вспоминаю, как поехал Натан летом 14 года на эту речку ловить рыбу. И едва началась война, как пристав его арестовал: «Почему?» А пристав отвечает: «Мне приказано, в связи с войной, забирать всех подозрительных лиц. А мне сообщили, что вы футурист».
23 января
Альтман – со своей ладностью, легкостью, беретом – ощущается мною вне возраста. Человеком без возраста, хотя ему уже за шестьдесят. Козинцев как-то сказал ему: «Слушайте, Натан, как вам не стыдно. Вам шестьдесят четыре года, а вы ухаживаете за девушкой». – «Это ее дело знать, сколько мне лет, а не мое», – ответил Натан спокойно… Как он пишет? Каковы его рисунки? Этого не стану определять. Не мое дело. Я знаю, что он художник, и не усомнился бы в этой его породе, даже если бы не видел ни его декораций, ни книг, ни картин.
Телефонная книжка, по которой веду я рассказ, заведена в 45 году, поэтому стоят в ней и фамилии друзей, которых уже нет на свете.
28 января
Далее в телефонной книжке идет фамилия, попавшая на букву «А» по недоразумению. Катя думала, что фамилия нашего бородатого сердитого, безумного и острого комаровского знакомого пишется «Арбели». Он живет летом в академическом поселке.
29 января
Знакомы сначала, с давних времен, мы были с Тотей, она же Антонина Николаевна – живая, близорукая, привлекательная, скорее высокая, тощенькая. Знали мы, что она альпинистка, искусствовед, умная женщина. Была замужем за историком Щеголевым, овдовела. Я сомневался в ее уме. В интеллигентских кругах возле искусства выработался свой жаргон, и женщины, овладевшие им, легко зачисляются в категорию умных. Особенно их много возле театра, жаргон тут беднее эрмитажного, но зато непристойнее и веселее. Тут женщины, овладевшие им, называются не умными, а остроумными. Попугаи, повторяющие чужие слова, обнаруживаются просто. Но попугаи, схватывающие чужой круг идей, числятся людьми. Поэтому я с недоверием принял утверждение насчет Тотиного ума. Несколько лет назад вдруг вышла она замуж за своего начальника академика Орбели и родила мальчика. Ей было за сорок, мужу за шестьдесят, и вот в этот период жизни познакомились мы с ней ближе, а с Иосифом Абгаровичем – заново. Прежде всего я, не без удовольствия, убедился в том, что Тотя и в самом деле умная. Она любила своего мальчика до полного безумия и однажды определила это так: «Смотрю на пейзаж Руссо. Отличный пейзаж, но что-то мне мешает. Что? И вдруг соображаю: воды много. Сыро. Ребенку вредно». Прелестно рассказала она о собрании в академическом поселке перед его заселением. Собрались будущие владельцы или их жены. В те дни неизвестно еще было, в собственность получат академики дачи или в пожизненное владение. Это особенно волновало членов семьи. И вот, сначала иносказательно, стали выяснять, что будет, так сказать, по окончании владения, – если оно только пожизненное. Куда денут иждивенцев? А потом, по мере того как страсти разгорались, вещи начали называть своими именами. Все академики были живы еще, но ораторши говорили: «Вдовы, вдовы, вдовы». И никого это не пугало.
Иосиф Абгарович слегка сутуловат. Огромная седая борода. Огненные глаза.
30 января
Огненные глаза. Одет небрежно, что, впрочем, у академиков и ученых в обычае. Люди, работавшие с ним, вспоминают эти годы с ужасом: трудно объяснить его отношение к тебе на сегодняшний день, и когда произойдет взрыв, угадать нельзя. Он из людей, которым власть необходима органически, без нее им и жизнь не в жизнь. За годы работы своей в Эрмитаже он, словно настоящий завоеватель, распространил власть свою на все залы Зимнего дворца, забрав покои (так называемые исторические комнаты – личные апартаменты царей) и Музей революции. Когда началась война, то он с удивительной быстротой и отчетливостью эвакуировал весь музей – все у него было подготовлено. Славилось его умение выискивать и приобретать картины, пополнять эрмитажные коллекции… Видел, как на премьерах, на торжественных заседаниях появлялся спокойно, по-хозяйски академик Орбели, с большой своей бородищей, с академической шапочкой на редеющих волосах. В Комарове узнал я его поближе. Я сторонюсь людей властных, умеющих раскаляться добела чистой и беспричинной ненавистью. И я особенно остерегаюсь сановных людей. Не чиновников, а знатных людей. Однако вышло так, что стали мы иной раз встречаться. И отчасти потому, что я детский писатель, а Иосиф Абгарович страстно, не меньше, чем Тотя, а может быть, и отчаянней, любит сына. И когда тот пошел в школу, академик вошел в родительский совет. И ходил вместе с мальчиком знакомиться к Бианки, когда Виталий жил в Доме творчества. Итак, мы стали иной раз встречаться, и я разглядывал Иосифа Абгаровича с глубоким любопытством. Я, болея, сомневаюсь и, радуясь, сомневаюсь, имею ли я на это право.
31 января
Уверенность в законности и даже обязательности собственных чувств у него доходила до живописности. Были чувства эти сплошь отрицательные. Точки приложения – бесконечно разнообразные. Однажды, например, говорил он с ненавистью о молодой луне. В молодости работал он где-то на раскопках. И в небе в те дни, когда у Орбели были очень тяжелые переживания, – стоял точно такой серп. И Орбели возненавидел луну – правда, только в этой фазе. От силы его чувств пострадал однажды целый коллектив. В Москве собирались пересмотреть зарплату эрмитажных работников. Сильно увеличить ее, как только что увеличили в академических театрах. Увидев штатное расписание и новую смету, Орбели обнаружил, что какие-то особо и безумно ненавидимые им сотрудники будут получать более двух тысяч в месяц. И он задержал утверждение нового порядка зарплаты. И весь коллектив пал жертвой его ненависти к двум людям. Вскоре после того, как Иосиф Абгарович придержал увеличение зарплаты, его сняли с директорства. А новый не поднимал этого вопроса, так все и осталось, и два ненавистных сотрудника, а с ними и весь коллектив остались при старой зарплате. Снят с работы Орбели был по причинам стихийного порядка, с его личностью не связанным. Тут я особенно часто встречал его в Комарове – времени-то у него прибавилось. И я оценил его главное и основное свойство – талантливость. Все, что я рассказывал, – мелкие подробности. Пена, брызги, грохот, летят доски – разбило корабль, – все это только признаки моря. Да, море имелось в наличии. И со всей своей стихийностью и чудачествами Орбели вызывал уважение.
Правда, маленький Саша Козинцев, увидев его огромную бороду, разражался каждый раз горьким плачем. Однажды его уговорами и приказаниями заставили поздороваться с Иосифом Абгаровичем. Но едва тот ушел, как мальчик повалился на песок, рыдая. И повторял: «Мама, ну разве он не ужасный!»
12 февраля
Следующая фамилия уж очень трудна для описания. Ольга Берггольц. Познакомился я с ней году в 29-м, но только внешне. Потом, в тридцатых годах, – поближе, и только в войну и после перешли мы на ты. Говорить о ней, как она того заслуживает, не могу. Уж очень трагическая это жизнь. Воистину не щадила она себя… Она – поэт. Вот этими жалкими словами я и отделаюсь. Я не отошел от нее настолько, чтобы разглядеть. Но она – самое близкое к искусству существо из всех. Не щадит себя. Вот и все, что могу я из себя выдавить.
А вот Софья Аньоловна Богданович – другое дело. Теперь это мать двух взрослых дочерей. Одна уже учится в медицинском институте. А когда мы познакомились, ее рассеянность, которая теперь кажется вызванной хозяйственными заботами, представлялась таинственной. Ее светлые глаза смотрели словно бы внутрь себя.
13 февраля
Словно сама она не может никак понять, куда ее влечет. И говорила она, словно бы запинаясь, небыстро. Мне казалась она и привлекательной, и чем-то пугала. На руке у нее были красные огромные родимые пятна, словно помечена была она, – а какой силой? Правда, отца ее звали Ангел. Ангел Иванович. И мысли подобного рода приходили тридцать почти лет тому назад, а не сейчас, когда встречаю я на лестнице невысокую, озабоченную, пожилую женщину с авоськой в отмеченной красными знаками руке. Около тридцати – двадцать восемь – лет назад встречался я часто и с матерью Софьи Аньоловны Татьяной Александровной[432] . Я с майкопским уважением смотрел на последнюю представительницу редакции «Русского богатства»[433] . В соловьевской столовой, в книжном шкафу, вделанном в стену, хранились по годам комплекты журнала, частью переплетенные, частью – за последние годы – в голубоватой обложке, как пришли. Но разрезаны были все страницы. Старшие читали журнал с полным доверием и монастырской своей добросовестностью. Воспитывалась Татьяна Александровна у самого Анненского, редактора журнала, если я не путаю. Короленко был другом ее. Он часто вспоминал, что Татьяна Александровна, еще девочка в те дни, отказалась пойти на елку, узнав, что он будет читать «Сон Макара»[434] у Анненских. На Татьяне Александровне словно проба стояла, подтверждающая, что она создана из того же драгоценного вещества, как ее товарищи по журналу. Ее общественная работа была и в самом деле работой, а не имитацией. А разговаривать с ней было чистым наслаждением. Однажды увидел я у нее альбом, еще Анненских, кажется, и понял, что шестидесятые годы не литературное понятие, а существовали действительно. Я увидел фотографии студентов в пледах, и стриженых курсисток, и бородатых стариков, покорно сидящих среди бутафорских пейзажей тогдашних фотографий. И о всех она рассказывала.
14 февраля
И простота, с которой все это существовало, и уверенность в том, что оно и есть настоящее, меня ужасно трогали. И вместе с тем угадывал я среди этих бородатых мужчин и стриженых девиц таких, которым это органично, и таких, которые идут за временем. Приспособленцев. По специальности была Татьяна Александровна историк. Она писала в те дни, когда мы познакомились, исторические книжки для детей («Соль Вычегодская», «Ученик наборного художества») и возглавляла детскую секцию старого, дореформенного Союза писателей. И когда в 29-м или 30 году появилась в «Литературной газете» статья, нападающая на Маршака и на всю ленинградскую детскую литературу[435], вся тогдашняя секция во главе с Татьяной Александровной яростно выступила в бой за Самуила Яковлевича. Вот в те дни и увидел я впервые Софью Аньоловну. Она написала рассказ о ручном ежике, по своим детским воспоминаниям. Ангел Иванович, по наивности и простоте автора, написался отцом столь строгим и вспыльчивым, что мы догадались, за что прозвали его наборщики «Черт Иванович». Да, за формой его времени, за бородатыми масками жило и бушевало все то же неистребимое разнообразие человеческих отношений и неизменность, или едва заметная изменяемость, страстей. Необыкновенно трогательно выглядела дружба Татьяны Александровны и Тарле[436] . Он постоянно встречался мне на лестнице в нашей надстройке. А сама Татьяна Александровна однажды сказала: «Евгений Викторович рассердится, когда узнает, что я выходила сегодня. С тех пор, как вывихнула я руку, он требует, чтобы я сидела дома в гололедицу». И дружба эта продолжалась до самой смерти ее, он все заботился о ней во время войны. А на вечере в ее память столько говорил о ее патриотизме, словно речь шла о ее однофамильце генерале Богдановиче. Вот как изменились формы со времен «Русского богатства». Но человеческие отношения остались трогательными.
22 февраля
Дальше идет снова фамилия человека, которого уже нет на свете, – это Бонди Алексей Михайлович. Был он одарен богато и во многих областях. Хорошо писал, играл на виолончели, рисовал шаржи. Но считал он себя профессиональным актером, хоть в этой области был слабее всего. Очевидно, вся его душа была приспособлена к этому именно делу. Конституция его. Если не шла его пьеса, он огорчался. Но если не получал роль, о которой мечтал, то впадал в особое актерское отчаянье, доходящее до умопомрачения. Коренастый, с грудной клеткой сильно развитой, с большим ртом, крупной головой, длинными руками, спокойной манерой речи… как только дело доходит до умерших, мне еще труднее оживить их. Все верно, и все не так. Сказал: коренастый, с широкой грудной клеткой, – и сразу рисуется силач. А у него фигура была вполне интеллигентская. Был он интеллигентен глубоко и начисто лишен дара обижать. Даже впадая в священную актерскую ярость, не обижал, но обижался свыше всякой меры. Говоря о нем, невозможно умолчать о Нурм. Его жене. Это могучего дарования актриса. Ее прибалтийское, чухонское лицо делается прекрасным, когда играет Нурм на сцене. Один из признаков таланта. Но увы. Нет темперамента актерского, нет силы дарования в чистом виде. В особенности у актрис. И она столь же темпераментно обижается на жизнь, на погоду, на друзей, как играет на сцене. А Нурм еще имела основание обижаться. Она играла удивительно. Глядя на нее, понимал я, как за одну фразу, даже одно слово, устраивали артистам овации. И ей удивительно не везло при этом. И она сердилась. Могуче. Темпераментно. Отлично играть и не иметь успеха, подобающего успеха, не получать подходящих ролей – поди-ка перенеси. Впрочем я, дойдя до необходимости рассказывать о Бонди и связанный его смертью, теряюсь и сбиваюсь. Начнем еще раз.
23 февраля
Попробую распутать тот клубок, что возникал, едва я встречал Бонди или слышал его имя. Легко всплывал он в сознании и был настолько понятен, что я не распутывал его. Состоял клубок из уважения и неуважения, из вещей определимых и неопределимых. Уважал я его за то, что был он интеллигентен. И за это же и не уважал. У него за этим ощущалась вера в некоторые нормы. Но досталась она ему по наследству. Вера. И нормы тоже. Я предпочитал опыт, добытый лично. И некоторую беспощадность при исследовании веры и установлении норм. Пусть даже доходящую до юродства, как у Хармса, да и у всех них. В нем ощущалась некоторая слабость – вот главная причина того, что в клубке связанных с ним чувств и представлений присутствовала доля неуважения. А кроме того в театре ужасно о нем сплетничали. А от этого всегда что-нибудь остается. Его там за что-то не любили. И в самом деле, уж больно он был сложен. По сути – актер, а на деле – писатель. И не было в нем простоты. Так было до Сталинабада. В Сталинабаде познакомились мы гораздо ближе, так близко, как случается в эвакуации. И оказался он проще, чем я ощущал до сих пор. Мы вместе ходили по гостям. Раз в неделю, образовалась традиция. И он читал записки Русакова – вымышленный персонаж, придуманный им. Акимов чувствовал себя в Сталинабаде одиноким. Он вытащил Бонди из Театра сатиры, где тот до сих пор служил. (До войны работал он в Комедии.) И Бонди, оставивши там жену, послушно приехал в Сталинабад. Зажил степенно, в правительственном доме европейской стройки, в том же, где Акимов. Ходил на рынок, готовил сам себе завтраки. Говорил, что мечта его – дойти до такой степени богатства, чтобы жарить свиное сало на сливочном масле. А пока жили небогато. Ходили на рынок продавать. То нам выдадут накомарники – марлевые одеяния, и мы идем их продавать на рынок, то выдадут изюм. Этот последний, впрочем, мы не продавали.
2 марта
В Москве получилось так, что встречались мы редко. Бонди написал там свою обработку «Льва Гурыча Синичкина» и много беспокоился, что никто не понимает, что сделал он, в сущности, самостоятельную пьесу[437] . А так оно и было. И я писал, как завлит, разъяснения по этому поводу в Управление авторских прав. И в конце концов нужные инстанции признали «Льва Гурыча» пьесой самостоятельной. И спектакль очень удался, и вот здесь был я поражен удивительной игрой Нурм[438] . У нее каждое слово было словно золотое. И словно колдовство – никто не понимал этого. То есть – недостаточное количество людей. Словно колдовство или проклятье не пускало ни Бонди, ни Нурм дальше известности в узком кругу. Написал он комедию, очень хорошую, но ее не пропустили. Написал пьесу для Образцова «Обыкновенный концерт» – и тут исключительный успех спектакля привел к тому, что автора просто забыли[439] . И он обижался, но так как никого при этом не обижал, то считались с его полными достоинства протестами мало. Да в случае с Образцовым и протестовать-то не приходилось. За все это время я был у Бонди в гостях только однажды. С Акимовым… И театр переехал в Ленинград. И мы снова здесь подружились. Однажды у нас сыграли они, сидя за чайным столом, скетч, написанный Бонди. Захотелось им проверить, смешной он или нет. И я еще раз удивился – как хорошеет Нурм, играя. Тут никакого грима не надо. Словно освещается лицо. Вот уж – божественная сила, творящая чудеса.
3 марта
Но я забыл рассказать о среде, о Ленинграде тех дней, 45–47 года. Стену нашей квартиры, пробитую снарядом в феврале 42 года, заделали, квартиру отремонтировали, и мы поселились на старом месте… Письменские[440] жили в помещении Института усовершенствования учителей. Внизу, как войдешь, висело на дверце объявление: «Гардероб. Раздеваться обязательно». Но, открыв дверцу, видел ты бочки с цементом, доски и козлы, забрызганные известью. Город начинал, только начинал оживать. Нас преследовало смутное ощущение, что он, подурневший, оглушенный, полуослепший, – еще и отравлен. Чем? Трупами, что недавно валялись на улицах, на площадках лестниц? Горем? Во всяком случае, приезжие заболевали тут фурункулезом какой-то особо затяжной формы. Странное чувство испытали мы, возвращаясь от Письменских в девять часов вечера. Июль. Совсем светло. Мы идем по Чернышеву переулку, переходим Фонтанку по Чернышеву мосту, потом переулком мимо Апраксина двора. Потом мимо Гостиного выходим на канал Грибоедова. И ни одного человека не встретили мы по пути. Словно шли по мертвому городу. Светло как днем, а пустынно – как не бывало в этих местах даже глубокой ночью. И впечатление мертвенности усиливали слепые окна и забитые витрины магазинов. Вся почти труппа Театра комедии жила в гостинице, в «Астории» или в «Октябрьской», – все так или иначе потеряли свои квартиры. Родной город принимал своих блудных поневоле сынов, как и подобает существу больному, оглушенному, – ему было не до нас. Бонди и Нурм поселились в «Астории». В телефонной книжке записан этот их номер.
8 марта
Дальше в телефонной книжке идет фамилия Бианки. Его я знаю около тридцати лет.
9 марта
Вот я вижу себя молодым и легким – не легче, чем теперь, впрочем. Я говорю о весе. Только что выбрался я из болота на дорожку и до того был счастлив по этому поводу, что никуда и не шел, а стоял на месте. Обсыхал. И, как я вижу теперь, всех и уважал и не уважал. Радовался каждому новому знакомству в новой моей среде – и на каком-то внутреннем беспощадном измерителе отмечал безжалостно все, что смущало меня в них, в новых знакомых. Я не глядел на показатель этого внутреннего измерителя, но помнил всегда, что он есть. И при неуверенности, также в глубине, – был крайне беспричинно уверен в себе. Скромность моя поддерживалась только одной мыслью, что никто ведь не видит еще, какой я молодец. Бианки я увидел в первый раз у Маршака. Внутренний измеритель отметил сурово, что у этого молодого человека маленькая голова и что-то птичье в круглых черных глазах. Я вежливо поклонился незнакомцу. Он ответил мне отчужденно. «Конечно, он не знает, что я за молодец, но все же надо было бы почтительнее», – подумал я. Но скоро, при дальнейших встречах, первое впечатление рассеялось. Увидел я, что Бианки здоров, красив, прост до наивности. Звание писателя им тогда еще не ощущалось, как теперь, как бы некое призвание. Возник он тогда с первым вариантом «Лесной газеты». И выносил бесконечные переделки как мужчина, натуралист и охотник. Не образовалось у него тормозов, как у Пантелеева и Будогоской[441] . Прост был и здоров. Однажды он тяжело меня обидел. Я стоял в редакции у стола, перебирал рукописи. Вдруг с хохотом и гоготом, с беспричинным безумным оживлением, что, бывало, нападало на всех нас тогда, вбежали Бианки и Курдов. И Бианки схватил меня за ноги, перевернул вверх ногами и с хохотом держал так, не давая вывернуться. Как я обиделся! Долго не мог прийти в себя. Я не был слаб физически, но тут сплоховал. Обидно!
10 марта
А главное – сила показалась мне грубой и недоступной мне по своим границам. Бессмысленное, похожее не то на зависть, не то на ревность неведомо к чему, чувство. Не сразу оно прошло. Постепенно я привык и даже привязался к Бианки. Он оказался в том отряде хороших знакомых, у которых не бываешь, которых встречаешь редко, но всегда с открытой душой. Он был прост и чист.
18 марта
Следующая запись в телефонной книжке – Васильев. Это относится к Сергею Дмитриевичу Васильеву. Когда я записывал этот телефон, был жив и Георгий. Братья Васильевы, постановщики «Чапаева»[442] . На самом деле братьями они не были. Так писалось. Как братья Тур, которые даже и не однофамильцы. Сергей Васильев высок. Голова маленькая. Лицо аскетическое – у него язва желудка. Бородка. Он хороший человек, на самом деле хороший человек, того типа, что не слишком охотно идут на работу административного порядка. Но судьба выдвинула его так далеко вперед, что иной раз ему приходится соглашаться. И тут он остается вполне хорошим человеком. Как режиссер он талантлив. Но ему, видимо, не хватает покойного соавтора. Тот, замкнутый, молчаливый и подтянутый, чем-то уравновешивал мерцающее и чуть дымящее добродушие Сергея. Во всяком случае, после единственной, ошеломляющей победы «Чапаева» больше особых удач не было у них. И у него одного.
25 марта
Прерываю рассказ «Телефонная книжка», чтобы рассказать, что делается со мной. Я почти кончил сценарий о Дон Кихоте. Остался герцогский двор и прочее: губернаторство Санчо, турнир, победа Карраско, смерть. И я читал отрывки в Доме искусств и в университете.
27 марта
Последняя фамилия на букву «В» – Венгеров. Это очень тихий человек, небольшой, с лицом не по фигуре правильным, но тоже нескладным. Не вполне живым. Напоминающим валета. Ему сильно за тридцать. Молодой режиссер. Когда я занимался мучительнейшим делом, на которое потратил два года с ничтожнейшим результатом – переделывал роман Ликстанова в сценарий и пьесу[443], – появился у нас на даче Венгеров. Среди киношников не видел я человека, столь беззащитного и тихого. И на студии ощущали в нем существо другой породы. И все рычали на него, оскалив зубы, и если не кусали, то потому лишь, что он не отлаивался. Скромный, тихий, не вполне заполняя коричневый свой костюм, широкий, коротконогий и тощий, – появлялся он и кротко выслушивал, знакомился с результатами моих мучений. И помалкивал. Не возражал. Он только что снял благополучно какую-то пьесу, но ему не засчитывали это[444] . Только начальство, а не общественное мнение. В общем, он, несмотря на кротость свою и хорошее ко мне отношение, сбежал, улизнул от моего сценария. И поставил фильм «Кортик» и опять имел успех[445] . Во время съезда встретил я его вдруг в ресторане «Москва». Он сидел, нескладный, тощий, с плечами одного сорта, плоской грудью – другого, ужасно некомплектный, с лицом валета, – но я обрадовался, увидев его. Вся нескладность его носила отпечаток порядочности. И я, поговорив с ним, утешился.
29 марта
Гернет Нина Владимировна возникла в суете редакций «Чижа» и «Ежа» – не могу вспомнить когда. Вероятно, в конце двадцатых, а то и в начале тридцатых годов, а то и ближе к середине. Нет, раньше. Я помню, что маленькая, четырехлетняя Наташа заставляла меня бесконечное количество раз перечитывать повесть Гернет о лагере октябрят[446] . Книжка вышла давно, сильно потрепалась – значит, уже вышла в свет в начале тридцатых. Приняли мы Гернет, как всех в то время, как самих себя, – весело, но не придавая значения. И скоро стала она составной частью той пестрой и шумной толпы художников и писателей, что собиралась каждый день вокруг детских журналов. Мы и знали и не знали друг друга. Каждый был до того занят решением своей судьбы, достаточно сложной, что остальных воспринимал как фон. Поглядывая на них между делом. Постольку – поскольку. К работе товарищей в те годы относились мы недоверчиво и строго. Требования Маршака – с одной стороны и Житкова – с другой еще были в полной силе. Поэтому на книжки Гернет, как, впрочем, и на свои, поглядывал я без уважения. Разглядел я, на ходу, что человек она в общежитии не трудный. Что в свои способности верит. Что соединяются в ней избалованность прошлых лет и воспитанность особая, заставляющая ее высоко держать голову и все острить, – воспитанность, заработанная горем и неудачами.
4 апреля
Далее идет Гарин Эраст Павлович. Тут надо мне будет собраться с силами. Тут я не знаю, справлюсь ли. Это фигура! Легкий, тощий, непородистый, с кирпичным румянцем, изумленными глазами.
5 апреля
С изумленными глазами, с одной и той же интонацией всегда и на сцене и в жизни, с одной и той же повадкой и в двадцатых годах и сегодня. Никто не скажет, что он старик или пожилой человек, – все как было. И кажется, что признаки возраста у него – не считаются. И всегда он в состоянии изумленном. Над землей… У него есть подлинные признаки гениальности: неизменяемость. Он не поддается влияниям. Он есть то, что он есть. Самое однообразие его не признак ограниченности, а того, что он однолюб. Каким кристаллизовался, таким и остался. Он русский человек до самого донышка, недаром он из Рязани. Он не какой-нибудь там жрец искусства. Разговоры насчет heilige Ernst просто нелепы в его присутствии. Он – юродивый, сектант, старовер, изувер в своей церкви. Он проповедует всей своей жизнью. И святость веры, и позор лицемерия утверждает непородистая, приказчицкая его фигура с острым и вместе вздернутым носом и изумленными глазами. Чем выше его вдохновение, тем ближе к земле его язык, а на вершинах изумления – кроет он матом без всякого удержу. Как многие сектанты его вида, строг к людям. И восторжен. Когда ставил он пьесу Юры Германа «Сын народа», отрицал он резко меня[447] . Теперь я у него в мастерах. Эти страстные поиски людей не для себя, для церкви, привлекательны, когда числит он тебя в мастерах. А когда он тебя отрицает, замечаешь особую его деспотичность. Родовую. Про него нельзя, собственно говоря, рассказывать, не сказав ничего о Хесе, тощей, словно великомученица. С подозрительностью и мнительностью, порожденной первым ее театром[448] . С великодушием и добротой. Она дрожит над Эрастом, мучается.
8 апреля
Наташа Грекова – существо сложное, нежное и отравленное, словно принцесса какая-нибудь. Дом, где она живет с детства, – на углу улицы Достоевского и Кузнечного переулка. Нет, второй или третий от угла. В самом рыночном, суетливом, с лотками, пьяными инвалидами месте. А входишь в подъезд – попадаешь в мир, которого нет. И это тревожит, как будто вошел в комнату, где лежит покойник. Слишком широкие сени.
Выложенная кафелем надпись «Добро пожаловать» по-латыни или французски: все рассчитано было на жильцов, которые уже не живут на свете. Единственная квартира уцелела тут с доисторических времен и при этом мало изменилась и сохранила прежних обитателей – квартира в бельэтаже, где проживал много-много лет Иван Иванович Греков. Был он широко известный профессор-хирург. Славился в литературных кругах как человек своеобразный, резко выраженного характера. Дружил с его семейством и с ним особенно – Федин, но после романа «Братья» разошлись. Показалось Грековым, что семья их изображена в романе, и при этом не так, как следует. С Наташей мы познакомились в Коктебеле. Тоненькая, с лицом в самую меру длинным, как полагается девушкам этой породы, черные волосы, светлые глаза, едва заметный пушок на верхней губе, крошечный рот. Угадываешь сразу, что она из хорошей семьи. Но тут же чувствуешь ее обреченность. Или отравленность, как я уже говорил. Каким ядом? А тем, что одинаково губит детей академиков, генералов, королей. Невидимые оранжерейные яды. Итак, познакомились мы с Наташей в Коктебеле и осенью 32 года вошли в дом на улице Достоевского. Двери открыл нам Иван Иванович. Как всегда бывает в огромных семействах, на звонок долго никто не шел, каждый надеялся на другого, пока, рассердившись, сам профессор не отпер нам двери.
9 апреля
Мы увидели большую темную переднюю с зеркалом, столиком, картиной в овальной рамке, такой же темной, как стены, стулья с высокими спинками, пол с ковром. Иван Иванович показался мне старым, старше, чем ждал я по рассказам. Стариковская посадка белой головы, сутулость, седые усы вперед, прямо на тебя, словно бы для того, чтобы отстранить, бородка. Глаза небольшие, строгие, по-стариковски беловатые. Но все же, не глядя на возраст, на белизну сильно поредевших волос, он существовал, уж он-то был весь в настоящем, не в пример дому и передней, где, как я узнал со временем, полагалось ждать пациентам. Иван Иванович считался одним из первых в стране хирургов. И завоевана была эта слава не случайно. Сразу угадывал ты человека недюжинного, нашедшего себя. И по-русски не раздувающего этого обстоятельства. Он, например, терпеть не мог, когда называли его профессором. Хотя имел это звание. Он знал себе цену. Но знал и цену славе. Не хотел ей верить. Он был серьезный человек, вот в чем дело. И он существовал. А у вещей и у стен вокруг вид был неуверенный, словно ждали они с минуты на минуту, что попросят их присоединиться к их племени, ушедшему на тот свет много лет назад. По длинному коридору прошли мы в огромную и тоже не уверенную в праве своем на существование Наташину комнату. Принцесса тоже была не уверена в себе, не уверена в нас и все поглядывала на отца – как мы приняты. А тот все отодвигал, отстранял меня усищами, чтобы отодвинуть подальше и разглядеть. Но вскоре отношения стали много проще. Он обожал Наташу и поэтому скоро признал нас. Им я восхищался, а Наташу обижал. Ее нежность, уязвимость, особое, вечное беспокойство по поводу того, как относятся к ней друзья, рассеянность, слабость были мне очень уж знакомы по мне самому. И я вечно придирался к ней, был попросту жесток. Но у Грековых любил бывать. Признаки времени, двух времен, выступали там.
10 апреля
И меня трогала приязнь человека, в этом направлении не слишком щедрого, во всяком случае разборчивого. По мере того как открывалась нам комната за комнатой – все отчетливее выступала призрачность обстановки. Она умерла, но не сдавалась. В столовой и комнате хозяйки висели картины, все небольшие, в золотых рамках. На рамках – таблички с фамилиями художников. Когда-то были они, вероятно, ценимы, эти художники, почему-то все больше французы, – но умерли и вымерли и ценители, и они сами. А главное – умерла и школа. И страшновато было, когда ты вдруг понимал, что всех этих покойников принимают за живых. А они умерли настолько недавно, что запах тления еще носился вокруг них. Самая большая комната – кабинет Ивана Ивановича был темноват по тонам. И носил подчеркнуто полемическо-русский характер: кресло, письменный прибор. И это очень, очень русскому Ивану Ивановичу не слишком шло. Как не нужно ему было звание профессора. Национальность угадывалась по признакам более драгоценным, как и его мастерство.
11 апреля
Следующей за столовой была комната матери семейства Елены Афанасьевны. Женщина высокая, в меру полная, скорее осанистая, с очень ясными следами замечательной красоты. Она была членом Союза писателей. По старому, еще дореволюционному, уставу, автор, выпустивший в свет книгу, имел право войти в Союз. У Елены Афанасьевны вышла некогда книга рассказов[449] . Каких? Кто знает. Дома о них не говорилось. И у нее в семейной жизни не все ладилось. И у нее выражение лица было обиженным. И кроме того – ошеломленным. Она все откидывала голову гордо и при этом глядела с таким выражением, будто не совсем ясно понимает, что ей говорят. Где-то в недрах квартиры обитала древняя, совсем белая, немка-гувернантка, вырастившая грековских детей. Двигалась она медленно, плавно. Ведала хозяйством. Подходила к телефону и вместо «я слушаю», говорила «я сюсю».
12 апреля
Однажды за столом, задетая какой-то невинной шуткой Ивана Ивановича, она разразилась длинной тирадой. Она сообщила нам, что в этом доме ее уже ничто не может удивить. Однажды она даже встретила в коридоре церковь. И молча поклонилась ей и прошла дальше. Иван Иванович отнесся к этому заявлению весело, а Елена Афанасьевна заподозрила тут какое-то неуважение к ней. Беспомощно сказала: «Иван Иванович – ну что это она!» – и гордо откинула назад голову. Но ошеломленное выражение сняло всю надменность позы. Гости у Грековых бывали трех видов: ученики и коллеги Ивана Ивановича, знакомые дочерей и, наконец, самый близкий к призрачной, засидевшейся посмертно обстановке их – круг хозяйки дома. Тут бывал некогда известный актер и автор пьес, шедших в «Кривом зеркале», – Урванцов[450] . Бывали вдовы некогда известных художников. Бывала известная поэтесса Изабелла Гриневская, страшная, рослая, очень старая, с лицом, сохранившим какую-то тень миловидности. Выражением своим, несколько ошеломленным, напоминала Елену Афанасьевну. Мне казалось, что вызвано выражение возрастом – никак не может поэтесса к нему привыкнуть. Бывал некто, которого называли пушкинистом, – человек вечно пьяный, вечно смеющийся, с заплетающимся языком. Он, этот пушкинист, заявил однажды, что няня Пушкина пережила его на много лет. А на возражение ответил: «Ну, не знаю, только я сам видел на кладбище ее могилу». Знакомые Ивана Ивановича были много интересней. Среди них самым любопытным показался мне Сперанский. Квадратный солдатский затылок, умышленная грубость речи. Тогда только что заговорили о его блокаде[451] . Шишков[452] спросил, в чем смысл этого открытия. И Сперанский ответил резко: «Смерти боитесь? Нет уж, бессмертия не дождетесь». Но, почувствовав, что добряк Шишков только удивился его грубости, сразу смягчился и стал говорить.
13 апреля
Говорил убедительно и ясно. Медицина – старейшая из наук, а до сих пор не имеет теории. Все чистейшая эмпирика. Мы пробуем создать эту теорию – и так далее. И это был человек русский, очень русский. Он не в силах был начать говорить, не разрушив, не наказав свирепо половины, по крайней мере, своих предшественников. Да нет – что я говорю, – всех, за двумя-тремя исключениями. И жил он свирепо, – все нападал, и поучал, и казнил. У Ивана Ивановича в Обуховской больнице ставил он опыты свои по блокаде, и на этот период времени был у него Иван Иванович – в исключениях. Он признавал блокаду – значит, принадлежал к той же церкви.
14 апреля
Бывал у Грековых терапевт, профессор Горшков, тоже усатый, с бородкой, белый, тоже с общим ощущением талантливости, но менее характерный, более мягкий, чем Иван Иванович. Бывали его ученики, и среди них Петя Сиповский… Остальных молодых врачей не запомнил, бывали они редко, от случая к случаю. Однажды Иван Иванович подмигнул на одного из них, сидящего скромно за стаканом чая. Подмигнул глазом и усом добродушно и удовлетворенно и сообщил вполголоса: «Он сегодня сделал первую операцию на сердце». В обыкновенные дни, когда не было гостей, Иван Иванович выходил к столу и выносил графинчик с петухом внутри. До самого гребня был покрыт петух разведенным спиртом. Был с нами Иван Иванович ласков и внимателен. Однажды – в тот день почему-то ужинали мы у Наташи в комнате – он почистил собственноручно кильки для Кати. И мы удивились ловкости и быстроте, с которой совершили это его золотые руки. О нем говорил кое-кто из хирургов весело, а кое-кто с раздражением, что моет он руки с меньшим педантизмом и меньше времени, чем положено. А он возражал на это, что для асептики, кроме чистоты, нужна быстрота. Сколько времени открыта полость – дело первейшей важности. И он разработал технику какой-то операции желудка, сведя ее к двадцати с чем-то минутам вместо часа с чем-то. Впрочем, вероятно, я не точно говорю. Так запомнилось. Две операции, кажется, разработал он. В те дни, когда у Ивана Ивановича были гости званые, занят был весь огромный стол. Однажды Елена Афанасьевна распустила волосы и все с тем же ошеломленным выражением еще красивого лица продекламировала гостям «Письмо женщины» Апухтина. И все хлопали. А поэтесса Изабелла Гриневская сказала: «Я ненавидела это стихотворение. Женщина не должна так писать мужчине. Унижать себя. Но вы примирили меня с ним вашим исполнением. Браво!»
15 апреля
Мы, несмотря на вечную войну, уже воцарившуюся в детской ленинградской литературе, жили, в сущности, еще довольно тесной семьей. За нами потянулись к Грековым Олейников и Хармс – еще пестрее стало в грековском доме. Олейников попал в большой день, когда собрались гости Елены Афанасьевны во всей своей силе. Призраки, но при этом из мяса, костей и крови, что делало их куда более пугающими, чем классические полупрозрачные. Олейников, со свойственной ему впечатлительностью, даже рассердился на меня, что не предупредил я его о том, что ждет его в доме с выложенной кафелем надписью «Добро пожаловать» по-латыни или по-французски. Точнее, он заподозрил, что я не заметил всей мрачности этого зрелища, и обрушился на меня со всей язвительностью своей.
Но вскоре он притерпелся. Особенно ему пришелся по характеру Иван Иванович. Они разговаривали охотно друг с другом. Однажды Иван Иванович спросил Олейникова: «Какая школа в медицине, по-вашему, лучше, немецкая или французская?» «Желая ему сделать приятное, я ответил: немецкая, – рассказывал потом Олейников. – Мне почему-то показалось, что она должна ему нравиться больше». А он даже рассердился на меня! Оказывается, немцы считают, что боль вреда не приносит. А французы – что она развивает в организме яды, и борются с нею. Не боятся наркотиков. И они правы!» Нравился Ивану Ивановичу и Хармс. Так и шли дни за днями. А дела у Наташи Грековой не ладились. Работала она у профессора Лондона по биохимии, но все опаздывала в лабораторию. Печально и неуверенно своим высоким, чуть дрожащим голосом жаловалась она, что не подняться ей утром! Кто-то из физиологов советует, проснувшись, сделать несколько резких движений ногами. Это усиливает кровообращение, вызывает бодрость. Но у нее не хватает энергии и на эти несколько движений.
16 апреля
Бедная царевна понимала, что надо менять жизнь. То есть менять себя, – а как? Легко сказать. В 34 году была премьера «Клада»[453] . Я позвал Ивана Ивановича с Наташей. На генеральную репетицию. В те дни шел в ТЮЗе ремонт фойе. Зрителей задержали перед началом репетиции на лестнице. Я вышел из-за кулис и ужаснулся. В толпе стоял у перил Иван Иванович с лицом серым, ссутулившись больше обычного, с мертвенным взглядом. Возле Наташа, встревоженная и беспомощная. «Мне бы сесть, голубчик, только бы сесть!» Я бросился к Брянцеву, и мы проводили Ивана Ивановича в кабинет директора. Летом я встретил в Сестрорецке профессора Горшкова с дочерьми. И он отвел меня в сторону и попросил, чтобы объяснил я как-нибудь семье Ивана Ивановича, как тяжело тот болен. Не хотят они этого понять, а он все время на волосок от гибели. За ним надо смотреть.
17 апреля
Но никто не хотел верить, что Иван Иванович болен так тяжело. Не верил этому и сам он. Иной раз исчезал он, скрывался от гостей в своей спальне. Лежал и читал «Историю» Соловьева[454], но чаще оставался среди гостей. Я очень любил неторопливые, негромкие его рассказы. Так, однажды рассказал он, как поступил сначала на филологический Московского университета. И пробыл там год. И вот пришло время экзаменов. И греческий язык сдавал он в темном, полуподвальном помещении. Холодно, сыро. «И напала на меня, голубчик, тоска. Выхожу – просто идти не могу от тоски. Что же – это, значит, на всю жизнь? В гимназии греческий, тут греческий. Не могу дышать, взял извозчика. Приехал домой. Измерил температуру – сорок! Воспаление легких. Тяжелое. Увезли меня после болезни на Дон. А когда вернулся – не могу учиться на филологическом. Опротивел он мне. И поступил я на медицинский. И на первой операции, которую увидел, потерял сознание». Рассказывал с удовольствием он о разных течениях по обезболиванию и как пострадал он сам однажды на этой почве. Пришел в клинику с сильнейшей зубной болью и попросил выдернуть зуб. И молодой доцент взмолился: «Позвольте я сделаю это!» Три точки он определил, при вспрыскивании в которые наступало полное обезболивание. Иван Иванович согласился… После удаления зуба доцент спросил: «Ну как?» – «Больно было, голубчик!» – «Какой вы терпеливый человек! – сказал доцент с уважением. – Профессор такой-то по всему саду от меня бегал, а я за ним со щипцами». О своих успехах, о своих операциях – никогда ни слова не говорил Иван Иванович. А был он всегда и прежде всего в работе. В ее сути. Тут не потянет хвастать. Однажды сказал он дочери: «Никогда бы не согласился на операцию. Такая страшная встряска всего организма!» Он стоял перед самым делом с его трудностями и задачами, которые еще не решены.
18 апреля
Люди подобной породы, которым, на мой взгляд, цены нет, не то что лишены честолюбия. Но видя свое дело во всей сложности, они понимают всю относительность собственных успехов. Успех им приятен, но основные желания, их настоящая жизнь проходит в другой сфере. Наташа рассказывала, что когда он был еще молодым хирургом, то сделал очень сложную операцию какой-то женщине. Операцию ноги. И пациентка Ивана Ивановича, поправившись, ехала на пароходе, где познакомилась с Чеховым. И Чехов, узнав, какая была операция, сказал, что делал ее, несомненно, хороший хирург. Об этом рассказала Наташа, о других успехах и победах Ивана Ивановича – ученики и друзья, а он молчал о деле своем. Нет, о своем участии в деле. Был он человеком могучего самообладания. Обыкновенно врачи избегают лечить близких людей. Даже диагноз не решаются поставить. А Иван Иванович оперировал старшую дочь от первого брака. У той был рак груди. Спасти ее не было почти возможности. Один шанс из тысячи. Уж очень запущенный был случай. Никто не соглашался на операцию, а Иван Иванович не мог отказаться хотя бы от тени надежды. И провел операцию с обычным своим блеском. Но было уже поздно. Держался он всегда спокойно до строгости, отстраняя усищами и взглядом неугодного, но холоден не был. И была у него обостренная впечатлительность, отзывчивость, доходящая до слез, что смешит людей без памяти и воображения. Задевшее его слово или представление, не снимая его суровости, вызывало, как это бывает со старыми людьми с душой, разработанной до глубины и вполне до глубины живой, – слезы на глазах. Так вот он и жил, окруженный людьми, которых сам избаловал донельзя и за которых болел теперь душой, подчиняясь колее, которую сам создал. Щедро отдавая все, что зарабатывал.
А с Наташей мы всё ссорились. Я ненавидел в ней те силы, или, точнее, ту слабость, что знал и за собой. Но я раздражался. В ненависти есть некоторое уважение, а я все ругался. Безжалостно.
19 апреля
Однажды я имел жестокость сказать, что приду к ней в гости, только если Иван Иванович будет дома. И она по слабости и нежности своей пожаловалась отцу. Ей нужно было, чтобы боль прошла немедленно, сейчас же, чтобы ее утешили и погладили. По тем же душевным свойствам своим, не уходила она, когда я бранился, а оставалась у нас, искала немедленного утешения у Катерины Ивановны. Или приходила на другой день и поглядывала тревожно и внимательно, старалась понять, не перестал ли я учить ее, не понял ли, что надо ее сейчас же утешить. А в доме у них становилось все тревожнее, никто не хотел верить, что нависла угроза над темными его коридорами и просторными темными комнатами. В именины Ивана Ивановича – а может быть, произошло это в день его рождения? – собрались мы у них как ни в чем не бывало, а вместе с тем чувствуя, что этого не следовало бы делать. Уже с неделю Наташа через свою горечь чувствовала и холод и страх – понимала, как болен отец. Но сил отказаться от праздника не нашлось. Собрались мы все сначала в Наташиной комнате. Здесь мы с Олейниковым написали Ивану Ивановичу поздравительные стихи:
Я пришел вчера в больницу – С поврежденною рукой. Незнакомые мне лица Покачали головой. Закрутили, завязали Руку бедную мою. Положили в белом зале На какую-то скамью. Вдруг профессор в залу входит С острым ножиком в руке, Локтевую кость находит Лучевой невдалеке. Плечевую удаляет И, в руках ее вертя, Он берцовой заменяет, Улыбаясь и шутя. Молодец профессор Греков – Исцелитель человеков. Он умеет все исправить, Хирургии властелин! Честь имеем Вас поздравить – Со днем Ваших именин!Сначала не решались мы передать имениннику стихотворение, казалось нам, что слова «Молодец профессор Греков» звучат больно уж фамильярно, но Наташа сказала, что ничего, и пошла к отцу. Известно было, что чувствует он себя настолько плохо, что к гостям не выйдет. Скоро и меня потребовали к нему, и увидел я еще одну комнату.
20 апреля
В те годы странно было видеть, что работает человек в одной комнате, а спит в другой, но квартира Грековых была таинственно поместительна. Я до сих [пор] не уверен, что побывал во всех ее комнатах… Спальня Ивана Ивановича оказалась тесноватой, скромной.
Мужской. На одеяле лежал томик «Истории» Соловьева. Глядел на меня Иван Иванович одобрительно, глаза за густыми бровями весело поблескивали, усы не были нацелены на меня, а разошлись широко – он улыбался. Он остался очень доволен нашим стихотворением. «Какой-то процесс описан», – сказал Иван Иванович и усмехнулся. Понравились ему и строчки:
Он берцовой заменяет, Улыбаясь и шутя.«Да уж тут пошутишь», – сказал он весело.
Скоро мы услышали, что Ивану Ивановичу лучше. Однажды я увидел его днем на Владимирском у трамвайной остановки. Он одет был всегда не то что неряшливо, а без заботы об этой стороне своего быта. Заговорившись, не заметил, что отходит нужный ему номер, и большими шагами, почти бегом догнал вагон и вскочил на переднюю площадку. «Нет, он еще поживет», – подумал я. Через несколько дней пришли мы в гости к Ивану Ивановичу. И Хармс с нами. Иван Иванович появился в столовой веселый, обычная бледность исчезла. Я даже подумал, что он после ванны. Оказалось, что нет. «Как вы хорошо выглядите, Иванович», – сказал я. «Не знаю почему, голубчик! Может быть, потому, что я прямо с похорон хирурга?» Оказывается, пришел Иван Иванович с гражданской панихиды по Вредену. Там ему стало нехорошо, один из его учеников, молодой врач, увел его в какой-то из кабинетов клиники, усадил, и Иван Иванович отдышался и повеселел. И сказал: «Стыдно врачу признаваться, а ведь я не верю, что умру». Об этом случае узнали мы через несколько дней. Иван Иванович не рассказал домашним о своей дурноте. Был оживлен на редкость. Даже чуть возбужден.
21 апреля
Как бы праздничен. И вечер прошел весело. Наташа смеялась своим высоким, надтреснутым смехом. Хармс достал белые целлулоидные шарики, с которыми не расставался, и со своим обычным спокойным видом, словно ничего он особенного не делает, стал показывать фокусы. И это оценил Иван Иванович. Глаза его весело заблестели за густыми бровями, и дрогнули усы. Мы весело простились с ним. А на другой день прибежала к нам Ирина Сиповская и, едва успел я открыть ей дверь, сказала, что Иван Иванович умер. Что делать? Идти сейчас к Грековым? Но после такого страшного удара дом представлялся изменившимся, непонятным, разрушенным, как после взрыва. Сейчас там не до чужих. Ирина рассказала, что был Иван Иванович в Институте усовершенствования врачей. Шел по коридору под руку с приехавшим из Москвы Розановым и еще каким-то хирургом, фамилию которого забыл. Был он весел – обоих этих людей он очень любил. После заседания они собирались пообедать вместе. И Иван Иванович сказал: «Что это мы все заседаем, заседаем – надоело!» – и вдруг опустился на пол. Умер. Двадцать минут бились с ним друзья, вспрыскивали, что положено, все не хотели верить тому, что произошло. На гражданскую панихиду в Обуховской больнице пришли мы с Сиповскими какими-то боковыми входами. Переполненный зал. Иван Иванович суровый лежит высоко в гробу. Поставлены кресла для семьи. Мы задержались в маленькой полутемной комнатке, здесь формировали четверки почетного караула. Попал в такую четверку и я. И едва занял я место у гроба, как Наташа вскрикнула горестно и тоненько: «Женя!» – и заплакала вся грековская семья. Всем припомнилось, как встречались мы до сих пор, и вот как встречаемся мы теперь. Начались речи. Карпинский, тогдашний президент Академии, кроткий, до того старый, что вели его под руки, маленький, говорил с детской простотой, как ему жалко Ивана Ивановича. «Мы не были знакомы домами, но я знал, какой он хороший человек, какой ученый.»
22 апреля
И когда Карпинского увели и одевали, он все оглядывался кротко, как ребенок, и казалось, что от седин его исходит свет. Говорил на панихиде и Павлов. У этого старость была стальная. Высокий. Надежный – сам поддержит под локоть при случае. Такого вести не требуется. И речь свою начал так: «Великий учитель человечества, Христос, сказал: „Возлюби ближнего своего“, – и зал зашевелился и зашелестел, пораженный, но тихонько, не нарушая похоронного чина. На похороны мы не пошли, все по той же ошеломленности особой застенчивости. Народу собралось множество – огромная толпа проводила Ивана Ивановича до кладбища. И кто-то из знакомых рассказал мне, что есть такое поверие: покойник встречает на том свете каждого, кто проводил его до могилы. И я подумал с огорчением, что меня Иван Иванович, значит, не встретит. Через несколько дней позвали нас к Грековым, и Елена Афанасьевна просила не оставлять дом, собираться, как в дни, когда Иван Иванович был жив. И Сперанский за ужином сказал речь с бокалом в руке, сердитую речь по отношению к живым, смеющим полагать, что мог бы Иван Иванович прожить дольше, веди он более осторожный, осмотрительный образ жизни. „Прожил Иван Иванович ровно столько, сколько мог. И умер стоя, как римский император“. В этот вечер впервые заметил я на маленьком столике кабинетную фотографию – Иван Иванович с маленьким Ваней на руках. На стуле, в свободной и легкой позе, придерживая легко мальчика, молодой, чернобородый, весело глядел он вперед и весь был полон той игрой, тем оживлением, что вспыхивало в его глазах до последнего дня. И я вдруг подумал: теперь я могу, вспоминая, выбирать любого Ивана Ивановича. Того, что на карточке, не существует больше. Но нет и того, что неделю назад жил среди нас, то задыхаясь, то приходя в себя. На этой карточке он счастлив, и легок, и весел. И вот о таком и буду думать сегодня. Он прожил целую жизнь – а я из нее выберу, чтобы утешиться, Ивана Ивановича молодым.
23 апреля
Без Ивана Ивановича сборища у Грековых стали догорать, дымить. Наташа еще некоторое время у нас бывала, но постепенно, постепенно этот период жизни переменился. Грековы исчезли, погасла беспокойная дружба с Наташей. Не могу вспомнить, как совершилось это замирание. Вскоре вышла Наташа замуж. Грековская бесконечная квартира смирилась, уплотнилась. С Грековыми совсем разошлись наши дороги году в тридцать пятом. А года три-четыре назад передавали по радио записанную на пленку мою встречу с детьми во Дворце пионеров. Там читал я сказку. Минут через пять после конца передачи – звонок. И нетерпеливый детский голос спрашивает: «Ну, а куда она ушла? Жаба?» – «А кто это говорит?» – «Ваня говорит. Куда она потом пропала? Зазвонил телефон, они выключили радио!» Тут раздался знакомый высокий надтреснутый смех, началом тридцатых годов пахнуло на меня – Наташа Грекова взяла трубку. Ее сынишка Ваня потребовал, чтобы вызвали к телефону меня, раз уж помешали дослушать передачу. Елена Афанасьевна умерла. Нелли и Наташа только и оставались в старой квартире. Ваня работал где-то на периферии. Все это я знал, но, слушая Наташу, представлял я себе тот же бесконечный грековский дом и не в силах был представить себе другого. Увидел я потом и мальчика. Красивый, крепкий, глаза синие, немножко уж слишком независимый. На меня он поглядывал с удивлением, не лишенным насмешки. В прошлом году увидал я на площадке электропоезда Наташу. Ваня, уже школьник, стал прихварывать, приходится жить с ним в Зеленогорске. И такой отчаянный, такой непослушный! Наташа жаловалась не на прежний лад – ей, в сущности, нравилась определенность характера мальчика. Виски у Наташи чуть поседели, стал заметнее пушок в углах крошечного рта. Она работала в какой-то лаборатории в каком-то институте. Мне казалось, она – принцесса в изгнании – скорее довольна жизнью. Я записал ее телефон – вот откуда он в послевоенной книжке.
3 мая
А следующий телефон уже на букву «Д». Дом кино.
4 мая
Когда попал я туда, в Дом кино, он был еще молод, и своей самоуверенностью и элегантностью чисто профессиональной раздражал и вызывал зависть. Для утешения я придумал, что разница между писателем и киношником такая же, как между обтрепанным и сомневающимся земским врачом и процветающим столичным зубным. Как зубной врач, имеющий свой кабинет на Невском, выходит в рассуждениях своих далеко за полость рта: «Рассказ делается так: сначала завъязка, потом продолжение, потом развъязка», – так и киношники судили обо всем на свете, не сомневаясь в своем праве на то. Любимая поговорка их определяла полностью тогдашнее настроение племени. Начиная вечер, ведущий спрашивал с эстрады ресторана: «Как живете, караси?» И они, элегантные, занимающие столики с элегантными дамами, отвечали хором: «Ничего себе, мерси!» Приблизившись к Дому кино, обнаружил я, что настоящие работники кинофабрики «Ленфильм» появляются там не так часто. И не они создавали тот дух разбитного малого, что отличал толпу Дома. Скромен, хоть и отлично одет, был Козинцев. Тихо держались братья Васильевы. Шумно и уверенно держалась безымянная толпа, что питается возле процветающего дела. А «Ленфильм» был на подъеме. Только что грянул успех «Чапаева», словно взрыв. Бабочкин, Чирков, Васильевы, Варя Мясникова подняты были волной до неба, стали разом, в один день, знамениты на всю страну[455] . И картина имела, кроме официального, настоящий массовый успех. Имели успех и картины «Юность Максима», и «Возвращение Максима», и «Выборгская сторона»[456] . Прославился «Великий гражданин» Эрмлера[457] . Этот режиссер держался тоже скромно, хотя и необыкновенно значительно, как мыслитель. «Ленфильм» широко славился. И вокруг столпились, слетелись, зажужжали самые предприимчивые люди города. А может быть, и страны. Кроме картин вышеупомянутых, выпускала фабрика и картины второстепенные, имеющие успех у своего зрителя. Совсем уже небрежно одетый Адриан Пиотровский был владыкою сценарного отдела.
5 мая
После войны Дом кино сильно присмирел. Да и слава «Ленфильма» поблекла. Беда в том, что нет сплошной и непрерывной истории театров, писателей, кинофабрик. «Ленфильм» получил имя киностудии, но не принесло это ему счастья. Ввиду отсутствия непрерывности этот прежний «Ленфильм» терпел некоторые неудачи. Нет. Та история оборвалась. Образовалась пропасть между прежним, отличным, и новым, порицаемым, «Ленфильмом». Старые режиссеры рассматривались как новые, за которыми нужен глаз да глаз. И Дом кино соответственно изменился, стал менее разбитным и гораздо более склонным к теории. Там начались по средам семинары с просмотрами картин. Я не люблю ходить в театр. День, когда мне предстоит посетить спектакль знакомого режиссера или знакомого автора, полон тягостного ощущения несвободы. Любое другое времяпрепровождение кажется мне куда более привлекательным. А кино – люблю. В эти среды старался я заранее во что бы то ни стало освободить вечер. У меня была особая книжечка, дающая право посещать эти семинары, и я шел туда, в Дом кино, и стоял в очереди, чтобы мне отметили места в просмотровом зале. Царствовал на этих вечерах Трауберг. Большелицый, с нагловатыми, а вместе и простоватыми глазами, он энергично удалял внизу не имеющих права.
6 мая
Нет, он был не из тех руководителей, что скрываются где-то в глубинах и высотах, предоставляя черную работу администраторам и контролерам. Его невысокая, но и никак не низенькая, начинающая тяжелеть фигура все появлялась у самого входа, у самого контроля, и рассеянные и нагловатые глаза со странно рассосредо-точенным выражением устремлялись куда-то в плечо или в темя человека, настаивающего на своем праве проникнуть в Дом кино. И своим решительным, чуть шепелявым говором он ставил просителя на место, свирепо разрубал узлы даже там, где они легко развязывались. Власть доставляла ему удовольствие.
12 мая
Кончил я 15 апреля, с месячным по договору опозданием, сценарий «Дон Кихота». Сегодня сделал первые поправки. Кончил первые поправки, предложенные сценарным отделом. Козинцев все последние месяцы хворал. У него бронхоплевропневмония. Вот и все новости.
Деммени Евгений Сергеевич. Томный, раздражительный, с неопределенным, уклончивым выражением губ, и порочным, и вызывающим. Он стал во главе Кукольного театра что-то очень давно. Раньше Брянцева[458] . Еще в Народном доме поставил он «Гулливера» Елены Яковлевны Данько[459] . Как всегда, вокруг театра подобного рода подобрался тут вокруг Деммени народ особенный. Люди, не знающие, куда деть себя. Это состав переменный.
13 мая
Есть люди, которых жизнь свела с тобой близко, они как бы в фокусе, а есть такие, которых видишь боковым зрением. Я не знаю ни дома, ни родных Деммени. Как будто припоминается седая, достойная дама, худощавая, с взглядом, как и у Деммени, тревожным и надменным, – его мать. Как будто я видел, как он с ней почтителен и ласков, – именно как люди его толка. А может быть, это просто обман бокового моего зрения. Я начал вчера и оборвал рассказ о составе его труппы, характерной для театров подобного рода. Обычно подбираются тут три вида актеров. Первый – как я уже сказал – состоящий из людей, по той или другой причине не нашедших себе применения. Второй – наиболее мной уважаемый – вечные дилетанты от преувеличенного уважения к искусству. Словно мальчики, вечные мальчики, сохраняющие невинность оттого, что слишком уж влюблены. Они идут в кукольный театр не из любви к нему, а чтобы стать поближе к искусству, прикоснуться к самым его скромным формам. Иные, приблизившись, столкнувшись с театром, угадывают, что искусством можно овладеть, и приближаются к третьему виду кукольников. Но большинство так и замирает во втором. Ибо почтительная любовь к искусству не всегда связана с талантом. Как почтительная любовь мальчика – с мужской силой. Их, бедняг, сокращают, когда молодой театр делается профессиональным, или переходят они на подсобную работу. В монтировочную часть, в помощники режиссера. Третий вид актеров – это прирожденные кукольники. Признающие только этот театр. Иные, возможно, по особой жажде спрятаться от зрителя. Только руку ему и показать. Но большинство из любви, чистой любви к этой форме. Людей третьего вида, самого редкого, найдешь не в каждом кукольном театре. Есть их немного у Деммени. А больше всего у Образцова. Деммени сам дилетант, но не по причине излишнего уважения к своему делу, а от природы. Полуумение свое считает он мастерством. Техника, далеко шагнувшая с начала двадцатых годов, вызывает у него ревность, а не потребность соревноваться. Он по-женски, по-дамски раздражается и бранится.
14 мая
У меня в театре Деммени шло несколько пьес. В начале тридцатых годов – «Пустяки». Тут я впервые испытал, что такое режиссер и все его могущество. Ничего не оставил Деммени от пьесы. Выбросил, скажем, текст водолаза, целую картину сделал вполне бессмысленной, полагая, что оформление подводного царства говорит само за себя. Я тут впервые понял, что существуют люди, которые не умеют читать и никогда не научатся этому, казалось бы, нехитрому искусству. Он сокращал, переставлял и выбрасывал все, что надо было куклам. И сюжетно важные места вырезал с невинностью неграмотности. И пьеса, то, что для меня главное мучение, оказалась рассказанной грязно, с зияющими дырками. Можно было подумать, что я дурак. И, что еще удивительнее, никто этого не подумал. Но и не похвалил меня. Состоялась обычная кукольная премьера, поставленная полуумело и заработавшая полууспех. Деммени видел я боковым зрением не потому, что был невнимателен к нему, а по сознанию, что не имеет смысла подходить ближе и смотреть прямее, – не договориться нам. Поэтому не бывал я на репетициях. И то, что увидел на премьере, было для меня полной неожиданностью. Тем не менее переделал я для их театра написанную для Зона «Красную Шапочку»[460] . Потом сочинил «Кукольный город»[461], потом «Сказку о потерянном времени»[462] . Шли они в основном лучше, чем «Пустяки», но все принимал я эти премьеры боковым зрением и шел на премьеру все же со страхом. Нет. С чувством протеста. А на последнюю премьеру просто не пришел. Потом уже посмотрел с большим опозданием. Отношения личные с Деммени никогда не нарушались ссорами. Один только раз он, оскорбленный тем, что я с заказанной его театром пьесой опоздал, а ТЮЗу сдал «Клад», подал на меня в суд о взыскании аванса в размере 75 рублей[463] . И ни слова мне об этом не сказал. Повестки я каким-то образом не получил, дело слушали без меня как бесспорное. И ко мне явился судебный исполнитель и описал письменный стол и кресло – единственное, что мог, в нашей комнате на Литейной. Вообще письменный стол описывать не полагалось, но он сделал это с моего согласия. Я внес деньги на другой же день, и печати сняли. Я обиделся, чем порадовал вздорного худрука, и решил, что работать у него не буду. Но вспомнил об этом только сегодня.
Деммени необыкновенно моложав.
15 мая
Все такой же, одинаковый, корректный, с тем же выражением встревоженно-надменным, встречается он то в театре, то на улице. Только здоровается он горловым и капризным своим тенором все более приветливо. Как ни говори, как ни суди друг друга, а прожили мы жизнь по-соседски, под одним небом. И свыклись. Мы знаем, чего ждать друг от друга, и ничего не требуем и не ждем свыше определившегося. Все установилось. Меняется только одно: с каждым годом мы все более и более старые знакомые. Вот почему при встречах вижу я его боковым зрением, но словно бы и ближе. А его тенор звучит все дружелюбнее.
Следующая фамилия – Сима Дрейден. Вот уж кто в фокусе. Помню я его с первых дней приезда в Петроград. Когда познакомился я с Колей Чуковским и с Лидой Чуковской, то вскоре познакомился с его соучеником по Тенишевскому училищу: с Лелей Арнштамом, который тогда собирался стать пианистом… И познакомился я тогда же с Симой Дрейденом. Вот он – сразу пошел по тому пути, которому не изменил и сегодня. Он страстно любил театр и пробовал писать о нем чуть не на школьной скамье. Была вся эта компания моложе меня, но приняла меня как сверстника, что мне казалось естественным. Я так мало вырос с тех дней, что кончил реальное. Тут, в Петрограде 22 года, едва начинал я приходить в себя. Стал питаться не только от корней, но и от почвы. Время было голодноватое. И у Лели Арнштама, родители которого были щедры, устраивались кутежи. Нам выдавали какао, сгущенное молоко и сахар. И в большой кастрюле варилось какао на всех. И мы пили, пили и были счастливы. Встречались мы часто, особенно часто на вечерах в Доме искусств. Однажды, глядя мрачно на собравшихся, где присутствовали весьма почтенные имена, Леля Арнштам начал вечер, где должен был играть, вступительным словом, и первая фраза была такова: «Как известно, писатели свински необразованны в музыке».
16 мая
И профессионально из этих молодых первыми определились Коля Чуковский и Сима Дрейден, Леля Арнштам еще некоторое время держался музыки, а потом стал кинорежиссером. Решился на это. Коля печатался чуть ли не с 18 лет[464] . Перевод какой-то идиллии Лонгфелло, стихи. Позже приключенческий роман для «Радуги». Об удивительном профессоре Зворыке[465] .
Перехожу теперь к Симе Дрейдену. Он был самый длинный, патлатый и хохочущий из всех. Тощий. В очках. Необыкновенно и энергичный, и рассеянный в одно и то же время. Вот рецензии его стали печататься, и скоро мы все привыкли к тому, что Сима Дрейден – журналист, рецензент, театровед. Так и пошли годы за годами. Первоначальную компанию, как положено законами роста, разбросало далеко. Дрейден и Чуковский даже поссорились, кажется. А я и Сима, связанные одним делом, держались близко друг от друга, в сфере притяжения. И он, определившись в юности, все не менялся. После войны, на каком-то совещании в Москве, дали нам комнату в «Гранд-отеле». Нет, во время войны. И, живя с Дрейденом, еще раз вспомнил я его энергию и рассеянность. Вот он сидит, пишет статью для Совинформбюро. Вскакивает на полуфразе, идет к телефону в глубокой задумчивости. И вешает трубку, не дождавшись ответа телефонистки, и стоит над телефоном в той же глубокой сосредоточенности. И бросается писать статью. От обычных критиков отличала его именно правдивость всего существа. Он и в самом деле во многих случаях, в большинстве – писал искренно. Ну, разве уж в порядке дисциплины. Простота и детская непосредственность его иной раз меня удивляли. Были мы у них в гостях еще до войны. С Образцовыми. Дрейдену нездоровилось, а мы засиделись. И он лег на диван и прикрыл голову подушкой. Катерина Ивановна приподняла подушку – видит, Сима плачет, обливается горькими слезами! Измерили температуру – около сорока. И он ответил на жар как ребенок. Я вижу его не боковым зрением, но все же связаны мы всегда были больше по театральной линии, чем по бытовой. Он женился, как подобает, на женщине, вполне ему по конституции противоположной: полной блондинке. Донцова Зинаида Ивановна работает в Госэстраде или Филармонии: художественное чтение. Родился у них мальчик Сережа.
17 мая
И Дрейден любил его со всей открытостью и шумом, на какие был способен.
18 мая
В эту поездку я понял, как отчетливо окрашивают сегодняшний день люди типа Симы Дрейдена. Для этого вовсе не нужно разговаривать непосредственно с ними. Их чувствуешь через среду. И вот разыгрались события, о которых рассказывать нет сил. Грянул в Москве пленум по драматургии, последствия которого были воистину историческими[466] . Помню высоченного Первенцева со лбом в складках, с глазами, в которых мерцало упорное желание. Желание взять свое. Он громил Славина. И тот на другой день, белый, с влажным лбом, уничтожающе ответил Первенцеву, что ничего не изменило. Были знамения. Они, если верить римским историкам, являются спутниками великих событий. На час или полтора выключилась электрическая энергия во всей Москве. Даже в метро. Но исторический пленум правления ССП нельзя было остановить. Принесли аккумулятор из чьей-то машины, приспособили над кафедрой электрическую лампочку, и люди, бледные от обвинений, что неожиданно обрушились на их головы, пытались отбиться при тусклом ее свете.
19 мая
Я упорно не хотел понимать того, что совершается. Поворачивался к вихрю спиной. Старался, вглядываясь в лицо Первенцева, в его глаза – глаза однолюба, человека, любящего одного себя, – понять, как может он жить, как мог он образоваться. Черносотенец, с детства отталкивавшее меня существо! И кто, кроме него самого, выигрывает от его возвышения? Софронов – круг, от ботинок, которые кажутся маленькими по дородству, линия идет высоко вверх и косо к пупку, а оттуда скашивается к толстому подбородку. Он почему-то раздражал меня меньше Первенцева. Охотнорядский или чичкинский раздобревший молодчик. Но при этом с проблесками. Мог и на гитаре сыграть. Впрочем, тут он не играл, а деловито, добросовестно, с наслаждением громил. И Фадеев гневался старательно, послушно, повернувшись в профиль к аудитории, беспощадно лупил лежачих, стоящих в данный момент на кафедре. Словно на снимке отпечатался в воспоминаниях о черных днях. Седая голова председательствующего Александра Александровича. Он стоит фигурой к залу, профилем к обвиняемому. И поддерживает сипловатым голосом то, что заставляет отворачиваться и жмуриться. Затыкать уши и нос. И страшнее всего, что ты не можешь забыть до конца того необъяснимого обстоятельства, что Фадеев – несомненно хороший человек. И вот в этой роковой, лишенной целесообразности, смысла неразберихе, надвинувшейся вслед за пленумом, Дрейден исчез из поля зрения на пять почти лет[467] . И чудо в том, что когда он воскрес, то не обнаружил и признака разложения. Мы уже не те. Мне под шестьдесят. Сима, конечно, моложе – но и он не молод, далеко не молод. Но есть какая-то сила, мешающая стареть. Видимо, в особенно черные дни мы не живем. Во всяком случае, когда он вернулся и я пришел к нему, то был поражен тем, как мало он изменился. Он шумел. И перескакивал с предмета на предмет. И удивлялся. И удивлял. И смеялся, и смешил. И все бегал взглянуть, как спит сын, уже школьник. И их черный пудель, узнавший хозяина через пять лет, ходил за ним следом, боялся, что тот опять исчезнет. Все как было? Через несколько дней я обнаружил, что Дрейден смущен.
20 мая
Да. Он был человеком советским. Насквозь советским. От малых лет. И, зная, что ни в чем неповинен, и будучи реабилитирован, он тем не менее как бы чувствовал себя виноватым. В чем? А кто его знает. В своем несчастье? Весьма возможно. Чувствовал себя запачканным. Чудилось ему, что все то, что грянуло над ним, оставило след, как бы изуродовало его. Он не хочет показываться в дни премьер, я не мог вытащить его на просмотр «Двух кленов». Не возвращается в среду, отчего не чувствуешь его присутствия, хоть он уже на месте. Но постепенно это начинает рассасываться, и Сима Дрейден делается увереннее. Прощает себе то, что над ним стряслось.
4 июня
Следующая фамилия Жеймо[468] . Удивительно привлекательное существо. Трагичны судьбы людей, обожающих искусство, но не имеющих никаких данных для того, чтобы им заниматься. Таких в театре – легион. Но еще трагичнее люди, рожденные для сцены или экрана, которые роковым образом сидят без работы. Жеймо сделала десятую долю того, что могла бы. Должна бы. И до сих пор она еще надеется, что сыграет, наконец, то, что душа просит. И судьба щадит ее – она все по-девичьи легка и вот-вот сорвется и полетит. Только пусть для этого сойдутся несколько тысяч случайностей, выйдет пасьянс из миллиона колод. Родилась она в цирковой семье. На арене выступала чуть не с пяти лет[469] . Потом попала к ФЭКСам, совсем еще девочкой. Играла в «Шинели»[470] . Потом вышла замуж за Костричкина[471] – его считала выдающимся эксцентрическим актером. Родила от него дочку. Развелась. Вышла замуж за Хейфица. Родила от него сына. Вот что слышал я о ней краем уха в тесном нашем кругу.
5 июня
А потом встретились мы гораздо ближе во время картин «Разбудите Леночку» и «Леночка и виноград», сценарий которых писал я с Олейниковым[472] . Первая (короткометражка) имела некоторый успех, вторая же, вместе с комедией нашей «На отдыхе»[473], провалилась с шумом, с таким шумом, что братья Тур написали в «Известиях»: «Неизвестно зачем авторам понадобилась подобная жеребятина»[474] . Янина Болеславовна, или Яня, как все ее называли, была тут ни при чем. Мы думали, что удастся нам сделать картину, ряд картин, где Жеймо была бы постоянным героем, как Гарольд Ллойд или Бестер Китон, и где она могла бы показать себя во всем блеске. Но ей опять роковым образом не повезло. И сценарий не удался, и режиссер решился взять себе эту специальность без достаточных оснований – словом, опять не вышел пасьянс в тысячу колод. Но я поближе разглядел Янечку Жеймо и почувствовал, в чем ее прелесть. Все ее существо – туго натянутая струнка. И всегда верно настроенная. И всегда готовая играть. Объяснить, что она делает, доказать свою правоту могла она только действием, как струна музыкой. Да и то – людям музыкальным Поэтому на репетициях она часто плакала – слов не находила, а действовать верно ей не давали. Я не попал в Ялту на съемку несчастной «Леночки», но Олейников был там, и даже у этого демонического человека не нашлось серной кислоты для того, чтобы уничтожить ее, изуродовать в ее отсутствие. И он говорил о ней осторожно и ласково, испытав ее в разговорах на самые различные темы. Она была создана для того, чтобы играть. А вне этого оставалась беспомощной и сердилась, как сердятся иной раз глухонемые. В Доме кино праздновали однажды полушутя-полусерьезно, в те легкомысленные времена это было допустимо, ее юбилей – что-то не по возрасту огромный. Ведь начала она свою актерскую жизнь в пять лет. И весь юбилей проводился бережно, и ласково, и весело. Мы с Олейниковым сочинили кантату, которая начиналась так:
От Нью-Йорка и до Клина На сердцах у всех клеймо Под названием Янина Болеславовна Жеймо.И после всех речей растроганная, раскрасневшаяся, маленькая, как куколка, разодетая по-праздничному, будто принцесса, открыв наивно свои серые глазища, прокричала Янечка в ответ какие-то обещания, может быть, чуть газетные, чуть казенные, но все поняли музыку ее речи и слова не осудили. Струна не сфальшивила.
6 июня
И вот пришла война. А Янечка разошлась с мужем и приняла, по рассказам, это очень тяжело. Но когда встретились мы в Сталинабаде, была она все та же, только темнее и озабоченнее обычного, по-военному, как и все мы. И вышла замуж за режиссера Жанно. И вот пришел 45 год, и я написал сценарий «Золушка». И Кошеверова стала его ставить. А Янечка снималась в заглавной роли. И пасьянс вышел! Картина появилась на экранах в апреле 47 года и имела успех. В июне того же года увидел я, выйдя из Росконда, на теневой стороне Невского у рыбного магазина Янечку с мужем. И догнал их, перебежав проспект. Они, по слухам, собирались на Рижское взморье, и я хотел расспросить, знают ли они, как там живется. Жарко. Пыльно. Около шести Невский полон прохожими. Янечка, маленькая, в большой соломенной шляпе, просвечивающей на солнце, в белом платье с кружевцами. Посреди разговора начинает она оглядываться растерянно. И я замечаю в священном ужасе, что окружила нас толпа. И какая – тихая, добрая. Даже благоговейная. Существо из иного, праздничного мира вдруг оказалось тут, на улице. «Ножки, ножки какие!» – простонала десятиклассница с учебниками, а подруга ее кивнула головой как зачарованная. Мы поспешили на стоянку такси. И толпа, улыбающаяся и добрая, – следом. И на Янечкином лице я обнаружил вдруг скорее смущение и страх, чем радость. То самое чувство, что, словно проба, метит драгоценного человека. Что заставляло сердиться Ивана Ивановича Грекова, когда называли его «профессор». Он видел предел, до которого, по его требовательности, было еще ему далеко-далеко. И Яня, настроенная неведомой силой с полной точностью, чувствовала то же. Она уселась с мужем в такси тех лет, в ДКВ. Низенькое. Казалось, что человек сидит не в машине, а в ванне. И такси загудело строго, выбираясь из толпы, провожающей Яню Жеймо, словно принцессу.
Следующая запись в книжке: жакт. Так записала Катюша, по старой памяти, девичью фамилию домоуправления.
9 июня
Я сделал попытку изобразить. Нет, вру. К моему удивлению, когда написал я пьесу «Одна ночь», полагая, что изображаю наше домоуправление, оказалось, что похож портретно один бедняга управхоз. Остальные издали – писалась пьеса в Кирове – казались куда более благообразными. Даже о покойниках можно писать строго. А о смертниках – нельзя. А все они издали казались приговоренными к смерти. И многие из них и в самом деле умерли…
8 сентября, в первую же бомбежку Ленинграда, разбитыми оказались Бадаевские склады. Все домоуправление, все работники ПВХО – беда приключилась днем или к вечеру, но когда еще было совсем светло – собрались на чердаке. Черные столбы почти неподвижного, тяжело клубящегося, занявшего полнеба дыма вздымались где-то далеко-далеко за крышами домов. Я был уверен, что горит нефть. Ленинград был обречен на голод первой же бомбежкой, но мы понимали это столь же мало, как рыбы в садке свою судьбу…
А ночью дежурил я на посту наблюдения, на крыше. Рядом со мной расселись на помосте так называемые связисты, ребята лет тринадцати-четырнадцати, школьники и ремесленники. Народ лихой. С большинством из них я был знаком и раньше. Они звонили к нам и спрашивали, нет ли работки, и бегали за керосином, за папиросами или приносили дрова. С остальными познакомился во время дежурств. Самым заметным среди них был преждевременно вытянувшийся, узкоплечий ремесленник по прозвищу Крокодил. Недавно выписался он из больницы. Он, убегая из сада, напоролся подбородком на решетку, да так и повис. Сад, кажется, был Михайловский. А почему Крокодил бежал и кто за ним гнался, связисты мои вопроса не поднимали. И я не спрашивал. Рассказывали они, как обнаружили лаз в церковь Спаса-на-крови. Оказывается, именно там и гнездились голуби, которых мы до блокады подкармливали. Кроме того, в церкви был склад. Какой именно – ребята помалкивали. Выяснил я только, что лаз был до того головоломный, что, обнаружив нарушителей, сторож больше перепугался, чем рассердился. И ребята, вспоминая это, очень смеялись. Один из ремесленников кончил школу и получил разряд. И поступил на работу. В одно из дежурств он все волновался – на другой день предстояло ему получить первую зарплату. «Не знаю, засну я сегодня?» – говорил он, потягиваясь.
10 июня
Здоровенный, большеголовый парень с большим, туго подвижным лицом – он удивлял меня волнением перед завтрашней зарплатой. Значит, он из тех, что соглашаются работать. Значит, радовался тому, что присоединяется к взрослым, с которыми воевал, по мере возможности, как и все мои связисты, показывая свою лихость и независимость. И никогда бы я этого не узнал, если бы не дежурили мы на деревянной площадке с перилами, под навесом из листового железа на крыше левого корпуса нашего домохозяйства, выходящего на улицу Перовской.
Зачем нужно дежурить на посту наблюдения – никто не знал толком. Но мне нравилось тут больше, чем на чердаке, и, во всяком случае, больше, чем в бомбоубежище, где мне чудилось, что я в западне. По лестнице, миновав последние квартиры, поднимался я к чердаку с его особым застоявшимся запахом дыма и глины и пробирался к выходу на крышу. К нему вела особая лестница. Тут однажды я думал, кончив дежурство, сократить путь. Пойти прямо вниз. И вдруг заметил, что шагни я прямо – то слетел бы на площадку или на чердак – не вспомнить сразу куда. Только высоко. Достаточно высоко для того, чтобы сломать ногу или свернуть шею. И обиделся. Заслонка была спущена, чтобы я не видел более страшной угрозы. А от мелких защищен я не был. И эта беда, хоть и была она отведена, несколько дней меня преследовала. Я до сих пор не понимаю, почему я вдруг в последний миг не шагнул прямо во тьму, в яму, – так ясно вдруг представилось мне, что так будет ближе.
Выйдя на крышу, шел я по гребню. И железо громыхало под ногами, что напоминало детство и крышу сарая в доме Санделя. Так пришел я на дежурство и 8 сентября, ничего не ожидая, – ведь бомбежка уже была! На этот раз со связистами говорили мы только о дневном налете. И вдруг – тревога. И с неожиданной быстротой, еще и сирены не отвыли своей машинной и вместе животной жалобы, я услышал свист. И где-то неожиданно близко поднялся сноп, – это не привычное сравнение, именно сноп очень крупных искр. И еще свист. И еще взрыв. Я был уверен, что будут немцы бомбить заводы и железные дороги, и не понял ни свиста, ни снопов, таких объемистых и полных, ни взрывов, совсем близких. А больше всего сбили меня с толку ракеты. Множество ракет, ставших над городом. Связистов моих словно ветром сдуло – они ползком нырнули в лаз.
11 июня
И я возгордился. Мальчики мои были народ отчаянный, но просто относящийся к опасности. Они бежали, когда надо. Крокодил недавно даже повис на острие решетки – так безрассудно отступил перед сторожем. Привычка к нарушениям породила привычку к отступлениям. Но все это я понял впоследствии. Тогда же я возгордился. Ребята удрали, а мне это и в голову не пришло. Впоследствии же я сообразил, что был просто ошеломлен разнообразием впечатлений. О храбрости тут говорить не приходилось. В дальнейшем, правда, я не уходил, уже понимая, что происходит, подчиняясь чувству приличия. Вскоре после бегства моих связистов налет прекратился. Умолкли зенитки. Только ракеты продолжали взлетать неторопливо над затемненным городом. Помост мой заполнился людьми. Какие-то гости не из нашего жакта в военной и полувоенной форме… Я спросил, что значат эти ракеты. И кто-то из гостей ответил, что таким образом подают знаки нашим ночным истребителям. Вечер был такой странный, что я поверил этому безоговорочно. И только через два дня мы узнали, что это шпионы-ракетчики, как мы их сразу прозвали, – подают знаки фашистским самолетам. И количество ракет поразило меня. Стою я на чердаке нашего жилого корпуса. Все тот же горький запах дыма и глины. В глубине белеет лазаретная койка. Когда стал я дежурить на чердаке, Катюша устроила тут же пункт санзвена. И стала дежурить возле. Чтобы если убьют, так уж вместе. Я смотрю в окно и вижу, как на Петербургской стороне, где-то далеко за остовом сгоревших Американских гор, взлетают не спеша семь ракет. И горечь охватывает еще сильней. Люди, которых я вижу в домоуправлении каждый день, повторяемость тревог, голод, голод – все вместе открывает передо мной следующее: большие и малые горести в родстве. Серость и будничность. Ужас в том, что ко всему привыкаешь. И если мы выживем, то будем рассказывать об этих днях, словно имели они цвет, а не серость и тьму, словно были они интересны. И только однажды будни были резко нарушены.
12 июня
Итак, было в тот вечер в домоуправлении спокойно, как всегда во время затянувшейся тревоги. Вдруг над самым домом возник стонущий и зловещий звук немецких самолетов, выстрелы зениток приблизились, раздался гул голосов, непривычные шумы ворвались в обычные. Замерли разговоры в жакте. И ворвались в комнату связисты с криком: «Зажигалки сбросили». Одна из них полыхала посреди переулка, ее быстро забросали песком. На крыше над каверинской квартирой пылали две. Управхоз, скользя в резиновых сапогах по мокрой крыше, схватил одну клещами, сбросил на мостовую. С другой, засевшей как раз на углу у желобов над водосточной трубой, бился Борис Викторович Томашевский. Он командовал, его слушались с серьезными и напряженными лицами домработницы из пожарного звена. И эту бомбу погасили. В три-четыре минуты, не помню, кажется, семнадцати зажигалок словно и не бывало. Прежде чем успели мы понять, что происходит. Весь дом роем поднялся и сделал свое дело. Напротив, в бывшем доме Нобеля и на крыше Михайловского театра, еще возились с зажигалками. Им пришлось труднее – ведь там не было жильцов. Работали только отряды ПВХО. А у нас вышли все жильцы, кроме ведьм. Все до одного. Почувствовалось, что кроме домоуправления есть и дом.
13 июня
В начале октября вечером, когда дежурил я во время тревоги на чердаке, напала на меня и моего напарника тоска, похожая на предчувствие. Было это числа седьмого-восьмого. Мы спустились в самый низ лестничной клетки и встали в угол, как ведьмы какие-нибудь. А самолеты, со своим машинно-животным завывом, все не унимались, кружили, кружили и с каждым заходом сбрасывали бомбы. И вот раз – далеко, два – чуть ближе, три – оглушительный удар совсем близко, звон стекол, и жужжащее завывание или завывающее жужжание, идиотски упорное в своем однообразии, замирает постепенно. Удары бомб кажутся не слишком многозначительными. Не веришь. Не хочешь верить, что кто-то убит так просто. Но в домоуправление звонят: пришлите санзвено к «девятке» – так называют гастрономический магазин на углу Желябова и Конюшенной площади. Номер дома никто не помнит, а «девятку» знают все. Управхоз собирает звено, но в это время звонят еще, – поправка. Требуется не санитарное, а пожарное звено с лопатами. К утру только возвращаются наши пожарницы. Бомба разрушила дом, где была «девятка». Разорвалась под самыми сводами ворот. А там столпились прохожие. И трупы их швырнуло до середины Конюшенной площади. И наше пожарное звено вместе со звеньями всех уцелевших соседних домов производили раскопки в развалинах дома. И трупы увозили на грузовиках. Вот что наделал третий, близкий удар бомбы, показавшийся, несмотря на оглушительность свою, таким механическим, таким незначительным. Идиотским. Мне трудно было определить тогда, да и теперь нелегко объяснить, почему немецкие самолеты казались мне идиотским недоразумением. Соединением солдафонской глупости и автоматизма машины. Что-то, по ощущению напоминающее тир. Выстрел, и, в случае попадания, сухое щелканье, и плоская жестяная, дурацки раскрашенная птица машет жестяными крыльями. Вот очень приблизительный перевод очень ясного чувства. Происходящее страшно. Страшно глупо. Когда тревога случалась в часы, свободные от дежурств, я оставался дома. Если бомба падала близко, наш дом качался, и трубка настенного телефона, и лампочки раскачивались вслед за ним, и несколько мгновений казалось, что дом вот-вот рухнет. Но прежде чем ты успевал осознать это и ужаснуться – все приходило в норму. Но вот приблизился к концу этот период.
14 июня
Я перечитал свое описание военного домоуправления и огорчился. Как только перенесешь явление из одной категории в другую – оно все равно что исчезает. Начинаешь рассказывать и поневоле отбираешь. И вносишь правильность. А главное в том времени – затуманенная, унылая бытовая бессмыслица, доведенная до пределов вселенских. От убийств, смертей, трупов, выброшенных на середину площади из подворотни, не становилась блокада объяснимей. Люди, приезжающие с фронта, терялись в этой непереставаемо терзаемой массе города. Что можно тут сделать, где тут твое место? Ты знаешь свое место во время бомбежки. Но какой смысл в том, что стоишь на чердаке, где к зиме заколотили все слуховые окошки, ничего не видишь, ничего не делаешь – терпишь. А других, потерпевших до конца, везут на детских салазках в общую могилу. И если сейчас это звучит печально, то в те дни и не оглядывались люди на подобное погребальное шествие. Все может войти в быт. И это было страшнее всего. Все может войти в быт, в будни. Все. И я, и актеры Театра комедии в Кирове с удивлением поняли, что невозможно объяснить актерам БДТ, уехавшим в августе из Ленинграда, что такое Ленинград в блокаду. Мы сами не знали, как это рассказывать. И поэтому те же лестницы, та же знакомая ненужно высокая комната домоуправления с широкими окнами во двор совсем не напоминают блокадного времени. Даже сирена пароходика на Неве, поднимающая иной раз животный и вместе машинный вой, отчетливо слышный ночами, не вызывает воспоминаний о тревоге. Тогда война и блокада с непонятной простотой вошли в быт, а теперь начисто исчезли.
Теперь бываю я в жакте, когда приходится продлить, точнее, получить новый паспорт по истечении срока. Да и то в последний раз выдали мне паспорт бессрочный. Был я там на елке – читал детям. И ни разу не вспомнил прежнего военного домоуправления… Мои связисты, подумать страшно, погибли почти все. Крокодил умер с голоду и многие другие. Иные были убиты в боях. Однажды мы шли с Катюшей двором в 1946 году. Рослый и красивый парень в военной форме без погон поздоровался с нами застенчиво. Это был Колька, самый маленький и разбитной из связистов, тот, что чаще всех прибегал и спрашивал: нет ли работки.
16 июня
Следующая фамилия Зощенко Михаил Михайлович.
Это имя выходит за пределы того, что я тут рассказываю, того, что могу рассказать. Это уже история. Правда, характеры нигде так не сказывались, как в этой истории, но тут уж ничего не поделаешь. История есть история. И некоторых участников ее я осуждаю в меру. Они действовали в силу исторической необходимости. Но я ненавижу тех добровольцев, что до сих пор бьют лежачего, утверждая этим свое положение на той ступеньке, куда с грехом, нет, со всеми смертными грехами пополам, удалось им взгромоздиться.
19 июня
Следующая фамилия Зарубина Ирина Петровна.
Это артистка настоящая, не умственная, а от природы. Великолепная русская речь, голос, музыкальность.
24 июня
Сегодня – памятный день. Пять лет назад начал я вести эти записи и вел их ежедневно, кроме тех случаев, когда уезжал или мне уж очень мешало что-нибудь. Но и тут я записывал за пропущенные дни, платил долг. Постепенно я привык к этому виду работы. Стал возить тетрадки с собой, когда уезжал, чтобы не прекращать, не нарушать непрерывности записей. Даже в мучительные дни съезда[475] я продолжал писать ежедневно, и предыдущая моя тетрадь в светло-серовато-голубой обложке куплена была на съезде в канцелярском киоске, в маленькой шумной комнатке, где стучали молотки – заколачивали в почтовом отделении посылки, а телефонные кабины были заняты все до единой делегатами, которые на разных языках во весь голос переговаривались с Грузией, с Азербайджаном, с Сыктывкаром, с Казанью. Я, ошеломленный жарой, громоздкостью происходящего, оскорбленный силой моей уязвимости (я считал, что стал сильней, оказалось же, что я обидчив по-старому), покупая тетрадь, не верил, что доведу ее до конца. И довел. Мне почему-то очень хотелось непременно довести записи до пятилетней годовщины, но тогда срок этот представлялся недостижимым. Но вот он приблизился. А я заболел. И когда меня уложили по поводу инфаркта, я продолжал писать. И все считал: пять лет без двух недель, пять лет без пяти дней. И вот сегодня ровно пять лет. Ни разу в жизни я не работал так систематично. К чему это привело? Ну, все-таки. Я начал свободнее чувствовать себя в области, где прежде терялся, – в прозе. Чувство глухонемоты иногда исчезает. Иногда чувствую, что приближаюсь к натуре на тон (семья Грековых, Жеймо). За эти пять лет написал я, кроме этих тетрадок, три сценария, из которых один не принят, три пьесы – две получились не ахти[476] . Обозрение для Райкина (с Гузыниным)[477] . Кончил «Медведя» (в прошлом году)[478] . Сделал из своих записей несколько рассказов (о Житкове и др.)[479] . Одно время что-то терял (с драматургией). Сейчас лучше. Пятилетие!
26 июня
Следующая фамилия Зандерлинг Курт Игнатьевич.
Сутулый, длиннолицый. Нос горбатый и чуть приплюснутый вместе с тем. Большеротый. Общее выражение – серьезное. И что-то непреодолимо немецкое начисто снимает то, что есть семитического в его чертах. Тоненькая, сутулая, высокая, прилежная фигурка. Что-то, может быть, от гелертера[480] . Вот привезли свежий хлеб. Дачники выстроились в очередь. Курт Игнатьевич, углубившись в чтение, двигается к цели.
27 июня
«Что вы читаете, Курт Игнатьевич?» Он предлагает мне взять эту книжечку почитать. Я заглядываю и убеждаюсь с почтением и завистью, что мне это, увы, недоступно. Это изданная малым форматом, переплетенная в красный сафьян партитура Третьей симфонии Брамса. И из разговора с Зандерлингом узнаю я, что, по его мнению, Брамс – великий музыкант. А Жан-Кристоф говорил о нем просто глупости[481] . Столь же почтительно отзывается он о Брукнере. А о Малере говорит, что он слишком уж хорошо знал оркестр. И что его язык сегодня вдруг стал непонятен. Когда гуляю я, ищу грибы в леске за безымянным переулком, то на поляне среди сосен вижу сутулую знакомую фигуру, в очках, с листами партитуры. Зандерлинг шагает взад-вперед, и когда подхожу я ближе, то слышу, как он шипит. Это его особенность. Некоторые дирижеры поют, а он, погружаясь в свою музыкальную стихию, с лицом напряженным, строгим и торжественным, – он то и дело, словно собираясь произнести нечто таинственное и важное, надувает губы, приоткрывает рот, но не произносит ни слова, а только шипит. Говорит за него оркестр. Готовил он Третью симфонию Рахманинова и называл эту поляну своим кабинетом. Я в детстве был столько раз порицаем за то, что у меня нет слуха, что проникся особым почтением к людям музыкальным. Лет в шестнадцать стал я учиться музыке. И дела пошли неожиданно хорошо. Но уроки свои я бросил, едва начав. Одно время я думал о себе, что одет в одежу из лоскутов. Из начатых и оборванных дел. Потом, когда нашел я спасение от другого начатого и оборванного дела, от актерского, и как будто вышел на путь к настоящему своему делу, музыка заняла в моей жизни заметное место. Я думал, что люблю ее. И только в прошлом году понял, что не так, как следует. Гостила у нас Варя Соловьева. Она лежала в Катюшиной комнате, читала мою пьесу. А я писал. А по радио передавали концерт Моцарта, и это мне помогало работать. И я встал взглянуть – сколько Варя успела прочесть. Гляжу – ничего!
28 июня
Ни одной страницы. Почему? Потому что слушала музыку. Она не могла читать и слушать! Недавно вышли воспоминания современников о Толстом. И в них много рассказывается об отношении Толстого к музыке[482] . В часы, когда он работал, никому не разрешалось играть на рояле. И сыну не разрешалось готовить уроки по музыке. Толстой не мог не слушать. Какова бы музыка ни была, он бросал работу и слушал. Вот что значит любить музыку на самом деле. Я, следовательно, был и этого дара лишен! И это прибавило к моей бессильной любви еще долю горечи. И безнадежности. Ну, а если говорить попросту, музыку я очень люблю. И часто думаю о музыке. И во время музыки думаю особенным образом. Но не лезу в эту область со своими соображениями. Но с уважением смотрю на то, что там происходит. Как в литературе – идет там непрерывное движение. И я с интересом открываю: Малера перестали они понимать. Зато Брукнера и Брамса почитают и понимают сегодня. Шостакович даже рассердился, когда я признался, что не понял Девятую симфонию. Впрочем, он к Малеру, кажется, относится с прежним уважением. Зато не прощает сегодня начисто Стравинского. Музыка для музыкантов и в самом деле есть способ мыслить. Жизнь меняется, появляются новые мысли, по-новому оценивают они старых мыслителей. К Бетховену отношение двойственное. Что-то в нем они принимают, а что-то не вполне. О Моцарте говорит Зандерлинг всегда с благоговением. Бах для него велик без всяких оговорок. В отличие от «лабухов», настоящий музыкант Зандерлинг много знает о музыке и кроме музыкального мышления владеет и другими его видами. Как-то зашел разговор о неслыханной производительности Баха. Разговор начался с того, что я спросил, почему у протестанта Баха есть мессы. И Зандерлинг объяснил, что, поссорившись со своим герцогом, Бах решил уйти.
29 июня
И написал для дрезденского двора, куда собирался он уйти, мессу. Он ссорился с начальством, дирижировал хором мальчиков, учил их пению, писал кантаты к каждой воскресной службе и оставил чуть ли не восемьсот опусов. «Вот они, люди восемнадцатого века», – сказал я. «Не в этом дело! – возразил мне Зандерлинг. – Просто Бах думал, что он ремесленник. Романтики брали отсюда (и Зандерлинг указал на сердце). А Бах отсюда (и Зандерлинг развел широко руками). У Баха не опускались руки перед величием музыки. Он думал, что он ремесленник». Женат Зандерлинг на Нине Игнатьевне, тоже худенькой, высокой, тоже в высшей степени проникнутой немецким духом женщине. Она очень приветлива, очень вежлива и чем-то трогает за сердце. Тем, что много пережила и так подтянута? Вежливостью? Живостью? Трогательными, но тщетными попытками овладеть русским языком? От года к году труднее ее понимать! Не берусь объяснить. Но каждый раз, когда вижу я удлиненное ее лицо, с узенькими глазами, забавное, словно сделанное, – мне становится весело. У них есть сынишка, Томик, нежный, как девочка. Лицо удлиненное, словно у мамы, рот большой, отцовский. Когда ему было лет шесть, он вошел к нам во двор с букетиком незабудок в руках. Томка залаяла на него, а Томик жестом беспомощным и неловким швырнул в собаку цветами. Томик музыке учится в музыкальной школе. И прилежание воспитывается в нем родителями со всей немецкой методичностью. Однажды его отпустили к Браусевичам на зимние каникулы, с тем, однако, чтобы он положенное время играл на скрипке, неукоснительно, ежедневно. И маленький Томик выполнял приказ свято. И вот однажды прибежал он ко мне в слезах. У него лопнула струна. И он просил, чтобы я ему натянул ее. И никак не мог он понять, почему я отказываюсь, как взрослый человек вдруг не может сделать такой простой вещи. Я был в Филармонии, когда дирижировал Зандерлинг Третьей симфонией Рахманинова.
30 июня
Пройдя крутыми лестницами, где курили музыканты в своих черных костюмах, крахмальных воротничках, буднично-праздничные, словно официанты, и на тот же лад озабоченные делами далеко не музыкальными, но вполне земными, миновали мы актерские фойе, полные теми же черными фигурами. Здесь царило то же: одни перешептывались озабоченно, другие рассказывали что-то вполголоса, далеко не деловое, зато вполне непристойное. Есть любопытная связь между математической одаренностью и одаренностью музыкальной. Зандерлинг рассказал, что у Моцарта была обнаружена очень солидная математическая библиотека. Многие математики, и крупные при этом, были отличными музыкантами. Но музыкальная одаренность имеет связь и с другой, куда менее абстрактной, стороной человеческой жизни. Сережа Иванов, поступивший в Петроградскую консерваторию в 14 году, рассказывал, когда я с ним познакомился, одобрительно: «В консерватории понаслушаешься! Там народ по традиции – сплошь похабники!» Я боюсь утверждать, что это так; может быть, просто где много мужчин, там казарма, но пока я иду по мраморным, дворцовой высоты переходам с бархатными драпировками, дух оркестрантов, или «лабухов», со своим жаргоном, со своим самоуверенным от презрения ко всем законам видом, смущает меня. Но вот прохожу я в директорскую ложу – собственно говоря, в часть нижней галереи, отделенной от остальной барьером, и занимаю место на диванчике. Я не люблю ходить в концерты, потому что, на беду свою, как я уже говорил, настоящей любовью к музыке не одарен. Когда слушать мне ее приходится в назначенный вечер, лень моя бунтует. И я стыжусь этого. И заставляю себя собраться. А внимание не подчиняется, а рассеивается. И я отвлекаюсь – разглядывая публику, с озлоблением думаю о громоздкой машине, что действует, дымя и скрипя, для того, чтобы послушал ты музыку, посмотрел спектакль.
1 июля
Но вот вдруг, в отличие от театра, свет в зале не гаснет, а вспыхивает. Над эстрадой загорается огромная хрустальная люстра. И ощущение торжественности предстоящего приводит меня в чувство. Музыканты за пультами совсем уже не те, что на лестнице и в фойе. Они внимательно настраивают инструменты. «Лабухи» «лабухами», но ведь каждый из них владеет инструментом, музыкальным – шутка сказать! Вон литаврист наклонился над гигантским своим котлом, постукивает по туго натянутой плоскости, и я вспоминаю, что, кажется, литавристу полагается обладать абсолютным слухом, чтобы перестраивать свой инструмент на ходу. Как называются эти инструменты? Кларнеты? Или я путаю? А это, кажется, туба? Я не удосужился узнать даже названия инструментов. О, холодность! Недаром я так распущен, распущено мое внимание. Бродит вокруг да около, вместо того чтобы овладевать предметом, о, разврат, неизбежное следствие холодности! Я браню теперь уже себя. А беспорядок в оркестре постепенно затихает. Контрабасисты покорно стоят возле своих долгошеих контрабасов. Иные скрипачи еще касаются кончиками пальцев струн, не то приноравливаясь, не то сомневаясь в точности настройки. И вот на верхней галерее вспыхивают аплодисменты, подхватываются задними рядами партера и сдержанно замирают в первых. Появился Зандерлинг, сутулый, тонкий. Несмотря на фрак и открытый жилет, сохраняет он все ту же наивную сосредоточенность гелертера. Поднявшись на свое место, кланяется он залу, отвечает на аплодисменты вежливой улыбкой, показывая крупные, чуть выдвинутые вперед зубы. И через мгновение он уже отвернулся от публики к музыкантам. И стоит неподвижно, легко и вместе строго постукивая тоненькой своей дирижерской палочкой по пюпитру. Требует сосредоточенности от нас и готовности от музыкантов. И вот он взмахивает рукой – и нет больше «лабухов», нет музыкантов, а есть оркестр. И я удивляюсь, как мог я забыть, что меня ждет. Да, я не владею музыкой, но она овладевает мной. И я стыжусь мыслей, разбивавших только что мое внимание. Точнее, сожалею себя свысока, снисходительно.
2 июля
Все чувства проникнуты тем, что совершается на огромной эстраде. Вот смычки разом поднимаются над головами скрипачей. Вот они падают и снова поднимаются. Скрипачи опускают скрипки, опирают их на колено, но сохраняют сосредоточенность и готовность. Вдруг я слышу удивительной чистоты звуки и, к радости своей, чувствую, что у меня сжимается горло. Вот как может звучать флейта, оказывается. Вот как я, оказывается, чувствую музыку! И музыка имеет смысл. Какой – не понимаю. Я слежу не за ней. Симфония подчинила и преобразила строй моих мыслей, как преобразило бы их сильное чувство, даже страсть. И я слежу за строем своих мыслей. Я если и понимаю симфонию, то отраженно, приблизительно. Вот симфония окончена. И я, измученный слабостью, безнадежностью моей любви к музыке, взбудораженный близостью, не перешедшей в обладание, иду в артистическое фойе. Там Зандерлинг без фрака, мокрый, с полотенцем на шее, окруженный друзьями и поклонниками, весело посмеивается, показывает крупные зубы. Кажется, что он после многих трудов и опасностей добрался, наконец, до берега. Весь его вид и полотенце на шее подтверждают это ощущение. «Флейтист? – говорит он. – Да, флейтист у нас удивительный. Вряд ли о каком-нибудь оркестре в Европе найдется лучше. И при этом – такой дурак!» На рояле лежит длинный футляр, плоский, как готовальня, – набор дирижерских палочек. Легчайших. Я в смятении чувств не успеваю разглядеть, из чего они сделаны. Одна, крайняя, чуть ли не из гусиного пера. Другая – из тонкого камыша. И вставляются они в различные ручки? Или мне только кажется? Для всех одна ручка? И едва собираю я, наконец, внимание, как отвлекает меня разговор, завязавшийся между Зандерлингом и Николаем Семеновичем Рабиновичем. Это худощавый, но при этом явно полнеющий еврей. Полнота еще никак не скрыла его худобы. Она разбросана прихотливо по фигуре. Начинает выдаваться нижняя часть живота, например. Лицо овальное. Густые, недлинные волосы назад, и непобедимая привычка – или тик – жевать язык.
3 июля
Он засовывает язык за щеку и жует его усердно, пользуясь для этого любым удобным и неудобным случаем. Он, как и Зандерлинг, дирижер, и музыканты, не шутя, жаловались, что эта дирижерская особенность Николая Семеновича им очень мешает. При всем при том его уважают, и Зандерлинг о нем повторял неоднократно: «Это неважно, какой он дирижер, – он музыкант». Я давно помню Рабиновича, с его молодых лет. Он всегда нравился мне. Помимо того, что связан он был в моем представлении с Андрониковым, веселым и легким Ираклием тридцатых годов, в нем самом, в Николае Семеновиче, ты чувствовал что-то легкое и славное. Некоторое спокойствие и отсутствие суетности, по которому ты безошибочно чувствуешь человека одаренного. Он шел по своей дороге, был настоящим музыкантом, а какой он дирижер, беспокоило его не более, чем следовало. И вот на концерте он подошел к Зандерлингу. И с завидным для меня спокойствием, с тем самым спокойствием, которое дает настоящее знание дела, заговорили они о тех бурях и приключениях, что пережил только что Зандерлинг и от которых отдыхал теперь с полотенцем на шее. И на некоторое время почудилось мне, что в настоящем обладании музыкой есть нечто, затемняющее предмет, как и в моей безнадежной любви. У них любовь была слишком спокойная – так мужья любят жен, не говоря об этом, да иной раз и не понимая этого. Что-то уж больно домашнее. Бытовое. Но Зандерлинг знал законность и другого отношения к музыке. Я спросил его об одной пианистке, которая все металась, как в тревоге или в жару. Не находила себе места. Одно время носила тунику. И все что-то искала, проповедовала. Я спросил, верно ли говорят, что она сумасшедшая. И, сохраняя наивно, до крайности внимательное гелертеровское выражение, Зандерлинг ответил: «Не знаю. Может быть. А может быть, она и есть нормальный музыкант, а мы не нормальны?»
4 июля
Если к своему собственному делу, к литературе, я подходил в двадцатых годах на цыпочках, переулочками, – то к музыке подойти ближе, чем рассказано, я никак не могу. Во втором отделении играл Святослав Рихтер концерт Рахманинова. Он сидел лицом ко мне, и я видел, как изменился он, едва начал играть. Пришли в движение брови, губы, голова. Вначале мне показалось, что в движениях его есть что-то нездоровое, жеманное, я отвернулся и только слушал. Но постепенно я поверил, что движения его непроизвольны, как шипение Зандерлинга, которое иногда различал я даже через оркестр, как выражение напряженного внимания на лицах оркестрантов. Музыка охватывала музыкантов, как страсть, не отнимая рассудка, но преобразовывая и подчиняя его себе. По дороге домой я думал, что музыканты-исполнители беспринципны. На этом уровне очень уж много виртуозов, соединяющих в своей программе композиторов, которые, встретившись, не поняли или возненавидели друг друга. Впрочем, не мое это дело. Меня так часто ужасало непонимание людей, обожающих литературу, но не умеющих читать, в сущности. Чего я выясняю отношения с музыкой? Чего я хочу? У меня есть место вполне определенное и почтенное: в зале. Сиди и слушай внимательно. И все.
9 июля
На букву «И» – один телефон: Издательство «Искусство». Помещается это учреждение в Доме книги, где столько было пережито в 20-х годах. Но я сам и то издательство, в котором изредка приходится бывать, до того не похожи на авторов и издательства тех лет, что никаких воспоминаний у меня не возникает. Тут у меня вышел однажды разговор, особенно разительно подчеркнувший эту разницу. Было это года три назад. Издательство заговорило о том, чтобы издать мои детские пьесы. Я согласился. «Напишите заявление», – сказал директор. «Какое заявление?» – «О том, что вы просите издать такие-то ваши пьесы». И этот порядок в издательстве, где автор подает прошение, привел меня в отчаяние. И книжка так и не вышла.
Перехожу к букве «К». Первой в телефонной моей книжке стоит фамилия: Кошеверова Надежда Николаевна. Познакомились мы с ней давно, в начале тридцатых годов. Как – совсем забыл.
10 июля
Тогда она была замужем за Акимовым… У Акимова бывал я сначала с пьесой «Приключения Гогенштауфена». Потом с «Принцессой и свинопасом», потом с некрещеной и неудачной комедией для Грановской, потом с «Нашим гостеприимством» и, наконец, с «Тенью». Семь лет. И только через два года он познакомил меня с черной, смуглой, несколько нескладной, шагающей по-мужски Надеждой Николаевной, ассистенткой Козинцева. Говорила она баском, курила и при первом знакомстве не произвела на меня никакого впечатления. В дальнейшем же мне показалось, что она хороший парень. Именно так. Надежный, славный парень при всей своей коренастой, дамской и вместе длинноногой фигуре. Вскоре с Акимовым они разошлись. Вышла она за Москвина, и родился у нее Коля. И он успел вырасти и превратиться в очень хорошенького восьмилетнего мальчика, когда завязалось у меня с Надеждой Николаевной настоящее знакомство, непосредственно с ней, – она ставила мою работу, а не Акимов. «Золушку».
11 июля
Начал я писать «Золушку» в Москве. Сначала на тринадцатом этаже гостиницы «Москва». Потом в «Балчуге», потом в «Астории», когда приезжал я в Ленинград по вызову «Ленфильма». Война шла к концу, и вот мы вернулись, наконец, в опустевший и словно смущенный Ленинград. Но ощущение конца тяжелейшего времени, победы, возвращения домой было сильнее, чем можно было ждать. Сильнее, чем я мог ждать от себя… А город, глухонемой от контузии и полуслепой от фанер вместо стекол, глядел так, будто нас не узнает. Но вот вдруг я неожиданно испытал чувство облегчения, словно меня развязали. И с этим ощущением свободы шла у меня работа над сценарием. Песенки получались легко, сами собой. Я написал несколько стихотворений, причем целые куски придумывал на ходу или утром, сквозь сон. И в этом состоянии подъема и познакомился я как следует с Кошеверовой. Она писала рабочий сценарий, и мы собирались у нее обсуждать кусок за куском.
13 июля
И потянулся легкий и вдохновенный, можно сказать, период работы над «Золушкой». И это навсегда, вероятно, установило особое отношение мое к Кошеверовой. Словно к другу детства или юности. Что-то случилось со мной, когда вернулись мы в Ленинград. Словно проснулся.
23 июля
Надежда Николаевна после «Золушки» хотела поставить еще одну картину по моему сценарию, но ничего с этим не получилось. Но так или иначе продолжала она работать без простоев, столь обычных у режиссеров в прошедшие годы. И Козинцев, полушутя, жаловался: «Надя опять мечется с монтировками в зубах». «Я чувствую, что с Надей все кончено. Она опять утонула в монтировках». И в самом деле – в работе она была на зависть вынослива, неуступчива, неутомима. И делала то, что надо. Не мудрствуя лукаво. Убеждена была она в своей правоте без всяких оглядываний. И когда друзья налетали на нее по тому или другому случаю, касающемуся ее режиссуры, она в ответ только посмеивалась, баском. И хотел написать – поступала по-своему. Но вспомнил, что в тех случаях, когда доводы оказывались убедительными, она спокойно соглашалась. Нет, упрямство ее было доброкачественным. А иногда оставалась при своем, хотя друзья налетали строго и темпераментно, – Надя была отличный парень, великолепный товарищ. Во-первых, не обижалась. А во-вторых, обидевшись, так и сказала бы, а не ответила бы ударом из-за угла. Чего же тут стесняться. Так вот она и живет. И дом на ней. И работа… Не мудрствует лукаво, славный парень, отличный товарищ. И в работе, и дома, и с друзьями.
Следующая фамилия – Конашевич Владимир Михайлович. Его одарил господь легким сердцем. Это не обидчик, как Лебедев. Черные мягкие глаза.
24 июля
Мягкое, но никак не искательное выражение лица. Некоторая мягкость, но никак не полнота фигуры. Воспитанность. Мягкий теноровый голос. И все это от природы, но не от желания импонировать. Легкий человек. Плохие мальчики – Лебедев, Лапшин, Тырса – косились несколько на Конашевича. Он казался им слишком хорошим мальчиком, слишком воспитанным «Миром искусства». Но признавали в нем художника. Нехотя. С легким пожиманием плеч. По крови украинец, даже запорожец, потомок того Сагайдачного, что «променял жинку на тютюн да люльку, необачний»[483], Владимир Михайлович не унаследовал воинственности предков. Не лез в бои. И жил всегда в Павловске. В стороне. С краю. И не менял жену на тютюн да люльку – семья его оказалась прочной. Я приехал к нему в тридцатых годах на блины с Маршаком, который все не мог выбраться в путь, охал, терял палку, портфель, кепку, и в дороге задыхался, и, приехав, повалился на диван. С Олейниковым, который от ненависти к Маршаку слишком шумел за столом. С Лебедевым, который, как символ веры, провозглашал, что он ест, а что не принимает в пищу. «У меня есть такое свойство». И среди этих неблагополучных людей благополучие дома Конашевичей могло показаться изменой. Спокойно! Легко! Хозяин сыграл с дочкой дуэт на скрипках! Впрочем, может быть, играл он один, или она одна, – все равно неукладистые гости, вспоминая, пожимали плечами. А сейчас вдруг видишь, что Конашевич не поднимал шума, с легким сердцем ни на шаг не уклонился от своего пути. Жил, как ему свойственно. И выяснилось, что свойственны ему вещи настоящие. Делать настоящие вещи и при этом без тиранства. Без мозолящего глаза щеголяния силой и непримиримостью. Мягко, но непримиримо, с легким сердцем, но упорно действовал он так, как ему свойственно. Ну и хорошо, и слава богу!
25 июля
Следующая фамилия – Козинцев, но о нем писать решительно не могу. Сейчас я работаю с ним, и взгляд на него отсутствует. Его изящество. И снобизм, родственный и Акимову, и Москвину, уходящий корнями в двадцатые годы. Самолюбие и отсюда скрытность. Талантливость. Знание настоящее. И все это окрашено его собственным цветом, имеет особую форму. Это его талантливость, его снобизм, его злость. А когда работаешь с человеком, на одно закрываешь глаза, другого не видишь. Я когда-то пробовал писать его, надо будет поискать и вставить при перепечатке. А сейчас спокойно искать форму для рассказа о нем – все равно что подмигивать за спиной товарища, указывать глазами неведомо кому на него. Не получается у меня даже отказ от описания Козинцева.
Следующая фамилия – Козаков, Миша Козаков. Об этом трудно говорить по другой причине. Он слишком уж далеко. На том свете. Недавно, на второй или третий день съезда, в Доме писателей в Москве мы были на гражданской панихиде о нем. Он лежал высоко, кругом венки, а мы, соблюдая очередь, стояли в почетном карауле. Маленький, красивый, черненький Миша Козаков стал за годы нашего знакомства болезненным, обрюзгшим. Волосы поредели. Ходил он с палкой. И вот увидели мы его мертвым. И проводили на Немецкое кладбище в Москве, до сих пор не по-нашему прибранное. Проводили, полные растерянности, – уж очень сразу он свалился. От больного человека не ждешь конца. Напротив. Столько раз слышал, что ему плохо, и столько раз удавалось ему выжить. И вот вдруг – конец.
26 июля
Искренняя доброжелательность – вещь редкостная, а у Миши Козакова, когда мы встретились в двадцатых годах, сохранялось в этой самой доброжелательности что-то студенческое, особенно привлекательное. Он хотел, разговаривая, понравиться и подружиться… У Миши обнаруживалась решительно склонность к проблемам. Но времена пошли суровые. Лапповцы[484] принялись его школить весьма свирепо. Он сам сказал как-то, выступая на одном собрании, что его, как бобра, гоняют по кругу, чтобы он поседел от ужаса и повысился в цене. И принялся Миша, оставив проблему, за многотомный труд: «Девять точек»[485] . Со студентом роднила Мишу общественная жилка. Он занимался делами общественными по склонности душевной. И если ему нравилось, что его выбирают, что он в руководстве, то и обязанности свои выполнял он честно.
27 июля
Особенно хорош оказался Миша Козаков как редактор. Он отлично вел «Литературный современник» и расцветал в редакционной среде[486] . Жил журналом, сиял, угадывал, чем жив сегодняшний день, шел, улыбаясь, к автору, по-студенчески стараясь подружиться с ним и понравиться ему.
28 июля
Миша Козаков жил интересами литературы. Нет, о нем надо рассказывать иначе. Начну сначала. И не сплошным рассказом, а по годам. Впервые я воспринимал их как-то всех вместе, новых писателей, появившихся во второй половине двадцатых годов. Лавренев, длиннолицый, в очках. Олейников уверял, что подобные лица нарисованы на спинках длинных красных плоских жуков, что вечно мы видели в детстве, под кустами. Когда Лавренев смеялся, то поднимал недоумевающе брови. Браун[487], замкнутый, с сероватой кожей, и такими же бровями, и такими же глазами, неулыбающийся. Четвериков[488], высокий, широколицый. Отчаянный, чуть шепелявый, с веселым и разбойничьим взглядом Борисоглебский[489] . Занятый собой, детской литературой, не веря, что вне нашего отдела ость настоящие писатели, я не скоро научился отличать их всех друг от друга.
Нет, и это начало не годится. Вдруг что-то стало меня беспокоить в форме моих рассказов о телефонной книжке. Попробую иначе. Первая встреча с Козаковым произошла. Нет, не так. Двадцатые годы. Я стою в очереди, веселой и возбуждающей, – получать деньги в бухгалтерии Госиздата. Касса для всех отделов – общая. Тут и детские писатели, и сотрудники научного отдела, и участники альманаха «Ковш»[490] . И все мы знали друг друга, пригляделись в коридорах издательства. За мной в очереди писатель, которого знаю в лицо я давно, а фамилию узнал только на днях. Я не слишком верю, зараженный сектантской нетерпимостью детского отдела, что есть люди вне нашей редакции, и не слишком хорошо знаю, что там пишет Михаил Козаков. Но я слушаю его с невольной приязнью, трогает искренняя, еще студенческая, не отсохшая, не убитая приветливость. Он приветлив для того, чтобы подружиться. Маленький, легкий.
29 июля
Хорошенький. Чуть покатый лоб, который он многозначительно морщил. Черные глаза, которые он многозначительно открывал. И неудержимое праздничное сияние. Радуясь, развивал он передо мной тему, проект вещи, которую интересно было бы написать. Сын, мальчик-подросток, не уважает отца. Он пионер. Как ему поступить? И, рассказывая, Миша приговаривал: «Это проблема! Этого не решишь просто!» И, сияя, поглядывал на меня. И я узнавал студента, который охотно выступал в свое время в литературных судах над Раскольниковым или героями пьес Андреева. Он еще любил слово «проблема». Оно его вдохновляло и веселило, и он широко открывал свои черные глаза.
А я радовался, глядя на него, – такой он был хорошенький, ладный, сияющий и доброкачественный. Спустя некоторое время увидел я его во второй раз. Или мне рассказал об этом Олейников. В Доме книги, как в Ноевом ковчеге, спасались от потопа и люди, и звери. И по возможности не ссорились. Хищники не были достаточно уверены, что в новых условиях можно охотиться по-прежнему. Поэтому в редакционных кабинетах тон царил вежливый, веселый. Только изредка взглядывали друг на друга с излишней зоркостью. И вдруг в одном из кабинетов при большом стечении народа вспыхнул спор – неожиданно открытый. Один хищник показал коготок: обругал за бессодержательность хороший рассказ. В печати. И автор рассказа обрушился при встрече на хищника. Всенародно. Хищник дрогнул. Все смутились. А Миша Козаков, растерянно, желая убедить критика, повторял, наморщив лоб и открыв глаза: «Это ж цикл! Его рассказы – цикл!» И это слово нравилось Мише. И казалось многозначительным. От встречи к встрече становился он все понятнее.
30 июля
Он был и общественником на студенческий лад. Такие сияющие, легкие, веселые распорядители с бантами носились на вечерах своего землячества. Они радовались тому, что распорядители, но вместе с тем делали свое дело самоотверженно. Так и Миша. Когда во время кампании против хулиганства попал по роковому своему характеру под суд Пантелеев, – выручил его Козаков. Дело слушалось без сторон. И Миша Козаков явился в восемь утра в качестве свидетеля со стороны Союза писателей. Объяснить суду, что Пантелеев никак не хулиган, а подающий надежды писатель, автор книги, отмеченной самим Горьким[491] . И Миша выполнил свою задачу с таким увлечением, что председатель остановил его… Но Пантелеев был спасен… Встречались мы не часто. Вот в тридцатом году идем мы с Катюшей по лестнице в Сочи, поднимаемся от ресторана, где обедали. И Миша, весь в белом, по-летнему, легкий, хорошенький, сияющий, идет навстречу. И обычное ощущение от него – доброкачественности и доброжелательности – делает эту встречу особенно веселой.
Ничего не произошло, а встреча почему-то осталась в памяти освещенной солнцем по-летнему, по-черноморски.
31 июля
Встречались мы не часто, но прожили в одном кругу, тесном кругу, уже более десяти лет, радовались одному и тому же, и ужасали нас в основном одни и те же явления. В начале тридцатых годов были мы уже на ты. А с 34 года поселились в одном и том же доме, в писательской надстройке. Миша развелся с прежней своей женой, с которой я не был знаком, и женился на Зое Никитиной. О Зое мимоходом не рассказать, а отступать от основной линии описания не хочется. Скажу только, что считалась она женщиной красивой, богатая фигура, небольшая голова, гладкая прическа, огромные глазища, по-восточному темные. Была Зоя греческого происхождения и унаследовала бешеную энергию своего племени. Голос низкий. Хрипловатый. Психическое здоровье – как у парового катка. И она, и Миша всем существом своим были преданы интересам литературным. Когда кончился РАПП[492], стал Миша редактором журнала. И со студенческой энергией, которая все не отсыхала, ринулся он вести «Литературный современник». Незримый бант распорядителя трепетал на его груди. Он радовался тому, что распорядитель, но работал самоотверженно. И его страстный интерес к сегодняшнему дню литературы, и общественная жилка, и доброжелательность, и доброкачественность – все пошло впрок. После того как погоняли Мишу по кругу, страсть к острым проблемам у него поулеглась. Он затеял цикл. Цикл историко-революционных романов под названием «Девять точек». А время все шло и шло.
1 августа
Мне теперь трудно вспомнить, когда студенческие черты Миши уступили место признакам зрелости, а может быть, и старости. Пожалуй что никогда. Если Миша по нездоровью появлялся на улице с палочкой, то казалось – сам не верит, что она ему необходима. Войну принял тяжело. Он не принадлежал, как выяснилось, к верующим, к людям, не сомневающимся, что бомба предназначена не ему, но соседу. Жарким летом 41 года тревоги объявлялись часто – разведчики летали над городом. И никто не уходил в бомбоубежище. Мы сидим у Эйхенбаумов, идет обычная беседа тех дней: слухи о движении фронта. За окнами – стук, сухой и резкий: играет в домино какая-то команда, расквартированная в нашем дворе. Сигнал воздушной тревоги был дан минут десять назад, но ничего не прибавил к унылой, ноющей, предблокадной тревоге, не оставляющей ни днем ни ночью в те июльские дни. Да еще не улеглась тоска по уехавшим детям, во главе которых отправилась Зоя[493] . Что нам этот ежедневный бесплодный вой сирены. И вдруг Миша встает и говорит: «Товарищи, пойдемте в бомбоубежище».
2 августа
Сначала мы принимаем это за шутку. Но он настаивает. Сияние – отсутствует. Ничего студенческого ты в нем теперь не обнаруживаешь. Это говорит взрослый человек, на своей шкуре испытавший, как неумолимы и механичны враждебные силы, если приведены в действие. За пережитые годы в его многозначительно нахмуренный лобик палили из орудий, говорили ему невесть что прямо в сияющие, многозначительно открытые глаза. Даже друзья, такие, как Лавренев, бросались вдруг на него, захваченные течением. Миша, переживший столько собраний, знал, что бомба попадает в человека ни за что ни про что. Просто если окажешься ты в полосе поражения. «Идемте в бомбоубежище», – звал он нас, как старший неразумных детей, но мы отказались. И он ушел в одиночестве. И мы поругали его дружно, с наслаждением. Очень утешали в те дни разговоры о чужой робости.
7 августа
Судьба не посчиталась с Мишиным желанием уцелеть. И его простодушием. Мы поехали на Пятницкую. По дороге узнал я, что, по всей видимости, тот страстный интерес к литературным делам, которым он жил, и убил его. Миша вечером поехал в Союз за гостевым постоянным билетом. Продержали там ожидающих до глубокой ночи. Тревожили их различные неясные и невеселые слухи. Так они и уехали ни с чем. Утром позвонили Мише, что билет для него получен, чтобы ехал он в Союз. Но он только и успел спуститься вниз. Обратно привели его под руки. В маленькой квартире толпились, когда мы приехали, растерянные и словно виноватые друзья. Зоя плакала в спальне, окруженная писательскими женами. Она метнулась нам навстречу. Мы поцеловались. «Вы только берегите себя, берегите себя», – повторяла она горячо. И тоже растерянно и как бы виновато.
8 августа
Из трусости оборвал я рассказ о Козакове. Буду продолжать, хоть и не хочется писать о смерти. Он лежал на столе в комнате возле, и впервые его побаивались, хоть он и улыбался едва заметно. Мы постояли возле, не зная, что говорить в смятении чувств. На другой день в Доме журналистов состоялась гражданская панихида. Приехал Федин. Оставил свое председательское место на съезде Фадеев, стоял у гроба в почетном карауле, седой, краснолицый, строго глядя прямо перед собой. А съезд продолжался без живых и мертвых. Там, в перегретых залах Дома Союзов, слонялись делегаты. Прожектора оскорбительно лупили прямо по глазам и меркли, будто насытившись. А здесь Федин, говоря надгробную речь, вдруг стал останавливаться после каждого слова. Молчал, побагровев, потупившись. Борясь со слезами. И Мишу ему было жалко. И вспомнилось, наверное, как хоронил недавно жену. Да и себя пожалел – трудно, стоя у гроба, не думать и о своем возрасте, и о своей судьбе. И Федин сохранил до наших дней студенческие черты. Только не распорядителя на вечеринке, а покрупнее. Председателя землячества. Знающего, что кроме всего прочего он еще и красив. Но был он по-студенчески прост и добр. А когда кончилась панихида, двинулся гроб к распахнутым на обе створки дверям, прямой, несгибающийся, почтительно поддерживаемый со всех сторон провожающими, – где же ты, легкий, покладистый Миша! На Немецком кладбище, куда добирались мы долго-долго, сохранилась еще нерусская подтянутость. С правой стороны глянул на нас с серого памятника суровый генерал в эполетах. Стааль. Комендант Москвы при Николае I.
9 августа
Затем свернули мы с главной аллеи налево, с трудом пробираясь по сугробам среди чугунных решеток к свежеразрытой земле, где ждали могильщики с лопатами и веревками. И здесь вдруг над открытой могилой заговорила Марина Чуковская. Так не шел ее уверенный, столько лет знакомый голос к венкам и крестам. И я испытал желание закрыться или убежать. Ужас неловкости охватил меня. И медленно растаял. Знакомый женский голос говорил о самом главном, забытом в смятении чувств. О доброкачественности душевной, порядочности и страданиях Миши Козакова. Потом постояли мы над прикрытой венками могилой, не зная точно, сколько времени положено это делать, переглядываясь. И наконец отправились по узкой дорожке, протоптанной в сугробах между чугунными оградами к главной аллее. Здесь подошли мы поближе к памятнику генерала Стааля и прочли, что водружен монумент иждивением друзей и подчиненных.
Следующая фамилия – Казико. Увидел я ее на сцене впервые в 24 году. Голос низкий, иной раз с тем надломленным звуком, что бывает у мальчиков-подростков, лицо, показавшееся мне ослепительным. Я в этом подвале на Троицкой, где открылся [театр-кабаре] «Карусель», в своих стоптанных бутсах и обмотках, со своей запутавшейся жизнью, едва смел разговаривать с актерами. Но как мне нравилась Казико! Она была проста, однако я терялся, едва входила Ольга Георгиевна в темный театрик-кабаре. И не смел не то что заговорить, даже поздороваться с ней. Самые прожженные и непристойные волки и крысы с Казико были ласковы и почтительны. Такой лаской веяло от нее. Лаской таланта и женственной прелести. То один, то другой вдруг завязывал длительные беседы с ней. О жизни. Вообще. А я поглядывал и не завидовал.
10 августа
В то странное время я все видел и ощущал как бы приглушенно. Через пыль. Так что моя влюбленность переживалась ослабленно. Как бы сквозь сон. Я просыпался в те годы, но оцепенение сна еще владело мной. Я написал для кабаре «Карусель» первую свою пьеску под умышленно длинным названием «Три кита уголовного розыска, или Шерлок Холмс, Нат Пинкертон и Ник Картер». Пьеску эту лихо оформил Акимов, лихо поставил кто-то, чуть ли не Вейсбрем, лихо разыграли актеры, их всех хвалили, а про меня и не вспомнил никто.
И я считал, что так и следует. Впрочем, так оно, вероятно, и было, – вряд ли эта пьеса чего-нибудь стоила.
11 августа
«Умные речи и дурак поймет», как говорится. Не знаю, в этом ли разгадка, или зритель умнее, чем кажется? Если вывести его из рассосредоточенности, указать, куда смотреть, он все начинает понимать не хуже других, по-видимому. Едва появлялась на сцене Казико, зритель преображался. Однажды сидел я в зале во время спектакля, и кто-то подшутил над фамилией – Казико. И тотчас же некий человек в визитке, с пробором, до сих пор не проявлявший признаков жизни, как и подобало пижону тех лет, вдруг с яростью обрушился на обидчика. Он кричал об уважении к актрисе. О том, что Казико – хорошая, старая казачья фамилия. О культуре и об искусстве. Спутники успокаивали его, а он ворчал: «Да нет, в самом деле. Обижают молодую талантливую артистку. Есть предел… некультурности». А играла Казико в какой-то ничтожной пьеске – никак не могу ее вспомнить. Но такой победительной силой таланта и женственной прелести веяло от нее, что даже несокрушимые пижоны из уцелевших и те проникались почтением к артистке.
14 августа
В двадцатые годы всё бывали у нас актрисы, полные яда, склонные произносить смертные приговоры. И ни разу не нападали на Казико. Напротив – похвалили за то, что не осталась она в Ленинграде, а уехала в провинцию, где играет с успехом таким, что и в Ленинграде об этом говорят. Однажды услышал я, что у нее роман с неким человеком. И она путешествует со своим возлюбленным по Крыму. И что-то, к моему удивлению, больно кольнуло меня. Жил я в те годы связанно, робко, а тут пахнуло на меня вдруг свободой. И явственное чувство ревности. Все тот же тесный круг привел к тому, что я познакомился с Казико. Но не близко. И каждый раз, когда я видел ее на сцене, – удивлялся и радовался. А однажды на концерте объявили, что Казико будет читать Пушкина. Я испугался, но опять – словно подарок. Она нашла общее чувство стихотворения. И не топила его выразительностью. И вот пришла война. Казико еще в 28-м, кажется, году вернулась в Ленинград, в Большой драматический театр. С огромным успехом выступила в «Разломе»[494] . И осталась в этом театре. И вместе с ним эвакуировалась в Киров областной, куда попали и мы. Большой драматический театр состоял из нескольких наслоений: монаховское, группа Дикого, и так далее, и прочее. Друг друга они настолько презирали, что даже и не ссорились. В Кирове утонули в бытовых делах с темпераментом, воистину актерским. А Казико держалась в стороне. Это время совпало с трудным для нее актерским ощущением; она теряла уверенность в себе. Молодость уходила. Театр, чтобы поднять сборы, поставил «Трактирщицу»[495] . Казико в Мирандолине успеха не имела. Что товарищи по работе отнесли целиком на ее вину, забыв о количестве репетиций и прочих обстоятельствах. Жила она в том же актерском доме, деревянном, двухэтажном, что и мы. Таскала во второй этаж дрова вязанками, стряпала, бегала на рынок.
15 августа
Есть ощущение, знакомое каждому. Ты погасил летом свет, думаешь уснуть, но мешает сухой шорох и сухие удары о стену. Это ночная бабочка мечется по комнате. Что тебе до ее горя? Но она бьется головой о стену, с непонятной для ее почти невесомого тельца силой. Ты зажигаешь свет. И она уходит к абажуру лампы под самым потолком, серая, короткокрылая. Может, это и не бабочка вовсе, а ты так и не удосужился за всю свою долгую жизнь спросить, как ее зовут. Если удастся тебе поймать ее, то так отчаянно бьется она о твои ладони и уходит так круто вниз, когда бросаешь ты ее за форточку, что так ты и не знаешь, отпустил ты ее на свободу или окончательно погубил. И некоторое время не оставляет тебя суховатое и сероватое, как само насекомое, ощущение неудачи – неведомо чьей и собственной твоей неумелости.
16 августа
Ничего Казико не имела общего с ночной бабочкой, которую я описал. Похоже было беспокойное чувство, возникавшее во мне, когда слышал я, как третьестепенные актеры ее бранили за то, что играет она недостаточно удивительно. Или когда замечал я вдруг, как много появилось седины в ее стриженых волосах. Каждая девчонка осуждала ее за то, что не умеет Казико следить за собой, полнеет. А с мужчинами несчастна, потому что отдает им себя полностью, не рассуждая. «Вот как оно, значит, было», – подумал я и представил себе то, что в те дни сметено было со света: спокойную крымскую ночь в степи, виноградники. При ближайшем знакомстве, да еще в эвакуации, Казико оказалась еще прелестней, чем представлялась. Лишена была бабьей цепкости и хитрости. Как она открылась, так и цвела. И не считала, что мир обязан ей служить за это. И теперь начинала стареть с достоинством. Но чувство необъяснимое, но отчетливое не оставляло. Все то же чувство чьей-то вины и собственной неумелости. Она не суетилась, не билась головой, но ощущение, что и она попала в какую-то ловушку, появлялось. Иногда. Среди вятской грязи, безобразия, среди воровства чиновников и их высокомерия, под ежевечернее пение солдат: «Прощай, прощай, подруга дорогая» – трудно было задумываться над судьбой женщины, хотя бы и созданной из столь драгоценного материала. А главное, она не жаловалась. Вечерами в нашем театральном доме вечно гас свет, и Казико появлялась у нас в гостях. Впереди шагала маленькая ее дочка с фонарем в руках. Словно паж. И не горечь, а радость испытывал я, услышав столь доходящий до сердца, словно тронутый, чуть-чуть расколотый ее голос. Когда я прочел ей «Одну ночь», Казико сказала: «Ну вот – все то же! Мне казалось, все, что творится в Ленинграде, страшным безобразием, полной непонятностью – а в пьесе все понятно». И я согласился. Что делать. Когда переносишь явление в область искусства, приобретает оно правильность! Вот и Казико рассказал я проще.
17 августа
Все эти дни читал я «Дневник писателя»[496] . О трех идеях, что приготовились к смертельной схватке: романская, германская и славянская. Читал свирепые, задыхающиеся проповеди, словно в дыму и ладане. Перечитал «Бобок».[497] То гениально, то деспотично. И вдруг утром прочел у Чехова рассказ «Свадьба» – не тот, что с генералом, а просто бессюжетное описание свадьбы. Где прелестно описано, как бесшумно, как тень, опускается невеста на колени, чтобы отец благословил ее иконой. В рассказе много смешного. «Спиро!» – «Цичас». Два голоса в горле у кучера кареты. Тоненький – «тпру» и басовый – «балуй». Но вот легкая перемена тональности – и с каким уважением показана невеста. И сколько воздуха, как легко дышится. Нет ладана. Но и нет желания карать. Бесспорно, нет ни у кучера, ни у музыкантов в проходной никаких трех идей. Как и не было. То, чем они обернулись, – господь с ними.
18 августа
То, как обернутся идеи XIX века, став в XX действием, снилось Достоевскому. Иногда пророчески. Иногда со всей нелепостью сна. И пророчества, сбываясь, как это любит жизнь, оборачивались так, что ни в каком сне не приснится. Объединение славян сбылось. Но не так. Сбылись кое-какие злые пророчества. Но вот чего не ждал ни один пророк и не пророк, предскажи – засмеяли бы, – это великое значение Достоевского именно в Германии. В России собрания его сочинений у букинистов стоят дорого. Так называемое юбилейное – свыше тысячи. Его читают, но массовыми тиражами издают с осторожностью. Словно боятся. В Германии же – кто только на него не ссылался, от Ницше до Фрейда. И сам Эйнштейн говорил об интеллектуальном наслаждении, которое испытывает он при чтении Достоевского. Вот тебе и непримиримая борьба трех великих идей. Значит, не в этих идеях бог. И черты всечеловечества обнаружились шире, чем ждал Достоевский. Зачем же было так страшно греметь ключами возле камеры, где и топор, и плаха? Впрочем, довольно. Достоевского я люблю. Но прочел Чехова, и мне почудилось, что я воскресаю.
21 августа
Следующая фамилия – Кетлинская Вера Казимировна. Познакомились мы году в тридцатом, когда детский отдел Госиздата кончился и мы стали работниками «Молодой гвардии», если я не путаю. Время, во всяком случае, наступило новое. «Еж» реконструировался, и Кетлинская была назначена туда не то редактором, не то введена в редколлегию. И мы с ней поехали по школам.[498]
22 августа
Решено было приблизить журнал к задачам педагогики сегодняшнего дня, чем от времени до времени, в моменты своих реформ и реконструкций, занимаются все наши детские журналы. Я много лет не бывал в школе в часы занятий. И напомнила мне она сумасшедший дом. Для меня это было настоящим открытием. Раздался звонок, и в коридоры школьного здания вывалились школьники, умышленно создавая давку в дверях. Девочек не помню. Всё заняли во всю свою силу галдящие мальчики, стриженые, с излишне большими затылками, с нездоровым цветом лица. Они то и дело схватывались, словно желая подраться, и так же внезапно разбегались в разные стороны. И при этом не казались веселыми. Это был этаж, занятый младшими классами. И запах в нем стоял не то как в зверинце, не то как в больнице. Ничего нового я не увидел, все было знакомо с детства. Не так уж давно и сам я вылетал на перемену с жаждой двигаться, кричать, стукнуть, двинуть. Я только понял то, чего не понимал тогда. И еще одно: рост человека похож на затяжную болезнь. И еще: мальчики не личности, а личинки. Ошеломленные шумом, прошли мы в учительскую, где беседовали с директором. Мы попросили познакомить нас с ребятами младших классов особенно недисциплинированными.
23 августа
Директор, всем своим видом показывая, что ни с чем он не согласен, но повинуется, пошел, словно повар в живорыбный садок, вылавливать заказанную породу рыбы. Мы ждали в каком-то из кабинетов, с длинными столами, – методическом, что ли. После довольно долгого ожидания раздался визг и свист, и в дверь вломились мальчики всё такие же – с большими затылками и тонкими шеями. Иные бежали на четвереньках. Это и были главные бузотеры, сразу проведавшие, зачем их собрали вместе. И ничуть этим не смущенные. Напротив. Набралось их с дюжину. Разговаривая с ними, убедился я еще раз, что бузить никак этим бузотерам не весело. Плохое поведение словно бы одолело их и не отпускало. Всё эти ребята отлично понимали, но от понимания до действия лежала у них пропасть еще большая, чем у взрослых. Ушел я из школы несколько обескураженный тем, что припомнил, увидел и понял. Ясно, что дело заключалось в воле этих ребят. Они могли связать две-три мысли, но действия их были бессвязны, что мучило самих бузотеров. Следовательно, дело шло о воспитании воли. Кетлинская разговаривала с педагогами и ребятами спокойно, вполне веря в значительность журнала «Еж», в комплексный метод как единственно правильный, обвиняя мягко, но спокойно и уверенно директора в том, что он недоучел воспитательную роль пионерской организации. И при первом же знакомстве нельзя было не заметить одной особенности Веры Казимировны: она и в самом деле верила во все это. Всем существом. Без всяких подмигиваний в сторону – дескать, мы сами понимаем, да приходится. На пути в издательство в трамвае рассказывала Вера Казимировна о себе, и я убедился, что и в себя она верит так же степенно и достойно, как в свою общественную деятельность. Несмотря на свой возраст, выпустила уже Вера Казимировна книжку, название которой забыл[499] . И в книжке этой – я прочел ее вскоре – она рассказывала о девушке, которую обидели. Рассказывала уж больно просто.
24 августа
Но с полной верой в значительность рассказываемого. В «Молодой гвардии» я с удивлением убедился, что молодежь, в отличие от школьного возраста детей, схватывается не на шутку. Такая склока стояла в «Молодой гвардии», что просто клочья летели. Ощущения сумасшедшего дома, которое поразило меня в школе, не было. Редактора схватывались и дрались на разумных основаниях. У каждого была своя идея. Как вести дело, уверенность и возрастное неумение уважать кого бы то ни было, кроме самых высоких личностей. Друг друга-то они уж во всяком случае не считали за людей. Кетлинской в подобных склоках доставалось особенно жестоко. Вероятно, несокрушимая последовательность ее веры раздражала товарищей по работе. Больше всего любили ее бить, вытаскивая из мрака прошлых лет биографию ее отца, бывшего царского адмирала, перешедшего в Красную Армию и убитого в Архангельске на улице. Убийца же скрылся. Когда я познакомился с Кетлинской, было общеизвестно, что убит адмирал белыми. Но вот дела Кетлинской ухудшались, склока обострялась. И на свет в чаду и пламени рождалась темная и неясная, но упорная история: отец Кетлинской убит красными. Почему воспитывалась она на счет государства, а мать получила пенсию и продолжала получать, несмотря на новую версию, – оставалось неясным. С Кетлинской в первые годы нашего знакомства отношения были благожелательно-равнодушные. Но мне скорее нравились последовательность ее поведения и бодрость – тоже вытекающие из цельности мировоззрения. Когда ушел я из «Молодой гвардии» в 31 году, то встречались мы от случая к случаю. Но все так же благожелательно. Как-то я даже был у нее в гостях – в тот период, когда была она замужем за художником Кибриком. Жили они в надстройке, окнами на Перовскую. Кибрик попросил меня постоять неподвижно, поднявши кулаки. Он иллюстрировал «Кола Брюньона», и я ему немножко попозировал для фигуры монаха. Все в доме дышало верой в то, что жизнь идет как должно. В гостях бывали актеры.
25 августа
Все было просто, ясно, отчетливо, как аппликации, в мире, созданном Кетлинской. Муж – художник. Гости – умные актеры Коковкин[500], Никитин[501] и другие. Партийная работа. Писательство. Но мир подлинный бесстрастно разрушил ее домик. Взял да и ушел муж, такой простой, такой медведь. Сообщил ей, что полюбил другую, и попросил понять его. Пришли темные и трагические времена в партийной жизни, и появилась вызванная вечными ее врагами тень несчастного ее отца. Но, встречаясь с ней, каждый раз любовался я на ее выдержку. Ни жалобы. Голос звучит с обычным спокойствием. И врагам не удалось справиться с нею. И к 41 году занимала Кетлинская в Союзе место вполне отчетливое. Состояла в правлении, в секретариате, выходили ее книги.
26 августа
И вышло так, что когда грянула война – Кетлинская оказалась первым секретарем Союза. И вышло так, что я, Рахманов, Орлов и Женя Рысс[502] встречались с ней каждый день и как раз по вопросам руководства.
Жила она, как я рассказывал уже, в надстройке. Ее мать и грудной сынишка, родившийся тоже в нарушение законов созданного ею мира, переселились в бомбоубежище. Мальчик заболел воспалением легких, Катюша ставила ему банки. Мы постоянно встречались на дежурстве. В самые трудные времена видел я Кетлинскую и на работе и в быту. И должен заявить со всей ответственностью, рад заявить, что оказалась она человеком вполне достойным. И все мы четверо – и я, и Рахманов, и Орлов, и Рысс – сохранили к Кетлинской с тех пор до наших дней вполне дружеские отношения. Тогда как другие члены Союза, стоявшие от нее дальше, прониклись к ней самой искренней и прочной ненавистью, тоже сохранившейся в неприкосновенности и чистоте до сегодня. И ее упорно не хотят выбирать в правление, что доказано и на последних предсъездовских выборах. В чем же дело? А все в том же. Вера Казимировна с полной верой и с полной последовательностью проводила ту линию, которую ей указывали. Не подмигивая и не показывая большим пальцем через плечо: дескать, не я виновата, а высшие силы, мной руководящие. Она брала всю тяжесть в эти тяжелые времена на свои плечи. Распоряжалась и приказывала от своего имени. Ни на миг не позволяя себе усомниться в правильности приказов, которые отдавала от своего имени и от всего сердца. Вот этого ей и не могут простить. И в самом деле – на кого же сердиться? Не на горком же тогдашнего состава. Кетлинская до сих пор вызывает сильнейшее раздражение даже среди людей вполне порядочных. Она для них олицетворяет голод, холод, блокаду, чувство беспомощности твоей и бесполезности. Она – тот Ванька, которому в трудные времена крутили локти и вели сбрасывать с раската. По решению Кетлинской Союз вел творческую работу. Пытался существовать в вымышленном мире. Вот назначается собрание правления с активом для обсуждения «Звезды».
27 августа
Все пытались держаться как ни в чем не бывало на этом собрании, что было так же непросто, как сидеть под проливным дождем, не придавая ему значения. Придавай не придавай, промокнешь насквозь. Мы были погружены в войну, и всякие попытки обсуждать очередной номер «Звезды» как ни в чем не бывало являлись притворством. Но есть инерция заседания, которой нельзя не подчиняться. Председатель председательствовал, предоставлял слово очередному оратору, оратор ораторствовал, его слушали и не слушали, но вот завыла сирена – и наступил вынужденный перерыв. Нам предложили спуститься в бомбоубежище, а попросту говоря, в гардеробную Дома писателя в полуподвале.
28 августа
Мир, созданный Кетлинской, не поддавался войне. Не Вера Казимировна придумала слово «дистрофия», например. Но могла бы придумать. Именно с помощью таких легких изменений имен и мог существовать ее дневной, без признака теней, мир. Назови голодающего дистрофиком – и уже все пристойно. Принимает даже научный характер. Холод и грязь – «трудности». Смерти нет. Есть «потери». Но при всем при том Вера Казимировна неустанно хлопотала об облегчении писательской участи. Хлопотала так, словно бы дистрофия была не лучше голода. Если поначалу ей удавалось сделать немного, – то виною тяжелые времена. И те, кто думает, что для себя она еду добывала, находятся до сих пор во власти своих рожденных в голоде и холоде представлений. Кетлинская очень любила свою мать, маленькую черноглазую старушку, всегда в шарфе, чалмой завязанном на голове, всегда светски оживленную. И никто не хочет вспомнить, что умерла она, бедняга, от дистрофии. А Вера Казимировна делила с матерью последний кусок. В 42 году вышла Вера Казимировна замуж. Зонин[503], ее муж, был человек с ярким лицом.
29 августа
Седыми волосами. Храбрый на войне, как рассказывали очевидцы. И при этом тяжело изуродованный психически, как это смутно угадывалось. Его первая жена расстреляна была за участие в оппозиции. Если в те времена отделался он только исключением из партии, сохранив свободу и орден Красного Знамени, – то, значит, перетряхнули его до самого донышка. И невозможно было угадать, где в его душе лицо, а где изнанка. Отпраздновали они свою свадьбу так: каждый из гостей принес кроху своего пайка. Но в Союзе даже хорошие люди, оставаясь во власти темных своих представлений, рассказывают до сих пор о пире, который закатила Кетлинская, когда люди кругом гибли с голоду. И вот война отошла, наконец, в прошлое. Я заходил как-то в новую квартиру Кетлинской. Зонин устроил свою комнату на морской лад, с андреевским флагом. Яркая получилась комната и странная, господь с ней. Беспокойная. А время пришло после войны немирное. И должен сказать, что Кетлинская держалась храбро. На заседании в Смольном, том самом, что было посвящено журналам «Звезда» и «Ленинград», выступила Кетлинская едва ли не единственная с вполне трезвым словом, где заступилась за Берггольц. А враги ее, как всегда оживающие в трудные для Союза времена, зашевелились. Снова появилась тень отца. Один из самых свирепых ораторов наших кричал тогдашнему секретарю Дементьеву[504] : «Ты хочешь въехать в коммунизм верхом на адмиральской дочери!» И вдруг, к величайшему их огорчению, получила Вера Казимировна Сталинскую премию[505] . Жила она все так же спокойно, достойно. Писала. Вела семью, которая выросла. У нее родился сын от Зонина, темноглазый, нежный, необыкновенно трогательный. Однажды он зашел к нам, когда было ему лет пять. Был он бледен. И все ежился, все зевал. Оказывается, утром околел у них котенок, и мальчик все не мог до самого вечера прийти в себя. Просто заболел. Старший, Сережа, в те годы казался куда более простым. Здоровенный. Только над лбом – седая прядь. Словно в воспоминание о днях блокады, когда рос он в бомбоубежище. Старший сын Зонина от первого брака был курсантом.
30 августа
В каком-то военном училище. В морском. И этот мальчик – впрочем, жених уже – был на попечении Веры Казимировны. Всё казалось в семье ясно, лишено теней и углов, несмотря на комнату с андреевским флагом и ее хозяина с ярким лицом, и белыми волосами, и обезумевшей душой. И вдруг, как это случалось в те немирные послевоенные годы, – Зонин исчез. Взяли. Я не знаю, что пережила Вера Казимировна, когда ветер и дождь ворвались вдруг в ее мир, стены исчезли, исчезла крыша. Пронесся смутный слух, что она собирается в Москву, в ЦК заявить, что она не верит, да, не верит в виновность своего мужа. Но не успела. Ее вызвали куда-то. И объяснили, какой нехороший человек Зонин. И Вера Казимировна уверовала в это свято, без малейшего притворства, и стены мира ее, и его своды воздвиглись из хаоса. Она пожаловалась друзьям, что Зонин скрыл от нее ряд фактов из своего прошлого. И отказалась от него со свойственной ей железной последовательностью. И не пошла к нему на свидание, когда его высылали. А времена делались все более мутными. Я говорю о Союзе писателей. Но Кетлинская с вызывающей уважение храбростью занимала позицию вполне ясную. Она одна решилась выступить на общем собрании прямо против скопившейся в союзном воздухе мути, указывая на могучих и мстительных виновников этой мути. Спокойно, достойно, степенно говорила она, и ни один человек не осмелился возразить ей по существу. И речь ее признали даже вечные враги ее. И на съезде выступала она ясно, смело, последовательно, открыто. Вера – великая и очищающая сила. Кетлинская жила в мире, сознательно упрощенном, отворачиваясь от фактов, закрывая то один, то другой глаз, подвешивалась за ноги к потолку, становилась на стол, чтобы видеть только то, что должно, но веровала, веровала с той энергией, что дается не всякому безумцу. И снова она писала, вела общественную работу. Построила себе дачу в Комарове, что далеко не просто. Мальчики подросли. Володя с годами не потерял своей прелести, мягкости.
31 августа
Сережа изменился – и изменился странно: он словно бы раздобрел, но как-то неладно, чуть по-бабьи, – он, здоровенный мужик, пока не овладели им превратности переходного возраста. Это, видимо, так и называлось дома – болезнь роста. Мир и покой не могло нарушить осложнение столь второстепенное. Но времена менялись. И Зонина вдруг освободили. Мы притихли в ожидании. Освобожден был Зонин по болезни. По акту о состоянии здоровья. Таких называли по установившейся терминологии – актированными, в отличие от реабилитированных. Примет его Кетлинская? Ведь не пересмотрено его дело! Сам Зонин не верил, видимо, в это. Когда, освобождая, предложили ему выбрать город, он назвал Новгород. Но усложнился мир, созданный Кетлинской, изменила она, слава тебе, господи, железной своей последовательности. Забыла она о том, что скрыл Зонин от нее нечто неслыханно преступное в своем прошлом. Приняла она его, приняла! И рассказывает при встрече о его здоровье. И хлопочет вместе с ним о пересмотре дела. Усложнился ли ее мир, смягчил простоту своих законов, или мир вокруг нее изменился – все хорошо! А он, Зонин, появился среди нас все такой же. Лицо яркое, волосы густые, седые. В Доме творчества жаловался он в безумии своем, что попал в плохой концлагерь: все шпионы да антисоветские люди – процентов пять невинно осужденных. А сейчас живет он на даче у Кетлинской. А она пишет, ведет свою выросшую семью, поместила недавно в «Литературной газете» большую статью о романе на производственные темы[506], и, встречаясь, я разговариваю с ней дружески и с уважением.
1 сентября
Каверин Вениамин Александрович – один из первых моих ленинградских знакомых. После Слонимского и Лунца или одновременно с ними. Встретился я с ним у «Серапионовых братьев». И сколько я его помню, был он с людьми даже несколько наивно приветлив, ожидая от них интересного. От ученых – что расскажут они что-нибудь научное, от меня, актера, – чего-нибудь актерского. Но тогда же, вскоре, почувствовал я, что и ученых, и актеров видит он как через цветное стекло, через литературное о них представление. Из «Серапионовых братьев» был он больше всех литератор. Больше даже, чем Федин, которого все-таки судьба пошвыряла до того, как попал он в свой длинный и узенький кабинет с книжными полками. Правда, и Федин продолжал смотреть на мир через цветные стекла, только некоторые из них потеряли окраску, так что он кое-что иной раз видел непосредственно. Когда встретил я Каверина в первый раз, ходил он еще в гимназической тужурке с поясом. Был студентом университета и Института восточных языков. Кончал филологический и арабское отделение[507] . Тут я, может быть, не совсем точен – уверен я только в арабском отделении. Но с филологическим он был связан, писал о Бароне Брамбеусе и издал о нем целую книжку[508] . Дело не в том, кончил он филологический или нет, а в том, что духовно был он с ним связан не меньше, чем с «серапионами» и вообще с писательской средой, а больше. И к литературе подходил он через литературоведение. И то, что прочел, было для него материалом, а то, что увидел, – не было. Точнее, вне традиции, вне ощущения формального он смотрел, но не видел. В те дни был рассвет формализма. Каверин был близок к Тынянову, самому из них прельстительному и прелестному. Все «серапионы» любили говорить об остранении, обрамлении, нанизывании, и только один, пожалуй, Каверин принял эти законы органично, всем сердцем. Он веровал, что можно сесть за стол и выбрать форму для очередной работы. Он в те дни вряд ли подозревал о законе, определяющем твою работу: «Человек предполагает, а бог располагает». И платился.
2 сентября
Но, страдая за свою веру, и тени сомнения не испытывал. Вся его судьба, его вера и личная жизнь – все шло прямо и последовательно Жизнь в бесконечном разнообразии своем захотела показать, что способна создавать и такие благополучные судьбы. После 29 года знакомство наше по ряду обстоятельств стало гораздо ближе. Каверин женат был на сестре Тынянова Лидочке, а Тынянов – на сестре Каверина Елене Александровне. Невозможно рассказывать о близких знакомых. Они так неожиданно и близко вросли в твою жизнь, что писать точно почти невозможно, как делать автопортрет с собственного затылка, пользуясь одним зеркалом. И богатство знаний тебя сбивает с толку. Все не похоже рядом с тем, что ты знаешь. Вот написал я: Лидочка – а как мне передать привычное, немолодое, много раз проверенное представление о много лет сопутствующем нам существе? Чем определить и доказать то, что не требует доказательства, слишком уж известно? Увидел я ее в начале двадцатых годов, когда какое-то серапионовское собрание проходило у них дома, на углу Введенской и Большого. С удивлением увидел я, что дом у Каверина, у мальчика в гимназической тужурке, еще больше налажен, чем у Федина. Настоящая квартира, с мебелью, внушающей уважение. Настоящая чистота, та самая, что зависит только от хозяйки дома. И тут я познакомился с ней, с хозяйкой, с Лидочкой. Бледная, темноволосая, маленькая, как все Тыняновы, она все помалкивала да поглядывала. И позже узнал я, не без удовольствия, что она, когда смотрела, – видела. У нее был дар, рассказывая, передать то, что заметила, очень похоже и весело. Веня мог рассказать интересно о Лобачевском, о котором собирал материалы, а то, что у него творилось под носом, решительно не видел. И Лидочка еще поставила дом так, что совсем освободила Веню от бытовых мелочей. Он, например, в начале тридцатых годов, чуть не через год после того, как масло исчезло из продажи, спросил, к нашему удовольствию, правда ли, что с маслом теперь какие-то затруднения.
3 сентября
В тридцать третьем году мы жили на одной даче с Кавериными, в Сестрорецке. Лидочка была беременна, но все так же спокойно и весело легкой рукой вела дом и никому не позволяла беспокоиться о себе, о своем здоровье. Беспокоился Веня. Вот он выходит, поработав положенное время, в сад и бродит по дорожке, откашливаясь, держась рукою за кадык. «Ты что?» – «У меня странное чувство в горле. Не могу решить – ехать мне на велосипеде или нет». Однажды приехали к нам Хармс, Олейников и Заболоцкий. Пошли бродить. Легли под каким-то дубом, недалеко от насыпи, что вела к пляжу. Погода была не хорошая, не плохая. На душе у меня было неладно, как всегда в те годы в присутствии Олейникова, при несчастной моей уязвимости. А Николай Макарович был всем недоволен. И погодой, и нашей дачей, и дубом, и природой сестрорецкой, – он еще медленнее, чем я, привыкал к северу. И все мы были огорчены еще полным безденежьем. Хорошо было бы выпить, но денег не было начисто. Потом Хармс, лежа на траве, прочел по моей просьбе стихотворение: «Бог проснулся, Отпер глаз, Взял песчинку, Бросил в нас». Я любил это его стихотворение. На некоторое время стало полегче, в беспорядок не плохой, не хорошей погоды, лысых окрестностей вошло подобие правильности. И без водки. Но скоро рассеялось. Вяло поговорили о литературе. И стали обсуждать (когда окончательно исчезло подобие правильности), где добыть денег. Я у Каверина был кругом в долгу. А никто из гостей не хотел просить. Стеснялись. Поплелись к нам в сад, под яблоню, которую в то лето до последнего листика почему-то объели черви. Сели за столик на одной ножке, вкопанный в землю. Скоро за стеклами террасы показался Каверин. Он обрадовался гостям. Он уважал их (в особенности Заболоцкого, которого стихи знал лучше других) как интересных писателей, ищущих новую форму, как и сам Каверин. А они не искали новой формы. Они не могли писать иначе, чем пишут. Хармс говорил: хочу писать так, чтобы было чисто. У них было отвращение ко всему, что стало литературой. Они были гении, как сами говорили, шутя. И не очень шутя.
4 сентября
Во всяком случае, именно возле них я понял, что гениальность – не степень одаренности, или не только степень одаренности, а особый склад всего существа. Для них, моих злейших друзей тех лет, прежде всего просто-напросто не существовало тех законов, в которые свято верил Каверин. Они знали эти законы, понимали их много органичнее, чем он, – и именно поэтому, по крайней правдивости своей, не могли принять. Для них это была литература. Недавно, разговаривая с Шостаковичем, любовался я знакомой особой правдивостью и простотой его. Да, люди этого склада просты, и пишут просто, и кажутся непонятными потому только, что законы общепринятые для того, что они хотят сказать, непригодны. Пользуясь ими, они лгали бы. Они правдивы прежде всего, сами того не сознавая, удивляясь, когда их не понимают. И невыносима им ложь и в человеческих отношениях. Судьба их в большинстве случаев трагична. И возле прямой-прямой асфальтированной Вениной дорожки смотреть на них было странно. Не помню, дали нам водки или нет. Помню только, что смотрели гости на него, на Каверина, без осуждения, как на представителя другого вида, с которым и счетов у них не может быть. А как сам он смотрел на себя? Однажды, тем же летом, гуляли мы втроем – я, он и Миша Слонимский. И заспорили они, Веня и Миша, не помню уж по какому поводу. У них были свои серапионовские юношеские свары и счеты, причины которых уже и сами они не помнили, но следствие которых сохранилось до наших дней. И Веня вдруг, несмотря на несокрушимое свое добродушие, сказал с раздражением: «Да, я верю в свой талант, и ты в него не можешь не верить». Каждое утро, на даче ли, в городе ли, садился Каверин за стол и работал положенное время. И так всю жизнь. И вот постепенно, постепенно «литература» стала подчиняться ему, стала пластичной. Прошло несколько лет, и мы увидели ясно, что лучшее в каверинском существе: добродушие, уважение к человеческой работе, наивность мальчишеская с мальчишеской любовью к приключениям и подвигам – начинает проникать на страницы его книг.
5 сентября
У Тихонова и у Слонимского процесс развивался в обратном направлении. Многие удивились бы, прочтя Мишин рассказ «Варшава», которым он начался[509], – до такой степени далек он от его последних вещей и похож на автора. Тогда как последний роман, продолжение «Инженеров», – ни на что не похож[510] . В «Дороге» Тихонова[511] видна его деревянная, необструганная хохочущая фигура. А в последних стихах – и этого не обнаружишь. Обтесался. Читатели почувствовали преображение Каверина. Мальчик в гимназической курточке, сохраняя свои литературные пристрастия, заговорил с читателями по-человечески. Особенно удалось ему это в «Двух капитанах»[512] . Вот сколько, оказывается, дорог ведет к тому самому сочувствию, что дается как благодать. Даже такая благополучная и асфальтированная самой судьбой дорога, что досталась Вене. «Два капитана» имеют прочный, органический, на вполне благородных чувствах основанный успех. И Заболоцкий, единственный оставшийся в живых из трех гостей, приехавших в 33 году к нам на дачу, дружит с Кавериным совсем как с человеком одного с ним измерения. Каверин оказался верным и смелым другом в трудные минуты. Довольно хвалить, а то на портрете получается редкой красоты юноша в гимназической форме. Веня занят собой с наивностью обезоруживающей. Если он приезжает из Москвы один, то, значит, ничего не сумеет рассказать, надо ждать Лидочку. Он вечно говорил о своем здоровье и оказался прав: во время войны в Москве увезли его в «скорой помощи» в больницу. Внутреннее кровоизлияние. Оказалось, что у него давняя язва желудка. Было о чем говорить, что предчувствовать. Нет, трудно мне его ругать после стольких лет жизни в одном кругу. Я давно еще сделал открытие, что великие люди – одно, а близкие – другое. За другое их любишь. За то, что у них такое знакомое лицо. За то, что радуются они, услышав твой голос по телефону. За то, что сочувствуют тебе в трудные дни не отвлеченно, а словно бы беда случилась с ними самими. И за то, наконец, что на все это отвечаешь ты им тем же самым.
9 сентября
Следующая фамилия – Клыкова Лидия Васильевна. Это сестра Катерины Васильевны Заболоцкой. Лидию Васильевну я почти не знаю, но рад поговорить о Катерине Васильевне. Это, прямо говоря, одна из лучших женщин, которых встречал я в жизни. С этого и надо начать. Познакомился я с ней в конце двадцатых годов, когда Заболоцкий угрюмо и вместе с тем как бы и торжественно, а во всяком случае солидно сообщил нам, что женился. Жили они на Петроградской, улицу забыл, – кажется, на Большой Зелениной. Комнату снимали у хозяйки квартиры – тогда этот институт еще не вывелся. И мебель была хозяйкина. И особенно понравился мне висячий шкафчик красного дерева, со стеклянной дверцей. Второй, похожий, висел в коридоре. Немножко другого рисунка. Принимал нас Заболоцкий солидно, а вместе и весело, и Катерина Васильевна улыбалась нам, но в разговоры не вмешивалась. Напомнила она мне бестужевскую курсистку. Темное платье. Худенькая. Глаза темные. И очень простая. И очень скромная. Впечатление произвела настолько благоприятное, что на всем длинном пути домой ни Хармс, ни Олейников ни слова о ней не сказали. Так мы и привыкли к тому, что Заболоцкий женат. Однажды, уже в тридцатых годах, сидели мы в так называемой «культурной пивной» на углу канала Грибоедова[513], против Дома книги.
10 сентября
И Николай Алексеевич спросил торжественно и солидно, как мы считаем, – зачем человек обзаводится детьми? Не помню, что я ответил ему. Николай Макарович промолчал загадочно. Выслушав мой ответ, Николай Алексеевич покачал головой многозначительно и ответил: «Не в том суть. А в том, что не нами это заведено, не нами и кончится». А когда вышли мы из пивной и Заболоцкий сел в трамвай и поехал к себе на Петроградскую, Николай Макарович спросил меня: как я думаю, – почему задал Николай Алексеевич вопрос о детях? Я не мог догадаться. И Николай Макарович объяснил мне: у них будет ребенок. Вот почему завел он этот разговор. И, как всегда, оказался Николай Макарович прав. Через положенное время родился у Заболоцких сын. Николай Алексеевич заявил решительно, что назовет он его Фома. Но потом смягчился и дал ребенку имя Никита. Хармс терпеть не мог детей и гордился этим. Да это и шло ему. Определяло какую-то сторону его существа. Он, конечно, был последний в роде. Дальше потомство пошло бы совсем уж страшное. Вот отчего даже чужие дети пугали его. И как-то Николай Макарович, неистощимо внимательный наблюдатель, сообщил мне, посмеиваясь, что вчера Хармс и Заболоцкий чуть не поссорились. Хармс, будучи в гостях у Заболоцкого, сказал о Никите нечто оскорбительное, после чего Николай Алексеевич нахохлился и молчал весь вечер. Зато женщин Заболоцкий, Олейников и Хармс ругали дружно. Хармс, впрочем, более за компанию. Кроме детей, искренне ненавидел он только лошадей. Этих уж не могу объяснить почему. Яростно бранил их за глупость. Утверждал, что если бы они были маленькие, как собаки, то глупость их просто бросалась бы в глаза. Но когда друзья бранили женщин, он поддерживал их своим уверенным басом. «Культурная пивная» гудит от разговоров, и все на темы общие. «Народ – философ!» – говорил по этому поводу Олейников. И наш стол говорит о женщинах вообще. Кудрявая голова, бледное лицо и спокойные, даже сонные, светлые глаза.
11 сентября
Это Олейников, всегда внимательный – точнее, всегда на высокой степени внимания. Рядом – Заболоцкий, светловолосый, с девичьим цветом лица – кровь с молоком. Но этого не замечаешь. Очки и строгое, точнее – подчеркнуто степенное, упрямое выражение, – вот что бросается в глаза. Хоть и вышел он из самых недр России, из Вятской губернии, из семьи уездного землемера, и нет в его жилах ни капли другой крови, кроме русской, крестьянской, – иной раз своими повадками, методичностью, важностью напоминает он немца. За что друзья зовут его иной раз, за глаза, Карлуша Миллер. Рядом возвышается самый крупный из всех ростом Даниил Иванович Хармс. Маршак, очень его в те дни любивший, утверждал, что похож он на щенка большой породы и на молодого Тургенева. И то и другое было чем-то похоже. Настоящая фамилия Хармса была Ювачев. Отец его, морской офицер, был за связь с народовольцами заключен в Шлиссельбургскую крепость. Там он сошел с ума, о чем многие шлиссельбуржцы пишут в своих воспоминаниях. Им овладело религиозное помешательство. Крепость заменили ссылкой куда-то, чуть ли не на Камчатку, где он выздоровел и был освобожден. Помилован. Женился он в Петербурге. Мать Хармс очень любил. В двадцатых годах она умерла, и Введенский с ужасом рассказывал, как спокойно принял Даниил Иванович ее смерть. А отец заспорил со священником, который отпевал умирающую или приходил ее соборовать. Заспорил на религиозно-философские темы. Священник попался сердитый, и оба подняли крик, стучали палками, трясли бородами. Об этом рассказывал уже как-то сам Даниил Иванович. Так или иначе, но вырос Даниил Иванович в семье дворянской, с традициями. Вставал, разговаривая с дамами, бросался поднимать уроненный платок, с нашей точки зрения излишне стуча каблуками. Он кончил Петершуле и отлично владел немецким языком. Знал музыку.
12 сентября
И сейчас, за столом в «культурной пивной», он держался прямее всех, руки на столе держал правильно, отлично управлялся с ножом и вилкой, только ел очень уж торопливо и жадно, словно голодающий. В свободное от еды и питья время он вертел в руках крошечную записную книжку, в которую записывал что-то. Или рисовал таинственные фигуры. От времени до времени задерживал внезапно дыхание, сохраняя строгое выражение. Я предполагал, что произносит он краткое заклинание или молитву. Со стороны это напоминало икание. Лицо у него было значительное. Лоб высокий. Иногда, по причинам тоже таинственным, перевязывал он лоб узенькой черной бархоткой. Так и ходил, подчиняясь внутренним законам. Подчиняясь другим внутренним законам, тем же, что заставляли его держаться прямо за столом и, стуча каблуками, поднимать уроненный дамой платок, он всегда носил жилет, манишку, крахмальный высокий отложной воротничок и черный маленький галстучек бабочкой, что при небрежности остальных частей одежды могло бы усилить впечатление странности, но оно не возникало вообще благодаря несокрушимо уверенной манере держаться Когда он шагал по улице с черной бархоткой на лбу, в жилете и крахмальном воротничке, в брюках, до колен запрятанных в чулки, размахивая толстой палкой, то на него мало кто оглядывался. Впрочем, в те годы одевались еще с бору да с сосенки. Оглядывались бы с удивлением на человека в шляпе и новом, отглаженном костюме. Был Даниил Иванович храбр. В паспорте к фамилии Ювачев приписал он своим корявым почерком псевдоним Хармс, и когда различные учреждения, в том числе и отделение милиции, приходили от этого в ужас, он сохранял ледяное спокойствие. Хочу добавить еще одну важную вещь. Я, рассказывая о Каверине, недостаточно подчеркнул разное отношение к форме его и гения Хармса; в частности, Каверин уважал форму, а Хармс, чувствуя ее неизмеримо точнее, владея ею, видел, когда она жива.
13 сентября
Вот маленький пример того, как владел он формой. Мы все придумывали стихотворные рекламы для журнала «Еж» И вот я придумал четверостишие. В шутку. Невозможное для печати даже в те легкомысленные годы «Или сыну – „Еж“, или в спину – нож». И, прочтя Хармсу, пожаловался на неприятное сочетание «в спиНУ НОж». И он, не задумываясь, ответил: «А вы переставьте: „Или „Еж“ – сыну, или нож – в спину“.
И я еще раз проникся к нему уважением. Итак, мы сидели вчетвером в «культурной пивной». Я и трое людей, которых вспоминаю так часто. И они ругали женщин. Двое – яростно, а Хармс – несколько безразлично. Олейников прежде всего утверждал, что они куры. Повторив это утверждение несколько раз страстно, убежденно, он добавил еще свирепее, что если ты пожил раз с женщиной – все. После этого она уже тебе не откажет. Это все равно что лошадь. Поймал ее за челку – значит, готово. Поезжай. Заболоцкий, строго и важно поблескивая очками, рассказал следующий случай. Одну молодую женщину любил композитор Гречанинов. А она предпочла ему простого парня. Чуть ли не деревенского. Когда выяснилось, что композитору было много лет, а деревенскому парню – мало (я почему-то подозревал, что это был сам Николай Алексеевич), то я спросил Заболоцкого, мог бы он любить старую женщину за музыкальность и не предпочел бы он ей простую девушку за молодость. Но Николай Алексеевич не ответил, а только посмотрел на меня через очки. Женщин ругали не только в «культурной пивной», но и по всякому поводу при любом случае. Однажды, когда сидели мы у Олейникова, Заболоцкий неожиданно, без всякого повода, заявил со страстью, строго и убежденно, что женщины не могут любить цветы. «Почему?» – «Не могут! Женщины не могут любить цветы!» Соответственно со своими взглядами дома был Николай Алексеевич строг. И Фома, названный Никитой, тоже разговаривал с матерью по-мужски. Жили они уже не в одной комнате, а в квартире в надстройке И заболел он ветрянкой.
14 сентября
Никита заболел однажды ветряной оспой. Было ему в это время, вероятно, лет шесть. Нет, меньше. Чтоб не дать ему чесаться, мать передвинула ночью кровать его к своей. И Никита спросил коротко и строго по-мужски: «Пол не поцарапала?» По странной непоследовательности чувств Николай Алексеевич, презиравший женщин, когда родилась у него дочка, названная Наташей, просто Наташей, не Феклой и не Домной, нежно ее полюбил. Больше, чем Никиту. Во всяком случае, о нем он никогда ничего не рассказывал. А Катерине Ивановне рассказал однажды, как Наташа, восьмимесячная, кажется, собирала своими тоненькими пальцами крошки на диване. И, рассказав, чуть улыбнулся.
И вот грянул гром. В 1938 году Николая Алексеевича арестовали. Вечером пришла к нам Катерина Васильевна и рассказала об этом. Пока шел обыск, сидели они с Николаем Алексеевичем на диване, рядышком, взявшись за руки. И увели его.
Катерину Васильевну разглядели мы тут как следует, одну, саму по себе. Спокойно, с чисто женским умением переносить боль, взвалила она на плечи то, что послала жизнь. Внезапное вдовство – не вдовство, но нечто к этому близкое. Так в те дни ощущалась разлука. Двое ребят. Домработница сразу же, рыдая и прося прощения, призналась, что она боится, и попросила расчет. Передачи. Справки. И, наконец, пришлось ей с детьми выехать в Уржум, на родину Николая Алексеевича, где оставался кто-то из родни. Летом 1939 года высылку признали незаконной. Катерина Васильевна вернулась. Она все не жаловалась, разговаривала все так же спокойно, даже весело. Делилась своим горем только с двухлетней Наташей, которая нечаянно выдала мать, сказав Лидочке Кавериной: «Ох, тяжело, как жить будем!» Суд постановил предоставить Катерине Васильевне площадь. Сначала дали ей комнату в надстройке. Нет, не так.
15 сентября
До того как переехать в надстройку, до суда, жила Катерина Васильевна у родных. И заболели они гриппом. Катерина Васильевна и Никита. И мы взяли к себе маленькую Наташу, после чего на всю жизнь у меня к ней осталось отношение, как к своей. Прожила она у нас месяца полтора, Катерину Ивановну стала за это время называть «мама», а когда спрашивали ее: «Чья ты девочка?» – отвечала: «Катерины Ивановны я». Отличалась полным отсутствием аппетита. Она покашливала и прихварывала у нас, и доктор велел ей ставить горчичники, чего она очень боялась. И однажды, придя домой, увидел я следующее: на телефонном столике мокнут горчичники, а на тахте возле сидит Наташа и, обливаясь слезами, ест манную кашу. Катерина Ивановна пригрозила ей, что, если Наташа не станет есть, она сразу примется ее лечить.
Только после всех вышеописанных событий состоялся суд, постановивший вернуть Катерине Васильевне принадлежащую ей площадь. После ряда приключений, о которых рассказывать по ряду причин никак не хочется, получила она временно одну комнату, потом поселили ее на счет Литфонда в «Европейской гостинице», потом дали в надстройке комнатку постоянно. Было в этой комнатке так тесно, что Наташа большую часть дня проводила у нас. Каждый день бывала и Катерина Васильевна.
Два года прожили мы бок о бок, и не было случая, чтобы пожаловалась она на судьбу. И целый день работала. Вязала кофточки на заказ. Все время то по хозяйству, то вязанье в руках. Приходили в положенные сроки письма от Николая Алексеевича. И Катерина Васильевна читала их нам. Росли дети. Никитка, молчаливый и сдержанный, словно чуть-чуть пришибленный тем, что обрушилось на их семейство, и Наташа, то веселая, то рыдающая. У нее был особый дар: в случае обиды обливалась она слезами вдруг, без всхлипываний, разом.
16 сентября
Меня называла она Женюрочкой, Катерину Ивановну, расшалившись, умышленно, сверхъестественно тоненьким голоском: «Катеришка Ивашка!» Очень любила танцевать со мной. Танцевал, собственно, я, взяв Наташу на одну руку, а другой держа ее ручку на весу, словно танцуем мы фокстрот. И она часто просила: «Женюрочка, давай поплешим!» «Попляшем» ей никак не удавалось почему-то выговорить.
Во время квартирных мытарств помогал я Катерине Васильевне. Однажды, когда перебиралась она в «Европейскую», дело было вечером, номер им дали во втором этаже, и поэтому поднимались мы пешком, на площадке между первым и вторым этажом увидела Наташа в открытую дверь ресторанный зал, танцующие пары, услышала музыку. И сказала умоляюще: «Женюрочка, пойдем туда, посидим, поплешим!» А Катерина Васильевна воскликнула: «Каково это слышать матери!» Во время финской кампании зима стояла неестественно суровая, словно ее наслали знаменитые финские колдуны. Ввели затемнение. Начались грабежи, а еще больше пошло слухов о грабежах. Стоишь в полной тьме. Из-за морозов трамвайное движение сократилось. Стоишь на остановке в толпе, угрюмой и тихой, и, наконец, в темноте проступают два синих, медленно двигающихся огонька. «Какой номер?» И кто-нибудь из висящих на площадке отвечает угрюмо. То в одном, то в другом доме лопались водопроводные трубы, замерзало отопление. Холодно было и в «Европейской гостинице», но Катерине Васильевне удалось перебраться скоро к нам обратно, в надстройку. И снова каждый вечер появлялась она за нашим столом с вязаньем в руках, все спокойная, все веселая, худенькая, как девочка. И ни разу не видал я, чтоб слезы выступили на темных ее глазах. Ни разу за все годы знакомства, хоть столько было пережито. И оставалась она все такой же ровной в обращении, хотя было отчего беспокоиться. Шли хлопоты.
17 сентября
О пересмотре дела Заболоцкого подал ходатайство Союз писателей. Точнее, ряд влиятельных московских писателей. И дело направлено было на пересмотр. Когда горе-злосчастье вот-вот спрыгнет с твоих плеч – и ты надеешься на это, – еще труднее сохранять спокойствие. Но у Катерины Васильевны и тут хватило сил не показать, как ждет она счастья. Как замучилась, ожидая. Каверин, изо всех сил хлопотавший по этому делу, утверждал, что Николай Алексеевич вернется вот-вот, со дня на день. Но грянула война. И жизнь Катерины Васильевны стала еще страшнее. Когда 11 декабря 41 года уехали мы из Ленинграда, Катерина Васильевна с детьми поселилась в нашей квартире. С конца января, чтобы голодающие дети теряли меньше сил, она их все время держала в кровати. Было это в начале февраля 42 года. Всякие заказы на кофточки прекратились, конечно. Наташа спросила однажды: «Мама, это правда было, или мне во сне снилось, что ты когда-то меня заставляла есть»…
И вот, наконец, Кетлинская включила Катерину Васильевну с детьми, маленькой племянницей и сестрой, той самой Л. В. Клыковой, что записана у меня в телефонной книжке, в список, в писательский список подлежащих эвакуации. А смерть в те дни как будто с умыслом ловила тех, что пытались от нее убежать. Однажды, кажется, было это 6 февраля, за два дня до отъезда, сидела Катерина Васильевна в нашей крошечной кухне, где удавалось кое-как поддерживать тепло. Дети лежали на раскладушке. Шел сильный артиллерийский обстрел нашего района. Снаряды так и рвались по соседству. Боже мой, как далеко ушло в глубь веков то время, когда сидели мы в пивной.
18 сентября
«Культурная пивная» сегодня похожа была на тяжелораненую. В дом, бывший Энгельгардта, попала бомба. И дом как бы временно перевязали – забили фанерой. Снег, да щебень, да запах гари – вот что нашел бы ты там, где за всеми столами, увильнув от работы, словно школьники, громко рассуждали мужчины на общие темы. А за нашим столом надменно бранили женщин. Века прошли с тех пор, большая часть наших соседей по «культурной пивной» погибла, наш район обстреливали, а Катерина Васильевна советовалась с сестрой, нести детей в бомбоубежище или не стоит. У них была повышенная температура. И вдруг разговор их на полуслове оборвался. Взрыв, вспышка ослепительная, пронизавшая всю квартиру, удар, шум разрушения. Когда я через два месяца спросил Наташу, что сделала мама, когда в квартиру попал снаряд, она ответила: «Мама? Она побежала наверх по лестнице, потом вниз». – «А ты где была?» И Наташа, пожав плечами, ответила как вещь само собой разумеющуюся: «У мамы на руках!» И в самом деле, когда снаряд попал в столовую, под самый подоконник и, свернув радиатор отопления восьмеркой, вбил его в противоположную стенку, Катерина Васильевна, схватив детей на руки, побежала в растерянности, ошеломленная, наверх, а потом вниз, в бомбоубежище. Смерть промахнулась чуть-чуть. У нас в квартире всего-то было около 24 метров. Между столовой и кухней помещался так называемый кабинет – моя комната в 9 метров. Но жильцов наших только напугало. И через два дня Катерина Васильевна погрузилась с сестрой и детьми в писательский эшелон. На Большой земле Заболоцкие отделились от писателей. Они решили пробираться к нам, в Киров, а оттуда все в тот же Уржум. В то время Ленинград и ленинградцы, их горести перешли за те пределы, что люди знали. Если больной вызывает жалость, гроб – уважение, то разлагающийся мертвец вызывает одно желание – убрать его поскорей. Вагоны, теплушки с несчастными дистрофиками ползли от станции к станции. А смерть гонялась за беглецами.
19 сентября
На остановках в двери теплушек стучали и просили: «Граждане, не скрывайте трупы!» Но граждане скрывали, чтобы получать продовольствие за умерших. Несчастные, обезумевшие с голоду и холоду ленинградцы. У них, умирающих, были свои счеты с умершими. И немирно было в теплушках. В той, где поместилась Катерина Васильевна с детьми, дружно ненавидели одну семью: отец – научный работник, мать и ребенок, страдающий голодным поносом. Отец на станциях, где кормили ленинградцев, ходил за диетическим супом для больного сынишки и половину съедал на обратном пути и, чтобы скрыть, доливал котелок сырой водой. И попался. И его яростно бранили. И еще больше возненавидели. И когда он умер, радовались все эвакуированные, и жена покойного в том числе. Весь эшелон доставили в Кострому, где был устроен стационар для ленинградцев. Их вымыли, уложили, откормили. И Катерина Васильевна недели через две увидела, что жена умершего научного работника, которую она вместе со всеми ненавидела, очень славная женщина. И мальчик, избавившийся от голодного поноса, оказался хорошим мальчиком. И жена научного работника целыми днями плакала, вспоминала мужа, рассказывала, каким он был, пока в блокаду не потерял облика человеческого. А мы жили в Кирове, в десятиметровой комнате, в театральном доме. И мы ничего не знали о Заболоцких. Знали, что к нам в квартиру попал снаряд, что Заболоцкие уцелели и через два дня после этого эвакуировались. Но прошло почти два месяца с тех пор. И я сам не знал, как беспокоит меня их судьба. Но вот однажды рано утром, когда я еще курил с наслаждением самосад, только что проснувшись и лежа в кровати, вошла улыбаясь Катюша и протянула мне телеграмму на розовой бумаге. И я прочел, что Катерина Васильевна с детьми едет к нам. И, прочтя, заплакал вдруг, что никак не свойственно мне. Никогда со мной этого не бывало. Катерина Васильевна пробиралась в Киров со множеством бед и трудов. Попробуй сядь в поезд!
20 сентября
С детьми, с огромным, неуклюжим багажом эвакуированных. Был такой случай, что Катерина Васильевна однажды вскочила с Наташей в теплушку, и поезд вдруг тронулся, а Никита, рыдающий, остался с вещами на перроне. И, Катерина Васильевна с первого же разъезда побежала обратно с Наташей на руках. Но вот, наконец, удалось погрузиться всему семейству, и состав медленно пополз к Кирову. Ночью обнаружилось, что в теплушке больные дети. Утром врач установил скарлатину. Больных высадили. А через положенное время ночью вдруг поднялась температура у Наташи. Боже мой, как далеко, на целые века, ушло то время, когда, сидя за столом у Олейниковых, упрямо, строго, со страстью повторял Заболоцкий: «Женщины не могут любить цветы!» На другой день к вечеру Наташа поправилась. Ночью, когда температура вскочила, зажигая спички, не могла определить Катерина Васильевна, появилась у нее сыпь или нет. А днем сыпи тоже не обнаружила. А врачей на этом перегоне не было. Так и пробирались они к нам, медленно полз состав от станции к станции. А мы все ждали гостей и разговаривали о них. Вспоминали, как Зон, к ужасу педагогов, провел трехлетнюю Наташу на «Красную Шапочку» в Новый ТЮЗ. Посадил ее в свою ложу. А вечером Наташа сыграла нам всю пьесу, сцену за сценой. Моя Катерина, Катерина Ивановна, была к тем, кого любила, внимательна до мнительности. То ей казалось, что маленькая Наташка дальтоник. Пока не выяснилось, что девочка путает не цвета, а по малолетству названия цветов. То казалось ей, что у девочки недостаточно хорошая память. И когда сыграла Наташа всю «Красную Шапочку», Катерина Ивановна обрадовалась. И Катерина Васильевна, худенькая, как девочка, сидя на диване нашем, глядела на дочку с наслаждением, любовалась ею, но сдержанно. Всегда ровная, в горе и радости. То вспоминал я один из первых обстрелов города. Было часов девять вечера.
21 сентября
Бомбоубежище наше не было еще оборудовано. Договорились с Малым оперным, что детей будем направлять к ним. И вот снова, как в день переезда в «Европейскую», двинулись мы в путь через пешеходный Итальянский мостик. Впереди Катерина Васильевна с подушками и одеялами и с Никитой, а позади я, с Наташей на руках. Девочка была встревожена, молчала и ни о чем не спрашивала. Казалось, что снаряды пролетают над самой головой. Ясно слышался звук разрыва, которым заканчивался свист. Когда раздался особенно громкий взрыв, я с удивлением заметил, что в своем смятении чувств испытал удовольствие. Именно от силы звука. И подумал: неужели свойственна человеку любовь к грохоту? Не отсюда ли хлопушки, петарды, орудийные салюты? Словом, некие заслонки опустились в душе, и я сосредоточенно думал о чем угодно и отбрасывал мысль о том, что стреляют-то, в сущности, в нас, в ленинградских обывателей, и могут попасть. Такие же заслонки опустились в душе, когда не было известий от Заболоцких, и я думал о чем угодно, только не о том, что могли они погибнуть. Но, видимо, чувствовал, что это возможно, вполне возможно. Так просто умирали люди вокруг. Вот почему я и заплакал, когда пришла телеграмма. Смятение чувств исчезло, осталось только облегчение и радость. Долго ли, коротко ли, но вот к нам в дверь постучали рано утром. Открываю и вижу Катерину Васильевну и сияющую, беленькую, румяную Наташу. И первое, что девочка закричала, не поздоровавшись, не войдя в комнату: «Вас разбо?мбило!» (с ударением на «о»). «Как тебе не стыдно!» – сказала дочке Катерина Васильевна. Оказывается, Никита остался на вокзале только при том условии, чтобы не рассказывали без него, как попал к нам снаряд. Он хотел вместе. А Наташа не удержалась. Вскоре все, с вещами, чудом каким-то разместились в нашей десятиметровой комнате. И Лидия Васильевна со своей девочкой, совсем незнакомой, загадочно улыбавшейся.
22 сентября
Впрочем, она довольно скоро уехала с дочкой в Уржум, а мы остались впятером. Катерина Васильевна еще с порога, как Наташа о том, что нас «разбомбило», предупредила о таинственном Наташином заболевании. Но мы и думать об этом не захотели и не отделили девочку от остальных детей театрального дома. Уж очень она хорошо выглядела, и, когда мыли ее, никаких признаков шелушения не обнаружили. Значит, девочка перенесла не скарлатину, а просто грипп. Весела она была необыкновенно, веселее всех на наших десяти метрах. Ей уже исполнилось пять лет. От отца унаследовала она нежнейший цвет лица и золотистые волосы, а от матери темные глаза. Маленький, живой, отчаянный мальчик, сын одного из мобилизованных работников Кировского областного театра, примерно Наташин ровесник, описывал ее так: «К Катерине Ивановне приехала дочка, красивая! Таких не бывает!» И все приняли девочку ласково, зазывали из комнаты в комнату. Вот возвращается она от Никритиной и Мариенгофа.
«Ну, как тебя принимали?» – «Принимали? Очень хорошо! Какао. Бутерброд с медом. Бутерброд с колбасой. Очень хорошо принимали!» И, пожив в Кирове с неделю, пятилетняя Наташа сказала с удивлением: «Я не знала, что так хорошо жить!» А Никита, которому уже исполнилось десять лет, а на вид казалось меньше, все молчал и читал – нет, не читал, а изучал – одну и ту же книжку, купленную на вокзале. Называлась она: «Постройка дома из местных материалов». Столько лет Никита был бездомным! Забьется в угол и рассматривает, рассматривает плиты, изучает, мечтает. А вдруг удастся построить? Катерина Васильевна, хоть и отошла немного в Костроме, была еще худее прежнего. Она рассказала о своих приключениях дорожных, об умершем научном работнике, которого даже собственная жена возненавидела, а потом пожалела, придя в себя. Рассказывала вдумчиво, сосредоточенно, как бы с трудом добывая воспоминания со дна души. И руки у нее, как всегда, были заняты. Что-то перешивала ребятам. Катерина Ивановна спрашивает ее: «А где у вас кусок шерсти был такой хороший?» Она задумывается.
23 сентября
И отвечает сосредоточенно, как бы с напряжением собирая разбегающиеся воспоминания: «Забыла. Может быть, взяла, а может быть, и нет. Пять шкурок беличьих забыла, это я теперь точно знаю. Разве я помню, что брала? Я уезжала, как в тумане!» Вскоре заболела Катерина Ивановна ангиной в очень сильной форме. Чего с ней вообще никогда не случалось. По хозяйству теперь хлопотала одна Катерина Васильевна. И ей изо всех сил помогала Наташа. И подметала, и бегала с пепельницей то ко мне, то к Катерине Ивановне и предлагала: «Макайте, макайте!» А Никита делался все молчаливей, и, едва поправилась Катерина Ивановна, свалился он. До сих пор спал Никита возле письменного стола, на полу, рядом с Наташей. Теперь соорудили ему у стены отдельное ложе из рюкзаков и тюков. Он лежал и вздыхал. И через несколько дней выяснилось, что у него воспаление среднего уха. И, несмотря на отчаянные боли, он только кряхтел. Дело уже идет к весне. Я только что пришел с улицы, где заметил, что деревянные мостки, идущие вдоль деревянных заборов, почти полностью обсохли, послушал, как с шумом бежит вода по канавкам по всей дороге от нашего дома вниз, к Пупыревке, к рынку, и обрадовался. Дома Катерина Васильевна меняет Никите компресс. Потом собирается капать ему в нос протаргол. И Никита просит кротко: «Подожди, подожди с каплями. Дай я отдышусь». А Наташа, вытирающая пыль, поет рассеянно: «От-дышусь, от-дышусь, от-дышусь». Когда все лечебные процедуры кончены, я спрашиваю Никиту: «Что ж ты лежишь, не читаешь? А где „Постройка дома из местных материалов“? Потерял?» – «Что вы! – отвечает Никита. – Я эту книгу берегу, как зенитку ока». Через несколько дней у Никиты началось воспаление желез. Квартирный врач вызвал инфекциониста. И тот установил, что у Никиты скарлатина. А жили мы в театральном доме. Кругом дети. Родители сердитые.
24 сентября
И надо сказать к их чести, что мы ни слова упрека не услышали от замученных и обиженных на весь мир соседок наших. Никиту увезли в больницу. В комнате нашей сделали дезинфекцию. Наташа играла только с моей Наташей, которой в то время было двенадцать лет. Глянешь за оттаявшее уже окно и видишь: стоит моя Наташа в своей шубке из каких-то беличьих отходов, из бело-желтых прямоугольничков. Выросла она из этой шубы, так что она ей чуть не выше колен. Стоит Наташа, сильно откинувшись назад, держит на руках Наташу Заболоцкую в белой шубке. Маленькая Наташа это очень любит, хоть Катерина Васильевна и запрещает – боится, что большая Наташа надорвется. Когда маленькая Наташа играла одна и к ней по привычке направлялись соседские дети, она поднимала руку и кричала: «Не подходите! Зара?зитесь!» С ударением на втором «а». Каждый день ходили они – Наташа и Катерина Васильевна – к Никите в больницу. Он уже поправлялся. Он подходил к закрытому окну и кивал. А однажды показал записку, написанную крупными буквами: «Хочу домой». Больница помещалась на краю города, дорогу совсем развезло, так что Катерина Васильевна возвращалась домой еще более бледной, с еще более темными глазами, а Наташа – красная, как из бани. Однажды разыгралась буря. Кормились мы в Кирове в те дни относительно сытно, в основном картошкой. Наташа, некогда привередливая, ненавидевшая пенки или яйца всмятку, теперь их обожала. Но больше всего – масло. И, видимо, ей все время хотелось есть. И вот однажды обнаружилось, что масло в масленке сверху слизано. Кошек не было – кроме Наташи, никто не мог совершить преступление. А она не сознавалась. И ей так строго выговаривали – не за то, что слизала, а за то, что не сказала, – что сама преступница пришла в отчаянье от своей нераскаянности. И Катерина Ивановна услышала на другой день, как Наташа говорит своей кукле: «Я, наверное, оттого такая плохая, что некрещеная».
25 сентября
Но на другое утро все было забыто, и Наташа носилась между курящими с пепельницей и уговаривала: «Макайте, макайте». Катерина Васильевна никогда не отводила душу, как это вечно бывает, на самых беззащитных в семье, но и не распускала ребят. И только однажды, когда Наташа вечером слишком уж развеселилась и потом ни за что не хотела ложиться спать, плакала и бунтовала, Катерина Васильевна только молча глядела на дочку своими темными глазами, опустив руки. А утром сказала сосредоточенно, ни на кого не глядя, будто отчитываясь перед собой: «Для того, чтобы рассердиться на ребенка, тоже надо силу иметь. Я вчера совсем без сил была». Но обычно Наташа вела себя, как подобает воспитанной девочке. Катерина Ивановна ее так и спрашивала за столом: «Как сидят воспитанные девочки?» И Наташа вытягивалась в струнку и даже подбородок выставляла вперед. Катерину Ивановну Наташа слушалась не меньше, чем мать…
В театральном доме жил парикмахер чех, по фамилии Свобода. И было у него двое детей. Мальчик Франтишек и девочка Власта. Дети звали их Франтик и Ласточка. Ласточка была необыкновенно хороша собой. О чем неоднократно говорили мы при Наташе. Однажды Наташа провинилась, уж не помню в чем. Екатерина Васильевна сделала ей выговор, который девочка выслушала спокойно.
26 сентября
Тогда Катерина Ивановна сказала: «Ну, конечно. Решено. Вместо тебя возьмем мы в дочки Ласточку». Несколько мгновений Наташа сидела неподвижно, с тем же легкомысленным выражением, с каким выслушивала мамин выговор. И вдруг рухнула, уткнулась лицом в колени Наташи большой, сидевшей возле. И расплакалась, на свой лад, не всхлипывая, безудержно и безутешно. Когда Наташа Заболоцкая, уже студенткой, в прошлом году была у нас и мы вспоминали прошлое, выяснилось, что Ласточку и угрозу Катерины Ивановны помнит она ярче всего. Помнит и несчастье со сливочным маслом. «Сама теперь не понимаю, почему я не могла признаться», – сказала она вдумчиво, сосредоточенно, как Катерина Васильевна. В конце апреля, в назначенный день, отправилась Катерина Васильевна за Никитой и привела его, довольного, сдержанно улыбающегося. Дом из местных материалов еще не был построен, но все-таки вернулся мальчик к своим, как бы домой. К знакомому неуклюжему эвакуационному багажу, в комнату, где уже прижился. Но приближался день новых странствий. Письменский[514] помог Катерине Васильевне устроиться преподавательницей в интернат ленинградских школьников, эвакуированных в Уржум. Назначен был день отъезда. И перед самым этим днем покрылся сыпью, заболел я. Когда Катерина Васильевна укладывала вещи, еще не было установлено, скарлатина у меня или нет. Но она все поглядывала на меня сокрушенно, словно виноватая. Приехал за ними возчик, уже на колесах. Как нарочно, повалил мокрый снег. Я попрощался с Катериной Васильевной, с детьми. Поволокли к выходу тяжелый эвакуационный багаж. Катерина Ивановна вышла проводить во двор. И, глядя им вслед, едва не заплакала. Катерина Васильевна шагала под снегом сгорбившись, рюкзак на спине, вела детей за руки.
27 сентября
Когда дня через два позвонила Катерина Васильевна из Уржума и узнала, что все-таки у меня скарлатина, то ужасно извинялась, будто виноватая. А я все не мог отделаться от ощущения, вызванного рассказом Катерины Ивановны. Валит снег. На возу мешки, узлы, потемневшие от странствий, а возле шагает сгорбившись Катерина Васильевна и ведет детей. И примерно в эти дни бездетный Владимир Васильевич Лебедев горевал, вспоминая с искренней любовью о вещах, покинутых в Ленинграде. О каком-то половнике, удивительно сработанном. О коллекции кожаных произведений искусств: ботинок, и полуботинок, и поясов, и о шкафах своих, и о кустарных фарфоровых фигурках своих.
В Уржуме интернат оказался тяжелым. Собрали туда ребят трудновоспитуемых. Жила Катерина Васильевна с детьми в каком-то чуланчике и с утра до вечера то по службе, то по дому. И готовила, и стирала, и учила трудновоспитуемых, и глаз не спускала со своих ребят, которым приходилось расти в столь опасной обстановке. И так шло до 44 года, когда Николая Алексеевича освободили. И Катерина Васильевна вновь двинулась в странствование. В Кулунду, где Николай Алексеевич работал теперь вольнонаемным. Сколько ребят, оставшихся в те годы без отца, «потеряли себя», как говорит Илико[515] . Но Катерина Васильевна привезла отцу ребят хороших и здоровых. Только бледных и худеньких, как все дети в те времена. И семья Заболоцких восстановилась. Попрощавшись с Катериной Васильевной весной 42 года, встретился я с ней и с детьми через пять лет. В Москве. Летом. В Переделкине, где снимали они комнату. Наташа, поздоровавшись, все поглядывала на нас издали из-за деревьев. Исчезла Наташа трехлетняя, исчезла пятилетняя – беленькая десятилетняя девочка, и та и не та, все глядела на нас недоумевающе, старалась вспомнить. И Никита поглядывал. Этот улыбался. Помнил яснее.
28 сентября
И Николай Алексеевич глядел на нас по-другому. И тот и не тот. И дома не снисходил к жене, а говорил с ней так, будто и она гений. Просто. Вскоре написал он стихотворение «Жена», в котором все было сказано. Все, со свойственной ему силой. Долго ли, коротко ли, но прописали Николая Алексеевича в Москве. И Союз дал ему квартиру на Беговой. И вышел его стихотворный перевод «Слова о полку Игоревом» и множество переводов грузинских классиков. И заключили с ним договор на полное собрание сочинений Важа Пшавела. И он этот договор выполнил. Приедешь в Москву, придешь к Заболоцким и не веришь глазам: холодильник, «Портрет неизвестной», подлинник Рокотова, – Николай Алексеевич стал собирать картины. Сервиз. Мебель. Как вспомнишь комнатку в Кирове, горы багажа в углу – чудо да и только. И еще большее чудо, что Катерина Васильевна осталась все такой же. Только в кружке в Доме писателей научилась шить. Сшила Наташе пальто настолько хорошо, что самые строгие ценительницы удивлялись. И еще – повысилось у нее после всех прожитых лет кровяное давление. Сильно повысилось. Но она не сдавалась, глядела своими темными глазами весело и спокойно и на детей и на мужа. Никита кончил школу и поступил в Тимирязевскую академию, где собирались его пустить по научной линии. Уважали. А Наталья училась в школе все на круглых пятерках. Это была уже барышня, тоненькая, беленькая, розовая, темноглазая. И мучимая застенчивостью. С нами она еще разговаривала, а со сверстниками, с мальчиками, молчала, как замороженная. И много, очень много думала. И Катерина Васильевна болела за нее душой. А Николая Алексеевича стали опять охватывать пароксизмы самоуважения. То выглянет из него Карлуша Миллер, то вятский мужик на возу, не отвечающий, что привез на рынок, по загадочным причинам. Бог с ним. Без этого самоуважения не одолел бы он «Слова» и Руставели и не написал бы множества великолепных стихотворений.
29 сентября
Но когда, полный не то жреческой, не то чудаческой надменности, вещал он нечто, подобное тому, что «женщины не могут любить цветы», испытывал я чувство неловкости. А Катерина Васильевна только улыбалась спокойно. Придавала этому ровно столько значения, сколько следовало. И все шло хорошо, но вот в один несчастный день потерял сознание Николай Алексеевич. Дома, без всякого видимого повода. Пил много с тех пор, как жить стало полегче. Приехала «неотложная помощь». Вспрыснули камфору. А через полчаса или час – новый припадок. Сердечный. Приехал профессор, который уже много дней спустя признался, что у Николая Алексеевича начиналась агония и не надеялся он беднягу отходить. Кардиограмма установила инфаркт. Попал я к Заболоцким через несколько месяцев после этого несчастья. Николай Алексеевич еще полеживал. Я начал разговор как ни в чем не бывало, чтоб не раздражать больного расспросами о здоровье, а он рассердился на меня за это легкомыслие. Не так должен был вести себя человек степенный, придя к степенному захворавшему человеку. Но я загладил свою ошибку. Потом поговорили мы о новостях литературных. И вдруг сказал Николай Алексеевич: «Так-то оно так, но наша жизнь уже кончена». И я не испугался и не огорчился, а как будто услышал удар колокола. Напоминание, что кроме жизни с ее литературными новостями есть еще нечто, хоть печальное, но торжественное. Катерина Васильевна накрыла на стол. И я увидел знакомый финский сервиз, тонкий, синий, с китайчатами, джонками и пагодами. Его купили пополам обе наши Катерины уже после войны, в Ленинграде. Мы взяли себе его чайный раздел, а Заболоцкие – столовый. Николай Алексеевич решил встать к обеду. И тут произошло нечто, тронувшее меня куда живее, чем напоминание о смерти. Катерина Васильевна вдруг одним движением опустилась к ногам мужа.
30 сентября
Опустилась на колени и обула его. И с какой легкостью, с какой готовностью помочь ему. Я был поражен красотой, мягкостью и женственностью движения. Ну вот и все. Рассказываю все это не для того, чтобы защитить Катерину Васильевну от мужа. Он любит ее больше, чем кто-нибудь из нас, ее друзей и защитников. Он написал стихотворение «Жена», а сила Николая Алексеевича в том, что он пишет, а не в том, что вещает, подвыпивши. И уважает он жену достаточно. Ей первой читает он свои стихи – шутка ли. Не сужу я его. Прожили они столько лет рядом, вырастили детей. Нет ему ближе человека, чем она, нет и ей ближе человека, чем он. Но о нем, великолепном поэте, расскажут и без меня. А я сейчас болен и особенно чувствую прелесть заботы Катерины Ивановны, не ждущей зова, а идущей навстречу. Вот и рассказываю с особенным наслаждением о женщинах, которые, как говорят, по природной ограниченности своей не могут любить цветы.
21 октября
Сегодня исполнилось мне пятьдесят девять лет. Я помню книги, подаренные мне полвека назад. «Рыжик» Свирского и «Капитан Гаттерас» Жюля Верна. Я видел сегодня во сне лошадей, что значит ложь. Прошлый год был полон событиями, все больше печальными, но переходящими. И не на что особенно надеяться в этом году. Эраст готовит «Медведя» в Театре киноактера[516] . Козинцев собирается снимать «Дон Кихота». Уже наступил у них пусковой период. Но я болел. И не знаю, хватит ли беспечности у меня для того, чтобы перенести неудачу. Живем на новой квартире[517], и я не жалею старую. Хоть бы раз вспомнил. Собираюсь писать пьесу[518] .
1956
1 января
И вот я заболел. До болезни успел я кончить сценарий «Дон Кихот». И, к счастью, по болезни не присутствовал на его обсуждении, хоть и прошло оно на редкость гладко. Гладко прошел сценарий и через министерство, и теперь полным ходом идет подготовительный период. Произошли после болезни важные события в духовной моей жизни. Но я никак не могу их освоить. В Москве Гарин кончает репетировать «Медведя». Пришлось переименовать пьесу. Называется она теперь «Обыкновенное чудо»[519] .
4 января
Миша Марьенков – человек простой, необыкновенного здоровья в те дни, когда мы познакомились. Немногословный, чуть застенчивый. Всеми своими повадками напоминал он силача, сидящего в классе на задней парте. Силача из добродушных. И в литературе дела его шли, как у подобного силача учеба. Ни шатко, ни валко. Да он и не слишком утруждал себя. Писал, как подобные силачи готовят уроки: в самом крайнем случае. И его любили, как любят в классе таких учеников. Я познакомился с ним у Гитовича, в те годы еще простого и здорового, но уже с самолюбием воспаленным и со склонностью обвинять и проповедовать, со страстями и пристрастиями. Миша до такой степени просто смотрел на капризы и деспотические выходки Гитовича, что дружба их казалась нерушимой. Гитович то страстно восхвалял, то столь же страстно поносил Прокофьева, то благословлял, то отвергал своих учеников, молодых поэтов, а поглядишь, как пьют за столом в кухне у Гитовичей Миша и хозяин дома, и покажется тебе, что нет на свете людей более благодушных. Война их разлучила. Марьенков оказался в строю, в артиллерийской части на так называемом пятачке у Невской Дубровки[520] . Место для силачей. Незаметное и не достославное, но страшное по человеческим жертвам. И Миша едва не стал жертвой запутанного положения под Ленинградом. Был изранен. И когда встретились мы после войны, я не сразу угадал, чего не хватает здоровяку и силачу. Что он потерял? И вдруг с горечью ощутил: силу и здоровье. Был он широк и крепок, но только на вид. Щеки бледны. Глаза глядят по-прежнему просто, но как бы виновато или растерянно. Раны зажили, но мучила его нещадно язва желудка. А вел он себя по привычке как здоровяк.
5 января
Сейчас он приблизился к довоенному уровню. И с язвой как-то сладил. Работает в «Звезде». Иной раз в выходной день вижу его в окно – идет с полупустым рюкзаком за плечами – приехал в гости к Гитовичам. Все тот же вид силача-второгодника. Только озабоченней он, чем прежде: женат.
16 января
У меня произошли события неожиданные и тем более радостные. Эраст Гарин ставил в Театре киноактера «Медведя». Он теперь называется «Обыкновенное чудо». Премьера должна состояться 18 января. Вдруг 13-го днем – звонок из Москвы. Прошла с большим успехом генеральная репетиция. Сообщают об этом Эраст и его помощница Егорова. Ночью звонит Фрэз – с тем же самым. 14-го около часу ночи – опять звонок. Спектакль показали на кассовой публике, целевой, так называемый, купленный какой-то организацией. Перед началом – духовой оркестр, танцы. Все ждали провала. И вдруг публика отлично поняла пьесу. Успех еще больший. Вчера звонил об этом Коварский. Не знаю, что будет дальше, но пока я был обрадован.
17 января
Меня радует не столько успех, сколько отсутствие неуспеха. То есть боли. Всякую брань я переношу, как ожог, долго не проходит. А успеху так и не научился верить. Посмотрим, что будет завтра. Был вчера на съемке проб к «Дон Кихоту». Суета, много народу, дым валит из одной многоламповой пушки, прожекторы на башенках, к которым поднимаются по железным лестничкам, маленький световой прибор у самой съемочной площадки. Москвина с аппаратом везут на тележке по узеньким, как трубка, рельсам. Он наставляет объектив на актеров, и все световые приспособления направлены на них снизу, сбоку, сверху. Из могучей пушки бьет свет, идет дым. Это репетиция. Одна, другая. И вот – съемка. «Проверьте, закрыты ли двери!» – «Заперты», – отвечает мужской голос. У всех, даже у зрителей, лица напряженные. Осветители замерли у своих приборов. Выражение решительное, как у пулеметчиков. Один узколицый, в очках, вроде студента, другой, с лицом грубым и осуждающим, похож на дворника, но выражение одно. Помощницы гримера и он сам – в белых халатах[521] . И они глядят, словно прицелились. «Мотор!» Начинается съемка. Актеры сохраняют самообладание, но играют хуже, чем на репетиции. Дублей не снимают – берегут пленку. Понять, что получилось у Черкасова, Толубеева, Мамаевой[522], так же трудно, как на примерке костюма – как он будет сидеть. Тем не менее я скорее испытываю удовольствие от всего происходящего. Вроде как бы участвуешь в жизни. Раздражает меня актерская привычка рожать текст, уже давно родившийся и напечатанный. Они делают вид, отравленные законами сценического правдоподобия, что текст их ролей только что пришел им в голову. И они запинаются, как не запинается никто в быту. Но, надеюсь, все это еще от примерок. Вот и все новости.
18 января
Сегодня подходит к концу моя тетрадка. Сегодня крещение. Сегодня в Москве премьера «Обыкновенного чуда», он же «Медведь», и я не знаю, как пройдет на этот раз… Звонили из Москвы. Пока «Медведь» идет хорошо.
Сегодня (точнее, сейчас) идет просмотр «Медведя». Вероятно, третий акт… В первый раз я не присутствую на собственном спектакле. И не испытываю почему-то особенной горести. Мне уже звонили во время второго акта по гонорарным делам оттуда. Из театра. Говорят, что принимают так же, как 14-го. На премьерах, которые переживал я до сих пор, был я, к собственному удивлению, спокоен. Как спал. Особенно удивился я собственному спокойствию на «Ундервуде». Мне до того не понравилось, показалось странным начало, что я даже засмеялся. Но есть особое счастье – когда спектакль уже идет не первый раз – ждать спокойно и следить за поведением зрительного зала. В тех случаях, когда он имел успех. Тогда может показаться, что ты не один. Сейчас еще звонили из Москвы. Каверин был на спектакле. Этот уже хоть и хвалил, но что-то смутное проскальзывает в его похвалах. Правда, утверждает, что занавес давали раз десять. Но все говорил: «Хорошо, хорошо», а до этого мне твердили: «Замечательно, замечательно!»… Не успел я поставить многоточие, как позвонила опять Москва. Гарин, полный восторга, и Хеся – еще более полная восторга. Точнее – восторг ее внушал больше доверия. Эраст выпил с рабочими сцены на радостях. Вместо снисходительного «хорошо… хорошо…» Каверина, вместо «хорошо» с запинкой – почувствовал я прелестную атмосферу, что бывает за кулисами в день успеха. И утешился.
22 января
Вчера (точнее, даже сегодня, потому что произошло это около часу ночи) опять звонок из Москвы. Звонит Дунина[523] – снова: «Замечательно», но не «хорошо» с заминкою. Потом Женя Рысс позвонил, вернувшись домой со спектакля. И тоже с безоговорочной похвалой. Теперь жду отрезвляющих новостей.
23 января
Следующей на букву «М» записана у нас доктор Ивановская[524] . Потому что мы ее называем Мария Владимировна, а фамилию вспоминаем редко, от случая к случаю. Появилась она у нас уже тут, на новой квартире, когда я заболел. Это врач квартирной помощи. Сначала, первые недели две, приходила ко мне другая, потом уехавшая в отпуск. Но к Марии Владимировне привыкли мы быстро. Она входила с выражением лица внимательным и чуть смущенным и замкнутым. С движениями, рассчитанными, как у рабочего на производстве. Сначала – к столу, посмотреть листок с температурой, потом ко мне, уже со стетоскопом в руках. Сначала считает пульс, глядя на карманные часы. Потом выслушивает – все это не торопясь и не останавливаясь. Потом (это уже в начале второго месяца моей болезни) она просила, чтобы я осторожно лег на бок. Выслушивала легкие. Затем заполняла она больничный листок. За короткое время пребывания своего, ни одного мгновения не теряя даром, кротко и вместе с тем сдержанно поглядывая на меня светлыми своими глазами, успевала она и осмотреть меня, и рассказать о состоянии здоровья на сегодняшний день, и дать предписания на дальнейшее. Но как тесно мы живем!.. Сын ее оказался учеником Лозинского, молодым переводчиком[525], любимцем Бианки. Я слыхал о нем и раньше – его очень хвалили. Оказалась Мария Владимировна той самой любимой докторшей моей подшефной, Антонины Венедиктовны[526], слепой сказочницы, о которой выслушал я столько от Антонины Венедиктовны похвал. На вечере памяти Лозинского выступил сын Марии Владимировны так хорошо, что даже Акимов, человек строгий, его очень хвалил. А на вечере молодых писателей говорил сын резко. И «Смена» спорило.
24 января
И напечатала статью «Прав ли молодой писатель Ивановский?». И Мария Владимировна, соблюдая все то же размеренное спокойствие в движениях и глядя все так же ласково и сдержанно, явно была все же смущена статьей и обеспокоена. «А как сын?» – спросил я. «А он занимается фехтованием, увлекается этим делом. Белый костюм особый завел. Прыгает, машет шпагой». Я в те дни испытывал как бы обновление, освежение внимания. Словно окна открылись. И больше всего трогало меня многообразие жизни. Богатство. И рассказ Марии Владимировны о сыне тронул меня именно этими признаками. Когда кончился четырехмесячный срок, провела меня Мария Владимировна заботливо через ВТЭК и попрощалась все с той же благожелательной сдержанностью. Может быть, соседи по квартире или товарищи по службе иначе понимают Марию Владимировну. Но я знаю ее верней. Из квартиры в квартиру, не спеша и не останавливаясь, чтобы всех обойти в срок, всем помочь. Ну, как ее не благословить? Пусть злословят соседи. Мы тоже думаем, что понимаем соседей. А правда вовсе и не тут. Вот и кончился листок на букву «М».
26 января
Вчера получил письмо от Малюгина, которое при сем прилагаю вместе с программой[527] . Тон – ясный, трезвый и, видимо, определяющий характер спектакля. Чему я и рад. Восторженный тон некоторых телефонных звонков и устных рассказов несколько выбивает меня из колеи. Пугает.
27 января
Ночью звонил из Москвы Дрейден: «Успех несомненный, но…»
Все о третьем акте. Об отдельных актерах. Затем говорил я с Хесей – полный восторг. Хвалят. Николай Эрдман говорил о пьесе отлично. Пырьеву понравился первый и третий акт, «во втором слишком смешат» – и так далее. Так или иначе, семь первых спектаклей прошли, и при этом билетов достать невозможно…
Пишу поздно. День хлопотливый и утомительный. Приехал Гарин, много рассказывал о спектакле. На февраль объявили новые – чуть ли не через день. Успех. Во время его рассказов пришли письма от Крона и Дрейдена, которые при сем прилагаю[528] . Акимов тоже решил ставить «Обыкновенное чудо»[529] . На душе то празднично, то смутно. Я не привык к благополучным концам, и все мне кажется, что вот-вот произойдет что-то отменяющее. Но, с другой стороны, спектакль уже похвалили такие люди, как Эрдман, Крон. Эраст сияет. Очень смешно рассказывал и очень был похож на того, что описан у меня в телефонной книжке. Все вязал и решал с необыкновенной решительностью, как ересиарх. И радовался. Он даже поправился за эти дни, хоть у него и чуть не каждый день были спектакли. Хоть он родом из Рязани, но на успех смотрит не по-шелковски.
31 января
Следующая фамилия на «Н» – это Рашевская. Попала она на эту букву, потому что зовут ее Наталия Сергеевна. Это явление совсем иного порядка. Жажды жизни у нее побольше, чем у Надеждиной[530] . Но и пути пошире. Здесь талант. Это одно расширяет и упрощает жизнь. А вторая сила – порода. Чехов сказал Бунину шутя: «Дворяне у нас не вырождаются. А вырождаются купцы да крестьяне. А вы нас всех переживете»[531] .
1 февраля
Во всяком случае, я вспомнил это замечание, когда увидел однажды поближе генерала Игнатьева. Да и некоторых других подобной породы. Это – доходящая до невинности уверенность в своем праве на исключительное положение и доходящее до изящества уважение к источнику благ земных. Без признака суетливости, подхалимства, без тени смущения, воистину прирожденное. Когда я слышу, как говорит Наталия Сергеевна речи на собраниях, поглядывая на окружающих просто и невинно, изящно, доверительно, – то угадываю породу. «Но ведь и в самом деле, – говорит Наталия Сергеевна, – ну, посмотрите вокруг! Какое идет строительство. Ведь этот подъем…» – и так далее и так далее. Я не знаю сложной и трагической жизни, что пережила Рашевская. Не знаю в подробностях. Но понимаю, что подобного рода простота дается человеку не легко и не даром. Когда я вижу ее строгую – не выражением, а подтянутостью – фигуру, ее несдающуюся жизненную силу, то испытываю уважение. Нет, она не хочет уступать свое исключительное положение даже годам. Вот она худрук БДТ[532] . Идет обсуждение какой-то пьесы. Входит секретарша с бумагами на подпись. И словно застенчиво прячет в руке очки.
2 февраля
И подает их Наталии Сергеевне в последнее мгновение, вместе с бумагами. И Наталия Сергеевна с отвращением, скорее прикладывает к глазам, чем надевает очки, скорее в один миг угадывает, чем прочитывает бумаги и столь же молниеносно их подписывает. И – ни признака насмешки не обнаружил я в себе при виде этого. Нежелание показать слабость – вот что в этом угадывалось. Сказать, что она молодится, было бы так же позорно, как сказать о генерале, спокойно шагающем под пулями, что он храбрится. Восемь лет прошло с тех пор, но Рашевская не сдалась. Правда, она больше не худрук в БДТ, но причиною тому не возраст. И мужчины более молодые, сменившие, не заменили ее. Она все так же пряма, и стройна, и благожелательна. В мыслях все та же спасительная неясность, но зато безошибочное чутье ведет ее нужными дорожками. Не изменяет ей талант и не изменит до самой смерти. И я верю, что если и умрет Наталия Сергеевна когда-нибудь, то, по обычаю римских императоров, стоя.
Несколько слов о сегодняшнем дне. Акимов решил ставить «Медведя». Завтра назначена читка. Предполагалось, что это сделает кто-нибудь из актеров, но я не в силах был допустить это. И договорился, что буду читать сам. Сегодня начинают снимать «Дон Кихота». Сцену «Постоялый двор». Из Москвы доходят смутные слухи, что у «Обыкновенного чуда» появились враги, обвиняющие спектакль в аполитичности. Вот и все.
3 февраля
Перехожу к букве «О». Орлов Владимир Николаевич. Человек несомненно умный, несомненно знающий, несомненно порядочный. Прибавляю этот эпитет не для усиления. Так говорят о женщине, – еще молодая. Я кое-что люблю в нем. А кое-что переношу с трудом, до такой степени с трудом, что вечно при встрече чуть не ссорюсь с ним, а это при моем нраве и при вечном смятении чувств – вещь необычная. Прежде всего он – человек резко ограниченный и гордится этим. И выставляет на границах заградительные отряды. Он думает, что то, что он знает, то знает. А это вовсе и неверно. Настоящего понимания литературы он лишен. Есть в нем что-то от могильщика, говорящего близким, плачущим у гроба: «Граждане, или плакать, или дело делать». Или от того старика в Публичной библиотеке, что говорил: «У нас тут книги не для чтения, а для хранения. Книгохранилище – понимаете?» Возможно, так и полагается, но я не понимаю литературоведа, в котором не осталось хоть сколько-нибудь читателя. А у него тут врожденная строгая граница, до нескромности видимая. Так же строго соблюдает он границы табели о рангах. Когда ему не дали билета на премьеру капустника «Давайте не будем», – громко и открыто оскорбился, напомнил, что он сталинский лауреат, и написал соответствующее заявление. Читатель этого не сделал бы. Нет, он резко ограниченный деятель. Но вот судьба повернулась к нему спиной. Жена, нежная, тихая, по-восточному изящная и детски простая Илико, полюбила другого и ушла от Орлова. И он принял это без всяких границ – тяжело. Но знаю я это кружным путем. Я с безоговорочным уважением любовался тем, до какой степени по-мужски он это принял. Не дрогнув. Он присутствовал на тех заседаниях, где ему следовало быть.
4 февраля
Сдавал те работы, которые должен сдавать. И я впервые ощутил в его ограниченности – здоровую силу. И тем не менее, встречая его, слыша горловой голос, с подчеркнутой уверенностью разглагольствующий на литературные темы, видя подбор его пластинок, доказывающий полное безразличие к музыке, при полной уверенности в том, что он тут дока, я испытываю чувство протеста.
Вчера после восьмилетнего почти промежутка читал в Комедии актерам пьесу «Обыкновенное чудо», то есть «Медведя». Слушали, как и подобает старым друзьям. Читал первый и третий акты, а второй читала Леночка Юнгер. Чувство от этой встречи осталось хорошее.
6 февраля
«Образцовский театр» – телефоны записаны в те годы, когда у них существовало отделение в Ленинграде[533] … Это наш лучший кукольный и один из лучших театров вообще. Там собрались люди, до того любящие искусство, что кажутся сами себе недостойными подойти к нему прямо (Сперанский и другие). Идут тропочкой и превращают ее в прямую, большую трассу. Есть люди, обладающие великолепным голосом, талантливые, но уродливые или изуродованные на войне, и они нашли себе место в театре Образцова. Их ты видишь, когда выходят они раскланиваться, держа тех кукол, что водили. И ты вдруг понимаешь, что кукольный театр с помощью ширм и кукол помогает скрыть ненужное, а дать лучшее. Самое сильное из того, чем они владеют. И не мешает этому ни администратор с выпуклыми глазами, ни пьесы хорошие и средние. Ничто.
10 февраля
Остро?в Дмитрий Константинович[534], или Митя, появился в тридцатых годах в группе молодых. Настоящая его фамилия – Остросаблин. Не знаю, зачем ему понадобился псевдоним, – фамилия уж очень хороша. И сам человек вполне доброкачественный, простой, но одержимый двумя бесами из числа тех, что во множестве бродят по коридорам Союза писателей и различных издательств – ищут работки. И непременно находят. Бес пьянства и ленивый бес. Остров талантлив. И талант его все боролся с искушениями. И он, подобно всем нам, то и дело начинал новую жизнь. Например, когда выяснилось, что Митя получит квартиру в надстройке, он возопил радостно: «Вот где заскрипят перья!» В 34 году на новом месте, переехав, мы часто встречались на лестнице. Увидел я его жену и маленького, очень хилого мальчика по имени Феликс. Жена обожала его и расписывала восторженно и таинственно Сильве Гитович, как тоскливо одной и чем именно хорош, даже удивителен наш Митя. Все, казалось, идет ровненько: семья, ребенок, квартира, сочувствие друзей, – все должно было содействовать тому, чтобы перья заскрипели. И он как будто и начинал работать, Митя Остров, длинный, с длинным лицом, остроносый, ухмыляющийся дружелюбно. И вдруг – раз! Словно взрыв. Целый ряд молодых писателей исчез. И Митя в том числе. И появился перед самой войной, словно бы виноватый, сильно пьющий. Он был, видимо, полностью реабилитирован, потому что взяли его в армию. После войны он мало переменился внешне, только ухмылка приобрела менее добродушное выражение, – литературные дела не шли.
11 февраля
При последнем переезде, когда получили мы квартиру тут, на Малой Посадской, Мите Острову досталась квартира Григорьева[535] на углу Гагаринской и ул[ицы] Чайковского. Он очень доволен. Говорят, что в «Звезде» появились его хорошие рассказы[536] . И ухмыляется он доверчивее; впрочем, все это совершилось с ним еще до переезда на новую квартиру – доверчивая усмешка и хорошие рассказы. Очевидно, общими силами он и жена придерживают за хвост коридорных союзно-издательских бесов. Живуч человек! Я прочел его повесть, написанную им вскоре после всего пережитого. Судьба озлобленного уголовника в лагере, описанная рукой, отвыкшей от работы или не успевшей к ней привыкнуть. Но тем более ясно выступала доброкачественная, ошеломленная мальчишеская душа самого Мити. Повесть не напечатали. Даже пошумели и пожужжали вокруг нее. А потом даже постреляли из орудий, – впрочем, Митя, по превратности судеб, сам вызвал огонь на себя. И все это к пережитому до войны и на войне. И ничего – в конечном счете. Количество бесов не прибавилось.
Людей не поносит на каждом шагу, даже виноватых перед ним. Радуется, едва солнце проглянет. И пишет! Живая душа.
26 февраля
Прокофьев Александр Андреевич – малого роста, квадратный, лысеющий, плотный, легко вспыхивающий, вряд ли когда спокойный. В гневе стискивает зубы, оттягивает углы губ, багровеет. Человек вполне чистой души, отчего несколько раз был на краю гибели. Крестьянин из-под Ладоги, он появился в Союзе человеком несколько замкнутым, угрюмым. Тогда он писал вполне на свой лад, и стихи его нравились, казались сбитыми и плотными, как он сам. Познакомился я с ним ближе в 32 году в Коктебеле. Поездка оказалась и ладной и неладной. Долго рассказывать почему. Теперь, через 24 года, кажется она только терпкой и горьковатой. Тогда наш литфондовский дом только что открылся. Дом ленинградского литфонда. Купили дачу у наследниц профессора Манассеина[537] . Дочь его – рослая, с лицом правильным и трагическим, оставалась в то лето еще чем-то вроде директора бывшего своего владения. Она распределяла нас по комнатам, когда мы приехали, и, к моему негодованию, все путала меня с Брауном – мы казались ей однофамильцами. Но знакомое чувство близости моря, виноградники, только что пережитое по дороге ощущение, что вернулся я на родину, запах полыни – все это примиряло меня с трагической и рассеянной хозяйкой. Расселили нас по большим комнатам профессорской дачи. Мы заняли застекленную террасу второго этажа: Я, Женя Рысс, Раковский[538] – остальных в точности припомнить не могу. Женщин селили внизу. Скоро жизнь вошла в свою колею. Прокофьев – и еще не помню кто – получили комнату тоже внизу, окнами на виноградники. Мы же видели в стеклянные решетчатые стены своей террасы море. При таком близком житье-бытье вскоре знали мы друг друга во всех подробностях.
28 февраля
Прокофьев в первые дни казался угрюмым и держался в стороне. Общался только с Брауном да Марусей Комиссаровой[539] . Браун, с нездоровым цветом лица и словно бы пыльный, тоже казался замкнутым, но по причинам другим. Этот был Прокофьеву противоположен. Прокофьев не боялся. А Браун окружающий мир считал зараженным и угрожающим. Все мазался йодом. Каждую царапинку, каждую ссадинку. От нее и след простыл, а он все, бывало, мажет это место на всякий случай. Потом была Маруся Комиссарова, она была простой и открытой. И у всех трех, и у Прокофьева, и у Брауна, и у Маруси, был завидный дар: музыкальность. Когда запевали они втроем, чаще всего народные песни, – я их слушал да удивлялся. Постепенно дачная жизнь сближала нас. И я разглядел Прокофьева поближе. Прокофьев еще не отошел от деревни и тех кругов, в которые попал он, уйдя оттуда. Мы были ему чужды, но он, приглядываясь, убеждался, что мы тоже люди. О, терпкое и радостное и горькое лето 32 года. Приехала Наташа Грекова, о которой я рассказывал уже. Приехал Зощенко. Парикмахер, который брил нас в римском дворике бывшей виллы какого-то грека, со стенами, расписанными масляной краской, спрашивал перед его приездом: «Вот, наверное, веселый человек, все хохочет?» А в те дни мучили Михаила Михайловича бессонницы и болело сердце. Он мог заснуть только сидя в подушках. Он был мрачен, особенно в первые дни, но потом повеселел и, сам удивляясь, повторял: «Как я добр! Как я добр!» Мы с Катюшей переселились в дом вдовы Волошина. Для этого нас представили ей. Мы прошли через большую комнату, где стояла не то голова Зевса, не то статуя Аполлона. Забыл. Среди выбеленных стен казалась она такой же ненастоящей, самодельной. Это чувство помню. И неуместной. Смущала, как декламация. И библиотека казалась почему-то неестественной.
29 февраля
Вдова Волошина рассказала нам, как умер ее муж. И я ужаснулся. Повеяло на меня охотнорядским, приспособленческим духом, который в Союзе – в московском его отделении – был еще очень откровенен. Волошин подарил дачу свою Союзу. Хозяйственники сразу заподозрили недоброе. Они сначала умолкли. Два или три месяца не отвечали, стараясь понять, в чем тут хитрость. Наконец потребовали нотариальное подтверждение дара. После долгих и утомительных поездок в Феодосию Волошин и это выполнил. И вдруг пришла из Союза телеграмма, подействовавшая на бедного поэта как пощечина. «Продали дом Партиздату выгодно и нам и вам». Волошин крикнул жене: «Пусть меня лучше солнце убьет!» – и убежал из дому без шляпы бродить по горам. Жена уверяла, что эти слова «выгодно и нам и вам» оскорбили его воистину смертельно. И я верю, что так и было. Он не сомневался, что, делая это, даря свою дачу, он обрадует писателей. И будут они вспоминать его с уважением – Волошин чувствовал, что тяжело болен и скоро умрет. А тут вдруг приносят «выгодно и вам и нам». В 32 году новое руководство Союза с огромным трудом выкупало у Партиздата то, что принадлежало им уже однажды по дарственной записи…
Волошинская дача резко отличалась от нашей, манассеинской. В ней еще доживал дух десятых годов.
2 марта
Дух начала века чувствовался и в Зевесовой голове, и в переплетах книг, и в рассказах об Андрее Белом, который приезжал сюда со свитой антропософок. У одной из них челюсть была вставлена на какой-то новый, конструктивный немецкий лад: без деления на отдельные зубы, – она была сплошная, без мещанского подражания природе. Но, по рассказам, этот сплошной, не то костяной, не то сконструированный из некоей имитации, белеющий на месте челюсти полукруг вызывал у зрителей душевное смятение. Белый сам был весел, оживлен. Антропософки же держались осуждающе. Белый понимал прелесть нигилистических выходок Габричевского[540] и чувствовал родство этого очень, слишком много понимающего эрудита со своим временем. Антропософки же начисто лишены были чувства юмора и отрицали его, как монашки. Белый, как приехал, стал вместе со всеми собирать коктебельские камушки. И по свойствам загадочного ума своего, первым делом принялся их классифицировать, но не на существующий у коктебельских коллекционеров лад и не на принятый у петроградцев, а на свой, и научный, а вместе с тем как бы и переходящий за пределы разума. Это был чудом уцелевший мамонт символистической эпохи, и его разглядывали с жадностью, и о нем рассказывали в 32 году будто о чуде, хотя уже года три прошло с тех пор, как побывал он тут в последний раз. У Волошиных каждый вечер собирались на крыше, читали стихи. И, по рассказам, он несколько ревновал к тому пиетету, которым окружен был Андрей Белый. Теперь не было ни того, ни другого, ни вечерних сборищ. Однажды только собрались внизу у рояля, и композитор, фамилию которого забыл, сыграл что-то свое. Слушателей было немножко.
3 марта
Это были последыши друзей дома – реликтовые девушки, длинный человек неясной профессии, горбоносый, начинающий плешиветь, с верблюжьей шеей. Все, кроме спокойного, всепонимающего Габричевского, крепкой и миловидной жены его, урожденной Северцевой, из славного рода ученых и академиков, казались увядающими. Как не похож был наш манассеинский дом, проданный ленинградскому литфонду, на волошинский! Взять жизнь поэтов тамошних – и Прокофьева, выросшего в избе, воевавшего в гражданскую, хлебнувшего там такого горя, какое и не снилось человеку до семнадцатого года. Потом бандиты застрелили его отца. Потом был он следователем ГПУ. Такой дорогой пришел он в литературу. Андрей Белый в то лето не приезжал, и Волошин умер. Прожили они и Прокофьев разную жизнь, такую разную! Но, думаю, какие-то общероссийские горести и радости переживали они одинаково, хоть называли их до того непохожими словами! С этого лета перешли мы с Прокофьевым на ты. То ближе сводила нас жизнь, то разъединяла – никогда вполне близко, никогда слишком далеко. Но я понимал его. Если рассказывать дальше, то придется коснуться зловещих лет, дьявольских времен нашей жизни. Но Прокофьев, доброкачественный и ясный, не пользовался тьмой, а переносил ее мучительно, как мы. И не хочется говорить о нем в связи с временами, о которых и вспоминать тошно. На коктебельском лете, веселом и горьком, на лете первого нашего знакомства и закончу я о нем рассказывать.
4 марта
Из Майкопа, из города, обыватели которого казаков обзывали куркулями, черкесов – азиатами, русских – кацапами, а украинцев – хохлами, попал я вдруг после большого промежутка времени – года два я там не был – в настоящую Россию, в город Жиздру. До этого в пятилетнем возрасте побывал я в Белеве. А летом 1903-го было мне уже без трех месяцев семь – огромная разница…
Начну по порядку. В 1903 году бабушке захотелось повидать, может быть, в последний раз, всех своих детей. Решили собраться у старшего маминого брата, у дяди Гаврюши, в Жиздре. Но по дороге туда заехали мы в Рязань. В 1901-м были мы в Белеве у маминого брата. Рязань я не видел с четырехлетнего возраста. Когда-то именно этот город считал я своим родным, но за два года пережил я целую жизнь. И я удивился извозчикам в низких шляпах с полями. И при том еще – одноконным. Улицам, вымощенным булыжником. И едва узнал своего двоюродного брата, фамилия которого стоит в моей книжке на очереди: Проходцов И. И., Ваня Проходцов. Я сразу побежал с ним и с Лидой – младшей его сестренкой в сад и очень смутился, когда вышел туда же длинный, хмурый, черноволосый и чернобородый Иван Иванович Проходцов старший, муж тети Сани. Я почему-то очень его боялся. Через день-два мы ехали все в Жиздру.
5 марта
В Москве была у нас пересадка. Вообще в те времена, видимо, до прямых вагонов еще не додумались – все поездки в моих воспоминаниях связаны с долгими ожиданиями в высоких залах, с сияющими буфетными стойками, со столами в белых скатертях, с лакеями в черном, со швейцаром, провозглашающим у двери, какой поезд куда отходит, какой прибывает, какому поезду дан первый, второй или третий звонок. Мы ехали через всю Москву с вокзала на вокзал. Так летом 1903 года увидел я впервые город, с которым столько связано у меня в жизни…
В Жиздре у дяди Гаврюши – он служил по акцизу – была большая квартира, и огромный сад, и конюшни, в которых стояли три лошади: Зорька, рыжая, будничная, и два вороных – Васька и Фока. Ваську выстаивали в конюшне, потому что предыдущий кучер заморил его. «Он был, как котенок», – рассказывала бабушка. Зато теперь, когда его выпускали во двор промяться, он совсем не походил на котенка. Он летал по двору, лягался, и нам запрещалось выходить, смотрели из окна кухни. Вскоре, впрочем, его стали запрягать в коляску. Праздник. Мы едем встречать чудотворную икону. Запах лаковых крыльев коляски, нагретых солнцем. Мы стоим и видим медленно надвигающуюся толпу, хоругви. Икону несут на полотенцах. К ней прикладываются.
6 марта
Или мне это представляется? Нет, кажется, правда – на ходу женщины в белых платках бросаются на колени перед иконой на миг, чтоб не задержать плавное движение толпы, – и отбегают в сторону. Все на площади перед собором стоят без шапок – и я, как все. Теперь мне ясно видно, как труден первый переходный возраст. Душевно я был развитее обычного, умственно – изнемогал под тяжестью своего багажа. А воли и вовсе не было. Я понимал, что веду себя не так, как положено, но своими силами выбрать линию поведения не мог. Я кричал, когда сердился, и плакал, когда огорчался, как маленький, хоть и понимал уже, что это мне не по возрасту. И множество вещей, оставшихся на всю жизнь, впечатавшихся в самые глубины души, я принимал и не предполагал, что в них можно сомневаться. Так было с церковью, с иконами, с молитвами. Когда бабушка узнала, что я еще не причащался никогда, она очень рассердилась на маму и повела меня в церковь. Вот самое новое и поразительное из того, что вошло в мою жизнь тут, в Жиздре. Я дрожал в церкви, потрясенный и пением, и царскими вратами, захваченный волнением бабушки. Так как до семи лет я еще считался младенцем, то причащали меня без исповеди. И когда я принял причастие, то почувствовал то, чего никогда не переживал с тех пор. Я сказал бабушке, что причастие прошло по всем моим жилочкам, до самых ног. Бабушка сказала, что так и полагается. И была со мной такою, как всегда. Но много спустя я узнал, что дома она плакала. Она увидела, что я дрожал в церкви, – святой дух сошел на меня, следовательно. Наверное, я буду святым. Об этом рассказала мне мама через несколько лет. Впрочем, бабушка через два-три дня сердилась на меня, как и прежде.
7 марта
Богатство новых чувств, восторги без примеси страха (мне объяснили, что до семи лет я безгрешен), ясность небесных, но полная запутанность земных дел – все это перегружало меня. Думать я не умел и в глубине души считал, что, конечно, взрослые правы, когда отчитывают меня, и одновременно с этим думал, что если бы они поняли, какой я хороший мальчик, то все было бы иначе. Словом, в мыслях царствовала полная неясность. С одной стороны – полная ясность чувств, а с другой – двойственность мыслей. Когда я, уже студентом, узнал, что с Проходцовыми пробыли мы в Жиздре всего две недели, то не хотел этому верить. В воспоминаниях моих – это целая огромная полоса жизни. Потом они уехали – и началась новая полоса, оказывается, тоже двухнедельная, пока мы гостили в Жиздре без них. Ваня оказался парнишкой куда более цельным, чем я.
Для него все было тут привычным и ясным: и то, что хлеб – это черный, а белый называется ситным. Что похожие формой на куличи необыкновенно вкусные маленькие продающиеся с лотка произведения местного поварского искусства называются грешники. И не по каким-нибудь таинственным церковным причинам, а потому, что они сделаны из гречневой муки. Его не удивляла, как меня, огромная русская печь, в которой и пекли и ситный, и хлеб для всех гостей. Ему разрешали есть лепешки из ржаной муки со сметаной, а мне мама позволила только попробовать, говоря, что они тяжелы для желудка. Когда кучер запрягал Зорьку, мне разрешались только подсобные работы: поднести хомут, например. А Ване кучер позволял и затянуть ремешки, и вставить в зубы смирной лошади удила. Однажды в конюшне у нас завязался спор: «Я офицер!» – сказал Ваня. «А я полковник», – возразил я. «Да, выходит твой верх, – сказал кучер. – Полковник старше офицера». – «А я генерал!» – воскликнул Ваня. «Да, тогда ты старше, – сказал кучер. – Твой верх». И какие чины я ни вспоминал, кучер, качая головой, отводил их: «Нет, генерал старше». Так нас и стали звать: «генерал» и «полковник». И я огорчался. Уже вернувшись в Майкоп, я придумал, что надо бы мне ответить: «А я адмирал», – но было уже поздно. Однажды я увидел, что Ваня сидит в беседке, обливаясь слезами, и держит в руках раскрытую тоненькую книжку. Оказывается, он терпеть не мог читать, а мать усадила его за книжку, чтоб он не забыл грамоту за лето. Мне это было удивительно, так как я обожал чтение. Однажды, когда мать дала мне какую-то интересную книжку, я от радости стал эту книжку целовать. И тетя Саня сказала скорбно: «А Ваню я никак не приучу к книге!» Когда мы вернулись с того праздника, где встречали икону, самый любимый из моих дядей, худой и узколицый Коля, тот самый, у которого мы гостили в Белеве, таинственно приказал мне остановиться у закрытой двери. Потом он запел что-то торжественное, двери распахнулись. Посреди комнаты стоял таз с водой, горели свечи. А по воде плавали два лебедя. И они, слушаясь палочки, поворачивались к ней носиками и плыли за нею следом. Это был подарок дяди Коли к празднику мне. Взрослые сначала восхищались, а потом обнаружили, что тетя Саня исчезла, заперлась в своей комнате. И мама сказала тете Зине, младшей из сестер, тогда еще гимназистке: «Обиделась». Тетя Саня обиделась, что дядя Коля подарок сделал только мне, а не всем своим племянникам. Но зато замок из песка в саду дядя Коля построил для всех нас. Он украсил его кусочками зеркального стекла, и мне казалось, что ничего прекраснее я не видел.
8 марта
Вчера позвонили из Союза, что там общее собрание. Точнее – открытое партийное собрание, с участием беспартийных, по крайне важному вопросу. Я поехал, хоть Катюша и протестовала: Дембо[541] приказал, чтобы весною я был особенно осторожен. Облезший за зиму Дом писателя. Всё те же знакомые лица товарищей по работе. Все приветливы. Одни – и в самом деле, другие – словно подкрадываются, надев масочки. Мы собрались в зале. Позади председателя – эстрада, серый занавес сурового полотна – все приготовлено к основному спектаклю капустника «Давайте не будем». Но лица у собравшихся озабоченные. Озадаченные. Все уже слышали, зачем собрали нас. За председательским столиком появляется Луговцов, наш партийный секретарь, и вот по очереди, сменяя друг друга, читают Левоневский[542], Фогельсон[543] и кто-то четвертый – да, Айзеншток[544] – речь Хрущева о культе личности. Материалы подобраны известные каждому из нас. Факты эти мешали жить, камнем лежали на душе, перегораживали дорогу, по которой вела и волокла нас жизнь. Кетлинская не хочет верить тому, что знает в глубине души. Но это так глубоко запрятано, столько сил ушло, чтобы не глядеть на то, что есть, а на то, что требуется, – куда уж тут переучиваться. Жизнь не начнешь сначала. И поэтому она бледна смертельно. Кетлинская. Убрана вдруг почва, которой столько лет питались корни. Как жить дальше? Зато одна из самых бездарных и въедливых писательниц, Мерчуткина от литературы, недавно верившая в одно, готова уже кормиться другим, всплескивает руками, вскрикивает в негодовании: «Подумать только! Ужас какой!» В перерыве, по привычке, установившейся не случайно, все говорят о чем угодно, только не о том, что мы слышали. У буфета народа мало. Не пьют. По звонку собираются в зал быстрее, чем обычно, и снова слышим историю, такую знакомую историю пережитых нами десятилетий. И у вешалок молчание. Не знаю, что думают состарившиеся со мной друзья. Нет – спутники. Сегодня Женский день и, наверное, по этому поводу пьяных на улице больше, чем обычно. Вечером, как в дни больших событий, я чувствую себя так, будто в душе что-то переделано и сильно пахнет краской. Среди множества мыслей есть подобие порядка, а не душевного смятения, как привык я за последние годы в подобных случаях.
9 марта
Шелковы любили дразнить, но сами часто обижались, как тетя Саня, когда дядя Коля подарил игрушки одному мне. Шварцы любили свою породу. Говорили: «По-нашему, по-шварцевски». Шелковы же вглядывались друг в друга без пощады и уступок. Говорили, что Лида некрасива. Ваня простоват. Я несдержан и избалован. Говорили в отсутствие упоминаемых и их родителей, но дети слышат все. Осуждали и старших. Говорили, что дядя Федя несчастен в семейной жизни, все это так, но не к чему бранить свою жену за столом в ее отсутствие. При всех. (Жена его в Жиздру не приезжала.) Говорили, что характер у дяди Гаврюши тяжелый, гнетет он всех своей молчаливостью. Осуждали не с удовольствием, а с горечью, как самих себя. И не верили себе, хоть и были одарены. Не верили на российский лад, чтобы не действовать. Рязанский любительский кружок держался некогда их силами. Барон Дризен, руководивший кружком, поражался тем, как сыграла мама, которой в те годы было 18 лет, Галчиху в «Без вины виноватые». И не хотел верить, что мама не видела Садовскую в этой роли. Играли отлично все, кроме молчаливого дяди Гаврюши. Он не любил сцену. А дядя Коля играл плохо, но зато великолепно лепил. И вообще был мастер на все руки, все мастерил какие-то машины или сооружал целые постановки. Одну из них – на даче в Рюминой роще, под названием «Зима», – запомнил я на всю жизнь. И снег шел с неба, и мальчик съезжал на салазках с горки – и все это в закоулке, где лестница вела в верхние комнатки, а главное – посреди лета. Но ни один из них не верил себе. И похвалам.
10 марта
Когда маму хвалили, то лицо ее принимало выражение отчужденное, недоверчивое. И у всех Шелковых тоже лицо словно темнело в подобных случаях. Шварцы принимали славу просто, как будто вещь вполне естественную, и любили ее. Шелковы же упирались. Нередко бывали они веселы и смеялись, но потом спохватывались. И бабушка обычно говорила: «Что-то мы развеселились, как бы нам не пришлось завтра плакать». Все это я понял значительно позже, разбираясь в превратностях собственного нрава. Но запомнил. Те дни словно впечатались мне в самую глубину души. Все было и по-новому, а вместе с тем близко. Словно выступало из тьмы, а не появлялось заново. И стук копыт по деревянному настилу конюшни. И прыгающая на лошадиных спинах сбруя, когда кучер позволял сесть возле него на козлах. И обеды в саду. И вечное подшучивание старших друг над другом. Дядя Гаврюша был холост. Сестры все уговаривали его жениться. Писали имена невест на бумажках, потом скатывали, как лотерейные билетики, и клали за иконы в бабушкиной комнате. А потом вытаскивали, как жребий. И все смеялись. И бабушка улыбалась, а потом ушла из комнаты, и Зина прибежала и сказала: «Мама плачет». В церковь ходили, но как бы тоже упираясь. А иной раз и посмеиваясь. В то лето бабушка все собиралась на открытие мощей Серафима Саровского. И ее поддразнивали, хоть и любовно и почтительно. Я относил это за счет непобедимой шелковской привычки дразнить, от которой сам так страдал. А теперь понимаю, что они и верили, [и] не верили. В отцовском атеизме и в нашем майкопском укладе жизни было больше решительности и цельности. И даже как бы монашеской скромности. В Жиздру приехала та мамина сестра, имя которой я твердо не помню. Кажется, тетя Катя. Она не кончила гимназии, рано вышла замуж, в Рязани не жила и с самыми моими ранними воспоминаниями не связана. Муж ее, высокий и стройный брюнет, был управляющим в каком-то имении. И я увидел чудо.
11 марта
Он часто бывал выпивши – до сих пор в нашем доме я подобного не видывал. Как теперь понимаю, он приехал отдохнуть, был в хорошем настроении, предела не переходил, но все-таки я был изумлен. У нас в доме и этого не случалось. Он говорил громче обыкновенного, хохотал, а если бабушка выговаривала ему за шум, то восклицал: «Теща, пожалуйте ручку!» И целовал, шаркнув ногой и низко поклонившись, руку бабушке, чем тоже повергал меня в изумление. А взрослые посмеивались над ним добродушно, как над расшалившимся ребенком. Только кучер осуждал его. Однажды он запряг коней и уехал покататься один, без кучера. И тот все ворчал потом и даже принес жалобу самому дяде Гаврюше на то, что гость загнал коней. Нет на свете ни кучера, ни коней, ни конюшни, [ни] самой Жиздры – немцы сожгли ее дотла, и теперь это совсем не тот город. И я не могу сказать, как звали кучера, какие волосы у него были. Он двигается лишенным цвета и формы в самой глубине моей памяти, но живой. Самый характер его я вижу. И чувствую свое отношение к нему. Скорее, его ко мне, отчего и запомнил я его так глухо. Он не уважает меня за то, что я гость. И живу на даровых хлебах и тем самым как бы отнимаю у него некие возможности. Посреди двора охапка сена. Кучер клянется дяде Гаврюше, что сено, которое предлагает он купить, хоть и дороже, но настолько лучше, что конь разгребет любое другое, а доберется до этого. Для того и навалена охапка сена. Начинается опыт. Дядя Гаврюша угрюмо глядит, стоя в дверях, а мы из окон. Приводят под уздцы Фоку. Конь нюхает сено и вдруг, задрав башку, строит гримасу, которую никак я не ждал от лошади: каким-то особым образом поднимает верхнюю губу, обнажая зубы. Это повторяется несколько раз. Дядя Гаврюша молчит угрюмо. Кучер, как я замечаю, несколько смущается. Но вот, наконец, Фока и в самом деле разбрасывает дешевое сено и добирается до дорогого. «Подсыпал чего-то в сено!» – ворчит бабушка сердито. И за столом говорят, что кучер – хитрец.
12 марта
Мы целыми днями вместе – я и Ваня – и все время то ссоримся, то живем общими интересами, все больше связанными с конями и конюшней. Однажды нам разрешили покататься верхом на Зорьке – по очереди мне, Лиде и Ване. По улице. Добрая Зорька терпела-терпела, потом сбросила Лиду. Мы, стоя у ворот, увидели, как на углу улицы Зорька вдруг поднялась на дыбы. И Лида вдруг мягко съехала на землю. А Зорька, пробежав мимо, скрылась в конюшне. А Лида не спеша, растерянно зашагала к нам. Сколько было разговоров, расспросов, ахов и охов.
Ходили мы на речку. И купальня была тут построена не по-майкопски. Домик без крыши. Вместо пола вода в середине. Вдоль стен узенькие настилы и скамейки. Спустишься по лестнице – мне по горло, дяде Гаврюше вода по грудь. Плавали на лодке. Дядя Гаврюша подплыл к нам, вынырнув из купальни. Стоял твердо на песчаном дне. Разговаривал. Однажды поехали мы за грибами. В бор. Особое чувство – высоких сосен – охватило меня. И я понял, что это не простой лес, а именно бор. И густой и вместе – чистый и гулкий. И я собрал много грибов, и меня хвалили. И я никогда их прежде не ел, потому что запах грибов казался мне в раннем детстве подозрительно незнакомым. А тут, вечером, дома попробовал, и очень они мне понравились. Потом ездили мы в какое-то загородное хозяйство. И я удивился, что капуста на грядках стоит не круглыми кочанами, а распустив широко листья, за которыми кочан едва чувствовался.
Но вот две недели прошли, и мой спутник и соперник (кого пустят на козлы, кому кучер даст править, кто скорее найдет упавшее яблоко и так далее, и так далее) собрался уезжать.
Прежде всего привели меня в восхищение раки в буфете на вокзале. Их я тоже научился есть только в Жиздре. Прежде запах их казался мне подозрительно незнакомым. И больше всего любил я крупные клешни раков, и в буфете подобраны были в этом отношении раки-богатыри. Но вот – первый звонок.
13 марта
Семейство Проходцовых в окне вагона. Ваня улыбается добродушно и весело, и все мое существо охватывает огорчение и печаль. И вот – третий звонок. Бабушка плачет. Для нее каждая разлука может быть разлука навеки. Я должен был бы на этом перестать рассказывать о Жиздре – ведь рассказ-то должен идти о Проходцове. Но мне жалко. А кроме того, некоторое отношение дальнейший рассказ о Жиздре имеет и к Ване. Я уже писал как-то об этом: его отъезд вдруг вызвал у меня, к моему собственному удивлению, ужасное огорчение. Теперь у меня соперников не было. И на козлы меня пускали сколько угодно, и править давали. И когда бабушка ездила по лавкам, я один ездил с ней. И ужасно горевал. В каком-то отношении, в отношении чувств, я был переразвит и невольно тяготился, – что мне было делать с этим богатством. При Ване жизнь моя шла здоровее. Вот я вижу – по пыльной дороге разбросаны еловые веточки. Значит, похороны пройдут мимо нашего дома. Одно дело – выбегать смотреть, как несут покойника, с Ваней и Лидой, а другое дело – одному. Гроб открыт. На лбу – венчик. Страшно. Не знаю почему, может быть, от хины, которую я пил в Майкопе в таком количестве, но на меня в тишине нападало особенное состояние. В ушах шумело. И в шуме этом явственно слышал я голоса. Иногда неопределенные, иногда отчетливо кричавшие: «Же-е-ня!» Когда я спросил у своей тети Зины, совсем еще девочки в те дни, с которой мог я разговаривать проще и легче, чем с другими взрослыми: слышит ли она что-нибудь подобное, то получил ответ сердитый. Приказ, чтобы не молол я чепухи. Только потом, много позже, понял я, что с Шелковским суеверием Зина огорчилась, узнав, что мне чудится, будто меня зовет кто-то. Дурная примета. При всей своей насмешливости Шелковы верили в приметы, в сны. По утрам слышал, бывало: «Вижу я, будто бы…» Это значит – рассказывают сон и шутя обсуждают: к чему он. Один мамин сон всегда сбывался. Она видела, что попала в сад.
14 марта
К Рюминым. И рвет с дерева вишни. И вдруг появлялась хозяйка и укоризненно качала головой. И все мы знали – этот сон к слезам. А сколько обсуждалось в Жиздре, что икона божьей матери, которой в свое время благословили маму перед женитьбой, за несколько дней до дедушкиной смерти упала у нас, в Майкопе. Мама повесила ее, когда жили мы в доме Родичева, в переднем углу, и вдруг икона сорвалась и упала. Плохая примета. И я верил в это. И верила и мама, и мамины братья. Дедушка, бывший крепостной, а потом цирульник, известный в Рязани, дал детям высшее образование. Но от деревни и от старой Руси, от безотчетного ожидания удара неведомо откуда, от веры в приметы – сплошь все плохие, – от веры в предчувствия, да и вообще от веры уйти не ушли. Посмеивались, а верили. А за ними и я. Только уж без признака насмешки. Вера установилась у меня, как я уже говорил, жизнерадостная. Страх темноты – особый, скорее приятный страх, что нападал на меня, когда слушал я страшные истории с привидениями, – ничего общего не имел с церковью. Бог казался мне добрым. Тем более что от страшных снов следовало перекрестить подушку. И чудовища в страшных рассказах исчезали, если их перекрестишь. Вот новое, что увозил я из Жиздры.
17 марта
Прежде чем перейду к другим фамилиям, несколько слов о себе. В Москве продолжают играть «Обыкновенное чудо», никаких рецензий, чему я рад[545] . Лишь бы не было брани, к этому я отношусь, стыдно признаться, чувствительно. Хоть хвалят пьесу люди, которых я уважаю. Акимов репетирует полным ходом. Что выйдет – кто его знает. Пока то, что я видел, мне очень понравилось. Великое дело, когда актеры верят в пьесу. Акимов деликатнее и осторожнее, чем когда бы то ни было. Но ум у него из небьющегося стекла, крайне ясный, режущий и вполне несгибающийся. А я человек туманный. Впрочем, на этот раз все идет дружно. Кроме одной безумной идеи: министр-администратор почему-то говорит у него с акцентом… На душе смутно. Нет покоя. Но иногда шевелится смутное ожидание радости. Привычное с детства до сегодня.
18 марта
Веру Федоровну Панову знаю я мало. Да и вряд ли кто-нибудь знает ее. Включая саму Веру Федоровну. Рост небольшой. Лицо неопределенного выражения. Чуть выдвинутый вперед подбородок. Волосы огорчают – она красит их в красный цвет, что придает ей вид осенний, а вместе искусственный. Она очень больна. Какая-то незаживающая язва на ноге – кажется, туберкулезного происхождения. Часто прихрамывает. Через чулок просвечивает бинт повязки. Недавно перенесла инфаркт. На собраниях говорит не слишком ясно, однако решительно… Любит она играть в преферанс. Играет страстно, до рассвета. Едва не вызвала этим второго инфаркта. Но вот происходит чудо: Вера Федоровна принимается за работу… Божий дар просыпается в ней. Чудо, которому не устаю удивляться. Если и несвободна она, то лишь от влияний времени; тут надо быть богатырем. Но в целом владеет она своим искусством, как всего пять-шесть мастеров в стране. В каждой ее книжке непременно есть настоящие открытия. Особенно в последней повести «Сережа». Я не умею писать о книжках, к сожалению. Но определяет ее именно это богатство. И не сердятся другие прозаики! Из первой тысячи! Другие мастера из первой пятерки больше защищены. Поэтому бьют ее. Нещадно.
19 марта
И вообще жизнь к ней строга беспощадно. Потеряв мужа, осталась она с тремя детьми. До войны все хвалили ее пьесу «Старая Москва», или «В старой Москве», я не читал ее. Но никто не решался по каким-то причинам пьесу поставить[546] . Как растила она детей, чем жила, не знаю. Не пойму. В блокаду эвакуировали ее с детьми в Ставрополь. Там, как рассказывают, когда приближались немцы, пыталась она вывезти детей, но привело это лишь к тому, что потеряли они друг друга. Но Панова каким-то чудом собрала детей по немецким тылам. Когда удалось ей выбраться на нашу сторону и пробиться в Молотов, где в те дни в основном сосредоточился Ленинградский союз писателей, пришлось ей вначале не слишком сладко, как лицу, побывавшему на территории противника. Но секретарь обкома или горкома по пропаганде Римская, которую ленинградцы называли мама римская – так она возилась с нашими эвакуированными, – поняла положение Пановой. И добилась того, что устроила ее в санитарный поезд. После своих путешествий в этом поезде и написала Панова первую вещь «Спутники». И получила Сталинскую премию[547], что и вызвало ненависть полувоплотившихся писателей. И в самом деле обидно. За что? Почему избрана именно эта, столь простая на вид, иной раз совсем неубедительно разговаривающая женщина? Измученная огромной семьей… она все пишет. И едва принимается за работу – совершается чудо.
Наступила весна. Я, гуляя, иду теперь к Неве и сворачиваю налево, к тому мраморному спуску, где впервые увидел как следует Неву, и словно узнал город, и угадал, что и я ему не враждебен. Сегодня побывал там.
21 марта
«Подписные издания»… помещаются в магазине очень памятном, на улице Бродского.
23 марта
Тут – весь город: и студенты, и инженеры, и военные, и писатели – кого только нет! Есть очереди, которые мне очень нравятся.
24 марта
Если объявлена подписка на какого-нибудь классика, то у Дома книги с вечера выстраивается очередь, бурная и немирная… Больше всего спрос на классиков – на Чехова, Тургенева. Страшные бои вокруг Джека Лондона, Жюля Верна и Драйзера. «Всемирная история» разошлась в несколько часов. На углу улиц Бродского и Ракова – такие же ночные утешительные очереди в Филармонию. С бою берут абонементы на весь год. Следовательно, литература и искусство необходимы, как хлеб и масло.
27 марта
Перехожу к букве «Р». «Радио». Это учреждение сыграло большую роль в моей жизни. Сначала, году в 26-27-м, позвали меня и Олейникова делать «Детский час», два раза в неделю, тогда еще в совсем молодом Ленинградском узле. Занимал он всего два этажа во дворе дома на улице Герцена. Теперь в подобном состоянии наш Телевизионный центр – все знают друг друга, от гардеробщика до начальника, все живо интересуются передачами и обсуждают их. В то время, несколько распущенное и неподбритое, встречались любопытные характеры. Из них первый – директор, или начальник Радиоцентра, по фамилии Гурвич. Он был в прошлом левым художником, отказавшимся от красок. Его огромные полотна напоминали мозаику, только материал применял он особый: пшено, овес, рожь, ячмень. Как взбрела эта идея в его крутолобую башку?.. К нам относился он доброжелательно и провозгласил даже после одной из передач: «Я всегда отличался способностью выбирать сотрудников». Любопытен был и бухгалтер, высокий, тоненький, узколицый, несколько по-стародевичьи обидчивый и раздражительный. Он однажды сообщил, что умеет петь детские песенки и попросил занять его в программе. И спел нежным своим голоском песенку о птичках.
28 марта
Начиналась она так: «Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, так жалобно поют!» Мы придумали – с полной беспечностью и легкомыслием тех дней постоянные маски – персонажи, которые и вели программу: Петрушку, тетю Анюту, еще кого-то там. Каждый номер начинался с интермедии, где все они участвовали. Актеры подобрались не слишком опытные в этом жанре, хоть и пожилые. Репетиции вести мы не умели. Петрушку, в частности, читал все тот же тоненький, высокий бухгалтер и пищал скорее обиженно, чем весело. И не слишком разборчиво. Тем не менее дело так или иначе шло. А когда придумали мы нечто новое: непосредственное обращение к детям в ответ на их письма или жалобы их родителей, то почта Радиоцентра, или как он там еще назывался в 27 году, увеличилась чуть не втрое. Года полтора или два продолжали мы работать там. Я считаю время это для себя решающим: постоянное упражнение в драматургии очень помогло мне в дальнейшем. И первую пьесу свою «Ундервуд» закончил я тем, что девочка проникает на Радиоцентр в финале и распутывает запутанный крохотный узел, выступив по радио. Подлинные имена сотрудников я сохранил в пьесе. Но в конце концов наши передачи пришли к концу. Жизнь усложнялась, принимала более строгие организационные формы. Гурвич перестал говорить нам, что всегда отличался умением выбирать сотрудников. И в один прекрасный день нас заменил Туберовский, который повел дело солидно, пришел с целой группой пионеров, заменивших наших стариков актеров. И связанных, кажется, с «Ленинскими искрами». Расстались мы с нашей работой легкомысленно и беспечно, с тем же чувством, с каким пришли туда. Только встречаясь с сотрудниками радио или нашими актерами, вспоминали мы наши передачи весело и не без сожаления. А Радиоцентр все разрастался. Гурвича сняли, старые сотрудники исчезли, как будто их и не было. Учреждение перебралось в многоэтажный дом Пролеткульта. Теперь появилось там множество студий.
29 марта
Мне приходилось там выступать редко, от случая к случаю. Появились там студии и для публики. С одной из подобных связаны у меня воспоминания неприятные. Мне пришлось говорить вступительное слово к утреннику Маршака. Я не подозревал, что окажусь в зале, подобном театральному, и стану лицом к лицу с видимым, а не предполагаемым зрителем. Все это было бы ничего, – текст выступления был напечатан заранее. Но стола не было. И я держал листки в руках. И руки у меня задрожали. И я подумал: зрители решат, что я волнуюсь. И от этого руки задрожали у меня до непристойности сильно. И чтение превратилось в пытку. Но есть и хорошие воспоминания. Однажды состоялся вечер, посвященный мне. Я, этим делом не избалованный, ничего не испытывал, кроме смущения, когда вошел в студию. Сотрудники повесили плакат на стене с приветствиями. Я не знал, что ко мне относятся тут дружески. Один из редакторов, Бабушкин, маленький, худенький, с лицом необыкновенно привлекательным, вел весь вечер, поглядывая на меня весело и одобрительно. Я чувствовал себя связанным и, повторяю, ничего не понимал, пока продолжался вечер. Я скрыл от родителей, что он состоится. По сложным причинам. Мне почему-то не хотелось, чтобы они его слушали. То ли мне чудилось, что они преувеличат степень моей известности. То ли что отец будет волноваться. Но они прослышали об этом событии у соседей. И отправились к ним. И остались довольны передачей. Особенно мать. Отец не понял отрывка из «Тени» и со свойственной ему прямотой так и сказал об этом. И я до сих пор с удовольствием вспоминаю о вечере, который в смятении чувств так мало оценил, пока он продолжался.
Пришла война. Я записался в народное ополчение. А когда явился в Союз с кружкой и ложкой, там уже лежало распоряжение обкома – меня прикомандировывали к Радиоцентру[548] . Тут я принялся работать с наслаждением.
30 марта
Трудно передать особое чувство тоски, охватившее меня с 22 июня 41 года. Физической тоски. Не страха, страх – чувство ясное, заставляющее действовать, бежать или защищаться. А тоска душила, то не давала спать, то наводила непонятную сонливость. Да, настоящую сонливость. Мы уехали с дачи 22 июня к вечеру. К ночи с финской границы, с запада, слышалась пальба зениток, а мы уснули крепко. Не слушая, не глядя. Тоска не касалась меня одного. Мне представлялось, что кончилась жизнь, наступил конец света. Помню, как удивили меня веселые и возбужденные, словно прибежавшие глазеть на пожар, мои спутники по дачному поезду в день объявления войны. Каждое утро надеялся я, что все внезапно отменится. Но радиорупоры на улице продолжали кричать бодрыми, парадными военными голосами. Потом исполнялись марши. Какая-то команда, расквартированная в нашем дворе, целыми днями играла в домино, стучала костяшками в ожидании дальнейших событий. А когда замолкали речи и марши, начинал в радиорупорах стучать метроном, проклятый звук. Уже не костяшки, а словно кости стучали о кости. Тоска эта, ощущаемая отчетливо, физически, как боль, очевидно, была родственна неожиданной радости до слез, которую я испытал в 17 году. Я, которого не без основания упрекал отец в безразличии к политике! Это было несомненное предчувствие бедствий, что предстоит пережить всему народу. Безотчетное, но сильное и неотвратимое. И оно вдруг стало исчезать, когда дела как будто бы еще ухудшились. И когда я стал работать на радио. Да, это был не тот знакомый дом на улице Герцена. Беспечного времени двадцатых годов словно и не бывало. Но я вдруг нашел, или мне показалось, что нашел, тон для ежедневных фельетонов (теперь не только речи и марши звучали по радио, а передавались целые журналы). А главное – нашел свое место. Я был нужен.
31 марта
Работал на радио все тот же прелестный Бабушкин, Макогоненко, в те дни худой, молодой и не размахивающий руками по-лопахински, как в наши дни. Работала Ольга Берггольц. Знакомы с нею мы были много раньше, но познакомились близко в те дни. И она была молода. Война вдруг стала поворачиваться ко мне медленно-медленно другой своей стороной: горести и беды, что несла она, были просты и чисты. Немного спустя, в Кирове, я думал о том, что в дни всенародных бедствий люди несчастны одинаково, а когда проходит общая беда, то по-разному. И чистота опасности, непохожая на страх, который мучил и коверкал наши души до войны, каким-то образом очищала людей. В те дни, чтобы понять линию фронта, надо было глядеть на карту пригородов наших. Голод мучил. Бомбили город с воздуха. Начинались первые артиллерийские обстрелы. И все же, едва нашел я свое место, стала проходить физическая, унылая тоска первых дней войны. А труднее всего было найти свое место именно в Ленинграде. Пребывание на чердаке во время бомбежек стало ощущаться как дело бессмысленное. Все слуховые окошечки там забили, чтобы утеплить его. Стоишь, дышишь чердачным прокопченным воздухом и ждешь отбоя. И приезжавшие с фронта жаловались: в Ленинграде хуже. Там, на фронте, знаешь свое место и что тебе положено делать. А тут, в Ленинграде, совсем другое дело. В бомбоубежище к детям, и женщинам, и старикам идти как будто бы и стыдно. Дома сидеть нельзя, не велят. Стоять без всякого дела и терпеть – что может быть хуже. И я, попавши в новый Дом радио, нашел свое место. Во время одного из первых обстрелов шел с Берггольц по улице Ракова, от нас на улицу Пролеткульта. И мне было весело впервые с начала войны. Я шел что-то делать. Не верил, что снаряд попадет в меня. На улицах было пусто, через правильные промежутки – предостерегающий свист снарядов. А мы смеялись. Вспоминали XIX век.
1 апреля
Я вспоминал вечные жалобы слепого XIX века на то, как отвратительно «тонуть в тине жалкого мещанского существования». И вот мы на своей шкуре – в который раз – испытывали последствия этого отвращения. Вот куда оно завело. Сверхчеловек оказался не умнее филистера: самая методичность обстрела была, как это ни странно, смешна. Ужасно нам смешны были ежевечерние, начинавшиеся в определенный час бомбежки. Дурак сеял смерть, не понимая, что делает. Браня тину пошлого мещанского существования, грохнули в новую тину со всей будничностью ужаса. Увы, самым будничным на свете оказались не только мещанские горести, а всякие, откуда бы они ни насыпались. И что могло быть столь неистово прозаично, как разрушенный бомбой дом с перемешанными обломками кирпичей, извержениями фановых труб и разорванными на части людьми. Увеличенный в миллион раз флюс не делается величественным или трагическим. Ощущение неслыханной ошибки – вот что заменило физическую, как ломоту, непрерывно ощутимую тоску первых дней войны. А весело было от сознания, что если причина аварии понятна, то ее можно исправить. И сколько раз говорили мы, не представляя холод и мрак грядущих дней, о том, как мы будем писать после войны и как переменится от этого все вокруг. Разговаривали и готовили на ходу, что требуется на сегодняшний день. И что с надлежащей внимательностью, как ходили слухи, записывали, чтобы наказать нас в случае чего, соответствующие отделы немецкой армии, обложившей город. Слухи были настолько определенны, что находились, как рассказывала Ольга Берггольц, люди, отказывавшиеся выступать в эфир и бранившие немцев только по трансляции. Все возможно. Верующие люди шли на риск. Они не допускали, что бомба упадет на них. А люди благоразумные, рассудочные принимали меры.
2 апреля
Я слишком много помню о Радиоцентре тех дней – и сбиваюсь. О тех днях слишком много помню. Словно только что пришел я в Дом радио, в дом потемневший, озабоченный, но живой. В первые дни моих посещений еще я заходил с Макогоненко в буфет. Там давали какой-то салат и без карточек. А потом жизнь в столовой замерла. 21 октября, узнав, что это день моего рождения, Ольга или Юра, – не помню, кто из них, – подарили мне кусок хлеба грамм в сто, и я не шутя растрогался и обрадовался. Мне выдали ночной пропуск, чтобы я ходил беспрепятственно на ночные передачи.
3 апреля
Город менялся с каждым днем, и менялась жизнь в Доме радио. Я ходил туда каждый день, то по улице Ракова, то по Невскому, сворачивая у гастронома. Витрины его были заколочены дощатыми, косо укрепленными конструкциями. А к концу ноября жизнь уже не столько менялась, сколько замирала. Остановились вдруг трамваи. На улицах, где застиг их паралич. Со дня на день ожидали, что прекратится освещение и подача воды. 10 декабря мы выехали из Ленинграда. Вечером, перед отъездом, пришли к нам прощаться товарищи по работе на радио: Макогоненко, Берггольц, Бабушкин. Приходили по очереди, и я долго разговаривал с Бабушкиным, и нам было несколько неловко – до сих пор мы встречались целой компанией. И когда он выделился из среды, мне почудилось в нем что-то новое, не менее привлекательное, но незнакомое. Я был дружен со всей группой работников радио, а не с каждым в отдельности. Тем не менее мы поговорили с ним о журнале, который будем издавать после войны для молодежи. И больше не встретились. Он был убит в конце войны. Я думал, что расскажу о радио отчетливее, но что-то слишком много недостаточно забытого и тем самым неотобранного нахлынуло на меня. Ну, вот и все. Теперь я снова бываю в Доме радио редко, от случая к случаю Раза два записывали меня на пленку, и я с отвращением слушал свой голос: он казался мне наглым и чужим. Из старых знакомых в знакомом доме не осталось никого, и я едва узнаю его в тех случаях, когда приходится мне там бывать.
5 апреля
Рахманов Леонид Николаевич – человек худенький, роста – выше среднего, взгляд рассеянный или недоверчивый, смеется, не открывая губ, чтобы скрыть отсутствие зубов. Много знает. Читает не по-литературоведчески, но со страстью, по-писательски, со многими книгами отношения у него личные, словно с людьми. И поносящих подобные книги не прощает, как будто обидели его близких. Самолюбив, что, возможно, и есть главное бедствие его жизни. Пишет мало, или, точнее, мало делает. Он охотнее берется за дела второстепенные. Неудача здесь не ударит по самолюбию так больно. И вторая беда – недоверчивость. Не к людям. К судьбе. К своему счастью. Ко всему, от большого до малого. Вот зову я его в Комарове скорее, скорее выйти из комнаты, поглядеть северное сияние редкой силы. Выходят в сад несколько человек и все останавливаются сразу у крыльца, и разговоры замирают – каждый поражен и хочет внутренне взвесить и примириться с тем, что происходит во всей северной области небосвода, до самого зенита. Ходят, словно живые, вздрагивая, белые лучи, или прозрачные крылья. Мерцают облака. Иной раз чудится, что они не вздрагивают, а бьются, пульсируют, как живые. И вот первым заговаривает Леонид Николаевич: «Это прожектора». И вяло, как бы неохотно соглашается, наконец, что это и в самом деле северное сияние. Против дачи, что снимали Рахмановы у Литфонда, стояла на пустыре другая, принадлежавшая дачному тресту. И Рахманову очень хотелось взять ее в аренду. И он много раз говорил об этом нам, но ни разу Союзу, Литфонду, дачному тресту, то есть тем лицам и организациям, что могли осуществить его мечту. И Чивилихин, не менее скромный, но не страдающий в такой степени страхом отказа, в конце концов овладел дачкой.
Рахмановы поручили квартиру в доме 7 на Марсовом поле. Дом старинный и прекрасный. И квартира хороша. В первом этаже. Большая. Светлая до странности.
6 апреля
Итак, Рахманов получил квартиру, непохожую на все в этом доме. Она как раз на углу Мойки и Марсова поля, на закруглении, так что свет в столовой перекрестный, из разных окон – одни с Мойки, другие с Марсова поля. Отчего она светлее обычных. Коридоры широки. Из одного, который ведет в кабинет и столовую, можно было бы сделать отдельную комнату. Да он и похож на добавление к кабинету, со своими книжными полками до потолка и столами. Радуйся, да и только. И я сказал об этом Рахманову, придя к нему на новоселье. Он взглянул на меня своим затуманенным взглядом, покачал головой: «Вы думаете? Нет, в квартире много неполадок. Мы с Таней[549] даже записали. Их восемнадцать!» И, достав блокнотик, он стал читать: «В кухне фрамуги неплотно закрываются. В столовой дверь непригнана». И так далее. Едва он дошел до пятой неполадки, я засмеялся, засмеялся за мною, сразу поняв, и Рахманов: «Вам смешно, что я записываю такие мелочи? Конечно, это пустяки по сравнению с квартирой, но все-таки…» Он очень умен. И несомненно талантлив, но своими руками засыпает нафталином, и запечатывает сургучом живые источники, и заливает кипяченою водою огонь в своей душе. Я близко познакомился с ним в эвакуации, приехав к нему в Котельнич. Если Петербург – самый умышленный из городов, то Котельнич – самый нечаянный, словно против воли выступивший из грязи. У Рахмановых было веселей. Кирпичный домик. Полукруглый балкон без перил, выходящий в садик. Но кусты выглядели старенькими, дом казался утомленным. Какое-то благородство и внутреннее угадывалось в отце Рахманова. Это был человек тоже худенький и роста выше среднего.
7 апреля
Но выглядел значительней сына. Синие суровые глаза. Черная бородка. И уж он-то, откровеннее сына, наглухо замкнул себя на все замки. Без всяких заменителей высказыванья. Начисто. Мать Рахманова тоже помалкивала, но робко. А отец – без объяснения причин. Молчал, чем иной раз наводил тоску на близких. Татьяна Леонтьевна, жена Рахманова, роптала иной раз на это – может быть, недоволен он тем, что ленинградская семья приехала к нему: сын, невестка, внучка – и стеснили старших? Но Рахманов отвергал это объяснение. Объяснял особой мнительностью изгнанников. Отец молчал всегда. Но некое внутреннее богатство угадывалось, несмотря на нежелание высказываться, – по книжному шкафу, его собственному. Этот дорожный техник читал много, с выбором. Любимыми его писателями были, по свидетельству сына, Чехов и Диккенс. Но кроме того собрал он всех русских классиков. Показал мне Рахманов комплект «Русского слова» за те дни, когда ушел Толстой из Ясной Поляны. От ухода до болезни и смерти. И странно было читать газету 1910 года в суровые дни лета сорок второго. И поразила меня газета не историей последних дней Толстого – все это было и без нее памятно, а статьями и сообщениями о бесконечных самоубийствах, словно люди бежали на тот свет в предчувствии катастрофы. Сообщения с фронта утром и вечером передавались все мрачнее и мрачнее. Город казался недоброжелательным. Стареющие кустики с трудом удерживали редкую листву. Настоящее было невесело, будущее – неясно, и все же посещение Рахмановых радовало. Я словно попал в страну, где говорят на родном языке. Спали мы с Рахмановым на сеновале и перед сном говорили, говорили, понимая друг друга с непривычной легкостью в этом угро-финском, нехотя живущем, исподлобья поглядывающем крае. К концу моего пребывания стал теплеть и даже улыбаться и сам старший хозяин. Раза два услышал я, наконец, его голос. Здесь чувствовалась семья, что тоже радовало в эвакуации.
8 апреля
Мы не только на сеновале говорили обо всем на свете. Мы и бродили по городу унылому, словно перемогающемуся, и дождь то и дело загонял нас на чужое крыльцо. Когда усиливался. А в промежутках – моросил. Когда зашли мы в городской сад, с фанерными киосками, и стендами для газет и плакатов, и гимнастической лестницей, и поперек установленным на двух стояках бревном для детских игр, дождь и вовсе прекратился. А Леонид Николаевич рассказывал о детстве. Этот город, мертвый для меня, для него жил каждой своей улочкой. Впрочем, и для него город был уж не тот. В двадцатых годах весь его почти уничтожил пожар. Может быть, поэтому выглядел город больным? Ходили мы гулять за город. Видели борозду картошки, отведенную учреждению, где работал отец семейства Рахмановых. Просторное поле, и на каждой борозде – палочка с фамилией владельца. Выходили на обрывистый берег. За ним домики. За долиной широкая река свинцового цвета. Солнце так и не показывалось в мой приезд. А за рекой начинался лес, такой высокий и густой, с таким чувством достоинства, что город после него выглядел еще более вороватым, безбилетником. Скоро Леня переехал в Москву. И мне пришлось побывать там несколько раз до отъезда в Сталинабад. Это новый период знакомства, окрашенный совсем по-другому. Снимал Рахманов комнату в одном из особнячков в переулках возле Садовой, в районе ближе к Кудринской площади. Одноэтажный домик, дворик, поросший травой. Старый город. Однажды возле улицы Воровского в одном из подобных переулков, примерно с третьего этажа, сорвался карниз и рухнул, рассыпался по панели у самых ног идущего нам навстречу полковника. Тот засмеялся добродушно и сказал: «Так и убить может…»
Рахманов был все так же близок. И все казался земляком, понимающим с полуслова.
9 апреля
Поездки в Москву резко отличались от установившегося мрачного вятского быта. Мне казалось, Грин, родившийся в Вятке, в беспросветном вятском быту, из ненависти к нему и выдумал город Зурбаган, лишенный быта[550] . Памятны мне и московские разговоры, и их содержание, и качество разговоров с Леонидом Николаевичем. И запечатлелся в душе одноэтажный особнячок, двор, поросший травой, и в дверях вышедший меня проводить Рахманов со своими туманными глазами, чуть улыбающийся… Мы встречаемся от случая к случаю. Чаще я бываю у него, чем он у меня. Это уже превратности самолюбия. И каждый раз, забывая мелочи, узнаю я в нем существо высокой породы.
10 апреля
Сколько нерожденных детей. Сколько принужденного молчания. Роковая немота – при остром и точном слухе. Вытоптанное поле, запомнившее, как больно, когда топчут, и решившее, что бесплодие – меньшее из зол. Так мы и не узнаем, как вырос Рахманов в своем нелюдимом городе, как любил, что увидел, запомнил, что запало в душу, что испугало и отняло дар речи[551] . И кто всему этому виной? Бог знает!
Далее идет Рест. Юлик Рест. Псевдоним. Он рад был бы совсем спрятаться, еще глубже, чем за псевдонимом. Его настоящая фамилия Шаро, и он действительно круглый, как тот колобок, что от бабушки ушел и от дедушки ушел. И спасся от многих других, желающих его съесть. Отличается он от знаменитого колобка черной щетиной на щеках и печальным, настороженным и вместе с тем нарочито безразличным выражением. И еще тем, что вы почти уверены, что данная разновидность колобка уйдет от всех без исключения. Жизнь современного колобка полна таких превратностей, что лучше и не задумываться о них. Не исключена возможность, что в превратностях невообразимого пути мог он сам съесть тех, кто собирался произвести с ним подобную операцию. А в смятении чувств – и тех, кто и не собирался этого сделать. Нет, нет, не смею углубляться в глубь его существа, за маску вечной небритости. Расскажу о более ясной его стороне. Была бы она и вполне светлой, если бы наш Юлик и тут не наводил тень по мере возможности на вещи вполне доброкачественные. Я говорю о его таланте. Еще до войны затеяли в Союзе одно дело. Театр. Маленький, веселый театр, или «устный альманах», как его называли, чтобы не было страшно: «театр» – шутка ли сказать. Называли его еще и «капустник» – это уж было совсем не страшно. На самом же деле, повторяю, затеяли в Союзе театр и довели эту затею до конца. Безличную форму употребляю из уважения к скрытности Юлика. Это он затеял все дело и довел его до конца.
11 апреля
Он сколотил труппу, он добился денег у Дома писателя, он в основном написал всю программу[552] . Но при этом добился, чтобы на афишах и пригласительных билетах стояло чуть не двадцать фамилий авторов. Я, например, написал очень неудачный отрывочек для первой программы и сам же настоял, чтобы он был выброшен из спектакля. На это Рест согласился. Но фамилию снять мою – нет, этого он не допустил. Чем больше народа, тем легче укрыться. Репетировал он хорошо, актеры даже подарили ему какое-то блюдо. Репетировал самоотверженно. Весь зарос, перейдя всякую меру к концу работ. Тратил свои деньги – а он и в этом направлении осторожен до крайности – на бутафорию. Он был отцом и автором дела, но потребовал, чтобы несколько вступительных слов на премьере сказал я. Еще лишнее укрытие. Многие думали, что я чуть ли не основной автор спектакля, после того как я открыл его. И премьера имела необыкновенный, редкий успех. Ее повторяли у нас, потом вывозили в Дом архитектора, в Дом художника, в Дом искусств. И каждый раз, когда пьеса шла в нашем помещении, Рест просто требовал, чтобы я говорил вступительное слово. Последний раз это произошло 31 мая 41 года, в день рождения Катерины Ивановны. И она ужасно огорчилась, что пришлось нам в этот день ехать из Сестрорецка, где мы уже поселились на даче, в город. Но Рест не мог, просто не в состоянии был пережить, что спектакль останется незащищенным и тем самым колобок окажется перед некоей пастью. И вместе с тем горечь наполняла его сердце, если он замечал, что люди, от которых он скрывал степень своего участия, начинают верить ему. Так мучился наш Юлик и наслаждался на разные лады, создав театр – не театр, где он был автором – не автором, выдвинувшись в первые ряды и спрятавшись в норку с целым рядом запасных выходов. После войны театр был восстановлен, потом упал без чувств.
12 апреля
И у Юлика вид стал еще более загадочный и отчужденный, и полные его щеки еще более почернели, ощетинились. О «Давайте не будем» и речи не возникало. Он написал пьесу, переделал заново комедию какого-то среднеазиатского драматурга[553] . И снова имел успех, на свой лад, таинственный и затушеванный, полный горечи. Но вот его детище воскресло. Количество авторов возросло, но по-прежнему каждая программа доходила до зрителя только его трудами. Я видел его на репетициях, перед премьерой. Он целыми днями не выходил из Дома писателя, сердитый, больной, угрюмый, ревнивый. Его соавторы жаловались вечно на его упрямство. А сама программа? С одной стороны, талант его толкал, как в пропасть, шептал: «Рискни, рискни, прыгни». И он писал вещи рискованные, острые. С другой стороны – он, колобок особого рода, знал все превратности и опасности, подстерегающие его на пути, и он ужасался собственному безрассудству. И все-таки талант брал верх, и Юлик выходил раскланиваться в толпе подлинных и привлеченных им для безопасности соавторов. К премьере он брился. Стоял он не в первых рядах авторов, заполняющих нашу маленькую сцену до отказа. Его лицо, как всегда, имело выражение настороженное и вместе с тем нарочито безразличное. И мне кажется, что множество грехов должно проститься нашему колобку из колобков, мастеру псевдонимов, за тот маленький, веселый, храбрый театр, который он породил как бы против воли.
13 апреля
Заболел Москвин. У него инфаркт. Съемки «Дон Кихота» продолжаются. Козинцев в отчаянии. Мне жаль Москвина. И так далее и так далее. Надо писать пьесу о молодых супругах для Комедии. Потом сценарий и детскую пьесу[554] . Одного хочу – чтобы не мешало мне ничто.
19 апреля
Аркадий Райкин – следующий по списку. Из эстрадников самый привлекательный. Нет выше для него счастья, чем играть. Он не пьет, и не курит, и ест в меру, и даже дом его устроен и обставлен куда скромнее (точнее, безразличнее), чем у людей, зарабатывающих так много. Целый вечер, целый спектакль ведет он один, все держится на нем, да он и не вынес бы помощников в этом деле. Я когда-то писал о нем в специально для банкета после премьеры сочиненном послании: «…конечно, актеры нужны, пока я меняю пиджак да штаны…» Он занимает первое место – и, надо признаться, по праву. Работает – вернее, отрабатывает, доводит он каждый выход свой, как изобретение, что далеко не так часто среди актеров. Подчас только циркачи так же старательны. Особенно те, у которых жизнь зависит от точности работы. Вот и Райкин так работает. И при этом он еще талантлив. И своеобразен.
20 апреля
Начинаю сначала. Аркадий Райкин – имя широчайшее. Стало нарицательным: «шутки, анекдоты, хохмы – ну, просто Аркадий Райкин». Когда пришлось нам работать вместе, приехали мы как-то в Зеленогорск. Зашли в аптеку – маленькое помещеньице позади разбитой снарядами церкви. И тотчас же продавщицы впали в состояние, среднее между столбняком и религиозным экстазом. Они отвечали на вопросы Райкина замедленно, а потом сразу бросались выполнять просимое. А Райкин словно бы и не замечал воздействия славы своей. Привык. Когда мы вышли, он заглянул в двигатель своей «победы», раскрыв ее акулоподобную пасть. И какая-то пожилая дама спросила меня: «Простите, это Аркадий Райкин?» И радостно закивала, получив подтверждение. Словно подарок получила. Ленинградская эстрада держалась, да и до сих пор, по-моему, держится на сборах его театра. Увидел я Райкина задолго до войны. Году, вероятно, в 35-м. Его привела Шереметьева, тогда ведавшая репертуаром эстрады, – показать талантливого молодого актера, ради которого стоит поработать. Совсем юный, высокий, кудрявый, черноволосый, с наивными, печальными, огромными глазищами, полногубый, курносый, производил он впечатление своеобразное и, в самом деле, необыкновенно приятное. И в нашей маленькой столовой показал он кусочки своих номеров так скромно и изящно, что ни разу я не смутился, слушая. И уже тогда угадывалась в нем одна его черта: это был неутомимый работник.
21 апреля
Он рассказывал, что придумал, рассказывал, что ему хочется сделать. И угадывался в нем прежде всего человек, который свою работу считает основной. Для меня было открытием, когда я прочел в воспоминаниях Кугеля[555], что он и его друзья считали работу газетную – случайной, занимались ею как бы поневоле – они надеялись стать со временем настоящими писателями. Один Дорошевич считал фельетоны делом своим кровным, придавал значение каждому словечку, возился с каждым фельетоном так же серьезно, как будто это рассказ! Ну и стал королем фельетона, а из тех, других, ничего не вышло, из тех, кто работал «пока», не уважал то, что делает. Люди подобного склада в большинстве случаев народ обреченный. Райкин, как и Дорошевич, «малую форму» уважал, и почитал, и никак не считал ее малой. И не по недостатку дарования, а по его своеобразию. Он чувствовал, что в театре ему делать нечего. В театре обычного типа. И вот начался его путь к своему театру. Я его после первой встречи не видел несколько лет. Но в 51–52 году, когда на афишах во всю ширину печаталось: «Аркадий Райкин», он как-то рассказал два-три случая, подтверждающих, как нелегко дался ему этот путь.
22 апреля
Но вот, так или иначе, добился он славы. И имя его заняло место во всю афишу.
24 апреля
Кончаю двадцать седьмую тетрадь. Начал я первую из них в апреле 42 года в Кирове. А веду без перерывов, ежедневно, с июня 50-го. Сейчас это вошло у меня в привычку. И я испытываю особенную – не слишком острую, но вполне ясно ощущаемую радость, когда мне удается что-то назвать, описать точно. Я, к сожалению, не одарен благом независимости. Я считаюсь с людьми, даже с теми, что не люди, а особый вид привидений, обладающих телом, но лишенных духа, – самый страшный вид призраков. А в этих книгах я один. И, не удержавшись, не понимая себя без взгляда со стороны, читал я отрывки некоторым знакомым. И когда меня хвалили, радовался острее, чем в полной пустоте. Ничего не поделаешь. Разговаривать с самим собою – признак безумия. Искать сочувствия – как ни осуждаю я себя за это – признак здоровья. Время у меня сейчас трудное. Беспокойное. Акимов кончает репетиции[556] .
«Обыкновенное чудо» прошло в Москве с успехом, причем меня едва коснулась его теневая сторона: я не сидел в зале на генеральной, на премьере, не слышал ругательных отзывов. Ко мне дошли отфильтрованные, положительные. Теперь мне в конце недели предстоит все испытать здесь. В субботу и воскресенье – дневные просмотры. Когда-то я любил такие дни. Чувствуешь, что живешь. А сейчас испытываю напряжение.
Продолжаю «Телефонную книжку». Впрочем, сегодня не могу. Не тянет. Первый весенний день. Солнце вовсю, тает. Звонил из Комарова Пантелеев, и привязанность к жизни стала еще отчетливее. Он хвалит тамошнюю жизнь. И мне захотелось туда. Потом потянуло меня на юг. Все кажется, что будущее не ушло. Итак, это двадцать восьмая книжка с 1942 года. Первую писал я застенчиво. Привычка говорить через пьесу, через детскую книжку мешала писать прямо.
27 апреля
Лена Рывина[557], гимназистка до седых волос, черноглазая, искренняя, болезненная и до того нервная, что двух мыслей ей не связать.
29 апреля
Прерываю на время рассказ о телефонной книжке – сегодня была у меня премьера «Обыкновенного чуда» в Комедии. Видел я пьесу и позавчера – первый прогон и сегодня – последний прогон, последняя открытая генеральная перед премьерой, перед спектаклем на публике, который состоится завтра. Вчера составляли мы списки людей, которых необходимо позвать. Потом они приезжали за билетами. Потом отправились мы в театр пораньше, чтобы избежать давки у входа и просьб о билетах. Начало. Чувствую по актерам, что спектакль сегодня пойдет похуже. И сам не знаю почему. Споткнулся в первом монологе, во вступлении, Колесов[558] . Неуверенно говорит всегда прекрасно играющая Зарубина. Но зал верит мне, и театру, и Акимову. Для всех этот спектакль – признак радости. Признак возвращения прежней Комедии, ставшей в некотором смысле легендой. Довоенной Комедии. Первый акт не нравится мне, но им очень довольны. Аплодируют среди действия. Я сижу и шевелю губами за актерами, на чем ловлю себя. Смеюсь вместе с публикой, отчего потом смущаюсь. В антрактах хвалят. Вызывают в конце, но у меня нет уверенности в успехе. Третий акт – не готов. Финал. Вечером приезжает Акимов. Целый день звонят и поздравляют, но я чувствую, что спектакль не готов. Поэтому занимаюсь финалом. И чувствую облегчение от этого. Сокращаем. Сейчас около двух часов. На душе скорее спокойно – чувствую, что живу. Райкин ругает простоту трактовки роли Сухановым. Дрейден ругал Ускова[559] . Но я чувствую, что живу.
30 апреля
Сегодня я с утра написал новый конец третьего акта. Вряд ли успеют они его подготовить до вечера, но у меня на душе стало спокойней. Вчера все звонили, звонят и сегодня. Вечером собираемся на спектакль. Тревожно, но и весело.
1 мая
Спектакль прошел хорошо, но не отлично. Акимов в каком-то бешенстве деятельности. Он и в Театре Ленсовета на премьере Сартра – театр все еще считается подшефным ему[560] . И в Москву уезжает он делать доклад на Всесоюзной конференции художников-декораторов и здесь выступает на конференции в ЛОСХе. Выступает и тут и там с неслыханным успехом. А ставит – между этими и прочими делами. Вот уж воистину деятель искусства! Спектакль сыроват. Меня очень радовали все актеры на комнатных прогонах. А как вышли на сцену, испытываю я страх и напряжение. Впрочем, вчерашняя публика слушала с напряжением, никто не ушел до конца, много смеялись, непривычная форма никого не смутила. Но есть нечто до такой степени не совпадающее в Акимове со мной, а во мне с его стекольной остротой и светом без теней, что так и должно было выйти. Я подарил ему экземпляр пьесы три года назад. Он вполне мог поставить ее в Театре Ленсовета, но и не заикнулся об этом. Таинственно молчал, а я понимал, что она не нравится ему. Но вот пьесу в Москве поставил Гарин. Поставил, вопреки мнению руководства, показав половину пьесы и убедив противников. Акимов вернулся в Театр комедии и тут – все же с легким сомнением – решился. Все как будто хорошо. Но не отлично. На пьесу словно надели чужой костюм. Или на постановке пьеса сидит, как чужое платье. Но жаловаться грех. Все пока что благополучно.
7 мая
Миша Слонимский для меня – вне суда, вне определения, вне описания. Он был со мной в те трудные, то темные, то ослепительные времена, когда выбирался я из полного безобразия и грязи – к свету. Грязь и безобразие – это конец Театральной мастерской, неуспех Холодовой, что и я принял, и она заставила меня пережить хуже любого личного несчастья. Потребность веры – и полная пустота в душе. Полное отсутствие заработка. Полная неуверенность в себе. И рядом с этим – безумная, безрассудная, увлекающая других веселость. Доходящая до вдохновения. Отсюда – знакомство и дружба со Слонимским и Лунцем, да и почти всеми «серапионовыми братьями». В Доме искусств устраивались вечера, где мы ставили так называемые кинокартины. В качестве актеров действовали зрители. Те, кого я называл. Сценарии писал Лунц, но я отступал от них, охваченный безрассудным, отчаянным и утешительным вдохновением. Каждый, кого я называл, выходил и действовал. Оставались нетронутыми зрители солидные и взрослые. Замятин, Ахматова, Корней Чуковский, Волынский, Шишков, Мариэтта Шагинян и другие. Из любви к литературе развлекал я литераторов. Но я не веселил, а веселился. И все остальные – со мной. И Миша Слонимский в случае особенно удачного вечера говорил: «Чего вы удивляетесь? Очередная вспышка гениальности, да и все тут». И эти вечера были для меня спасением.
8 мая
Папа в 23 году решил перевестись из Майкопа в Туапсе, в одну из тамошних санаторий. И позвал меня к себе, на лето. И я, по удивительному легкомыслию тех лет, позвал с собою Слонимского. И он так же легко согласился. В Туапсе папе не понравился старший врач. И решил папа взять другое место. В Донбассе. Возле Артемовска, тогдашнего областного центра. В больнице. На соляном руднике имени Карла Либкнехта. И мы с Мишей с божественной легкостью тех лет решили ехать в Донбасс. Весна в 23 году была поздняя. Уезжали мы в конце июня, а листья на деревьях еще не достигли полного роста. И вот высадились мы на маленькой станции Соль, перед самым Бахмутом. (Тогда еще он не назывался Артемовском.) Папа, несколько смущенный, встречал на бричке, запряженной двумя сытыми конями. Степь еще зеленая лежала перед нами. И на меня так и пахнуло Майкопом, когда увидел я дорогу за станцией. Пожалуй, тут дорога была более холмистой. Ехали мы среди травы, которую солнце еще не выжгло. Кобчики носились над степью. Все это вижу так ясно, что не знаю, как описать. Все вижу, вплоть до высокой, худощавой фигуры отца, с откинутой назад седой головой, в белом плаще. Привезли нас в белый домик, где у отца была квартира. Две комнаты и кухня. И через несколько дней Миша так вошел в наш быт, как будто всегда был у нас. Он никому не мешал и не мог помешать. В двадцать пять лет это был рассеянный, легко задумывающийся, длинный, тощий, с умоляющим и вместе рассеянным взглядом больших черных глаз человек. Он все задумывался, так глубоко, что ничего не слышал и не отвечал на вопросы. В те дни это значило, что обдумывает он рассказ. И, глядя на меня испуганно, он заявлял, к примеру, следующее: «Я решил начало убрать. Просто – бандиты вешают начальника станции, а потом уже начинается сюжет». Тогда еще он строил рассказы странно.
9 мая
Тогда еще гражданская война была любимым материалом молодых писателей. И Слонимский об этом и писал рассказ. И не случайно. Каждый день слышали мы истории о бандах Маруси, или Махно, или безымянных атаманов. Рассказывали о страшной, похожей на сон, облаве в соляных рудниках. Старые разработки тянулись под поселком, словно кротовые норы. Никто с бегством старых владельцев не знал толком планов этих подземных ходов, перепутанных, как паутина. Бандиты с помощью сообщников своих скрылись в норах. С земли снабжали их едой. Но вот сообщников арестовали. В норах начался голод. Рабочие заметили, что стали у них пропадать завтраки. Поняли почему. И началась облава, как по крысиным норам. Всех перебили. Рядом с нами жил человек, по фамилии Чаплин, – сытый, белобрысый, хозяйственный – знаменитый в гражданскую войну командир партизанского отряда. Этот ничего не рассказывал о героическом своем прошлом, только военную форму сохранил. Я ехал с ним из города на линейке, на собственной его линейке. И он говорил с увлечением знакомым мне с детства русско-украинским говором обо всем: об урожае, о ценах, о бабах, о сегодняшнем курсе червонца, но только не о своем героическом прошлом. Уже въезжая в поселок, переправились мы вброд через узенькую, но быструю речушку. И конь наш вдруг зашатался и рухнул. На неподвижном красном лице Чаплина с белыми ресницами ничего не отразилось. Он освободил коня от сбруи и сказал: «Вы мине заплатите да идить до себе. Вин встане». И, получив с меня пять миллионов – столько брал он за коней, – объяснил Чаплин, что если конь дуже хочет пить, а ему не дать, когда он идет вброд, то вин падае. И минут через десять после моего возвращения домой приплелся и Чаплин на линейке, шажком. Чаплин не вспоминал о гражданской войне, жил новым. А оно отчетливо намечалось.
10 мая
Нэп казался и привычным, и чудовищным после всего, что было пережито. Частные магазины с хозяевами, которые сами не верили, что они хозяева. Могучие базары – эти не смущались: шум, нет, ровный гул, и не ярмарочный, лихорадочный, пьяный, с шарманкой, каруселями, и гармоникой, и выкриками, – а именно базарный, здоровый гул. Изредка жеребец закричит отчаянно или беззастенчиво завизжит поросенок. Жизнь медленно и неуверенно входила в русло, удивляясь тому старому, что сохранилось после отчаянной ломки последних лет. Трудно было понять то, что совершалось сегодня. И все писали о гражданской войне, и Миша сосредоточенно размышлял: «Слушай, а если начать так: начальник станции вступил в банду, чтобы спастись. И скачет с железнодорожным фонарем в степь». Вскоре после нашего приезда выяснилось, что бандиты не перевелись. Мальчик пошел в рудоуправление. Сын одного из счетных работников. И прибежал домой растерянный: «Мама, воны сплять», – сказал он своим украино-русским говором. Как – спят? Поднялась тревога. Все руководство рудоуправления лежало на полу неподвижно. Налетели бандиты «верхами». Забрали деньги, приготовленные для зарплаты рабочим, приказали всем, кто был в конторе, лечь на пол и лежать полчаса, по круглым стенным часам. Кто встанет раньше, будет застрелен. У окна стоит часовой, сторожит. Был часовой или не был, но руководство и бухгалтерия отлежало честно минут двадцать. Отлежали бы и все тридцать, да мальчик прибежал с криком, что «они спят». Сбили погоню. Но бандиты все равно успели скрыться неведомо где. То ли в степи, то ли на заброшенном руднике. Вокруг поселка тянулась степь. Изредка балочки, деревья, кусты. Но к вечеру на небе, не по-ленинградски черном, появлялись звезды до того яркие, что казались Мише незнакомыми. И мы без труда уверили его, что тут виден Южный Крест.
15 мая
Миша пережил детство непростое. Деспотическая мать. Старший брат, от которого он был далек по ряду причин. Брат-пианист, преподававший музыку трагически погибшему сыну Скрябина (мальчик утонул). А Мишин брат после этого долго болел. Нервами Сестра, которую Миша никогда не вспоминал, тоже, видимо, далекая ему. И, наконец, брат, ближайший ему по возрасту, с которым Миша был дружен и рос вместе. И тот заболел туберкулезом. И болезнь быстро развилась. И умирал он сумасшедшим, и Миша не отходил от него. Глядя на меня своими огромными, растерянными черными глазищами, рассказывал Миша, как начинал несчастный больной играть с ним в шахматы и вдруг посреди игры, свирепо фыркая, сшибал щелчками фигуры с доски. А главное, мать – владыка семьи – бешено деятельная, безумно обидчивая и самоуверенная, как все женщины подобного вида, беспредельно. Легко было Мариэтте Шагинян говорить со смехом: «Обожаю Фаину Афанасьевну. Она – олицетворение женщины. Вот это и есть вечно женственное!» Попробовала бы она расти и жить под вечной грозой и нескончаемым ураганом. Отсюда беспомощный Мишин смех, и взгляд, и воля, может быть, и не сломленная, но ушибленная. Отсюда же его уживчивость и нетребовательность тех лет. Отсюда и многие душевные ушибы.
17 мая
[Мариэтта Шагинян] была старшей из Мишиных гостей, как Лунц был младшим. Мариэтта Сергеевна появлялась в состоянии умозрительного исступления.
То она прибегала с требованием, чтобы Миша отказался от литературы. У него не хватает heilige Ernst. Они Слишком уж много говорят о нанизывании, остранении, обрамлении, а где heilige Ernst? У них, у молодых? «Нет, Миша, бросайте, бросайте писать, пока не поздно!» А Миша кричал ей так, что вены надувались на его длинной шее: «Если я не буду писать, то умру!» И он смеялся беспомощно. «Вы слышите меня? Я не могу бросить писать! Умру! Слышите?» Он говорил чистую правду, но Шагинян по глухоте своей не слышала его, да и не хотела слышать. Она пришла высказать мысли, возникшие за работой там, в глубинах елисеевского особняка. Иной раз прибегала она сообщить, что живет за стеной, которую не пробить, – глухота и близорукость. «Я не вижу и не слышу, я оторвана от жизни, и самое страстное мое желание – к ней пробиться». Вот она все читала Гете и ездила по стране – все хотела присоединиться и к жизни гармонической, а вместе с тем и к той, другой, которая существует и не дается, эмпирической. И любовь к этой последней была острее, как всякая безнадежная любовь… Форш к Мише не заходила. Она работала по утрам, и весь Дом искусств знал об этом, – так громко она кричала за работой.
19 мая
О чем только не делались тогда доклады в гостиных и залах елисеевского особняка с атласными беспружинными креслами. Вместо пружин в сиденьях умещалось некое пневматическое устройство. Сядешь – и кресло зашипит негромко, и ты в нем покачаешься, и оно тебя устроит в своем пневматическом ложе куда мягче и ласковее, чем в любом пружинном. И были они белые, как и вся мебель какого-то из Луи, кокетливые. И тут же подлинные скульптуры Родена с его подписью. И читал там Волынский об элевациях, и двойных батманах, и о прочем, придавая читаемому смысл балетно-трансцендентный и с библейской страстностью. Здесь же, в глубинах особняка, помещалась его балетная школа, дела которой, видимо, шли не слишком хорошо. Все время Петроток грозился обрезать свет всему Дому искусств за неоплаченные счета балетной школы. И к нему, Акиму Волынскому, ключи были утрачены… Он был председателем правления Дома. И когда в коридорах проносилась его тощая фигура и видел ты его профиль – фас у него отсутствовал – то испытывал ты уважение. Он читал доклады. И Пяст[561] . И Сологуб. И Чуковский. И Замятин. Напряженная умственная жизнь, казалось, шла в Доме искусств, но мы не принимали ее всерьез. У молодых шла своя жизнь. Они не верили в значительность старших. Ключ был утерян. Как и старшие не принимали всерьез верхний этаж елисеевского особняка, где, по преданиям, жила некогда прислуга владельцев. Распутывая, ушел я за ниткой клубка в сторону. Появлялась в Мишиной комнате и бывшая жена Ходасевича[562], невысокая, худенькая, с беспокойными глазами, темными и словно выбирающими. Его самого видел я мало.
20 мая
Раза два, все в тех же гостиных, на каком-то докладе. О нем говорили уже восторженно. Не в пример угасающим и непонятным представителям уходящего поколения, этот вдруг заговорил на новый лад. Переродился. Отыскал вдруг ключ к самому себе. Ходасевич был страшен. Лицо его походило и на череп, и вместе с тем напоминал он увядшего, курносого, большеротого, маленького телеграфиста с маленькой станции. И страдал экземой. И какая-то, кажется, туберкулезная язва разъедала ему кожу на пятке. Обо всем этом рассказал мне Коля Чуковский, восхваляя его стихи и с ужасом и восторгом говоря о его недугах. И о том долгом его литературном прошлом, когда считался Ходасевич поэтом второстепенным, «эпигоном». «Он ненавидит папу! – рассказывал Коля. – Он как-то сказал: „Чуковский, давайте дружить!“ – на что отец промолчал. И он не может ему этого простить!» Но в дни, когда я его видел, был он признан всеми, вышел в первые ряды. И вдруг исчез с громом и шумом – бежал с молодой поэтессой Ниной Берберовой[563] в Германию. Опять я отвлекаюсь – говорю не о Мише, валяющемся до одиннадцати в своей комнате на третьем этаже Дома искусств, а об ощущениях от всего Дома искусств в целом…
Миша был отравлен (или пропитан) склонностью к своей профессии. Дед его был известный общественный деятель и публицист, так называемый «просветитель», проповедующий, что евреи должны принижать культуру страны, в которой поселились. Отец сотрудничал и заведовал каким-то отделом «Вестника Европы». Родной дядя по материнской линии был известнейший профессор, историк литературы Венгеров. Зинаида Венгерова[564] была его теткой.
21 мая
Он унаследовал от предков хорошую голову. Мог играть в шахматы вслепую. Когда он рассуждал, голова работала без перебоев. Но душа у него была уже и тогда уязвленная, запутанная, внушаемая. Начинал он – от души. Первые его рассказы, особенно «Варшава», были ему органичны. В дальнейшем стал он притворяться нормальным. И – потерял дорожку. В Донбассе, когда пришло время возвращаться в Петроград, произошло событие, перевернувшее всю мою жизнь. Слонимский зашел в редакцию. Чтобы помогли ему с билетом. С железнодорожной броней. И редактор предложил ему организовать при газете журнал «Забой». И Слонимский согласился с тем, что секретарем журнала останусь я. Мы съездим в Ленинград, вернемся и все наладим. После чего я останусь еще на два-три месяца, а он, Слонимский, уедет и будет держать связь с журналом, посылать материал из Ленинграда. Так мы и договорились. И уехали. И вернулись обратно. К нашему ужасу, старого редактора на месте не оказалось. Новый, по фамилии Валь[565], худенький, с безумными глазами, маленькой бородкой, с перекошенным от вечного гнева ртом, пришиб нас своей энергией. Он потребовал, чтобы мы, пока собирают материал для журнала, сотрудничали в газете. И тут я пережил первое в своей жизни чудо. Я написал фельетон раешником о домовом, летающем по Донбассу. Материалом были рабкоровские письма. И, придя в редакцию, я услышал, как Валь читает мой фельетон вслух секретарю и кому-то из сотрудников. А затем он вышел из кабинета. Обычная яростная улыбка отсутствовала. С удивлением глядя на меня, он сказал, что фельетон ему нравится и он сдает его в набор[566] . И я испытал спокойствие.
22 мая
Именно – спокойствие. Значит, я на что-то годен в той области, которую выбрал. Конечно, газетный фельетон – это не литература, но Слонимский был доволен. Поэтому и трудно писать мне о нем трезво – такие вещи не забываются. Он словно был польщен тем, что дела у меня пошли так хорошо. Следовательно, все таки вошел я в одну из комнат, самую пусть маленькую, но в доме, о котором столько мечтал. Я писал, и меня печатали! И в самом деле, без этого шага не сделал бы я следующего, не написал бы первой детской книжки все тем же раешником, которому научился в Донбассе. Итак, съездивши в Петроград, вернулись мы с Мишей обратно. Потом приехал Груздев, который решил тоже устроиться в газете. Все поселились у нас на руднике. Груздев и Миша спали на полу в просторной кухне, где, впрочем, не готовили, так что там кухней и не пахло. И все ссорились, как и подобает братьям. Тут я впервые увидел Мишу в ярости. После какого-то теоретического спора Миша сел на своем тюфяке и воскликнул трижды: «Ну, в таком случае ты дурак, дурак, дурак!» На что Груздев улыбнулся таинственно и сдержанно, будто довольный тем, что раздразнил брата по Серапиону. Несмотря на молодость содружества, там уже накопились чисто семейные обиды друг на друга. И сжились братья уже настолько, чтобы высказываться открыто. Свирепый Валь отверг одну за другой статьи Груздева. И в самом деле – академический, литературоведческий тон не шел к газете «Всероссийская кочегарка». И Миша был доволен. И со свойственной ему цикличностью мышления повторял, шагая по комнате задумчиво, примерно раз в десять минут: «Я говорил Илье, что в газете ему делать нечего». О чем бы он ни начинал думать, мысли его приводили к этому заключению. Был Слонимский в те дни куда беспечнее, чем впоследствии. Но вот он не получил ответа по поводу своего рассказа, сданного в какой-то журнал. И заскучал.
23 мая
Беспомощно хохоча и шагая взад и вперед по комнате, он повторял каждые десять минут: «Ведь понимаю, понимаю, что это неврастения, и ничего не могу с собою поделать». О чем ни начинал думать, возвращаясь все к тому же заключению, Миша страдал. И хохотал беспомощно, понимая, что это ему только кажется, будто его в Ленинграде все забыли, отбросили, затоптали. Почта приходила не на станцию Соль, с которой приехали мы на Либкнехтовский рудник, а на другую. На ветке, а не на магистрали. Надо было пройти мимо больницы и – дальше по степи. Станция, белая, маленькая, стояла на солнце одинокая, без единого деревца. Служила. Колокол у двери. Окошечко кассы. Окошечко почты и телеграфа. Со стороны платформы – рельсы, линии телеграфа. Телеграфист. Сухой, подходящий к скрипению цикад и сухому жаркому воздуху стук телеграфного аппарата. И степь по ту сторону станционного здания. Телега. Ленивый крик: «Цоб! Цобэ!» Волы в облаке пыли. И несколько раз приходил тут Миша в отчаяние. Придешь – и нет письма. И нет перевода. Но вот, наконец, выдали ему у окошечка и то и другое. И кончилось шагание по комнате взад и вперед. В последний раз воскликнул он, но уже в прошедшем времени: «Я ведь знал, что это неврастения!» – и успокоился.
24 мая
В 24 году Миша женился. Свидетелями были я и Федин. Из серапионовских барышень Дуся[567] нравилась мне больше всех. Она училась на биологическом. Даже, кажется, кончила его. Она была очень хорошенькой в те годы. И имела свой характер. И была умница… Записывались Миша и Дуся в бывшем дворце бывшего великого князя Сергея Александровича, в бывшем особняке Белосельских-Белозерских. Назывался он в те дни Дворец Нахимсона, и помещались в нем райком партии (который теперь занимает все помещение) и райсовет. Там в загсе Миша и Дуся записывались. А я и Федин были свидетелями, чем-то вроде шаферов. Дуся все плакала, а Миша смеялся беспомощно. Мы долго ждали очереди. Когда уже позвали нас к столу, где регистрировались браки, Федин вдруг пропал. Я кинулся его искать и услышал его красивый баритон из уборной. Он взывал о помощи, ибо дверь в уборную защелкнулась сама собой снаружи. Освободив пленника, я побежал с ним к брачащимся. Церемония прошла быстро. Девица, совершавшая ее, сказала в заключение голосом, в высокой степени безразличным, без знаков препинания: «Поздравляю брак считается совершившимся к заведующему за подписью и печатью». В ресторане быв. Федорова на улице Пролеткульта заняли мы отдельный кабинет. Здесь Дуся опять плакала, а я, по ее словам, сказал ей: «Чего вы плачете, Дуся, когда приобрели на всю жизнь таких друзей, как я и Федин». Вряд ли я сказал именно так, но Дуся уверяет, что так оно и было, и до сих пор поддразнивает меня этой фразой. С этой свадьбой кончилась Мишина жизнь на третьем этаже Дома искусств. Он перебрался в большую комнату на улице Марата, где жила Дуся.
25 мая
24 год. Я снова работаю вместе с Мишей Слонимским, но на этот раз – в Ленинграде. Вернувшись из второй поездки в Донбасс, где опять работал в газете и журнале, я было испугался: трудно было после работы, где всем ты нужен и тебя рвут на части, остаться вдруг в тишине. Правда, у меня уже печаталась первая книжка. Встреча с Маршаком определила окончательно дорогу. Но платили в те дни за книжки до смешного мало. И когда Слонимский предложил работать с ним в журнале «Ленинград», я очень обрадовался. Трудно передать легкость этих дней. Я не ждал и не требовал ничего – наслаждался тем, что так или иначе выхожу на дорогу. Да, я был еще недоволен собой, но, в конце концов, состояние это не являлось новостью. А Миша женатый нисколько не изменился. Все так же уходил вдруг в дебри повторяющихся мыслей. То высказывал их, то нет. Работали мы в доме, где помещалась редакция и типография «Ленинградской правды». В первом этаже, в большой комнате. Остальные занимала бухгалтерия.
1 июня
Журнал «Ленинград» в 25 году закрыли решением издательства, и я перешел на работу в детский отдел Госиздата, что тоже является совсем другой историей. В Донбассе, работая в газете, я почувствовал дно под ногами. А тут уж совсем выбрался на берег; надо было решить, куда идти. Но спутники мне попались немирные, деспотические. Я ушел с головою в новые отношения, побрел по дороге, далекой от Мишиной. Но юношеские годы связали нас прочно, навсегда. Мы могли не встречаться подолгу, но это ничего не меняло. Вот Миша и Дуся решили поехать за границу. Году в 27-м. Тогда это было просто. Но тем не менее событие это взволновало умы. Слонимские стали собираться. Для вещей, которые следовало уложить на лето и пересыпать нафталином, купили они корзину, которая, по мнению Дуси, оказалась слишком большой. И Миша с беспомощным смехом рассказывал: «Пропала Дуся. Не могу найти. Оказывается, она забралась в корзинку, закрылась крышкой и плачет там». В ясный весенний день провожали мы их на Варшавском вокзале. С цветами. Дуся уже не плакала, а смотрела весело в четырехугольнике окна мягкого вагона, веселая и умненькая, хоть и склонная к слезам, как девочка, как гимназистка, что ей шло. И Миша, длинный, с тонкой и длинной шеей, улыбаясь во весь тонкогубый, большой рот, примерно каждые три минуты, возвращаясь, как всегда, к одной и той же мысли, только в дорожной лихорадке завершая круг быстрее, повторяет: «Значит, едем все-таки».
2 июня
И вернулся Миша из-за границы. И снова пошла наша жизнь, все усложняясь и усложняясь, своим чередом.
4 июня
Когда Театр комедии переехал в Москву, встречались мы довольно часто… В декабре двадцатого числа в 44 году отпраздновали мы двадцатилетие их свадьбы. Был Федин и мы с Катериной Ивановной… мы этот вечер провели весело. Что-то от света и огня ранних лет нашей молодости все теплилось. И Миша смеялся.
6 июня
Все мы стареем. Когда я представлял себе старость, то не боялся. Представлял, что изменяюсь внешне, и все тут. А стареть-то, оказывается, больно. Сваливается то один, то другой из моих сверстников. Мне все кажется, что это какое-то недоразумение, вот-вот все разъяснится, в мое время старики были вовсе не такие. И в самом деле – разве старик Миша? Вот идет он по улице навстречу, – такой Же длинный, такой же тощий, с той же тонкой шеей, только у основания распухшей, воротничок расстегнут. Ему пятьдесят восемь лет, но он так же беспомощно хохочет, как в молодости, когда я поддразниваю его. Года полтора назад вызвали нас в военкомат, как в былые годы, – на учебу. Какие же мы старики? Потом писателей выделили. Мы стали ходить, согласно приказу, на лекции в Дом писателя. Но райвоенкомат не успели известить об этой перемене, и мы получили строгий приказ явиться туда и объясниться. Вся наша жизнь прошла под знаком мобилизаций, явок, переосвидетельствований, и мы к подобного рода повесткам привыкли относиться вроде как бы к зовам судьбы. В данном случае было все ясно, – недоразумение. Да и мы не призывники. Пришла повестка в субботу. Являться с объяснениями приказано было в понедельник. Миша звонил мне по телефону трижды, примерно каждые десять минут, повторяя одно и то же: «Мне гораздо удобнее идти сегодня, чем в понедельник. Давай пойдем и выясним это дело». И он пошел в военкомат в тот же день, повинуясь его могучему зову, как всю жизнь, – какой же это старик! Теперь, правда, в июле прошлого года, сняли нас с учета. Но каждый раз, когда вижу я длинную тощую фигуру с головой, чуть склоненной набок, в глубокой задумчивости, – разом оживают во мне веселые и печальные чувства двадцатых годов. И я не чувствую возраста, как, впрочем, и всегда. Как не чувствует его и Миша. Некогда.
10 июня
Союз писателей стоит дальше в телефонной книжке. Появился он на свет в 34 году и вначале представлялся дружественным после загадочного и все время раскладывающего пасьянс из писателей РАППа. То ты попадал в ряд попутчиков левых, то в ряд правых, – как разложится. Во всяком случае, так представлялось непосвященным. В каком ты нынче качестве, узнавалось, когда приходил ты получать паек. Вряд ли он месяца два держался одинаковым. Но вот РАПП был распущен. Тогда мы еще не слишком понимали, что вошел он в качестве некоей силы в ССП, а вовсе не погиб. И года через три стал весь наш Союз раппоподобен и страшен, как апокалиптический зверь. Все прошедшие годы прожиты под скалой «Пронеси господи». Обрушивалась она и давила и правых, и виноватых, и ничем ты помочь не мог ни себе, ни близким. Пострадавшие считались словно зачумленными. Сколько погибших друзей, сколько изуродованных душ, изуверских или идиотских мировоззрений, вывихнутых глаз, забитых грязью и кровью ушей. Собачья старость одних, неестественная моложавость других: им кажется, что они вот-вот выберутся из-под скалы и начнут работать. Кое-кто уцелел и даже приносил плоды, вызывая недоумение одних, раздражение других, тупую ненависть третьих. Изменилось ли положение? Рад бы поверить, что так. Но тень так долго лежала на твоей жизни, столько общих собраний с человеческими жертвами пережито, что трудно верить в будущее. Во всяком случае, я вряд ли дотяну до новых и счастливых времен. Молодые – возможно…
Сценарный отдел «Ленфильма». С ним отношения непонятны. Единственное место, где я бывал груб и неуступчив, – это «Ленфильм». Я с трудом выношу, когда требуют поправок, а сценарный отдел только этим, собственно, и занимается. В ателье напряжение и спешка, в костюмерной, гримерной, диспетчерской – звонят, спешат, слепят светом, или кричат у телефонов, или спорят с художником или с актерами. И только в сценарном отделе тихо – не то как в оранжерее, где выращивают цветы, не то как в классе во время контрольной работы. Или это та зловещая тишина, когда экзаменующийся запнулся. Это последнее – вернее всего. С одной разницей: экзаменатор знает еще меньше экзаменующегося.
«Советский писатель» – издательство. Я с ним не встречался до этого года, пока не вышло решение: печатать сборники пьес. И вот я сдал туда свой сборник. И стал ждать.
В сборник мой вошла пятая часть пьес, что я написал, и один сценарий[568] . Месяца через полтора меня вызвали в издательство. И вот после очень большого промежутка времени приехал я в Дом книги, чтобы поговорить об издании своей книги. Дом Уошеров, который давно упал, но никто этого не замечает[569] . Штатные работники выполняют, нисколько не смущаясь и не пугаясь, работу призраков. Я в течение двух часов добивался с помощью редактора единообразия. То есть: чтобы все ремарки были набраны одинаково, стояли в одном и том же порядке, чтобы… не помню уж всех крохоборческих и третьестепенных требований, которые сводились все к одному – к типографскому единообразию. Хорошо, впрочем, было то, что никто не требовал, чтобы я переделывал текст пьес. Кончив работу, спустился я во второй этаж, где теперь – там, где в двадцатых годах размещалась бухгалтерия Госиздата, – устроили отделение книжного магазина. Тут теперь отдел художественной литературы, детской книги и так далее. И вот я увидел зрелище, испугавшее меня. Множество сборников, под названием «Пьесы», стояли, как памятники.
На полках, за спиною продавщиц. Фамилия автора едва видна. «Пьесы», «Пьесы», «Пьесы» – и никому они не нужны. Это испугало меня. Приехавши домой, попросил я, позвонив в издательство, переменить название книги, взяв для этого любое заглавие пьесы. Там согласились. Книга будет называться «Тень». Через два-три месяца, совсем недавно, прислали мне корректуру. И – о, ужас! – в верстке! За это время могущественная и на самом деле существующая типография скрутила призрачных обитателей Дома книги. Верстка! Значит, я не могу править рукопись, увидев ее в печати. А именно тут многое становится окончательно ясным. Править можно было только в пределах двух-трех слов. Общее, призрачное безразличие к существу дела и загадочная, потусторонняя придирчивость к мелочам.
12 июня
Смирнов Владимир Иванович – один из самых привлекательных людей. Он обладает врожденной душевной лояльностью… Ему вчера исполнилось шестьдесят девять лет, но глаза глядят живо – темные под седыми бровями, и душа живет, не цепенеет, как жила в молодости. Он внимателен, как в путешествии.
13 июня
Он академик, математик, резко отличается от крупных ученых подобного чина знаниями и в чуждых как будто бы ему областях. Володя Орлов его встретил на пароходе и познакомился. Кто-то ему сказал, что Владимир Иванович – профессор. Всю дорогу они говорили о символистах – Володина специальность, – и он решил, что Владимир Иванович несомненный литературовед. Одному удивлялся: как же так вышло, что, по роду занятий зная всех специалистов в своей науке, мог он пропустить такого знающего, а главное – понимающего. Вовсе не обязательно это подлинное знание в чужой области, но необыкновенно привлекательно и человечно. О живописи, скажем, Владимир Иванович никогда и ничего не говорит, что резко отличает его от многих других профессоров, собирающих Шишкина и Маковского и восхваляющих этих живописцев, прищурив один глаз и делая неопределенные движения пальцами. Зато музыку, которую Владимир Иванович любит, знает он до тонкости. Научился играть на рояле самоучкой. Но когда играл в четыре руки с Рабиновичем Николаем Семеновичем, человеком в своей области непреклонно строгим, тот удивился, как понимает Владимир Иванович Малера. Все знания Владимира Ивановича естественного происхождения, исходят от подлинного желания, от невыдуманных, истинных душевных потребностей. И поэтому он начисто лишен свойственной многим ученым чисто бабьей уверенности, что он и во всех областях все понимает. Знает Владимир Иванович многое и в философии. И все это, возглавляя чуть ли не семь кафедр и какое-то большое количество научных институтов, и читая чужие диссертации, и преподавая… Ходит он быстро, глядит остро; играя на рояле, забывает все, – бородка вперед, плечи вздрагивают, губы шевелятся, глядит строго, как на молитве или в самый высокий миг любовного свидания. Рассеянным я его не видел. Однажды зашел разговор о том, что многие до старости видят во сне экзамены. Я спросил его. «Мне до такой степени легко это давалось, что я не вижу их во сне». И, при своей занятости, всегда он о ком-нибудь хлопочет.
14 июня
Тарле Евгения Викторовича видел я раза три в моей жизни. Он успел уже замкнуться в условные формы: академик, большой ученый. Так, вероятно, принимали при дворе. От всего, что он говорил, веяло ледяным холодом чистой формы. Впрочем, исходило это не от сознания своего величия, а от смертельного страха. Он был в свое время арестован и приговорен к смерти, а потом освобожден. И жил в поле зрения того, от которого зависели и честь, и позор, и жизнь, и казнь. Был он, казалось, милостив сегодня, но что ждет тебя завтра за одно слово, за одну букву? Я узнал его благодаря знакомству своему с Богдановичами. Тарле с незапамятных времен, еще до революции, был влюблен в Татьяну Александровну. Я был тронут, когда она, седая, бабушка уже, сказала как-то с удовольствием и гордостью: «Ох, достанется мне от Евгения Викторовича за то, что вышла я в такую гололедицу». Незадолго до этого Татьяна Александровна упала на улице и повредила руку. Году в 49-м или в 50-м в Союзе писателей состоялся вечер памяти Татьяны Александровны. И академик Тарле выступил с докладом. Скованный и замороженный, говорил он об одном: о патриотизме покойной. Ни редакции «Русского богатства», где они встретились, ни долгой и сложной жизни, ни привязанностей: патриотизм и все. Как радовалась Татьяна Александровна, уже больная, умирающая, победам русского оружия. Верю. И не могло быть иначе. Но ведь качество радости ее было особое. А в докладе несчастного, трагически замерзшего академика не отличить ее было от генерала Богдановича[570] .
15 июня
Я его ни в чем не обвиняю. Рассказываю только, во что может превратиться человек возле черного пламени и возле абсолютного нуля административных высот.
23 июня
Уварова Лиза. Характер трудный, склонный к самомучительству. И к мучительству. Когда встретил я ее впервые, тридцать с лишним лет назад, была она очень хорошенькой, очень молоденькой тюзовской актрисой. Она и Капа Пугачева были красой и гордостью театра. Лучшими травести.
24 июня
Сегодня шесть лет, как веду я эти тетради ежедневно. В августе 55-го я думал было, что придется бросить писать, – болел. Но перестать писать показалось совсем уж уныло. И я, несмотря на строгий режим, заполнял положенные две страницы. Писал сначала авторучкой, потом перешел на вечное перо. Подарила Надя Кошеверова. Шестилетие пришлось как раз на троицу.
Возвращаюсь к «Телефонной книжке». Теперь Лиза Уварова совсем другая. Уже давно рассталась она с ролями травести. Впрочем, и в молодости, в 29 году, сыграла она роль старухи Варварки в пьесе моей «Ундервуд». Я настоял на том, чтобы ей дали эту роль. Мне казалось, что она отличная характерная актриса. Она сыграла маленькую роль в каком-то некрасовском водевиле[571] по случаю какой-то памятной даты. И я твердо уверовал в то, что она характерная. В «Ундервуде» играла она отлично. Теперь, по общему мнению, она актриса острохарактерная, «гротесковая», как написали в последней рецензии, и играет она уже не в ТЮЗе, а в Театре комедии[572] . Играет она много. Умна. Владеет французским языком. Комната обставлена с необыкновенным вкусом. И просто. Небольшая, но отличная библиотека. Самостоятельна материально. Кроме театра работает на радио. Золотые руки. Она бутыль из-под чернил, похожую по форме на старинный штоф, расписала маслом так талантливо под екатерининский, что весело смотреть. И вряд ли хоть минуту в своей жизни была она счастлива. Ни когда была она женою Гаккеля[573], ни в замужестве за Чирковым. После каждой премьеры – в молодости – плакала она, что провалила роль, и ее общими силами утешали. Но вряд ли она хотела утешений. Она из той породы женщин, что, уставши, не отдыхают, а принимаются мыть полы в доме или стирать белье. Они свои раны не залечивают, а раздирают. Она теперь одинока. Но, и окруженная близкими, умела мучиться. А теперь комната ее, на которую так приятно смотреть, для нее – вечный застенок, где она и палач, она же и жертва. Мучает она и всех, кто подвернется, – искаженная, изуродованная душа. Не хочется говорить о ней подробнее, потому что к таким старым знакомым привязываешься в конце концов. Да еще она только что сыграла в моей пьесе[574] . Да еще и праздник сегодня. Закончу на этом об Уваровой, хоть мог бы и продолжать.
25 июня
За это время я дважды подписал верстку сборника пьес, который выпускает «Советский писатель». Но надо бы писать новую. И не тянет. Вокруг все как будто сдвинулось и зашевелилось, но нет уверенности, что чиновники, мастера неподвижности, не приведут все в привычный вид… Пьеса как будто бы имеет успех[575] . Но если брань меня задевает, то похвалам я не верю.
И все-таки смутное, привычное, необъяснимое чувство радости, почти восторга пробивается вдруг среди туч. И я жду.
4 июля
Фаддеевы Дмитрий Константинович[576] и Вера Николаевна[577] – люди дважды уважаемые; таинственная одаренность их кажется мне непостижимой и непостигаемой, чуть ли не божественной. Они математики – шапки долой! И музыкальны – прошу встать. Впрочем, музыкально, таинственно, одарен только Дмитрий Константинович. Он, не бросая математики, кончил консерваторию по классу рояля и утомленными своими глазами по растрепанным нотам просто и легко читает с листа, без малейшего напряжения. Ноты ему помощники, а не враги, которых требуется преодолеть. Почти каждую субботу в течение сумеречного периода моей комаровской жизни с осени 49-го по 54 год – наступал праздничный вечер. С дачи Смирнова извещали: сегодня в семь часов музыка. В большинстве случаев число слушателей не превышало двоих: я и Вера Николаевна. Я сидел позади музыкантов. Вера Николаевна напротив меня у кафельной зеленоватой печки. Она могла любоваться и Владимиром Ивановичем, и собственным мужем. Первый сидел за роялем слева. На стул он подкладывал, по невысокому своему росту, толстую нотную тетрадь, кажется, бетховенские сонаты. Долговязому Фаддееву и так было удобно. С первых же тактов играющие уходили в музыку, как в воду, как в среду, сильно изменяющую их свойства. Нисколько не казалось смешным, что Владимир Иванович то подпрыгивает, то вбирает голову в плечи, то откидывает вверх назад торжественно. А Дмитрий Константинович все покачивался и покачивался. Иногда среда поглотившая исчезала. Музыканты допускали ошибку. Тут они останавливались и, наскоро условившись, с какого такта начинать, снова благополучно одолевали трудное место и, сойдя с мели, погружались в свою стихию. Удивительно менялась, слушая музыку, Вера Николаевна. Она походила на курсистку-бестужевку. Лицо принципиально некрасивое, строгое. Судила и рядила беспощадно и храбро. Несла иногда, как и подобает курсистке, такое, что нельзя было не вступать с ней в спор. И притом отчаянный. Музыку любила до того, что первенца своего назвала Людвиг[578], в честь Бетховена, что тоже раздражало. Однажды пожаловалась: «У мальчика абсолютный слух. Мы так мечтали, что он пойдет в консерваторию, в дирижерский класс, а он выбрал физику!»
5 июля
И когда начинали в четыре руки наши музыканты, словно таяло осуждающее выражение ее лица. Вера Николаевна казалась теперь застенчивой, нежной, даже умной. Она слушала музыку не как общественница разглагольствует, а как «ангел богу предстоит». Дмитрий Константинович высок, худ, выражение глаз серьезное, несколько странное, – у него что-то неладное со зрением от переутомления. Говорит несколько косноязычно, как Василий Алексеевич Соколов, учитель математики в нашем реальном училище в Майкопе. Отец лучшего моего друга Юрки Соколова. Не то картавит, не то не выговаривает несколько букв. И мне чудится, что это не единственное сходство с Соколовыми у Фаддеевых. Есть прелестное явление природы – талантливая и уравновешенная русская семья. Если бы не вызывающая ярость агрессивная простоватость Веры Николаевны, то целый ряд признаков этого явления ощущался бы ясней. Фаддеев ни разу за все пять лет нашего знакомства не сфальшивил. Все, что он говорил, соответствовало его мыслям, его представлению или ощущению. Я не могу себе представить, что он изображает профессора, видит себя со стороны и любуется: «Я декан! Ай да я! Я выдающийся. Мы, ученые!..» и тому подобное. От врожденного отсутствия позы он, как таковой, стоит против предмета и смотрит на него не с условной, а с естественной точки зрения, без посредников. Поэтому об искусстве он тоже всегда говорит интересно. Или не говорит. Не притворяется.
Вера Николаевна, несмотря на то, что вечно я раздражаюсь, слушая ее – у нее не умозаключения, а приговоры, – чем-то и внушает уважение. Хотя бы душевной свежестью. Вечная студентка. Она основной двигатель семьи. И гараж построен благодаря ее энергии. И достраивается дача в Комарове. Она ведет дом. Детей их я знаю мало, но впечатление они производят хорошее. И такие резко ограниченные характеры, как у Веры Николаевны, необходимы для того, чтобы быть хорошей воспитательницей. Одеваются муж и жена не то чтобы небрежно, а не придавая этому значения; Свойство среды. И хорошие спортсмены – гребут, гоняют на велосипедах, путешествуют.
15 июля
Чивилихин Анатолий Тимофеевич, один из самых привлекательных людей в нашем Союзе писателей. Честен органически, как бывают люди музыкальны или черноволосы. Худ. Застенчив. Лицо малоподвижно, за что Ольга Берггольц, когда находится в состоянии воинственном, называет его Буратино. Но душа его глубоко уязвима и нежна. Когда выдвинули его неисповедимые судьбы в секретари ССП, мы обрадовались, но в меру. Каждый понимал, что слишком уж он хороший человек для того, чтобы держать в страхе злодеев… Талантливый ли он поэт? Для меня это несомненно. Но именно честность натуры дает ему развернуться в полную силу, когда он пишет свое. А это удается ему не часто. Но голос у него свой.
16 июля
На букву «Ш» – одни Шварцы, родня, о которой так много знаешь, что никакого открытия не сделаешь, рассказывая. И люди все разные, но близость с ними одинаковая, словно принудительная. Но все это не имеет отношения к делу. Начну. Антон Шварц – был самым близким из родных. Нас объединяло время, среда, в которой мы выросли, достаточное сходство, чтобы понимать друг друга, и разительное несходство, чтобы друг друга удивлять. Самым поразительным для меня была Тонина уравновешенность. С самых ранних лет. Отец часто вспоминал, как двухлетний Тоня, когда его спрашивали: «Понимаешь?» – отвечал вяло и хладнокровно: «Понимаю». И помню я его, вероятно, с этого же времени. Мы сидим во дворе, на стульях, которые кажутся мне очень высокими. В руках у каждого по шоколадке, которые мы друг другу показываем. И что-то голубое связано с этим воспоминанием: Тонина шапочка с помпоном, вроде матросской, или голубые обертки шоколадных плиток, или ясное небо. Шоколадные плитки – с фокусом – дернешь за белый язычок, и собачка, нарисованная на обложке, откроет глаза. В те же времена, или годом позже повели нас на Красную улицу в какой-то магазин – там показывали фонограф. От аппарата шли резиновые трубки с костяными наконечниками. Мне вставили эти холодные наконечники в уши, и я услышал какой-то отвратительный, нечеловеческий голос, и перепугался, и бросился бежать. Фонограф помнил и Тоня. Это – первое общее наше воспоминание. В 1904 году, летом, жили мы в Одессе. Мама решила кончить курсы массажа. На обратном пути остановились мы в доме дедушки, возле кирхи. К этому времени жизнь у меня стала сложной. И Екатеринодар тех дней окрашен уже не одной краской. И тут мы с Тоней подружились. Он был так же уравновешен и спокоен и поражал меня богатством своего языка.
17 июля
Я помню екатеринодарский их двор, пыльный, с деревьями, желтеющими не от осенних холодов, а от избытка жары, преждевременно стареющими. Соседские мальчики по фамилии Канатовы. Тоня, как самый спокойный и цельный, руководил нами, а мы с удовольствием подчинялись. Иногда игра прерывалась. Муравьи строем ползут, ползут, двигаются куда-то вверх черным ручейком по светлой коре какого-то дерева. Вернее всего пирамидального тополя. И мы обсуждаем, куда они спешат. И выясняется, что Тоня знает о муравьях больше всех нас. Толково, уверенно и спокойно он рассказывает, а мы слушаем с тем страстным вниманием, которое всегда просыпается, если мы остаемся в пределах своего мира, и которое умирает от малейшего насилия. Взрослые постоянно внушают: «Слушай, что тебе говорят». Тоне и в голову не приходит требовать внимания. Он рассказывает естественно, а мы естественно впитываем то, что он говорит. Таков мирный перерыв игры.
18 июля
Мы встретились через восемь лет – в тринадцатом году, весной. Мне было шестнадцать с половиной лет. Тоне – семнадцать. О том, как сидели мы на высоких стульях, он не помнил, фонограф – как через туман, но разговор на заборе запомнил твердо. За эти годы я бесконечное количество раз. слышал о нем. Рос я нескладным, раздражал этим отца – человека здорового, красивого, рослого, вспыльчивого, страстного и цельного. И каждый раз, побывав в Екатеринодаре, он попрекал меня Тоней. Тоня – прекрасно декламирует. Круглый пятерочник. Году в двенадцатом, возвращаясь из Анапы, побывал я у его родителей. И Беллочка рассказывала о сыне еще подробнее и восторженнее, чем папа. И о его учении. И о его успехах. Однажды у них обедал известный миллионер Юкелис. И он предложил Тоне, рассказав какой-то анекдот: «А ну, переложи это на стихи – дам пять рублей», и Тоня, выскочив из-за стола, побежал к себе и через пять минут вернулся со стихами, от которых старик Юкелис пришел в восторг и заплатил обещанную сумму. Тони не было. Он гостил за границей у бабушки в Наугейме. К моему удивлению, по большой шварцевской квартире бегала маленькая, нежная девочка – лет трех. Тонина сестренка. О ее существовании я и понятия не имел.
19 июля
К тому времени отношения со взрослыми у меня до того усложнились или скорее упростились, что я пропускал мимо ушей все их разговоры, если они не направлены были непосредственно ко мне. Они жили своей жизнью, а я своей, в достаточной степени сложной, и говорили мы на разных языках. Я их не осуждал за это. Напротив, склонен был часто считать себя виноватым, но понимал, что и это не поможет нам понять друг друга и объясниться. Вот отчего пропустил я мимо ушей, что у Тони родилась сестренка. И не придавал значения похвалам по Тониному адресу. Не сердился на них. И с интересом поехал погостить к ним весной тринадцатого года. Тоня прислал мне открытку, в которой звал меня, и кончал ее богато: «Sic volo, sic jubeo»[579] . Я был реалист, так что латинскую эту цитату перевел мне папа. Конечно, Тоня оказался совсем не таким, как описывали старшие. Худенький, узкоплечий, бледный, с ясно выраженными шварцевскими чертами лица – не семитическими, а хамитическими: полные губы, густая шапка жестких волос. Глаза глядели спокойно и достойно. Язык его рядом с моим был все так же богат, так что в первый день склонен был я обвинить его в страшном грехе – в неестественности. Главный недостаток, которого с детства приучала меня бояться мать. Но, к своему удивлению, вслушавшись, понял я, что за непривычной манерой выражаться скрывается понятный и близкий мне смысл. Я был варварски самоуверен. Шел по своим путям, но мы быстро поняли друг друга.
20 июля
Тоня был куда образованней меня, но вместе с тем мальчик, спрашивающий, может ли хороший еврей попасть в рай, не умер в нем, а вырос. Время было скептическое и эстетическое. Екатеринодар яснее ощущал влияния нынешнего дня: туда приезжал Бальмонт и скандалил за ужином и принялся ухаживать за Беллочкой, Тониной матерью. За ужином, что давали в его честь, он вел себя так, что к концу осталось всего несколько человек. И Бальмонт спросил Исаака: «Вы любите свою жену?» – «Да!» – ответил Исаак с мрачной, шутливой серьезностью. «И я тоже!» – сказал Бальмонт. «Что ж мы будем делать!» – воскликнул Исаак, схватившись за голову с комической серьезностью. На другой день тихий и трезвый пришел он к Шварцам с визитом и, уходя, написал в альбом Беллочке: «Душа светлеет, Увидя душу, Союз наш верный – Я не нарушу». И уехал читать стихи и скандалить в Новороссийск. И Тоня видел его в непосредственной близости. А в Майкоп подобные существа не забредали. Приезжал и пел свои стихи Игорь Северянин. И Тоня наблюдал его в непосредственной близости. И удивился и огорчился (за меня) узнав, что я не люблю его стихи. И толково, спокойно и рассудительно объяснил, почему они ему нравятся. И я подумал: «Ладно, об этом надо потом подумать». Так я всегда поступал в те дни при столкновении с чем-то, требующим душевного или умственного напряжения в области для меня новой. Рассказал мне Тоня о Мамонте Дальском. Он почему-то не мог найти комнату, приехав на гастроли, и Тоня провожал его по адресам, где знаменитый артист мог устроиться. Дважды потерпели они неудачу, и гастролер сказал с великолепной задумчивостью: «Когда я умру, тысячи людей пойдут за моим гробом, а сегодня мне негде преклонить голову». И хоть подобные существа забредали и в Майкоп, но им далеко было до Мамонта.
Тоня к своим семнадцати годам много видел, много наблюдал, не раз побывал за границей, прочел множество серьезных книг, и они отлично уложились у него в голове. Свои знания добывал я, как Робинзон. Но мы понимали друг друга, как десять лет назад.
21 июля
К этому времени мы совсем уже подружились. Большая шварцевская квартира была пуста, и я орал, пробуя голос, и бренчал на рояле, и однажды напал на Тоню в дверях его комнаты, заставил его фехтовать штиблетами, что нес он в руках. И Тоня сказал весело и удивленно: «С тобой я опять превращаюсь в мальчишку».
24 июля
И вскоре мы расстались с Тоней, чтобы встретиться через год в новом мире – военном. Осенью приехал я из Майкопа в Екатеринодар, где мобилизованный папа мой служил врачом в войсковой больнице. На душе было темно, не по возрасту – терзала и не давала покоя любовь к Милочке. Война казалась зловещей, но была только фоном к тому, чем я жил. Насколько светлее было прошлое лето, лето тринадцатого года. Екатеринодар тех дней больше всего связан у меня с запахом новой только что отлакированной мебели. В мебельном магазине дедушки встречались мои дяди и их друзья, возвращаясь с работы. Самоуверенные и спокойные адвокаты, друзья младшего из моих дядей, Саши. Исаак, Тонин отец, с выражением всегда несколько гневным и осуждающим. Магазин узкий и длинный, как галерея, ряды буфетов, кресел, диванов, исчезающих в глубине. Больше всего и увереннее всего говорили адвокаты – и о литературе, и о театре, и о суде, и о женщинах. В адвокатской комнате висело расписание – кому по дороге в суд покупать газету. Составлено оно было на тридцать пять дней, а ниже стояла надпись: «К этому времени война кончится». О женщинах говорили они с непривычной для меня откровенностью… И мне странно было слушать спокойный и уверенный адвокатский голос, повествующий о вещах вполне непристойных. Особенно странно потому, что за день до этого я познакомился с его дочерью-гимназисткой. Мой полумонашеский майкопский мир исчезал.
25 июля
С Тоней мы встретились на этот раз как старые знакомые, но я успел сильно перемениться за этот год. Я провел несколько месяцев в Москве. Вспоминаются они мне до сих пор как несколько лет. Я утвердился в своей робинзоновской внутренней жизни. Кое-что самодельное, кое-что принесло к моему острову течение. Я писал стихи, подобные робинзоновской одежде. И на этот раз показал их Тоне. Он выслушал стихи мои с недоумением и даже неловкостью. Указал, что так не рифмуют. И возражал против полного отсутствия музыкальности, когда увидел, что я разумею под этим не в теории, а на деле. Печальные для меня длинные-длинные екатеринодарские дни. И споры в большом Сашином кабинете. Он уступил нам комнату в большой своей квартире. Все чуждо мне – и огромный адвокатский письменный стол, и кожаный диван с высочайшей деревянной спинкой, на вершине которой вмонтированы полочки. На полочках вазы с глазурью немецкой выделки и фотографии какого-то актера с трогательной надписью и Сашиной дочки от первого брака. Позади стола – книжный шкаф с роскошными изданиями. Четыре толстых тома: «Мужчина и женщина», словарь Брокгауза (или «Просвещения»?) и еще какие-то книги с корешками, сияющими золотом. Кожаные мягкие кресла. За окнами ныне исчезнувший очень мной любимый шум: быстрый стук копыт по мостовой. Мне казалось когда-то, что это едут непременно к нам. И что приезд этих неведомых людей принесет мне счастье. Но не этой осенью. Я ничего хорошего не ждал в августе 14 года…
Нам сшили студенческую форму. У одного портного.
26 июля
И достали билеты в вагоне «Новороссийск – Москва». Достали в Новороссийске – из Екатеринодара в военное время непросто было выбраться. Толпа у вагонов, шум, какие-то девушки кричат Тоне с площадки, вручают нам билеты, и вот мы отправляемся в Москву. Несмотря на любовь, терзавшую меня, не дававшую ни минуты покоя, я ухаживал всю дорогу за беленькой девушкой. Она ехала в Петроград на курсы. С нею – мать, худенькая, черненькая, моложавая. Жили они где-то на границе с Турцией (Манглис?). Отец-офицер служил там. Мы всё стояли на площадке, а мать появлялась от времени до времени, присоединялась к нам. И Тоня стоял тут же на площадке. Он не ухаживал – скорее снисходительно и вежливо принимал знаки внимания и восхищения от худенькой стройной девушки по имени Галя. Маруся Бахчисарайцева – гимназистка в Екатеринодаре, Галя и новые наши знакомые в поезде – все восхищались красотою Тониного голоса. А кто-то из взрослых сказал, что у него органный звук голоса, что, когда он говорит, чувствуешь обертоны. Тоня охотно читал вслух. Но об актерской карьере и не думал. Сказывалась та же инерция, что не пустила отца его в актеры, а даже строгая моя мать подтверждала, что Исаак необыкновенно одарен. Та же сила привычной колеи, что не дала моей матери, ее брату и сестре пойти на сцену. Впрочем, вряд ли мы думали тогда об одном каком-нибудь пути. Казалось, что все «пока». Война. Как можно решать что-нибудь окончательно. Беллочка, по особой характерной уверенности своей, что надо хлопотать и родственники помогут, написала в Москву своим двоюродным братьям, чтобы они оказали нам содействие. Они приняли это как должное. Один из них, седой сорокалетний, другой чуть моложе, лысый, с усами и светлыми нагловато-насмешливыми глазами, в день приезда приняли нас в конторе, принадлежащей им. Какой? Не поинтересовался. Оба серьезно, солидно давали нам советы, обращаясь больше к Тоне. Советы совершенно ненужные. Например: питаться в студенческой столовой. Там теперь кормят дешево и хорошо.
27 июля
Или: сдавая белье прачке, сосчитай его и запиши. Впрочем, младший из Тониных двоюродных дядей, тот, что с нагловато-насмешливыми глазами, Аркадий, указал нам, что в Дегтярном переулке, этажом выше его квартиры, сдается комната. И это сведение не представляло ни малейшей цены. В те дни в Москве на каждом квартале можно было увидеть зеленые прямоугольные бумажки в окнах домов. Это были объявления о сдающихся комнатах. Красные объявления указывали на сдающиеся квартиры. Тем не менее мы воспользовались дядиным советом и поселились в Дегтярном переулке. Хозяином оказался чех лет тридцати, музыкант из оркестра Художественного театра. Вся семья его состояла из жены и свояченицы, по имени Граня, которой чех горловым голосом читал иногда нотации. Начинались они громко: «Граня, я тебе говору!» – а в дальнейшем он понижал голос. Комнату мы сняли просторную, с новой светлой, модной в те дни мебелью. Так была обставлена и вся квартира. Вот и начался первый семестр моей студенческой жизни, который, когда я вспоминаю, представляется мне долгим, как бы многолетним… В этот период жизни мы были дальше друг от друга, чем когда-либо. Юридический факультет я ненавидел. До самого здания, коридоров, аудитории, студентов. Тоня, который обладал значительно более организованным умом, принимал его здраво.
28 июля
Я чувствовал себя не то что чужим, а вызывающим протест в среде дяди Аркадия, куда пышнотелая, темноглазая, живая, молодая, вечно напевающая что-то из оперетт, простоватая его жена постоянно звала нас то к обеду, то к ужину. У нее был мальчик – не от Аркадия – лет пяти. И с Аркадием они были не венчаны. Бывал у них вечно в гостях сытый человек лет тридцати пяти, спокойный, уравновешенный, довольный жизнью. Бывал Метнер, брат композитора, до наивности немецкой наружности. И он владел какой-то конторой, как Аркадий, или была у него фабрика. С ним тощая блондинка, подруга жены Аркадия, находящаяся в том же положении при Метнере, как та при Аркадии. Длиннолицая и, на мой взгляд, немолодая жена адвоката появлялась всегда в сопровождении молодого спутника с лицом грубым и наглым. И целая шайка подобных молодцев иной раз являлась с ними. Сам адвокат, бледный до бесцветности, похожий лицом на Чайковского, держался несколько брезгливо в стороне от компании жены. И при Тоне однажды, когда в компании его жены вышла какая-то ссора и к адвокату обратилась жена с жалобой, он ответил: «Не вмешивайте меня в свои грязные дела». Он, адвокат этот, поразил нас годом, примерно, спустя. Шла премьера пьесы Андреева «Король, закон и свобода», шла с неслыханным успехом[580] . Зал обезумел, когда король приказал открыть плотины и утопить немцев. Зал представлял явление куда более поразительное, чем сцена. И наш знакомый, бледный до бесцветности адвокат, похожий на Чайковского, охваченный общностью, массовостью чувства, побледнев еще более обыкновенного, кричал, вскочив на кресло: «Так их, топи их, туда их!» И никому, кроме нас, не казалось это странным. Приближались новые, страшные времена, но в первый год войны мало кто угадывал это. И мы с Тоней успели забыть то особое, зловещее чувство, которое испытали, увидев на маленькой станции по дороге в Москву первых раненых. Теперь встречались они в каждом переулке, вошли в быт.
29 июля
Итак, в сытом, довольном собою, модно обставленном доме Аркадия жизнь шла привычной для них и невозможной для меня дорогой. Я вижу теперь, что никогда в жизни не смел брать. Не в похвалу себе говорю. Вечно я чувствовал себя виноватым, неведомо в чем, но, увы, ничего не делал, чтобы эту вину загладить. И не доводил до конца, если что-нибудь в этом направлении начинал. Взять хоть бы мою попытку пойти охотником на фронт. Я мог бы добиться своего – и отступил. Впрочем, это другая история. Разглядывая мир дяди Аркадия, я испытывал чувство, похожее на ревность, – с какой уверенностью потребляли они все, что давала им жизнь. А мои колебания приводили только к неясности чувств и сбивчивости желаний. Тоня принимал окружающую среду спокойно и с достоинством, не принимал, но и не вступал с ней в спор…
В следующем семестре поселились мы раздельно. Я снял комнату в солодовниковском доме в Лебяжьем переулке. Любовь моя к Милочке Крачковской вдруг сломалась под собственной тяжестью. Жизнь стала пустой – столько лет я жил только этим. Тоня же продолжал спокойно и не теряя равновесия развиваться. И особым достоинством являлось то, что он сохранял ясность взгляда. Он продолжал сам смотреть. Сохранял самостоятельность. Прочитанные книги помогали ему смотреть, а не являлись целью. В те времена образовалась группа студентов, выделяющихся из общей среды… Для большинства из них, из этой группы студентов, «эрудит» было высшей похвалой. Стилизация их восхищала. Тоню считали они равным. Но он был выше. Весна шестнадцатого года. Мы перешли на третий курс, возвращаемся в Екатеринодар на каникулы. В Кавказской – пересадка. Мы увидели в тупике екатеринодарские вагоны, стоим на задней площадке, ждем, когда прицепят. Зелень, еще не тронутая жарой, поражает после Москвы богатством, решетку станции не видно, все заросло травой и кустами. Мы разговариваем с жадностью и с прежним уважением к опыту друг друга. И если у нас нет ясной веры наших отцов и умерла детская вера, то потребность веры осталась. В нашем разговоре есть элементы того, что вели мы в дедушкином саду. Да, мы еще ничего не начали всерьез, война продолжается, все, что мы делаем, это «пока». Но мы говорим о том, что будем делать. К этому времени Тоня уже уверовал в мои варварские стихи и даже носил их показывать Бунину. К счастью, его в Москве не оказалось. А я с уважением отношусь к Тониным знаниям и привык к его манере говорить. Так мы и жили, все «пока» да «пока». Судьба забросила нас в Театральную мастерскую. Мы стали актерами, что было естественно для Тони и совсем неожиданно для меня. Он женился на тоненькой, высоколобой, огромноглазой Фриме Бунимович. Женился и я. Оба мы развелись со своими женами, которые, кстати, ненавидели друг друга. Встречались редко – каждый шел своей дорогой. Тоня кончил юридический факультет, работал некоторое время адвокатом, продолжая выступать как чтец, и, наконец, окончательно отказался от адвокатуры. Со свойственным ему спокойствием относился он к переездам из города в город, к гастрольным своим поездкам. И объездил всю страну с программами, которые составлял сам. И имел очень большой успех всюду, где бы ни выступал. Ему найдется что сказать, если его спросят, что он за свою жизнь сделал. Он все уезжал, виделись мы редко, но я каждый раз испытывал некоторое огорчение, узнав, что Тоня собирается снова в путь. И вот пришла война. И мы встретились в Москве, в гостинице «Москва». Он рассказывал о фронте. С моей точки зрения, он не изменился. Но один из актеров, бывший с ним на фронте, рассказал мне. Генерал очень полюбил Тоню, все гулял с ним и разговаривал, и молодая жена генерала пожаловалась однажды: «Что нашел он в этом старике?»
30 июля
Для меня студенческие наши дни, даже детство – было точно вчера. И, глянув на седую Тонину голову, я подумал: «Да, время-то идет». Но тут же почувствовал: «Идет, но не проходит». Я вспомнил, как однажды сравнил Олейников время с патефонной пластинкой, где существуют зараз все части музыкального произведения. Для меня Тоня не мог быть стариком. Я видел за случайными сегодняшними признаками его основную неизменную сущность. Он был, как всегда, уравновешен, и вместе с тем, или именно благодаря этому, голова его работала с той честностью, энергией и ясностью, что меня так покоряло всю жизнь… И за время войны и в послевоенные годы мы сблизились больше, чем когда-нибудь, именно потому, что едва намеченное в молодости утвердилось, разъяснилось и окрепло после всего, что пришлось нам пережить.
31 июля
Он готовил монолог Фауста и спокойно и толково спорил с Пастернаком по поводу отдельных строк перевода, и Пастернак разговаривал с ним как со своим и соглашался. Встречался Тоня с людьми достойными, круг его знакомств был никак не похож на актерский. Мы рады были, встречаясь, – с годами привыкли понимать друг друга еще точнее.
1 августа
Но вот в конце сороковых годов Тоня тяжело заболел. Инфаркт. В результате сердечной недостаточности – плеврит, болезнь почек, кишечника. Мне казалось, что неверно это. Не может быть. Я, приехав в Москву, отправился к Тоне в клинику на Девичьем поле. Когда-то мы тут по соседству обедали в медицинской столовке, где бывали вечеринки, необыкновенно веселые. Местности я не узнал, но мог сообразить, где эта столовка помещалась. Больничная холодность, халат не по плечу, высокие коридоры и, наконец, неестественно высокая, небольшая, узкая палата на три койки. Тоня, все такой же спокойный и уравновешенный, очень бледный. Всегдашняя больничная связанность. И в самом деле – как разговаривать, когда в двух шагах лежат люди. Один читает, другой пишет письмо. Едва разговор завяжется, как чувствуешь, что хотят не хотят соседи, а послушают. Тоня шел уже на поправку – восьмой месяц, как он лежал. Мы провели вместе часа два. И я, без всякой веры в возможность этого, чисто рассудочно думал: неужели мы видимся в последний раз? К этому возрасту я привык к тому, что подобные вещи случаются чаще, чем ждешь. Но в глубине души я этому не верил. И Тоня в самом деле поправился и скоро – через год – уже выступал на концертах. И ездил по всей стране. И собирал полные сборы в Ленинграде, в Большом зале Филармонии. Как Тоня читал? Я долго привыкал, да так и не привык окончательно к этому виду искусства, к художественному чтению. Для меня исчезал смысл стихотворения, если к литературной выразительности примешивали еще декламационную. Всегда несколько искусственно-холодноватую. Условную. И громкую. Смысл – я говорю о поэтическом смысле – грубел и шел на дно. Пока я был актером, то притерпелся к этой условности. Потом отвык настолько, что, услышав недавно, как Журавлев[581] читает «Даму с собачкой», как грубеет и твердеет самый высокий смысл, самый драгоценный из многих смыслов повести, пришел в ужас. И ярость. Тоня обладал прекрасным, редким, низким органным голосом. И в его чтении я понимал автора. Особенно прозу. Потому что Тоня, хоть и допускал декламационную, излишнюю, по моей застенчивости, выразительность, чувствовал законы вещи.
2 августа
Вчера вечером встретил Гора[582], который шел ко мне с книжкой – показать первый сборник моих пьес.
Продолжаю рассказывать о Тоне. Мне казалось, когда начинал он выступать в качестве чтеца, что его особенности – голос, манера – делают похожими друг на друга и Державина, и Блока, и даже Сумарокова. Но в дальнейшем приемы его стали точнее. Большое лицо, шапка густых волос, спокойные светлые глаза, высокий рост, уверенность – органическая, внушающая уважение, простая. Жест, правда, несколько неуверенный, – да Тоня и не пользовался им почти. И голос. Великолепный голос. И зал подчинялся и верил. Мы несколько раз встречались с Тоней в Москве… Тоня уже готовил новую программу. Выступал. Однажды из окна троллейбуса увидел я, как пытается он сесть в мой вагон, а кондуктор не пустил, – переполнено. И у меня почему-то сжалось сердце. Я вспомнил, как на Николаевском вокзале увидел в последний раз Юрку Соколова – тоже вот так, через стекло. Правда, Юрка был в вагоне, а я стоял на платформе, но никогда мы больше и не увиделись. И я вышел на остановке у улицы Горького, дождался следующего троллейбуса и встретил Тоню. Казалось, что он был совсем здоров в те дни. Но я почему-то испытывал какую-то неуверенность. Вот пришел Тоня и просит поскорее налить ведро горячей воды, поставить туда ноги. Прилив крови к голове. И у меня то же чувство, которое испытал я, когда Тоню впервые назвали стариком. И он, заметив, угадав – ведь столько лет мы знакомы, – говорит мне спокойно и ласково: «Да ты не расстраивайся. Ничего». Говорит больше интонацией, чем словами. Потом с глубокой неохотой переехал Тоня в Ленинград. Тут ему опять стало хуже. Он отлежался. Поехал на дачу в Москву – и опять захворал и попал в ту же самую клинику, что прежде, на Девичьем поле. И снова, приехав в Москву, я отправился навестить Тоню и, пройдя через гулкий вестибюль и получив халат не по плечу, отыскал я Тоню в неестественно высокой палате на три человека. Он поправлялся.
3 августа
Что, собственно, рассказывать? Он поправился, но не так, как пять лет назад. Болезнь сваливала его с ног еще и еще раз, безболезненно почти, но упорно. Он принялся за книгу. Ему хотелось рассказать о своем опыте чтеца. Он боялся, что выступать больше не придется. Он захворал, вдобавок к сердечной болезни, – забыл, какое имя носит это несчастье. У него стали шататься и выпадать зубы. Ему сделали мост. Золотой. И очень неудачно – испортили ему дикцию. И это огорчало его. Книжку писал он упорно. Интересной казалась мне мысль о том, что чтец обязан найти, от имени кого читается вещь. Угадать авторский характер. Не в актерском, а в особом плане. Не выходя за пределы своего искусства, искусства чтеца. Он зашел показаться профессору Рыссу, Симе Рыссу, нашему сверстнику. И Сима сказал мне: «А ты знаешь, что Тоня обречен? Ему жить – месяц, другой, – у него сильнейший склероз. Особенность склероза – его избирательность. Мозг – не тронут. Голова свежа. А человек обречен». И я не поверил этому. Тоня решил начать выступления – настолько он хорошо себя чувствовал. Но сначала по радио. Там спокойнее. Мы с Эйхенбаумом должны были зайти к нему – посоветоваться о Тониной книге. На радио затянулась репетиция. Тоня устал. Когда я позвонил, что мы с Эйхенбаумом идем к нему, Наташа[583] сообщила, что свидание придется отложить. Тоня заболел. И больше мы не виделись. То лучше, то хуже, то лучше, то хуже. Я был у Войно-Ясенецких[584] на именинах. Позвонил домой. Все время занято. Слишком Долго. И это встревожило меня. Я поехал домой. И узнал, что Тоня умер. Он обосновался в те дни у сестер – у Вали, той самой нежной девочки, появление которой так удивило меня в большой шварцевской квартире в Екатеринодаре, и у Муры, которая появилась на свет годом-двумя позже. Валя уже совсем седая. Мура и Наталья Борисовна сидели возле постели, на которой лежал Тоня с обычным своим рассудительным и спокойным выражением, только глаза были закрыты, и это был не Тоня. И как бы мы ни жалели его, уже ничего общего не было между ним и нами.
С месяц назад, в сильный ветер, поздним, хоть и светлым вечером включил я радио и услышал живой Тонин голос. Он читал «Медного всадника», и я слышал даже его дыхание.
4 августа
И хоть ветер шумел за окнами и брата, дыхание которого я слышал так ясно, будто стоял он рядом в комнате, уже не было в живых, я испытывал скорее радость, чем печаль. Если бы я умел! Я чувствовал за привычным смыслом вещей другой, настоящий. Еще усилие – и я пойму, что «времени больше не будет» и ничто не ушло, не умерло из пережитого. Но это последнее усилие – в который раз сорвалось. И мир вскоре принял свой непрозрачный и непреодолимый образ. Вот и все, что удалось мне рассказать о Тоне.
9 августа
Двадцать лет назад жили мы в Сухуми, в Алексеевском ущелье, и ощущалось бы это время сейчас как один из очагов тепла, согревающих жизнь через все годы. Но мешает одно – наш сосед, с которым мы подружились так, как это бывает в счастливые, праздничные черноморские дни, – трагически погиб в конце сороковых годов. Я говорю о Льве Моисеевиче Квитко. Это был, при наружности прозаической, солидной, прирожденный поэт и легчайший человек. Работал легко, как дышал. Проснувшись, брался за блокнот. И, лежа на берегу моря, работал над своей поэмой[585] . Но это другая история. О Квитко рассказывать надо отдельно. Что я попробую сделать когда-нибудь, если хватит сил. Пока скажу, что это был один из самых привлекательных людей, что встречались мне в жизни. И смерть его, словно траурной рамкой, окружает лето 1936 года именно потому, что он жил тогда полной жизнью.
12 августа
Эйхенбаум Борис Михайлович. Опять трудная задача. Я его слишком давно знаю, и мелочи сбивают с толку. Большая голова. Не по хилому телу большая, – так казалось мне, когда познакомились мы. Впоследствии (опять на море!) убедился, что тело у него по-мальчишески складное и мускулистое, так что голова – чему особенно помогала резкая граница загара, – лысая, крупная, седая голова его казалась приспособленной к шее по ошибке. И он плавал далеко, скрываясь в волнах, и он легко ходил, но физиологической радости бытия не обнаруживал. Нет, он не испытывал страстной любви к жизни. Жил легко, но все чисто жизненные, практические вопросы, бытовые – решала за него Рая Борисовна, жена, человек с ясными чувствами и твердым характером. Голова Бориса Михайловича работала сильно, требовала от складного, но мальчишеского тела усиленного питания. И ему было некогда и не к чему вмешиваться в людскую суету вокруг. Поэтому-то ученики его жаловались на холодность и безразличие к ним. Это худо. Зато он начисто лишен был бесстыдного бешенства желания низшего сорта. Что, к примеру, вспыхивает у собаки, когда ей кажется, что некто покушается на обглоданную и брошенную ее собственную еду. Мне казалось, что это благородство слабых. Что Шкловский, вечно срывающийся в переходах своих от добра к злу, явление более внушительное. Что добродушие Бориса Михайловича ничего ему не стоит. Но он, как это бывает с существами высокой породы, все рос и рос, не останавливался. И за слабостью вдруг определилась настоящая сила, которая дорогого стоит. Первая и главная – это добросовестность. Его били смертным боем, а он не раздробился, а выковался в настоящего ученого. Как настоящий монах не согрешит потихоньку, так и Эйхенбаум не солжет и не приврет в работе. И если монаха останавливает страх божий, то в Борисе Михайловиче говорит сила неосознанная, но могучая. С утра сидит, согнувшись над столом, и, словно по обету, мучается над ничтожным, иной раз, примечанием. Во имя чего? Цена одна. Что заставляет его доводить свою работу до драгоценной точности? По-прежнему он благожелателен и ясен.
13 августа
Сейчас все несколько упростилось. Стало полегче. Его снова позвали в Пушкинский Дом старшим научным сотрудником. Словно проснувшись, припомнили, что он один из лучших текстологов, если не лучший, во всей стране. Его статьи стали печатать в журналах как ни в чем не бывало. А он? Как и все эти самые страшные годы, работает не разгибая спины. Перед ним чернильница, вделанная в отполированный, сверху плоский, по бокам неправильной формы обломок дерева, источенного червем. Медная дощечка подтверждает, что взято дерево из фрегата «Паллада», поднятого со дна такой-то бухты тогда-то. Книги со множеством закладок высятся вокруг рабочего места посреди стола. Книги на этажерке возле стола. Коробка со множеством карточек. Книги, книги, книги. Вот уже больше года, как переехали Эйхенбаумы с канала Грибоедова на Малую Посадскую, но книги еще не разложены в подобающем порядке. На столике проигрыватель. Эйхенбаум страстно любит музыку и собрал такое множество долгоиграющих пластинок, что и на них пришлось завести карточный каталог, в особой карточной коробке.
Слушает он музыку с наслаждением. В последнее время все зародит Десятую симфонию Шостаковича, по нескольку раз, часть за частью. Слушает и думает.
15 августа
Сегодня смотрел материал «Дон Кихота». Все хорошо. Но дело не в этом. Я опять увидел юг, и мне ужасно захотелось к морю. В Комарове холодно. Льет дождь, и нет никакой надежды на хорошую погоду. Буду продолжать роман «Телефонная книжка», приближающийся к концу.
18 августа
Леночка Юнгер, Елена Владимировна Юнгер! Она до того безыскусственна и правдива, до того человечна на всех путях своих, что обличитель, бросающий в нее камень, выглядит темным в сиянии мягкого света, который излучает все ее существо. Когда Маршак вспоминает ее отца, рано умершего поэта, у него лицо светлеет и он говорит мечтательно: «Володя Юнгер, Володя Юнгер! Ах, какой был человек». Он не рассказывает какой, да это, видимо, и не передашь. Но в лице Маршака – отблеск того же сияния, которое определяет Леночку и, видимо, определяло ее отца. Стихов его Маршак не цитирует, несмотря на непогрешимую свою память. Видимо, Володя Юнгер был поэтичен всей своей сущностью и дело тут было не в стихах. Теперь вернусь к началу. Безыскусственность и правдивость следует понимать не буквально. Это не детская наивность или грубоватость бестужевской курсистки. Нет, Леночка может умолчать, и скрыть, и схитрить. Но она – это она. Это ее собственная безыскусственность и правдивость – она поступает так, как ей хочется. Вот на что любуюсь я, скованный майкопским, полумонашеским интеллигентским прошлым. Изящество, с которым она влюбляется, и божественное бескорыстие в выборе – вот что в ней прелестно. Вот и все. Говорить о ней подробней – это значит мельчить, и сплетничать, и вносить муть в то, что до такой степени ясно. А к Леночке я отношусь со всем уважением. Я к ней привязался за долгие годы нашего знакомства.
24 августа
Вышла моя книжка «Тень» – пять пьес, один сценарий. Я, привыкший к театру, к быстрым зрительским реакциям, теперь испытываю некоторое напряжение, как будто иду по дороге, а в чаще леса – кто? Друзья или враги? Кто выйдет навстречу мне? Я всю жизнь больно переживал неуспех. Даже в тех случаях, когда понимал, что говорит против меня глупость или несправедливость. Но на другой день боль проходила. Я лечился мечтами, как собака травой. С годами я не закалился. Боюсь только, что способность мечтать исчезает.
25 августа
Вот и довел я до конца «Телефонную книжку». Примусь за московский свой алфавит. Этот город с первой встречи в 13 году принял меня сурово. Владимиро-Долгоруковская улица, продолжение Малой Бронной. Осень. Зима с оттепелями. И огромное, неестественное количество людей, которым нет до меня дела. Полное неумение жить в одиночестве. Вообще – жить. Мне присылал отец пятьдесят рублей – много по тогдашним временам, – и я их тратил до того неумело, что за неделю до срока оставался без копейки. Чаще всего вечерами уходил я в оперу Зимина, которую не любил. И снова множество людей, которым до меня нет дела. Или уходил в Гранатный переулок. Там был особняк, который я выбрал для себя. Я должен был купить его, когда прославлюсь. Да, мечты мои были просты – вызвать уважение людей, которые шагали мимо или мрачно толпились у пивных. Впрочем, это не было главным. Главным была несчастная любовь. Когда переехал я на 1-ю Брестскую улицу, то уходил по Тверской-Ямской на мост, идущий над путями, существующий до сих пор. Соединяющий улицу Горького с Ленинградским шоссе. Там, глядя на поезда, я старался провести время до прихода почтальона. Любовь мучила меня больше всего: больше чужого города, больше подавляющего количества безразличных ко мне людей. Мне в октябре 13 года исполнилось семнадцать лет. И сила переживаемых мной чувств постепенно-постепенно стала меня будить. Я стал вглядываться в Москву. И удивляться количеству людей несчастных и озлобленных. Началось с того, что заметил я женщину, прислонившуюся к чугунной решетке забора тяжелым узлом. Чтобы передохнуть. По своей бездеятельности не посмел я ей предложить помощь. Но ужаснулся. И стал вглядываться. Иногда – умнел. Но снова несчастная любовь схватывала, как припадок. И тогда я видел только себя. И уехал, полный ужаса перед Москвой.
26 августа
Вчера сидел я тут в обычной за последние дни тоске, неизвестно зачем, в дождь, в холод. К ночи тоска еще усилилась. А в первом часу позвонил из города Акимов. Театр открылся «Обыкновенным чудом», спектакль прошел необыкновенно удачно. После второго акта Акимов произнес речь, когда его вызвали. После третьего десять раз давали занавес – и так далее, и так далее. И я удивился: что за сила держит меня тут? Почему я не поехал в город? Почему я не беру то, что дается? Испытываю неуверенность, неловкость, и слабость охватывает меня. И так всю жизнь.
Продолжаю о Москве.
Первая фамилия – Андроников Ираклий Луарсабович. Как-то я пришел в конце двадцатых годов к Елене Владимировне Елагиной[586] и застал в гостях двух братьев, совсем еще юных Ираклия[587] и Элевтера[588] . Оба коротенькие, только Ираклий пошире, а Элевтер постройнее. Оба по-мальчишески веселые. Они веселили и сами веселились. Изображали кучера и лошадь – Элевтер поил Ираклия из воображаемого ведра, оглаживал, проваживал. Потом Ираклий уже один изображал оркестр и дирижера одновременно. Потом профессора Щербу[589] – это уже походило на чудо. Вскоре я узнал, что Яков Яковлевич Гуревич, бородатый, седой, бывший владелец гимназии, – родной дядя мальчиков. В жилах их текла кровь русская, еврейская (мать была полуеврейкой) и грузинская (отец был чистый грузин). Он, в прошлом известный адвокат по политическим делам, жил в Тифлисе, читал лекции на юридическом факультете университета, а мальчики учились в Ленинграде. Вышло так, что стали они бывать у нас, на 7-й Советской. И при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что они народ сложный. В Ираклии трудно было обнаружить единое целое. Он все менял форму, струился, как туман или дым. От этого трудно было схватить его отношение к окружающему. И он страдал. Его водили к гипнотизерам, чтобы излечить нервы. И как он изображал своих докторов – просто чудо. Особенно одного. Старика.
27 августа
Он преображался. Гипнотизер, старый доктор, утомленный до крайности, появлялся перед нами. Сначала старик вел длинный разговор о всех родственниках Ираклия, бессознательно стараясь оттянуть утомительную работу. Потом усаживался и вялым, сонным голосом начинал: «Отрешайтесь от действительности, отрешайтесь от действительности. Ваши руки цепенеют… сян-сян-сян (неопределенное шамканье). Ваши ноги цепенеют… сян… сян… сян… (клюет носом)». Гипнотизер засыпал прежде пациента. Как все произведения искусства подобного рода, имеющие форму трудноуловимую, смешанную – и не рассказ, и не пьеса, и сыграно, и не сыграно, – они вызывали восторг. Но настоящего уважения не наблюдалось. Почему? Вероятно, потому, что зрителям казалось, что все это больно уж легко, не закреплено. За паровозной трубой на километр тянется дым. Но никто не скажет: какой большой дым. Скажут – густой, черный, едкий, – но величина его так непрочна и изменчива, что о ней и речи не заходит. И все говорили о наблюдательности Ираклия, о его даре подражания, но не знали, как назвать то, что он делает. Учился в те времена Ираклий на филологическом. И тут его любили, но казалось самым наблюдательным из его учителей, что он подражает серьезному студенту, а не на самом деле интересуется наукой. В игре, в подражании Ираклий как бы спасался от собственной неопределенности. Однажды он шел с нами, тяжело опираясь на палку, жалуясь на непонятную боль в ноге. На углу мы расстались. Мне зачем-то понадобилось догнать Ираклия. Я свернул за угол, но Ираклий был уже далеко. Он бросил хромать, шагал, размахивая палочкой, переменил обличив. Он в чужой личине чувствовал себя увереннее, отдыхал в ее определенности. Коротенькие его рассказы день ото дня усложнялись и росли. И оркестр Ираклий теперь уже изображал не просто так, а дирижировал в обличии различных дирижеров, чаще всего Штидри[590] показывал он и за пультом и в жизни. В конце двадцатых годов поступил Ираклий на должность секретаря в «Еж». И тут я увидел, как, словно в искупление за легкость в одном, тяжел он в другом.
28 августа
Если казалось, что входит в чужую сущность он со сверхъестественной легкостью, то себя он выражал с неестественным напряжением. Не мог он двух слов связать. Даже в таком пустом случае, как в подписи к журнальному рисунку. Он сидел над коротенькой заметкой в четверть странички долго, как над стихами. Это было нестрашно, но заметка, несмотря на множество черновиков, все равно не удавалась. Нет, он не мог обойтись без чужой оболочки, сказать хоть два слова от себя. У Элевтера его, тоже многообразные, душевные свойства слежались крепко в единое целое. Спаялись. У Элевтера было ясно, кого он любит и кого не любит, а у Ираклия все были друзья. После ряда злоключений перебрался Ираклий в Москву. Его талант все развивался. Кто-то нашел название для его произведений: «Устные рассказы». Их услышал Горький и высокие люди, бывающие у него. Ираклий приобрел вес. Женился. Родилась у него дочка. В крохотной однокомнатной квартирке в переулке где-то возле Арбата поселился он со всей семьей. Жена – плотненькая, полногубая, привлекательная Вивиана Абелевна Робинзон – была артисткой в студии, но ушла оттуда. Как это всегда бывает в семье, у жены стали развиваться те самые свойства, которых не хватало мужу. Она становилась все определеннее и крепче. Она в Ираклии старалась разбудить то, что определенно и крепко. И ко второй половине тридцатых годов семья их казалась мне привлекательной. Прежде всего, приехав в Москву, звоню я к ним. Однажды я пришел позже назначенного часа, и дочка Ираклия, трехлетняя Манана, встретила меня, прыгая и распевая во весь голос: «Женюрочка пропащий, Женюрочка пропащий!» Это была необыкновенно здоровая девочка, радостная, словно выражающая самый дух квартиры. Черные глаза ее сияли. Ираклий шумел и хохотал, и Манана шумела и хохотала. Вышло так, что я остался у них ночевать. Разговаривали мы долго, часов до трех. После какого-то особенно громкого выкрика Ираклия над сеткой кроватки показалась голова Мананы. И она спросила сонным голосом: «Хлеб принесли?»
29 августа
Она ела с таким аппетитом, что весело было смотреть. Ираклий становился все веселее и нужнее. Правда, он стал заниматься усердно литературоведческой работой, но сила его была не в специальности, а в отсутствии наименования. Он никому не принадлежал. Актер? Нет. Писатель? Нет. И вместе с тем он был и то, и другое, и нечто новое. Никому не принадлежа, он был над всеми. Отсутствие специальности превратилось в его специальность. Он попробовал выступать перед широкой аудиторией – и победил людей, никогда не видавших героев его устных рассказов. Следовательно, сила его заключалась не в имитации, не во внешнем сходстве. Он создавал или воссоздавал, оживлял характеры, понятные самым разным зрителям. Для того чтобы понять, хорошо ли написан портрет, не нужно знать натурщика. И самые разные люди угадывали, что портреты сделаны Ираклием отлично, что перед ними настоящий художник. Его выступления принимались как чистый подарок и специалистами в разных областях искусства. Именно потому, что Ираклий занимал вполне независимую, ни на что не похожую позицию, они наслаждались без убивающей всякую радость мысли: «А я бы так мог?» В суровую, свирепую, полную упырей и озлобленных неудачников среду Ираклий внес вдруг вдохновение, легкость. Свободно входил он в разбойничьи пещеры и змеиные норы, обращаясь с закоснелыми грешниками, как со славными парнями, и уходил от них, сохраняя полную невинность. Он был над всем. И Элевтер шел своим путем. Его считали одним из лучших молодых физиков. Он жил в так называемом Капичнике, в одном из домов, построенных для сотрудников Института Капицы[591] . Большой сад. В саду невысокие домики. Цветы. И Элевтер был несколько вне ведомств: Институт Капицы занимал особое, независимое положение. И когда мы побывали у Элевтера – он считался нашим любимцем, – ощущение, что дела братьев хороши и чисты, утвердилось. Приезжая в Москву, я в первый же день звонил Ираклию. В Москве мне, как правило, не везло. А у них я отходил от всех уколов и путаницы.
30 августа
Несколько раз встретились мы во время войны. До нашего переезда в Москву.[592] Два раза нашел я Ираклия в госпитале – он хворал. Печень не в порядке. Был он мобилизован. Сначала работал в газете в партизанском крае, затем в Тбилиси… После войны началось движение Ираклия к определенному и прочному положению. Он стал литературоведом, доктором наук. Выступает на прежний лад редко… Он рассказывает. Выступает перед тобой вся жизнь, во всем ее блеске. Вот рассказывает он о поездке в партизанский край, в бывший партизанский край. Году в 46-м. Он играет очередь у кассы, к окошечку которой милиционер подвел его без очереди. Несмотря на вмешательство начальства, стоящие в очереди пытаются оторвать Ираклия от окошечка, а он кричит, вцепившись в подоконник: «Кладите сдачу сюда, в боковой карман». И, взяв билет в зубы, отпускает руки, и его относят от кассирши. И вот он уже в вагоне. И касса со всеми злоключениями канула в прошлое, заботит будущее – где переночевать в Калинине. Попутчик дает советы, это молодой, красивый, очень доброжелательный человек. Он позвал бы Ираклия ночевать к себе.
31 августа
Но никак невозможно: «Матушку это стеснит. У меня одна комната всего». А когда Ираклий осторожно намекает, что от старушки можно было бы как-нибудь отгородиться, занавеситься, спутник возражает: «Что вы! Матушка у меня молодая!» Выясняется, что он – священник. Далее шел новый период жизни, как всегда бывает в путешествии. Все позади. Ираклий мчится на грузовике. В кузове пленные немцы, которых шоферша, молодая и разбитная девица, везет с дорожных работ в лагерь. Девица все время напевает. Все шевелит лопатками. Спина болит – неудобная кабинка. И побаливает голова. Все это не мешает девице петь. У какого-то ларька останавливает она машину, пьет водку от головной боли. Водка мутная, «смотреть и то страшно. Плавают в стакане какие-то лоскутья. Обрывки газеты, что ли». Но шоферша пьет с наслаждением и через несколько километров сообщает, что голова болеть перестала. Встречный грузовик тормозит, и шофер, как дальше выясняется, Вася просит шофершу Ираклия уступить ему фрицев: «Сделают мне погрузку – я их сам отвезу. Песку надо перебросить». После краткого спора шоферша уступает. «Фрицы, сколько вас там?» И фрицы отвечают, скрадывая «р» на немецкий лад: «Четыге! Четвего? (с ударением на „о“)». – «Лезьте в мою машину. А лопаты, лопаты! Вот народ. Зачем вы мне нужны без лопат. То-то. Сели?» – «Сели». – «Сколько вас?» – «Четыге! Четвего». – «Поехали». Шоферша запевает, но через некоторое время обрывает песню и задумывается. «Ох, Васька, ну, Васька! Как же я ему фрицев без расписки отдала? Ну и Васька!» И вот Ираклий у цели. Прежняя хозяйка, та, у которой он жил в партизанском крае, ласково принимает его, кормит щами. Несколько портит дело то, что она рассказывает подробно о болезни коровы, которую свели на бойню и мясо которой Ираклий ест. «Да что ты, батюшка, скривился? А в городе что ешь? Кто здоровую корову забьет?» И так далее. Целый час мы путешествовали по Калининской области 46 года, видели множество людей. И чувствовали время. И восхищались, и удивлялись.
1 сентября
Алигер Маргарита Осиповна, худенькая, глаза напоминают коринку… Внушает уважение спокойная манера держаться, тихий голос. И неожиданный юмор. На съезде поэтессы говорили умнее и лучше поэтов. Алигер в том числе. Она много думала. Понимает суть дела. Большая семья: две девочки, мать. Живет тихо. Вернее, замкнуто. Та же связанность, замкнутость иной раз чувствуется в ее стихах. Изуродована одиночеством, свирепыми погромами в Союзе писателей. Одна из тех немногих женщин, что являются главой семьи. Безмолвно несет она все заботы и тягости. Противоположна одичавшим и озлобленным женщинам-одиночкам. Спасает талант. Но что у нее творится в душе, какие страсти ее терзают, какая тоска – не узнает никто и никогда. Ее тихий голос, черные глазки, прозаическое лицо с черными точками на кончике носа уводят в сторону. И стихи ничего не говорят и не скажут. Нельзя. Да и есть ли желание открывать то, что никто сейчас не высказывает?
3 сентября
Как надоел мне собственный голос. Все говорю, говорю, говорю сам с собой. Сначала радость от того, что я заговорил, заслоняла неестественность положения. А сейчас начинаю смущаться. А впрочем – продолжаю.
Габбе Тамара Григорьевна.[593] Назовешь это имя – и столько противоречивых чувств тебя парализует, что хоть молчи. С одной стороны – человек быстрый, острый, имеющий дар вдруг выразить ощущение. Например, стоим мы напротив кинематографа «Титан». На вывеске вспыхивает и гаснет стрелка, указывающая на название картины. И Габбе говорит: «Ужасно неприятно! Так же у меня дергало палец, когда он нарывал». В Филармонии увидели мы Каверина с палочкой. «Почему он с палочкой?» – спросил кто-то. И Габбе ответила: «Потому что у Тынянова нога болит». Получилось это действительно весело и смешно и определяло положение вещей в те давние, доисторические времена. Это с одной стороны. С другой же – ум ее, резко ограниченный и цепкий, все судил, всех судил и выносил окончательные приговоры, как это было принято в кругу Маршака. Приговоры самого Самуила Яковлевича носили отпечаток его библейского темперамента и оглашались в грозе и буре, в тумане и землетрясениях, и тень Шекспира появлялась при этом событии, и Блейка,[594] и Пушкина. Однажды я читал у Габбе свою пьесу «Телефонная трубка».[595] Это Олейников настоял. Из любопытства. Было что-то много народу – редакционного. Пили чай после чтения и обсуждали пьесу за чаем. И Габбе говорила и продолжала есть и пить. Нет, здесь и духа не было Библии – куда там. Жуя быстро и определенно по-заячьи, она говорила быстро, отчетливо и уверенно. Она знала, что такое сюжет. Она одна. Она знала, что такое характер. Она знала, какая сцена удалась, какая нет. Во всяком случае, была уверена в этом. Пожует, сделает глоточек и приговорит. А я, кроме удивления, ничего не испытывал. Резко ограниченный ум. Система, в которую уверовала она, когда училась. И полная несоизмеримость ее пунктирчика с предметом. Маршак был неясен, но понятен. Он намекал – и это было точно. А Габбе говорила точно, однако непонятно. Уверенность – вот ее бич. Она-то уж знает, что есть рассказ… Что сюжет. Что завязка. Что развязка.
4 сентября
Вечное несчастье вечных первых учеников.
Блокада. Раза два или три вызывал меня Маршак на городскую телефонную станцию. Я шел по городу, как будто заболевшему, – ему не до прохожих. Окна в белых крестах. Окна выбиты. Забитые витрины. Знакомый голос Маршака, беспокойный, на старый лад, что в новом, блокадном мире меня раздражало. Настолько раздражало, что он даже заметил, спросил однажды: «Ты что – сердишься?» Как мог я ответить, объяснить по телефону, что мы говорим из разных измерений? По его поручению заходил я к Габбе. И тут впервые разговаривал я с ней без всякого внутреннего протеста. Вражда, созданная демоническим духом Олейникова, следы той невидимой серной кислоты, которой уродовал он окружающих незаметно для них самих, изгладились до этих блокадных дней… А теперь, в блокадном мире, узнал я совсем новую Габбе. Душа ее, в обычные дни сжатая в кулачок, готовая к нападению, теперь как бы раскрылась. Была Тамара Григорьевна сосредоточена, а не сжата, и говорила так, как подобает в том мире, куда привела нас судьба, как бы заново увидев все. По деятельной натуре своей не могла она просто терпеть и ждать. Нашла себе работу – читала детям в бомбоубежище. И рассказывала, как заново услышала то, что читает. Одно годилось, другое – не переносило испытания. И новый этот взгляд на вещи был убедителен. И начисто лишен ученической уверенности. И в Москве в 43 году я рад был встрече с нею. И опять говорили мы дружески. Но постепенно все вернулось на свое место. С людьми сходишься или расходишься по причинам органическим, непреодолимым. Та новая Габбе, с тяжелыми временами раскрывшаяся, исчезла, когда жизнь вошла в колею. Снова разум ее словно бы обвели контуром, и душа ее сжалась в кулачок. И при встрече чувство внутреннего протеста вспыхивает во мне с новой силой.
13 сентября
Есть люди, чаще всего женщины, отдавшие себя целиком данному виду искусства и по-женски понимающие и прощающие его житейскую, для иных – отталкивающую сторону. Они знают – такова жизнь. Сейчас ребенок улыбается, а через миг безобразничает. В искусстве подобные женщины редко играют активную роль. Они вроде нянек, или повивальных бабок, или педагогов, или даже матерей. Не отдельных произведений, а людей. И так как не боги обжигают горшки, ставят спектакли, пишут пьесы, то роль подобных женщин гораздо значительнее, чем может показаться с первого взгляда. Софья Тихоновна Дунина принадлежит именно к этой благороднейшей человеческой породе. Премьера театра, судьба актера, пьесы или автора – для нее явление личной ее жизни. Она умна, жива. Всегда заведена, не распущена. Храбра. Владеет языком: говорит, что думает. Одних активно любит и помогает им любовно. Других активно не любит и храбро с ними сражается. Одно у нее не по-женски сильно: чувство справедливости. Все-таки она целиком отдала себя данному виду искусства – и тут она нелицеприятна. 1944 год. Театр комедии вернулся из Сталинабада в Москву. И показал «Подсвечник» Мюссе. В эвакуации, как выяснилось, меньше требуешь не только от бытовых условий: живешь где придется, ешь что дают, – но и от качества работы. Нам казалось в Сталинабаде, что спектакль очень хорош. А в Москве он выглядел убого. Я не сразу это заметил. Спрашиваю у Дуниной в антракте: «Ну, как?» И она отвечает с горечью, но решительно: «Очень плохо! Очень». Она любила и театр, и Акимова, но не было силы, которая могла бы принудить ее покривить душой. Она при необходимости храбро шла на защиту театра, но что плохо, то плохо. Это умение любить людей, понимать, как делается дело, а вместе с тем не забывать самое дело – редкая, не женская черта. Поэтому ее и уважали. Маленькая, темноглазая, решительная. Я мало знал ее личную жизнь. Но как явление – понимал и уважал со всей почтительностью и удивлением.
15 сентября
Крон Александр Александрович. Черноволос, черноглаз, отвечает на толчки внешнего мира как бы замедленно. Или осмотрительно. Он из материала благородного, но биографию имеет сложную. Кто поймет, как сложились благородные материалы, пока шагал Крон по бакинским и столичным малым и большим дорогам.
Он хороший человек, конечно, хороший, но не вывихнуто ли у него зрение, не затуманено ли сознание? Я несколько раз удивлялся тому, как, стараясь сохранять ясность и последовательность, он тратил душу на то, чтобы объяснить и оправдать необъяснимое.
Продолжаю о Кроне. Говорит он не спеша, обдумывая каждое слово. И всегда в конце концов в том, что он скажет, обнаруживаешь ты нечто живое, имеющее смысл. Недаром он создан из благородного материала. Но то, что пытался он объяснить и оправдать, увы, оставалось мертвым и не имеющим смысла. У него не было (или выветрилось, или вышибло из него) той неподкупной трезвости, что определяет художника большого масштаба. Он мог отвести самому себе глаза и оплести сам себя во имя той силы, которой с юных лет научился служить. В его «Кандидате партии» есть нечто более мучительное, чем в пьесах, откровенно лакирующих и упрощающих мир. Там, в откровенно плохих пьесах, действуют фигуры из дерева, картона, жести. А у Крона идет живой человек с фанерным туловищем или фанерная женщина с живыми глазами. Но он талантлив. И человек доброй воли. Поэтому в «Глубокой разведке» есть целые сцены с живыми людьми. И в последней пьесе. Сейчас он пишет роман.[596] Если перешагнет через себя, то напишет.
Если научится смотреть не через очки, которые напялило время на его здоровые глаза. Я с ним в условно хороших отношениях. Мне, как со знакомыми последних десяти – пятнадцати лет, неловко с ним. Очевидно, что-то изменилось и отвердело во мне. Новые друзья не приживаются, не принимаются. С Малюгиным мне ловко и удобно. В 41 году, да еще после блокады, – я мог еще ближе сходиться с людьми. А с Кроном я разговаривать не умею. Разве в последний год стало попроще.
16 сентября
Вчера – точнее, в ночь на сегодня – разговаривал я с Уваровой. Она звонила из Москвы. Рассказывала о первом спектакле «Обыкновенного чуда». Театр комедии гастролирует в Москве. Спектакль, видимо, прошел скорее благополучно, чем я и успокоен. Заметил окончательно, что моя холодность к судьбе моих пьес не притворная, но кажущаяся. Не слишком здоровая. Все результат слишком большого количества разных заглушающих друг друга чувств, вызывающих бессилие. Неясность. Но чуть заденет побольнее – все понимаешь. Если выругают или ты ждешь, что выругают. Когда хвалят – не веришь, по Шелковской сущности моей. Впрочем, через несколько часов начинает туман рассеиваться. И я успокаиваюсь – главное наслаждение. Одно чувство побеждает. Сегодня похвалили мою книжку в «Ленинградской правде»[597] .
23 сентября
Очень трудно писать мне в этой книжке. Изо всех сил тороплюсь кончить пьесу для Акимова.[598] А пропускать ни одного дня не хочу. Ясный и необыкновенно холодный сентябрь.
25 сентября
Дальше идет Образцов Сергей Владимирович, человек лимфатический, чуть обрюзгший, моложавый, светлый по отсутствию красящих веществ, с голосом разработанно приятным, с простотой, виртуозно отделанной и рассчитанной. Явление несомненно положительное. Но почему-то неловко мне смотреть в его глаза, светлые, с веками чуть покрасневшими. Я любил, влюблен был в некоторые его спектакли: «Король-олень», «Лампа Аладдина»[599] . Мне казалось, что это небывалое в театре обыкновенного вида явление, – человек показывает самое лучшее, самое артистичное в нем независимо от своих внешних данных. Отвлекаясь от них с почти математической чистотой. Только то, что требуется. Когда вместо великолепных по своей выразительности кукол появлялись раскланиваться кукловоды, артисты как артисты, – ты это понимал.
26 сентября
Понимал эту прекраснейшую особенность кукольного театра. Из миллионов жителей Москвы набралось полтора-два десятка людей, любящих театр до потери уверенности в том, достоин ли ты подойти к нему. Имеющих страх божий. Кукольный театр представлялся им более доступным. И, войдя в него, они полюбили и почувствовали дело с истинно монашеской ревностью. Вплоть до склонности отрицать театры другого вида.
И это являлось второй особенностью образцовскогр театра. Этот дух передавался – хотел написать: молящимся. Зрители в театре кукол на площади Маяковского всегда несколько возбуждены, доверчивы, щеки горят – праздник да и только. Всегда в первых рядах знатные посетители, то египетская принцесса, то немецкие министры, то французские актеры. Вот какое пламя раздул Образцов и ведет своих монахов неуклонно и усердно по тому пути, что они избрали. Это далеко не просто. Как и во всяких монастырях, послушание послушанием, но по ревности своей склонны монахи сомневаться в чужой святости. Поэтому-то святоотеческие книги требуют послушания без обсуждения, полного, безоговорочного. И повторяют это едва ли не на каждой странице. В театре это невозможно, и поэтому образцовские актеры непрерывно вглядываются в образцовские работы и очень часто вступают с ним в пререкания на высоком уровне. Все это хорошо показывает, что в театре идет богатая духовная жизнь. И Образцов в этих спорах выступает как первый среди равных – только как один из участников, пусть самый сильный, единого коллектива. Он не применяет никаких административных мер. А так как голова у него отлично разработанная, он побеждает в большинстве случаев.
27 сентября
При первом же знакомстве он очень красноречиво и упорно стал доказывать, что классиков изучают с детьми, забывая, что это произведения для взрослых. Это детей портит. В «Обломове» очень ясна сексуальная линия. И такие книги следует давать уже взрослым людям. Зная, как сильна сексуальная линия в детях, без всякой вины классиков, какие неслыханно бесстыдные разговоры ведутся в классах, начиная с самых младших, более того, особенно в младших, я спокойно принял эту мысль Образцова. Мне показалось только, что в запале, с которым он говорил, есть что-то личное и где-то тут есть один из ключей к одной из комнат его души. Позднее я понял и еще одно: как у всех многодумающих людей, мысль об «Обломове» была у него одной из многих, овладевающих им на некоторое время. Но я встретился именно с этой педагогической, добродетельной, лимфатической, и ощущение от этой первой его мысли осталось. Познакомился я и с Ольгой Александровной, женой его, артисткой. Она ушла со сцены, аккомпанировала мужу в его концертах. Черненькая, худенькая, отчетливая, она полна энергии, переводит с французского, с английского, ведет дом, все ищет себе собственного дела. Не слишком добра. С первых же дней удивил, приятно удивил меня Образцов своей внутренней воспитанностью. Он позвонил, что в Москве, – зайдет в гостиницу. Приведет к себе. И всегда полон какой-нибудь мыслью, словно открытием. Квартира его несколько походила на музей. И сколько мы ни были знакомы – она все усложнялась, обогащалась. Относился к ней Образцов творчески: приедешь один раз – мебель переставлена; появилось множество заводных кукол – например, целый обезьяний оркестр играет в стеклянном футляре. И дирижер даже шевелит своей замшевой верхней губой, показывая зубы. Рядом искусственные птички вертят хвостиками, поют на искусственном деревце. Кукушки выскакивают и кукуют из деревянной дверцы на часах в виде домика. Сейчас автоматики отошли на задний план: главное увлечение Образцова – аквариумы с удивительными, невиданными рыбами.
28 сентября
Я знаю об этих чудесах только по рассказам. Живут там рыбы прозрачные, со светящимся спинным хребтом, и с веерообразными хвостами, и золотые. Только непонятно, когда Образцов смотрит на них, – он один из самых занятых людей в Москве. Он и ставит в своем театре, и руководит им, и выступает в концертах, и представительствует как человек знатный, и участвует в Международном комитете борьбы за мир, и ездит за границу, и пишет об этом книжки. Особенно сейчас[600] . Жизнь его похожа стала на осенний лес в ясную погоду – столько там богатства, что в первое время ты ошеломлен и покорен.
Кончил новый вариант «Первого года», или «Молодых супругов», для Акимова. Сегодня отдал в перепечатку последний акт. Ощущение смутное. С этим сочинением связаны у меня одни неприятности. Был в Театре комедии, разговаривал о московских гастролях. Они в полном восторге, а у меня все какие-то шелковские тени на душе. Да еще собираются праздновать мой юбилей[601] . Тоже осенняя обманчивая игра красок.
7 октября
Рысс, Женя Рысс, которого я увидел впервые мальчиком удивительной красоты, а теперь встречаю сильно зрелым мужчиной, сильно облысевшим и обрюзгшим, но уберегшим все то же ласковое выражение прекрасных глаз, ох, трудный предмет для описания. И прежде всего потому, что я его очень люблю. Он из тех друзей, которых встречаешь не так часто, но знаешь твердо – это друзья. Что при встречах, когда жизнь сведет, – подтверждается. В дни блокады Женя переселился к нам. Был он еще худощав. Носил военную форму – работал в ТАССе. Сапоги выдали ему нескладные, пудовые, но, уходя утром, на рассвете, на фронт – туда ходили пешком, – Женя ухитрялся ступать так тихо, что мы и не просыпались. И каждый вечер слышали мы грохот его сапожищ у дверей. Он возвращался, к моей радости. Я почему-то не верил, что его могут ранить или убить. Опасность грозила со всех сторон, и фронт не представлялся более страшным, чем дом. Я радовался, что дела его не задержали.
8 октября
Жизнь шла на военный лад: тускло, приглушенно, и никаких не было надежд, что станет легче. Нет, становилось темней с каждым днем. А появлялся Женя – и становилось светлей. Он рассказывает хорошо, без претензий и всегда правдиво, как и подобает человеку, занимающемуся литературой. Его задело – и он отвечает. Его интересует самый мир. Потом уже, когда пишет, переиначивает и меняет освещение, но рассказывает о материале чисто. В этом честолюбие – рассказать как было. И Женя обладает этим свойством в тем более высокой степени, что он лентяй. Рассказы устные облегчают, подменяют у него необходимость писать. И в те дни я ужасно радовался его рассказам. Как единственному празднику. Я как будто вырывался из однообразия блокады. Мы дали обещание друг другу: если переживем и встретимся снова в Ленинграде, то устроим роскошный обед. Без еды нам праздник в те дни не представлялся возможным. И вот через четыре года все кончилось, все пришло к такому положению, о котором мы мечтали.
14 октября
Читаю статьи Блока. Через непонятную сегодня речь, сквозь значительность, ключ к которой утерян, вдруг ясность, и простота, и пророческие предчувствия. Не всегда отчетливые, но ведь пророк не гадалка, он не врет, а переводит с такого языка, на котором нет слов, в нашем представлении. И серьезность, которая мне, увы, не была дана. Я все, как в реальном училище, убегаю с уроков… Всегда я работаю, силой усаживая себя за стол, будто репетитор свой собственный. И написал то, что написал, только благодаря некоторому дару импровизации. Это, как ни рассматривай, – второстепенный дар. У меня нет или почти нет черновиков. Особенно в двадцатые, тридцатые годы. «Клад» написал в три дня. В более поздние годы, когда задачи стал я себе ставить посложнее, пошло дело медленнее. И то не слишком. Да, первый акт «Медведя» написал я в 44 году, а последний – в 54-м. Но я попросту бросал работу. Напишу первый акт – и брошу. Напишу второй – и несколько лет молчу. Правда, писал я, когда хочется. Меня долго мучило утверждение Толстого, что писать надо, когда не можешь не писать[602] . Я чувствовал себя виноватым, когда не пишу, но как будто болезнь какая-то мешала мне писать или проклятье. Но я мог не писать, раз не писал подолгу! Потом утешало меня следующее: я встретил множество людей, которые не могут не писать, не могут не играть, – и не писатели они и не актеры. Следовательно, в насилии над собой нет греха. Сколько людей – столько и способов себя сделать работником. Высказать себя. Впрочем, именно сейчас, когда виден потолок, я особенно отчетливо понимаю, что сделано непростительно мало, и обвинять в этом некого. …Писать следует тоньше, если хочешь ты, наконец, писать для взрослых. У меня вдруг появляется отвращение к сюжету, едва я оставляю сказку и начинаю пробовать писать с натуры.
17 октября
Сегодня зовут меня в ТЮЗ, поздравлять с юбилеем.
18 октября
Вчера были в ТЮЗе. Такси нашли раньше, чем предполагали, и поэтому решили сначала проехаться по набережной, по Невскому и только потом на Моховую.
Небо было ясное, чуть затуманенное, а над рекой туман стоял гуще, так что Ростральные колонны и Биржа едва проглядывали. Солнце, перерезанное черной тучей, опускалось в туман. Смотреть на него было легко – туман смягчал. Все, что ниже солнца, горело малиновым, приглушенным огнем. Я старался припомнить прошлое, но настоящее, хоть и приглушенное, казалось значительным, подсказывающим, не хотелось вспоминать. И Невский показался новым, хоть и знакомым. И тут мне еще яснее послышалось, что молодость молодостью, а настоящее, как ты его ни понижай, значительнее. И выросло из прошлого, так что и то никуда не делось, как дома и нового, и глубоко знакомого Невского проспекта. Впрочем, сегодня, в рассказе, это получается яснее, вчера я только едва-едва, как в тумане, не называя, угадывал то, о чем говорю. Мешали еще и мелкие заботы. Что будет в ТЮЗе? Не приехать бы слишком рано. Не опоздать бы. Но общее ощущение значительности не оставляло. Против ТЮЗа чинят мостовую, так что выйти нам пришлось у глазной больницы, что меня огорчило. Вспомнил, как в 38 году ходил сюда навещать внезапно ослепшего отца… В ТЮЗ идти было все еще рано. Небо совсем прояснилось, воздух после машины казался чистым. И мы пошли не спеша, гуляя по Моховой. К театру уже вели зрителей, все больше третьеклассников. Они были опьянены предстоящим. Одна девочка от избытка чувств крикнула мне: «В ТЮЗ идем!» И легко перенесла замечание педагога. И вот ровно в назначенное время, без четверти шесть, вошли мы в новый сегодня и столько лет знакомый вестибюль театра. Натан[603] – ныне директор ТЮЗа – уже нас ждал. В кабинете его вручили нам пригласительные билеты. Появлялись актеры то один, то другой – поздравить.
19 октября
Когда пришло время, взяли меня под руки две актрисы, отчего почувствовал я себя не то взятым под стражу, не то инвалидом, и, путаясь под ногами, повели. Перед полукругом тюзовской сценической площадки стояло кресло и микрофон – радио прислало сотрудников записывать мою встречу с детьми. Оркестр играл песенку Иванушки из «Двух кленов». Ребята аплодировали нашему появлению сначала бурно, а потом, услышав музыку, – в такт, подчиняясь оркестру. Макарьев легенький, сухенький, очень моложавый – никак ему не дать шестидесяти четырех лет, улыбаясь мудрой и педагогической улыбкой, начал речь. Она вся была построена на музыкальных цитатах. Первая – песенка Иванушки: «Я Иван Великан». И Макарьев назвал меня великаном. Потом оркестр сыграл музыку к «Кладу», которую я не узнал. И Макарьев назвал меня кладом. Я стоял и слушал с твердым ощущением, что это ко мне не относится. Знакомый театр не вызывал воспоминаний, но и чувство реальности происходящего, чувство настоящего – тоже затуманилось. Кончив приветствие, сохраняя все ту же улыбку, стал Макарьев вызывать представителей разных школ. И вот пошли делегации: по одному, по двое, по трое. Девочки и мальчики в формах, в пионерских галстуках. По мере приближения ко мне и микрофону лица их принимали выражение все более испуганное и напряженное, смотрели они не на меня, а прямо в тупое рыльце микрофона. И произносили свои приветствия. И дарили либо цветы, либо адрес. Четыре девочки вышли без всякого подарка. Три из них, по очереди, произнесли свое приветствие, а четвертая таким же торжественным голосом, как подруги, возгласила: «Евгений Львович! Мы приготовили Вам подарок и оставили в пионерской комнате, а ее заперли, и ключа мы не могли найти…» Ей не дали договорить аплодисменты и восторженный хохот слушателей. Потом я отвечал на приветствия. Потом тюзовская художница – это уже за кулисами – попросила, чтобы я посидел десять минут. Ей нужен мой портрет. И я стал позировать.
20 октября
Сегодня продолжаются юбилейные поздравления, всё несут и несут телеграммы.[604] Я с детства считал день своего рождения особенным, и все в доме поддерживали меня в этом убеждении. Так я и привык думать. И сегодня мне трудно взглянуть на дело трезво. Труднее, чем я предполагал.
21 октября
Юбилей вчера состоялся.[605] Все прошло более или менее благополучно, мои предчувствия как будто не имели основания. Тем не менее на душе чувство неловкости. Юбилей – обряд (или парад) грубоватый.
25 октября
А потом пошли юбилейные дни. Напоминали они и что-то страшное, словно открыли дверь в дом и всем можно входить, и праздничное. Нечто подобное пережил я, когда сидел в самолете, проделывающем мертвые петли. Ни радости, ни страха, а только растерянность – я ничего подобного не переживал прежде. И спокойствие. Впрочем, все были со мною осторожны и старались, чтобы все происходило неказенно, так что я даже и не почувствовал протеста. И банкет прошел почти весело. Для меня, непьющего. Несколько слов, сказанных Зощенко, вдруг меня примирили со всем происходящим.[606] На другой день обедали у меня Каверины, Чуковские, Лева Зильбер.[607] На третий – ужинали Шток, Дрейдены, Надя Кошеверова. Сейчас потихоньку прихожу в себя. Юбилей – обряд грубый.
26 октября
И хочешь не хочешь, двери твоего дома открываются, и я до сих пор что-то в этом празднике ощущаю не то что как насилие, не то что как оскорбление, но близкое к этому. Когда кричат: «Качать его! Ура», – то наименьшее удовольствие получает тот, кого качают… Перебирая жизнь, вижу теперь, что всегда я бывал счастлив неопределенно. Кроме тех лет, когда встретился с Катюшей. А так – все ожидание счастья и «бессмысленная радость бытия, не то предчувствие, не то воспоминанье». Я никогда не мог просто брать, мне надо было непременно что-нибудь за это отдать. А жизнь определенна. Ожидания, предчувствия, угадывание смысла иногда представляются мне просто позорными. Вчера на студии, впрочем, испытал я некоторое удовлетворение, увидев, какие силы пущены в ход для того, чтобы сценарий, написанный мной именно благодаря тем душевным особенностям, на которые я жалуюсь, – реализовать.[608] И горят рефлекторы.
И дым валит из какого-то цилиндрического прибора, тоже извергающего световой столб, прямо и бесповоротно в лицо актеру. И едет по рельсам аппарат, на котором, припав глазами к окошечку, стоит на четвереньках свирепый и определенный Москвин. И огромная фабричная труба возвышается над корпусом, вставшим против пятого ателье. И там, за окнами, ревут машины. Можно подумать, что здесь производят товар. Ленты. На самом же деле пытаются реализовать те неопределимые ценности, без которых вся фабрика превращается в бессмыслицу. Так я утешался вчера, шагая с Козинцевым в просмотровый зал. И в зале то приходил в отчаянье, когда все получалось грубо, то радовался, когда что-то пробивалось.
9 ноября
Был сейчас на студии. Дон Кихот в спальне. Второе ателье. Новое. Черкасов ползает по полу, ищет иголку. Москвин кричит: «Включите раздолбайчик. Камарилья, поверни рукоятку на двадцать оборотов». Все знакомо. Павильон только что построен. Моют пол. Герцогский дворец. Среди других вещей – настоящий аналой XVI века, взятый откуда-то из музея. Козинцев измучен. Жалуется, что веко на одном глазу закрывается само собой. Но работает упорно, не жалея себя. Все работают. Москвин, не разгибаясь, глядит в аппарат и командует. Возле буфета сильный, наводящий тоску запах постного масла и лука. Тут же толпятся какие-то существа в золотых кафтанах и чалмах. Кто-то в мантии. Лица, мертвые от фиолетового грима. Работа в кино требует многих усилий, людей не хватает, но в коридорах вечно болтаются и болтают люди. Смотреть на них скучно. Запах лука и постного масла и с них, словно химический состав, снимает всякое подобие окраски… После вчерашнего посещения студентов у меня осталось ощущение какого-то открытия. Не в них и не во мне. А в том ясном мире, который я, рассказывая, видел и вижу до сих пор. Тянет написать что-то очень простое. Форму я чувствую. Вопрос – о чем, из того, что накоплено, рассказывать. Вот опять заговорил о себе. О чем же писать? О вечных и тщетных попытках сохранить чистый белый балахон?
14 ноября
Вчера по телевизору была передача обо мне. «Мастер театральной сказки». Я ждал худшего. Говорили Цимбал, Акимов, Зон, Мишка Шапиро. Показали один акт из «Снежной королевы», отрывки из «Золушки» и «Первоклассницы» и один акт «Обыкновенного чуда». Был пролог и эпилог с действующими лицами из моих пьес и сценариев – вот этого я и боялся. Но и это сошло. Было не слишком радостно, не столько лестно, сколько неудобно, но обошлось.
Вчера днем был на студии. Построен герцогский дворец – огромный зал. Идет освоение. Появляется не спеша Вертинская[609] – странное существо: стройная, неестественно худенькая в своем черном бархатном платье. Лицо удлиненное, длинные раскосые зелено-серые глаза, недоброе надменное выражение. Герцогини, выросшие во дворцах, должны быть именно такими – и привлекательными, и отравленными. Альтисидора[610] добродушнее и юнее, но так же тонка и так же поражает ее тоненькая талия и бархатное платье. Мальчик паж стоит, откинув назад свою крупную голову. Лицо с тонкими чертами, черные глаза. Тонкие руки конвульсивно вздрагивают. Ему дали подержать живую обезьяну, и с ним едва не случился припадок от ужаса и отвращения. Держит обезьяну другой подросток, повыше и попроще. Толстая макака внимательно и просто поглядывает на окружающих, берет с ладони герцогини виноград. Но едва та пробует погладить маленькую голову зверька, макака открывает угрожающе пасть. И возле нее вырастает хозяин, грубиян с пропитой мордой. «Ну ты, корова!» – кричит он и дает обезьяне пощечину. И та смущенно замирает, ссутулившись. И недоброе лицо Вертинской вдруг делается добрым, и, протянув обе руки, она просит: «Не бейте, уж лучше я ее не буду гладить».
7 декабря
Начиная с весны [1937 года] разразилась гроза и пошла все кругом крушить, и невозможно было понять, кого убьет следующий удар молнии. И никто не убегал и не прятался. Человек, знающий за собой вину, понимает, как вести себя: уголовник добывает подложный паспорт, бежит в другой город. А будущие враги народа, не двигаясь, ждали удара страшной антихристовой печати. Они чуяли кровь, как быки на бойне, чуяли, что печать «враг народа» пришибает без отбора, любого, – и стояли на месте, покорно, как быки, подставляя голову. Как бежать, не зная за собой вины? Как держаться на допросах? И люди гибли, как в бреду, признаваясь в неслыханных преступлениях: в шпионаже, в диверсиях, в терроре, во вредительстве. И исчезали без следа, а за ними высылали жен и детей, целые семьи. Нет, этого еще никто не переживал за всю свою жизнь, никто не засыпал и не просыпался с чувством невиданной, ни на что не похожей беды, обрушившейся на страну. Нет ничего более косного, чем быт. Мы жили внешне как прежде. Устраивались вечера в Доме писателя. Мы ели и пили. И смеялись. По рабскому положению смеялись и над бедой всеобщей, – а что мы еще могли сделать? Любовь оставалась любовью, жизнь – жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом. И угрозой позора. Наш Котов совсем замер, будто часовой на карауле при арестованных или обреченных аресту, – в конце концов, разница была только в сроках. Он отворачивался при встречах, словно боясь унизить себя общением с жильцами-врагами. Мыслил только в одном направлении. Борисов[611] пришел жаловаться, что сыновья одной писательницы до трех часов ночи танцуют под патефон, не дают ни работать, ни спать. Котов его выслушал угрюмо и ответил: «Ничего политического я в этом не нахожу».
8 декабря
Затем пронеслись зловещие слухи о том, что замерший в суровости своей комендант надстройки тайно собрал домработниц и объяснил им, какую опасность для государства представляют их наниматели. Тем, кто успешно разоблачит врагов, обещал Котов будто бы постоянную прописку и комнату в освободившейся квартире. Было это или не было, но все домработницы передавали друг другу историю о счастливицах, уже получивших за свои заслуги жилплощадь. И каждый день узнавали мы об исчезновении то кого-нибудь из городского начальства, то кого-нибудь из соседей или знакомых. Однажды, в начале июля, вышли мы из кино «Колосс» на Манежной площади. Встретили Олейникова. Он только что вернулся с юга. Был Николай Макарович озабочен, не слишком приветлив, но согласился тем не менее поехать с нами на дачу в Разлив, где мы тогда жили. Литфондовская машина – их в те годы давали писателям в пользование с часовой оплатой – ждала нас у кино. В пути Олейников оживился, но больше, кажется, по привычке. Какая-то мысль преследовала его. В Разливе рассказал он, что встретил Брыкина[612], который выразил крайнее сожаление по поводу того, что не был Олейников на последнем партийном собрании. И сказал, чтобы Олейников зашел к нему, Брыкину. Зачем? Я, спасаясь от ставшей уже привычной тревоги за остатками беспечности былых дней, стал убеждать Николая Макаровича, что этот разговор ничего не значит. Оба мы чувствовали, что от Брыкина хороших новостей нельзя ждать. Что есть в этом приглашении нечто зловещее. Но в какой-то степени удалось отмахнуться от злобы, нет, от бессмысленной ярости сегодняшнего дня. Лето, ясный день, жаркий не по-ленинградски, – все уводило к первым донбасским дням нашего знакомства, к тому недолгому времени, когда мы и в самом деле были друзьями. Уводило, но не могло увести. Слишком многое встало с тех пор между нами, слишком изменились мы оба. В особенности Николай Макарович. А главное – умерло спокойствие донбасских дней. Мы шли к нашей даче и увидели по дороге мальчика на балконе. Он читал книжку, как читают в этом возрасте, весь уйдя в чтение.
9 декабря
Он читал и смеялся, и Олейников с умилением и завистью показал мне на него. Были мы с Николаем Макаровичем до крайности разными людьми. И он, бывало, отводил душу, глумясь надо мной с наслаждением, чаще за глаза, что, впрочем, в том тесном кругу, где мы были зажаты, так или иначе становилось мне известным. А вместе с тем – во многом оставались мы близкими, воспитанные одним временем. Нас восхищали такие разные писатели, как Чехов, Брет Гарт, Хлебников, Гамсун (Хлебникова понимал Николай Макарович гораздо лучше, чем я). Для нас были как бы событием личной жизни фильмы «Парижанка»[613] или «Под крышами Парижа»[614] . Я знал особое, печальное, влюбленное выражение, когда что-то его трогало до глубины. Сожаление о чем-то, поневоле брошенном. И если нас отталкивало часто друг от друга, то бывали случаи полного понимания, – впрочем, чем ближе к концу, тем реже. И такое полное понимание вспыхнуло на миг,. когда показал Николай Макарович на мальчика, читающего веселую книгу. Потерянный рай – и ад, смрад которого вот-вот настигнет. Но погода стояла жаркая, южная, и опять на какое-то время удалось отвернуться от жизни сегодняшней и почувствовать тень вчерашней. Тогда помидоры были редкостью в Ленинграде. Нам удалось купить на рынке привозных. Это еще больше напомнило юг. Но ни в одной лавке в Разливе не нашлось подсолнечного масла. Тогда мы пошли пешком в Сестрорецк. Еще вечером сообщил Олейников: «Мне нужно тебе что-то рассказать». Но не рассказывал. За тенью прежней дружбы, за вспышками понимания не появлялось настоящей близости. Я стал ему настолько чуждым, что никак он не мог сказать то, что собирался. Погуляли мы по Сестрорецку, прошлись по насыпи в Дубках к морю. Достали в магазине подсолнечного масла. Вернулись домой в Разлив. Вечером проводил я его на станцию. И тут он начал: «Вот что я хотел тебе сказать…» Потом запнулся. И вдруг сообщил общеизвестную историю о домработницах и Котове.
10 декабря
Я удивился. История эта была давно и широко известна. Почему Николай Макарович вдруг решил заговорить о ней после столь длительных подходов, запнувшись. Я сказал, что все это знаю. «Но это правда!» – ответил Николай Макарович. «Уверяю тебя, что все так и было, как рассказывают». И я почувствовал с безошибочной ясностью, что Николай Макарович хотел поговорить о чем-то другом, да язык не повернулся. О чем? О том, что уверен в своей гибели и, как все, не может двинуться с места, ждет? О том, что делать? О семье? О том, как вести себя – там? Никогда не узнать. Подошел поезд, и мы расстались навсегда. Увидел я в последний раз в окне вагона человека, так много значившего в моей жизни, столько мне давшего и столько отравившего. Через два-три дня узнал я, что Николай Макарович арестован. К этому времени воцарилась во всей стране чума. Как еще назвать бедствие, поразившее нас. От семей репрессированных шарахались, как от зачумленных. Да и они вскоре исчезали, пораженные той же страшной заразой. Ночью по песчаным, трудным для проезда улицам Разлива медленно пробирались, как чумные повозки за трупами, машины из города за местными и приезжими жителями, забирать их туда, откуда не возвращаются. На первом же заседании правления меня потребовали к ответу. Я должен был ответить за свои связи с врагом народа. Единственно, что я сказал: «Олейников был человеком скрытным. То, что он оказался врагом народа, для меня полная неожиданность». После этого спрашивали меня, как я с ним подружился. Где. И так далее. Так как ничего порочащего Олейникова тут не обнаружилось, то наивный Зельцер,[615] драматург, желая помочь моей неопытности, подсказал: «Ты, Женя, расскажи, как он вредил в кино, почему ваши картины не имели успеха». Но и тут я ответил, что успех или неуспех в кино невозможно объяснить вредительством. Я стоял у тощеньких колонн гостиной рококо, испытывая отвращение и ужас, но чувствуя, что не могу выступить против Олейникова, хоть умри.
11 декабря
После страшных этих дней чувство чумы, гибели, ядовитости самого воздуха, окружающего нас, еще сгустилось. Мой допрос на заседании правления кончился ничем. Тогдашний секретарь наш потребовал, чтобы я написал на имя секретариата Союза заявление, в котором ответил бы на те вопросы, что мне задавали. Но и в этом заявлении я не прибавил ничего к тому, что с меня требовали. Никогда я не думал, что хватит у меня спокойствия заглянуть в те убийственные дни, но вот заглядываю. После исчезновения Олейникова, после допроса на собрании, ожидание занесенного надо мной удара все крепло. Мы в Разливе ложились спать умышленно поздно. Почему-то казалось особенно позорным стоять перед посланцами судьбы в одном белье и натягивать штаны у них на глазах. Перед тем, как лечь, выходил я на улицу. Ночи еще светлые. По главной улице, буксуя и гудя, ползут чумные колесницы. Вот одна замирает на перекрестке, будто почуяв добычу, размышляет, – не свернуть ли? И я, не знающий за собой никакой вины, стою и жду, как на бойне, именно в силу невинности своей. В город переехали мы довольно рано. И тут продолжалось все го же. Да, Катина болезнь ушла из нашей жизни, но легче не стало. В 38 году исчез Заболоцкий.
19 декабря
Кончается съемка «Дон Кихота». Вчера Козинцев решил показать картину в приблизительно смонтированном состоянии работникам цехов – осветителям, монтерам, портнихам. Полный зал. Утомленные или как запертые лица. Как запертые ворота. Старушки в платочках. Парни в ватниках. Я шел спокойно, а увидев даже не рядового зрителя, а такого, который и в кино не бывает, испугался. Девицы, ошеломленные собственной своей судьбой женской до того, что на их здоровенных лицах застыло выражение тупой боли. Девицы развязные, твердо решившие, что своего не упустят, – у этих лица смеющиеся нарочно, без особого желания, веселье как униформа. Пожилые люди, для которых и работа не радость и отдых не сахар. Я в смятении.
Как много на свете чужих людей Тебя это не тревожит на улице и в дачном поезде, но тут, в зале, где мы будем перед ними как бы разоблачаться – вот какие мы в работе, судите нас! – тут становится жутко и стыдно. Однако отступление невозможно. Козинцев выходит, становится перед зрителями, говорит несколько вступительных слов, и я угадываю, что и он в смятении. Но вот свет гаснет. На широком экране ставшие столь знакомыми за последние дни стены, покрытые черепицей крыши, острая скалистая вершина горы вдали – Ламанча, построенная в Коктебеле. Начинается действие, и незнакомые люди сливаются в близкое и понятное целое – в зрителей. Они смеются, заражая друг друга, кашляют, когда внимание рассеивается, кашляют все. Точнее, кашлянет один – и в разных углах зала, словно им напомнили, словно в ответ, кашлянут еще с десяток зрителей. Иногда притихнут и ты думаешь: «Поняли, о, милые!» Иногда засмеются вовсе некстати. Но самое главное чудо свершилось – исчезли чужие люди, в темноте сидели объединенные нашей работой зрители. Конечно, картина будет торжеством Толубеева. Пойдут восхвалять Черкасова по привычной дорожке. Совершенно справедливо оценят работу Козинцева. Мою работу вряд ли заметят. (Все это в случае успеха.) Но я чувствую себя ответственным наравне со всеми и испытываю удовольствие от того внимания, с которым смотрят на этом опасном просмотре, без музыки, с плохим звуком, приблизительно смонтированную картину. Черкасов, уже давший в заграничные газеты различные сообщения о своей работе, ведущий дневник, с тем, чтобы потом выпустить книгу «Как я создал роль Дон Кихота», после просмотра находится в необычном состоянии. Обычная его самоуверенность как бы тускнеет.
20 декабря
Вчера я был на выставке Пикассо и позавидовал свободе. Внутренней. Он делает то, что хочет. Та чистота, о которой мечтал Хармс. Пикассо не зависит даже от собственной школы, от собственных открытий, если они ему сегодня не нужны. Убедился, что содержание не ушло. Ушел сюжет. А содержание, которое не определить словами, осталось. Выставка вызвала необыкновенный шум в городе. У картин едва не дерутся. Доска, где вывешиваются отзывы, производит впечатление поля боя. «Ах, как хочется после этой выставки в Русский музей», – пишет один. «Ступай и усни там», – отвечает другой. И так далее и тому подобное.
29 декабря
Вчера произошло неожиданное событие – по радио объявили, в вечерних последних известиях, что мне дали орден Трудового Красного Знамени.[616] Звонил весь вечер телефон. Прибежали с поздравлениями соседи.
1957
1 января
Новый год встретили у Эйхенбаумов. Было, как всегда в последний год, не слишком весело. Интересней всех, как всегда, Шкловский. Он вспомнил о том, как сорок лет назад, в 16 году, встречали Новый год трое – он, Маяковский и Василий Каменский, который в тот вечер был интересней всех. Нападал на Маяковского за то, что тот «плетется в хвосте войны». «Мы чувствовали себя хозяевами… Нет, не хозяевами. Мы чувствовали себя ответственными за весь мир».
7 января
Стал читать Пруста[617] с обычным ощущением интереса и протеста. Прежде всего протест относился к переводу. Слово «монументальный» привычно для французского уха и невозможно, когда оно употребляется для описания церкви сельской, в окрестностях Бальбека. Невозможно точно перевести рассуждения Пруста о словах, которыми пользуется такой-то или такая-то, что определяет их как людей такого-то или такого-то вида. Это непереводимо, как стихи. Но, может быть, именно вследствие этого, вследствие того, что ряд чисто словесных вещей исчезал в переводе, на первое место выступали чисто человеческие чувства, о которых рассказывал Пруст. В его порочности, как и во всякой порочности, была одна черта, внушающая уважение, – правдивость. И то, что он с полным безразличием к значительности предмета, словно власть имеющий, стоящий по ту сторону добра и зла, описывал одинаково пристально все– и гостиные, и лесбиянок, и педерастов, и свою привязанность к бабушке, и суетность, и любовь к живописи. Все это было недоступно мне. Далеко, как далеко! Я никогда не любил ни одного французского писателя, испытывая к некоторым из них чисто рассудочное уважение. А Пруст еще и, казалось, переступает границы возможного, идет по дороге, которая никуда не может привести. Дальше уж надо не читать, а самому до конца пережить описываемое.
8 января
Впрочем, в подлинниках, может быть, все это усиливалось и сохранялось в пределах мастерством исполнения.
14 января
Приближался апрель – премьера «Тени»[618] . Акимов сердился. У нас разные, противоположные виды сознания. Свет, в котором видит он вещи, не отбрасывает тени. Как в полдень, когда небо в облаках. Все ясно, все видно и трезво. Свела нас жизнь, вероятно, именно поэтому. Он не слишком понимал, что ему делать с такой громоздкой пьесой. И по мужественному складу душевному обвинял в этом кого угодно, главным образом меня, только не себя. Незадолго до премьеры в Доме писателя устроили выездную генеральную репетицию. В те времена заведена была такая традиция. Прошел показ празднично на нашей маленькой эстраде. Показывали самые удачные кусочки спектакля. Всем все понравилось, все были веселы, потом, по тогдашнему обычаю, бесплатно выступавших актеров кормили ужином, писатели принимали их, как гостей. Говорил речь Лавренев. Все, казалось, будет хорошо, но все-таки я был не слишком уверен в успехе, но не слишком и беспокоился. Беспечность, идиотская, спасительная, заменявшая независимость и мужество, сопровождавшая меня всю жизнь, помогала и тут.
15 января
И вот состоялась генеральная репетиция в театре. Вечером. Первая генеральная. В отчаянье глядели мы, как ползет громоздкое чудовище через маленькую сцену театра, путаясь в монтировках, как всегда у Акимова сложных. Актеры словно помертвели. Ни одного живого слова! А на другой день на утренний просмотр пришла публика, и все словно чудом ожило. И пьеса имела успех, настоящий успех. Даже я, со своим идиотским недоверием к собственному счастью (такой же вечный спутник, как беспечность при неудаче), испытал покой. Полный радости покой. Я заметил, что Иван Иванович Соллертинский в антракте после второго акта что-то с жаром доказывает Эйхенбаумам. Соллертинский был человек острый, до отсутствия питательности. Приправа к собственным знаниям. Одаренный до гениальности. Говорили, что он знает двадцать два языка. И бесплодный. Сильный, гипнотизирующий своей силой до того, что его манера говорить, резко артикулируя, вставляя массу придаточных предложений, саркастически пародирующих неведомо кого и неведомо что, словно впечаталась в Шостаковича, его друга, и во всех музыкантов и музыковедов, связанных с ним. Он был тоже один из беспризорников или пижонов двадцатых годов, толстолицый, высокий, сутулый, обрюзгший, злой, и умный, и полностью лишенный веры во что бы то ни было. Уважающий только это свое право на неверие. Словечки его не забывались и повторялись. Я с ним был едва знаком, но отлично знал его.
16 января
Я ушел с премьеры, или просмотра, с ощущением праздника. Вечером в Доме писателя мы принимали Катаева. Он должен был читать свою новую пьесу «Домик». Во главе правления клуба в те времена стоял Герман. Приемы гостей проходили широко, и директор – молодой, злой, острый, самолюбивый Авербух проводил их с ненавистью, но и со всей энергией, на какую был способен. И они, как правило, удавались. Мы шли к машине через узкий наш двор. И до сих пор я помню острое ощущение покоя, удовлетворения – счастья и покоя, первого за много лет. В Доме писателя уселись мы за столом декоративным – глухари в перьях, нарезанная до половины семга посреди, и бутылки, и набор бокалов. Пьесу обсуждали за столом. И я спросил Акимова, что говорил о пьесе Соллертинский. «Ему не понравилось, – сказал Акимов. – Правда, он честно признался, что первого акта не видел. Пришел на второй. Но сказал, что, по его мнению, это Ибсен для бедных». Я терпеть не могу своей зависимости от людей – признак натуры слабой. Но, чего уж тут скрывать, чувство покоя и счастья словно кислотой выело в один миг с химической чистотой и быстротой. Я сразу понял то, что увидел на просмотре: сутулую фигуру Соллертинского, его большие щеки, смущение, с которым Эйхенбаум выслушивал его страстные тирады. Как было понять себя и свою работу и ее размеры в путаные и тесные времена? Я увидел одно вдруг, что выразитель мнения сильной группы, связанной с настоящим искусством, осудил меня. «Ибсен для бедных». А я так не любил Ибсена! И праздник кончился, и я отрезвел. Тем не менее спектакль пошел.
22 января
Вскоре после премьеры мы решили поехать в Детское Село. В те годы там, в бывшем особняке Алексея Николаевича Толстого, помещался первый Дом творчества нашего Союза. Мы получили большую комнату во втором этаже, окнами в сад. Жили там, когда мы приехали, Тынянов, Тихонов, Карасев[619], Герман, Матвеев[620], Марвич[621] . С тяжелым чувством спустился я, собираясь в Дом творчества, неся чемодан, усаживаясь в литфондовский М-1. Я почему-то боялся. Чего? Как всегда – принудительного ассортимента, общего стола. С каждым из отдыхающих был я в пристойных отношениях и только с Юрием Николаевичем – в хороших, но я чувствовал себя после нескольких часов на премьере не успокоенным, а вздернутым, выбитым из колеи. «Тень» после успеха первых дней шла неровно. И Акимов, с той же простотой и прямотой, с какой передал мне отзыв Соллертинского, сказал после спектакля, прошедшего вяло: «Я люблю пьесы, имеющие успех и у зрителей премьерных, и у массовых». И неприятнее всего – я не нашел что ответить ему, словно бы принял его упрек. Так называемая творческая близость моя с Театром комедии, или, что почти то же, с Акимовым, была не так уж проста и в сущности пока сводилась к тому, что другие театры меня совсем не принимали, Акимов же иной раз – упрямо, иной раз – переменчиво дрался за мои пьесы. «Приключения Гогенштауфена» ему самому не слишком нравились, но он упорно боролся за сказку «Принцесса и свинопас». «Наше гостеприимство» даже придумано было в сущности им.[622] Самый сюжет. Но он невзлюбил пьесу, когда на нее стали нападать. И я сам заявил, что беру ее из театра, когда Акимов добился разрешения Реперткома. И он легко согласился на мое отречение, хоть недавно дрался за нее со всем упорством, свойственным ему.
23 января
Итак, неспокойный, неуверенный, выбитый из колеи ехал я в Дом творчества писателей, то есть к людям не слишком близким, недостаточно близким, чтобы жить с ними под одной крышей. Машина бежала по Международному проспекту, тоже не слишком близкому, я, почему-то, не любил эту часть Ленинграда. Большой город состоит из нескольких, непохожих друг на друга. И роты Измайловского полка, проспект, Обводный канал кажутся мне совсем непохожими на тот Ленинград, в котором я обычно живу. А потом идут пустыри, и городские свалки, и невеселые плоские, с умирающими огородами пространства. Оживляют воображение каменные, тяжкие, монументоподобные верстовые столбы столетней давности. Поражают полным несоответствием с окрестной бедностью, скромностью. А вот гранитный, такой же монументоподобный, не то фонтан, не то резервуар, в который собирается вода родника. Деревеньки в пять-шесть домов, серые, деревянные, неизвестно почему дожившие до 1940 года. Людей в них не видать. Пулковская обсерватория с белым куполом, деревья и поворот к Детскому. Жизнь в Доме творчества оказалась проще, чем чудилось. Видимо, все побаивались друг друга – оказались очень уживчивыми. Только Тихонов, хохоча деревянным смехом и посасывая деревянную свою трубку, пытал бесконечными рассказами. Тынянов, которого пытал он на лестнице по пути в умывальную, слушал его, слушал и вдруг потерял сознание. Но и он, если ты никуда не спешил, казался иной раз занимательным, как отдел «Смесь» в приложении к «Ниве». Тут тебе и Кахетия, и Осетия, и Европа, и Средняя Азия. Вдруг в газетах появилось сообщение о взятии немцами Крита, о сплошных потоках транспортных самолетов, идущих двумя линиями, – одни туда, другие, разгрузившись, обратно с острова на базу. То же чувство, с каким я читал «Борьбу миров» Уэллса, охватило меня. Он первый угадал, что нам придется наблюдать не только судьбы людей или семей, а судьбы народов. Мы осторожно удивлялись.
24 января
Осторожно удивлялся и воспитанный на «Мире приключений» и «Вокруг света», обожающий сенсации и исключительные положения Тихонов. Он больше помалкивал, уже тогда чувствуя себя человеком государственным, но во всем его деревянном существе угадывалось то оживление, что охватывает любителя, увидевшего пожар в соседнем квартале. Но все-таки и он не мог не чувствовать, что какая-то рука готова взломать наш призрачный непрочный мир. Запах гари проникал в Дом творчества, сколько бы мы ни успокаивали себя, сколько бы ни рассказывал Тихонов о Кахетии и Хевсуретии.
25 января
С трудом уговорил я себя пойти в Екатерининский дворец и до сих пор этому рад. Каждая, даже ничтожная, перемена состояния причиняла мне боль, точнее – пугала возможностью боли. Но едва вошел я в огромные пространства дворцовых зал, как с удивлением убедился, что не испытываю принуждения, как часто в музеях. Этот дворец жил и, казалось, и не собирался умирать. И самое богатство и пышность не оскорбляли тут и не вызывали протеста. Напротив. Странная мысль поражала тебя: людей, властвовавших тут, великанов восемнадцатого века, спокойно веровавших в свое право жить именно так, трудно судить по законам нынешнего дня. В самом размахе чувствовалось нечто, переходящее за пределы обывательских суждений. Я вдруг как в подарок получил новое чувство, именно чувство, а не мысль, и обрадовался подарку. Этому дворцу, такому спокойному и уверенному в своей долговечности, оставалось жить всего только год с небольшим. Но мы и не подозревали об этом. Тревога, вспыхнувшая при чтении газет, ничем не поддерживалась. Пожар шел в соседнем квартале. И мы отвлекались ежедневно множеством мельчайших забот. И косностью нашего быта.
26 января
А некоторым и в самом деле было не до того. Не так начал. Одному из нас и в самом деле было не до того. Юрий Николаевич Тынянов чувствовал, что болезнь его безнадежная, все дальше уводит от жизни. Речь становилась заметно скандирующей. Без палки ходить он не мог. Сознание оставалось по-прежнему ясным. Но именно поэтому он замечал, как с каждым днем меняется его мир, как все выглядит по-новому для него. И как чувствует он бесповоротность движения прочь от мира. И как никто не хочет этого видеть, не может увидеть, кроме него. У меня есть карточка: Юрий Николаевич сидит на балкончике, выходящем в сад, вместе с женой. Леночка закрылась рукой, она не привела лицо в порядок, не желает сниматься. А Юрий Николаевич смотрит на фотографа, словно видит его по-новому, с новой своей дороги в первый раз, и спрашивает или укоряет взглядом за то, что никто не может понять, что с ним. Что он обречен. Хотел положить эту карточку сюда и не мог: в ней что-то роковое. А по своей карточке, снятой в саду Дома творчества, увидел, что деревья еще голые. Так и проступало все время в памяти. Очевидно, жили мы в Детском с середины апреля? Скоро в газете стали появляться заметки, а потом и статьи о предстоящей декаде ленинградского искусства в Москве. Везли туда и «Снежную королеву», и «Тень». В одной статье написали что-то лестное обо мне…[623] Вернувшись из Детского, поехали мы вскоре в Москву. Чуть не весь состав был занят оркестрантами, балеринами, актерами. Ехать было, как всегда, и весело, и беспокойно.
27 января
Весело и беспокойно было в гостинице «Москва», где получили мы номер высоко – кажется, на десятом этаже. Погода стояла ясная и теплая. В коридоре встречались все свои: вот проплывает Зарубина, все с той же прелестной улыбкой – уголки губ вверх, и все тот же нелепый, но упорный протест вызывает ее фигура. Так и хочется потребовать: похудейте же! А вот Гошева, тоненькая и молоденькая, с невозможно светлыми глазами, таинственная и поэтическая, страшно подойти, чтобы не омрачить впечатление. В «Тени» играет она едва ли не лучше всех.[624] Я видел, как на репетициях она сердилась и страдала, как медленно овладевала ролью. Как обижалась на Акимова – между ними было, как понял я много позже, нечто еще более сложное, чем отношения между режиссером и актрисой, которая собирается уйти из театра. А ее к этому времени уже звал к себе Немирович-Данченко. Однажды после какого-то замечания акимовского стояла она за колонной, сосредоточенная, вся занятая одной мыслью, таинственная и хрупкая, страшно разбить впечатление. Но я подошел. И она сказала: «Я думаю сейчас не о роли, а как справиться со змеями». И движением головы дала понять, что скрываются эти змеи в акимовском замечании, которого я и не понял. Проходит Тенин, квадратный, грубоватый и вместе с тем, где-то в глубине это едва-едва просвечивает, на особый лад томный, что поражает женщин. Сухаревская, и складная и нескладная, словно ушедшая в себя, что объясняется, впрочем, ее глуховатостью. Ей тесно в самой себе, она похожа на беспокойную гимназистку, которая не дает покоя учителям вопросами и правдолюбием. Ее все время кусает и жалит собственный талант. Ей мало только играть, ей хочется самой ставить, сочинять пьесы. Энергия – неразумная, внерассудочная. Форму приобретает, только когда Сухаревская играет. Я написал, что видел в коридоре Зарубину, а теперь не могу вспомнить – не путаю ли. Не тогда ли родилась Танюша у нее и в «Тени» играла Сухаревская?[625] Проходит Лецкий, полный сознания своей полноценности.
28 января
Заходит Суханов, таинственно улыбающийся. Он спорит против того, что нравится всем, и защищает то, что все ругают, от неудержимого желания занять самостоятельную позицию. Это натура мужественная, склонная к действию, но до крайности сложная. Шагу не сделает он прямо еще и потому, что при настоятельной потребности идти цели он себе не представляет. Пробегает Акимов, который обращает на тебя внимание, когда ты ему нужен, и с детской простотой просто не видит тебя, если не нужен. Зон с готовой улыбкой, стройный до излишества, жених женихом, откинув голову, спешит на спектакль без малейшего сомнения в предстоящем успехе. Во всяком случае, встречным так кажется. Новый ТЮЗ гастролировал в помещении филиала МХАТа, в бывшем Коршевском театре. Я мало знал это театральное помещение. Вышло так, что в студенческие годы я ни разу там не был. Кирпичное здание со ступеньками во всю длину вестибюля. Темно. Рано собравшиеся актеры сидят во дворике у актерского входа. Ощущение домашнее, провинциального театра. Успех «Снежной королевы» меня не столько радует, сколько вызывает смутное чувство вины, как всегда, когда хвалят твою старую вещь. Теплая погода сменяется внезапным похолоданием. Небо ясное, угрожающей темной синевы, и ледяной ветер. И вот приходит, наконец, вечер премьеры «Тени».[626] Мы идем в Малый театр, когда совсем еще светло. Переходим дорогу у сквера против Большого театра (чего с тех пор я никогда не делаю). Тень впервые играет Гарин. Первый акт проходит с успехом. В директорском кабинете знатные гости. Среди них глубоко неприятный мне Немирович-Данченко. Неприятен он мне надменностью, которой сам не замечает, – слава его так обработала. Неприятен бородкой, которую поглаживает знаменитым жестом – кистью руки от шеи к подбородку. Неприятен пьесой его, которую я прочел случайно, – кажется, «В мечтах»[627], где он думает, что пишет, как Чехов, а пуст, как орех.
29 января
Чувство, подобное ревности, вспыхнуло во мне, когда я увидел, как сидит Владимир Иванович хозяином за столиком в кресле, по-старчески мертвенно бледный, ко полный жизни, с белоснежной щегольски подстриженной бородкой, белорукий, коротконогий. Жизнь принадлежала ему. Храпченко, крупный, крупноголовый, похожий на запорожца, окруженный критиками, хохотал, показывая белые зубы. Режиссеры глядели утомленно. Чувствовалось, что им в основном все равно. Первый акт прошел отлично. И Немирович сказал Акимову: «Посмотрим! Автор дал много обещаний, как-то выполнит». Во втором играл Гарин, впервые. Лецкий играл Тень простовато, но ясно и отчетливо. Гарин даже роли не знал.
30 января
Он играл не то – поневоле. Его маска – растерянного, детски наивного дурачка – никак не годилась для злодея. И вдруг, со второго акта, все пошло не туда. Я будто нарочно, чтобы испытать потом еще больнее неудачу, против обыкновения ничего не угадал. Самодовольство, с которым смотрел я на сцену, шевеля губами за актерами, ночью в воспоминании жгло меня, как преступление. Когда опустился занавес, я взглянул на Катерину Ивановну и все понял по выражению ее лица. Пока я смотрел на сцену, Катюша глядела на зрительный зал и поняла: спектакль проваливается. Я удачу принимаю неясно, зато неудачу со всей страстью и глубиной. А жизнь шла, как ей положено. Несколько оживились режиссеры. Чужая неудача – единственное, что еще волновало их в театре. А Владимир Иванович не обратил на нее внимания. Он был занят своим. О пьесе он тоже не сказал ни слова. Что ему было до этого. Он жил. Ему давно хотелось взять Гошеву в Художественный театр. Акимов, двусмысленно улыбаясь, утверждал, будто Немирович-Данченко сказал о Гошевой: «Ирина Прокофьевна – это прекрасный инструмент, на котором при умении можно сыграть все, что захочешь»… В антракте произошел разговор между ним и Акимовым, прославившийся немедленно и надолго запомнившийся. Театральные люди к концу антракта говорили о нем больше, чем о спектакле и пьесе. Сидя все в той же бессознательно надменной позе, он заговорил о Гошевой.
31 января
Он сказал Акимову, что Комедия – это театр одного человека, а Художественный – коллектив. И вот этому коллективу как раз не хватает именно такой индивидуальности, как Ирина Прокофьевна. И он выражает надежду, что Акимов не будет препятствовать переходу Гошевой в коллектив Художественного театра. Выслушав все это вежливо и просто, поглядывая на Немировича-Данченко своими до крайности внимательными голубыми глазами, маленький, острый, полный энергии, но лишенный и признака суетливости, – пружина, заведенная до отказа, Акимов ответил генералу от Художественного театра следующим образом. Нет, он не может согласиться с тем, что Театр комедии – театр одного человека. Всякий театр коллективен по своей природе. Гошева необходима коллективу Театра комедии. Но тем не менее он, Акимов, не будет задерживать Гошеву в своем театре, точно так же как Владимир Иванович на заре Художественного театра не стал бы задерживать молодую актрису, уходящую из его молодого дела в солидный Малый театр. Немирович ничего не изобразил на своем мертвенно-белом, всемирно знаменитом бородатом лице. Но режиссеры и театральные деятели так и взвились от радости. А спектакль мой шел своим чередом… После третьего акта вышел я раскланиваться вместе с Акимовым. Меня проводил кто-то по крутой лестничке на сцену, и, чувствуя себя навеки опозоренным, я поклонился в освещенный, двигающийся к выходу зрительный зал. Все с тем же чувством позора шел я по полукруглому коридору. Храпченко, окруженный оживленными, опьяненными чужим неуспехом режиссерами, смеялся, показывая все свои крупные зубы. Мы выбрались на улицу.
1 февраля
Здесь тоже слишком уж оживленная, опьяневшая оттого, [что] хлебнула чужого горя, высокая молодая женщина в короткой, чуть ниже талии кофточке, или верхней одежде для улицы, имеющей другое название, увидев меня и узнав – я только что раскланивался со сцены, – метнулась мне навстречу к каким-то своим знакомым, шедшим возле, сказала умышленно громко, не для них, а для меня: «Первый акт – сказка, второй – совсем не сказка, а третий – неизвестно что». Вся манера говорить была у нее окололитературная или театральная. Это была либо жена режиссера, либо начинающий режиссер, либо театральный критик из кругов, отрицающих Театр комедии, – во всяком случае, она ликовала. Неуспех пьесы был до того несомненен, что в последних известиях по радио отсутствовало обязательное во время подобных декад сообщение, что, мол, состоялась премьера такого-то ленинградского спектакля, который был тепло принят зрителями. Из театра пошли мы к Образцовым. Он ни за что не хотел верить нам. А тут позвонили еще друзья его, Миллеры, сообщившие, что им спектакль очень понравился и имел большой успех. Но я-то знал, как обстояло дело. Вечером шел я на спектакль, как на казнь. К моему ужасу, пришел Корней Иванович Чуковский, Квитко. Появился Каплер, спокойный и улыбающийся. Оня Прут[628] . Даже в правительственной ложе появились какие-то очень молодые люди, скрывающиеся скромно в самой ее глубине. И вот совершилось чудо. Спектакль прошел не то что с большим – с исключительным успехом. Тут я любовался прелестным Львом Моисеевичем Квитко. Он раскраснелся, полный, с седеющей шапкой волос, будто ребенок на именинах, в гостях. Он радовался успеху, легкий, радостный, – воистину поэт. Радовался и Корней Иванович, Я на всякий случай предупредил «го, что второй акт – будто из другой пьесы, повторил то, чем попрекали меня вчера. Но он не согласился: „Что вы, – второй акт прямое продолжение первого“. На этот раз вызывали дружно, никто не уходил, когда мы раскланивались, зал стоял и глядел на сцену. И занавес давали несколько раз. Вызывали автора.
2 февраля
Вызывали режиссера. В последний раз вышли мы на просцениум перед занавесом. Это был успех настоящий, без всякой натяжки. И я без страха шел через полукруглый коридор Малого театра. Подошел Каплер, похвалил по-настоящему, без всякой натяжки и спросил: «Эту пьесу вы и писали в „Синопе“?» И когда я подтвердил, задумчиво покачал головой. На следующий день состоялся утренник – и этот, третий, спектакль имел еще больший успех. Мы перед началом задержались у входа в театр. Солнце светило совсем по-летнему. Подбежала Леля Григорьева, дочка Наташи Соловьевой, юная, веселая, на негритянский лад низколобая и кучерявая, несмотря на свою русскую без примеси кровь. И я обрадовался. Словно представитель майкопских времен моей жизни пришел взглянуть на сегодняшний мой день. Она попросила билет, и я устроил ей место в партере. Пришла она с подругами. У тех места были в ложе второго яруса. Но Леля по-товарищески пустила одну из них на второй акт в партер, и я увидел ее сияющее полудетское лицо в ложе. Ей спектакль нравился с той силой, как бывает в студенческие годы. Пришел на спектакль и Шкловский, под руку с Ваней Халтуриным[629] . Курносое, прямо на тебя смотрящее, большое лицо Виктора Борисовича еще не оскалилось, но вот-вот готово было показать зубы на бульдожий лад. Я знал, что он не любит пьес и будет браниться. Вероятно, и бранился уже заранее по дороге, если судить по виноватой улыбке, с которой поздоровался со мной Ваня Халтурин. Итак, третий спектакль прошел с наибольшим успехом, но критики и начальство посетили первый! Тем не менее появились статьи доброжелательные, а Образцов в «Правде» похвалил меня в обзорной статье[630] . Тем не менее отношения с Акимовым омрачились. Он слышал, как высказывал я недовольство тем, что выпустил он Гарина без достаточного количества репетиций. И в самом деле – Лецкий играл грубее, но лучше. У него все было ясно. Злодей и есть злодей. Все оказывались на местах.
3 февраля
В театре все всем известно. И когда после спектакля вышли мы на неожиданно светлую, залитую солнцем площадь (в театре всегда представляется, что за стенами – ночь), меня окликнула Хеся Локшина, жена Эраста, тощенькая – одна душа осталась, решительная, подозрительная. Осуждающе глядя на меня своими страдальческими очами, она спросила: «Что же, по-вашему, Лецкий играет лучше Эраста?» И я ответил: «Не лучше, а понятнее». Я хотел разъяснить ей, что под этим понимаю, но заметил, что она дрожит мелкой дрожью, смутился и замял разговор. Декада окончилась.
21 февраля
В перепутанной моей душе одним из яснейших и несомненных чувств была моя любовь к Наташе. Она училась в IV классе, ей предстояли первые экзамены, и никак не давалась ей арифметика. То есть имела она четверку, но я-то знал, что самый вид арифметической задачи повергал ее в растерянность, как меня в те же годы. Я не верил, что это решается. Не знал, как начинать думать. Впервые в сорок пять лет понял я арифметику и научился решать задачи лучше даже, чем первый ученик Наташиного класса, тоненький мальчик в очках.
22 февраля
Любопытно, что если я приезжал читать в детские библиотеки или школы, меня встречали почтительно, как всякое новое и непривычное явление. Когда же явился я с той же целью в Наташину школу, раздался вопль: «Наташин отец пришел!» Исчезла вся таинственность явления «писатель». Тем не менее отношения с Наташиными одноклассниками были хорошие, и мы часто вместе готовились к контрольной по арифметике. В те годы у всех ребят с особенной силой вспыхнула страсть к собиранию фантиков. Причины тому были исторические – присоединение к нам двух новых советских республик. Из Эстонии, а главным образом из Латвии, шли конфеты в бумажках, непривычных и ярких. Ребята завели даже альбомы, в которые наклеивали эти фантики. На углу Литейной и Пестеля был большой выбор подобных конфет. Гуляя с Наташей, я заходил обычно в эту кондитерскую. Боясь развить в Наташе скупость, я покупал одинаковое количество конфет и ей, и подругам, если они шли с нами. Ребята быстро учли это обстоятельство. И к кондитерской мы подходили хорошо если впятером или вшестером. Соседские девочки бежали из скверика возле или со двора и шагали рядом, взявшись под руки, мешая движению. Я жил слишком уж уходя в то, что считается житейскими мелочами. Я никогда не был настоящим работником, живущим для работы. Мне приходилось, словно репейники, выбирать из души набившиеся туда заботы и беспокойства, делать усилие, чтобы сесть за письменный стол со свободной душой. Но, правда, жил я не сонно. Сквозь все, будто дневной свет сквозь занавески, неудержимо пробивалось чувство радости. Поездка на трамвае к Наташе, вечер, дом, утро – все было окрашено резко.
26 февраля
Незаметно и скромно встретили мы Новый, сорок первый, год. Он притворялся смирным, но я давно заметил, что несчастен не високосный год, а следующий за ним. Все было тихо, слишком тихо.
27 февраля
Сделаю маленький перерыв в рассказе – перейду к сегодняшнему дню. Что произошло за это время? Кончили снимать «Дон Кихота». Перезаписывают. Я смотрел бракованный экземпляр… Ощущение все же такое, как хотелось. От самой картины. Начиная с первого возвращения Дон Кихота и до конца – картина становится патетической и говорит о вещах, которые задевают. И все же каждая готовая работа как бы выводит тебя на суд неправедный. И я, несмотря на возраст, несмотря на то, что со всей возможной для меня, пока я пишу, добросовестностью старался говорить о том, что для меня и в самом деле важно, – теперь боюсь.
9 марта
Итак, 20-го или 21 июня попали мы с Наташей на учение ПВХО. Вечер. Нас – случайных прохожих – загнали в чей-то двор. Стальное, нетемнеющее небо. Тишина – как всегда после животного и вместе механического воя сирен. Условно отравленного газами несут на носилках через площадь. И опять мертвая тишина и неподвижность, и я боюсь, что Наташа простудится, – она вышла в легком платьице, без пальто, думали, что сразу вернемся домой. А отбой все не давали, не давали, не давали. И я, отведя Наташу домой, был уверен, что завтра она непременно простудится, столько времени продержали нас в этом чужом дворе. Утро 22 июня было ясное. Завтракали мы поздно. На душе было смутно. Преследовал сон, мучительный ясностью подробностей, зловещий. Мне приснилось, что папа мертвый лежит посреди поля. Мне нужно убрать его тело. Я знаю, как это трудно, и смутно надеюсь, что мне поможет Литфонд. У отца один глаз посреди лба, и он заключен в треугольник, как «Всевидящее око». Ужасно то, что в хлопотах о переносе тела мне раз и другой приходится шагать через него, – таково поле. И вдруг я не то слышу, не то вспоминаю: «Тот, кто через трупы шагает, до конца года не доживет». Я, по вечной своей привычке, начинаю успокаивать себя. Припоминать подобные же случаи в моей жизни, которые окончились благополучно, но не могу припомнить. Нет, никогда не приходилось мне шагать через трупы. Я рассказываю свой сон Кате, и она жалуется на страшные сны. Она видела попросту бои, пальбу, бомбежки. В двенадцать часов сообщают, что по радио будет выступать Молотов. Я кричу Кате: «Дай карандаш! Он всегда говорит намеками. Сразу не поймешь. Я запишу, а по[то]м подумаю». Но едва Катя дает карандаш, как раздается голос Молотова, и мы слышим его речь о войне. И жизнь разом как почернела. Меня охватывает тоска. Не страх, нет, а ясная, без всяких заслонок, тоска. Я не сомневаюсь, что нас ждет нечто безнадежно печальное. Мы решаем ехать в город. Я иду к Наташе. Выхожу с ней пройтись напоследок. Покупаю ей эскимо. Но и Наташа в тоске.
14 марта
Вот приезжает с фронта Герман, сообщает, что Луга взята. Рассказывает о мальчиках, которые держат передний край. Они знают, что обречены, но по-спортивному, подчеркнуто спокойны: читают книжку, разорвав ее на части. Авантюрный роман. Читают в окопах. Передавая друг другу часть за частью. И, услышав его рассказ, я вспоминаю, как шел в той же Луге через запруду на озере, где водопад, и вода кипела. И два мальчика со спортивным, строгим, холодноватым выражением лица, им лет по шестнадцать, ныряли с плотины в этот водопад спиной, будто совершали обряд, так строго.
15 марта
Однажды утром услышал я знакомый всем голос Сталина.[631] Он по радио называл нас «братья и сестры», говорил непривычно – голос дрожал. Слышно было, как стучит графин о стакан – пил воду. Он призывал к созданию народного ополчения. И все пошли записываться. Записался и я в Союзе писателей у Кесаря Ванина[632] . И вот я уже получил приказ явиться в Союз к такому-то часу с кружкой и ложкой. Мне было 45 лет, нервная экзема оборвалась сама собою недели за две до этого приказа, чувствовал я себя здоровым. Призраки молодых, убиваемых ежедневно, тревожили совесть. Я спешил в Союз, смущенный одним, – предстояла новая жизнь, которую я не мог себе представить. В Союзе ждала меня отмена приказа – решением обкома группа писателей поступала в ведение радиовещания. Я шел домой столь же ошеломленный. Я боялся, что не смогу работать на радио так, как это нужно. Однако именно с этого времени начала меня отпускать тоска. На радио я словно бы нашел свое место в том, что до сих пор вертело мной без всякого смысла. А тут вдруг я работал быстро, легко, и меня хвалили, без чего ощущение найденного места было бы для меня невозможно. Примерно в это же время, а может быть, немного раньше, началась работа над пьесой «Под липами Берлина».[633] Писали я и Зощенко по очереди акт за актом, точнее, картину за картиной. Пока репетировалась одна, писалась другая. Нет, это, видимо, было раньше чуть-чуть. Представив себе ясно репетиции в Театре комедии, испытал я знакомую тоску. Видимо, это происходило в июле, а спокойнее я себя почувствовал в августе. Июль. Жарко. Репетиции идут в нижнем фойе. Окна закрашены синим для затемнения. И я с ужасом замечаю синие отсветы на руках и лицах актеров и потом только догадываюсь, что это солнечный свет прорывается через закрашенные стекла. Спектакль никакого успеха не имел. Шел 41 год, а в пьесе довольно похоже описывались события 45-го. Паника в Берлине и прочее – кто же тогда мог поверить, что это возможно. И пьесу скоро сняли с репертуара.
16 марта
А писателей, взятых в ополчение, объединили, и они попали под командованием Сергея Семенова, высокого, похожего на монгола и всегда как будто не то ушедшего в свои мысли, не то растерянного чуть-чуть, – человека чистейшего, но не военного. И все ополчение представлялось мне похожим на Сергея Семенова. То один отряд выйдет прямо на немцев – необученный, безоружный, то другой пойдет на учение, а окажется в самом пылу боя. И никто не дрогнет. В одном из боев, как узнали мы с ужасом, погиб возле Елены Александровны Чижовой[634] ее единственный сын. Они выносили из боя раненого командира, и снаряд прикончил его, и оторвал голову Славушке, и только легко контузил Елену Александровну. Однажды репетировали мы, как всегда, «Под липами Берлина», и вдруг лица актеров, подсвеченные синим, приняли виноватое, мягкое выражение, – Елена Александровна заходила к директору и, возвращаясь, шла мимо нас. Репетицию прервали. Мы окружили Елену Александровну. Мы не знали, о чем говорить с ней, старались только быть как можно ласковее. Однажды у Акимова встретил я художника, молодого, из его учеников. Он состоял в воинской части особого рода – они ходили по тылам противника. То, что человек вполне гражданский превратился вдруг в настоящего военного, да еще подобного рода, поразило меня. Он рассказывал о ночных нападениях на часовых, об убийствах просто, как о театральной постановке, и я удивлялся простоте, с которой слушал его. Через неделю-другую он не вернулся из очередного рейда, погиб. «Европейская гостиница» перестала существовать, превратилась в госпиталь. Я все прыгаю во времени, но лето 41-го до 8 сентября спуталось у меня в один клубок. Вот шагаю я по Литейному и вижу, как в небе над крышами домов летают черные листики сгоревшей бумаги. Жгут архивы. Ночью у комендантского управления вдруг выстраиваются гуськом грузовики. Неведомо откуда появляется слух, вскоре подтверждающийся, – эвакуируют офицерские семьи. Это, следовательно, еще до взятия Мги[635] . Воздушные тревоги каждый день – и всегда безрезультатные – летают разведчики. Вот тревога застает меня на углу Владимирской.
17 марта
Всех прохожих гонят в бомбоубежище, но никто и не думает туда отправляться. Не верят. Все толпятся во дворе, очень мне знакомом, – это те самые зажатые домами переходы к гостинице Палкина, где жили мы в 21 году, двадцать лет назад, приехав в Ленинград. И то время, беспокойное, голодное, ничем не подкрепленное, словно висящее в воздухе, представляется мне сегодня таким спокойным и прочным. Голод на Волге, магазин Помгола на углу, с крысами, дерущимися по ночам в витринах, крушение нашего театра – ах, как все хорошо и просто рядом с той тоской, что пришла с войной. В небе Илы начинают вдруг словно бы карусель, ходят, утопая в голубизне, друг за другом, а мы смотрим спокойно и тихо, не обсуждая, что там творится. Вот загнали нас в ворота дома, где обл– или горздравотдел, недалеко от цирка. Тут встречаю я Брауна в военной форме. Он пережил недавно отступление от Таллина, но говорит о чем угодно, кроме этого[636] . Я знаю, что взорван был с воздуха корабль, на котором он шел. Он заставил подобрать в шлюпку двух девиц, погибавших на глазах оравнодушевшей команды. Корабль, подобравший Брауна, погиб в свою очередь. И тут спасенные им недавно девушки втащили их на какой-то плотик. Подобрал их эстонский моторный парусник, капитан которого собирался свернуть к немецким берегам, но был обличен моряками, находящимися среди спасенных. Отступление от Таллина! Погиб Марк Гейзель[637] из «Ленинских искр». Он соскочил с трамвая и догнал меня, чтобы сообщить о назначении в Таллин и попрощаться. Длинный, молодой, преждевременно лысеющий со лба еврей. В 1933 году жили мы в Разливе по соседству. И я познакомился с его женой, хорошенькой женщиной чуть японского типа, и маленькой девочкой. Однажды нашла она на пляже крестик и закричала: «Мама, погляди, сломанный фашистский знак». И вот теперь Марк Гейзель погиб. Утонул Орест Цехновицер[638], и кто-то видел с корабля, как он тонет. Тощий, с длинной шеей, крупным ртом, высокий, занимающий свое место уверенно и неуступчиво. Он готовил книгу о Достоевском. И вот погиб. Утонул Князев[639], тихий и внимательный. А мы выслушали это и приняли к сведению. Тоска первых дней войны начала проходить. Мы оравнодушели.
18 марта
Тот удар, причинивший почти физическую боль, с какой услышал я о смерти Левы Канторовича[640], заменился унылыми тычками, словно тебя, связанного, в сотый раз бьют мимоходом чем попало. Мы притерпелись. Вся моя жизнь привела к одному печальному открытию: человек может притерпеться к чему хочешь. Просто удивительно, что может он принять как должное, где ухитрится дышать… И чем. И в конце концов перестать удивляться, что живет подвешенный за ногу к потолку, в крови и навозе. Война вдруг стала нормой. Во всяком случае, мы разговаривали и даже шутили. А когда работа на радио пошла, то и смертная тоска моя стала рассеиваться понемножку.
21 марта
Как всегда случается в несчастные времена, каждый день приносил новые несчастья. Бомбежки повторялись теперь каждый вечер, в одно и то же время, примерно часов в восемь. Катя шла к воротам, а я поднимался на чердак. Запах копоти и пыли. Ощущение полной бессмыслицы твоего пребывания тут. Разве только что зажигательные бомбы попадут сюда, тогда нам найдется работа. Плачущие немецкие самолеты. Зенитки бьют все реже. Почему? И тут нашлось объяснение – чтобы не обнаружить себя. Разговоры чем-то напоминали 37 год. Как тогда старались угадать, почему такой-то арестован, так теперь гадали, почему он так упорно бомбит Моховую улицу, где никаких военных объектов нет. Вообще в те дни мне казалось, что самое безопасное место – военные объекты. Ленинградские мосты так и не пострадали, как ни старались их разбомбить. Думаю, что Моховой улице доставались бомбы, которыми целились в Литейный мост и НКВД. Завывающий немецкий самолет над городом до того шел вразрез со всем твоим жизненным опытом, со всем человеческим, что казался не страшным, а идиотским. И часто умозрительное представление, что разрушенный жакт с повисшими среди развалин кроватями и бессмысленно уцелевшим шкафом или зеркалом должен кого-то испугать, – никак не подтверждалось. Город ожесточался – и только. И как хочешь называй, но страха не было. Каждый веровал, что бомба минует его дом. В разгар тревоги пожарное звено, состоявшее из домработниц, вдруг затевало танцы.
24 марта
К бомбежкам прибавились у нас обстрелы – не такие усиленные и регулярные, как в последующие годы, но вполне ощутимые. Первый же день коснулся нас. Рядом, в Шведском переулке, был убит старый наш дворник, и управхоз хоронил его, и все ежился потом весь вечер, и вздыхал, и начинал говорить речь, да не договаривал. Вечер был вдвойне беспокойный – налет и артобстрел. Бомбоубежище наше все еще не было готово. И вот договорились, что на сегодняшнюю ночь отправим мы детей наших в Малегот, бывший Михайловский театр. Я нес на руках маленькую Наташу Заболоцкую, спокойную и сонную, а рядом шагала Катерина Васильевна, вела Никиту. Когда переходили мы пешеходный Итальянский мостик, обстрел усилился. Отчетливо слышен был и сухой звук выстрела, и пухлый звук разрыва где-то за церковью Спаса-на-крови. Вот и Малый оперный театр повернулся неожиданной стороной. Предъявляя пропуска, пробрался я с детьми в какие-то ясно освещенные, сводчатые подвалы, о существовании которых и не подозревал. Здесь уже разместились целые семейства – не то вокзал, не то сон. Я попрощался с Заболоцкими и ушел в свою путаницу, в свой жакт. Наконец в положенное время привели в порядок и наше бомбоубежище – длинное полуподвальное помещение под тем корпусом надстройки, что выходил на улицу Перовской. Скоро и здесь установился свой безумный военный блокадный быт. Переехали к нам летом Данько и Ахматова.
25 марта
Однажды днем зашел я по какому-то делу в длинный сводчатый подвал бомбоубежища. Пыльные лампочки, похожие на угольные, едва разгоняли темноту. И в полумраке беседовали тихо Ахматова и Данько, обе высокие, каждая по-своему внечеловеческие, Анна Андреевна – королева, Елена Яковлевна – алхимик. И возле них сидела черная кошка… Пустое бомбоубежище, день, и в креслах высокие черные женщины, а рядом черная кошка. Это единственное за время блокады не будничное ощущение. Мы становились все равнодушнее и равнодушнее к налетам. Управхоз какого-то дома на Литейном проспекте вывесил объявление: «Граждане, ваша храбрость приводит к излишним жертвам». Это касалось очередей возле продовольственного магазина, которые отказывались расходиться во время бомбежек. Мы оравнодушели ко всему, кроме голода. Да, к голоду привыкнуть было невозможно. Я каждый день ходил в Дом писателя, где выдавали мне судок мутной воды и немного каши. И в булочной получали мы 125 грамм хлеба. И несколько монпансье. И все. Тревоги и дежурства все продолжались. И в положенное время, когда подходила моя очередь, дежурил я на посту наблюдения. Ясное звездное небо. На северной стороне неба словно пульсирует часть горизонта. Северное сияние. Если поднимались тревоги, то видели мы трассирующие пули, слышали зенитки, но все реже и реже. И уж никто не говорил, что скрываются они от наших ночных истребителей. В октябре примерно стали эвакуировать на самолетах известнейших людей Ленинграда. Шостаковича, Зощенко. Решили эвакуировать Ахматову. Она сказала, что ей нужна спутница, иначе она не доберется до места. Она хотела, чтобы ее сопровождала Берггольц. И я пошел поговорить с Ольгой об этом.
26 марта
Примерно за неделю до этого Молчанов, ее муж, человек на редкость привлекательный, пришел поговорить со мною о Берггольц. Я совсем не знал его раньше.
Жизнь свела нас с Берггольц во время войны. Я смотрел на этого трагического человека и читал почтительно то, что написано у него на лице. А написано было, что он чистый, чистый прежде всего. И трагический человек. Я знал, что он страдает злейшей эпилепсией, и особенное выражение людей, пораженных этой божьей болезнью, сосредоточенное и вместе ошеломленное, у него выступало очень заметно, что бывает далеко не всегда. И глаза глядели угнетенно. Молчанов пришел поговорить по делу, для него смертельно важному. Он, влюбленный в жену и тяжело больной, и никак не умеющий заботиться о себе, пришел просить сделать все возможное для того, чтобы эвакуировать Ольгу. Она беременна, она ослабела, она погибнет, если останется в блокаде. И я обещал сделать все, что могу, хотя понимал, что могу очень мало. Вопросы эвакуации решались все там же, глубоко или высоко, что простым глазом не разглядеть. То, что Ахматова потребовала провожатую, упрощало вопрос. Но необходимо было согласие Берггольц. И впервые в жизни отправился я в маленькую квартиру на Невском, где-то напротив улицы Перовской. Длинные комнаты, которые считал я в студенческие времена приносящими несчастье. Синие обои. Скромная мебель. И среди этой обстановки, рассчитывающей на жизнь обычную, человеческую, встретил меня Молчанов. Божеская болезнь еще явственнее отпечатана была на его лице. Наверное, недавно перенес припадок. Ольга оказалась дома, и я не спросил, а решительно заявил, что ей надо вылетать вместе с Ахматовой, если она не хочет гибели замечательной поэтессы. Слезы выступили у Ольги на глазах. Она побледнела, села на подоконник, и я рассказал ей, как обстоят дела. Но через два дня Ольга решительно отказалась эвакуироваться с Ахматовой, и с ней отправилась в путь Никитич[641] . Первым умер у нас дома с голоду молодой актер по фамилии Крамской, по слухам – внук художника. Умер сразу – упал в коридоре.
27 марта
У нас появился жилец – Женя Рысс. Он, засидевшись, остался у нас ночевать раз и другой, а потом раздумал возвращаться в свою брошенную, полуразрушенную квартиру. А я привык каждый вечер слушать его рассказы. В нашем плену от них так и веяло свободой, о чем бы Женя ни рассказывал, – о поездке в Ташкент в двадцатых годах, о путешествии в Мурманск и оттуда на траулере. К чужим воспоминаниям, ставшим как бы своими, прибавились и рассказы Жени Рысса. Он принадлежал к тому разряду художников, которые начисто лишены потребности писать. Время ли его таким сделало или беспорядочность воспитания, но он жил не для того, чтобы писать, а чтобы жить. Поэтому он так много путешествовал, так легко влюблялся.
И так щедро рассказывал об этом. Для него это был единственный органический способ высказаться. А писал он напряженно, держа себя за шиворот, не отпуская от письменного стола, будто каторжника от тачки. И прелесть, и подлинность, и естественность голоса – то, что так радовало, а в те дни даже опьяняло меня в его устных рассказах, – в сочинениях превращалось в сочинение. Потом пили мы чай, честно деля паек. И, наконец, раскладывали пасьянс. В эти трудные времена мы все были немножко суеверны, и Женя, как я, придавал значение тому, выходит ли он и как часто выходит. Однажды Женя не пошел на фронт почему-то. И мы вместе собирались в Союз писателей. Вдруг объявили воздушную тревогу. Мы вяло обсуждали, идти или не идти. Он ухитрился в те дни потерять все документы и боялся, что какая-нибудь дежурная его задержит. Вдруг услышали мы знакомый удар, и дом наш закачался так сильно, что лампочка закрутилась над столом.
И телефонная трубка зацарапала о стену. Значит, где-то рядом разорвалась фугаска. Мы взглянули друг на друга и засмеялись. В те дни выработался этот странный способ отвечать на нечто выходящее из привычного ряда. Вскоре тревогу отменили. И, выйдя на канал Грибоедова, мы остановились невольно. Разрушен был дом, замыкающий наш отрезок канала. По Мойке – № 1, по Марсову полю – 7-й, тот, где живут теперь Панова, Катерли, Герман, Рахманов, Браусевич. Его сильно ударило колуном в самую середину. У дома с самым будничным выражением стояли грузовики, увозили покойников. Дом, уничтоженный среди белого дня, с такой простотой – тут проявлялась особая подлость и холодность войны.
28 марта
Большой драматический театр эвакуировался еще до того, как замкнулось вокруг Ленинграда кольцо. И в его помещение перебрались Управление по делам искусств и Театр комедии. Выглядело по-новому, по-бытовому, когда работник управления Карская, столь знакомая нам по премьерам, где принимала или отвергала постановки, тут вдруг обитала в одной из актерских уборных, находилась на казарменном положении. И самое удивительное было то, что никого это не удивляло. Обитает – и все тут. И только когда она двигалась привычной стройной, подтянутой походкой, горделиво поднимая из ватника свою длинную шею, Милочка Давидович сказала: «Лебедь на казарменном положении». Здесь, в Союзе писателей, на радио – вот где я бывал.
На радио однажды поднялась тревога, и нас загнали в бомбоубежище. Тут я понял лишний раз, что нет с моей стороны никакой заслуги в том, что не хожу я в бомбоубежище. Чувствовать себя насильно загнанным в щель, над которой возвышается многоэтажное здание, хуже, чем стоять на чердаке. Страшнее. И вообще было тоскливо. И упала фугаска недалеко. Кто-то пытался дозвониться в это время до издательства «Советский писатель». И не мог. А потом выяснилось, что бомба ударила в середину Гостиного двора, именно в «Советский писатель». Было убито человек, кажется, пятнадцать, и среди них кротчайшая, вернейшая Татьяна Евсеевна из тех секретарш, благодаря которым учреждение превращается в живой организм. Словно отдает она ему часть своей крови. А вот пришлось – отдала и жизнь. Я опять рассказываю как придется, как осталось в памяти. Это время окрашено для меня одинаково. Одно только – с каждым днем становилось хуже… Неуклонно и неизбежно. Мы привыкали быстро, но жизнь обгоняла нас. И главное – хуже становился хлеб. Эта влажная масса уже и не походила на хлеб.
29 марта
А именно хлеб, только хлеб был основой жизни. А жизнь ото дня ко дню делалась неподвижней и теряла теплоту. Вот выходим мы из Дома писателей. У каждого бидон с мутной водой и по две ложки белой каши, не то овес, не то перловка. Со мной выходил, кажется, Рахманов. Когда мы идем по улице Воинова к Гагаринской, перейдя ее у Дома писателей, будни обрываются. Сильный блеск над крышей дома напротив, снег сметает, как метель, и дробь, вроде барабанной. Разорвалась шрапнель. И новый взблеск – чуть правее, новый удар. Мы скрываемся под воротами, и, странно сказать, все мы оживлены. Чем-то прервалась медленная удушающая рука будней. Блокада – это будни. Будни, нарастающие с каждым днем. Я увидел уже на улице людей с темными лицами и вопросительным выражением глаз. Даже укоризненным. Однажды вызвали меня на междугородную телефонную станцию. Маршак вызвал меня из Москвы. Разговор шел по радио, и меня предупредили, чтобы я не называл ни фамилий, ни городов. Но в первом же разговоре сделал ошибку. Спросил: «Зощенко в Москве?» И мне укоризненно сказал человек, следящий за нашим разговором: «Надо говорить: „Михаил Михайлович у вас?“ Других ошибок я не делал. Маршак расспрашивал о своих родственниках, о которых должна знать Габбе. Вызывал меня Маршак раза три, и каждый раз после этого шел я к Габбе. И эти дни выделялись из однообразия будней. И дорога на междугородную станцию на углу Марата и Невского, и дорога к Габбе, как путешествие по знакомым и незнакомым улицам. Вот тут я и встретил прохожих, которые смотрели на меня с укоризной и ужасом.
30 марта
В те дни ты понимал одно: город умирает с голоду. И неизвестно – что тебе делать, где твое рабочее место. Правда – на наш дом бросили немцы штук тридцать зажигательных бомб. И этот вечер показался веселее других… И опять будни принялись душить нас голодом. Однажды я пошел с Женей Рыссом в гости к Селику Меттеру. Его брат, физик, очистил двести грамм денатурата. И мы немножко выпили. И когда возвращались домой, налево за Адмиралтейством, высоко в воздухе, вдруг мы увидели яркие и незнакомые вспышки и услышали очень громкие разрывы. И я удивился непривычному, праздничному чувству.
31 марта
Да, самая сила звука радовала бессмысленно, без всякого основания, но тем более определенно. Вероятно, пушечные выстрелы, приветствующие адмиральский флаг, и всякого вида салюты исходили из этого самого бессмысленно праздничного чувства. А город все умирал. То из одной, то из [другой][642] квартиры выносили зашитого в простыни мертвого, везли на кладбище на санках. Шел ноябрь 41-го, когда город еще держался на ногах. По слухам, умирало 20 000 в день. Но мертвых еще не бросали где придется. Но уже установилось во всем существе города нечто такое, что понять мог только переживший. Театры перестали играть. Пребывание театров в городе становилось бессмысленным. И Акимов, с которым я встречался все чаще, поднял разговор о том, что надо эвакуироваться. И чтобы я присоединился к театру. И мне хотелось уехать. Очень хотелось. Я не боялся смерти, потому что не верил, что могу умереть. Но меня мучила бессмысленность положения. Друзья, приезжающие с фронта, говорили, что в [городе] гораздо хуже. Там, на переднем крае, ясны были обязанности каждого. А тут, в блокаде, что было делать? Терпеть? Тем более что и на радио занимали меня все реже и реже. И даже бомбежка приумолкла. Подниматься на чердак не к чему было. Последний сильный налет состоялся в ночь на 7 ноября. А потом немцы словно оставили город доходить. Только от времени до времени устраивали обстрелы. Кажется, в конце ноября остановились трамваи. Я как-то на уроке естественной истории смотрел в микроскоп через растянутую перепонку лапы кровообращение лягушки. Двигались кровяные шарики и вдруг просто, без всякого изменения движения, без всякой вспышки остановились. Эта смерть поразила меня. И когда трамваи так же внезапно и просто остановились там, где их настигла судьба, я еще острее почувствовал смерть города. И голод, безнадежный голод! В начале декабря меня вызвали в Управление по делам искусств и сообщили, что числа 6-го я вместе с Театром комедии выезжаю из города. Чтобы готовился.
1 апреля
Ехать мне и хотелось и нет. Мне представлялось, что за пределами Ленинграда я никому не нужен, и неизвестен, и неприспособлен. Что я буду делать в Кирове?
2 апреля
Пятого декабря сказали, что нам ехать седьмого, потом девятого, и, наконец, сообщили, что еду я не с Театром комедии, а в какой-то профессорской группе… За месяц примерно до моего отъезда ко мне зашли Тырса, Володя Гринберг[643] и Кукс[644], зашли поговорить о необходимости эвакуировать Детгиз. Я знал, что Наркомпрос в Кирове. И решил, что в первый же день приезда пойду к наркому. Мне принесли груду писем, чтобы я их бросил в почтовый ящик в первом же городе на Большой земле. Последний вечер в Ленинграде был похож на плохой сон. Мы должны были в пять утра явиться к Александрийскому театру, а народ все не расходился от нас. Прощались. Пришел маленький Бабушкин, он работал на радио, и мы там подружились. Это был человек чистый и тихий. И мы разговаривали о том, какой замечательный журнал будем мы издавать после войны. Все веровали, что после войны станет чисто. Пришли Ольга Берггольц, Жак Израилевич[645], Глинка. В конце концов, замученные проводами, мы почти перестали разговаривать.
3 апреля
На рассвете 10 декабря вышли мы из дому. Провожали Женя Рысс и Катерина Васильевна. На санках везли мы наш длинный парусиновый чемодан. В Александринке сдали мы карточки и получили соответствующую справку. Пришел автобус, который заполнили люди совершенно незнакомые. И мы двинулись в путь на станцию Ржевка, где помещался наш аэродром. Путаница чувств. Занесенная снегом дорога. Певец, кажется, Сибиряков, с больной женой, задыхающейся.
4 апреля
Трудно больной. К ногам певца прижалась легавая собака редкой красоты, стараясь хоть в неизменности хозяйского существа найти утешение. Дорога становилась все хуже. И вот задние колеса машины ушли в кювет. Мы долго возились, пытаясь помочь шоферу выбраться на трассу. Я боялся, что мы опоздаем. Но вот мы выбрались, наконец, буксующие колеса завертелись не вхолостую, повезли. И я занял свое место у окна. За окнами плыли снеговые поля, деревья, домики до оскорбительности обычные, как будто возле и не было города, погибающего от трупного яда. Ржевка тоже глядела спокойно, по-деревенски. Ребята, окружившие автобус, казались в меру голодными. Начальник аэродрома, рослый, начальнически спокойный, вышел на крыльцо, сообщил, что время прихода машин неизвестно, и послал нас взвешивать вещи в сарай. Наш полотняный чемодан оказался и в самом деле ниже обязательного веса. Затем нас послали в барак, который спешно достраивался тут же над нашей головой. Часа в два все забеспокоились, собрались у своих вещей, – самолеты идут. И в самом деле, низко над лесом появились китообразные зеленые «дугласы». Около часа прошло в напряженном ожидании. Но вот появилась осанистая фигура начальника, и мы узнали, что это самолеты особого назначения, к нам не имеющие отношения. Снова вернулись мы в наш барак, который рос над нами. И в припадке истерической тупости, что, к счастью, со мной случалось в жизни нечасто – точнее, в припадке тупой энергии, – договорился с каким-то местным парнишкой, чтоб, когда придут самолеты, он помог нам грузить наш чемодан, и заплатил ему вперед пачкой табаку. Больше мы этого паренька не видели. И сколько раз на Большой земле, где о табаке мечтали мы, как о неслыханном счастье, вспоминал я об этой пачке. Самолеты специального назначения ушли, а новые все не появлялись. В сумерки барак над нами был достроен и даже свет в него провели. И поставили времянку. Народу собралось много. Эвакуировали какой-то завод.
5 апреля
Постепенно я узнал, из кого состоит наша так называемая профессорская группа: пожилой уже художник-баталист Авилов, недавно получивший орден Трудового Красного Знамени, – в те дни это еще имело немалое значение, скульптор Шервуд с дочерьми, опереточный комик Герман, тощий и желчный, его семидесятилетняя жена (старше его лет на десять) комическая старуха Гамалей и падчерицы, полные женщины, еще молодые, с выражением лица решительным и шустрым, нескрываемо, деловито привлекательные. Полны они были более фигурой. Когда мы познакомились, падчерицы не скрыли причин своей полноты. Они обвязали себя под шубой и привязали к себе отрезы, чтобы вывезти их, не взвешивая. Они понимали, что такое эвакуация. Принадлежал к нашей группе и Сибиряков со своей сердито умиравшей, измученной женой. 10 декабря был день, когда не съели мы уже ни крошки. Вечером надо было топить. И я взял лом и присоединился к изготовляющим топливо. Мне досталась какая-то доска, которую мне удалось расколоть. Старик рабочий, похожий на мастера старых времен, в серебряных очках, с серебряными прядями волос из-под кепки, похвалил меня. «Да так методично», – сказал он. А Катя сказала: «А он этим никогда не занимался». Что было не вполне верно. Все пережившие голод и разруху 17–21 годов и начало тридцатых умели и дрова колоть, и понемножку готовить, и на рынок бегать. После меня лом взял молодой парень, и у него этот инструмент заиграл. Не помню, как прошла эта ночь. Спали мы на нарах или не спали. Рано утром появился начальник и обратился с речью к отъезжающим. Просил тех, у кого есть продовольственные запасы, сдать ему под расписку для остающихся голодающих земляков. Успеха эта речь не имела. Около часа дня появились автобусы. Из них выбрались с вещами новые беженцы, всё женщины с детьми. Устроившись в бараке, они принялись питаться. Кур ели. Белый хлеб. Старожилы притихли. Кто-то спросил их: «Вы откуда?» – полагая, что они транзитом следуют через блокаду.
6 апреля
«Из Ленинграда мы», – ответила одна из баб, с той несокрушимой бабьей важностью, против которой одна сила: разжалование или смерть мужа. И с той же бабьей беззастенчивостью продолжала она питаться – именно питаться – на глазах у замершего строго барака. Часов около двух пошли слухи, что самолеты приближаются. Выяснилось, что не позволят Сибирякову взять его легавую. Сохраняя то же достойное и терпеливое выражение, с которым он переносил жизнь в бараке и мучения жены, певец отправился хлопотать. Но единственное, чего добился, – что кто-то из работников аэропорта, сам охотник, согласился взять собаку себе до возвращения певца. В три часа низко над лесом, словно киты, проплыли «дугласы» и снизились на аэродроме. Мы с вещами столпились у ворот, обтянутых колючей проволокой. Взглянув на Катю, я удивился. Я увидел, что она плачет, впервые с начала войны. «Что ты?» – «Говорят, что и эти самолеты не для нас». Мне тоже стало жутко. Мы не ели уже больше суток. Ожидание превращалось в пытку. Но тут ворота открылись, и мы двинулись к самолетам. Грузовая машина, середину которой занял наш багаж. Пулеметное гнездо посреди крыши, мы видели только ноги пулеметчика, от пояса он скрывался в своем куполе. В противность медленно ползущему времени последних полутора суток, здесь все совершалось быстро, без единой задержки. Едва успели мы занять места на длинной железной скамье, идущей вдоль внутренней стены самолета, как дверь уже заперли, пулеметчик занял свое место, самолет вырулил к старту, побежал, набирая скорость, и вдруг мы словно вышли на безукоризненно ровную дорогу, и одновременно я увидел стоящий боком поселок. Сейчас же вслед за этим неожиданно близко с непривычной быстротой под нами пронесся лес. Мы увидели новое селение – по слухам, Всеволожское, снова лес и серый лед. Мы шли бреющим полетом, отсюда непривычная быстрота. Никто не сказал нам, когда мы пересекли линию блокады.
7 апреля
Озеро исчезло, снова с непривычной быстротой понеслись под нами леса. Истребители пристроились к нам, закружились на флангах. Сколько времени были мы в пути? Не знаю. Я уснул внезапно и проснулся от тишины – мы снижались на аэродроме в Хвойной. С аэродрома доставили нас на грузовиках в какое-то здание – видимо, бывшую школу. Сложив вещи в углу какой-то залы с хорами – так мне чудится сейчас, мы, профессорская группа, отправились обедать. Нам дали по большой тарелке горохового супа, но без ложек. На них была очередь. Но между столами бродили со скромным видом мальчик и девочка – местные жители. Они предлагали ложку напрокат, за рубль. И мы поели впервые после вечера 9-го числа, когда пили дома чай. После глубокой тарелки густого горохового супа мы почувствовали, что сыты, что не могли бы съесть больше ни ложки. А тут подошли к нам раздатчицы, и мы получили полтора килограмма хлеба. Это был настоящий, не блокадный, легкий хлеб. Полтора кило – почти целая буханка. Мне показалось, что это ошибка. Когда вернулись мы к своим вещам, появилось какое-то начальство и нам объявили, что сегодня же должны мы ехать дальше. Станцию бомбят. Остался один Сибиряков. Летчик узнал, что старому певцу пришлось бросить на Ржевке собаку, возмутился и пообещал следующим же рейсом доставить ее в Хвойную. Незадолго до этого обнаружилось чудо: едва оказались мы в зале, одна из падчериц Германа засунула руку за пазуху и выпустила на свет божий крошечную, кудрявую беленькую собачку с черными глазами. И я почувствовал уважение к храброй падчерице. Она не боялась законов, а слушалась своих чувств. Снова погрузили нас в грузовик и отвезли через полную тьму к железнодорожным путям, где стоял бесконечный состав из теплушек. Мы – профессорская группа – забрались в одну из них. Сначала мы поклялись, что никого больше не пустим, но скоро с бранью и поношениями ворвалась к нам целая толпа.
8 апреля
В дальнейшем подсчитали мы, что в нашей теплушке сбилось человек пятьдесят, не считая грудных детей. Мы в дальнейшем так и находили своих детей, по детскому плачу. Сразу вступив с нами во враждебные отношения, вся эта масса заняла со скрипом, воплями, криками противоположные нам нары. Правую сторону, стоя лицом к печурке, занимали мы, а левую – более широкую – наши враги. Впрочем, вряд ли весь этот замученный, голодный, спутавшийся в одно целое клубок людей ненавидел именно нас. Им нужно было отвести душу, все равно на ком. Перебранка, сердитый детский плач и непрерывный, как в бреду, вопль мальчика лет двух: «Мамка, дай чаю». Первую ночь я и сам был как во сне. Все мне казалось не имеющим отношения ко мне. Чувство Большой земли и свободы не появлялось. Я понимал рассудком, что мы за кольцом, но не верил, что началась новая жизнь, что мы ушли от смерти. Поезд очень скоро двинулся в путь – Хвойную спешили разгрузить от беженцев. Мой полусон скоро перешел в настоящий сон. И мне приснилось, что я согласился на чьи-то настойчивые уговоры и вернулся в Ленинград. Город стал еще мертвее за эти дни. Стояли сумерки. И все улицы огорожены были железными дешевыми кроватями, потемневшими и ржавыми. И чувство несвободы и окруженности усилилось до отчаяния от переплетов спинок, торчащих ножек. Я проснулся в отчаянье, словно отравленный, и чувство это долго не проходило. И я решил лежать и не вставать. Поезд останавливался на станциях, но они были мертвы, разбиты с воздуха, даже воды неоткуда добыть. Растапливали снег. К середине дня остановились мы на какой-то станции побольше. Выяснилось, что где-то далеко на холме за площадью работает буфет. Многие побежали туда, но мне казалось странным, имея столько хлеба, беспокоиться о чем-то. Вскоре оцепенение мое прошло, и я стал вживаться понемногу в вагонный быт. Стычки не замирали. Ссорился чаще всех старый, нервный Герман.
9 апреля
Руки его дрожали от гнева, и он, патетически указывая на враждебную сторону вагона, восклицал: «Вот кому я отдал сорок лет культурной работы». Споры вызывало все: кому идти за углем, кому топить чугунную печку и не могу теперь представить себе, что еще. Я, как всю жизнь, позорно не лез в давку. Но двоих спутников я возненавидел глубокой ненавистью. Я их не то чтобы разглядел, а узнал. Я много раз в своей жизни испытывал чувство ужаса и отвращения, убеждаясь в многочисленности породы каменных существ с едва намеченными, как у каменных баб, человеческими признаками. И тут оказалось их двое. И заняли они место посреди между воющим и плачущим человеческим клубком и нашей несчастной профессорской группой. Они возлежали у чугунной печурки. Один – рослый, с головой, как котел, другой – остролицый, с уклончивым выражением. Я не знаю, кем работали они на заводе. Сейчас переключились они на самоснабжение. Это они унюхали буфет на холме и первые принесли оттуда рагу в газетной упаковке и помчались туда во второй раз. Остролицый все повторял: «Волка ноги кормят», а круглоголовый молчал. К вечеру, когда печурку снова разожгли, круглоголовый помешивал в ней кочергой, а жена его повторяла: «Ваня! Зачем ты шуруешь, неужели тебе больше других надо?» Как на грех, в нашей теплушке, полной детьми, дверь оказалась подпорченной, и только один человек приноровился открывать ее изнутри – этот самый Ваня. Матери, которым необходимо было подержать детей, которые просились, собирались у его ложа и кричали на него, будто он профессор. Но он не отвечал, тихо беседовал со своим остролицым другом. Все о делах-делишках, судя по тому, что остролицый вскрикивал от времени до времени: «И правильно! Волка ноги кормят!» Только когда вопли несчастных матерей становились оглушительными, поднимался Ваня – круглая башка во весь свой рост, делал загадочное движение плечом, и дверь ехала с визгом. Открывалась. Пришла вторая ночь.
10 апреля
К этому времени я окончательно понял Ваню. Своих у него тут не было. Он понимал жизнь так: «Война всех против всех». Должен признаться, что не я открыл эту формулу. Услышал я ее после войны от человека, которому долго пришлось работать среди подобных существ. На нашей стороне в течение дня мы поближе познакомились друг с другом. У нас главенствовала тоже не бог весть какая почтенная особенность. Мы не верили в этих непривычных, странных, как во сне, условиях существования в свое право на жизнь. И утверждали его с помощью документов. Авилов показал газету, в которой был напечатан приказ о его награждении и хвалебное письмо Репина, восторженное, написанное с большим темпераментом[646] . Я вытащил изданную Театром комедии «Тень»[647] . Шервуд, самый достойный и суровый из нас, тоже зашевелился и предъявил монографию о нем, выпущенную издательством «Искусство»[648] . Предъявляли мы эти документы друг другу. С Шервудом ехала семья, не то дочка с ребенком, не то невестка и совсем молоденькая, славненькая, хозяйственная не то внучка, не то дочка – не было сил разбираться в этом. Ехали на нашей половине еще молчаливые женщины с маленькими детьми. Их приписали к нашему списку для счета. Легче всех характером оказались Авиловы. Проще всех. И мы как-то постепенно познакомились с ними. Вагон шумел, плакал, бранился. А комическая старуха Гамалей вдруг стала мешаться в уме. Она поднималась в своей меховой шубе, маленькая, но широкая, и, откинув голову назад, спрашивала низким актерским голосом: «Кто протягивает мне стакан с водой?» Герман пугался, как ребенок. Он вздымал к небу дрожащие руки и кричал: «Вы слышите, что она говорит, Паня (кажется, так), что ты говоришь?» А несчастная старуха тоном королевы продолжала: «Кто пододвинул мне кресло?» – «Что она говорит! Паня, что ты говоришь?» Ночь прошла мучительно. У Катюши примерзли к стене теплушки косы. А посреди, нет, в шаге от стены, жара не давала дышать. На другой день приехали мы в Рыбинск. Поезд загнали далеко на запасный путь.
11 апреля
До станции километра полтора. Зимние легкие облака, пар, будто примерзший к паровозам, не спеша меняющий очертания, какие-то склады, похожие на башни из неоштукатуренного кирпича, будничная, со свистками и гудками, жизнь многопутных подступов к узловой станции, и, словно опьянение, – внезапно проснувшееся чувство: жизнь продолжается. Касалось это чувство не меня, а всей земли, куда нас забросило. Почему-то поразили меня высокие деревья у переезда, белые и пышные от мороза, а под ними прохожие с человеческим, а не предсмертным выражением. Вторая радость – обозная часть какого-то воинского подразделения, сибирского, по слухам. Здоровенные парни в великолепных белых полушубках везли на розвальнях ящики, видимо, сгруженные с какого-то эшелона. А кони! Сытые, шерсть круто вьется от мороза, бегут, как играют. И новость – из Калинина немцы вышиблены и продолжают отступать[649] . Резкая черта прошла между вчерашней моей жизнью и сегодняшней. Мы с Авиловым отыскали комнату в большом не тронутом бомбежкой вокзальном здании. Тут выдавали ленинградским беженцам ордера на продукты. К моему удовольствию, Ваня круглоголовый и его остромордый спутник («волка ноги кормят») неизвестно почему – вернее всего, от избытка хитрости ища обходных путей, – опоздали и оказались в очереди позади нас. За столом стояла невысокая пожилая женщина, вернее всего, работница горсовета, похожая на экономку из зажиточной, но прижимистой семьи, с выражением сухим и холодным. Когда я заговорил с ней, она вдруг замахала руками и сказала: «Не перегибайтесь через стол, подальше, подальше!» И я вдруг понял, что для дуры мы – не братья, попавшие в беду, а возможные носители инфекции, угрожающие ей, бабе, опасностью. Она презирала нас за слабость, худобу, бездомность. Тем не менее она приняла список профессорской группы. Спросила: «Сколько детей?» Я ответил. А подлец Ванька пробормотал: «Ну, это уж преувеличено!»
12 апреля
С яростью повернулся я к нему и спросил: «Вы что ж, хотите сказать, что я обманываю?» В добротном пальто, с воротником под котик и в такой же шапке-кубанке возвышался Ваня-собственник, где бы он ни работал, Ваня-людоед, Ваня – участник единственной войны, которую понимал: всех против всех. По правилам этой войны прямые схватки допускаются в виде исключения. Поэтому каменное лицо его не отразило ничего, как будто он ничего не сказал, и я не ввязался с ним в спор. В сторону поглядывал и остролицый Ванин спутник («волка ноги кормят»). Представительница города Рыбинска, видимо, занятая одной мыслью, как бы я, наклонившись через стол, не заразил бы ее какой-нибудь эвакуационной инфекцией, не обратила внимания на краткую мою стычку с Ваней в кубанке и подписала распоряжение выдать причитающееся нам продовольствие. Получили мы консервы – крабы, хлеб – не помню, что еще. Выйдя с вокзала, никогда больше не увидел я Ваню и его спутника. Во всяком случае, в таком конкретном их воплощении. Мы услышали, что наш состав будет стоять в Рыбинске еще дней пять. Чувствуя необыкновенную легкость и наслаждаясь мыслью, что жизнь продолжается, двинулся я обратно к вагону. И опять увидел деревья, и обыкновенных людей, и склады, похожие на замок. И опять погрузился в привокзальную многопутную, полную кондукторских свистков на маневрирующих то длинных, то словно обрубленных составах, и паровозных гудков. Я встретил славную дочку или внучку Шервуда, заговорил с ней шутливо и легко, а она взглянула на меня с недоумением, словно с ней пошутил шлагбаум.
И я понял, что для нее я старик, смутно различаемый на фоне унылых спутников. По дороге мы с Авиловым решили, что жить в теплушке пять дней выше человеческих сил. Надо снять в городе комнату. В вагоне было просторно – спутники наши разбрелись на охоту. Не было и Германа и Гамалей – он увез устраивать ее куда-то в город. Падчерицы сторожили вещи. Мы поделили продукты, выданные на вокзале.
13 апреля
Тут я заметил, что старик Шервуд тоже немного повредился в уме. Когда стали рассчитываться за полученные продукты, он никак не мог разойтись с кем-то из-за пятнадцати копеек. За стенами теплушки уже давно счет шел на сотни, цены взлетели по-военному, а Шервуд вдруг вернулся к мирным ценам своей молодости. Впоследствии я читал и слыхал, что он хороший скульптор. Прожил он еще много лет. Но, услышав его фамилию или прочтя о нем в газете, я видел одно: закутанного старика со строгими, недоверчивыми глазами, – и блокада, эвакуация, теплушка, холод так и дышали на меня мертвым дыханием. Мы позавтракали. И тут произошло небольшое событие. Собачка падчериц вела себя так тихо и послушно, что никто из беспощадных спутников наших не открыл ее присутствия в теплушке. А тут, ободренная тишиной и терзаемая голодом, выползла она из своего убежища, прокралась к Шервудам и деликатно и неслышно съела баночку крабов, которую вскрыли они к завтраку. Мы с Авиловыми отправились искать комнату в городе. По дороге встретили мы Германа, дрожащего, взъерошенного, встревоженного. Я сказал ему, что мы решили остаться в Рыбинске. И больше никогда не видел его. Гамалей, как рассказывали потом, скончалась через несколько дней в Рыбинске, а сам Герман – через несколько месяцев, кажется, в Челябинске от воспаления легких. Комнату нашли мы быстро, недалеко от вокзала. Жить нужно было в одной комнате с хозяйкой и двумя ее ребятишками, и это после теплушки представлялось нам раем. Оставив жен на новой квартире, наняли мы человека с санями. Когда открыл я дверь в теплушку, сердитые голоса кричали: «Закрывайте, закрывайте скорей!» Народу все еще было немного. Кто-то, думаю, внучка или дочка Шервуда, вымыл пол теплой водой – пар еще курился над досками. Я сообщил, что ухожу, и это не произвело на моих спутников того впечатления, которого я ждал. Точнее, восторженное ощущение перехода к жизни, овладевшее мною, к моему удивлению, никак не передалось моим спутникам. Вот и с ними простился я навеки. Здоровенный парень повез на санках наши вещи, и мы с Авиловым пошли следом.
14 апреля
Последний раз я шел через привокзальное многопутное рыбинское хозяйство. Свистки, звон буферов, гудки. Солнце по-зимнему рано скрылось за низкими рыбинскими домами. Пар у паровозных колес и дым паровозных труб принял розовый цвет, красным стало небо на западе. Движение у переезда через пути, под знакомыми деревьями еще усилилось к вечеру. Все розвальни, а на них, стоя, солдаты в белых тулупах. Склады, похожие на замок, из неоштукатуренного кирпича так и светились на закате. И когда при мне говорят: «Рыбинск» – перед глазами так и воскресают мои путешествия от вокзала к составу и обратно. Особенно это последнее, вечернее. Когда мы пришли, жены наши помылись, привели себя в порядок и имели вид благостный, почти счастливый. Но когда я заставил Катю измерить температуру, градусник показал около тридцати девяти. Хозяйка принесла самовар – такое обилие воды показалось чудом после оттаянного снега. Дети, мальчики лет пяти и шести, сидели за столом и любовались на нас, как в зоологическом саду. Хозяйка достала нам немного картошки по какой-то неслыханной цене. У печки было пристроено подобие лежанки, выстланной кафелем, такой, впрочем, маленькой, что я на ней полулежал, наслаждаясь покоем и малолюдством. Всего пять человек в комнате (не считая нас с Катюшей). Нам поставили койки, застеленные чистым бельем, и мы уснули, как в раю, и утром Катюша проснулась здоровой. Ее спасло то, что мы вовремя бежали из теплушки. Авилов узнал с утра у каких-то военных, что комендатура поддерживает регулярное сообщение с Ярославлем на грузовиках. И мы пошли с ним в комендатуру. Комендант выслушал нас, взглянул на газету с приказом о награждении Авилова орденом Трудового Красного Знамени и приказал на другое утро быть с вещами во дворе комендатуры. Повеселев, вернулись мы домой. Еще бы, машина шла до Ярославля всего несколько часов. Часам к двум пошли мы гулять по городу. Низенькие дома. Неуверенное выражение. Пустой рынок.
15 апреля
Рано утром перевезли мы вещи во двор комендатуры. Небо снова было розовое, дым шел прямо в небо, градусник показывал минус тридцать пять. Спутники посоветовали нам достать одеяло. Машина тронулась в путь. Ледяной ветер продувал и одеяла и шубы, и казалось, что нашей дороге не будет конца. Я увидел домик у обочины шоссе, и мне страстно захотелось, чтобы оставили нас в покое, дали бы тут пожить, отогреться, одуматься, но машина мчалась дальше, и мы как-то пережили путь от Рыбинска до Ярославля.
16 апреля
Ярославль прежде всего глядел городом военным. Сущность его отступила на задний план. Проходили части все туда же, к Калинину, преследовать отступавшего противника. Мы высадились у гостиницы на площади, против театра. Директор гостиницы только руками развел. Все номера заняты командованием проходящих через город подразделений. Единственное, что он разрешил, положить в коридоре вещи и подождать нашим женщинам, пока мы найдем где-нибудь пристанище. А тут пришли с репетиции актеры театра и, не спросив, кто мы и что мы, зная только, что ленинградцы, взяли нас к себе. И, позавтракав, отправились опять в театр продолжать репетицию, оставив нас, чужих людей, у себя в номере. Всю жизнь буду благодарен артисту Комиссарову[650] и его жене. И, придя домой между репетицией и спектаклем, они все старались, чтобы нам было удобнее, старались накормить нас. У стены в номере стояли санки, груженные малым количеством вещей. Оказывается, калининские актеры, когда город был взят немцами, ушли из театра в гриме, кто в чем был, без вещей. И ярославские актеры приготовили на всякий случай санки, если придется уходить так же внезапно, как несчастным калининским товарищам. Вскоре я лишний раз убедился, какая могучая междуведомственная сила театр. От него ждали и получали только праздник и радость среди будней и напряжения. И эта божественная театральная сила сделала разом то, что мы с Авиловым сделать не могли. Нам выписали такое количество продуктов, какого не получал я потом во всю войну. Огромный круг швейцарского сыра, вареных кур, колбасы. Затем начальник Ярославской дороги позвонил в Москву. Появились скорые поезда.
17 апреля
И вот для нас в Москве заперли в скором поезде купе, чтобы в Ярославле отпереть. Иначе попасть было невозможно в этот вид поездов. В ожидании прожили мы в Ярославле дня три. Чтобы не стеснять Комиссаровых, разыскали мы Тыняновых – семью брата Юрия Николаевича, Льва. Никого не застали дома, но жена брата Юрия Николаевича пришла за нами в гостиницу. Лев Николаевич в Ярославле отсутствовал, работал начальником санитарного поезда. Жена его, тоже врач, и дети, мальчик и девочка, приняли нас бережно и ласково, как своих. Жизнь, теплота жизни, пульс вдали от места удара, от блокадного Ленинграда и беспощадной теплушки, вдруг стала ясно ощущаться. Да, жизнь продолжалась. Мы даже погуляли за эти три дня по Ярославлю, смутно выступающему сквозь войну и воинские части, проходящие через город. Вышли на набережную Волги, но замерзшая река уничтожила впечатление берега. Дорога да и только. Авилов вспоминал молодость. Художников его школы никогда я не встречал, и мне странно было видеть в нем признаки жизни. Поезда отходили не с ярославского вокзала, а со станции Всполье – километрах в восьми от города. Мы простились на рассвете с актерами и уселись в грузовик, который всемогущий театр и добыл нам. Катюша сидела рядом с шофером, в кабинке. В руках держала крошечную нашу «Корону»[651] . Едва отъехали мы от гостиницы, машина круто повернула, и испорченная дверь кабины распахнулась, и Катя, мелькнув черной шубой и черной «Короной», упала, как мне показалось, под машину, под задние колеса. Грузовик не сразу затормозил. Я отчаянно закричал, но, соскочив, увидел, что Катя спокойно бежит следом. Ее выбросило на кучу снега, и она даже не ушиблась. Я с трудом понял, что все кончилось благополучно, а машина мчалась по затемненному городу. За городом стояла воинская часть, ожидая погрузки. Солдаты, не считаясь с затемнением, развели костры. Это были лыжники с копьями.
18 апреля
Они стояли у костров, лыжи остриями вверх, похожие на копья, и мне показалось, что я где-то уже видел нечто подобное. И вдруг меня сквозь сумятицу и туман последних дней осенило: рать стоит под Ярославлем, не то половцы, не то наши собрались в поход. Вот и Всполье. Тут уж резко другое историческое ощущение: гражданская война. Вокзал забит беженцами, резкий запах дезинфекции, запах унылый и пронзительный, напоминающий близость заразы, а не борьбу с ней. Бессилие перед заразой. Я стучу в окошко дежурного по вокзалу, или, точнее, по огромному деревянному свежевыстроенному бараку для беженцев А все население барака шевелится в тусклом свете, нехотя просыпается к утру. У меня записка о четырех наших билетах, подписанная начальником дороги. Окошечко дежурного, наконец, распахивается, и передо мной появляется человек со смятыми усами, распухшим лицом. Не давши мне и слова сказать, он начинает жаловаться: «Неужели человек не может хоть часок поспать? Есть у вас сознательность? Какая записка от начальника дороги? Ничего мне неизвестно' Скорый поезд давно прошел, а вы мучаете человека!» И окошечко захлопывается. И я остаюсь в одиночестве – точнее, сразу присоединяюсь к массе беженцев. Кричат сердито и жалобно на особый, душу помрачающий лад, по-беженски, грудные дети. По тому, как разложены узлы и постелены прямо на полу постели, угадываешь сразу, что люди не могут выбраться из барака не первый день. На мгновение испытываю я отчаяние и вдруг замечаю женщину в железнодорожной фуражке с красным околышем. Она идет, улыбаясь чему-то. Она тут хозяйка, ад для нее не ад, тут ей ругаться нечего Я бросаюсь к ней, протягиваю записку. «Ах, это вы и есть», – говорит она со своей странной, довольной улыбкой. Ей здесь нравится! И ведет нас к кассе и выносит нам оттуда билеты. И вот мы стоим на перроне мирного времени. Барак остался памятен одним: у меня из кармана украли пачку табака. Мы стоим на перроне, и подходит скорый поезд, и проводник мягкого вагона, проверив билеты, предлагает войти.
19 апреля
Чудо! В длинном коридоре мягкого вагона тепло, стекла широких окон, откидные сиденья вдоль стенки, занавески. Мы занимаем купе. После того как Катя едва не погибла при выезде, после бесконечной древней рати, ставшей между Ярославлем и Вспольем, после прыжка из древних времен в эвакуацию 18–19 года, вдруг оказываемся мы в мягком вагоне, подчеркнуто щеголеватом. Задача его быть вагоном мирного времени, вопреки войне. Пассажиры толпятся у окон немногие, проснувшиеся на рассвете. Сырой длинноволосый крупный человек в толстовке, как выясняется позже – инженер, мобилизованный, направленный в Киров. Говор у него московский, что теперь редкость, певучий. Несколько военных. Единственное, что отличает сегодняшний скорый поезд от довоенного, это его медленность. Он опоздал на пять часов, о чем предупредил нас начальник дороги заранее. Он и велел ехать на вокзал к пяти, хотя по расписанию приходит поезд в 12 ночи. Вот почему так напугал меня разбуженный мной усатый железнодорожник, сказав, что скорый давно прошел. Мы распределили в купе свой багаж и тоже подошли к широкому зеркальному стеклу окна. Перрон был пуст. Никого не тянуло к плоскому, зловещему, тускло освещенному бараку. Поезд двинулся неожиданно, звонков мы не расслышали. Едва миновали мы Всполье, как среди военных заметили мы оживление. Они показывали на небо – и вдруг издали-издали донесся механический звериный знакомый вой. Воздушная тревога! Вот отчего отправили нас без звонков. В посветлевшем уже небе увидел я вспышки, словно клочки ваты, – обстреливали самолет противника. И на меня напал смех. Эта тревога после наших блокадных показалась мне такой неуместной, провинциальной. И в самом деле кончилась она ничем. И потянулся день полусонный – я все спал на своей полке. И почти счастливый. Мешало твердое ощущение, что все пережитое не исчезло от того, что попали мы в мягкий вагон [из] теплушки. Ваня, голод, блокада, война, кровь. Но мы отдыхали.
20 апреля
Наш скорый поезд шел с большим опозданием, чему я радовался. Будущее представлялось неясным. Мы ехали в Киров… Где мы будем в Кирове жить? Чем я буду зарабатывать? Я чувствовал себя ленинградским человеком, а кому я нужен за его пределами? Кто меня тут знает? Но все это была задача будущего, когда скорый поезд придет в Киров. Но он опаздывал, к счастью. Мы подолгу стояли на разъездах. Пропускали эшелоны с машинами, идущие на восток, платформы с орудиями и войсками, идущие к нам навстречу. А я спал, отдыхал и чувствовал твердо, что таких перерывов у меня в ближайшем будущем будет немного. Ехали мы трое или четверо суток. Вот и Котельнич, где родился Рахманов, больше до Кирова городов нет. Темнело. И мы увидели вскоре поселок, который собрал к окнам всех пассажиров, – чудо! Он был освещен. Кончилась зона затемнения. В Киров приехали мы утром… И пошли по кировским улицам. Деревянные домики, деревянные мостки у ворот. Тротуары. Вот дорога повела вверх. Двухэтажное каменное здание старинной стройки, достаточно тесное, – областное издательство и редакция областной газеты. Впоследствии я узнал, что это бывший губернаторский дом, где и жил губернатор Тюфякин и бывал или даже служил Герцен[652] . И снова деревянные дома, у которых такое выражение, что стоят они скрепя сердце, против воли.
21 апреля
Вятка помещиков почти не знала, все государственные крестьяне. Город выстроили купцы и мещанство. А эти об одном заботились, чтобы дом получился вместительным. Так просто обратились серые вятские дома в коммунальные квартиры с длинным списком фамилий жильцов на столбе ворот. Выше, выше – и вот площадь, где некогда стоял собор Витберга, о котором рассказывал Герцен[653] . Сегодня вместо собора раскинулся тут театр. Москве впору, белый, с колоннами, высокий.
23 апреля
Побывал я в театре. Прошел через актерский вход. Тут же на лестнице встретил Малюгина, который сказал, что только теперь, увидев меня, он понимает, что такое блокада. Но ему это казалось. Он не понимал, и это была не его вина. Обедали мы в столовой театра, и артист Карнович-Валуа спросил: «Теперь небось жалеете, что уехали из Ленинграда?». Ну как я мог объяснить ему, что между Кировом и Ленинградом была такая же непроходимая черта, как между жизнью и смертью. Они все начали понимать это недели через две. Малюгин отвел меня в кабинет к Руднику. Он был тогда и худруком и директором театра. Молодой, высокий, с таким выражением лица, что он, пожалуйста, не прочь в драку, меня тем не менее принял милостиво.
24 апреля
Обещал комнату, если освободится она в театральном доме. Но мы все искали пристанища. Заходили в маленькую гостиницу на площади, где я познакомился с драматургом Осафом Литовским и его словно оглушенной женой – сын их только что пропал без вести или был убит. Славный мальчуган, который так прекрасно сыграл Пушкина-лицеиста в кино…[654] Шли мы по главной улице до полукруглого здания исполкома, вход в который был снизу. Улица обрывалась круто вниз. Далеко внизу в голубом дыму простирался деревянный Киров. Мы спускались, шли направо, переходили мост над обрывом, застроенным широко раскинувшимися домами, над широким обрывом, по широкому мосту, сначала незнакомому, а потом такому привычному, с металлическим узором решетки. Отсюда дорога снова вела вверх. Мы проходили мимо кирпичного неоштукатуренного особняка, дальше, дальше, и мы, наконец, попадали на большой рынок. Вначале я не знал, что за особняк миную по пути к рынку. А потом местные жители рассказали, что принадлежал особняк купцу, по фамилии Булычев, и его фамилию взял – по местной легенде – Горький для своего героя.
25 апреля
Большой драматический театр, короче говоря, Рудник, выдал мне постоянный пропуск. В графе «должность» стояло: «драматург». В театре получил я карточки. Отоваривались одни хлебные, здесь же, в театре, продуктовые шли на обед. Мы получили пропуск в столовую ученых – писатели были прикреплены туда.
26 апреля
В Детгизе, эвакуированном в Киров же, меня встретили приветливо и дали работу – написать примечания и предисловие к книге «Без языка» Короленко. Пришла телеграмма из Алма-Аты, подписанная Козинцевым, Траубергом и еще кем-то, приглашающая срочно перебираться к ним. Следовательно, уехав из Ленинграда, я не остался в одиночестве и нужен кому-то. С утра 1 января 42 года уселся я за работу. Писать пьесу «Одна ночь». Я помнил все. Это был Ленинград начала декабря 41 года. Мне хотелось, чтобы получилось нечто вроде памятника тем, о которых не вспомнят. И я сделал их не такими, как они были, перевел в более высокий смысловой ряд. От этого все стало проще и понятней. Вся непередаваемая бессмыслица и оскорбительная будничность ленинградской блокады исчезли, но я не мог написать иначе и до сих пор считаю «Одну ночь» своей лучшей пьесой: что хотел сказать, то сказал. Дня через три после нас появился в Кирове Театр комедии. А может быть, и позже – они ехали в Копьевск эшелоном, не перегружаясь в скорый поезд, как мы. Они тоже удивлялись, что невозможно объяснить кировцам, что такое блокада. Дня два кировские и ленинградские лица мелькали в театральных коридорах, странно несоединимые, но соединившиеся, как во сне, и Театр комедии проследовал дальше, а мы остались.
27 апреля
[Я] продолжал писать пьесу. Читал отрывок за отрывком Малюгину. Писал для Детгиза… Работу мою в Наркомпросе приняли и оплатили… Зарабатывал я и на елке. Меня позвали устроители в кукольный театр выступить один раз бесплатно. А потом сразу предложили по пятьдесят рублей за выступление до конца программы. Словом, я стал врастать в кировскую жизнь. Счастливее всего чувствовал я себя оттого, что работаю. Пьеса двигалась быстро.
29 апреля
В комнатах верхнего этажа жили главным образом актеры Большого драматического театра. В первой комнате от начала Мариенгоф и Никритина. Это были уже настоящие ленинградские знакомые. С Никритиной мне было легче, чем с ним. Она была умнее, гибче и богаче. А в Толе засело что-то прямое и небогатое. Он ленив на споры и уклончив, но с ним не мог не спорить. Как заявит он: «Искусство не есть явление природы», – ну как тут удержаться. Я до сих пор и не думал на эту тему, но тон уж очень учительский. И я с яростью бросался в бой, никогда, впрочем, не переходящий за пределы: мы все-таки понимали, что земляки. А кроме того я никогда не мог рассердиться на Мариенгофа. Что-то наивное было в его рассуждениях. У Мариенгофов встретил я Сарру Лебедеву. И впервые разглядел ее как следует.
30 апреля
Для того чтобы писать портреты, нужно выбрать расстояние и понимать точно того, кого пишешь. А в этой суете, суете 42 года, я чувствовал себя не портретистом, а частью единого целого. О блокаде я мог писать, а тут я находился – очень уж в середине. Сарра Дмитриевна в свои пятьдесят лет все глядела королевой. Была наблюдательна. Заметила, что артистка эстрады, живущая в том же коридоре, что и она, успевшая со всеми переругаться, разговаривала только сама с собой: «Вот я сейчас чайничек поставлю. Вот и поставила. Вот сейчас картошечку почищу». Заметила она, что старики в семье – обуза, а на старухах весь дом держится. И в самом деле: старики только и делали что сидели на большом сундуке под рупором громкоговорителя, ждали последних известий, а старухи и стирали, и бегали в магазин, и готовили, и смотрели за внуками, – казалось, что на старухах весь дом держится. Однажды в сорокаградусный мороз привез колхозник меду. Вся матовая глыба так замерзла в бочонке, что не поддавалась никаким усилиям. Сам колхозник растерялся. Сарра Дмитриевна подумала и принесла кастрюльку кипятку и нож. Опустила нож в кипяток, и горячее лезвие легко врезалось в замерзший мед. «Золотые руки, – подумал я. – Она чувствует, как обращаться с материалом!» И даже колхозник похвалил ее. Сарра Дмитриевна занимала свое место в жизни твердо, не суетясь и не высовываясь. Королевский титул не позволял. Крупная, спокойная, проходила она через беспокойный наш быт. И гораздо больше, чем Владимир Васильевич[655], и брала от жизни и отдавала. Когда, примерно в феврале, Радлов[656] и его жена, сестра Лебедевой Анна Дмитриевна[657] выехали из Ленинграда, – как засветилась Сарра Дмитриевна, получив письмо. Я и Никритина как раз были у нее. И она на радостях дала нам прочесть письмо. Радлов кончал письмо так: «Целую твою талантливую мордочку». И я ужаснулся: так это не соответствовало Сарре Дмитриевне с ее королевской сущностью. И когда мы вышли, Никритина призналась, что эта фраза тоже так и резнула ее.
2 мая
Здесь мне легче и интересней всего бывало с Малюгиным. У меня в те дни было очень ясное желание оставаться человеком вопреки всему. И Малюгин, много работавший, чувствовавший себя ответственным за весь театр, грубоватый и прямой, помогал мне в этом укрепиться. И я читал ему «Одну ночь», сцену за сценой.
4 мая
Так или иначе, все более подчиняясь вятскому быту и все менее ему подчиняясь, дописал я пьесу. И была назначена читка на труппе. Большое фойе, наполненное до отказа. Белые стены. Актеры. Никитин и встревоженная Ренэ[658] . В заднем ряду старик Бродский, маленький, со страстным и вместе отсутствующим взглядом выцветающих коричневых глаз. Он глядел в прошлое, презирая настоящее. Он был некогда издателем журнала «Солнце России», за что актеры в высшей степени его уважали. Чтение имело неожиданно большой успех. Выступали многие, даже Никитин, – и все положительно. Театр заключил со мной договор… В театре вообще относились ко мне дружелюбно, а после читки стали совсем ласковы. Не понравилась пьеса только Бродскому, о чем я узнал случайно. Что именно ему не нравится, – не сообщили. Сам же он при встрече со мной ничего не говорил, только глаза его, смотрящие в пространство, страстные и вместе с тем безразличные. Безразличные к нам, нынешним. 9 апреля купил я впервые счетную тетрадь и начал записи. Пятнадцать лет прошло с тех пор.
7 мая
Досталась мне «Цитадель» Кронина, которую прочел я дважды[659] . Вторая половина «Домби и сына». С головой проясненной и с душой, из которой будто выколотили пыль, я с удивлением и восторгом читал Диккенса и боялся, что сестра заглянет в дверь и примет меня за сумасшедшего, – так я смеялся. Меня поражало отсутствие второстепенных лиц в романе. Вплоть до собаки все описаны с одинаковой силой энергии. Ни одного пустого места. Это утешало.
9 мая
«Золушка» в 47 году имела успех. В том же году режиссер Грюндгенс в Театре имени Рейнгардта в Берлине поставил «Тень», и тоже с успехом. После этого пошли неудачи в течение нескольких лет. Правда, мне казалось, что я научился писать прозу. А вместе с тем не мог дописать детскую пьесу[660] . И, насилуя себя, работал для Райкина[661] . И до сих пор помню чувство унижения, нет, заколдованности, когда пытался я переделать чужой роман для Центрального детского театра. И сценарий[662] … Успех «Обыкновенного чуда» в Москве и тут «Дон Кихот», которого Козинцев будет на днях показывать в Канне[663] .
Лежу, болею, но не слабеет жажда [жизни] самой обыкновенной, уходящей корнями в самую обыкновенную унавоженную землю. И вместе с тем изменение в духовной жизни. Не знаю, что будет. Опять хочется писать. Ну, вот и довел я рассказ до сегодня.
15 мая
Я хочу писать обо всем. Для взрослых. Очиститься от скорлупы детской литературы. Но здесь нужен такт.
18 мая
Жюри в Канне забаллотировало «Дон Кихота». Премия досталась картине «Сорок первый»[664] . Перед этим появились сообщения, что картина «Дон Кихот» прошла с исключительным успехом, что это событие, что впервые за существование романа удалось воплощение его в другом виде искусства, и так далее и так далее. Передавалось это по радио (у нас). В «Советской культуре» напечатаны сообщения «Франс пресс» и агентства «Рейтер», что критика дала высокую оценку «Дон Кихоту»[665] . Если бы всего этого не было, то я ничего бы и не ждал. Тем более что о сценаристе, говоря о фильме, как правило, и не вспоминают. Но все равно есть командное чувство. Команда, в которой ты играешь, за которую ты отвечаешь в большей или меньшей степени, – вдруг проигрывает. И тут неудачу ты чувствуешь, пожалуй, острее, чем удачу.
1 июня
Когда-то в 20-х годах Маршак сказал, что я импровизатор. Шла очередная правка какой-то рукописи. «Ты импровизатор, – сказал Маршак. – Каждый раз твое первое предложение лучше последующего». Думаю, что это справедливо. «Ундервуд» – написан в две недели. «Клад» – в три дня. «Красная Шапочка» – в две недели. «Снежная королева» – около месяца. «Принцесса и свинопас» – в неделю. В дальнейшем я стал писать как будто медленнее. На самом же деле беловых вариантов у меня не было, и «Тень» и «Дракон» так и печатались на машинке с черновиков, к ужасу машинистки. Я не работал неделями, а потом в день, в два делал половину действия, целую сцену. И еще – я не переписывал. Начиная переписывать, я, к своему удивлению, делал новый вариант. Смесь моего оцепенения с опьянением собственным воображением – вот моя работа. Оцепенение можно назвать ленью. Только это будет упрощением. Самоубийственная, похожая на сон бездеятельность – и дни, полные опьянения, как будто какие-то враждебные силы выпустили меня на волю. К концу сороковых годов меня стало пугать, что я ничего не умею. Что я ограничен. Что я немой – так и не расскажу, что видел. Но в эти же годы я невзлюбил литературу – всякая попытка построить сюжет – и та стала казаться мне ложью, если речь шла не о сказках. Я был поражен тем, что настоящие вещи, – в сущности – дневник, во всяком случае в них чувствуешь живое человеческое существо. Автора, таким, каким был он в тот день, когда писал. И я заставил себя вести эти тетради. Но теперь подошел к новой задаче. Отчасти из страха литературности, отчасти по привычке я и тут все писал начисто.
8 июня
Третьего июня показывали «Дон Кихота» писателям. Так как идет, точнее, шла какая-то конференция в Пушкинском Доме, то пришли и профессора. На обсуждении выступали: Эйхенбаум, Оксман, Коля Степанов, Виноградов, Алексеев. Из писателей Панова. Хвалили. В Москве картина, к моему удивлению, делает полные сборы. Я понимаю, что это хорошо, и не слишком понимаю. Автор картины – это режиссер, а никак не сценарист. Что бы там ни говорили в речах. Мне бы пора остепениться, но я не могу.
9 июня
На душе туман, через который я отлично вижу то, что не следует видеть, если хочешь жить. Старость не дает права ходить при всех в подштанниках. И даже если жизнь кончена, не мое дело это знать. Это не мысль, а чувство, которое я передаю грубовато, а переживаю вполне убедительно.
24 июня
Сегодня семь лет с тех пор, как начал я писать ежедневно в этих тетрадях. А в апреле исполнилось пятнадцать лет с тех пор, как я их веду. Но семь лет назад начались ежедневные записи, в чем и заключается главный их смысл. Пишу я лежа, плохо с сердцем, а чувствую я себя в основном хорошо.
29 июня
Утром – письмо от Шнейдермана[666] . Необыкновенно хвалебное. По поводу «Дон Кихота» и «Дракона». Здоровье не желает улучшаться.
3 июля
Вчера был Козинцев, принес немецкие плакаты «Дон Кихота». Очень красиво сделанные.
4 июля
Козинцев подчеркнуто насмешлив и зол, что дается ему без всякого труда. Человек он по-настоящему образованный. Шекспира знает, как никто в кинематографе и его окрестностях, причем читал его в подлиннике и прочел все, что можно о Шекспире, составил целую библиотеку, и профессиональные шекспирологи уважают его. Когда работали мы над [Сервантесом][667], убедился я в богатстве его знаний по эпохе Возрождения и по истории того времени. Он поймал художника, повесившего на стене герцогского дворца портрет адмирала, жившего лет через пятьдесят после событий, происходящих в фильме. И о знаниях своих он не звонит, не добивается ученого звания, как это любят в кино. Статьи его о шекспировских пьесах внушают уважение[668] . Но знания его не снимают злости, почти женской, а злость не вынимает из его составных частей настоящую любовь к искусству, к высокому искусству. И поэтическое чувство, вспыхивая в его коричневых глазах, не убивает скупости. Ну что тут делать!
7 июля
Вчера вечером вышел к столу. До этого смотрели по телевизору «Искателей» Гранина[669] . Роман испорчен. Картина суха.
8 июля
Вчера был Козинцев, приходил прощаться – уезжает в Дубулты со всем семейством. Был он ясен, болотные туманы не поднимались над его душой, и он соответствовал своей стройной и тонкой фигуре с коричневыми глазами. Говорил, что никак не может придумать, о чем писать дальше. Перебирал все: от интернациональной бригады в Испании до Фальстафа. Поругали мы рецензию в «Смене»[670], и тут даже Козинцев, как выяснилось, не помнит, что сочинено, а что взято из романа. Он полагал, что сцена ухода Санчо с губернаторского поста – чистая цитата. Даже подсмеивался надо мной. «Он себя не отличает от Сервантеса». Пришлось мне достать подлинник и прочесть сцену ухода, великолепную и печальную, и вовсе не похожую на то, что написал я в сценарии. И Козинцев удивился: как это испанцы в Канне этого не заметили?
13 июля
Вот теперь вплотную становится на очередь задача: что писать. Надо бы и для ТЮЗа. «Сказка о храбрости» раздражает поучительностью. И я не вижу воздуха, которым все они дышат. Если взять трех братьев, из которых один без промаха стреляет, другой выпивает море. Впрочем, ему можно дать другой талант. Впрочем, и это неприятно, тянет в одну сторону, а хочется чего-то вполне человеческого. Брат и сестра ищут покоя в диком лесу. Неинтересно и невозможно. Как в тумане мелькают передо мной городские стены, усатые люди в шароварах. Пираты? Мальчик, которого везли лечиться от храбрости, потому что он вечно был на волосок от смерти? Если подобный мальчик попадает к пиратам, он может навести на них такого страху, что освободится в конце концов. В этом уже есть что-то веселое. Он учит мальчиков, находящихся в плену, сопротивляться разбойникам. Находит девочку, которая до того запугана, что ее не научишь храбрости. Но и она вдруг кажется героиней, когда мальчик попадает в опасность. Пираты не знают, что характер девочки изменился, и это – победа. Пираты – неудачники. Все учились, но плохо. Главный из них за всю жизнь получил одну тройку и считается с тех пор среди своих мудрецом. И при этом они усаты, ходят в шароварах, охотно поднимают крик, хватаются за оружие. Ладно. Но время? Чей сын мальчик? А если он племянник богатого русского купца? Вся семья один к одному храбрецы в свою пользу. А этого испортили. За всех заступается. Недавно отбил у разбойников старика. Ведь надо уметь считать! Много ли старику жить осталось, чтоб ради него жизнью рисковать. И отправляют мальчика в дальний путь: «Надо уметь считать. Жалко парня, но оставь его – от него одни убытки пойдут», – и так далее. Пираты говорят традиционным пиратским языком. Девочка сама не помнит, откуда она, – тут на корабле и выросла. Поэтому тон у нее мягкий и нежный, а язык чисто разбойничий.
14 июля
Все это было бы ничего – да слишком уж напряженно. Хочется пружинку попроще и обстановку тоже. Хорошо, если бы не выходила вся история за пределы дома, самого обыкновенного современного дома. Он построен не на пустом месте. Есть время, когда старые жильцы просыпаются и через очертания нового здания проступают прежние, до маленькой избенки, стоявшей на этом месте триста лет назад в глухом лесу.
Они твердо помнят одно, одно соединяет их: хуже всего смотреть безучастно на чужие несчастья. От этого и сам становишься потом несчастным. Нет. Поучительно. Лучше так: люди разных поколений вместе участвуют в разных приключениях. Надо проще. Вчера в «Правде» заметка, что «Дон Кихота» показывают на фестивале в Локарно[671] .
15 августа
Попытка сделать бессюжетную историю о страстях уж слишком разваливается. Как это ни странно, пьесу я могу начать, только когда мне ясна форма. А в прозе определенная форма раздражает меня, как ложь. Приехал Акимов из Карловых Вар. Привез лекарства. Много рассказывает. Но форму новой пьесы так же мало чувствует, как я. Ничего не подсказывает, а раньше любил это делать. Видимо, переживает такую же неясность в мыслях, как я. А я, если не буду считать себя здоровым, видимо, ничего толком не придумаю.
18 августа
Подходит к концу тетрадь, которую вел я в необыкновенно унылое время. Свободной формы для прозы так и не нашел; нет формы – значит, лепишь фразы на плохо знакомом языке. Для разговору не годится, не только что для работы.
Откуда брать материал для новой пьесы? Все, что я читаю, раздражает поспешностью, с которой начинают меня учить. И акта не прошло, как начинаются хитрости, которым грош цена. И хоть бы учили великим прописным истинам. Нет. Пристли рассказывает, как люди начинают безумствовать из-за денег, найдя клад[672] ; Сориа – об ученом, работающем в области водородной бомбы, едва не погубившем жену[673] ; Кронин – об ужасе карьеризма в науке[674] . Всему этому грош цена, до того это вяло промурлыкано. Сказка как таковая – не умещается на сцене. Необходимо время и место. Иначе не поймешь, как актеров одевать. И сказочный тон, приглаживающий и упрощающий, не к лицу в шестьдесят лет. Но и реализм, приглаженный и упрощенный, – хуже всякой сказки. Есть мне что сказать? Конечно! Но пока нет формы, то, что я знаю, валяется, как составные части еще неизвестной конструкции. Вот уж, воистину, материал. И только.
У меня есть отношение к материалу – но вялое, не дающее тока.
20 августа
Тридцать лет назад мне жилось легко, несмотря ни на что, потому что чувство «пока» еще не оставило меня. Собственно говоря, ждать, казалось бы, нечего. Друзья и сверстники писали книги, да и я, в сущности, писал. Но я писал книги маленькие, в стихах, для дошкольников, и мне чудилось, что я за них не отвечаю. Те же книги, что писали мои сверстники со всей ответственностью, прозаические, толстые, – так глубоко не нравились мне, что я не беспокоился. Видишь, как изменился с тех лет, когда прочтешь «Зависть» Олеши[675] . Книга нравилась всем, даже самым свирепым из нас. Тогда. Но, прочтя ее в прошлом году, я будто забыл язык. Я с трудом понимал ее высокопарную часть. Только там, где рассказывает Олеша о соли, соскальзывающей с ножа, не оставляя следа, или описывает отрезанный от целой части кусок колбасы, с веревочкой на ее слепом конце, вспоминаешь часть тогдашних ощущений. Мы, видимо, были другими, кое-что я могу назвать из своих получувств-полумыслей точнее, чем в те дни, а кое-что ушло, и не поймаешь. Дело не в том, что я стал старше, а в том, что двадцатые и тридцатые годы – это целые эпохи, с новыми людьми, новыми книгами, и переходы совершались резче, чем это можно предположить. Административно и вместе с тем органично. Я прочел в «Вечерней красной» о том, что найден будто бы способ делать искусственные старинные, столетние вина. И одно время (как раз тридцать лет назад) думал написать рассказ сверчка, на глазах у которого совершается этот процесс, это чудо, меняется мир. Но не нашел формы – и тем самым мыслей, достаточно воплотившихся.
29 августа
С 21-го я заболел настолько, что пришлось прекратить писать – а ведь я даже за время инфаркта, в самые трудные дни продолжал работать. На этот раз я не смог. Вчера мы вернулись в город. Поехали в Комарово 24 июля, вернулись 29 августа, и половину этого времени, да что там половину – две трети болел да болел. И если бы на старый лад, а то болел с бредом, с криками (во сне) и с полным безразличием ко всему, главным образом, к себе – наяву ко мне никого не пускали, кроме врачей, а мне было все равно. Здесь я себя чувствую как будто лучше, но [безразличие] сменилось отвращением и раздражением. Приехал Глеб[676], который не раздражает, а скорее радует, но он – по ту сторону болезни, как и все. Сегодня брился и заметил с ужасом, как я постарел за эти дни в Комарове. С ужасом думаю, что придет неимоверной длины день, Катя возится со мной, как может, но даже она – по ту сторону болезни, а я один, уйти от нормальных людей – значит непременно оказаться в одиночестве. Все перекладываю то, что написал за мою жизнь. Настоящей ответственной книги в прозе так и не сделал. Видимо, театральная привычка производить впечатление испортила. Да и не привык работать я последовательно и внимательно. Сразу же хочется начать оправдываться, на что я не имею права, так как идет не обвинение, а подсчет. Я мало требовал от людей, но, как все подобные люди, мало и я давал. Я никого не предал, не клеветал, даже в самые трудные годы выгораживал, как мог, попавших в беду. Но это значок второй степени и только. Это не подвиг. И, перебирая свою жизнь, ни на чем я не мог успокоиться и порадоваться. Бывали у меня годы (этот принадлежит к ним), когда несчастья преследовали меня. Бывали легкие – и только. Настоящее счастье, со всем его безумием и горечью, давалось редко. Один раз, если говорить строго. Я говорю о 29 годе[677] . Но и оно вдруг через столько лет кажется мне иной раз затуманенным: к прошлому возврата нет, будущего не будет, и я словно потерял все.
30 августа
Догонять пропущенное уже сил нет (или еще сил нет), так что за мной долгу дней десять. Это бывало за семь лет, что ведутся книжки, особенно вначале, в 50 году, когда я не был так педантичен. Сейчас случилось поневоле. Я болел, неинтересно болел, как, бывает, неинтересно пьешь: никак не напьешься, только в голове пусто. Продолжаю подсчет. Дал ли я кому-нибудь счастье? Не поймешь. Я отдавал себя. Как будто ничего не требуя, целиком, но этим самым связывал и требовал. Правилами игры, о которых я не говорил, но которые сами собой подразумеваются в человеческом обществе, воспитанном на порядках, которые я последнее время особенно ненавижу. Я думал, что главные несчастья приносят в мир люди сильные, но, увы, и от правил и законов, установленных слабыми, жизнь тускнеет. И пользуются этими законами как раз люди сильные для того, чтобы загнать слабых окончательно в угол. Дал ли я кому-нибудь счастье? Пойди разберись за той границей человеческой жизни, где слов нет, одни волны ходят. И тут я мешал, вероятно, а не только давал, иначе не нападало бы на меня в последнее время желание умереть, вызванное отвращением к себе, что тут скажешь, перейдя границу, за которой нет слов. Катюша была всю жизнь очень, очень привязана ко мне. Но любила ли, кроме того единственного и рокового лета 29 года, – кто знает. Пытаясь вглядываться в волны той части нашего существования, где слов нет, вижу, что иногда любила, а иногда нет, – значит, бывала несчастна. Уйти от меня, когда привязана она ко мне, как к собственному ребенку, легко сказать! Жизни переплелись так, что не расплетешь, в одну. Но дал ли я ей счастье? Я человек непростой. Она – простой, страстный, цельный, не умеющий разговаривать. Я научил ее за эти годы своему языку – но он для нее остался мертвым, и говорит она по необходимости, для меня, а не для себя. Определить, талантлив человек или нет, невозможно, – за это, может быть, мне кое-что и простилось бы. Или учлось бы. И вот я считаю и пересчитываю – и не знаю, какой итог.
20 октября
Обычно в день рождения я подводил итоги: что сделано было за год. И в первый раз я вынужден признать: да ничего! Написан до половины сценарий для Кошеверовой[678] . Акимов стал репетировать позавчера, вместе с Чежеговым, мою пьесу «Вдвоем», сделанную год назад[679] . И больше ничего. Полная тишина. Пока я болел, мне хотелось умереть. Сейчас не хочется, но равнодушие, приглушенность остались. Словно в пыли я или в тумане. Вот и все.
Фотографии
Ф. Шелков – дед Е. Л. Шварца. 1880-е гг. Рязань.
Б. Шварц – дед Е. Л. Шварца, с сыновьями (слева направо): Самсоном, Львом. Александром и Исааком 1890-е гг. Екатеринодар.
Семья Е Л Шварца 1906 г Майкоп Справа от Е Л Шварца – его брат Валентин
Е Л. Шварц. 1899. Екатеринодар.
М Ф. Шварц– мать Е. Л. Шварца 1930-е гг.
Л. Б. Шварц – отец Е. Л. Шварца. 1930-е гг.
Е Л. Шварц 1911 г. Майкоп.
Л. П. Крачковская. 1912 г. Майкоп.
Реальное училище в г. Майкопе.
Класс реального училища. 1912 г. Майкоп. Е. Л. Шварц – второй слева во втором ряду.
В имении К. Д. Косякина Николаевка Ставропольской губернии. Стоит Е. Л. Шварц, крайняя справа – В. В. Соловьева.
Е. Л. Шварц (во втором ряду первый слева) с друзьями юности Л. М. Оськиным и сестрами Е. Г. и М. Г. Зайченко (сидят). 1915 г.
Е. Л. Шварц (в центре) с друзьями юности Ю. В. Соколовым (слева) и Е. Я. Фреем (справа). 1912 г. Майкоп.
Е Л. Шварц с родителями М. Ф. и Л. Б. и братом В. Л. Шварцами. 1917 г.
На юбилее М. А. Кузмина. 1927г. Ленинград. Среди присутствующих М А Кучмин – в центре. Слева – А. Д. Радлова, справа Вс.А. Рождественский. Стоит в центре – А. А. Ахматова, сидят во втором ряду справа – К. А. Федин, Н. А. Клюев, в верхнем ряду в центре-М. Л. Лозинский. Е. Л. Шварц – в верхнем ряду третий справа
В редакции детской литературы Ленинградского отделения Госиздата. Слева направо: Н. М. Олейников, В. В. Лебедев, З. И. Лилина, С. Я. Маршак, Е. Л. Шварц, Б. С. Житков. Конец 20-х гг.
Группа ленинградских писателей «Серапионовы братья». В верхнем ряду слева направо: Л. Н. Лунц, Н. С. Тихонов, К. А. Федин, И. Я. Груздев, В. А. Каверин. В нижнем ряду: М. Л. Слонимский, Е. Г. Полонская, Н. Н. Никитин, Вс. В Иванов, М. М. Зощенко.1921–1922 г.
Ленинградские писатели. В нижнем ряду слева направо: В Я Шишков, Ю. П. Герман, А А. Прокофьев, М. Л. Слонимский, Ю. Н Тынянов. В верхнем ряду: Л. С. Соболев, Н. С. Тихонов.
Е. Л. Шварц (в центре). Справа – И. И. Слонимская. Стоят: слева – В. А Каверин, справа М. Л. Слонимский.
Е. Л. Шварц в доме отдыха ленинградского Литфонда. 1932 г. Коктебель. В первом ряду слева направо: Е. И. Шварц, Маша Тагер, Н. И. Грекова.
Е. Л. Шварц. Портрет работы Н. П. Акимова.
Е. Л. Шварц. Портрет работы Е. И. Чарушина. 30-е гг.
Е. Л. Шварц. Середина 1940-х гг. Ленинград.
Е. Л. Шварц с детьми, эвакуированными из Ленинграда 1942 г. Оричи.
Е. Л. Шварц на встрече с юными читателями. Середина 1940-х гг. Ленинград.
Н. А. Заболоцкий с женой и сыном.
Е. Л. Шварц. 1947 г. Ленинград.
В Доме творчества «Комарово». Начало 1950-х гг. Стоят Н. Н. Никитин, К. Л. Шварц. Сидят (слева направо): Е. Г. Полонская, О. Д. Форш.
Н. И Альтман, Е. Л. Шварц, И. Г. Эренбург. 1957 г. Ленинград
О. Ф. Берггольц и Е. Л. Шварц. 1956–1957 гг. Комарово.
Е. Л. Шварц. Лето 1956 г.Комарово. На заднем плане – Е. В. Юнгер.
Е. Л. Шварц и В. М. Глинка. Ленинград. Начало 50-х гг.
Е. Л. Шварц с дочерью Н. Е. Крыжановской и внуками Андреем и Машей
Б. М. Тенин, И. П. Гошева, Е. Л. Шварц на репетиции спектакля «Тень» в Ленинградском театре комедии. 1940 г.
Плакат к спектаклю Ленинградского театра комедии «Тень». Работа Н. П. Акимова.
Плакат к спектаклю Ленинградского театра комедии «Дракон». Работа Н. П. Акимова.
Е. Л. Шварц. Портрет работы Н. П. Акимова. 1944 г.
Дружеский шарж, подаренный Е. Л. Шварцу на его юбилейном вечере в Доме писателей им. Вл. Маяковского. Октябрь 1956 г. Ленинград.
Е. Л. Шварц. Последняя фотография. 1957 г. Ленинград.
Примечания
1
Справедливо для печатного (бумажного) издания. В электронном тексте примечания организованы в виде страничных сносок со сквозной нумерацией. – Прим. OCR
(обратно)2
Письма сохранились в семейном архиве С. Я. Маршака. 11 апреля Шварц писал: «Дорогой Самуил Яковлевич! Вот уже скоро три месяца, как я собираюсь тебе писать. Перед самым отъездом из Ленинграда пришла твоя телеграмма из Алма-Аты. Я думал ответить на телеграмму эту подробным письмом из Кирова, но все ждал, пока отойду и отдышусь. А потом я взялся за пьесу и только пьесой и мог заниматься. Ужасно хотелось бы повидать тебя! Я теперь худой и легкий, как в былые дни. Сарра Лебедева говорит, что я совсем похож на себя в 25–26 году. Но когда я по утрам бреюсь, то вижу, к сожалению, по морщинам, что год-то у нас уже 42-й… Вообще очень, очень много расскажу я тебе при встрече. У нас, у ленинградцев, накопился такой опыт, что на всю жизнь хватит. Здесь я живу тихо. Все пишу да пишу. Часть своего ленинградского опыта попробовал использовать в пьесе „Одна ночь“… Сейчас кончаю, вернее, продолжаю „Дракона“, первый акт которого, если ты помнишь, читал когда-то тебе и Тамаре Григорьевне [Габбе] в Ленинграде. А что ты делаешь? Твои подписи к рисункам Кукрыниксов очень хороши. Вообще ты, судя по всему, по-прежнему в полной силе, чему я очень рад. Я знаю, что ты занят сейчас, как всегда, но выбери, пожалуйста, время и пришли мне письмо, по возможности длинное».
12 апреля: «Дорогой Самуил Яковлевич! Вчера утром послал тебе письмо, а вечером услышал по радио о том, что ты получил Сталинскую премию. Поздравляю тебя, очень рад, что ты награжден, дорогой. У меня так много хорошего связано с тобой, а были и мучительные дни, которые мы переживали вместе. Так что ты поймешь и поверишь, что я рад за тебя и с тобой. Целую крепко тебя, Софью Михайловну и всех твоих. И опять прошу – напиши мне, пожалуйста! Только непременно напиши длинное письмо.
Твой Е. Шварц.
Не знаю адреса Тихонова. Если встретишь – поздравь и его, пожалуйста, от моего имени».
(обратно)3
Лебедев Владимир Васильевич (1891–1966) – художник-график, один из создателей искусства советской иллюстрации к детской книге.
(обратно)4
Рудник Лев Сергеевич (1906–1987) – режиссер. В 1940–1944 гг. – директор и художественный руководитель БДТ им. М. Горького.
(обратно)5
Пьеса намечалась к постановке в БДТ в 1942 г., однако поставлена не была.
(обратно)6
Малюгин Леонид Антонович (1909–1968) – писатель, драматург, в годы войны – заведующий литературной частью БДТ.
(обратно)7
Мариенгоф Анатолий Борисович (1897–1962) – поэт, драматург; Никритина Анна Борисовна (1900–1982) – его жена, актриса БДТ.
(обратно)8
Лебедева Сарра Дмитриевна (1892–1967) – скульптор.
(обратно)9
Рахманов Леонид Николаевич (1908–1988) – писатель, драматург, друг Шварца.
(обратно)10
Шварц выезжал в Котельнич, затем в Оричи, где находились эвакуированные из Ленинграда детские учреждения; материал был собран, и в сентябре этого же года он закончил работу над пьесой «Далекий край», которая была поставлена во многих театрах юных зрителей.
(обратно)11
Вильямс Анна Семеновна – исполнительница роли Варвары в фильме «Доктор Айболит» по сценарию Шварца (1939).
(обратно)12
Шварц заключил договор на сценарий «Далекий край» по своей одноименной пьесе.
(обратно)13
Шток Исидор Владимирович (1908–1980) – драматург.
(обратно)14
Шкваркин Василий Васильевич (1894–1967) – драматург.
(обратно)15
Каплер Алексей Яковлевич (1904–1979) – кинодраматург.
(обратно)16
С августа 1941 г. по 1 февраля 1943 г. БДТ был в эвакуации в Кирове, где с 30 сентября давал спектакли в помещении Кировского областного драматического театра. Вернувшись в осажденный Ленинград, продолжал работать в условиях блокады, обслуживал воинские части и госпитали.
(обратно)17
Наташа, Наталия Евгеньевна Шварц, в замужестве Крыжановская (р. 1929) – дочь Е. Л. Шварца.
(обратно)18
С февраля по июль 1943 г. Шварц был заведующим литературной частью этого театра.
(обратно)19
Шварц поехал в Сталинабад (теперь – Душанбе) по приглашению Н. П. Акимова, главного режиссера Ленинградского театра комедии, работавшего там в период эвакуации с сентября 1942 по май 1944 г., на должность заведующего литературной частью.
(обратно)20
Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) – поэт.
(обратно)21
Над пьесой-памфлетом «Дракон» Шварц начал работать сразу же после окончания «Тени», завершая свой цикл антифашистских, антивоенных пьес, направленных против деспотизма, начатый «Голым королем». Острота поднятой темы требовала предельной точности формулировок для правильного понимания политического подтекста сказки в условиях культа личности Сталина. Отсюда упорная работа драматурга над текстом пьесы, имеющей три варианта. Окончательный вариант был завершен в 1944 г.
(обратно)22
Большаков Иван Григорьевич (1902–1980) – председатель Комитета по делам кинематографии с 1939 по 1946 г.
(обратно)23
Гастроли Ленинградского театра комедии в Москве начались в середине июня 1944 г. и продолжались до ноября 1945 г. Спектакли в Ленинграде возобновились в декабре 1945 г.
(обратно)24
В январе 1944 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов перешли в наступление. С 19 января по радио сообщались Приказы Верховного главнокомандующего об успешном наступлении советских войск под Ленинградом, о прорыве обороны немцев, о взятии городов Новгород, Мга, Пушкин, Гатчина и др.
(обратно)25
Левин Лев Ильич (р. 1911) – литературный критик.
(обратно)26
«Дракон» был поставлен только в одном театре – Ленинградском театре комедии в период его гастролей в Москве по возвращении из Сталинабада. Однако состоялись лишь две генеральных репетиции с публикой. Единственный открытый спектакль был 4 августа 1944 г. В период репетиций появилась разгромная статья С. П. Бородина «Вредная сказка», направленная против пьесы (см. газ. «Литература и искусство», 1944, 25 марта), и спектакль был снят. Постановка была возобновлена Н. П. Акимовым в 1962 г.
(обратно)27
Н. П. Акимов написал статью о «Драконе» для Совинформбюро, чтобы опубликовать ее в американских газетах.
(обратно)28
О попытке поставить «Дракона» в 1944 г. см. статью М. Л. Жежеленко о Н. П. Акимове в книге «Портреты режиссеров» (М., вып. 1. С. 63–65).
(обратно)29
В подлиннике ошибочно – июня.
(обратно)30
Чтение и обсуждение пьесы состоялось на совещании у заместителя председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР А. В. Солодовникова 30 ноября 1944 г. Кроме участников обсуждения, перечисленных Шварцем, выступали: С. И. Юткевич, Н. П. Акимов и др.
(обратно)31
Шварц работал над пьесой «Медведь», позже названной «Обыкновенное чудо».
(обратно)32
В заметке «Снежная королева» сообщалось: «Открывшийся недавно в Англии новый детский театр избрал для первого спектакля „Снежную королеву“ – сценический вариант, сделанный для Центрального детского театра в Москве Евгением Шварцем. Первый спектакль состоялся в Манчестере для 600–700 детей в возрасте 7–14 лет. Театральный критик газеты „Манчестер гардиен“ после первого спектакля писал: „Русский вариант „Снежной королевы“ Андерсена делает сказку менее поэтичной, но более жизненной и забавной. В общем, это удачная работа“. Напечатаны были следующие фотографии: 1) „Генеральная репетиция „Снежной королевы“ в Лондоне. Первый акт“, 2) „Танец белых медведей“, 3) „Палатка грабителей“.
(обратно)33
Китс Джон (1795–1821) – английский поэт.
(обратно)34
Шварц Екатерина Ивановна (1903–1963) – вторая жена Е. Л. Шварца.
(обратно)35
Во 2-й мировой войне Япония выступила как союзник фашистской Германии и Италии. 8 августа 1945 г. СССР, в соответствии с принятыми на себя ранее союзническими обязательствами и стремясь скорее закончить 2-ю мировую войну, объявил 9 августа войну Японии.
(обратно)36
В 1939 г. была спровоцирована советско-финляндская война, окончившаяся поражением Финляндии. Мирный договор был заключен 12 марта 1940 г.
(обратно)37
Договор на сценарий «Золушки» был заключен Шварцем с «Ленфильмом» 26 января 1945 г. Фильм вышел на экраны 16 мая 1947 г. Режиссеры Н. Н. Кошеверова и М. Г. Шапиро, художник Н. П. Акимов (первая работа в кино), композитор А. Э. Спадавеккиа. Оператор Е. В. Шапиро. Роли исполнили: Золушка – Я. Б. Жеймо, Король – Э. П. Гарин, Мачеха – Ф. Г. Раневская, Принц – А. А. Консовский, Лесничий – В. В. Меркурьев, Анна – Е. В. Юнгер, Марианна – Т. В. Сезеневская, Паж – И. Клименков.
(обратно)38
Премьера спектакля состоялась весной 1946 г. во Втором (Большом) ленинградском театре кукол. Он шел под названием «Сказка о храбром солдате».
(обратно)39
В марте 1946 г. Шварц закончил работу над сценарием «Царь Водокрут» по своей одноименной пьесе; в апреле сценарий был принят «Союздетфильмом», затем снят с производства. Фильм вышел на экраны лишь в марте 1960 г. под названием «Марья Искусница». Был поставлен режиссером А. А. Роу на Студии им. М. Горького. Роли исполнили: Солдат – М. А. Кузнецов, Марья Искусница – Н. К. Мышкова, Водокрут – А. Л. Кубацкий, Квак – Г. Ф. Милляр.
(обратно)40
См. примеч. 30
(обратно)41
Премьера спектакля по пьесе С. В. Михалкова «Смех и слезы» состоялась в Ленинградском театре комедии 8 февраля 1947 г.
(обратно)42
Орлов Владимир Николаевич (1908–1985) – литературовед.
(обратно)43
Лихарев Борис Михайлович (1906–1962) – поэт.
(обратно)44
Рест Б. (настоящие имя и фамилия Юлий Исаакович Рест-Шаро, 1907–1984) – писатель, драматург, представитель «Литературной газеты» в Ленинграде в течение 20 лет. В 1950-е гг. – зав. лит. частью Ленинградского театра комедии.
(обратно)45
В марте 1946 г. Шварц закончил работу над сценарием «Царь Водокрут» по своей одноименной пьесе; в апреле сценарий был принят «Союздетфильмом», затем снят с производства. Фильм вышел на экраны лишь в марте 1960 г. под названием «Марья Искусница». Был поставлен режиссером А. А. Роу на Студии им. М. Горького. Роли исполнили: Солдат – М. А. Кузнецов, Марья Искусница – Н. К. Мышкова, Водокрут – А. Л. Кубацкий, Квак – Г. Ф. Милляр.
(обратно)46
Меттер Израиль Моисеевич (р. 1909) – прозаик, драматург.
(обратно)47
Макогоненко Георгий Пантелеймонович (1912–1985) – критик, литературовед. В 1956 г. – начальник сценарного отдела киностудии «Ленфильм».
(обратно)48
Игнатьев Алексей Алексеевич (1877–1954) – дипломат, генерал-лейтенант Советской Армии, писатель, автор воспоминаний «Пятьдесят лет в строю».
(обратно)49
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 19 января и 22 марта 1946 г. Шварц был награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За оборону Ленинграда».
(обратно)50
26 апреля 1946 г. в газете «Советское искусство» в рубрике «За рубежом» была напечатана следующая заметка: «Германия. В Берлине на немецком языке издаются пьесы советских драматургов: „Под каштанами Праги“ и „Так и будет“ Симонова, сказки Шварца, „Где-то в Москве“ Масса и Червинского, „Смех и слезы“ Михалкова».
(обратно)51
Поэт Николай Алексеевич Заболоцкий (1903–1958) был незаконно репрессирован 19 марта 1938 г. Срок заключения отбывал в исправительно-трудовых лагерях на Дальнем Востоке, затем был сослан в Алтайский край (село Михайловское, близ Кулунды). 18 августа 1944 г. был освобожден, затем в 1946 г. восстановлен в Союзе писателей и получил право жить в Москве.
(обратно)52
Андроников Ираклий Луарсабович (р. 1908) – писатель, литературовед, мастер устного рассказа.
(обратно)53
Строчка из стихотворения Шварца. Приводим полностью один из его вариантов:
Бессмысленная радость бытия.
Иду по улице с поднятой головою
И, щурясь, вижу и не вижу я
Толпу, дома и сквер с кустами и травою.
Я вынужден поверить, что умру.
И я спокойно и достойно представляю,
Как нагло входит смерть в мою нору,
Как сиротеет стол, как я без жалоб погибаю.
Нет. Весь я не умру. Лечу, лечу.
Меня тревожит солнце в три обхвата
И тень оранжевая. Нет, здесь быть я не хочу!
Домой хочу. Туда, где я страдал когда-то.
И через мир чужой врываюсь
В знакомый лес с березами, дубами
И, отдохнув, я пью ожившими губами
Божественную радость бытия.
(обратно)54
Совещание проводилось Ленинградским отделением и ассоциацией критиков ВТО. Выступая в прениях, Шварц говорил о том, что в советской драматургии нет двух взаимоисключающих тенденций» Героические и лирические пьесы отражают разные стороны жизни, ставят разные проблемы, но и те и другие должны быть освещены нашим театром. Он затронул также тему отношения театра к драматургу, утверждая, что театральный коллектив должен продолжать считаться с автором и после получения его пьесы для постановки.
(обратно)55
Альтман Иоганн Львович (1900–1955) – литературовед, театральный критик.
(обратно)56
Коварский Николай Аронович (1904–1974) – критик, кинодраматург.
(обратно)57
Гус Михаил Семенович (1900–1984) – литературовед, театровед, критик, драматург.
(обратно)58
Гринберг Иосиф Львович (1906–1980) – литературовед, критик.
(обратно)59
Цимбал Сергей Львович (1907–1978) – критик. В 1946–1947 гг. – зав. лит. частью Ленинградского театра комедии.
(обратно)60
Крон Александр Александрович (1909–1983) – писатель, драматург.
(обратно)61
И. В. Шток читал пьесу «Мыс Желания».
(обратно)62
В газете «Вечерний Ленинград» от 20 октября 1946 г. была напечатана статья критика М. О. Янковского «Долг драматурга». Говоря о паузах в творчестве ленинградских драматургов, он писал: «По существу, такое же положение характеризует и одного из лучших наших детских драматургов Евг. Шварца. Этот талантливый писатель на протяжении многих лет разрабатывал сказочную тематику… Но вот идут годы – и наш театр не получает новых пьес Евг. Шварца. Писатель еще не нашел своего нового героя, и наша общая задача облегчить Шварцу путь к созданию новых талантливых произведений, исполненных большой идейности, произведений, которые не уводили бы зрителя в „смежный мир сказки“, а раскрывали бы подлинную нашу действительность».
(обратно)63
См. примеч. 37 и 38.
(обратно)64
В 1947 г. Центральный детский театр знакомился с пьесой Шварца «Иван честной работник». В архиве театра сохранилось два варианта пьесы. 24 мая 1971 г. она обсуждалась на заседании художественного совета, была принята к постановке, но поставлена не была.
(обратно)65
В дальнейшем сценарий был назван «Первоклассница».
(обратно)66
См. примеч. 30
(обратно)67
В 1946 г. Шварц начал работать над пьесой «Один день», посвященной молодому советскому человеку. Затем, не окончив пьесу, изменил в июле 1949 г. ее тему и написал пьесу «Первый год». После неоднократных переделок пьеса получила название «Повесть о молодых супругах» и была поставлена в Ленинградском театре комедии (премьера – 30 декабря 1957 г.)
(обратно)68
Шварц имеет в виду серию постановлений ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства: «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“ от 14 августа 1946 г., „О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению“ от 26 августа 1946 г. и „О кинофильме „Большая жизнь“ от 4 сентября 1946 г., в которых необоснованной, грубой критике подвергались писатели и деятели искусств. Политбюро ЦК КПСС на заседании, состоявшемся 20 октября 1988 г., отменило постановление „О журналах «Звезда“ и «Ленинград“ как ошибочное.
(обратно)69
Статья артиста Г. А. Флоринского «Театр комедии» была напечатана в книге «Ленинградские театры в годы Великой Отечественной войны» (Л. – М., 1948).
(обратно)70
Бартошевич Андрей Андреевич (1899–1949) – театровед.
(обратно)71
7 ноября 1941 г. в Театре комедии в осажденном Ленинграде состоялась премьера спектакля «Питомцы славы» по комедии А. К. Гладкова «Давным-давно». Режиссер и художник Н. П. Акимов вспоминал: «Вряд ли кто-нибудь из коллектива забудет эту совсем особенную премьеру. Зрительный зал полон. В середине первого акта начинается артиллерийский обстрел города. Снаряды ложатся где-то по соседству. Когда во втором акте начинаются театральные звуковые эффекты, зрители, улыбаясь, переглядываются: они, как никто, могут сказать, похожи ли выстрелы театральных пушек на подлинные выстрелы» (Акимов Н. П. Снова в Москве. Спектакли Ленинградского театра комедии. – Вечерняя Москва, 1944, 10 июня).
(обратно)72
Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959) – литературовед.
(обратно)73
Шварц (урожд. Шелкова) Мария Федоровна (1875–1942) – мать Е. Л. Шварца, по специальности – акушерка, массажистка. Участница любительских спектаклей в Пушкинском народном доме, член правления Майкопского артистического кружка.
(обратно)74
Шварц работал над сценарием «Первоклассница».
(обратно)75
Этот замысел Шварц не осуществил.
(обратно)76
Приводим полный текст его стихотворения:
Меня господь благословил идти,
Брести велел, не думая о цели,
Он петь меня благословил в пути,
Чтоб спутники мои повеселели.
Иду, бреду, но не гляжу вокруг,
Чтоб не нарушить божье повеленье,
Чтоб не завыть по-волчьи вместо пенья,
Чтоб сердца стук не замер в страхе вдруг.
Я человек. А даже соловей
Зажмурившись поет в глуши своей.
(обратно)77
28 января 1947 г. А. К. Гладков читал пьесу «Первая симфония».
(обратно)78
Шварц писал пьесу «Сто друзей». В Ленинградском театре кукол, директором и художественным руководителем которого был Савелий Наумович Шапиро, она пошла под названием «Волшебники».
(обратно)79
В «Литературной газете» (1947, 1 февраля) была напечатана статья поэта и переводчика Александра Ильича Гитовича «Корейские встречи».
(обратно)80
Фрэз Илья Абрамович (р. 1909) – кинорежиссер.
(обратно)81
В 1944–1948 гг. Ю. П. Герман работал над романом «Несколько дней», посвященным жизни авиационного гарнизона Северного флота во время Великой Отечественной войны. В этот период Герман читал отрывки из романа на литературных вечерах, печатались они и в периодике. Роман не был закончен.
(обратно)82
Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. 1862–1910 (М. – Л., 1936).
(обратно)83
См. примеч. 66.
(обратно)84
Ханзель Иосиф Александрович (1909–1985) – артист.
(обратно)85
Зинковский Абрам Соломонович (1909–1985) – артист. Ряд лет совмещал работу артиста с заведованием режиссерским управлением театра.
(обратно)86
Осипов Владимир Иванович – секретарь парторганизации Ленинградского театра комедии.
(обратно)87
Бонди Алексей Михайлович (1892–1952) – артист, драматург, музыкант, художник.
(обратно)88
Панаев И. И. Литературные воспоминания. Спб., 1876.
(обратно)89
Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания-дневник. М., 1928–1929.
(обратно)90
Григорьев А. А. Воспоминания. М. – Л., 1930.
(обратно)91
Шварц присутствовал на просмотре Комитетом по Сталинским премиям спектакля по пьесе Л. А. Малюгина «Старые друзья».
(обратно)92
Кузнецов Евгений Михайлович (1899–1958) – театровед, критик.
(обратно)93
Храпченко Михаил Борисович (1904–1986) – литературовед, председатель Комитета по делам искусств СССР.
(обратно)94
Эрмлер Фридрих Маркович (1898–1967) – кинорежиссер.
(обратно)95
Бениаминов Александр Давидович (р. 1904) – артист.
(обратно)96
Государственной премии спектакль не получил.
(обратно)97
В 1947 г. М. Л. Слонимский хотел отдать в Театр драмы им. А. С. Пушкина свою пьесу «После войны», действие которой происходит в 1945–1946 гг. на заводе, выпускающем танки.
(обратно)98
Сцена леса из фильма «Золушка».
(обратно)99
3 апреля 1947 г. состоялась премьера спектакля «Тень» в филиале Немецкого театра им. Рейнгардта – Камерном театре («Kammerspiele»). Режиссер Густав Грюндгенс. Письмо написал А. Л. Дымшиц, бывший в то время начальником отдела культуры Управления пропаганды Советской военной администрации в Германии: «Рад сообщить Вам, что „Тень“ прошла в Берлине с успехом, поистине великолепным… Даже реакционная пресса и то не сумела развернуть в этом случае все свои клеветнические возможности: прошипела вполголоса». К письму были приложены вырезки из немецких газет.
(обратно)100
Погожева Людмила Павловна (р. 1913) – киновед, кинокритик.
(обратно)101
Москвин Андрей Николаевич (1901–1961) – кинооператор. Муж Н. Н. Кошеверовой.
(обратно)102
Васильев Сергей Дмитриевич (1900–1959) – кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель киностудии «Ленфильм».
(обратно)103
Глотов Иван Андреевич – директор киностудии «Ленфильм».
(обратно)104
24 апреля 1947 г. состоялось обсуждение фильма «Золушка» на заседании художественного совета при Министерстве кинематографии СССР. Кроме перечисленных Шварцем участников обсуждения выступили также А. Д. Головня, Ю. А. Шапорин (особо отметивший первую работу в кино композитора А. Э. Спадавеккиа), В. Г. Захаров и С. Д. Васильев.
(обратно)105
См. примеч. 80.
(обратно)106
Зарубина Ирина Петровна (1907–1976) – артистка.
(обратно)107
Чокой Татьяна Ивановна (р. 1909) – артистка.
(обратно)108
Суханов Павел Михайлович (1911–1973) – артист, режиссер.
(обратно)109
Выставка произведений Н. П. Акимова была открыта 11 мая 1947 г. Экспонировалось около 800 произведений художника.
(обратно)110
Серов Владимир Александрович (1910–1968) – художник.
(обратно)111
Морщихин Сергей Александрович (ум. 1963) – режиссер, зам. председателя Ленинградского отделения ВТО.
(обратно)112
Рыков Александр Викторович (1892–1966) – художник.
(обратно)113
Юнович Софья Марковна (р. 1910) – театральный художник.
(обратно)114
Левитин Григорий Михайлович, врач, автор статей о художниках.
(обратно)115
Павлов Николай Александрович (1899–1969) – художник-график.
(обратно)116
В конце августа – начале сентября 1947 г. французские писатели Луи Арагон и Эльза Триоле были гостями Советского Союза. Они посетили Ленинград, а 9 сентября в Политехническом музее в Москве состоялся их творческий вечер.
(обратно)117
Браусевич Леонид Тимофеевич (1907–1955) – писатель, автор пьес для кукольного театра.
(обратно)118
Черненко Александр Иванович (1897–1956) – писатель.
(обратно)119
Капица Петр Иосифович (р. 1909) – писатель.
(обратно)120
Никитина Зоя Александровна (1902–1973) – редакционно-издательский работник, в первом браке замужем за Н. Н. Никитиным, во втором – за М. Э. Козаковым, мать артиста М. М. Козакова.
(обратно)121
«Сказка о потерянном времени» написана Шварцем специально для театра кукол и была впервые поставлена в Государственном кукольном театре под руководством Е. С. Деммени (Ленинград) в 1940 г.; новая постановка была осуществлена в этом театре режиссером Ю. С. Поздняковым. (Премьера – 25 сентября 1947 г.)
(обратно)122
Параллельно работе Е. Л. Шварца над пьесой «Первый год», получившей в окончательном варианте название «Повесть о молодых супругах», шла у него работа и над одноименными сценариями. Сценарий «Первый год» был сдан 17 апреля 1948 г., 4 мая на художественном совете студии «Ленфильм» произошло его обсуждение; в этом же году Шварц написал новый вариант литературного сценария, который назвал «Повесть о молодых супругах». В тематическом плане киностудии «Ленфильм» на 1949–1950 г. значился фильм «Повесть о молодых супругах». Режиссеры Н. Н. Кошеверова и М. Г. Шапиро. Однако фильм не был снят.
(обратно)123
В апреле 1948 г. по приглашению Союза советских писателей в СССР прибыла группа немецких писателей и деятелей культуры. В составе делегации были Бернгард Келлерман, Анна Зегерс, Вольфганг Лангхоф, Эдуард Клаудиус, Гюнтер Вайзенборн и др.
(обратно)124
Шварц начинал работу над пьесой для детей «Каменные братья», через некоторое время названной «Василиса Работница» и получившей окончательное, название «Два клена».
(обратно)125
Шварц заключил договор с Московским ТЮЗом на пьесу, упомянутую в предыдущем примечании.
(обратно)126
Пьеса «Снежная королева» написана Шварцем в 1938 г.
(обратно)127
Т. И. Сильман «Диккенс. Очерки творчества» (Л., 1948).
(обратно)128
Пьесу «Ундервуд» Шварц написал в 1928 г. 21 сентября 1929 г. этим спектаклем открыл сезон Ленинградский ТЮЗ. Постановка А. А. Брянцева, режиссер Б. В. Зон. Главные роли исполняли К. В. Пугачева и Е. А. Уварова.
(обратно)129
В сохранившемся в Госархиве Краснодарского края постановлении Кубанского областного жандармского управления от 4 февраля 1913 г. дана следующая характеристика революционной деятельности Л. Б. (по крестному отцу – Л. В.) Шварца: Лев Васильев Шварц выкрест из евреев, мещанин, по окончании курса Екатеринодарской гимназии в 1892 г. поступил в императорский Казанский университет, который окончил в 1898 г. со степенью врача. Состоя студентом названного университета, в 1898 г. он был заподозрен в преступной пропаганде среди рабочих Алафузовских фабрик в гор. Казани (причем среди рабочих известен был под именем «Льва Борисовича»), ввиду чего подвергнут был обыску и аресту и привлечен при Казанском губернском жандармском управлении к дознанию в качестве обвиняемого в преступлении, предусмотренном 251, 252, и 318 ст. Улож. наказ., каковое дознание, как уведомил департамент полиции, разрешено было по отношению к Шварцу в административном порядке, согласно высочайшего повеления 5 июля 1900 г., подчинению его гласному надзору полиции в избранном им месте жительства, но вне столиц, столичных губерний, университетских городов и тех местностей фабричного района, в коих пребывание его будет признано министерством внутренних дел нежелательным – на три года. Проживая затем в гор. Майкопе, Лев Шварц, как лицо вредное для общественного спокойствия и порядка, приказом по Кубанской области от 29 декабря 1907 г. за № 363 был выдворен из пределов области на все время действия в ней военного положения. Кроме того, Шварц, проживая в гор. Майкопе как ранее, так и в настоящее время поддерживает близкое знакомство с лицами неблагонадежными в политическом отношении». Далее начальник Кубанского областного жандармского управления писал: «Признавая указанную противоправительственную деятельность вышепоименованных лиц весьма вредною для общественного порядка и спокойствия и опасною по своим последствиям в политическом отношении, в целях ограждения местного населения от их зловредного на последнее влияния, следует признать безусловно необходимым примененное удаление сих лиц из пределов Майкопского района… причем полагал бы… Льва Шварца, Василия Соловьева, Минаса Шапошникова и Афанасию Филатову [выслать] из пределов Кубанской области на два года». В одном из более ранних постановлений (от 10 мая 1912 г.), относящихся к той же группе лиц, было сказано, что они, «усвоив себе воззрение крайних левых партий, питают сильное озлобление против существующего правительства и, войдя между собою в тесную связь, тайно пропагандируют среди местного населения идеи в духе программы Российской социал-демократической рабочей партии».
(обратно)130
Фильм «Иван Грозный» С. М. Эйзенштейн снимал в 1943–1944 гг. в трудных условиях эвакуации в Алма-Ате. Фильм вышел на экраны в 1945 г.
(обратно)131
Дризен (барон Остен-Дризен) Николай Васильевич (1868–1935) – театральный деятель, историк театра, один из организаторов Старинного театра в Петербурге.
(обратно)132
Шелков Федор Федорович – мировой судья, артист-любитель.
(обратно)133
Шелкова (в замужестве Проходцова) Александра Федоровна.
(обратно)134
Шелков Николай Федорович – акцизный чиновник, скульптор-любитель.
(обратно)135
Шварц смотрел водевиль И. Ермолова «Волшебная флейта, или Танцовщики поневоле».
(обратно)136
Родичев – домовладелец, у которого Шварцы сняли первую квартиру в Майкопе.
(обратно)137
Дрейфус Альфред (1859–1935) – офицер французского Генерального штаба, обвиненный в L894 г. в шпионаже в пользу Германии; в 1899 г. был помилован, в 1906 г. реабилитирован.
(обратно)138
Соловьев Василий Федорович (1863–1952) – врач, член социал-демократической группы в Майкопе. Режиссер и участник спектаклей любительской драматической труппы Пушкинского народного дома.
(обратно)139
Соловьева Вера Константиновна (1869–1964) – жена В. Ф. Соловьева.
(обратно)140
Островская Беатриса Яковлевна – сестра врача Григория Яковлевича Островского, приятельница М. Ф. Шварц.
(обратно)141
Боткин Василий Петрович (1811–1869) – писатель, критик, переводчик.
(обратно)142
Добряков Владимир Алексеевич – бухгалтер, сосед Шварцев.
(обратно)143
Крачковские: Варвара Михайловна – мать А. П. и Л. П. Крачковских; Александра Поликарповна (Гоня) – сестра Л. П. Крачковской и Людмила Поликарповна (Милочка) (1897–1986) – первая детская-юношеская любовь Шварца (впоследствии известный селекционер).
(обратно)144
Вёрисгофер С. (1839–1890) – немецкая писательница.
(обратно)145
Шварц пишет о романсе А. Г. Рубинштейна «Разбитое сердце» на слова В. А. Крылова. В тексте романса: «Я бабочку видел с разбитым крылом».
(обратно)146
Шелков Гавриил Федорович – юрист по образованию, акцизный чиновник.
(обратно)147
Памятник М. Б. Барклаю-де-Толли установлен на Невском проспекте у Казанского собора (угол улицы Плеханова). Бронзовая фигура полководца отлита по модели скульптора Б. И. Орловского.
(обратно)148
Записки Д. Б. Мертваго (М., 1867).
(обратно)149
Проходцовы – двоюродные брат и сестра Шварца.
(обратно)150
Шелкова Зинаида Федоровна – тетка Шварца.
(обратно)151
См. примеч. 30
(обратно)152
Красноречие (лат.).
(обратно)153
Шварц начинал писать сценарий «Неробкий десяток» о детях-туристах. В основу его легли впечатления от путешествия в горы летом 1915 г. вместе с группой майкопских друзей. Фильм не был снят.
(обратно)154
Шварц Исаак Борисович – врач, отец А. И. Шварца.
(обратно)155
Шварц Борис – дед Е. Л. Шварца, владелец мебельного магазина в Екатеринодаре.
(обратно)156
Шварц Антон Исаакович (1896–1954) – мастер художественного слова, двоюродный брат Е. Л. Шварца.
(обратно)157
Пьеса «Клад» написана Шварцем в 1933 г. Действие происходит в горах, где школьники помогают взрослым найти заброшенные медные рудники.
(обратно)158
Шварц Александр Борисович – адвокат, артист-любитель, антрепренер.
(обратно)159
Дочь владельца дома в Майкопе, у которого Шварцы снимали квартиру.
(обратно)160
Учительница детей Соловьевых, Гумилева Надежда Степановна – сестра Н. С. Гумилева.
(обратно)161
Жулковский Андрей Андреевич (1853(4?) – 1917) – профессиональный революционер-большевик. Руководитель социал-демократической группы в Майкопе.
(обратно)162
В 1923–1924 гг. Шварц работал в Бахмуте (позднее Артемовск) в журнале «Забой» и газете «Всероссийская кочегарка» секретарем редакции. В эти годы там печатались его фельетоны и стихи за подписью Щур. В качестве примера можно привести следующие сатирические стихи (в разделе «На шахтерский зубок»).
ЕЩЕ ОДИН ГЕНЕРАЛ
Горловка. Монтер центральной мастерской тов. Примаков при разговоре с рабочими употребляет только два слова: «Пошел вон!»
Генерал Примаков
Не тратит лишних слов.
Только и скажет он
Вон!
Ужасно всех к этому приучил,
Ох, как бы сам не получил
Он
Короткий приказ: вон!
(Всероссийская кочегарка, 1923, 4 ноября.)
(обратно)163
Олейников Николай Макарович (1898–1942) – поэт, писатель, редактор детских журналов «Еж», «Чиж», «Сверчок». Незаконно репрессирован, погиб в заключении.
(обратно)164
С 1919 по 1922 г. Шварц выступал как актер в театре, основанном группой молодежи в 1918 г. в Ростове-на-Дону и названном Театральная мастерская. Шварц был также членом художественного совета этого театра. С приходом в Ростов Красной Армии театр стал государственным, в 1921 г. переехал в Петроград. 8 января 1922 г. состоялся первый спектакль («Гондла» Н. С. Гумилева), весной этого же года театр закрылся.
(обратно)165
С 1922 г. до весны 1923 г. Шварц был секретарем у К. И. Чуковского.
(обратно)166
В 1931 г. вышла книга О. Д. Форш «Сумасшедший корабль», посвященная жизни Дома искусств в Петрограде. В своем письме к С. Л. Цимбалу от 8 октября 1959 г. она писала: «Геня Чорн – один из героев моей книги „Сумасшедший корабль“. Под этим именем живет в книге Евгений Шварц. Но образ едва намечен, в нем ни в какой мере не выражены душа, талант и ум Жени Шварца, о чем я глубоко сожалею. Я познакомилась с ним на так называемом „сумасшедшем корабле“, то есть в доме б. Елисеева в Петрограде, на углу Невского и Мойки, там, где сейчас находится кинотеатр „Баррикада“. В двадцатых годах в этом доме были размещены писатели всех поколений, приобщившиеся к молодой советской литературе. В нашем коридоре жили М. Л. Лозинский, М. М. Зощенко, В. А. Рождественский, М. Л. Слонимский и многие другие. И вот сюда к нам часто заходил желанный гость – молодой Евгений Шварц. Я помню его юношески худым, с глазами светлыми, полными ума и юмора. В первом этаже в большом, холодном и почти пустом зале мы читали и обсуждали наши произведения. Здесь мы экспромтом разыгрывали без всяких репетиций сценки-пародии Шварца на свою же писательскую семью, ее новую, трудную, еще такую неустроенную, но веселую и необыкновенную жизнь. Шварц изумлял нас талантом импровизации, он был неистощимый выдумщик. Живое и тонкое остроумие, насмешливый ум сочетались в нем с добротой, мягкостью, человечностью и завоевывали всеобщую симпатию… Мы любили Женю не просто так, как обычно любят веселых, легких людей. Он хотел „поднять на художественную высоту культуру шутки“, как говорил он сам, делая при этом важное, значительное лицо. Женя Шварц был задумчивый художник, с сердцем поэта, он слышал и видел больше, добрее, чем многие из нас. Он в те годы еще не был волшебником, он еще только „учился“, но уже тогда мы видели и понимали, как красиво раскроется его талант» (Цит. по кн.: Цимбал С. Евгений Шварц. Л., 1961. С. 18–20).
(обратно)167
«Серапионовы братья» – литературная группа, основанная 1 февраля 1921 г. в Петрограде при Доме искусств. В нее входили И. А. Груздев, М. М. Зощенко, Вс. В. Иванов, В. А. Каверин, Л. Н. Лунц, Н. Н. Никитин, Е. Г. Полонская, М. Л. Слонимский, Н. С. Тихонов, К. А. Федин. На их собраниях, посвященных чтению и обсуждению своих произведений, спорам об искусстве, бывал Шварц.
(обратно)168
Леф (Левый фронт искусств) – литературно-художественное объединение. Создано в Москве в конце 1922 г. Во главе стоял В. В. Маяковский, членами были Н. Н. Асеев, В. В. Каменский, С. И. Кирсанов, О. М. Брик, С. М. Третьяков, В. Б. Шкловский и др. Лефовцы выдвинули идею искусства как «жизнестроения», теорию «социального заказа», когда художник является только «мастером», выполняющим задания своего класса. Проповедовалась «литература факта», документа, отрицался вымысел в литературе, значение произведений классиков.
(обратно)169
Пуанкаре Жюль-Анри (1854–1912) – французский математик и физик.
(обратно)170
Весной 1924 г. Шварц отдал С. Я. Маршаку для издания первую большую рукопись в стихах «Рассказ старой балалайки».
(обратно)171
«Рассказ старой балалайки» был напечатан в журнале «Воробей», (1924, № 7), а в 1925 г. издан Госиздатом отдельной книжкой.
(обратно)172
Журнал «Воробей» выходил с 1923 г. по июль 1924 г., с августа 1924 г. стал выходить под названием «Новый Робинзон».
(обратно)173
Романс Ф. К. Садовского на собственные слова.
(обратно)174
Соловьева Анна Александровна – жена врача Алексея Федоровича Соловьева, крестная мать Вали Шварца.
(обратно)175
Капустин Степан Иванович – владелец дома, в котором впоследствии снимали квартиру Шварцы.
(обратно)176
Водарский Вячеслав Александрович – преподаватель русского языка в реальном училище.
(обратно)177
Книга Давида Фридриха Вейланда о первобытном человеке.
(обратно)178
Семья К. К. Шапошникова.
(обратно)179
Е.Л. Шварц ошибся, следует – Коновалов.
(обратно)180
В дневниковой записи Шварца от 18 февраля 1951 г., не включенной в настоящее издание, говорится о пожаре, возникшем в соседнем доме тогда, когда Шварцы снимали квартиру в доме Франца Ивановича Санделя, и о бесстрашном поведении хозяина дома во время пожара.
(обратно)181
Жена врача Г. Я. Островского.
(обратно)182
Шварц был в Москве с 11 по 18 апреля 1951 г.
(обратно)183
Это окно (нем.).
(обратно)184
Это стена (нем.).
(обратно)185
«Фра-Дьяволо» – опера Д. Ф. Обера на либретто Э. Скриба.
(обратно)186
«Благо народа» – пьеса Ф. Герцля.
(обратно)187
Инженер-химик, владелец поташного завода в Майкопе.
(обратно)188
Селивановский К. А. – секретарь правления майкопского артистического кружка.
(обратно)189
Шварц вспоминает о событиях, сопровождавших первую русскую революцию 1905–1907 гг. и направленных царским правительством и либерально-буржуазными кругами общества на отвлечение народных масс от активной революционной борьбы против самодержавия.
Первая Государственная дума просуществовала немногим более двух месяцев, с конца апреля по июль 1906 г., она была распущена правительством. Депутаты ликвидированной Думы собрались в июле 1906 г. в Выборге и обратились к народу от имени двухсот буржуазно-либеральных депутатов с воззванием, призывающим не платить налогов и не давать рекрутов до созыва новой Думы. В разных городах начались вдохновляемые полицией убийства революционеров, еврейские погромы. 18 июля 1906 г., через 10 дней после роспуска Думы, в Териоках был убит наемными убийцами крупный экономист, общественный деятель, член 1-й Думы М. Я. Герценштейн. Усиленно создавались черносотенные организации. Самой крупной из них был Союз русского народа, организованный в октябре 1905 г. доктором А. И. Дубровиным и помещиками В. М. Пуришкевичем и Н. Е. Марковым.
(обратно)190
«Суета» – пьеса И. К. Карпенко-Карого.
(обратно)191
Харламов Михаил Александрович – инспектор реального училища в Майкопе, преподаватель русского языка.
(обратно)192
Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950) – писатель, участник сборников товарищества «Знание» и литературного объединения «Среда». Эмигрировал в 1922 г. Шварц часто встречал его летом 1909 г. в Туапсе.
(обратно)193
Повесть И. С. Шмелева «Человек из ресторана» была напечатана в XXXVI сборнике «Знания» (Спб., 1911).
(обратно)194
Шварц имеет в виду рассказ И. С. Шмелева «Забавное приключение», написанный в 1916 г.
(обратно)195
Игумнов Константин Николаевич (1873–1948) – пианист, создатель одной из советских пианистических школ.
(обратно)196
Поспеев Матвей – товарищ Шварца, живший в то время в семье Шварцев.
(обратно)197
См. примеч. 176.
(обратно)198
Соколов Сергей Васильевич – брат Юрия Васильевича Соколова, друга Шварца, изучал астрономию.
(обратно)199
Имеются в виду военно-фашистский мятеж в Испании 1936–1939 гг. и оккупация Парижа немецко-фашистскими войсками в 1940 г.
(обратно)200
Г. Гейне в 1836 г. написал романтическую повесть «Флорентийские ночи». В ней содержится гениальное описание игры Паганини; автор рассказывает о своих встречах в Париже с Беллини, об игре Ф. Листа.
(обратно)201
Очевидно, Шварц имеет в виду книгу «Воздухоплавание в его прошлом и настоящем» (составитель Г. 3. Барш. Спб., 1906).
(обратно)202
Истаманов Георгий – соученик Шварца по реальному училищу, сын директора училища.
(обратно)203
Коробьина Софья Сергеевна – жена майкопского адвоката Льва Александровича Коробьина.
(обратно)204
В Майкопе состоялось два вечера, посвященных памяти Л. Н. Толстого: 8 и 13 ноября 1910 г. Вечера проходили в помещении артистического кружка. 8 ноября собравшимися была послана телеграмма соболезнования С. А. Толстой и в редакцию газеты «Русские ведомости». Под телеграммой было более ста подписей (см.: Майкопская газета, 1910, 10 и 17 ноября).
(обратно)205
Коробьин Юрий Александрович – брат майкопского адвоката.
(обратно)206
Журнал «Сатирикон» выходил в Петербурге с 1908 по 1914 г. под редакцией А. А. Радакова, с № 9 – под редакцией А. Т. Аверченко. В 1913 г. часть сотрудников «Сатирикона» стала издавать на кооперативных началах журнал «Новый сатирикон», также под редакцией А. Т. Аверченко. Выходил он до 1918 г.
(обратно)207
«Товарищ» – календарь-справочник и записная книжка для учащихся.
(обратно)208
А. А. Яблоновский в книге «Очерки гимназической жизни» (Спб., 1907) писал о реакции гимназистов на статью Д. И. Писарева «Пушкин и Белинский».
(обратно)209
Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) – писатель, литературовед, критик.
(обратно)210
Шварц вспоминает поездку в Сочи летом 1911 г.
(обратно)211
См. 1950, примеч. 25.
(обратно)212
Софья Сергеевна Коробьина отдыхала в Сочи вместе с семьей Шварцев.
(обратно)213
Надежда Максимовна – жена Самсона Борисовича Шварца; Лидия Максимовна – ее сестра.
(обратно)214
«Сказки Гофмана» – опера Ж. Оффенбаха.
(обратно)215
Фрей Евгений – соученик Шварца по реальному училищу.
(обратно)216
Соколов Василий Алексеевич – преподаватель математики в реальном училище, отец Юры.
(обратно)217
Жена директора реального училища В. С. Истаманова.
(обратно)218
См. примеч. 139.
(обратно)219
Студент из Екатеринодара.
(обратно)220
«Приключения В. И. Медведя» и «Приключения мухи» – географические очерки для детей (М. – Л., 1932).
(обратно)221
Книга «Нос» в библиографии Шварца не учтена.
(обратно)222
«Остров 5к» – пьеса-сказка написана в 1931–1932 гг., 31 марта 1932 г. поставлена в Ленинграде Музыкальным театром для детей. Музыку к пьесе написал Н. В. Богословский. Режиссер И. М. Кролль. Это был первый опыт создания детского советского музыкального спектакля.
(обратно)223
Пьеса «Брат и сестра» написана в 1935–1936 гг. 16 марта 1936 г. – премьера спектакля, поставленного Б. В. Зоном в Новом ТЮЗе (Ленинград).
(обратно)224
Пьеса «Пустяки» написана в 1932 г., в этом же году поставлена в Государственном кукольном театре под руководством Е. С. Деммени.
(обратно)225
См. 1946, примеч. 28.
(обратно)226
Собака Шварца.
(обратно)227
Шварц читал стихотворение П. И. Кичеева «Eppur si muove!» («А все-таки вертится!»).
(обратно)228
Романс В. Р. Бакалейникова «Пожалей» на его же слова.
(обратно)229
Семенов Сергей Александрович (1893–1942) – писатель, драматург.
(обратно)230
Статья М. А. Кузмина «Прекрасная отвага», посвященная открытию Театральной мастерской, и его рецензии «Адвокат Пателен». (Театральная мастерская.)» и «Иуда». (Театральная мастерская.)» были напечатаны в журнале «Жизнь искусства» от 17, 24 января и 14 февраля 1922 г. Кузмин отмечал наиболее ярких актеров молодого театра: А. И. Костомолоцкого, А. И. Шварца, Е. Б. Тусузова и др. О Е. Л. Шварце в спектакле «Иуда» он писал: «…все четыре маски были хороши, но особенно мне понравились Пилат (Е. Л. Шварц) и обезьяний царь – Костомолоцкий».
(обратно)231
Коллектив эстрадных артистов.
(обратно)232
Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931) – писатель, журналист.
(обратно)233
Театр новой драмы работал в Петрограде в 1922–1923 гг. Режиссерами были А. Л. Грипич, К. Н. Державин, В. Н. Соловьев, К. К. Тверской.
(обратно)234
Гастроли труппы А. Б. Шварца (псевдоним – Молотов) проходили в Анапе с 29 июня по 22 июля 1912 г.
(обратно)235
Пьеса Г. Кадельбурга и Р. Пресбера.
(обратно)236
Д. С. Данин работал в это время над повестью «Верность», которая не была напечатана.
(обратно)237
Строка из монолога Пьеро в пьесе А. А. Блока «Балаганчик».
(обратно)238
В архиве сестер А. П. и Л. П. Крачковских сохранились автографы трех из названных четырех стихотворений Шварца. В настоящее время они переданы в фонд Е. Л. Шварца в ЦГАЛИ СССР. Приводим полностью текст одного из них:
МЕРТВАЯ ЗЫБЬ
Черные волны, горы живые,
Плавно, мерно, спокойно идут,
Мирные словно, ласкаются словно.
Обломки и трупы, качая, несут.
В колокол старый в церкви звонят –
Мертвая зыбь мертвых несет.
Слышно ли, что говорит патер?
Слышно ли, что причетник поет?
Волны рыданий. Буря рыданий.
Даже статуи словно дрожат.
Бледные лица. Боли гримасы.
Словно собрался и молит ад.
Молит брат о брате сурово.
Требует сына у бога отец.
Мать умоляет – или вернуть,
Или и ей ниспослать конец.
Тут, обезумев, одна хохочет,
Голосом хриплым проклятья крича,
Смотрит вперед безнадежно другая,
Шепча без мысли молитвы слова.
Петь перестал причетник дрожащий
И у распятья в страхе поник.
Патер не служит. В угол прижался –
Давит дикий безумный крик.
А черные волны, страшные волны
Плавно, мерно, спокойно идут,
Мирные словно, ласкаются словно,
Тихо качая, трупы несут.
1914
(обратно)239
В «Новом Сатириконе» стихи В. В. Маяковского печатались начиная с февраля 1915 г. Возможно, что Шварц имеет в виду два стихотворения, напечатанные в одном номере журнала (27 августа): «Гимн взятке» и «Внимательное отношение к взяточникам».
(обратно)240
Семья владельца мельницы в Майкопе.
(обратно)241
С 16 по 27 января 1913 г. в первый раз в Майкопе гастролировал оперный театр – первое в России Передвижное оперное товарищество под управлением А. С. Костаньяна.
(обратно)242
«Мир искусства» – объединение русских художников, созданное в Петербурге А. Н. Бенуа и С. П. Дягилевым в 1898 г. Существовало до 1924 г. В него входили Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, К. А. Сомов и др. Живописи и графике этих художников присущи утонченная декоративность, изящная орнаментальность.
(обратно)243
Министр народного просвещения Л. А. Кассо применял жестокие репрессии против революционного студенчества. В 1911 г. по его указанию из Московского университета было исключено несколько тысяч студентов. В знак протеста университет покинула большая группа профессоров (131 человек), среди них К. А. Тимирязев, Н. Д. Зелинский, С. А. Чаплыгин и др.
(обратно)244
Храм Христа Спасителя в память победы над французами первоначально предполагали построить по проекту А. Л. Витберга на Воробьевых горах в 1812 г. Был построен по проекту К. А. Тона в 1839–1859 гг. на берегу Москвы-реки, на месте старого Алексеевского монастыря. Снесен в 1931 г.
(обратно)245
В настоящее время одно из зданий Библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Построено по проекту В. И. Баженова в 1784–1786 гг.
(обратно)246
Вейсман Борис Григорьевич (1868–1940) – служащий Азовско-Донского банка в Майкопе, выступал в любительской драматической труппе Пушкинского народного дома. В 1910-х гг. работал в Московском отделении Петроградского международного коммерческого банка.
(обратно)247
Шварц Изабелла Антоновна (ум. 1953) – жена И. Б. Шварца, мать А. И. Шварца.
(обратно)248
Строки из стихотворения И. А. Бунина «После битвы» (1903).
(обратно)249
Уоллес Алфред Рассел (1823–1913) – английский натуралист.
(обратно)250
Премьера спектакля Московского Художественного театра «Николай Ставрогин» (по роману Ф. М. Достоевского «Бесы») состоялась 23 октября 1913 г. Открытое письмо М. Горького «О карамазовщине» было опубликовано в газете «Русское слово» 22 сентября 1913 г. Горький резко протестовал против проповеди «болезненных идей Достоевского» со сцены Художественного театра.
(обратно)251
В «Русском слове» от 26 сентября 1913 г. был напечатан ответ Московского Художественного театра М. Горькому, в котором говорилось о Ф. М. Достоевском как о глубочайшем художнике.
(обратно)252
Роль Шатова играл Н. О. Массалитинов.
(обратно)253
В 1913 г. М. А. Чехов был введен на роль Епиходова, ввиду болезни И. М. Москвина. Первое выступление в этой роли состоялось 27 октября.
(обратно)254
В книге В. А. Катаняна «Маяковский. Литературная хроника» (М., 1961) в 1913–1914 гг., за время пребывания в Москве Шварца, зафиксировано два выступления В. В. Маяковского с футуристами. 11 ноября 1913 г. на вечере «Утверждение российского футуризма» участвовали Д. Д. и Н. Д. Бурлюки, Маяковский делал доклад «Достижения футуризма» (см. с. 51–52), но вечер был в Политехническом музее. В Литературно-художественном кружке (Большая Дмитровка, 15) В. В. Маяковский выступал 13 февраля 1914 г. на лекции Ф. Маринетти о футуризме и там же, в этот же день, в прениях по докладу С. Глаголя «О новейших течениях в современной живописи» (см. с. 58).
(обратно)255
Французский поэт Поль Верлен музыку слова, музыкальность стиха выдвигал в поэзии на первое место (см. его стихотворение «Искусство поэзии» («Art poetique»), ставшее впоследствии манифестом поэтов-символистов.).
(обратно)256
Строка из стихотворения Ф. К. Сологуба.
(обратно)257
«Симплициссимус» (простодушнейший – лат.) – немецкий сатирический иллюстрированный еженедельник. Издавался в Мюнхене с 1896 по 1942 г.
(обратно)258
Штук Франц фон (1863–1928) – немецкий художник, скульптор, представитель стиля «модерн».
(обратно)259
Одна комната с двумя постелями (нем.).
(обратно)260
В сборник «Жизнь и творчество Б. С. Житкова» (М., 1955) воспоминания Шварца не вошли. Были опубликованы: Вопросы литературы, 1987, № 2.
(обратно)261
Весной 1924 г. Шварц несколько месяцев провел в Артемовске, работал в газете, заведовал информационным отделом, заказывал художникам карикатуры и делал к ним стихотворные подписи.
(обратно)262
В издательстве «Радуга» вышли следующие книжки для детей со стихотворными подписями Шварца к рисункам В. М. Конашевича, А. Ф. Пахомова, А. А. Радакова и др.: в 1925 г. – «Вороненок» и «Война Петрушки и Степки Растрепки», в 1926 г. – «Шарики» и «Рынок», в 1927 г. – «Прятки», в 1929 г. – «Петька-петух – деревенский пастух».
(обратно)263
Золотовский Константин Дмитриевич (р. 1904) – детский писатель.
(обратно)264
«А невесте скажи, что она подлец», – говорит Яичница Фекле в пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба».
(обратно)265
Фраза из повести А. П. Чехова «Огни».
(обратно)266
Данько Елена Яковлевна (1898–1942) – писательница, артистка театра кукол, живописец на фарфоровом заводе.
(обратно)267
Роман для взрослых «Виктор Вавич», посвященный революции 1905 г., Б. С. Житков писал с 1929 по 1934 г.
(обратно)268
Хармс Даниил Иванович (1905–1942) – поэт. Незаконно репрессирован, погиб в заключении.
(обратно)269
Введенский Александр Иванович (1904–1941) – поэт. С 1928 г. выступал как детский писатель, сотрудничал в журналах «Еж» и «Чиж». Незаконно репрессирован, погиб в заключении.
(обратно)270
Об этом свидетельствуют и записи Л. Н. Толстого в дневниках: «Читал „Лишнего человека“. Ужасно приторно, кокетливо, умно и игриво» (ПСС. Т. 47. М., 1937. С. 73); «…прочел все повести Тургенева. Плохо» (там же. С. 99); «Ася» дрянь» (там же. Т. 48. 1952. С. 4); «…стихотворения в прозе Тургенева. Ужасно» (там же. Т. 56. 1937. С. 188).
(обратно)271
Военный министр Англии Г. Г. Китченер, выступая 4 (17) сентября 1914 г. в палате лордов, охарактеризовал положение, сложившееся в английской армии, сообщил о предпринятом новом наборе и высказал предположение, что только к весне 1915 г. Великобритания проявит всю свою силу сопротивления (см. Заявление Китченера: Русское слово. 1914, 6 (19) сент.).
(обратно)272
Имеется в виду русско-турецкая война 1877–1878 гг., начатая Россией для укрепления влияния на Балканах.
(обратно)273
Третьяков – юнкер, сын воинского начальника, казачьего полковника, знакомого Крачковских по Майкопу.
(обратно)274
8 ноября 1914 г. в Большом театре состоялся вечер в пользу убежища для престарелых артистов. Половина сбора предназначалась на образование фонда для оказания помощи больным и раненым воинам, их семьям и семьям лиц, призванных на войну.
(обратно)275
Ф. И. Шаляпин снимался в кинофильме «Царь Иван Васильевич Грозный» («Дочь Пскова») по драме Л. А. Мея в 1916 г.
(обратно)276
В конце 1910-х – начале 1920-х гг. супруги Мгебров Александр Авельевич (1884–1966) и Чекан Виктория Владимировна (1893–1974) – артисты и режиссеры – руководили театральной работой Петроградского пролеткульта, устраивали театрализованные представления и у себя дома.
(обратно)277
Издательство «Всемирная литература» было основано М. Горьким в сентябре 1918 г. в Петрограде с целью познакомить советских читателей с лучшими произведениями мировой литературы. К. И. Чуковский был членом ученой коллегии экспертов, руководившей работой издательства. Он редактировал переводы, писал предисловия и комментарии, переводил сам Марка Твена, Оскара Уайльда, О. Генри и др.
(обратно)278
К. И. Чуковский переводил пьесу ирландского драматурга Д. М. Синга (1871–1909) «Герой» («Удалой молодец – гордость Запада»).
(обратно)279
«Воспоминания» А. Я. Панаевой были изданы под редакцией К. И. Чуковского с его вступительной статьей и примечаниями.
(обратно)280
4 июня 1922 г. в газете «Накануне», издававшейся в Берлине, А. Н. Толстой опубликовал без ведома К. И. Чуковского его частное письмо, не рассчитанное на появление в печати, чем вызвал недовольство многих лиц, упоминавшихся в нем (см. воспоминания К. И. Чуковского «Современники», глава «Алексей Толстой». – Собр. соч. Т. 2. М., 1965. С. 317–345).
(обратно)281
Взаимоотношения Л. Н. Андреева и К. И. Чуковского были неровными, что объяснялось постоянной сложностью отношений между писателем и литературным критиком. Андреев чувствовал себя нередко обиженным статьями Чуковского, иногда вступался и за других писателей, считая, что их произведения несправедливо оценены критиком в статьях (см. воспоминания К. И. Чуковского «Современники», глава «Леонид Андреев». – Собр. соч. Т. 2. М., 1965. С. 211–241). К. И. Чуковский писал резко отрицательные статьи и против М. П. Арцыбашева, критиковал «Санина». На этой почве и возникали конфликты между ними.
(обратно)282
Стихотворение Саши Черного «Корней Белинский» впервые опубликовано в журн. «Сатирикон» (1911, № 11) с подзаголовком: «Опыт критического шаржа».
(обратно)283
Имеется в виду пародия А. А. Измайлова на стихи С. Г. Скитальца «Не похож я на певца. А похож на кузнеца» (Измайлов А. Кривое зеркало. Спб., 1912. С. 29).
(обратно)284
Лернер Николай Осипович (1877–1934) – литературовед.
(обратно)285
Замирайло Виктор Дмитриевич (1868–1939) – художник.
(обратно)286
Давыдов Владимир Николаевич (1849–1925) – артист. С 1880 по 1924 г. – в труппе Александрийского театра.
(обратно)287
Радаков Алексей Александрович (1877–1942) – художник-карикатурист, график; был редактором журнала «Новый сатирикон»; после Октябрьской революции – соредактор журналов «Лапоть», «Крокодил».
(обратно)288
Рукописный альманах К. И. Чуковского «Чукоккала» издан (М., 1979) с факсимильным воспроизведением записей и рисунков писателей, художников, артистов.
(обратно)289
Лунц Лев Натанович (1901–1924) – писатель, публицист.
(обратно)290
В 1925 г. К. И. Чуковский ездил в Куоккалу и получил остававшуюся там часть своего архива, в том числе и дневники. В настоящее время они готовятся к печати в издательстве «Советский писатель».
(обратно)291
Богданович Ангел Иванович (1860–1907) – литературный критик, публицист. В 1894–1906 гг. – редактор журнала «Мир Божий».
(обратно)292
Шварц пишет о статье К. И. Чуковского «Возмездие» (Жизнь искусства, 1923, №№ 47, 48).
(обратно)293
Имеется в виду абзац, который в последующих переизданиях был снят: «…я решительный враг той сказовой, разговорной дикции, которую вводили в свои детские книги даровитый Евгений Шварц, автор „Шариков“, „Рынка“ и других прибауточных раешных стихов, Софья Федорченко и др.» (Чуковский К. От двух до пяти. Л., 1939. С. 228). «Экикики», по определению К. И. Чуковского, свойственная детям стихотворная форма – экспромты, порожденные радостью, не столько песни, сколько краткие звонкие выкрики, повторяющиеся несколько раз.
(обратно)294
Чуковская Марина Николаевна (р. 1905) – переводчица, жена Н. К. Чуковского.
(обратно)295
Е. Л. Шварц ошибся: статья «Прекрасная отвага» принадлежала М. А. Кузмину, статья М. С. Шагинян называлась «Театральная мастерская». В ней был дан анализ трех первых спектаклей. См. также: 1952, примеч. 22.
(обратно)296
Холодова (наст. фам. Халайджиева) Гаянэ Николаевна (1899–1983) – артистка. Первая жена Е. Л. Шварца.
(обратно)297
Алонкина М. С. – секретарь Дома искусств в Петрограде.
(обратно)298
Имеется в виду Познер Владимир (р. 1905), ставший впоследствии известным французским писателем.
(обратно)299
Святая серьезность (нем.).
(обратно)300
Шварц в это время писал пьесы «Василиса Работница» и «Первое имя» (по повести И. И. Ликстанова), с П. Ф. Аболимовым начал писать либретто балета о скоморохах для Государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова.
(обратно)301
«Былое» – журнал, в котором публиковались документы и материалы по истории революционного движения преимущественно второй половины XIX века, выходивший в Петербурге-Ленинграде в 1906–1907, 1917–1926 гг. под редакцией В. Л. Бурцева, В. Я. Богучарского, П. Е. Щеголева.
(обратно)302
Московское общество драматических писателей и оперных композиторов существовало в 1904–1930 гг.
(обратно)303
Шварц имеет в виду первый роман из цикла «В поисках за утраченным временем» М. Пруста «В сторону Свана», вторым романом был «Под сенью девушек в цвету».
(обратно)304
Ум (франц.).
(обратно)305
Дух (нем.).
(обратно)306
В годы революции в Петрограде работало отделение Всероссийского союза писателей, председателем которого был Ф. К. Сологуб.
(обратно)307
Фидлер Федор Федорович (1859–1917) – переводчик, библиограф.
(обратно)308
Полоцкий Семен (Симеон) Анатольевич (ум. 1952) – поэт.
(обратно)309
Ганзен Анна Васильевна (1869–1942) – переводчица, с 1920 по 1932 г. – член правления и казначей Ленинградского отдела Всероссийского союза писателей.
(обратно)310
В детском отделе Госиздата Шварц работал с 23 октября 1925 г. по 1931 г., с 1925 по 1928 г. работал также редактором издательства «Радуга», а с 1928 по 1931 г. – редактором детского журнала «Еж».
(обратно)311
Со второй половины 1924 г. по октябрь 1925 г. Шварц работал секретарем редакции журнала «Ленинград», который издавался при «Ленинградской правде».
(обратно)312
Герасимов Павел Федорович (1878–1949) – директор Ленинградского отделения Госиздата.
(обратно)313
Новый театр был основан в 1933 г. Первым художественным руководителем был И. М. Кролль.
(обратно)314
Ленинградский Театр юных зрителей (ЛенТЮЗ) был основан в 1921 г., открылся в феврале 1922 г. в помещении концертного зала бывшего Тенишевского училища. Художественным руководителем театра был А. А. Брянцев. В ТЮЗе были поставлены следующие пьесы Е. Л. Шварца: «Ундервуд» (1929), «Клад» (1933), «Два клена» (1954).
(обратно)315
В 1935 г. из филиала ЛенТЮЗа выделился коллектив, образовавший Новый ТЮЗ. Главным его режиссером был Б. В. Зон. Театр работал до 1945 г.
(обратно)316
При МХАТе возникали студии, организационно и творчески связанные с ним. Они исполняли роль творческих лабораторий, сочетающих учебно-педагогическую работу с поисками новых форм спектакля и новых методов воспитания актера.
(обратно)317
Николаева Евгения Константиновна (1898–1946) – поэтесса, близкий друг В. Б. Шкловского.
(обратно)318
Шварц имеет в виду рассказ И. А. Бунина «В поле».
(обратно)319
Говорится о работе В. В. Розанова «Легенда о Великом инквизиторе» Ф. М. Достоевского» (Спб., 1902).
(обратно)320
Дневники Л. Н. Толстого издавались с 1934 по 1953 г., в 1953 г. вышел т. 53.
(обратно)321
Имеется в виду письмо от 24 июля 1943 г., содержащее просьбу переделать «Новую сказку» – пьесу для кукольного театра в пьесу для Детского театра.
(обратно)322
В Новом Афоне Шварц отдыхал летом 1928 г.
(обратно)323
Степанов Николай Леонидович (1902–1972) – литературовед.
(обратно)324
Гофман Виктор Абрамович (1899–1942) – литературовед.
(обратно)325
Соколов Петр Иванович (1892–1938?) – художник, с которым часто общался Шварц, отдыхая летом 1927 г. в Судаке.
(обратно)326
28 января 1936 г. в газете «Правда» была опубликована редакционная статья «Сумбур вместо музыки» об опере Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». 5-я симфония была написана Д. Д. Шостаковичем в 1937 г. Автор писал о ней: «…Тема моей симфонии – становление личности. Именно человека со всеми его переживаниями я видел в центре замысла этого произведения» (Вечерняя Москва, 1938, 25 янв.).
(обратно)327
Д. Д. Шостакович выступил в дневном концерте в Большом зале Филармонии 14 сентября 1941 г. Это был первый концерт, сбор с которого поступил в Фонд обороны. Среди участников концерта был и Шварц.
(обратно)328
С 13 сентября по 4 октября 1942 г. Шварц был в Москве. Он привез в Комитет по делам искусств свою новую пьесу «Далекий край».
(обратно)329
Фильм «Юный мистер Линкольн» режиссера Дж. Форда (1939), роль Авраама Линкольна исполнял Г. Фонда.
(обратно)330
Авлов Григорий Александрович (1885–1960) – театральный деятель, режиссер, критик и педагог, один из организаторов художественной самодеятельности.
(обратно)331
Повесть Л. Н. Толстого.
(обратно)332
В подлиннике ошибочно – операции.
(обратно)333
Турецкая Кира Яковлевна (р. 1910) – актриса Ленинградского театра комедии.
(обратно)334
Вторично пьеса А. П. Чехова «Три сестры» была поставлена во МХАТе в 1940 г. (премьера – 24 апреля). Режиссер В. И. Немирович-Данченко.
(обратно)335
Письмо П. А. Вяземскому от 1826 г. (не позднее 24 мая).
(обратно)336
Горелик Г. С. – директор, зав. постановочной частью Театральной мастерской в Ростове-на-Дону.
(обратно)337
Чабров Алексей Александрович (ок. 1888 – ок. 1935) – артист, режиссер, пианист, постановщик танцев в ряде спектаклей Камерного театра, впоследствии католический священник на Корсике.
(обратно)338
Премьера пантомимы Э. Донаньи – А. Шницлера «Покрывало Пьеретты» в Камерном театре состоялось 6 октября 1916 г. Режиссер – А. Я. Таиров.
(обратно)339
Премьера «Принцессы Брамбиллы» по Э. Т. А. Гофману в Камерном театре состоялась 4 мая 1920 г. В этом спектакле были соединены балет и пантомима, комедия и трагедия, цирк и оперетта.
(обратно)340
«Летучая мышь» – первый русский театр миниатюр, возникший из артистического кружка-кабаре Московского художественного театра в 1908 г. Руководителем театра и постоянным конферансье был Н. Ф. Балиев; «Бродячая собака» – литературно-артистическое кабаре, существовавшее в Петербурге в 1912–1915 гг. Организатором его был Б. К. Пронин.
(обратно)341
Живая газета – агитколлектив, ставивший представления, основанные на газетном материале или злободневных событиях жизни. В ее репертуар входили монологи, коллективная декламация, частушки, фельетоны и т. п. Такие коллективы возникли в начале 1920-х гг. В 1924 г. Шварц играл в живой газете Роста в Петрограде.
(обратно)342
Флит Александр Матвеевич (1891–1954) – поэт, драматург, пародист.
(обратно)343
«Балаганчик» – театр малых форм в Петрограде, при театре «Вольная комедия» (1921–1925),
(обратно)344
Ф. Ф. Комиссаржевский создал в Москве в 1914 г. студийный театр на основе своей школы-студии, существовавшей с 1910 г. Он стремился осуществить на практике собственную теорию романтического театра.
(обратно)345
Очевидно, Е. Л. Шварц имеет в виду не дневниковую запись А. А. Блока, а строки из его письма к Л. Д. Блок от 19 февраля 1915 г. (см. Литературное наследство. Т. 89. М., 1978. С. 354).
(обратно)346
Летом 1912 г. в Териоках работало Товарищество артистов, художников, писателей и музыкантов под руководством В. Э. Мейерхольда. Там и ставил Мейерхольд «Виновны – невиновны?» А. Стриндберга.
(обратно)347
В подлиннике ошибочно – Надеждин.
(обратно)348
Передвижной театр создан П. П. Гайдебуровым и Н. Ф. Скарской в Петербурге (1905–1928).
(обратно)349
«Свободный театр» создан К. А. Марджановым в Москве (1913–1914).
(обратно)350
Премьера спектакля «Зеленое кольцо» по пьесе 3. Н. Гиппиус состоялась во Второй студии МХТ 24 ноября 1916 г. Пьеса была посвящена молодежи, организовавшей общество «Зеленое кольцо» и вступившей в конфликт с «отцами». Спектакль имел большой успех и входил в репертуар студии до ее закрытия.
(обратно)351
Костомолоцкий Александр Иосифович (1897–1971) – артист Театральной мастерской в Ростове-на-Дону, затем Театра им. Вс. Мейерхольда, театральный художник.
(обратно)352
Тусузов Георгий (Егор) Баронович (1891–1986) – артист Театральной мастерской в Ростове-на-Дону, с 1934 г. до конца жизни – Театра сатиры.
(обратно)353
Очевидно, имеется в виду отрывок из работы В. В. Хлебникова «Доски судьбы» (1922), в которой автор, по его мнению, открывал путь к овладению числовыми «законами времени».
(обратно)354
Литературная группа ничевоков существовала с 1920 по 1923 г. В ее творческое бюро входили: С. Г. Map, E. А. Николаева, A. И. Ранов, Р. Ю. Рок, Д. Уманский, О. Е. Эрберг, Б. Земенков, С. В. Садиков. В своем декрете о ничевоках поэзии они выдвинули следующие лозунги: «Ничего не пишите! Ничего не читайте! Ничего не говорите! Ничего не печатайте! В поэзии ничего нет; только ничевоки».
(обратно)355
Один из братьев Литваков Анатолий (псевд. Натолин) (1902–1974) стал позднее известным американским кинорежиссером.
(обратно)356
Премьера «Саломеи» О. Уайльда в постановке А. Я. Таирова состоялась в Камерном театре 9 октября 1917 г.
(обратно)357
Пьеса «Мистерия-Буфф» В. В. Маяковского была поставлена B. Э. Мейерхольдом и В. М. Бебутовым в Театре РСФСР I (премьера – 1 мая 1921 г.).
(обратно)358
Спектакль «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка был поставлен в Театре им. Вс. Мейерхольда в 1922 г. (премьера – 25 апреля). Режиссер В. Э. Мейерхольд.
(обратно)359
Кафе «Стойло Пегаса» открылось в Москве на Тверской улице, д. 37 в 1920 г.
(обратно)360
Вечер в «Стойле Пегаса», посвященный памяти А. А. Блока, назывался «Чистосердечно о Блоке».
(обратно)361
См. примеч. 219.
(обратно)362
Пумпянский Лев Васильевич (1894–1940) – литературовед.
(обратно)363
Оцул Николай Авдиевич (1894–1959) – поэт.
(обратно)364
Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) – поэт.
(обратно)365
Рассказ Ионушки «О двух великих грешниках» из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
(обратно)366
«Иванов Павел» – фантастическая опера с превращениями, провалами и апофеозом написана С. М. Надеждиным и В. Р. Раппопортом.
(обратно)367
О Г. Н. Холодовой (Халайджиевой) в своей рецензии «Иуда» М. А. Кузмин писал: «К сожалению, женский персонал был гораздо хуже. Г. Н. Халайджиева повторила Леру из „Гондлы“ да вряд ли и могла сделать что-нибудь другое, так как отчетливая, но холодная декламация, однообразные жесты и очень заметный южный акцент совершенно недостаточны для таких ролей, как Ункрада» (Жизнь искусства, 1922, 14 февр.); Н. Розенталь в рецензии на тот же спектакль писал: «Значительно слабее исполнительницы главных женских ролей, особенно Ункрада – Халайджиева, и страсть, и гнев, и отчаяние выражавшая одним и тем же искусственным повышением голоса» (Вестник театра и искусства, 1922, 7–9 февр.).
(обратно)368
С 21 по 23 октября 1953 г. в Москве проходил XIV пленум Правления ССП, в работе которого принял участие Шварц. 24 октября он выехал в Ленинград. Видимо, в один из этих дней и состоялась его встреча с Н. А. Заболоцким.
(обратно)369
Роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» в обработке Н. А. Заболоцкого для детей был издан впервые в 1935 г.
(обратно)370
Книга «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка». (М. – Л., 1930).
(обратно)371
Перечисленные спектакли шли в Театре новой драмы в сезоне 1922/23 г.
(обратно)372
Спектакль «Смерть Тарелкина» был показан А. Л. Грипичем в Театре новой драмы 11 ноября 1922 г., а В. Э. Мейерхольдом – в Театре ГИТИСа 24 ноября 1922 г.
(обратно)373
Пиотровский Адриан Иванович (1898–1938) – литературовед, театровед, киновед, драматург, переводчик – был незаконно репрессирован, погиб в заключении.
(обратно)374
Премьера состоялась 31 марта 1923 г. Режиссер А. Л. Грипич, художник М. 3. Левин.
(обратно)375
В театре Пролеткульта шел спектакль по пьесе Э. Толлера «Человек – масса» (премьера – 28 марта 1924 г.).
(обратно)376
«Иванов Павел» – фантастическая опера с превращениями, провалами и апофеозом написана С. М. Надеждиным и В. Р. Раппопортом.
(обратно)377
Премьера спектакля «Смерть командарма» («Гибель пяти») состоялась в БДТ 18 ноября 1925 г. Режиссер П. К. Вейсбрем.
(обратно)378
В июле – августе 1935 г. Шварц с группой ленинградских писателей совершил поездку по Грузии, знакомился с ее достопримечательностями, встречался с грузинскими писателями.
(обратно)379
Тверской Константин Константинович (1890–1944?) – режиссер, педагог, критик – был незаконно репрессирован.
(обратно)380
Премьера состоялась в Театре драмы им. А. С. Пушкина 31 марта 1954 г. Режиссер Г. М. Козинцев, художник Н. И. Альтман, композитор Д. Д. Шостакович.
(обратно)381
В 1940–1941 гг. Г. М. Козинцев и Л. 3. Трауберг написали сценарий «Карл Маркс». На роль Маркса был приглашен М. М. Штраух. Энгельса должен был играть Н. К. Черкасов. Фильм не был снят.
(обратно)382
У Шварца в этой записи есть неточности: Г. М. Козинцев появился в Петрограде несколько раньше: в 1919–1922 гг. он учился в Высших художественных мастерских Академии художеств. Организованная им совместно с Л. 3. Траубергом мастерская называлась «Фабрика эксцентрического актера» (ФЭКС).
(обратно)383
Педагогической деятельностью Г. М. Козинцев занимался в Мастерской ФЭКС с 1922 по 1926 г., в Ленинградском институте сценических искусств (ИСИ) – с 1926 по 1932 г.
(обратно)384
Имеется в виду работа над фильмом «Белинский» по сценарию Ю. П. Германа и Е. П. Серебровской в 1953 г.
(обратно)385
Смирнов Владимир Иванович (1887–1974) – математик, академик АН СССР, любитель-музыкант.
(обратно)386
А. И. Шварц написал книгу «В лаборатории чтеца», она была издана лишь в 1960 г.
(обратно)387
П. В. Цетнерович ставил пьесу «Два клена» Шварца в Московском театре юного зрителя.
(обратно)388
Премьера спектакля «Два клена» в МТЮЗе состоялась 9 апреля 1954 г.
(обратно)389
Соловьева Варвара Васильевна (р. 1898) – врач, дочь В. Ф. и В. К. Соловьевых, друг детства Е. Л. Шварца.
(обратно)390
С 21 по 25 апреля 1954 г. состоялись гастроли театра «Комеди Франсез» в Ленинграде. Спектакли шли в помещении Академического Малого оперного театра.
(обратно)391
Шварц смотрел «Мещанина во дворянстве» Ж. Б. Мольера.
(обратно)392
Луи Сенье играл господина Журдена.
(обратно)393
Бретти играла Николь.
(обратно)394
Фильм «Дети райка» вышел на экран в 1945 г. Сценарий Ж. Превера, режиссер М. Карие.
(обратно)395
Под таким названием демонстрировался фильм Луи Дакена «Рассвет» (1948), посвященный трудовым будням шахтеров.
(обратно)396
Фильм итальянского режиссера Р. Кастеллани (1952) шел на советском экране под названием «Два гроша надежды».
(обратно)397
Андрюша и Машенька – внуки Шварца.
(обратно)398
Холодова Гаянэ Николаевна.
(обратно)399
Премьера спектакля «Клад» состоялась 8 октября 1933 г. Режиссер Б. В. Зон, художник М. А. Григорьев, композитор Н. М. Стрельников. Роли исполняли: А. А. Охитина, О. П. Беюл, Б. В. Блинов и др.
(обратно)400
В «Литературном Ленинграде» (1933, 15 окт.) были напечатаны две рецензии под общим названием «ТЮЗ нашел клад».
(обратно)401
Говорится о книге: П. П. Чистяков. Письма. Записные книжки. Воспоминания. М., 1953.
(обратно)402
«Третья фабрика» написана В. Б. Шкловским в октябре 1926 г. в Баку. Носит автобиографический характер. Согласно творческой манере автора тех лет, главы ее ни сюжетно, ни композиционно не связаны между собой. Объединяющий момент – личность автора-рассказчика. Он служит как бы нитью, на которую нанизываются мысли, рассуждения, воспоминания. В предисловии автор писал: «Книга будет называться „Третья фабрика“. Во-первых, я служу на 3-й фабрике Госкино. Во-вторых, названье объяснить нетрудно. Первой фабрикой для меня была семья и школа. Вторая – „Опояз“. И третья обрабатывает меня сейчас».
(обратно)403
В предисловии к книге «Zoo. Письма не о любви, или Третья Элоиза», написанной в 1923 г. в Берлине, В. Б. Шкловский писал: «Первоначально я задумал дать ряд очерков русского Берлина, потом показалось интересным связать эти очерки какой-нибудь общей темой. Такой темой я взял „Зверинец“ („Zoo“), заглавие книги уже родилось, но оно не связало кусков. Пришла мысль сделать из них что-то вроде романа в письмах. Для романа в письмах необходима мотивировка – почему именно люди должны переписываться. Обычная мотивировка – любовь и разлучники. Я взял эту мотивировку в ее частном случае: письма пишутся любящим человеком к женщине, у которой нет для него времени. Тут мне понадобилась новая деталь: так как основной материал книги не любовный, то я ввел запрещение писать о любви. Получилось то, что я выразил в подзаголовке: „Письма не о любви“. Книга имеет следующее посвящение: „Посвящаю Zoo Эльзе Триоле и даю книге имя Третья Элоиза“.
(обратно)404
Б. М. Эйхенбаум был автором вступительной статьи и примечаний к однотомнику Я. П. Полонского «Стихотворения» (Л., 1954).
(обратно)405
Переговоры Е. Л. Шварца с Г. М. Козинцевым и студией «Ленфильм» о написании киносценария «Дон Кихот» начались в сентябре 1954 г. Сдан в сценарный отдел «Ленфильма» 14 мая 1955 г.
(обратно)406
Окончательный вариант сценария начинался с диалога цирюльника и священника, спешащих по улице села в Ламанче к усадьбе Дон Кихота; затем действие переносилось в библиотеку, где Дон Кихот читал рыцарские романы.
(обратно)407
Заключительная сцена фильма происходила на дороге, по которой скакали Дон Кихот и Санчо Панса. Дон Кихот произносил монолог о золотом веке.
(обратно)408
Статья К. Н. Державина «Дон Кихот» в русской драматургии» напечатана в сборнике «Сервантес. Статьи и материалы» (Л., 1948. С. 124–148).
(обратно)409
Широко известны романтически эффектные иллюстрации к «Дон Кихоту» французского графика Г. Доре.
(обратно)410
Переговоры завершились успешно, и 28 сентября уже была написана первая сцена «Дон Кихота».
(обратно)411
Приводятся строки из восьмой главы «Евгения Онегина».
(обратно)412
Строка из стихотворения «Воспоминание» (1828).
(обратно)413
Ленинградский ТЮЗ ставил пьесу Шварца «Два клена». Режиссер П. К. Вейсбрем (премьера – 5 ноября).
(обратно)414
Одно из высказываний Г. Гейне, найденное в его рукописном наследии после его смерти и включенное в собрание сочинений в раздел «Мысли, заметки, импровизации» (подраздел 1. «Личное»).
(обратно)415
В годы Великой Отечественной войны вся частная переписка просматривалась военной цензурой.
(обратно)416
Говорится о пьесах «Одна ночь» и «Далекий край».
(обратно)417
Л. А. Малюгин писал пьесу «Старые друзья». Она была поставлена А. М. Лобановым в Театре им. М. Н. Ермоловой. (Премьера – 8 января 1946 г.)
(обратно)418
Говорится о XII пленуме Правления Союза советских писателей СССР, проходившем с 15 по 20 декабря 1948 г. Пленум был посвящен состоянию литературы народов СССР и вопросам драматургии. Чрезвычайно резкой, несправедливой критике подверглось творчество ряда крупных драматургов. Л. А. Малюгин выступал на вечернем заседании 18 декабря.
(обратно)419
Пьеса А. Л. Малюгина «Молодая Россия» была поставлена в 1954 г. Московским театром им. Н. В. Гоголя.
(обратно)420
Говорится о романе Л. А. Малюгина «Дальняя дорога».
(обратно)421
Имеется в виду пьеса «Родные места», поставленная в Городском драматическом театре в Ногинске в январе 1951 г.
(обратно)422
В Театре им. Вл. Маяковского премьера состоялась во время гастролей в 1952 г. Постановщик Д. А. Вурос.
(обратно)423
В марте-апреле 1954 г. шли генеральные репетиции и общественные просмотры спектакля МТЮЗа «Два клена».
(обратно)424
23 ноября 1954 г. Шварц выступил на юбилее в честь семидесятилетия писательницы А. Я. Бруштейн с приветствием от имени ленинградских писателей. Приводим выдержки из его выступления:
Дорогая Александра Яковлевна!
Примите самые дружеские поздравления от земляков Ваших, от ленинградских писателей. У нас Вы начинали работать. Именно у нас прошли первые Ваши пьесы. Ставили их в молодых, едва родившихся театрах и в молодом тогда ТЮЗе, и поэтому, вспоминая Вас, мы вспоминаем лучшие дни молодости. И не только мы, так или иначе связанные с театральной жизнью города. Ленинградские ребята, плакавшие и смеявшиеся на премьерах «Гавроша», «Голубого и розового», «Дон Кихота», «Так было», «Продолжение следует», по железной логике вещей стали уже чуть ли не нашими ровесниками. Во всяком случае – вполне взрослыми людьми. Но напомните им хотя бы спектакль «Голубое и розовое» – и они обрадуются, словно встретили друга детства. Мы помним и любим Ваши пьесы… Но сказать в день Вашего семидесятилетия только о Вашей работе в литературе – это полдела. Есть таланты особого вида. Как нам кажется – великолепные, завидные таланты.. Но их не так просто определить, как талант к музыке, талант к живописи… Все, работавшие с Вами или возле Вас в театре, в Союзе советских писателей, в ВТО, знают всю темпераментность, веселость, прелесть, словом, повторяю, всю талантливость Вашей общественной деятельности… Вы, Александра Яковлевна, по рождению, по праву, по природе – талантливейший деятель искусств, доказавший это всей своей жизнью. Ваш редкий, особенный талант, как вино, оживляет все вокруг. А для вина возраст – только достоинство. Ваш талант чем старе, тем сильней. Все крепче да крепче. От всей души желаем Вам здоровья и счастья на много лет.
(обратно)425
Сборник статей А. В. Амфитеатрова «Антики» (Спб., 1909).
(обратно)426
В газете «Ленинские искры» (1954, 21 ноября) под рубрикой «Посмотрите этот спектакль» была напечатана рецензия Л. Бурцовой «Два клена».
(обратно)427
28 ноября 1954 г. в газете «Ленинградская правда» была напечатана заметка «Новый спектакль для детей».
(обратно)428
Шварц был на просмотре спектакля «Дело» А. В. Сухово-Кобылнна в Театре им. Ленсовета. Спектакль был поставлен и оформлен Н. П. Акимовым. (Премьера – 29 декабря 1954 г.)
(обратно)429
«Он – Каин! Он Авеля убил!!» – реплика Нелькина из 1-го действия, 1-го явления драмы А. В. Сухово-Кобылина «Дело». «Ведь я из бренного-то тела таким инструментом душу выну, что и не скрипнет…» – слова Варравина из 5-го действия, 10-го явления той же драмы.
(обратно)430
В 1954 г. Н. В. Гернет написала совместно с К. Н. Шнейдер комедию-сказку «Далила-хитрица» (по мотивам сказок «1001 ночь»).
(обратно)431
Говорится о заседании II Всесоюзного съезда писателей.
(обратно)432
Богданович Татьяна Александровна (1873, по др. данным – 1874–1942) – писательница, публицистка, историк, друг В. Г. Короленко, жена А. И. Богдановича.
(обратно)433
«Русское богатство» – литературный, научный и политический журнал, с 1880 г. издавался писателями народнического направления Н. Н. Златовратским, Г. И. Успенским, В. М. Гаршиным; с 1893 г. новая редакция, в состав которой входили Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко, сделала журнал центром легального народничества. Пользовался большой популярностью среди русской интеллигенции тех лет.
(обратно)434
Рассказ «Сон Макара» написан В. Г. Короленко в 1883 г.
(обратно)435
В «Литературной газете» (1929, 19 августа) в рубрике «К Всесоюзному пионерскому слету» была напечатана статья Нестеровского «Воспитатели мещанства».
(обратно)436
Тарле Евгений Викторович (1875–1955) – историк, академик АН СССР.
(обратно)437
«Лев Гурыч Синичкин» – водевиль Д. Т. Ленского, в Театре комедии шел в литературной обработке А. М. Бонди.
(обратно)438
Премьера спектакля состоялась весной 1945 г., во время пребывания Театра комедии в Москве. Режиссер и художник Н. П. Акимов, композитор В. В. Желобинский. Н. А. Нурм играла Сурмилову.
(обратно)439
«Обыкновенный концерт» был поставлен С. В. Образцовым и С. С. Самодуром в 1946 г. (премьера – 19 июня). Авторами текста были С. В. Образцов, А. М. Бонди, З. Е. Гердт, В. Я. Типот.
(обратно)440
Семья Андрея Аверьяновича Письменского – директора Института усовершенствования учителей.
(обратно)441
Будогоская Лидия Анатольевна (1898–1985) – детская писательница.
(обратно)442
Фильм «Чапаев» был поставлен Г. Н. и С. Д. Васильевыми в 1934 г., в 1941 г. получил Государственную премию СССР.
(обратно)443
С октября 1951 г. по август 1953 г. Шварц работал над сценарием и пьесой «Первое имя» по одноименной повести И. И. Ликстанова.
(обратно)444
В 1952 г. В. Я. Венгеров снял «Живой труп» по Л. Н. Толстому, в 1953 г. – «Лес» по А. Н. Островскому (совместно с С. А. Тимошенко) .
(обратно)445
Фильм «Кортик» по повести А. Н. Рыбакова был поставлен В. Я. Венгеровым совместно с М. А. Швейцером в 1954 г.
(обратно)446
Повесть Н. В. Гернет «Три палатки» была издана впервые в 1933 г.
(обратно)447
Э. П. Гарин поставил спектакль «Сын народа» Ю. П. Германа в Ленинградском театре комедии в 1938 г. (премьера – 29 декабря).
(обратно)448
X. А. Локшина начала свою театральную деятельность в Театре Вс. Мейерхольда.
(обратно)449
Е. А. Грекова – автор четырех книг: «Рассказы» (Спб., 1911), «Кусочек голубого неба. Рассказы» (Пг., 1916), «Богатырь. Повести и рассказы» (Пг., 1921), «Душа Сибири. Повести и рассказы» (Пг., 1923).
(обратно)450
В театре «Кривое зеркало» (1908–1931) шли пародии Н. Н. Урванцова на мелодраму – «Жак Нуар, или Анри Заверни», на оперетту – «Восторги любви» и др.
(обратно)451
А. Д. Сперанский был создателем своеобразного учения о роли центральной нервной системы при разных заболеваниях. Его книга «Элементы построения теории медицины» (М, – Л., 1935) пользовалась в свое время широкой популярностью. «Блокада» – временное нарушение нервных связей посредством инфильтрации тканей раствором новокаина.
(обратно)452
Шишков Вячеслав Яковлевич (1873–1945) – писатель.
(обратно)453
Шварц ошибочно указывает дату. См. примеч. 398.
(обратно)454
Говорится о многотомном труде С. М. Соловьева «История России с древнейших времен».
(обратно)455
В фильме «Чапаев» Б. А. Бабочкин снимался в роли Чапаева. Б. П. Чирков – в роли крестьянина, В. С. Мясникова – в роли пулеметчицы Анки.
(обратно)456
Фильмы Г. М. Козинцева и Л. 3. Трауберга, составившие трилогию о революционном движении в России в 1910–1918 гг. с Б. П. Чирковым в главной роли, выходили на экраны: «Юность Максима» – в 1935 г., «Возвращение Максима» – в 1937 г., «Выборгская сторона» – в 1939 г.
(обратно)457
Двухсерийный фильм Ф. М. Эрмлера «Великий гражданин» с Н. И. Боголюбовым в главной роли вышел на экраны в 1938 и 1939 гг.
(обратно)458
Е. С. Деммени с 1918 г. выступал как актер-любитель в петроградских коммунальных театрах и лишь в 1924 г. организовал и возглавил театр кукол-петрушек (при Ленинградском ТЮЗе), который в 1930 г. был объединен с театром марионеток и получил название Ленинградского кукольного театра под руководством Евг. Деммени. А. А. Брянцев стал во главе Петроградского ТЮЗа в 1922 г.
(обратно)459
Е. С. Деммени поставил спектакль «Гулливер в стране лилипутов» в инсценировке Е. Я. Данько в 1928 г.
(обратно)460
В 1936–1937 гг. Шварц написал «Красную Шапочку» для ТЮЗа. В 1938 г. в Кукольном театре под руководством Е. С. Деммени состоялась премьера спектакля «Красная Шапочка и Серый волк» (в редакции для театра кукол). Режиссерская экспозиция М. М. Дрозжина.
(обратно)461
Спектакль «Кукольный город» был поставлен в 1939 г. Постановка М. М. Дрозжина.
(обратно)462
«Сказка о потерянном времени» была поставлена в 1940 г.
(обратно)463
Очевидно, Шварц, работая над пьесой «Клад», не сдал в установленный срок пьесу «Пустяки», предназначавшуюся для Кукольного театра под руководством Е. С. Деммени.
(обратно)464
В альманахе «Ушкуйники» (Пг., 1922) были напечатаны три стихотворения Н. К. Чуковского под псевдонимом Ник. Радищев: «Над золотыми куполами», «И горят огни во храме», «К душе», три стихотворения – «В глухие месяцы разлуки», «Синее ледяные скаты> и „Вечер“ – под тем же псевдонимом вошли в сборник „Звучащая раковина“ (Пг., 1922).
(обратно)465
Повесть Н. К. Чуковского «Приключения профессора Зворыки» (Л., 1926).
(обратно)466
Шварц участвовал в работе XII пленума Правления ССП с 15 по 20 декабря 1948 г., о чем он и вспоминает в этой записи. См. также примеч. 417
(обратно)467
С. Д. Дрейден был незаконно репрессирован в 1949 г., реабилитирован в 1954 г.
(обратно)468
Жеймо Янина Болеславовна (1909–1987) – артистка.
(обратно)469
Я. Б. Жеймо выступала в цирке даже несколько раньше – с трехлетнего возраста, была наездницей, гимнасткой, балериной и музыкальным эксцентриком.
(обратно)470
В 1926 г. в фильме «Шинель» Г. М. Козинцева и Л. 3. Трауберга Я. Б. Жеймо играла эпизодическую роль.
(обратно)471
Костричкин Андрей Александрович (р. 1901) – киноартист.
(обратно)472
Я. Б. Жеймо играла Леночку в комедийных короткометражных фильмах «Разбудите Леночку» (1935) и «Леночка и виноград» (1936), режиссер А. В. Кудрявцева.
(обратно)473
Фильм «На отдыхе» снят в 1936 г. режиссером Э. Ю. Иогансоном.
(обратно)474
17 ноября 1936 г. в газете «Известия» была напечатана рецензия братьев Тур на кинокомедию «На отдыхе», где говорилось: «Неизвестно почему сценаристы Олейников и Шварц написали такую „жеребятину“, режиссер Иогансон ее поставил, а „Ленфильм“ выпустил».
(обратно)475
Имеется в виду II Всесоюзный съезд писателей (1954).
(обратно)476
За пять лет Шварц написал сценарии «Первое имя» (1953), «Царь Водокрут» (1954), «Дон Кихот» (1955) и пьесы «Первое имя» (1953), «Медведь» (1953) и «Два клена» (1953).
(обратно)477
Осенью 1951 г. Шварц переделывал написанное К. А. Гузыниным обозрение для Ленинградского театра эстрады и миниатюр «Под крышами Парижа» (премьера – 29 января 1952 г.).
(обратно)478
См. запись в дневнике от 13 мая 1952 г. Первый акт пьесы «Медведь» был написан в 1944 г., последний – в 1954 г. Текст пьесы неоднократно переделывался.
(обратно)479
Шварц написал рассказы о Б. С. Житкове, К. И. Чуковском, а также опубликованные посмертно «Детство», «Печатный Двор» (Искусство кино, 1962, № 9), «Пятая зона» (Вопросы литературы, 1967, № 9).
(обратно)480
Человек, обладающий книжной ученостью, оторванный от жизни.
(обратно)481
Герой одноименного романа Р. Роллана Жан-Кристоф относился резко критически к творчеству Брамса, как, впрочем, и ко всей немецкой музыке (см.: Роллан Р. Собр. соч. Т. 4, кн. 4. М., 1956).
(обратно)482
В книге «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников» (М., 1955) о восприятии Толстым музыки и отношении к ней говорится в дневниках В. Ф. Булгакова, Н. Н. Гусева, В. Ф. Лазурского, С. А. Толстой, П. И. Чайковского, в воспоминаниях В. И. Алексеева, Т. А. Кузминской, С. Л. Толстого, в записях П. А. Сергеенко, В. Г. Черткова, в записках Д. П. Маковицкого и др.
(обратно)483
променял жену на табак и трубку, неосмотрительный, нерасчетливый (укр.).
(обратно)484
Лапповцы – члены Ленинградской ассоциации пролетарских писателей (ЛАПП).
(обратно)485
Над основным своим произведением – романом «Девять точек» М. Э. Козаков работал с 1929 по 1954 г. Книги 1–4 выходили в 1930–1939 гг. В 1956 г. роман был полностью опубликован под названием «Крушение империи».
(обратно)486
М. Э. Козаков с 1933 по 1937 г. был вначале заместителем, а затем ответственным редактором журнала «Литературный современник».
(обратно)487
Браун Николай Леопольдович (1902–1975) – поэт, переводчик.
(обратно)488
Четвериков Борис Дмитриевич (1896–1981) – писатель (до 1939 г. печатался под псевдонимом Дм. Четвериков).
(обратно)489
Борисоглебский Михаил Васильевич (1896–1942) – писатель.
(обратно)490
Литературно-художественный альманах «Ковш» выходил в Ленинграде в 1925–1926 гг. Ответственный редактор С. А. Семенов. В нем печатались М. М. Зощенко, В. А. Каверин, О. Э. Мандельштам, Н. Н. Никитин, Б. Л. Пастернак, Е. Г. Полонская, В. А. Рождественский, М. Л. Слонимский, Н. С. Тихонов, А. Н. Толстой, К. А. Федин, О. Д. Форш и др.
(обратно)491
М. Горький отметил первую книгу Л. Пантелеева, написанную совместно с Г. Белых, «Республика Шкид», вышедшую в 1927 г. Он писал 29 марта 1927 г. воспитанникам колонии им. Горького в Куряже: «Для меня эта книга – праздник, она подтверждает мою веру в человека, самое удивительное, самое великое, что есть на земле нашей» (Горький М. Собр. соч. Т. 30. 1956. С. 17).
(обратно)492
23 апреля 1932 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», которым была ликвидирована Российская ассоциация пролетарских писателей, и началась подготовительная работа к созданию Союза советских писателей.
(обратно)493
Никитина Зоя Александровна – жена М. Э. Козакова.
(обратно)494
О. Г. Казико с 1927 г. стала актрисой БДТ в Ленинграде, где в этом же году в спектакле «Разлом» Б. А. Лавренева сыграла роль Ксении (премьера – 7 ноября).
(обратно)495
«Трактирщицу» поставил в БДТ во время пребывания театра в Кирове П. К. Вейсбрем (премьера – 13 января 1942 г.).
(обратно)496
«Дневник писателя» Ф. М. Достоевский начал печатать в 1873 г. в еженедельном журнале «Гражданин», позднее выходил он и отдельными выпусками. В «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевский откликался в публицистической форме на волновавшие его события современности, печатались там и его художественные произведения.
(обратно)497
Основа фантастики рассказа Ф. М. Достоевского «Бобок» реальна: картина загробного мира дана как слуховая галлюцинации спившегося и, видимо, заболевающего белой горячкой маленького чиновника.
(обратно)498
В 1931 г. Шварц был заведующим редакцией журнала «Еж».
(обратно)499
Говорится о первом художественном произведении В. К. Кетлинской – повести «Натка Мичурина» (1928).
(обратно)500
Коковкин Борис Сергеевич (1911–1985) – артист.
(обратно)501
Никитин Федор Михайлович (1900–1988) – артист театра и кино.
(обратно)502
Рысс Евгений Самойлович (1908–1973) – прозаик, драматург.
(обратно)503
Зонин Александр Ильич (1901–1962) – писатель, критик. Незаконно репрессирован. Освобожден по состоянию здоровья. Реабилитирован.
(обратно)504
Дементьев Александр Григорьевич (1904–1986) – критик, литературовед.
(обратно)505
В. К. Кетлинская получила Государственную премию за роман «В осаде» в 1948 г.
(обратно)506
26 июля 1955 г. в «Литературной газете» была напечатана статья В. К. Кетлинской «Человек и его дело».
(обратно)507
В. А. Каверин окончил Институт восточных языков (1923) и историко-филологический факультет Ленинградского государственного университета (1924).
(обратно)508
Историко-литературная работа «Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского, журналиста, редактора „Библиотеки для чтения“, была издана в 1929 г.
(обратно)509
Рассказ «Варшава» вошел в ранний сборник М. Л. Слонимского «Шестой стрелковый» (1922).
(обратно)510
Имеется в виду второй роман трилогии М. Л. Слонимского «Друзья» (1951, 1954), последний роман трилогии «Ровесники века» вышел после смерти Е. Л. Шварца, в 1959 г.
(обратно)511
Поэма «Дорога» написана Н. С. Тихоновым в сентябре – ноябре 1924 г., после поездки в Закавказье. Впервые опубликована в альманахе «Ковш» (Л., 1925, № 2).
(обратно)512
Роман для юношества «Два капитана» (кн. 1–2) впервые был издан в 1938–1944 гг.
(обратно)513
В подлиннике ошибочно – Фонтанки.
(обратно)514
Письменский Андрей Аверьянович – директор Института усовершенствования учителей.
(обратно)515
Элико Семеновна (Симоновна) Пантелеева – жена писателя Л. Пантелеева.
(обратно)516
Э. П. Гарин ставил «Медведя» («Обыкновенное чудо») в Театре-студии киноактера (премьера – 18 января 1956 г.). Художник Б. Р. Эрдман. Роли исполняли: Хозяин – К. М. Барташевич, Хозяйка – Н. А. Зорская, Медведь – В. В. Тихонов, Король – Э. П. Гарин, Принцесса – Э. Г. Некрасова, Министр-администратор – Г. А. Георгиу, первый министр – А. А. Добронравов.
(обратно)517
В 1955 г. Шварц поселился в новом писательском доме на М. Посадской.
(обратно)518
Новых пьес Шварц не писал, в конце 1955 – начале 1956 г. работал над новыми вариантами текста пьесы «Первый год» («Повесть о молодых супругах»).
(обратно)519
Накануне премьеры спектакля «Медведь» Театр-студия киноактера обратилась к Шварцу с телеграммой: «Выпускаем спектакль, афишу. Дирекция, художественный совет, режиссер просят Вас утвердить новое название пьесы Вашего спектакля „Это просто чудо“, скобках „Медведь“. На обороте телеграммы рукой Шварца написаны варианты названия пьесы: „Веселый волшебник“, „Послушный волшебник“, „Обыкновенное чудо“, „Безумный бородач“, „Непослушный волшебник“.
(обратно)520
Невская Дубровка – пристанционный поселок Всеволожского района Ленинградской области на правом берегу Невы. После того как немецкие войска сомкнули кольцо блокады Ленинграда, наши войска переправились через Неву в районе Невской Дубровки и создали на левом берегу реки, под Московской Дубровкой, плацдарм протяженностью по фронту до 4 км и глубиной до 800 м. Этот плацдарм получил название «Невский пятачок». В ожесточенных кровопролитных боях советские войска удерживали плацдарм до прорыва блокады Ленинграда. Невская Дубровка стала символом мужества, стойкости и героизма воинов Ленинградского фронта.
(обратно)521
Художником-гримером в фильме «Дон Кихот» был В. П. Ульянов, делавший гримы и к фильму «Золушка».
(обратно)522
В фильме «Дон Кихот» Н. К. Черкасов играл роль Дон Кихота, Ю. В. Толубеев – Санчо Пансы, Н. В. Мамаева пробовалась на роль Альдонсы.
(обратно)523
Лунина Софья Тихоновна (1900–1976) – критик, редактор, театровед.
(обратно)524
Ивановская Мария Владимировна (1906–1977) – врач.
(обратно)525
Ивановский Игнатий Михайлович (р. 1932) – писатель, переводчик.
(обратно)526
Юстус Антонина Венедиктовна – сказочница.
(обратно)527
Приводим текст письма Л. А. Малюгина:
«Москва, 23 января 56
Дорогой Женя!
Я уезжал в Саратов и поэтому не мог быть на премьере твоей пьесы. Приехал и побежал на первый же спектакль. Прежде всего – театр был полон (правда, это было воскресенье), что в наше трудное время – редкость. Эрдман сделал очень хорошую декорацию – интерьеры хороши, а последний акт – просто великолепен. Гарин нашел, по-моему, верный ключ к пьесе – произведению очень своеобразному; пьесу слушают очень хорошо. Может быть, не все в ней доходит до зрителя – но здесь многое зависит и от зрителя, которого мы так долго кормили лебедой, что он уже забыл вкус настоящего хлеба. Должен сказать, что и не все артисты доносят второй план в пьесе, ее изящный юмор. Если говорить честно – по-настоящему пьесу понял сам Гарин, который играет превосходно. Остальные – как умеют, есть и интересные образы, но все это какая-то часть образа… Третий акт показался мне слабее первых двух – в чем, мне кажется, повинен и ты. Ну, а все же в целом интересно и ново. Поздравляю тебя с рождением пьесы, которая так долго лежала под спудом, желаю тебе здоровья, чтобы ты поскорее приехал в Москву и увидел все своими глазами.
Сердечный привет Екатерине Ивановне.
Обнимаю тебя. Л. Малюгин»
(обратно)528
Приводим текст письма А. А. Крона от 25 января: «Дорогой друг! Примите мои поздравления. Видел вчера в Театре киноактера Вашего „Медведя“. Это очень хорошо и удивительно талантливо. В работе Гарина и Эрдмана много хорошей выдумки, но лучше всего сама пьеса. Публика это понимает и более всего аплодирует тексту. Самое дорогое в том, что я видел и слышал, – остроумие, сумевшее стать выше острословия. Юмор пьесы не капустнический, а философский. Это не юмор среды, это общечеловечно… Я верю, что у „Медведя“ будет счастливая судьба. Надо только еще вернуться к III акту. Он ниже первых двух, а это жалко. Тем более, что в этом нет ничего неизбежного или непоправимого. Обнимаю Вас. Крон».
(обратно)529
3 февраля 1956 г. состоялась читка «Обыкновенного чуда» труппе Театра комедии, 27 апреля уже был прогон спектакля, а 30 апреля – премьера. Постановка и оформление Н. П. Акимова. Роли исполнили: Хозяин-волшебник – А. В. Савостьянов, Хозяйка – И. П. Зарубина, Медведь – В. А. Романов, Король – П. М. Суханов, Принцесса – Л. А. Люлько, Министр-администратор – В. В. Усков, Первый министр – К. М. Злобин, Придворная дама – Е. А. Уварова.
(обратно)530
Надеждина Надежда Степановна (1906–1973) – драматург, переводчик.
(обратно)531
Е. Л. Шварц имеет в виду воспоминания И. А. Бунина «О Чехове», изданные в Нью-Йорке в 1955 г. См. также: Собр. соч. И. А. Бунина в 9-ти тт. Т. 9. М., 1967. С. 222.
(обратно)532
Н. С. Рашевская была художественным руководителем БДТ с 1946 по 1950 г., параллельно с работой в Театре драмы им. А. С. Пушкина.
(обратно)533
Центральный театр кукол под руководством народного артиста СССР С. В. Образцова был организован в Москве в 1931 г. при Центральном Доме художественного воспитания детей. В 1946 г. открылся Ленинградский филиал этого театра, работавший до 1949 г.
(обратно)534
Остров Дмитрий Константинович (1906–1971) – писатель. В конце 1930-х гг. незаконно репрессирован, вскоре освобожден.
(обратно)535
Григорьев Николай Федорович (1896–1985) – писатель. Редактор журнала «Костер» (1956–1957).
(обратно)536
В 1950-е гг. в журнале «Звезда» были напечатаны рассказы Д. К. Острова «Письмо машинисту» (1951, № 12) и «Соринка в глазу» (1955, № 9).
(обратно)537
Манассеин Вячеслав Авксентьевич (1841–1901) – врач-терапевт и общественный деятель.
(обратно)538
Раковский Леонтий Иосифович (1895–1979) – писатель.
(обратно)539
Комиссарова Мария Ивановна (р. 1904) – поэтесса, переводчица с украинского и белорусского языков. Жена Н. Л. Брауна.
(обратно)540
Габричевский Александр Георгиевич (1891–1968) – искусствовед, литературовед, профессор Московского университета.
(обратно)541
Дембо Александр Григорьевич – врач-кардиолог, лечивший Шварца.
(обратно)542
Левоневский Дмитрий Анатольевич (р. 1907) – писатель, журналист.
(обратно)543
Фогельсон Соломон Борисович (р. 1910) – поэт.
(обратно)544
Айзеншток Иеремия Яковлевич (1900–1980) – критик, литературовед.
(обратно)545
Рецензии на спектакль «Обыкновенное чудо» в Театре-студии киноактера см. в «Советской культуре» от 22 мая 1956 г. (Жаров М. «Обыкновенное чудо». Спектакль Московского театра-студии киноактера), в «Московском комсомольце» от 20 июня 1956 г. (Кваснецкая М. «Обыкновенное чудо» в Театре киноактера).
(обратно)546
В. Ф. Панова написала пьесу «Старая Москва» в 1940 г. В этом же году она была премирована на Всероссийском конкурсе, опубликована в 1956 г. под названием «В старой Москве». В этом же году поставлена в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола (премьера – 16 декабря).
(обратно)547
Повесть «Спутники» написана в 1946 г. Удостоена Государственной премии СССР в 1947 г.
(обратно)548
Шварц участвовал в передачах, называвшихся Радиохроникой. В выпуски Радиохроники входили статьи, рассказы, песни, фельетоны, стихи. Их читали по радио сами авторы. В книге о работе Ленинградского радио блокадной поры говорится: «Самыми интересными, значительными сатирическими произведениями Ленинградского радио лета и осени 1941 г. стали сказки и сценки Евгения Шварца. Каждый приход на радио этого большого художника становился событием не только потому, что в очередном номере Радиохроники появлялись его новые вещи. Вокруг Е. Шварца всегда была обстановка творчества, доброжелательства. Включение в Радиохронику таких сказок драматурга, как „Сон министра“, „Дипломатическая конференция“, „Союзники“, заставляло требовательней отнестись и к другим материалам хроники. Хлестко и остроумно были написаны Е. Шварцем „Похождения фашистского черта“ (Рубашкин А. Голос Ленинграда. Л., 1975. С. 20–21).
(обратно)549
Петерсон Татьяна Леонтьевна – жена Л. Н. Рахманова.
(обратно)550
Название города, повторяющееся в ряде рассказов А. Грина и в романе «Бегущая по волнам».
(обратно)551
В 1977 г. Л. Н. Рахманов написал большую автобиографическую повесть. Отдельные главы ее – «Взрослые моего детства» – были опубликованы (Нева, 1977, № 7). Отдельным изданием книга вышла в 1978 г. под названием «Люди – народ интересный».
(обратно)552
Б. Рест написал текст капустника, или устного альманаха, «Давайте не будем». Шварц выступал со вступительным словом перед ним.
(обратно)553
Говорится о пьесе Б. Реста по комедии Абдуллы Каххара «Шелковое сюзане» (первый авторский вариант назывался «На новой земле»). Шла на сцене Ленинградского театра им. Ленинского комсомола в 1952 г.
(обратно)554
«Повесть о молодых супругах» – последнее произведение Шварца. В 1950-е гг. он работал над сценарием «Снежная королева». 13 октября 1956 г. написал заявку на сценарий «Человек и тень», 15 апреля 1957 г. просил о продлении срока сдачи сценария «Два друга» до 1 мая 1957 г., ввиду болезни. Детская пьеса не была написана.
(обратно)555
Глава, посвященная московской журналистике и В. М. Дорошевичу, из «Литературных воспоминаний» А. Р. Кугеля (М. – Пг., 1924).
(обратно)556
Шли репетиции спектакля «Обыкновенное чудо».
(обратно)557
Рывина Елена Израилевна (1910–1985) – поэтесса.
(обратно)558
Колесов Лев Константинович (1910–1974) – артист. С 1940 г. до конца жизни – в труппе Ленинградского театра комедии. В спектакле «Обыкновенное чудо» читал пролог.
(обратно)559
Усков Владимир Викторович (1907–1980) – артист. С 1948 г. до конца жизни – в труппе Ленинградского театра комедии.
(обратно)560
Н. П. Акимов с 1951 по 1955 г. был главным режиссером Ленинградского театра им. Ленсовета. 28 апреля 1956 г. состоялась премьера спектакля «Только правда» по пьесе Ж. – П. Сартра «Некрасов». Оформлял спектакль Н. П. Акимов.
(обратно)561
Пяст Владимир Алексеевич (1886–1940) – поэт, переводчик.
(обратно)562
Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) – поэт, критик. В 1922 г. эмигрировал.
(обратно)563
Берберова Нина Николаевна (р. 1901) – писательница, поэтесса, литературный критик. В 1922 г. эмигрировала.
(обратно)564
Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867–1941) – литературный критик, историк литературы, переводчица. Сестра С. А. Венгерова.
(обратно)565
Валь Валериан Владимирович – журналист, редактор газеты «Всероссийская кочегарка».
(обратно)566
Фельетоны Шварца (псевдоним – Щур) «Полеты по Донбассу (Наш раешник)» печатались во «Всероссийской кочегарке» по воскресеньям – 16 сентября, 18 ноября и 9 декабря 1923 г.
(обратно)567
Слонимская Ида Исааковна (Дуся) – жена М. Л. Слонимского.
(обратно)568
В состав сборника «Тень» и другие пьесы» (Л., 1956) вошли пьесы для детей: «Два клена», «Снежная королева», пьесы для взрослых: «Тень», «Одна ночь», «Обыкновенное чудо» и сценарий «Золушка».
(обратно)569
Аналогия с рассказом Эдгара По «Падение дома Уошеров».
(обратно)570
Богданович Модест Иванович (1805–1882) – военный историк, генерал-лейтенант, автор трудов по истории Отечественной войны 1812 г.
(обратно)571
Е. А. Уварова играла роль скотницы Татьяны, 70-летней старухи, в водевиле Н. А. Некрасова «Осенняя скука».
(обратно)572
С. М. Осовцов в своей рецензии «Ирония и романтика» на спектакль «Обыкновенное чудо» в Театре комедии отметил, что Е. А. Уварова всегда тяготеет к острой, эксцентрически гротесковой форме (Ленинградская правда, 1956, 21 июня). В труппу Театра комедии Е. А. Уварова перешла в 1945 г.
(обратно)573
Гаккель Евгений Густавович (1892–1953) – артист, режиссер.
(обратно)574
Е. А. Уварова сыграла роль Придворной дамы а спектакле Театра комедии «Обыкновенное чудо».
(обратно)575
Говорится о пьесе «Обыкновенное чудо».
(обратно)576
Фаддеев Дмитрий Константинович (р. 1907) – математик, член-корреспондент АН СССР, любитель-музыкант.
(обратно)577
Фаддеева Вера Николаевна – математик. Жена Д. К. Фаддеева.
(обратно)578
Фаддеев Людвиг Дмитриевич (р. 1934) – математик, физик-теоретик, академик АН СССР. Сын Д. К. и В. Н. Фаддеевых.
(обратно)579
Так я хочу, так я приказываю (лат).
(обратно)580
В октябре 1914 г. пьеса Л. Н. Андреева «Король, закон и свобода» была поставлена в Московском драматическом театре Суходольского. Спектакль получил широкий отклик в прессе.
(обратно)581
Журавлев Дмитрий Николаевич (р. 1900) – артист, мастер художественного слова.
(обратно)582
Гор Геннадий (наст. имя – Гдалий Самойлович) (1907–1981) – писатель.
(обратно)583
Шварц-Шанько Наталия Борисовна (р. 1901) – переводчица. Вторая жена А. И. Шварца.
(обратно)584
Войно-Ясенецкие Михаил Валентинович (р. 1907), врач-паталогоанатом, и Мария Кузьминична (р. 1909), врач-бактериолог, знакомые Шварца.
(обратно)585
Квитко Лев Моисеевич (1890–1952) – еврейский поэт. Незаконно репрессирован, погиб в заключении. С 1928 по 1941 г. работал над своим романом в стихах «Годы молодые». На русском языке был издан в 1968 г.
(обратно)586
Елагина (наст. фамилия – Шик) Елена Владимировна (ум. 1931) – артистка, педагог, преподавала в студиях Ленинградского ТЮЗа и Академического театра драмы.
(обратно)587
Андроников (Андроникашвили) Ираклий Луарсабович (р. 1908) – писатель, литературовед, мастер устного рассказа.
(обратно)588
Андроникашвили Элевтер Луарсабович – (1910–1989) – физик.
(обратно)589
Щерба Лев Владимирович (1880–1944) – языковед.
(обратно)590
Штидри Фриц (1883–1968) – австрийский дирижер. В 1933–1937 – главный дирижер Ленинградской филармонии.
(обратно)591
П. Л. Капица был организатором и первым директором Института физических проблем АН СССР.
(обратно)592
Шварц приехал из Сталинабада в Москву с Театром комедии 17 мая 1944 г.
(обратно)593
Габбе Тамара Григорьевна (1903–1960) – писательница, критик, автор книг и пьес для детей. В 1937 г. незаконно репрессирована, затем освобождена.
(обратно)594
Блейк Уильям (1757–1827) – английский поэт и художник.
(обратно)595
Пьеса «Телефонная трубка» была написана в конце 1930-х гг.
(обратно)596
Говорится о пьесах А. А. Крона «Кандидат партии» (1953), «Глубокая разведка» (1941), «Второе дыхание», в редакции 1956 г. и романе «Дом и корабль», законченном в 1964 г.
(обратно)597
В газете «Ленинградская правда» от 16 сентября 1956 г. была напечатана рецензия Д. М. Молдавского «Путешествие в сказочный мир» на книгу Шварца «Тень» и другие пьесы».
(обратно)598
Речь идет о пьесе «Первый год» («Повесть о молодых супругах»), которую в октябре 1956 г. начали репетировать в Театре комедии.
(обратно)599
Спектакль Центрального театра кукол «Волшебная лампа Аладдина» Н. В. Гернет (премьера 1 октября 1940 г.) был поставлен С. В. Образцовым; «Король-олень» К. Гоцци (премьера в июне 1943 г.) был поставлен С. В. Образцовым и В. А. Громовым.
(обратно)600
Говорится о следующих книгах С. В. Образцова: «5000 лет и 3 года. Путевые заметки» (М., 1953), «Лондон. Из путевого дневника» (М., 1955) и «О том, что я увидел, узнал и понял во время двух поездок в Лондон» (М., 1956).
(обратно)601
21 октября 1956 г. Шварцу исполнялось 60 лет.
(обратно)602
«Если уже писать, то только тогда, когда не можешь не писать», – записал Л. Н. Толстой в дневнике 19 октября 1909 г. (ПСС. Т. 57. М., 1952. С. 154).
(обратно)603
Штейнварг Натан Михайлович (1907–1966) – педагог, организатор пионерского движения в Ленинграде, директор Дворца пионеров. В последние годы жизни – работник педагогической части и директор Ленинградского ТЮЗа.
(обратно)604
Шварц в свои юбилейные дни получил более двухсот телеграмм от писателей, артистов, художников. В. Ф. Панова писала: «Дорогой волшебник, пусть неизменно обитает радость в Вашем светлом доме, пусть творятся в этом доме новые и новые чудеса и пусть им сопутствует самая большая удача». Н. К. Черкасов, занятый в день юбилея в съемках «Дон Кихота», писал: «Доброму волшебнику Евгению Шварцу, связи тем, что сегодня вечером на „Ленфильме“ должен добить злого Фристона, сожалению не могу быть Вашем празднике, желаю счастья, успехов, главное – здоровья. Рыцарским приветом Дон Кихот Ламанчский, он же Ленинградский». Приветствие И. Г. Эренбурга: «Дорогой Евгений Львович, рад от всей души поздравить Вас, чудесного писателя, нежного к человеку и злого ко всему, что мешает ему жить. Желаю Вам здоровья и душевного покоя». Шуточная телеграмма пришла от имени Андерсена: «Обнимаю дорогого друга и соавтора, радостно на старости лет знать, что у меня достойный преемник. Прошу министра-администратора возобновить нашу „Тень“. С почтением. Андерсен». Большое количество телеграмм получил Шварц от крупнейших московских и ленинградских театров, ТЮЗов и театров кукол всей страны, от киностудий, радио, телевидения, отделений ССП, издательств, редакций журналов, музеев, библиотек, творческих союзов, институтов. Театр-студия киноактера давал в день шестидесятилетия Шварца 60-й спектакль «Обыкновенного чуда». Хорошо передает атмосферу этого спектакля письмо Э. П. Гарина Е. Л. Шварцу от 22 октября 1956 г.: «В субботу 20-го открыли „Чудом“ сезон. Народу было битком. Спектакль прошел шикарно. Вчера играли, так сказать, в Вашу честь. Начали вяловато (очень наорались в субботу), но второй и третий акты шли, как никогда. Перед III актом, с закрытым занавесом при свете в зрительном зале под свадебный марш Мендельсона (он у нас в пьесе исполняется во 2-м акте) актеры вышли на просцениум. Завершал шествие директор в штатском костюме. Вид у него был симпатичный… милым голосом активиста из О[бщест]ва по распр[остранению] полит[ических] и научных знаний он прочитал телеграмму Вам. Зрители тепленько аплодировали. Затем под Охотничий марш (он тоже играется во 2-м акте) все покинули сцену и начали играть III акт… По отзывам всех присутствующих… приветствие Вам прошло художественно, легко и изящно. Оба первых спектакля играл лучший состав… Следующий спектакль 28-го, в воскресенье. Все ждут Вашего приезда. Все очень хотят, чтобы Вы посмотрели спектакль…»
(обратно)605
Литературно-театральная общественность отметила 60-летний юбилей Е. Л. Шварца. 20 октября 1956 г. в Доме писателей им. Вл. Маяковского состоялся торжественный вечер, который был открыт В. Н. Орловым. С. Л. Цимбал рассказал о творческом пути писателя, юбиляр получил адреса от театров, издательств, киностудий, правлений Ленинградских отделений Союза писателей и ВТО, Управления культуры Исполкома Ленинградского горсовета и многих других учреждений.
(обратно)606
И. В. Шток, присутствовавший на юбилее Е. Л. Шварца, вспоминает о приветствии М. М. Зощенко: «С годами, – сказал он, – я стал ценить в человеке не молодость его, и не знаменитость, и не талант. Я ценю в человеке приличие. Вы очень приличный человек, Женя» (Шток И. В. Рассказы о драматургах. М., 1967. С. 142).
(обратно)607
И. В. Шток, присутствовавший на юбилее Е. Л. Шварца, вспоминает о приветствии М. М. Зощенко: «С годами, – сказал он, – я стал ценить в человеке не молодость его, и не знаменитость, и не талант. Я ценю в человеке приличие. Вы очень приличный человек, Женя» (Шток И. В. Рассказы о драматургах. М., 1967. С. 142).
(обратно)608
Заканчивались съемки «Дон Кихота».
(обратно)609
Вертинская Лидия Владимировна (р. 1923) играла роль Герцогини.
(обратно)610
Альтисидору играла Агамирова Тамилла Суджаевна.
(обратно)611
Борисов Леонид Ильич (1897–1972) – писатель.
(обратно)612
Брыкин Николай Александрович (1895–1979) – писатель-очеркист. В 1934–1937 гг. – член правления Ленинградского отделения Союза писателей СССР.
(обратно)613
Фильм Ч. Чаплина (1923).
(обратно)614
Фильм Р. Клера (1930).
(обратно)615
Зельцер Иоганн Моисеевич (1905–1941) – киносценарист, драматург.
(обратно)616
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1956 г. Шварц в связи с 60-летием со дня рождения был награжден орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии советской литературы (Известия, 1956, 29 декабря).
(обратно)617
Шварц читал 3-й том Собрания сочинений М. Пруста «В поисках за утраченным временем. Германт». Перевод А. А. Франковского (М., 1936).
(обратно)618
Премьера спектакля «Тень» состоялась в Театре комедии 11 апреля 1940 г. Постановщик и художник Н. П. Акимов, режиссер Г. А. Флоринский, композитор А. С. Животов. Роли исполняли: Ученый – П. М. Суханов, Его тень – И. Н. Лецкий, Пьетро – Б. М. Тенин, Аннунциата – И. П. Гошева, Юлия Джули – Л. П. Сухаревская, Принцесса – Е. В. Юнгер, Первый министр – В. Г. Киселев, Министр финансов – А. Д. Вениаминов, Цезарь Борджиа – Г. А. Флоринский, Тайный советник – А. А. Волков, Доктор – И. А. Ханзель, Палач – Н. А. Волков, Придворная дама – Т. В. Сезеневская.
(обратно)619
Карасев Леонид Павлович (1904–1968) – драматург.
(обратно)620
Матвеев Герман Иванович (1904–1961) – писатель.
(обратно)621
Марвич Соломон Маркович (1903–1970) – писатель.
(обратно)622
В газете «Советское искусство» (1938, 16 сентября) была напечатана заметка о том, что к 20-летию ВЛКСМ театр готовит пьесу Е. Л. Шварца «Наше гостеприимство» в постановке и художественном оформлении Н. П. Акимова.
(обратно)623
С 9 по 26 мая 1940 г. проходил показ ленинградского искусства в Москве. Два театра включили в московский репертуар спектакли по пьесам Шварца «Тень» (Театр комедии) и «Снежная королева» (Новый ТЮЗ). Накануне показа в газетах появились статьи Н. П. Акимова; «Учимся у классиков» (Правда, 1940, 6 мая); «Театр комедии» (Ленинградская правда, 1940, 9 мая); «Почетная задача» (Вечерняя Москва, 1940, 19 мая) и статьи Б. В. Зона: «Содружество театра и драматургов» (Правда, 1940, 6 мая), «Путь нашего театра» (Ленинградская правда, 1940, 8 мая), «Три поколения» (Ленинские искры, 1940, 11 мая), «Новый ТЮЗ» (Московский большевик, 1940, 18 мая). В рецензии Д. Кальма «Мастерство» о Шварце было сказано: «Театр комедии показал в Москве „Тень“ – талантливую пьесу Е. Шварца… она очень прельщает блеском своего остроумия и проскальзывающей то там, то здесь глубокой философской мыслью, облеченной в изящную форму сказочной шутки» (Ленинградская правда, 1940, 26 мая).
(обратно)624
И. П. Гошева играла в «Тени» роль Аннунциаты.
(обратно)625
И. П. Зарубина играла в «Тени» Юлию Джули. Во время показа в Москве эту роль исполняла Л. П. Сухаревская.
(обратно)626
Первый спектакль «Тени» в Москве в помещении Малого театра состоялся 24 мая 1940 г.
(обратно)627
Пьеса «В мечтах» написана В. И. Немировичем-Данченко в 1901 г.
(обратно)628
Прут Иосиф Леонидович (р. 1900) – драматург.
(обратно)629
Халтурин Иван Игнатьевич (1902–1969) – прозаик, очеркист, критик, один из зачинателей литературы для детей.
(обратно)630
Многие московские газеты поместили рецензии на спектакль Театра комедии «Тень». См.: Маркиш П. «Тень» (Правда, 1940, 26 мая); Дейч А. Два спектакля Театра комедии (Московский большевик, 1940, 26 мая); Залесский В. «Тень» (Труд, 1940, 26 мая); Гринвальд Я. Два спектакля Театра комедии (Вечерняя Москва, 1940, 26 мая); Загорский М. Дерзкая юность театра (Советское искусство, 1940, 27 мая). С. В. Образцов в статье «О добрых чувствах» писал: «Пьеса Шварца „Снежная королева“ – это сказка. Ну что ж? Ведь сказка – это жанр, а не определение времени. Сказка и современность – понятия вовсе не противоречивые. И „Снежная королева“ – это современный спектакль, так же, как и „Тень“ – сказка для взрослых того же автора, поставленная Акимовым в Театре комедии. Очень интересный автор Шварц. Среди современных советских драматургов трудно подобрать ему параллель. Он ставит жизнь и людей в какой-то особый ракурс. Но этот ракурс позволяет увидеть жизнь и по-новому осознать большие и вовсе не „ракурсные“ чувства. Пусть отдельные монологи, особенно в „Тени“, страдают излишней литературной экспозиционностью… Шварцевский „ракурс“ помогает увидеть живого человека обобщенно и широко. Шварцевский „ракурс“ заставляет зрителя чувствовать и думать, т. е. обобщать. Это очень хорошо. Добро не „локализуется“ в конкретном человеке, как это происходит в обычной бытовой пьесе, а становится большим общим понятием» (Правда, 1940, 28 мая).
(обратно)631
Выступление председателя ГКО И. В. Сталина транслировалось по радио 3 июля 1941 г.
(обратно)632
Ванин Кесарь Тихонович (1905–1982) – писатель, член партбюро и секретарь Ленинградского отделения Союза писателей СССР.
(обратно)633
Пьеса «Под липами Берлина» была написана Шварцем совместно с М. М. Зощенко и поставлена в Театре комедии (премьера 12 августа 1941 г.). Постановка и оформление Н. П. Акимова.
(обратно)634
Чижова Елена Александровна – управляющая делами Ленинградского театра комедии, в годы войны – медсестра на фронте, после войны – заведующая отделом кадров того же театра.
(обратно)635
Немецкие войска захватили поселок Мгу, расположенный в 50 км юго-восточнее Ленинграда 31 августа 1941 г. и тем самым перерезали последнюю железнодорожную линию, связывавшую Ленинград с тылом страны.
(обратно)636
Оборона Таллина продолжалась с 5 по 28 августа 1941 г. 7 августа немецкими войсками город был отрезан от тыла по суше, бои в городе и его предместьях продолжались. 26 августа Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение перебазировать Балтийский флот и гарнизон Таллина в Кронштадт и Ленинград. 28 августа в 21 час 15 мин. колонна боевых кораблей и транспортных судов начала отходить от Таллина. Перебазирование происходило в исключительно тяжелых условиях: оба берега Финского залива находились в руках противника, водный путь простреливался артиллерией и был густо минирован, корабли подвергались ударам вражеской морской авиации. Авиационное прикрытие передвигавшихся кораблей не было организовано. Потери были велики – погибло 15 кораблей, 31 транспорт и вспомогательное судно. 29 и 30 августа в Кронштадт пришли 112 кораблей и 23 транспорта.
(обратно)637
Гейзель Марк Аронович (1909–1941) – писатель.
(обратно)638
Цехновицер Орест Вениаминович (1899–1941) – литературовед, театровед. В 1936–1937 гг. – ученый секретарь Пушкинского Дома (ИРЛИ); автор ряда трудов, в том числе «Литература и мировая война 1914–1918» (М., 1938); публикатор и исследователь наследия Ф. М. Достоевского, книгу о котором не завершил.
(обратно)639
Князев Филипп Степанович (1902–1941) – писатель, редактор журнала «Литературный современник».
(обратно)640
Канторович Лев Владимирович (1911–1941) – писатель и художник, иллюстрировал свои книги, работал художником в ТЮЗе. Погиб на фронте под Ленинградом 30 июня.
(обратно)641
Никитич Наталья Афанасьевна (1901–1974) – писательница.
(обратно)642
В подлиннике ошибочно – одной.
(обратно)643
Гринберг Владимир Ариевич (1896–1942) – художник.
(обратно)644
Кукс Миней Ильич (1902–1978) – художник.
(обратно)645
Израилевич Яков Львович – коллекционер картин.
(обратно)646
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1941 г. за выдающиеся заслуги в деле развития советской живописи М. И. Авилов был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Сообщение об этом было напечатано в газете «Известия» (1941, 16 мая). Письмо И. Е. Репина М. И. Авилову от 15 октября 1928 г. хранится в архиве семьи художника, в Ленинграде. Опубликовано в кн. «Новое о Репине» (Л., 1969. С. 249).
(обратно)647
В 1940 г. вышла книга «Тень. Сказка в 3-х действиях Евг. Шварца. К постановке пьесы в Ленинградском государственном театре комедии». В нее вошли статьи С. Л. Цимбала «Евгений Шварц и его сказки для театра», Н. П. Акимова «Сказка на нашей сцене» и текст пьесы «Тень» в сценической редакции Театра комедии.
(обратно)648
Л. В. Шервуд. Путь скульптора (Л. – М., 1937).
(обратно)649
Советские войска освободили Калинин 16 декабря 1941 г. и продолжали наступление в направлении Ржева.
(обратно)650
Комиссаров Николай Валериаиович (1890–1957) – артист, в 1925–1927 гг. играл в Ленинградском театре комедии, затем в периферийных театрах, с 1946 г. – в труппе Малого театра.
(обратно)651
«Корона» – пишущая машинка.
(обратно)652
О своей жизни в годы ссылки и службе в канцелярии вятского губернатора А. И. Герцен рассказал в гл. XIV – XVII «Былого и дум» (см. Собр. соч. в 30-ти тт. Т. 8. М., 1956. С. 234–300).
(обратно)653
Александру Лаврентьевичу Витбергу посвящена XVI гл. «Былого и дум» (Там же. С. 277–290). По проекту А. Л. Витберга в Вятке был построен Александро-Невский собор (1839–1864).
(обратно)654
Сын О. С. Литовского Валентин сыграл роль Пушкина в фильме «Юность поэта» (1937).
(обратно)655
Владимир Васильевич Лебедев – муж Сарры Дмитриевны Лебедевой (см. 1942, примеч. 2).
(обратно)656
Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958) – режиссер. Муж А. Д. Радловой.
(обратно)657
Радлова Анна Дмитриевна (1891–1949) – поэтесса, переводчица.
(обратно)658
Ренэ Ароновна Никитина – жена писателя Н. Н. Никитина.
(обратно)659
Воспоминание относится к маю 1942 г., когда Шварц болел скарлатиной и лежал в инфекционном отделении Кировской больницы.
(обратно)660
Говорится о пьесе «Два клена».
(обратно)661
Речь идет о работе над эстрадным обозрением «Под крышами Парижа». Соавтор К. А. Гузынин.
(обратно)662
Шварц вспоминает об инсценировке и написании сценария по повести И. И. Ликстанова «Первое имя».
(обратно)663
Фильм «Дон Кихот» демонстрировался на X Международном фестивале в Канне 14 мая 1957 г.
(обратно)664
Фильм «Сорок первый», снятый в 1956 г. режиссером Г. Н. Чухраем, получил на X Международном кинофестивале в Канне специальную премию за оригинальный сценарий, гуманизм и высокую романтику.
(обратно)665
16 мая 1957 г. в газете «Советская культура» было напечатано следующее сообщение: «Успех советского фильма на X Международном кинофестивале в Канне. Париж, 15 мая (ТАСС). На X Международном кинофестивале в Канне вчера вечером был показан советский широкоэкранный фильм „Дон Кихот“ режиссера-постановщика Козинцева. Газеты сообщают об успехе фильма. Агентство Франс Пресс отмечает замечательное исполнение Н. Черкасовым роли Дон Кихота. Лондон, 15 мая (ТАСС). Корреспондент агентства Рейтер в Канне пишет о большом впечатлении, которое произвел показанный там вчера советский кинофильм „Дон Кихот“. Артисты Черкасов и Толубеев, указывает корреспондент, создали яркие образы Дон Кихота и его верного слуги. По словам корреспондента, фильм „получил высокую оценку критиков“.
(обратно)666
Приводим текст письма И. И. Шнейдермана от 27 июня 1957 г.: «Дорогой Евгений Львович! Вышло так, что я почти одновременно узнал две Ваши вещи: посмотрел дважды „Дон Кихота“ и прочитал пьесу „Дракон“. Пьеса, по-моему, – вещь гениальная в полном смысле этого слова. Я был потрясен. Такие произведения не пропадают, ей жить и жить века, ее будут открывать заново и поражаться точности ее формул, выразивших сущность целой эпохи. Фильм глубоко взволновал меня и жестокой правдой своей, и той добротой, в которой я узнал Вас, Вашу светлую человеческую сущность. Не сердитесь за эти слова, они от сердца. Легко быть добрым, живя в облаке иллюзий. Но так видеть жизнь, быть таким трезвым – и сохранить веру в добро, это дано только большим людям. Или по-настоящему простым людям, на которых вся жизнь держится. У Вас есть и то, и то, сердце простого человека, талант человека великого. Легче жить на свете, когда знаешь, что есть такие люди, как Вы.
Еще раз извините, сам не переношу сердечных излияний, но тут не мог удержаться».
(обратно)667
В тексте дневника описка, вместо: над Шекспиром следует читать: над Сервантесом. Шварц никогда не работал с Г. М. Козинцевым над Шекспиром.
(обратно)668
При жизни Шварца были напечатаны следующие статьи Г. М. Козинцева о шекспировских пьесах: «Отелло» (Шекспировский сборник, М., 1947), «Король Лир» (Театр, 1941, № 4 и Шекспировский сборник, М., 1958).
(обратно)669
Фильм «Искатели» по роману Д. А. Гранина вышел на экраны в мае 1957 г. Авторы сценария Д. А. Гранин и Л. М. Жежеленко, режиссер-постановщик М. Г. Шапиро.
(обратно)670
В газете «Смена» (1957, 6 июля) напечатана рецензия 3. И. Плавскина «На экране ламанчский рыцарь». Оценивая фильм в основном положительно, автор указывает на спорные решения отдельных эпизодов, на статичность образа Дон Кихота на протяжении всего фильма.
(обратно)671
В разделе «За рубежом» в «Правде» от 13 июля 1957 г. помещена следующая заметка: «С 6 по 14 июля в Локарно (Швейцария) проводится традиционный международный кинофестиваль… Советская кинематография представлена цветным художественным фильмом „Дон Кихот“, а также рядом короткометражных хроникальных и мультипликационных фильмов».
(обратно)672
Пьеса Д. Б. Пристли «Сокровище» (1953, русский перевод 1957).
(обратно)673
Пьеса Ж. Сориа «Гордыня и туча» (1956, русский перевод 1957).
(обратно)674
Единственная драма А. Д. Кронина «Юпитер смеется» (1940, русский перевод 1957).
(обратно)675
Роман «Зависть» Ю. К. Олеша написал в 1927 г.
(обратно)676
Григорьев Глеб Николаевич (р. 1928) – капитан дальнего плавания, сын Н. В. Соловьевой (Григорьевой).
(обратно)677
Шварц говорит о встрече с Екатериной Ивановной.
(обратно)678
После смерти Е. Л. Шварца Н. Н. Кошеверова дважды обращалась к его драматургии. Ею поставлены два фильма: «Каин XVIII» («Два друга») (1963) и «Тень» (1972).
(обратно)679
Н. П. Акимов и М. В Чежегов ставили спектакль по последней пьесе Шварца, который пошел в Театре комедии под окончательным названием «Повесть о молодых супругах» (премьера 30 декабря 1957 г.). Художник Н. П. Акимов, композитор А. С. Животов. Роли исполняли: Кукла – А. В. Сергеева, Медвежонок – Л. А. Кровицкий, Ольга Ивановна – Е. А. Уварова, Маруся – В. А. Карпова, Шурочка – Л. А. Люлько, Никанор Никанорович – А. В. Савостьянов, Леня – Г. А. Острин, Сергей Орлов – Л. Е. Леонидов.
(обратно)



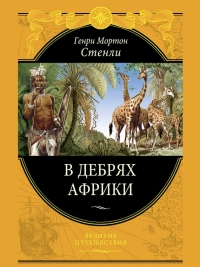




Комментарии к книге «Живу беспокойно…», Евгений Львович Шварц
Всего 0 комментариев