Петр Патрушев Приговорен к расстрелу
Автор выражает благодарность Эдуарду и Наташе Кононовым за помощь с переводом и редактированием книги и Виталию и Татьяне Шенталинским за редактирование окончательного варианта книги, а также всем тем, кто прочел рукопись и внес свои замечания. Их неоценимая помощь и поддержка сделали опубликование этой книги на русском языке возможным.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
«Что было, что будет, чем сердце успокоится»
Сухуми, лето 1962 года, канун побега.
— Позолоти ручку, красавчик! — цыганка бесцеремонно схватила меня за руку и начала говорить что-то о моих «сердечных делах». Я ответил, что мне это неинтересно, и попытался вырваться. Не тут-то было! Загорелые пальцы крепко впились в рукав. Она посмотрела на меня своими сверлящими карими глазами и произнесла нечто, отчего мурашки забегали по спине:
— Ты в смертельной опасности. Можешь кончить в казенном доме, если не поостережешься. Позолоти ручку рублем, и я скажу тебе твою судьбу.
Почти против своей воли я вынул из бумажника пятирублевку и отдал ей. Цыганка моментально спрятала ее.
— Одна из твоих дорог ведет в казенный дом, другая — за кордон. Ты станешь богатым и знаменитым, если выберешь вторую.
Странность этого предсказания трудно понять тому, кто не жил в коммунистической стране, где сама идея отправиться за кордон для большинства людей была равнозначна путешествию на Луну. Таким «невыездным» оставалось одно — нелегальное пересечение границы. Но оно имело ранг высшего предательства и наказывалось, если еще повезет, многими годами тюрьмы. Или расстрелом.
Меня охватила паника. Кто эта женщина — провокатор, агент КГБ? Или на самом деле цыганка, прочитавшая мои тайные мысли? С того момента, как я ступил на землю Грузии, я не мог избавиться от чувства, что за мной кто-то наблюдает, — случайные прохожие, кассирша из газетного киоска, вездесущие пионеры… Удивительно, но еще в начале лета Мария, мать моего друга, у которой я квартировал в Батуми, также вызвалась погадать мне на кофейной гуще и сказала, что у меня два пути: один ведет назад и теряется в темноте, а второй означает «путь в незнакомые земли»! Пыталась ли она таким образом намекнуть, что догадывается об истинной цели моего приезда в этот приграничный город? Или сама Судьба подавала мне знак через нее?
* * *
Мне только что исполнилось двадцать лет. Я был дерзким, упрямым, независимым и довольно начитанным молодым человеком, хотел путешествовать, изучать языки, читать закрытую от нас литературу, увлекался историей, философией, психологией, медициной, занимался йогой, гипнозом и психотехниками, пробовал писать. Меня не устраивала безысходность, в которой мы все тогда жили; не прельщала перспектива быть покалеченным в армии… Сказалось, быть может, что я вырос в Сибири и привык сам себе выбирать дорогу.
Я не хочу уснуть, как рыба, В глубоком обмороке вод. И дорог мне свободный выбор Моих страданий и забот.(О. Мандельштам)
Предсказания о пути за кордон не казались мне тогда совсем случайными, они одновременно поддержали мою уверенность в правильности сделанного выбора, но и настораживали меня еще сильнее. Вопроса верить гадалкам или не верить, как-то не возникало — Россия страна мистическая; здесь чаще, чем в других краях, родятся пророки и целители (каким был мой прадед Мирон), а в головы спящих залетают вещие сны. Такие сны видели, например, мои мама и брат. Когда отец ушел на войну, мать не знала, что беременна мной. А незадолго до того, как узнала, ей приснился яркий пророческий сон: будто поймала она в поле маленького зайчика с черной лоснящейся шкуркой и, взяв его в руки, поняла, что это — мальчик. Зайчик потом убежал, и мать часто вспоминала этот сон, уже узнав о моем побеге.
Много лет спустя, когда я уже жил на Западе, она как-то сказала мне, что не была удивлена моим побегом:
— Когда ты учился в Томске, к нам в дом пришла цыганка и предсказала, что ты окажешься за границей, напишешь книгу и станешь богатым человеком.
Часть этих предсказаний уже сбылась, и хотя я не нажил особых богатств, я по крайней мере выжил и мог продолжать учиться, жить и мыслить на свободе.
Конечно, сейчас, трезво обдумывая все, что произошло, я уверен, что главной причиной моего побега не были какие-то предначертания судьбы, но режим, при котором нормальные изгибы человеческой жизни преломлялись через систему, жестоко каравшую любое непослушание или инакомыслие. То, что в нормальной стране воспринималось бы вообще как норма или, по крайней мере, как нормальная болезнь роста, в СССР каралось тюрьмой, психушкой, или еще хуже, как в моем случае, «вышкой». Говорят: дом — это там, где твое сердце. Вспоминаю ли я о России? Там мои таежные корни, в этой земле лежат мои деды-прадеды, отец, мать и брат; там живут моя сестра, племянники, друзья. И хотя мой расстрельный приговор был отменен в 1990 году, появляется иногда, чаще всего в сновидениях, подсознательная и теперь уже совершенно необоснованная тревога:
Бывают ночи: только лягу, В Россию поплывет кровать, И вот ведут меня к оврагу, Ведут к оврагу — убивать.(В. Набоков)
Что это — «комплексное посттравматическое расстройство», от которого страдают многие, кто прошел через советские реалии?
С тех пор как я покинул Родину, я прожил, по меньшей мере, две жизни — сначала русского эмигранта, потом гражданина мира, ушедшего насколько только можно было от русских корней. И вот, в ставшей привычной Австралии, в небольшой деревушке на берегу океана — уже третья жизнь. Она дала мне свободу вспомнить прошлое и поделиться им с теми, кому не было дано пережить то, что пришлось пережить мне.
ТАЕЖНЫЕ КОРНИ
В метрических свидетельствах пишут, где человек родился, когда родился, но не пишут для чего он родился. Не пишут, потому что не знают и даже предугадать не могут. Кто, какой греческий или еще какой-нибудь оракул мог предсказать мою судьбу, когда я родился весной 1942 года около полудня в маленькой сельской больнице города Колпашево Томской области. Это сделало меня Близнецом по знаку Зодиака, русским мальчиком, сибиряком, братом двух других детей и сыном отца, погибшего за месяц до моего рождения вблизи деревни Стрелицы на Новгородчине.
В больнице меня, как водилось в наших роддомах, отделили от матери, и я дважды чуть не умер в первые же сутки жизни — сначала от холода, а потом — от удушья. Ночью уборщица, пожалев посиневшего от холода и крика младенца, крепко примотала меня к своей широкой спине платком, чтобы успокоить, и продолжала заниматься делами.
Мать говорила мне, что, когда отец отправлялся на фронт, то оставил свой взвод ожидать за дверью, пока он с ней прощался. Последним его вопросом к ней был: «Будешь ли ты горевать обо мне, Марина, если я не вернусь?» На что она ответила с характерными для нее откровенностью и краткостью: «Нет, не буду». Он не спросил, почему.
Мой отец Егор был отчаянным, сердитым, нетерпеливым и одаренным человеком, самостоятельно выучившимся на ветеринара, заслужившим направление от своего совхоза на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Откуда был у него такой напор и инициатива? Была ли это наследственность? Ведь его отец женился на помещице. Учитывая его образование и опыт, в начале войны ему после прохождения ускоренных офицерских курсов присвоили звание лейтенанта и направили в плохо вооруженную и практически обезглавленную в результате репрессий Красную Армию, которая терпела поражения от немцев.
Могла ли мать ответить ему святой ложью? Скорее всего, нет. Ведь любовь-ненависть, неразрывно связывавшая их с отцом, уходила вглубь поколений. Моя бабушка на смертном одре, изможденная недугом, сделавшим ее слабой тенью той сильной и доброй по природе женщины, какой она была до болезни, бабушка — православная верующая — отказалась простить своего мужа Василия. Ко мне и к другим внукам она была необычайно добра, но не могла простить Василию его нередких измен ей.
Да и отношения бабушки и моей матери складывались непросто. Думаю, причина того — властный характер матери и ее постоянное соперничество с братьями и сестрами, да, наверное, и с матерью.
Как далеко мы можем осмелиться заглянуть в эту ловушку — наше прошлое? И все же мать любила моего отца… Я это знал из ее исполненных гордостью рассказов о его геройских поступках. Как он перебрался через речку по канату на руках, чтобы доставить зарплату всему совхозу перед праздником. Однажды, когда лошадь с телегой застряли в грязи, он распряг лошадь, взялся за оглобли и вытащил телегу. На спор завязывал кочергу узлом. Им пришлось даже уехать из деревни после того, как кто-то сумел победить Егорку, как она его называла, в ручной борьбе. Я помню, она, по старинному сибирскому обычаю, выкрикивала его имя в дымоход, чтобы вернуть мужа живым с войны. И отец тоже любил ее. Он говорил: «Золотце, ты никогда не будешь бедствовать». И это было правдой! Уже из могилы он посылал матери как офицерской вдове до конца ее жизни военную пенсию. Может, эта любовь-ненависть и есть любовь по-русски?
О, как убийственно мы любим, Как в буйной слепоте страстей Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей!(Ф. Тютчев)
Мое первое воспоминание: я ушел далеко от нашего дома к реке и смотрел, как садится на воду гидроплан. Мне было немногим более двух лет от роду, и я, видимо, еще не очень уверенно ходил. До речки — более километра. Что послало меня в путь, в даль от дома, к реке? Извечная тяга мальчиков к чему-то неведомому? Это был мой первый побег. Вокруг нашего дома прорыли глубокие канавы, из которых добывался на топливо торф, я мог упасть в одну из них и утонуть.
Случилось так, что сосед привел меня обратно с реки, поздно вечером, живым и здоровым, хотя полностью раздетым. Позже мою новую матроску, которую мать только что сшила, нашли возле копны, где я останавливался по пути.
Смутно вспоминаю большую птицу, садящуюся на воду. Другой запомнившийся эпизод: я бросил кость собаке и смотрел, как она ее вдохновенно грызла. Я не мог оторвать глаз. Как я ее понимал! Мне все время хотелось есть. И даже не есть — жрать. Я был счастлив, когда у меня был полный желудок.
Мать рассказывала, как она отлучала меня от груди. Намазывала горчицей соски, а иногда вставляла колючую одежную щетку между моими губами и грудью, которой я домогался, что вызывало у меня приступ бессильной ярости. Потом мать и моя тетя вынуждены были уходить на работу в поле и оставлять меня на попечение восьмилетней сестры. Бог знает, что я там подбирал на полу. В результате у меня возник ужасный понос, продолжавшийся какое-то время безостановочно. В этом мать обвиняла малолетнюю сестру, которая, по ее мнению, плохо за мной смотрела. Катя, мой единственный настоящий друг детства, была вообще для нее козлом отпущения. На сестру, а потом и на меня, вылился весь ее подспудный гнев.
Мне лет пять. Я сижу под маминой кроватью и развожу большой костер из дров и бумаг, которые собрал. Запираю дверь так, чтобы никто не вошел, и вижу лицо сестры, прижатое к окну. С любопытством и страхом она наблюдает, как из кучки дров начинает исходить дымок. Я отказываюсь открывать дверь до тех пор, пока сестра не зовет соседа, деда Коробкина, пожилого человека, которому я доверял. Открываю ему дверь, и вот огонь погашен.
Почему я зажег огонь? У меня есть смутное воспоминание о том, как мать прогоняла меня из своей кровати, чтобы я спал на отдельной лавке в другой комнате.
Я рос любознательным, независимым, подверженным спонтанным вспышкам жестокости мальчишкой. Мог сунуть кулак в глотку псу, который на меня лаял. Не был склонным к нежности или открытому проявлению чувств. Пожалеешь палку — испортишь ребенка — вот девиз, запечатленный розгами на наших боках в то жестокое время.
Многочисленные побои, которые доставались мне от матери, глубоко ранили меня. Они были спровоцированы, как мне тогда казалось, проступками абсолютно неадекватными наказанию. Например, поздний приход с катка, незапертая дверь дома, отказ ухаживать за ее любимой собачкой, которая вечно терялась, пустяковые ссоры с сестрой. Все это вызывало безудержную ярость матери и, что хуже всего, заканчивалось унизительными побоями. Бывало, от нестерпимой боли я просил прощения, боясь, что сверстники услышат мой рев и станут дразнить меня трусом и неженкой. Как я ненавидел ее за эти побои! Они оставляли шрамы не только на моем теле — это скоро заживало — они ранили и ожесточали мою душу, сея в ней злобу и ненависть. Унижения, которые я испытывал, подавляемый грубой силой ее мощного взрослого тела, были непереносимы.
Моя мать говорила позже в свое оправдание, что ее тоже били, как и других детей, которых она знала. Мать объясняла, что ее жизнь была тяжелой, полной страха и неопределенности. Всегда чего-нибудь не хватало. Дрова кончались до весны. Крыша начинала течь. Все эти неурядицы вызывали в ней гневные вспышки, и не дай Бог попасться ей в ту минуту под руку. Конечно, находились люди, такие же бедные и точно так же измученные трудностями жизни, которые не били своих детей. Правда, их было не большинство, и моя мать ворчала, что они мягкотелы.
Хотела ли она выместить на мне свою обиду на жизнь, создать послушного или, если это возможно, любящего и покорного слугу, сделав меня таким же, как мой старший брат Владимир? Я был маленьким мужчиной, которого она хотела битьем заставить подчиняться себе, живым воплощением грехов ее отца и мужа, да и всех мужчин вообще. Она видела, что ее план не удается, и это ее еще более злило. Здесь, что называется, нашла коса на камень. Когда матери не было дома, я высмеивал ее, в совершенстве копируя, как говорила моя сестра, ее порывистые, лихорадочные жесты. Позже я так же пародировал моих учителей, а потом и начальство. Я терпеть не мог выполнять порою непосильную работу, задаваемую матерью и, как мог, уклонялся от обязанностей, которые она на меня возлагала с ранних лет.
Иногда я воровал у нее немного денег и покупал себе сладости — то, чего она для меня никогда не делала.
В те дни я видел много снов, в которых на меня нападала ведьма. Будто бы я шел в неведомый лес, к маленькой сказочной избушке на курьих ножках. Внутри нее меня ждал какой-то невыразимый ужас. Я ходил вокруг, не в силах заставить себя войти. Довольно странно, но я — маленький атеист, мозги которого промыли школьные учителя, призывавшие не верить в религиозные предрассудки, пытался осенить ведьму крестом, для того, чтобы она потеряла свою силу.
Мать однажды сказала: «Я не хочу, чтобы меня помнили как хорошую мать. Хочу, чтобы дети мои стали хорошими, трудолюбивыми людьми, способными выжить в этом мире».
Сегодня я понимаю ее. Она не знала другого пути, ее так же неизлечимо ранили, и ее философия работала в обществе, которое было жестоким и самим образом жизни и неизбежными лишениями для простых людей, травмировало их и искажало все человеческие чувства.
Английский поэт Александр Поп как-то записал: «Ошибаться свойственно людям; прощать — богам». Чтобы простить мать, мне понадобились десятки лет, значительные усилия и много опыта. Особенно обидно было вспоминать, как она избавлялась от моих любимцев — например, одноглазого совенка, у которого охотники убили Мать и которого я спас в лесу. Совенок пугал ее ночью, летая вокруг, садясь на спинку кровати и разглядывая мать своим единственным немигающим оком, подобным глазу совести, глазу некоей Немезиды. Все, что я любил, у меня отнимали, — например, моих собак, которых всегда было слишком накладно кормить… Тот факт, что помню об этом до сих пор, лишь подтверждает старую истину: трудное детство не кончается никогда.
Однако, как терпелив, как стоек человеческий дух! Я все равно ухитрялся развлекаться, особенно вдали от дома, на рыбалке или охоте. Любил природу, любил ощущение своего сильного молодого тела, когда катался на лыжах или на санках с горы, или на коньках. Какими ценными были эти первые жизненные переживания! Какими свежими! Мое наслаждение ими стало бы еще большим, если бы можно было разделить их с кем-то. Но я обычно приходил домой молчаливым и сердитым — точной копией многих других мужчин вокруг меня. Тем временем я все больше оказывался вовлеченным в мир книг и фантазий, военных игр, в которые дети беспрестанно играли в те годы. Как бы я ни пытался поделиться своим миром с матерью — например, читая для нее вслух, она портила все удовольствие своей глупой, безграмотной, назойливой, все уничтожающей критикой.
Моя мать тяжело трудилась, чтобы прокормить и одеть нас в жестокие годы войны и в течение последующих голодных лет. Ее картофельные грядки должны были быть лучше и ровнее, чем у соседей; у нас была одежда, хотя и сшитая из дешевого материала, но всегда опрятная и заштопанная. Почему же тогда я чувствую благодарность только умом, но не сердцем? Какая застарелая обида живет в моей душе и заставляет меня оставаться слепым по отношению к ее добрым делам? Что заставляет меня чувствовать себя подобным страннику, которого лодочник перевез через реку, но при расставании ограбил, забрав его святыни?
Разочарование, безысходность, отчаяние, которые оборачиваются бесцельным гневом, были такими же заразительными, как тяжелая инфекция. Когда я смотрю в свое детство, я вижу перед собой ее лицо, искаженное наводящей ужас злобой, как у Бабы Яги, когда она наступает на меня в детском сне. Моя мать, не всей своей душой, но определенной ее частью, зараженной тысячелетним гневом от унижений и лишений, отразила тот архетип России, который, как ополоумевший Сатурн, пожирает своих детей.
К тому времени, когда мне настала пора идти в школу, я был довольно одиноким ребенком. Рано научился читать и убегать от жестокой действительности, работы, побоев и эмоционального голода в мир фантазий. Изобретал игры с замками и снеговиками, которых крошил деревянным мечом. Любил бродить по окрестностям, особенно в лесу. Играл с другими детьми, но друзей было мало. Когда играл, то любил верховодить. Терпеть не мог даже временную власть над собой со стороны моих сверстников — должен был либо командовать, либо выйти из игры. Мои сверстники называли меня Звездочетом, поскольку я на какое-то время оказался настолько вовлеченным в научную фантастику, что искренне верил, будто то, о чем читаю в книгах, происходило наяву — где-то в лучшем, загадочном и по-настоящему интересном мире.
Я только теперь понимаю мое глубокое чувство отчужденности по отношению к старшему брату и подсознательную ревность к нему за предпочтение, которое, как мне казалось, мать ему отдавала. Неудивительно, что у нас практически не было с ним контактов, после того как я оставил Россию. Он мог бы стать для меня образцом, мой старший брат. Но из чувства протеста я выработал в себе качества, абсолютно противоположные его поведению — вызов и непослушание. Брат пытался помочь семье в тяжелые годы. Будучи школьником, он, бывало, воровал плотную бумагу от плакатов и делал из нее игральные карты, которые продавал на рынке, а деньги приносил домой. Он всегда готов был работать, готов был помочь. Володя считался хорошим ребенком, я — плохим. Так же, как и мать, он был «Львом» — властным по природе, но с психикой, надорванной ранним бременем замены отца и подчиняющей любовью матери. Он, когда вообще вспоминал обо мне, пытался со мной примириться. Помню, как он привез мне подарок, когда вернулся из армии — единственную не самодельную игрушку, которая когда-либо у меня была. К несчастью, наш двоюродный брат из зависти быстро ее разбил.
Я припоминаю свое негодование, относящееся к моему брату и его другу Виктору, который стал мужем нашей сестры. Мать как будто нарочно выдала ее за него, чтобы только сделать приятное Владимиру, не дав ей шанса решить свою судьбу самой. Однажды, когда я стал старше, мы даже полушутя подрались с братом. Я учился боксу и иногда бросал вызов ему. Володя был старше и крупнее меня; после того, как я пару раз ему ловко заехал по скуле, он потерял терпение и обрушился на меня с градом ударов.
Мать терпеть не могла всякое открытое проявление сексуальности в других (помню, как она жестоко разняла соединившихся суку и пса ударом палки), в то время как сама не отказывала своим нормальным инстинктам. Поскольку мы всегда жили достаточно тесно, я не мог не быть осведомлен о ее сексуальной жизни, в частности с моим первым отчимом. Он был лодочник (по-сибирски — обласочник) — мощный, раскованный, настоящий мужчина. Однажды он разбил нос соседу, когда тот оскорбил мою мать. Я помню, как увидел его впервые голым в бане и был изумлен размером его пениса.
Мать говорила, что пыталась вырастить нас поскорее, чтобы мы вышли из опасного, игривого периода, называемого детством. В этом, как и многом другом, она походила на нашу подпорченную «советской властью» матушку-Русь, мою большую маму — аскетичную, боящуюся всякого явного проявления сексуальности, посылающую людей в тюрьму за обладание журналом Плейбой.
Я познакомился с тайнами секса довольно рано. Ко времени, когда мне исполнилось десять, от детского неведения мало что осталось. Однажды я стал свидетелем того, как брат, будучи пьяным, лишил девственности молодую девушку, нашу соседку. Я помню, как мать пыталась их растащить; но ей надо было бежать на паром, чтобы подоить корову на другой стороне реки, иначе наша верная кормилица, пострадала бы, и мать была вынуждена их оставить.
В другой раз, я помню, как на вечеринке мой первый отчим Николай Первый (так мы его прозвали с сестрой, потому что потом был еще и Николай Второй) уличил нашу тетю Тасю в том, что она якобы хватала за член соседнего мужчину под столом. Юмор в том, что он, громогласно обвиняя ее, особо подчеркивал, что этот мужчина по сравнению с ее мужем всего лишь простой рабочий и даже не инженер.
Я чувствовал себя несколько виноватым по поводу мастурбации, особенно после того, как прочел в некоем дореволюционном издании — одном из немногих источников информации, которому, как я полагал, можно доверять, — предупреждение о всякого рода трагических последствиях для практикующих это древнее искусство. В этом вопросе, по крайней мере, было полное согласие между дореволюционными и послереволюционными источниками.
Когда меня поймали с одной девочкой двенадцати лет в процессе, в общем-то, довольно наивного экспериментирования, я был удивлен, что ни моя мать, ни отец девочки, который нас застукал, не стали меня сильно наказывать. Мать ограничила свои наставления обычными песнями о том, что мой старший брат не начал заниматься девочками до тех пор, пока не стал гораздо старше. В школе так же, несмотря на интенсивные слухи, что сексуальная активность учеников высока, и что определенные индивидуумы сильно в нее вовлечены, реальность была совершенно иной. Если оценить тот факт, что контрацепции не существовало или она была неэффективной, жилье — стесненным, частные автомобили отсутствовали, а зимы были долгими и суровыми, чисто физические преграды сексуальным отношениям предоставляли редкие возможности для большинства мальчиков и девочек. Мне пришлось ждать до восемнадцати лет, чтобы впервые вступить в сексуальный контакт.
Периодические попойки у нас дома были красочными. Не скажу, чтобы кто-то из моих родственников был настоящим алкоголиком (кроме, быть может, Николая Первого), но на этих гулянках, часто посвященных каким-то праздникам или окончанию совместных работ, вроде строительства дома, выпивалось огромное количество самодельной браги и, если были деньги, водки. Все невыраженные эмоции выплескивались наружу. Мужчины переодевались в баб, вызывая всеобщий хохот. Кто-то неизбежно затягивал старинную русскую песню, которую подхватывали все. В песнях, как в молитве, выливалось все — горе, печаль, нежность, невыраженная любовь. Я до сих пор знаю многие из этих песен, и именно они, пожалуй больше всего, напоминают мне о Родине.
Если моей матери и удалось направить нашу энергию в русло тяжелой работы, то только в силу жесткой необходимости, которую и мы сами рано и не по-детски понимали. Мы зарабатывали себе на хлеб охотой, рыбной ловлей, сбором и продажей кедровых орехов. Часто все это было связано с совсем не детским трудом и опасностью. Каждый год несколько детей калечилось, падая с высоких кедров во время сбивания шишек. Мы таскали на себе тяжелые грузы и часто надрывались. Как сейчас помню, однажды я надорвался, и пришлось вызвать знахарку, чтобы она меня подлечила. Метод лечения заключался в том, что на живот болящего опрокидывали, подобно банкам, теплый горшок с нагретым воздухом. Знахарка, очевидно, горшок перегрела, и он втянул в себя весь мой живот, не только не облегчив «натугу», от которой меня лечили, но значительно усилив ее. В ответ на мои вопли горшок удалось снять, только разбив молотком.
Неудивительно, что Владимир, мой старший брат, когда вырос, провел одну половину своей жизни в пьяном ступоре, а другую — в попытках заработать деньги, чтобы потратить их на следующий пьяный ступор. И это жизнь в трудах праведных? Я называю это испоганенной жизнью. Моя мать и мать-Россия загрузили его чувствами вины и ответственности, которые он не способен был нести. Мать действительно преуспела с ним в том, чего она пыталась достичь со мной. Он был типичный русский мужик, один из многих миллионов. В семье он стал заменой отца, но при этом мать могла его полностью контролировать. Ему эта роль нравилась поначалу. Хотя подсознательно он понимал, что детство его тоже было украдено, правда более коварным способом, чем мое.
Пить по-настоящему Володя начал на военной службе, большую часть которой, как неплохой художник, провел, рисуя портреты офицеров и генералов, плативших ему за это спиртом и разными поблажками. Он не очнулся и тогда, когда, после возвращения из армии, мать заставила его жениться на женщине менее образованной, чем он, старшей по возрасту и далеко не красавицей. Лида, потерявшая надежду выйти замуж, просто хотела иметь от него ребенка. Наша мать, узнав о беременности, рассудила категорично: она показала брату на ружье, висевшее на стене, и сказала, что он должен либо жениться на Лиде, либо пойти в лес и застрелиться. Володя выбрал первое. Он часто изменял потом своей жене и только с годами по достоинству смог оценить ее верность и человеческие качества.
После того, как Лида умерла, умер и он, преждевременно, в возрасте шестидесяти пяти лет. За несколько месяцев до смерти он покалечился, упав с балкона. Уже как будто бросив пить, брат пытался присоединиться к своей очередной пассии и собутыльникам («просто посидеть в компании»), а 89-летняя мать заперла его в комнате. Он уже был немного подвыпившим и пытался спуститься с балкона на веревке на нижний этаж.
Перед этим брату приснилась Лида, которая сказала ему, что собирается выброситься из окна. Во сне он пытался отговорить ее, объясняя, что она, вместо того, чтобы убить себя, может стать калекой. Он проигнорировал этот вещий сон, и это то как раз с ним и случилось. Брат всегда смеялся над моим и сестриным увлечением психологией. «Жизнь проста, — говаривал он, — берешь табак, еду, водку и потребляешь все это с друзьями за игрой в карты».
К концу жизни он пытался сблизиться со мной, когда я приезжал к ним из Австралии. Володя стал скромным и как-то трогательно мягким. Его сын, одаренный художник, также погиб, будучи еще совсем молодым, от алкоголя. Мы могли бы быть хорошими друзьями, если бы жизнь с самого начала не повернулась так жестоко против нашей дружбы. Уже после его смерти один его собутыльник, которого все называли просто «Толей», передал мне пару оставшихся у него любимых книг Володи: томик Козьмы Пруткова и антологию древнегреческих философов-кинников. Я увидел подчеркнутый братом афоризм: «Самая важная наука, это та, которая учит отучиться от зла». Толя посмотрел на меня с укором и сказал: «Володя до конца жизни оставался патриотом. Он никогда не захотел бы покинуть Родину». Через несколько недель после этого разговора Толю бросила жена и он умер во время очередного запоя.
Моей матери на некоторое время удалось заставить меня почувствовать себя виноватым по поводу секса, но ей не удалось сделать из меня «трудягу». Трудовое воспитание в детстве принесло свои плоды: большую часть моей жизни я испытывал отвращение к тому, что большинство людей называет работой. По мне работа была необходимое зло, для того чтобы иметь по минимуму еду, одежду и крышу над головой. Вместо изнуряющего труда в ранние годы я старался превратить любое предприятие жизни в игру. Будучи ребенком, изображал видимость деятельности, чтобы удовлетворить мать. Даже читая, притворялся, что работаю. Она этого не знала, потому что я создал сложный способ, с помощью которого мог продолжать читать фантастику, когда она думала, что я учусь. У меня были два зеркала, позволявшие мне читать книжку, лежащую далеко от меня на столе, в то время как учебник находился перед глазами. Я знал, что за исключением необходимого учения, любая свободная минута была бы тотчас заполнена для меня работой, часто, по моему мнению, бессмысленной и бесполезной. Мать просто не могла спокойно видеть, как кто-то сидит «сложа ручки».
Магическая составляющая — любовь — отсутствовала в процессе моего воспитания. А без этого все усилия матери становились напрасны.
Мой брат был как будто образцом трудолюбия, но при этом внутренне опустошенным русским мужиком, который топит свою неудовлетворенность жизнью в водке. А я? Я стал прямой ему противоположностью — игривым и умным симулянтом, который только создает видимость тяжелого труда ради некоего бюрократа, который сам в свою очередь изо всех сил притворяется, что наблюдает за трудящимся. Была ли где-то золотая середина? Может быть, я был жесток в моем осуждении брата? Или слишком ревнив к тому, что мать его непрестанно хвалила? Его труд по-настоящему помогал нам выжить в тяжелые военные годы. Я до сих пор помню вызывавший головокружение запах жареных блинов, приготовленных из «уведенной» братом со склада, где он работал, белой муки. Мы должны были готовить их тайно, чтобы об этом не узнали соседи. Или еще раз, когда мы, рискуя тюрьмой, отлили себе несколько литров керосина из тоже умыканного соседом с предприятия бака, который он спрятал под навозной кучей в огороде.
В некотором смысле мой брат и я были дополнением друг к другу. Старший и младший сын - крайности некоей счастливой середины, которая так никогда и не была найдена.
Мне не исполнилось и семи лет, когда появился мой первый отчим. Я припоминаю проблески ревности при его появлении, когда однажды после обеда мать ввалилась с ним в дом. Много позже она говорила мне, что я был рад ему, будто бы я везде ходил и с гордостью говорил всем, что у меня тоже есть отец! Я этого не помню.
Но я припоминаю смутное ощущение угрозы и антагонизма. Николай Первый, должно быть, чувствовал отчужденное отношение к себе и старался как-то сгладить мою враждебность. Однажды он выстрогал мне меч и лыжи из дерева, а когда я подрос, даже выдолбил маленькую лодку.
И все же Николай был посторонним для меня и всей нашей семьи. Каждый раз, когда мать пыталась развестись с ним, что случалось, по крайней мере, дважды в год, а, может быть, и чаще (на самом деле каждый раз, когда он зарабатывал достаточно денег, чтобы у него был повод пойти на пьянку), я, бывало, оказывался в центре их попыток разделить скудное имущество. Всегда были предметы спора, такие, как старые настольные часы. Мать кричала мне, чтобы я хватал их и бежал. Николай никогда не мог поймать меня. Что касается матери, мужчины были удобны для нее, пока помогали делать тяжелую работу или добыть грузовик, чтобы привезти дрова, но, в конечном счете, и она и дети вынуждены были бороться с ними, отстаивая скудные ресурсы. Семья объединялась против них, когда они пытались удовлетворить свою страсть к алкоголю или мужским сходкам. Я никогда полностью не признавал авторитет моего отчима, хотя он мог время от времени заслужить мое неохотное уважение из-за своего прекрасного умения ловить рыбу и охотиться, а также его искусства лодочника.
Много лет позже сестра Катя напомнила мне, что наше материальное положение и питание в эти годы сильно улучшилось. У нас на столе была рыба и дичь, и даже паюсная икра, которая вовсе не была редкостью среди рыбаков в Сибири и которая нам через какое-то время даже приелась. Правда, по-прежнему не хватало лакомств, таких, как покупные пряники или фрукты. Я съел свое первое яблоко, наверное, лет в десять. Еда была заменой любви, которой нам не доставало.
ШКОЛА
В школе я учился хорошо, но был бунтарем — дерзким, непокорным ребенком. Дисциплина всегда была моей проблемой. Я любил некоторых учителей, некоторые из них любили меня. Наш учитель физики и математики был ветераном войны с покалеченной рукой, который ездил на работу на мотоцикле. Он имел привычку в начале каждой четверти писать на доске уравнение. Те, кому удавалось решить его, могли не приходить на уроки в течение всей четверти. Иногда счастье улыбалось мне. Я был особенно горд, когда учитель посылал меня в местную пивнушку купить для него пива вместо того, чтобы сидеть в классе.
Наша директриса, которая учила нас немецкому языку, тоже меня любила. Я с удовольствием занимался немецким и изучил его намного лучше, чем это обычно делается в школе. Я не знал тогда, что мне этот язык пригодится и в Турции, и в Германии. Наша «немка» даже позволяла мне безнаказанно читать книги на ее уроках. Позже она жадно следила за моими успехами. Но спустя годы после моего побега написала письмо, пересланное моей матерью, которое было полно пропагандистских лозунгов наподобие такого: «Я никогда не думала, что в моем классе растет предатель». Заставили ли ее написать это письмо? Я не уверен. Она относилась к типу советских идеалистов, которые поддерживали линию коммунистической пропаганды, заглатывая крючок с наживкой, поскольку без этой Большой Лжи их собственная жизнь превратилась бы в серый кошмар. Или они стали бы диссидентами, в конечном счете, мучениками. Не каждый создан для такой роли. Трагедия в том, что коммунизм превратил нормальные ценности, такие как трудолюбие, или доверие к власти — в акт самообмана и, в конечном счете, в предательство правды.
Во время учебы я жадно читал, в основном русских классиков или иностранных авторов. Советские авторы почти поголовно оставляли меня равнодушным. Их наигранный оптимизм резал мне ухо. Я любил Толстого, Достоевского, Гоголя, Куприна, Бальзака, Стендаля, Чехова, Салтыкова-Щедрина. Из советских авторов помню, что любил Зощенко и Ильфа и Петрова с их знаменитой сатирой первых лет советской власти. Я любил Пушкина и, будучи рожденным в тот же день, что и он (по старому летосчислению), почти идентифицировал себя с ним в моем юношеском воображении.
Помню, с каким удовольствием я читал книжку английского писателя Джерома Джерома, как-то попавшую мне в руки, когда мне было, наверное, лет десять. Я буквально покатывался от смеха. И был просто потрясен, когда никто в моем окружении не счел его сухой английский юмор смешным. Много лет спустя, уже на Западе, я перечитал его в подлиннике и понял, каким гениальным юмористом и глубоким философом он был.
Во мне начали развиваться тенденции, которые позже привели меня к конфронтации с обществом. Я начал ненавидеть претензии и посредственность и отвергал авторитеты, основанные только на грубой силе. И постепенно становился «сердитым молодым человеком». Начал ценить вещи, запрещенные детям, — взрослые кинокартины, на которые обычно проникал, используя всевозможные ухищрения, взрослые книги (некоторые из них я доставал по библиотечной карточке моей матери). Эпизодические наказания меня не останавливали. Например, когда мать и мой классный руководитель, наша соседка, нашли меня читающим «неприличный» роман Ги де Мопассана на чердаке нашего дома.
Некоторые из моих учителей и, по крайней мере, одна библиотекарша поощряли мою тягу к чтению и любопытство. Большим достижением для меня в те годы было достать дореволюционную книгу, подобную старому переводу брошюры по сексуальной патологии Крафта-Эббинга, которую как-то оставил, уйдя на уроки, квартировавший в нашем доме студент из местного училища (у нас всегда было несколько квартирантов, несмотря на то, что семья жила в двух с половиной комнатах). Такие «запрещенные» книги становились настоящим праздником. Меня тянуло к ключевым вопросам жизни и смерти, крайностям человеческого опыта.
Я начал экспериментировать с гипнозом, когда мне было около двенадцати-тринадцати лет, после прочтения другой из дореволюционных книг по этому предмету. Моя сестра стала моим первым субъектом воздействия, причем сомнамбулистическим. Я мог вызывать у нее иллюзии, и даже галлюцинации. Это давало мне ощущение силы, настоящего знания. Паранормальное, трансцендентальное, становилось ощутимым, я мог экспериментировать с ним. Мы имели дело с другой реальностью, не похожей на мрачную сущность повседневной жизни и мелкие преследования нас матерью и школой.
В чем-то, наверное, я пытался идти по стопам своего прадеда Мирона, травника и целителя. Мать сохранила его заговоры и молитвы. Они напоминали смесь языческих заклинаний и православных молитв. Заговоры были от всего — от укуса змеи, «захода»[1] у ребенка, кровотечения, сглаза.
Мирон был добрым и отзывчивым человеком, часто лечившим пациентов бесплатно, или за плату натурой. В конце концов, он так и погиб, пойдя к больному в пургу. Как всегда, его немного угостили водкой, на посошок, и он замерз по дороге домой. Говорят, такая смерть — самая безболезненная.
Еще одним контактом со сверхъестественным в детстве была моя тетя Тася, жена Михаила, работника НКВД. Если можно себе представить некое подобие ведьмы в советском контексте, то это тетя Тася. Она постоянно пыталась приворожить своего мужа, используя такие странные способы, как клетку с мертвым воробьем на замке, которую она подкладывала к нему на ночь под кровать. Дядя Миша горько жаловался моей матери, утверждая, что подобные усилия со стороны его жены полностью незаслуженны. Он был верным мужем, проводившим слишком много времени на работе. Тася постоянно приводила к ним если не в дом, то в баню во дворе всяких шаманов и целителей. Бой барабана и заклинания и песнопения, доносившиеся из бани, приводили Михаила в панику. Их могли услышать соседи и донести куда надо. Несмотря на его связи и положение, поведение его жены грозило не только отразиться на его карьере — он мог сам оказаться в тюрьме, которой заведовал.
В конце концов, он попытался порвать с Тасей, уехав от нее как можно дальше, на Камчатку, но то ли стараниями его жены, то ли по еще какой причине заболел загадочным кожным заболеванием, которое не могли вылечить врачи. В конце концов, он вынужден был оставить свою работу партийного администратора и уйти в тайгу, где прожил несколько лет как отшельник, общаясь только с камчадалами. И там, у них, научился лечению травами и использованию мухомора для сеансов шаманизма.
Дядя Миша вылечился и стал известным травником, экспортировавшим свои настойки даже в Японию. Он зарабатывал неплохие деньги и построил своего рода маленький курорт. Однако привычка к алкоголю (тем более разбавленному настойкой мухомора) доконала его. У него ампутировали ногу, зараженную гангреной. Он до конца своих дней остался коммунистом, не простившим мне моего побега. Тем не менее, в единственном ко мне письме за рубеж уже в послеперестроечные годы он приглашал меня на Камчатку, «чтобы потратить накопленные у капиталистов деньги» и, раз уж я еду, привезти ему приличную инвалидную коляску, достать которую на Камчатке невозможно.
* * *
Когда мне было около девяти, я поехал в пионерский лагерь. С собой я взял большой охотничий нож, который, как помню, позаимствовал у моего дяди (большую часть моей жизни я увлекался собиранием ножей хорошего качества).
Какой-то мальчишка нашел нож и попытался забрать его у меня. Я ударил его, у него из носа потекла кровь. Вошла одна из наших воспитательниц и увидела меня стоящим перед этим мальчиком — оба в окровавленных рубашках, а у меня в руках нож. Она упала в обморок. Это был конец моего пребывания в лагере. Нужно было бежать. Так позорно провалилась моя первая попытка вхождения в коллективную советскую реальность. Поймав случайный грузовик, я поехал домой.
В возрасте четырнадцати лет состоялся мой второй и окончательный побег из родительского дома. Враждебность между матерью и мной становилась непереносимой. Я делался все более непокорным, вызывающим и раздражительным. Но отметки в школе всегда были хорошими. Все делалось так, чтобы у матери практически не оставалось повода для обвинений по отношению ко мне.
На какое-то время я попал в плохую компанию, оказавшись вовлеченным в банду карманников. Правда, я либо стоял «на шухере», либо только присутствовал при кражах, получая в награду пригоршню конфет. Но, к счастью, я быстро расстался с этой компанией. Однако эти ребята давали какое-то возбуждение и чувство общности, которых мне не хватало дома. Они могли также защитить меня от хулиганов (порой поход из дома в школу был связан с прохождением нескольких враждебных улиц, где тебя могли поджидать с кастетом или палкой). У меня не было отца, который мог бы отпугнуть их, а мой старший брат отсутствовал, реально или психологически.
К концу моей жизни в семье я был на грани того, чтобы силой противиться матери всякий раз, когда она нападала на меня. Прямо перед окончанием школы меня собирались принять в комсомол. И вот тут мать пришла в школу, чтобы пожаловаться на мое поведение, — поступок совершенно не в ее характере. Я был страшно сконфужен перед своими друзьями, в глазах которых уже создал себе ореол свободы и непокорности. Мне не хотелось быть комсомольцем, но отказаться от этого должен был я сам!
Я перерос городок Колпашево. Мне снился повторяющийся сон, будто я в Молдавии — стране вина, веселых песен и зеленых гор. В стране, где поэт Пушкин провел время в изгнании. Что-то гнало меня из моего родного городка. Была ли это просто жажда нового и попытка уйти от семейных дрязг? Или я где-то подсознательно чуял, что рядом лежали кости заключенных, жертв ГУЛАГа, похороненных в болотной тине под нашими улицами, кости, которые обнажились как-то во время весеннего паводка?[2] Место гибельной ссылки — вот чем прославился в истории наш городок. Позднее я узнал, что сюда был сослан, а позже подвергнут жестоким пыткам и убит в томской тюрьме поэт Николай Клюев, религиозный мистик и прорицатель. Сверхъестественно, но он в одной из поэм предсказал гибель Аральского моря («Что зыбь Арала в мертвой тине…»), как и другие катастрофы, которые безбожное, высокомерное безумие коммунистов навлекло на Россию. Он предвидел эти экологические катастрофы за полстолетия с лишним до них, написав:
…Тут ниспала полынная звезда, Стали воды и воздухи желчью, Осмердили жизнь человечью. А и будет Русь безулыбной, Стороной нептичной и нерыбной![3]ТОМСК
В том же году я поехал в Томск под предлогом повидать брата. Жизнь в Колпашево душила меня. Дом стал тесен. Я хотел вырваться из него любой ценой. И мне открылись новые горизонты, путь для бегства. Вместо того, чтобы провести еще три года в родном городе до окончания школы, я сумел поступить в техникум и получить диплом.
Мать была против моего ухода, тогда как все остальные — сестра, брат, дядя, живший в Томске[4] поддерживали меня. Мать считала, что я должен окончить среднюю школу и поступить в университет. Мой отъезд повлек за собой серию событий, которые, в конечном счете, привели к тому, что я покинул не только Колпашево, но и страну, полностью порвав с прошлым.
Остаться дома означало бы примириться с матерью, признать ее власть и опеку, стать тенью моего старшего брата и маленьким винтиком системы, для которого простое выживание было бы уже сверхзадачей. Но и отъезд был не без проблем. В моих снах долго присутствовал настойчивый мотив, будто я никак не могу хорошо сложить свои вещи, не хватает чемоданов, и есть постоянное ощущение, что я плохо подготовился к отъезду. Мне предстояло впервые собирать чемодан самому, без чьей-либо помощи и поддержки. [5] Как бы все сложилось по-другому для меня и для всей моей жизни, если бы я мог покинуть дом с материнского благословения, с вещами, уложенными с любовью и заботой!
В техникуме я был равнодушен к учебе. Техника мало интересовала меня, хотя, как всегда, я получал хорошие отметки. Большую часть времени проводил в чтении книг по психологии, медицине, истории и философии. Продолжал также экспериментировать с гипнозом. Так как мне всегда не хватало субьектов-добровольцев, раздобыл себе удостоверение, которое подтверждало, что я провожу некоторые эксперименты по поручению мединститута. Поразительно, с каким уважением полуграмотное население таежного города относилось к любому официальному документу.
В то время мне давали стипендию около пятнадцати рублей в месяц, которых едва хватало на еду. Прирабатывал по мелочам, даже игрой в карты. Однажды меня поймали. Мы играли на очень маленькие ставки, но руководство техникума превратило нас в настоящих преступников. Ребят подвергли перекрестным допросам, заставляли доносить друг на друга и, наконец, выгнали из общежития.
Мать посылала продукты и небольшие деньги — часть пенсии как вдовы погибшего[6]. Они были нужны, так как мы в те годы постоянно жили впроголодь.
После инцидента с картами негативное мое отношение к начальству усилилось. Я чувствовал, что люди у власти — это преимущественно бесчувственные хамы, высшее счастье для которых — попирать достоинство тех, кто от них зависит. Они используют страх, чтобы утвердить подчинение и покорность. Их правила искусственны, произвольны, их мораль надувательская, у них нет сострадания или понимания молодых людей как растущих личностей, нуждающихся в том, чтобы экспериментировать в жизни, наращивая свой опыт, пусть даже пробуя запрещенное.
Оглядываясь назад, я вижу, что моя студенческая жизнь была тяжелой. Студенты воровали еду иногда даже прямо с плиты. Бывало, и я делал то же самое — голод не тетка, он учил вас вещам, которым никогда не учили в школе.
И опять моим единственным спасением от этой безотрадной реальности было чтение. Я нашел путь в библиотеку мединститута, в которой было много дореволюционных книг, как русских, так и переводов зарубежных авторов. Прочел почти всего Фрейда и множество книг по истории и социологии. Они, конечно, были безнадежно устаревшими, но, в сравнении с унылой и скудной диетой советской литературы, становились для меня глотком свежего воздуха. Я буквально трясся от возбуждения, когда нес такие редкие книги домой. Моими друзьями теперь стали студенты университета и мединститута, а не техникума, где я продолжал официально числиться. Я даже чувствовал себя членом некоего секретного невидимого братства, осажденного со всех сторон посредственностью.
Наступило самое лучшее, трудное, лихорадочное время поисков и открытий. Я искал ответы на главные вопросы жизни. Почему бывают войны? Являются ли люди на самом деле равными? Существует ли свобода воли? Где была бы Россия, не случись революции? Какова психология движения масс?
Эти поиски возбуждали. Мое близкое окружение интеллектуально становилось для меня все менее значимым. Мне нужны были собственные ответы на вековечные вопросы.
В это же время я активно начал заниматься боксом, а затем плаванием. Меня всегда тянуло к воде, я любил играть и плавать в нашей широкой Оби, еще когда был ребенком. Детьми мы обычно пробирались на паром, который шел через реку, и прятались там среди ворохов груза. А когда паром достигал середины реки, спрыгивали с кормы в воду и плыли к берегу, к величайшему раздражению капитана. Но моя тяга к воде была, полагаю, более глубокой. Это было больше, чем детское веселье. Будто бы я чувствовал, что вода и умение плавать могут стать решающими для выживания и будущей судьбы. Холодными сибирскими зимами я мечтал попасть в теплые края России:
Спустя некоторое время меня включили в городскую команду по плаванию. Это дало возможность путешествовать, пропускать занятия, лучше питаться. Я повидал другие города, включая Москву, где проводил много времени в библиотеке Ленина. Увы, часто книги, которые хотелось заказать, были в спецхране и выдавались только тем, кто имел на это особое разрешение. В итоге я получил для себя большую свободу, даже привилегии, стал «ценным членом коллектива», как спортсмен мог поддерживать престиж техникума и города своими выступлениями.
После второго курса техникума я приехал домой на каникулы — независимый мужчина, который выходил из дома, когда хотел, и одевался, как хотел. Мать, казалось, приняла мое возмужание. Помню, что даже пытался гипнотизировать ее, чтобы помочь избавиться от мучительных ревматических болей. Много лет спустя я вспоминал, что когда уезжал из Колпашево после каникул, она преодолела свою обычную холодность и хотела обнять и поцеловать меня по русскому обычаю. Видел ее движение ко мне, но не обернулся. В то время я еще не понимал, что это было наше последнее свидание.
Где-то внутри меня жил раздраженный маленький мальчик, который уходил от своей матери, вызывающе дерзкий, почти мстительный. Позже я воспроизводил весь этот сценарий много раз с различными женщинами.
Моя единственная, по-настоящему тесная связь была с сестрой. Когда я учился в техникуме, она купила мне пару пижонских туфель на платформе, выглядевших для сибирских краев довольно вызывающе, особенно на фоне остальной, скромной одежды. У меня эти туфли сохранялись и после того, как их толстые подошвы износились, и я заменил их крепкими кожаными подметками.
К окончанию техникума в Томске я входил в состав городской команды пловцов, тренируясь с одним из лучших местных тренеров, Генрихом Булакиным, в довольно современно оснащенном бассейне. Я помню, как жена Генриха Софа советовала мне есть мед, когда я приболел. Их забота об учениках выходила за пределы обычных тренерских обязанностей. Я никогда не предполагал в те годы, что их дружба окажется мне такой полезной в самые трудные часы, которые еще предстояли.
Тренировки в местной команде давали возможность свободно ездить на сборы и в спортивные лагеря. Голодание студенческих лет сменилось относительным изобилием, которым власти обеспечивали перспективных спортсменов. Я мог получать талоны на питание в спецстоловых, включая местный Дом офицеров.
Сверх того, была возможность пропускать лекции, на которые я не хотел ходить, и общественные мероприятия, такие, как политические собрания и обязательная работа в колхозе во время каникул. Почти всегда у меня находилась уважительная причина: предстоящие сборы или спортлагерь, или поездка на соревнования.
Мои бунтарские настроения укреплялись в атмосфере относительной дозволенности. Это были годы правления Хрущева, общеизвестной оттепели. Во время спортивных поездок мне встречались весьма неординарные люди, некоторые из них даже бывали за границей. Я с жадностью слушал иностранные радиостанции, такие, как Би-Би-Си и «Голос Америки» (радио «Свобода», на котором мне довелось работать позже, глушилось слишком сильно в наших местах, где было столько военных и закрытых предприятий). Через друзей удалось получить доступ к запрещенной литературе. Надо помнить, что Томск был интеллектуальным центром, университетским городом, возможно, с наибольшим процентом студентов по отношению городскому населению во всем СССР; здесь велись известные во всем мире научные исследования, главным образом по металлам.
Мой брат знал сторожа, работавшего в библиотеке местного мединститута, где находилось большое собрание книг в специальном хранилище, куда имели доступ только некоторые преподаватели, занимавшиеся научными исследованиями (обычно в целях написания критических статей о дореволюционных или западных авторах и теориях). Благодаря связям я мог брать книги из спецхрана на ночь, чтобы их отсутствие не было замечено.
Помню охватившее меня возбуждение, когда я впервые взял книгу из спецхрана. Она была в кожаном переплете с тиснеными золотом буквами. Опубликованный в 1915 году в Санкт-Петербурге фолиант являлся русским переводом книги «Элементарные формы религиозной жизни» французского социолога Эмиля Дюркхейма, где он исследовал религиозные и тотемные верования австралийских аборигенов. Возвращаясь домой в трамвае с моим сокровищем, я почти дрожал от переполнявших меня чувств. Тайком просмотрел несколько страниц — они были для меня глотком свежего воздуха — настолько велико было отличие от сухого стиля советских учебников.
Со временем я прочел множество книг из спецхрана. Из-за бессонных ночей (книги читались в один присест и возвращались на место утром) стал похож на мрачного призрака и снизил спортивные результаты. Зато познакомился с социологической литературой, опубликованной в России до революции, даже с некоторыми стенограммами судебных процессов времен Сталина над врагами народа, такими как Рыков, Бухарин, Зиновьев, Каменев… Эти материалы о показательных судах были когда-то доступны, но затем стали считаться вредными, так как, в истинно оруэлловской манере, коммунистическая история должна была постоянно исправляться и переписываться. Воистину Россия — страна с непредсказуемым прошлым.
Я окончил техникум в 1960 году одним из лучших в группе. Это давало возможность выбирать место работы самому, а не быть посланным по распределению в какой-нибудь гиблый угол страны. Хотелось остаться, по меньшей мере, в Томске — городе студентов, с прекрасными библиотеками и интеллектуально активными друзьями. Вначале я нашел работу на местной фабрике в отделе контроля качества. Работа довольно легкая, хотя, в некотором роде, ответственная. Нужно было стать чем-то средним между тщательным, но формальным контролером и либеральным, но не опрометчивым сотрудником.
Большинство деталей, выпускаемых фабрикой, не соответствовало нормам. Решающий вопрос — сколько и насколько. Будут ли приспособление или инструмент, теоретически забракованные, все же работать? В этом было свое искусство, и какое-то время мне это почти нравилось.
Но сердце лежало к другому. В часы простоев мы играли в морской бой и изощрялись в философских дискуссиях. Я помню, как наш начальник, скромный, трудолюбивый человек, далеко не глупый, сказал мне: «Тебе нужно стать хорошим контролером». А я ответил: «Но я хочу быть хорошим человеком». «Хороший человек — не профессия. Ты не можешь стать хорошим человеком, пока не станешь хорошим специалистом», — возразил он. Его слова запали мне в память. Но умение быть хорошим контролером грозило направить меня в русло системы, в которой винтики не просто использовались, а использовались глупо и на износ. На примере своего номенклатурного дяди Николая я видел уже, что в «самом равном в мире обществе» существовали совсем не равные отношения. Когда он задавил кого-то в пьяном виде на машине, его отправили на короткое время в специальную тюрьму, для таких, как он. Другой человек мог бы потерять и свободу, и работу, и здоровье за гораздо меньшее преступление.
Я нашел себе новое место — инструктора по физкультуре в санатории для рабочих фабрики, постепенно прокладывая себе путь к какой-нибудь более или менее свободной профессии, которая оставляла бы больше времени для исследований, чтения и учебы.
За время работы в профилактории я встречал много местной элиты. Рядом располагался другой санаторий, для партийных бонз, так называемое «Орлиное гнездо». Там был закрытый магазин с дефицитными товарами, недоступными остальным. Мне иногда позволяли покупать что-нибудь из этой роскоши за то, что я давал бесплатно велосипеды со своего склада детям этой элиты и пускал их на танцы в нашем санатории, где они могли «забагрить» себе девиц.
Они казались мне людьми другой породы — более свободными, раскованными, уверенными в себе, хотя некоторые из них были ужасно испорченными, с целым набором психологических проблем. Я откровенно завидовал тому, что у них больше времени и денег на развлечения, летние дачи и большие дома, куда они могли приглашать своих подружек, которые тоже, казалось, были красивее и свободнее, чем девушки нашего круга.
В санатории много читал и начал серьезно писать. Встречался с корреспондентом местной газеты, который меня поддержал. Скоро вышла моя вторая статья (первую напечатали, когда я еще приезжал домой в отпуск из техникума). Это были весьма топорные заметки о рабочих и их трудовых доблестях. Но они укрепляли веру в мои писательские способности.
В дальнейшем я писал интенсивней — эти ранние опусы представляли собой наивные философские заметки и размышления о жизни. Я знал, что их еще нельзя публиковать, но наслаждался самим процессом изложения мыслей на бумаге.
«НОНКОНФОРМИСТЫ»
Атмосфера относительной научной свободы не могла не проникать в общество в целом и в студенческое сообщество в частности. Академгородок гордился тем, что устроил первую выставку картин Шагала. Мои друзья из мединститута переводили отрывки или целые книги, написанные такими авторами, как британский философ Бертран Рассел, пацифистские труды которого и выступления за ядерное разоружение читались тайком среди молодых ученых, хотя многие из них занимались исследованиями в области вооружений.
Приближалось мое девятнадцатилетние — возраст призыва в армию. Можно было попытаться поступить в университет для того, чтобы получить отсрочку от призыва. Но я жил по-детски беззаботно, упиваясь своим любимым чтением и дискуссиями. Меня сносило в сторону конфликта, который должен был изменить всю жизнь.
Я не хотел идти в армию, уже прочел к тому времени пацифистские писания Толстого, и все мое сопротивление власти сосредоточилось на вопросах войны, воинской обязанности и антимилитаризма. Патриотические фразы, разговоры о мире, обещание рая на земле — все это, как мне казалось тогда, перечеркивалось тем фактом, что человечество вооружало себя смертельными средствами уничтожения и периодически использовало их для того, чтобы калечить, убивать, разрушать саму основу своего собственного существования.
Война была реальностью — это отсутствующий отец и наши семейные мытарства, инвалиды, которые вернулись домой униженными и угрюмыми, одинокие женщины, получившие похоронки на своих мужей, сыновей, отцов или братьев. Для меня, начинающего диссидента и молодого идеалиста, армия являлась орудием войны, узаконенным безумием, которое рассматривалось людьми как норма только потому, что ее разрушительный итоговый потенциал был пока не виден.
Могу сказать, что мой бунт направлялся не против советской армии или советской системы как таковых. Это был бунт против всех армий мира, всех видов узаконенного, публично признанного безумия на Востоке или Западе. Будучи американцем, я, наверное, с таким же успехом сжег бы свою повестку на газоне перед Белым домом.
Мне не хотелось превратиться в часть военной машины.
Случилось так, что мой приятель, тоже Петр, был призван в армию в девятнадцать лет, вскоре после окончания техникума. Он не хотел служить не столько по идеологическим мотивам, сколько из чисто практических соображений.
Большинство людей в Советском Союзе знали о жестокости и в те годы еще далеко не повсеместной дедовщине, царивших в армии. Полная правда проявилась только после перестройки, когда стало известно, что буквально тысячи новобранцев попали в тюрьму, были убиты или покончили с собой в результате дедовщины или других форм проявления жестокости со стороны начальников или старослужащих.
Любой, кто мог избежать военной службы, делал это. У детей элиты путь был простым: они все поступали из средней школы в институты, которые обеспечивали элементарное военное обучение и автоматическое присвоение звания младшего офицера запаса в соответствующих родах войск (например, выпускники мединститутов становились офицерами медицинской службы).
Друзья и я в том числе решили помочь Петру и приступили к этому с «научной точностью» и изрядной дозой юношеской самоуверенности и невежества.
Было ясно, что избежать военной службы по состоянию здоровья — а других причин не удавалось найти — можно лишь, если болезнь окажется достаточно серьезной, предпочтительно неизлечимой. Лучше всего было использовать принцип осложнений — симулировать тяжелое заболевание очень трудно для здорового человека. Другими словами, надо было найти заболевание, которое имело место ранее, и было, лучше всего, наследственным или вызванным травмой, которую можно доказать.
В спецхране библиотеки я нашел много материала, который был связан с наукой разоблачения симуляции. Существовали публикации, доступные только медэкспертам, помеченные специальным грифом, и даже обладание такими публикациями неправомочным лицом могло повлечь суровое наказание. Помню волнение, смешанное с опаской, когда я впервые держал подобную публикацию в руках. (Обычной процедурой для меня было прийти в библиотеку после закрытия, дверь открывал знакомый охранник, я быстро отбирал необходимый материал и уходил с обещанием все вернуть утром до открытия библиотеки, на случай если кто-то мог потребовать материалы в этот день.)
Охранник не понимал истинную природу моих намерений. Он думал, что я просто молодой человек, интересующийся медициной, в частности, вопросами пола (я однажды показал ему дореволюционную книгу по этим вопросам, и он был заинтригован ею).
Мои друзья-медики и я проигрывали идеи частичной глухоты, эпилепсии и дефектов зрения в качестве рецептов, как сделать Петра неподходящим для службы в армии. Мы рассмотрели идею височной эпилепсии, сопровождаемой кратковременной потерей сознания, и в дополнение, религиозными чувствами и воззрениями. Существовала медицинская карта с записью о сотрясении мозга, произошедшем у Петра в пьяной драке. Мы даже сделали электроэнцефалограмму, но, к нашему сожалению, она не показала видимых отклонений.
Сложность симулирования эпилепсии и дачи правильных ответов во время психиатрического обследования, которым мы пытались обучить Петра, оказалась для него слишком большой — он был умным, но психологически неподготовленным — и, в конечном счете, вместо этого заявил, что он единственный кормилец своей престарелой матери. Это также не подействовало, так как власти быстро обнаружили его брата, который был жив и здоров и проживал в Казахстане, где остался после эпопеи освоения целины. Петра призвали в армию, и мы потеряли его след.
Все эти занятия оказались позже бесценными для меня. Я вовсе и не подозревал, что мое знакомство с ребятами из мединститута когда-то окажется востребованным. Даже когда я изучал и обсуждал материалы в процессе подготовки этого дела, у меня всегда была задняя мысль о действиях, которые вынужден буду предпринять я сам, когда меня призовут через год или чуть позже. Во-первых, нужно попробовать поступить в университет с помощью моих спортивных способностей, несмотря на то, что официально я должен был отработать пару лет после окончания техникума. Во-вторых, можно было попасть в спортивный клуб армии, где я провел бы три года службы, будучи профессиональным пловцом с воинским званием (именно так поступали многие советские олимпийцы и другие чемпионы, получая медали и превосходя мировые рекорды, формально оставаясь любителями). Местные спортивные руководители заверяли, что снабдят меня необходимыми рекомендациями.
Лишь в качестве крайней меры я обдумывал, хотя и с некоторым трепетом, вариант освобождения от призыва по медицинским показаниям. Для меня, атлета, физическая неполноценность была исключена (не говоря уже о таком плохом выборе, как причинение себе увечья, которое наказывалось, как минимум, восемью годами дисбата). Единственное, что оставалось, это психические нарушения достаточной степени тяжести.
Читая публикации института криминальной психиатрии имени Сербского, я, наполовину играя, выбрал в качестве болезни шизофрению. Было бы опасно, если бы солдат имел такое заболевание и действовал бы в соответствии со своей паранойей. В литературе есть несколько примеров, когда запоздалый диагноз именно этого заболевания приводил к трагическим последствиям при применении оружия новобранцами, охваченными своими безумными фантазиями. Я читал о сложностях дифференциальной диагностики, о зашифрованных словах, которые психиатры применяли в разговорах между собой в присутствии пациента (его априорно подозревали в симуляции, пока не доказано обратное). Например, психиатры использовали для обозначения болезни три первых буквы латинского названия шизофрении (эс-це-ха).
Шизофрения была хорошим выбором также и потому, что она стала модным диагнозом для применения к политическим диссидентам. Я не был убежденным идеалистом, способным бросить властям вызов моими истинными взглядами (за это грозила статья покруче, чем за уклонение от воинской обязанности); я завуалировал свои взгляды в красочную систему параноидального мышления.
В этом смысле, например, кататоническую шизофрению, которая определенно является прекрасным поводом для освобождения от армии, было бы мучительно трудно симулировать. Я слышал о случае, когда новобранец, находившийся в состоянии кататонического ступора много дней, страдавший от необычайных лишений, мучительных тестов и искусственного питания, прокололся лишь тогда, когда отбивался от санитара, пытавшегося его изнасиловать, и дежуривший ночью доктор услышал его призывы о помощи.
ПРИЗЫВ
Но вот мне исполнилось девятнадцать и меня призвали. Я не был к этому готов, хотя и должен был ожидать призыва. Я был беззаботен и немного наивен. Горячо дискутировал с друзьями о различных подходах к пацифизму у таких писателей, как Камю, Рассел или Сартр. И не до конца оценивал тот факт, что для моих привилегированных, гарантированных от военной службы приятелей (не считая, конечно, ситуации, если Советский Союз будет втянут в настоящую войну), эти диспуты были чем-то вроде интеллектуальной игры, в то время как я должен был стать настоящей подопытной морской свинкой, с суровой и опасной судьбой.
Знай я, что случится в ближайшие несколько месяцев, я бы намного активнее добивался варианта с университетом или тщательней подготовился к «крайнему случаю». Поступление в университет не состоялось, потому что соответствующие бюрократические инстанции слишком затянули дело, а у меня не было достаточно связей, чтобы ускорить процесс.
В свете новой ситуации уверенность в том, что мне придется провести три года в качестве профессионального пловца в спортивном клубе армии, стала казаться мне вполне приемлемым идейным компромиссом. Это было похоже на альтернативную военную службу, которая, конечно, не существовала тогда в СССР[7]. Так и случилось, меня послали в армейский спортклуб в Новосибирск после прохождения лагеря для новобранцев. Это был специальный лагерь для музыкантов, танцоров и спортсменов, которых потом направляли в различные армейские ансамбли, оркестры и клубы. Нам выдавали разношерстные военные мундиры, поскольку все мы в последующем должны были получить специальное обмундирование. Мы располагались на краю настоящего военного лагеря, и нашу пеструю команду обычно старались скрыть во время официальных инспекций и парадов, чтобы избежать недовольства армейского начальства. В некотором смысле, до нашей отправки в специальные подразделения мы были источником неудобства. Командир нашего подразделения носил вполне созвучную ситуации фамилию — лейтенант Пастернак. Мы проводили время, в основном, рассказывая анекдоты (многие с явно антисоветским душком), пели тюремные песни, пили контрабандой пронесенную водку и, когда было возможно, ходили в самоволку.
Это не могло подготовить меня к тому, что случилось в дальнейшем.
Относительный рай армейского лагеря для новобранцев вскоре закончился. По причине, которая до сих пор остается загадкой, меня, в конце концов, послали не в спортклуб, а в обычную часть. Вполне возможно, что военные спортивные начальники решили, что плавание не является тем видом спорта, на который нужно делать ставку. (Советский Союз в те годы не проявлял больших успехов в этом виде спорта). Они могли решить также, что в армии нет подходящих условий для тренировок пловцов. Не исключена и бюрократическая ошибка. Но есть и такой вариант: по неизвестной причине КГБ не признал меня политически благонадежным лицом, будущая карьера которого могла быть сопряжена с выездом за границу.
Короче, однажды я очутился в обычном бараке, в обычной солдатской форме, одним из примерно полусотни новобранцев, спящих на железных кроватях под обычными серыми одеялами.
Подъем в шесть часов. Нас выгоняли на плац до пояса обнаженными и заставляли бегать по его периметру, делать отжимания и приседания на снегу при минусовой температуре. Сержант, украинец по имени Ерема, здоровый парень с красным носом, опухшими глазами и пронзительным голосом, которым он осыпал нас ругательствами, смешанными с нотациями, явно наслаждался своей ролью.
Чисто физические нагрузки меня сильно не напрягали, хотя некоторые новобранцы сваливались обнаженными прямо в снег, задыхаясь от изнеможения. А ведь это был только первый шаг, чтобы делать из мальчиков мужчин. Следующая часть ритуала состояла в заправке кроватей за несколько минут, чтобы одеяла и простыни были натянуты по образцу, а кровати и остальное наше скудное имущество стояли строго в определенном порядке. Малейшее отклонение каралось унижением новобранца и служило поводом заставлять переделывать работу бесконечно.
Сержант был особенно безжалостным с теми, кто медлил, огрызался или сопротивлялся его приказам. Бесконечный набор унизительных наказаний был заготовлен для таких наглецов — от мытья туалета, чистки сапог сержанта, стирки его портянок до физического избиения.
Однако, как я вскоре выяснил, все это были лишь мягкие, полуофициально дозволенные формы наказания. Для особенно непокорных, или тех, кого недолюбливали сержант и его когорта из числа служащих второго и третьего года, подбирали более изощренные и мучительные, даже смертельно опасные издевательства.
Следующими по шкале притеснений и наказаний считались избиения — от простых ударов до процедуры, называемой «устроить темную». На солдата, вызванного в какую-либо комнату, при входе набрасывали одеяло, так чтобы он не мог опознать своих мучителей. Его жестоко избивали, в зимнее время валенком, в который был вложен кирпич, а летом любым тяжелым и тупым предметом. Это гарантировало, что удары, нанесенные по чувствительным местам, таким как почки, не оставят никаких наружных следов.
Для многих солдат такая «прописка» оканчивалась военным госпиталем с серьезными, часто угрожающими жизни повреждениями, и нельзя было указать на избивших. Преобладали культ молчания и круговая порука. Командиры, как и теперь, больше занимались набиванием своих карманов, используя рабский труд солдат на строительстве своих частных домов и других объектов, чем розыском преступников. Очень часто наиболее жестокие из сержантов были в сговоре с продажными офицерами. В армии процветали взятки в виде дополнительных отпусков и спирта из запасов госпиталя, офицеры зачастую игнорировали произвол, творимый сержантами. Эти традиции приводили к такому озверению молодых людей, призванных в армию, что многие из них, как только сами достигали статуса «деда», становились такими же жестокими, циничными и безжалостными эксплуататорами новобранцев. В итоге, если ты не был каким-нибудь специалистом, вроде инженера-электронщика, спортсмена или музыканта, у тебя не оставалось другого выхода, кроме как выживать по формуле «есть или быть съеденным».
Вначале я избегал внимания Еремы. Послушно выполнял упражнения, более-менее приемлемо заправлял кровать и никогда не возражал. Наиболее оптимальной стратегией защиты было оставаться неприметным. Однако часто сержанты вроде Еремы нюхом чувствовали чужаков и, казалось, имели змеиную, почти экстрасенсорную чувствительность к людям, на которых никак нельзя было положиться в поддержании культа продажности и жестокости.
Любая искра интеллигентности или независимости могла выдать. Образ поведения, даже осанка, взгляд в глаза могли вызвать подозрение. Следовало стать совершенным актером, чтобы имитировать загнанный, вороватый и в то же время жестокий взгляд, который многие солдаты приобретали со временем. Но даже если кому-то это удавалось, солдатская жизнь содержала очень много моментов, когда нужно было доказывать, что ты — часть стаи. Однажды ты можешь оказаться избитым, а уже на следующий день будешь участвовать в избиении своего близкого друга.
Мой день Икс наступил, как водится, неожиданно. Однако произошло то, чего совершенно не мог предвидеть ни я, ни кто-либо другой.
Я подружился с одним первогодком, которого так же призвали в Томске. Его звали Евгений, он провалил экзамены в институт и попал в армию. Женя был из интеллигентной семьи и артачился, когда ему грубо отдавали бессмысленные приказы. Ерема невзлюбил его с самого начала и дразнил даже из-за имени. Среди привычных слуху Иванов, Петров и Федоров Евгений как-то выделялся.
Однажды, когда мы закончили собирать урожай картошки для одного из командиров, Ерема вышел из офицерского жилища с парой бутылок водки. Он великодушно пригласил всю нашу группу из шестерых солдат присоединиться к нему. Вечерний мороз крепчал, мы чувствовали усталость и холод. Каждый отпивал огненную жидкость прямо из горлышка. Еды, чтобы закусить, не было. К тому времени, когда мы прикончили водку, все опьянели, особенно Ерема, который, как мы подозревали, тайно прикладывался еще и в течение дня.
Мы вернулись в наш барак перед ужином. До него оставалось еще полчаса, и Ерема выступил с блестящей идеей. Он предложил нам раздеть Евгения и проверить размеры его пениса, который, как он громогласно предположил, был либо крошечным, либо вовсе отсутствовал.
Мои пьяные друзья решили, что это очень смешная забава и повалили Женю на пол, пытаясь стащить с него штаны. Я вертелся вокруг, как бы помогая, но, на самом деле, не делал ничего.
Евгений неожиданно оказал жестокое сопротивление. Один из солдат поднялся с окровавленным носом. Ерема получил удар сапогом в пах и, издав рев раненого быка, бросился на бедного парня всей своей тушей. Евгений упал на пол. Ерема продолжал бить его ногами по ребрам и, наконец, в лицо.
Когда он занес сапог для удара в голову, я сзади подбил ему ногу на половине замаха, так что он крутнулся и упал на бетонный пол, стукнувшись затылком.
Мои нападавшие товарищи стояли, как громом пораженные, будто я осмелился метнуть молнию в Зевса.
Прозвенел звонок на ужин.
Евгений ушел, пошатываясь. И я отделился от группы, пошел в столовую.
Ерема явился в столовую получасом позже, с изумленным видом. Он сел на противоположном конце зала, его налитые кровью глаза периодически останавливались на мне, пока он поглощал еду.
Я знал, что меня ждет «темная» особенно жуткого вида, если вернусь в казарму. Надо было что-то делать и делать быстро. Тайком взял пустой стакан со стола и, громко кашляя, раздавил его на полу сапогом. Потом поднял несколько осколков и сунул их в то, что осталось от моих котлет и картофельного пюре. Затем отбросил остатки стекла под столом как можно дальше.
Взяв свою тарелку, я прошел к раздаче и, приняв мученический вид, показал повару особенно острый кусок стекла, покрытый картофельным пюре. Пожаловался на боль в желудке и сказал, что, видимо, проглотил кусок стекла.
Даже для бесчувственного армейского повара это было серьезным событием.
Мне велели немедленно идти в медпункт. Я постучал в кабинет медсестры как раз, когда она закрывала дверь. Ворча, она открыла дверь, но, увидев меня, согнувшегося от боли и держащего пресловутый кусок стекла в одной руке, а другой рукой показывающего на желудок, поняла, что дело может быть серьезным.
Не желая брать на себя ответственность, она вызвала скорую.
Меня привезли в военный госпиталь и сделали рентген. Ничего не нашли, но, поскольку я продолжал жаловаться на боль, врачи решили оставить меня под наблюдением на ночь с подозрением на маленький кусок стекла в кишках или пищевое отравление.
Когда я оказался в палате, пришла медсестра и бесцеремонно заявила, что ей нужно взять анализ кала при помощи особого шприца, напоминавшего велосипедный насос. При этом она, должно быть, поранила мне прямую кишку, да так, что я дернулся от боли. Для меня это стало предвестником того, что будет происходить дальше.
Почти каждый, кто попадал в военный госпиталь, подозревался в симуляции, ему не следовало доверять, и нужно было провести все анализы так, чтобы их нельзя было бы подделать.
Я был уверен, что Ерема не станет сообщать о нашей драке командованию. Он будет ждать меня в казарме, вынашивая свои собственные мечты о мести. В относительной безопасности военного госпиталя я должен был выработать такую стратегию, которая позволила бы никогда не вернуться в казарму.
Меня отбросило назад к старой дилемме. Физическая симуляция опасна, если вообще возможна. Ничто кроме серьезной болезни, инвалидности или травмы не убедит врачей. Полузабытые страницы учебника по психиатрии начали сами вырисовываться в моей памяти. Я должен был стать шизофреником.
Утром выяснилось, что удача на моей стороне. Анализы, взятые медсестрой, показали следы внутреннего кровоизлияния. (Сестра либо не заметила, либо решила не говорить, что она поранила мне прямую кишку, когда брала анализ). Теперь следовало ждать дополнительных обследований, что давало мне ценную передышку для обдумывания спасительного плана.
Ночь прошла без сна в поисках решения. Я знал, что делаю необратимый шаг. В наихудшем случае рискую надолго угодить в тюрьму. В наилучшем — обрету свободу. В промежутке было много возможностей, например, мое поведение могло быть истолковано как простое неповиновение или изворотливость, на что либо не обратят внимания, либо накажут…
Я прекратил принимать пищу, как только попал в госпиталь: такая реакция была бы естественной для человека с внутренним ранением или пищевым отравлением. Мой отказ просто игнорировали; сестры уносили подносы, как только я показывал, что не голоден.
На следующий день я с многозначительной миной отказался от пищи, заметив: «Вы думаете, я не знаю, что за пищу вы заставляете меня есть?»
Сестра озадаченно посмотрела на меня и унесла поднос. Я был уверен, что она донесет доктору.
Еще было время отыграть все обратно, дав какое-то безобидное объяснение моей выходке или просто обратив все в шутку.
Пришел доктор с утренним обходом. К тому моменту, когда он подошел к моей кровати, я весь покрылся холодным потом. И сверхъестественным усилием переборов внутреннее сопротивление, когда он спросил меня, как дела, я спокойно ответил: «Все хорошо. Кроме того факта, что они пытаются меня отравить».
Это была точка, за которой уже не было возврата. Поступив в госпиталь с подозрением на пищевое отравление, я еще мог отыграть назад, но не теперь.
Доктор посмотрел на меня с встревоженным лицом и спросил: «Что конкретно ты имеешь в виду?».
И я услышал, как произношу: «Вы точно знаете, что я имею в виду. Единственный безопасный напиток в этом госпитале — это вода из-под крана».
Выражение лица доктора сменилось с недоуменного, граничащего с суровостью на доброе и заботливое: «Вы полагаете, что кто-то пытается отравить вас или нанести вам вред?»
Моя физиономия приняла решительный вид: «Они меня не возьмут. Я знаю их уловки».
Точка возврата окончательно осталась позади. Все, что я когда-то читал в библиотеке мединститута, ожило в моей памяти. Я мог в какой-то мере проникнуть в мысли врача и понять его реакцию, я мог предвидеть его уловки. Я шел все еще на ощупь, но по тропе, очертания которой уже прояснялись в моем воображении. Это был прыжок во мрак, но он был менее опасен, чем испытание «темной».
Мною овладело спокойствие. Я сделал свою ставку. Попасть из казармы в госпиталь было лишь одной ступенькой вверх (или вниз) по лестнице, ведущей на свободу. Попасть от обычного врача к психиатру было второй ступенькой. Игра станет более сложной, ставки возрастут драматически и непредсказуемо, но непосредственная, физическая угроза моей жизни и телу отступит, по крайней мере, на время.
Через пару часов, провожаемый странными взглядами медсестер, я был выведен из палаты и посажен в машину «скорой помощи». Меня сопровождали два крепких санитара. Задняя дверь «скорой» имела на себе проволочную сетку. Санитары безучастно сидели на массивных деревянных лавках, привинченных к полу, явно игнорируя меня. Снаружи набирала силу ранняя октябрьская метель.
Должно быть, был еще полдень, но в сумерках кузова все выглядело так, будто уже поздний вечер. Перед глазами маячили сероватые, со следами несмываемой грязи халаты санитаров цвета первого осеннего снега. В голову пришли слова популярной среди молодых стиляг и зэков песни:
Сиреневый туман над нами проплывает, Над тамбуром горит полночная звезда, Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, Что с девушкою я прощаюсь навсегда.КЛИНИКА № 333
Поездка длилась около часа. Наконец, машина остановилась, и меня вывели наружу. Падал снег, мягкий и пушистый, приглушая звуки, делая моих сопровождающих похожими на дедов-морозов из какой-то дурной сказки.
Я увидел перед собой красное кирпичное здание. Вывеска на двери гласила: «Областная психиатрическая клиника № 333».
Запоры на металлической двери щелкнули. Другая, внутренняя дверь открылась изнутри.
Когда я вошел, на меня обрушился смешанный запах лекарств и человеческих выделений — специфическое амбре перенаселенного и наглухо запертого обиталища. Я взглянул вдоль тускло освещенного коридора. Ничего из того, что я читал в книгах, не подготовило меня к увиденному.
Метрах в двадцати передо мною по коридору бежал голый человек, высоко подпрыгивая, и на каждом втором шаге испражняясь на бегу. Я инстинктивно прижался к стене. За голым мчался санитар, периодически нанося ему удары длинным резиновым шлангом.
Только много позже я узнал, что этот резиновый шланг имел внутри свинцовый стержень.
Меня отвели в душ, голову и волосы на лобке побрили тупой, оставляющей порезы бритвой, и посыпали мое тело толстым слоем порошка ДДТ.
Затем выдали больничную пижаму с красными и белыми полосами и отвели в палату, где указали на металлическую кровать с провисшим матрасом в застарелых грязных разводах. Однако, видя других больных лежащими на полу в собственном дерьме, я моментально почувствовал себя привилегированным.
Так был выигран второй раунд в битве за жизнь. Пошли смутно помнящиеся дни и недели.
Профессор Гольденберг прибыл из Москвы в новосибирскую психбольницу № 333, где я подвергался обследованию и «лечению» либо как подозреваемый в уклонении от воинской службы и симуляции, либо как параноидальный шизофреник с опасными идеями. Это был известный специалист из пресловутого института судебной психиатрии имени Сербского в Москве, центрального исследовательского и лечебного заведения для душевнобольных преступников, а также политических диссидентов, которых часто определяли как страдающих различными степенями вялотекущей шизофрении, бреда и мании величия.
Его вызывали для консультаций только в наиболее трудных случаях. За свою долгую карьеру он, должно быть, приговорил сотни диссидентов гнить в лечебницах, и не только гнить, но и подвергаться наиболее ужасным пыткам — обвинению в безумии в соответствии с чьим-то мнением, лечению сильнодействующими лекарствами и шоковой терапией, не говоря уже об изощренном режиме жестокости и унижений.
Ко времени нашей встречи с профессором, после нескольких месяцев заключения в психбольнице и повторных обследований, я выработал такой способ представления моих идей, который гарантировал, что меня нелегко будет обвинить в искажении официальной идеологии или антисоветской пропаганде. И в то же время этот способ мышления выглядел достаточно безумным, чтобы быть освобожденным от службы в армии.
Моей главной «безумной» идеей была поддержка разоружения и мирного сосуществования с западными державами в надежде, что они сами преобразуются под воздействием явно превосходящей политической и социальной системы Советского Союза. Экономия, которая будет достигнута от конверсии затрат на бессмысленную гонку вооружений, может быть направлена, утверждал я, на дальнейшее совершенствование инфраструктуры нашей великой страны, на здоровье и процветание ее населения. Американцы, если они решат захватить Советский Союз, будут просто преобразованы и социализированы подобно тому, как гунны были социализированы более развитыми римлянами.
Я видел перед собой задумчивое лицо профессора Гольденберга, его ястребиный профиль, изысканные манеры, мину пренебрежения и отчужденности человека, привычно ощущающего почти неограниченную власть над другими человеческими существами. Через несколько минут общения я заметил слабую усмешку на лице профессора. Мои бредовые идеи его явно позабавили. Он был способен оценить тонкое безумие идеи, поскольку она являлась просто… логическим развитием существовавшей советской догмы. Будучи элитарным членом советской психиатрической инквизиции, он ценил идеи, которые находились на грани дозволенного и запрещенного. По крайней мере, они уменьшали его скуку и стимулировали интеллект.
Я прошел тест на безумие и еще не попадал в категорию правоверных диссидентов, которые были истинными объектами издевательств и унижений, полновесно отмерявшихся им такими, как профессор Гольденберг. Перед ним сидел относительно безвредный экземпляр, стало быть, его можно забыть и вручить мелким сошкам психиатрического сообщества, которые будут лечить его с той степенью эффективности или неэффективности, которыми располагает местная система психиатрических репрессий.
Вначале я чувствовал себя неуютно в моей новой роли. Но вскоре почти наслаждался моей авантюрой. Меня показывали студентам и приезжим специалистам как интересный случай. Я представлял им свои реальные философские и политические взгляды, только в преувеличенно искаженном виде, чтобы казаться сумасшедшим. И вдохновенно продолжал проповедовать идею, что Россия получила бы огромное преимущество, односторонне разоружившись и сдавшись Америке.
Как правило, эта теория неизбежно вызывала снисходительные улыбки врачей и студентов.
В течение нескольких недель, проведенных в больнице, я узнал больше о психических болезнях, чем мог бы изучить, поступив в мединститут. В нашей палате был молодой пациент, страдавший своеобразной формой шизофрении. Во время ремиссий он, бывало, допускал меня в свой мир, который, хотя и отличался от нашей нормальной реальности, был вполне законченным и имел свою внутреннюю логику. Эту реальность нельзя было назвать приятной. На самом деле это была очень пугающая реальность для меня, лишь игравшего роль больного.
Я узнал, что многие из тех, кто содержался в больнице, в действительности не были больными — в том смысле, что не являлись воющими идиотами. В основном здесь находились беглецы от нашей цивилизации, нашей хрупкой реальности, поддерживаемой далеким от чистосердечности социальным консенсусом.
Они говорили на странных языках, каждый со своей собственной грамматикой, которую мы не могли или не хотели понимать. Они пытались сказать нам о своих собственных поисках, о своих попытках, столь же трогательных, как и трагичных, вписаться в принятую версию реальности с проблесками другой, личной, магической реальности, созданной ими самими. Они были кафковские поденщики, пренебрегшие предупреждением охраны и вошедшие в запретную дверь. Они вернулись из своего путешествия со странными и завораживающими историями, которые мало кто хотел слушать, и в наименьшей мере их доктора.
Среди них также находились люди, подобные мне, беглецы в ином смысле. Они являлись социальными неудачниками и бунтарями, у которых имелась столь отличающаяся версия осознания реальности, что они вынуждены были находить временное убежище под маской безумия. Психбольницы становились местом отдыха, хотя и далеким от комфорта, но и утешительно далеким от суровости, требований и преследований их со стороны стопроцентно нормальных людей. Это было что-то вроде чистилища, где люди либо вообще уклонялись от нормальной реальности, либо приспосабливались, хотя и несовершенно, к ее требованиям.
Днем, когда доктора и сестры появлялись в большом количестве, больница часто напоминала настоящий бедлам. Две реальности вступали в конфликт, сошедшись в неравной битве. Разносились крики больных, которых били или подвергали болезненным инъекциям. Давление медперсонала, скрытое или открытое, провоцировало больных на чрезвычайно причудливое поведение.
Для того, чтобы предотвратить разрушение собственной реальности у докторов, реальность пациентов должна быть втиснута в безопасные рамки, предусмотренные медицинскими руководствами. Поскольку доктора и сестры контролировали поведение больных убеждением, насилием и лекарствами, эта попытка оказывалась, по крайней мере, частично успешной. Лишь в- редких случаях доктор или сестра дезертировали в стан противника. Ночью, когда доктора уходили домой, а сестры и медбратья впадали в дремоту, вся атмосфера менялась. Палата выглядела наподобие поля после битвы, где раненые вздыхают, стонут и подбадривают друг друга, а все еще ходячие оценивают потери, оказывают поддержку, перевязывают раны.
Жизнь при этом возвращалась к некоему подобию нормальности. Эксцентричные симптомы и проявления почти полностью исчезали, и больные становились просто нормальными человеческими существами, каждый со своими свойственными ему или ей потребностями и надеждами. Когда дежурная сестра или медбрат были особенно дружелюбными, случались полностью непозволительные вещи. Откуда ни возьмись появлялась скрипка, и вчерашние лунатики сидели тихо и сосредоточенно, слушая задумчивые звуки Сен-Санса или Бетховена.
Позже я узнал, что на Западе есть места, где люди удовлетворяют свои побуждения, не входящие в обычные рамки, в так называемых группах тренинга, которые по российским стандартам могли бы быть названы группами экспериментального безумия. У них есть разные наименования: динамическая медитация, биоэнергетика, «первичная терапия» по Джанову, гештальт, группы «энкаунтер» и т. д. Однако основа здесь одна и та же. Людям предоставляется безопасная отдушина в социально приемлемых рамках, чтобы развеять их сдерживаемые стрессы и страхи и узнать их причину.
На Западе виды помешательства, вроде моего, могут процветать в университетах и даже среди политиков. Конечно, и на Западе психлечебницы — места конфликта, сражения между двумя различными реальностями. Но эта конфронтация является в целом более безопасной, менее грубой. Есть даже доктора, которые добровольно учатся говорить на языке пациентов и рассматривают себя больше как посредников, облегчающих путь к изменениям, чем в качестве авторитарных фигур.
В больнице я сильно похудел. Кормили нас ужасно, порою из грязной посуды, используя плохо промытые овощи. Я избегал принимать любые лекарства, выплевывая их в туалете. Уклонялся от шоковой терапии инсулином, и тем самым едва не подверг опасности всю мою затею. Быстрые изменения моего психического состояния, кажется, возбудили подозрения персонала. Повезло, что у меня был довольно интеллигентный доктор, майор Пашуто (который, тем не менее, отправил бы меня в тюрьму или в спецбольницу, осекись я где-то в своей нелегкой роли).
Наконец, я «выздоровел» достаточно, чтобы меня выписали и перевели в гражданскую больницу Томска. Там, как сообщил мне злорадно один не любивший меня медбрат, меня-таки подвергнут шоковой инсулинотерапии. Я по-настоящему забеспокоился. Не слишком ли далеко зашел мой гамбит Гамлета[8]? Были ли высказанные мною взгляды такими, что за них могут приговорить к пожизненному заключению в психлечебнице? Не привел ли мой бунтарский энтузиазм, ощущение игры, увлечение деталями симулирования, к реальной опасности помешательства при интенсивном лечении и, в конечном счете, — к опасности для жизни?
Я смотрел в бесстрастное лицо кафковского Инспектора. Казалось, выхода не было. Томская лечебница, в которую меня перевели, охранялась очень строго. На дворе была лютая сибирская зима, и я мог бы замерзнуть насмерть, даже если бы удалось бежать. Как, куда я бы пошел в предательской больничной пижаме? Лечебница находилась в нескольких километрах от города.
Мне помогла случайность, близкая к чуду. Один мой знакомый из мединститута проходил здесь практику. Он сначала не узнал меня — я потерял много веса. Но как только узнал, сразу включился в мое дело. Он пообещал прочитать мое досье у врача и сообщить мне, что для меня готовят.
Новости были неутешительны. Мне грозил усиленный режим психотропного лечения в сочетании инсулинокоматозной, а если не поможет, то и электроконвульсивной терапией. Надо было что-то срочно предпринимать!
После обеда студент-практик подошел ко мне в коридоре и шепнул на ухо, что единственный, пожалуй, путь побега из больницы — через кухню.
Все двери в отделении закрывались специальным ключом, и вырваться через них было практически невозможно. Кухня оставалась единственным местом, в котором, в определенный час, дверь из коридора была на минуту-другую открытой, чтобы пропустить больных, помогавших вынести чаны с едой в столовую.
Весь следующий день я старался наблюдать за движением по коридору возле кухни. Постепенно утвердились детали плана, хотя и чрезвычайно рискованного, но единственно возможного в моем положении. Я выдал себя за надежного больного, одевшись в зимнюю одежду, так как после выноса чанов еще предстояла работа снаружи. На руку было то, что санитар в эту смену был новый и не всех больных знал в лицо. Я разговаривал с ним с полминуты и даже пошутил насчет погоды. Пока он осматривал меня, дверь открылась. Я увидел кухню и, так как в это время туда кто-то вошел с улицы, заметил, что вторая дверь из кухни ведет прямо наружу. Парой гигантских прыжков я перемахнул через весь пищеблок, видя, как от меня с ужасом отскакивают повара и кухарки. Сзади раздался вопль санитара: «Держи его!» Но никто не осмелился встать на моем пути: видимо, наученные горьким опытом рабочие не хотели рисковать, вступив в схватку с сумасшедшим.
Резкий холод, такой непривычный после спёртого воздуха в отделении, обжег легкие. Я заранее продумал, что сначала бежать надо не по дороге в город — тут меня наверняка застукают санитары, пустившиеся в погоню на машине, — а по запутанным лесным тропинкам, которые вели в сторону железной дороги.
Добравшись до железнодорожного полотна, я пошел по нему по направлению к городу. К счастью, идти по шпалам надо было всего несколько километров. По обеим сторонам стоял густой лес. Я мог спрятаться в нем, увидев поезд или погоню.
До станции Томск-2, дошел, когда уже близились сумерки. Я все думал, как добраться до места, куда направлялся — на первое время я решил укрыться в квартире своего тренера Генриха Булакина и его жены Софьи. Что-то подсказывало мне, что они меня не выдадут. Кроме того, другого места поблизости не было. Наверняка, искать беглеца прежде всего начали бы в квартире брата. Идти по городу в ободранной одежде, из-под которой выглядывала пижама дурдома, было рискованно.
Мне повезло. На подходе к станции я увидел вагоны, стоящие на запасном пути. Из них доносились говор и песни. Очевидно, приезжие крестьяне привезли в них на рынок товар. Возле одного из вагонов притулилась захудалая лошадка, которую не успели еще распрячь из саней, и жевала брошенное перед ней сено. Я тихонько отвязал ее, сел в сани, прикрыл свою одежду лежавшей в них рогожкой и медленно поехал.
Оказавшись на дороге, начал погонять лошадь сильнее и въехал в город, не вызвав никаких подозрений. Случайные собаки лениво облаивали меня и мою клячу, немного прибавляя нам ходу. Софа встретила меня на пороге. Булакины были потрясены моим изможденным видом и больничной одеждой, но приняли под свою крышу, когда я рассказал им о своих мытарствах.
Следующие несколько недель я провел поправляя, как мог, свое здоровье. Помогали друзья. Но были и такие, кто полагал, что мой случай требует пристального внимания властей. Среди них — моя бывшая тренерша, муж которой работал в КГБ. Она очень переживала, когда я в свое время ушел от нее к другому тренеру, и открыто говорила по всему городу, что я насмехаюсь над советскими законами, что никакой я не больной и меня надо переосвидетельствовать и упрятать либо в дурдом, либо в тюрьму.
Я находился в состоянии неопределенности, положение было в лучшем случае полулегальным. К счастью, администрация психлечебницы, несшая ответственность за меня как беглеца, была заинтересована уладить ситуацию. Слава богу, стояли хрущевские времена и сетка, которую потом поставил против диссидентов Брежнев, имела еще сравнительно крупные ячейки, особенно у нас, в Сибири. Моего брата уговорили подписать поручительство, сняв тем самым всякую ответственность с лечебницы. Стало очевидным, что теперь, после освобождения и выписки, психиатрическая машина поставила меня на простой поток, не делая особого акцента на содержании бредовых фантазий своего пациента. Главврач, передавший меня под ответственность брату, после того как попытки разыскать меня оказались безуспешными, сказал прямо: «Ваш брат или сумасшедший, или симулянт. Так или иначе, мы с ним еще увидимся. Но пока он — на вашей ответственности».
Решение поручиться за меня, вероятно, нелегко далось моему брату. Натвори я еще чего-нибудь, мог пострадать и он сам. Но если Володя и сомневался в чем-то, он не подавал виду. Теперь я мог получить свои гражданские документы и найти работу. Вскоре, я устроился физруком в санатории за городом, благо, у меня остались характеристики с прежних работ. Однако пребывание в Томске становилось попросту опасным, повсюду были рассеяны следы моей тайной авантюры, заставлявшие задуматься о будущем самым серьезным образом. Я не смог бы поступить ни в один университет, ни на какую работу, требующую самой минимальной проверки. Малейшая засветка выдала бы с головой. Как пообещал брату главврач Томской психбольницы, он меня вскоре увидел бы опять. А если не он, то, может быть, даже профессор Гольденберг. И на этот раз не удалось бы так просто открутиться. Но на тот момент я был свободен, с документами, мог уехать, и этого было уже достаточно. Свежевыданный паспорт давал возможность поселиться в любом месте страны — возможность, предоставляемую большинству простых советских граждан один раз в жизни.
ПОБЕГ
Весной 1962 года я отправился в город Батуми на Черном море, вблизи турецкой границы, чтобы сбежать из страны, где родился. Ехал из Новосибирска, через пол-России, почти четыре тысячи километров, зайцем, так как не на что было купить билет. Когда я вышел из поезда на вокзале Батуми, в кармане лежали паспорт и военный билет с отметкой о том, что я недавно демобилизован из Советской Армии. Причина демобилизации была указана специальным шифром, который означал: «шизофрения, с посттравматической гипертонией».
Как демобилизованному военнослужащему мне разрешалось, по крайней мере, теоретически, поселиться в любом месте Советского Союза — единственная льгота за годы жестокого обращения и лишений, от которых страдали многие военнослужащие. Призванные из сельской местности люди могли поселиться в городах, если хотели и отваживались. Для многих это открывало возможность избавления от оков безотрадной сельской жизни.
Однако Батуми был не простым советским городом. Оазис курортов и санаториев, экзотических растений, теплого зимнего солнца, прекрасных пляжей и беззаботной жизни, расположенный на морском побережье, он был местом, где простые русские люди из Сибири, Новгорода или Смоленска могли насладиться ежегодным двухнедельным отпуском, устремляясь с необъятных просторов империи в субтропики, населенные в то время вполне дружелюбным народом.
Вскоре я обнаружил, что существуют, по крайней мере, три мира, в которых человек мог существовать в беззаботном Батуми. Для тех, кто приехал погреться на солнышке, обычно по профсоюзным путевкам, — мир туристов или отдыхающих. Затем — город местных жителей, которые чаще всего работали в индустрии туризма и ее инфраструктуре. И, наконец, город бюрократов, управлявших жизнью простых граждан в манере турецких пашей. За этими явными мирами был также четвертый мир — тайный город КГБ, спекулянтов, преступников и беглецов вроде меня, которые невидимо и осторожно двигались среди праздничных толп, остерегаясь скрытых ловушек и опасностей, которых никто другой не замечал и не хотел замечать.
Первой задачей стало найти место, где бы я мог остановиться. Для тех, кто населял город теней, скрывающийся за комфортным и предсказуемым миром отдыхающих и местных, Батуми был столь же гостеприимен, как Полярный круг.
Конечно, я мог притвориться «дикарем», приехавшим сюда по своей инициативе. Тогда предстояло платить заоблачную цену за койку, сдаваемую местными, а также в течение трех дней зарегистрироваться в милиции. Этого требовал закон, и на этом настаивали хозяин или хозяйка, которым грозили крупные неприятности за нарушение правил. Такой путь был не для меня, поскольку я почти не имел денег, а мои документы могли немедленно насторожить милицию. Особенно это касалось увольнительных документов, по которым мне могли задать «неудобные» вопросы.
Естественно, имея кучу денег и местные связи, вы можете купить желаемую прописку (почти единственный путь для чужаков, если они не являлись официальными лицами, прибывшими в Батуми по службе с разрешения КГБ и властей и получавшими прописку автоматически). Взятки были значительными, по слухам, сотни тысяч рублей — суммы, фантастические для рядовых советских граждан.
Милиционеры в форме или в штатском, КГБ и пограничники регулярно проверяли пляжи и вокзал. К счастью, мать моего томского друга, студента железнодорожного техникума, жила в Батуми — одна из тех улыбок фортуны, которая позволила мне осуществить идею приезда сюда. Этот прибрежный курорт, удобно расположенный вблизи турецкой границы, должен был послужить стартовой площадкой для путешествия, которое я планировал.
Выходя из поезда, я нес в руке потрепанный фанерный чемодан кирпичного цвета — все, что сопровождало меня в путешествии из Сибири. Внутри лежали: поношенный зеленый тренировочный костюм с пузырями на коленях, повседневный костюм, купленный в рассрочку, также из зеленого материала, но более светлого оттенка, пара рубашек и несколько трусов и носков, нуждающихся в стирке. Все мое имущество. Между этими скудными пожитками была засунута пачка рукописей: стихи, эссе по философии Гегеля и несколько частей из автобиографии, озаглавленной «Человек в поисках свободы». Этот допотопный чемодан, собранный в спешке, сопровождал меня в путешествии, которое, как я надеялся, будет последним в пределах отечества.
Солдатская форма без знаков различия служила пропуском через препоны долгого путешествия из Сибири к Черному морю. Форма позволяла пользоваться специфической щедростью, которую демобилизованный солдат получал от билетных контролеров и других неприятных официальных лиц, способных сделать вашу жизнь очень некомфортной. Но все они держались в рамках негласной конвенции, допускавшей определенную степень терпимости к солдату, который ухитрился пережить превратности военной службы. До тех пор, пока он не возвратится к роли обычного советского гражданина, подчиненного бесчисленным законам и ограничениям. Я мог быть высаженным из поезда или даже арестованным, если бы не форма и объяснения, что еду на юг к родственникам.
Выйдя из поезда, я ощутил запахи субтропического города, с его цветущими рододендронами, слегка подгорелыми шашлыками, дымящимися в маленьких заведениях вдоль дороги, и слабым дуновением морского бриза, который казался странно знакомым — как будто напоминал какую-то прошлую жизнь.
Чемодан терзал острыми фанерными краями ногу, но я не чувствовал дискомфорта. Я шел прямо к пляжу, влекомый толпой купальщиков и запахом моря. Это был галечный пляж, усеянный округлившимися телами отдыхающих представителей рабочего класса в плохо скроенных или импровизированных купальных костюмах. Указатель приглашал воспользоваться кабинками для переодевания.
Я не мог ждать. Вошел в море прямо в форме и почувствовал, как теплая вода закружилась вокруг тела, обнимая его, надувая одежду воздухом. Ветерок с моря ласкал лицо. Подошла женщина и в типично советской манере, со смесью участия и «извините, что вмешиваюсь в ваше дело», напомнила, чтобы я присматривал за своим чемоданом. Я прошел к раздевалке, снял форму и облачился в гражданский костюм.
Получасом позже я уже стучался в дверь дома на улице Приморская. Женщина лет сорока открыла дверь, испытующе глядя на меня. Вид моего чемодана, казалось, ее несколько обеспокоил. «Мы не сдаем», — быстро сказала она. Я представился и передал привет от ее сына. Лицо ее посветлело. «Входите, пожалуйста», — произнесла она, приглашая войти в свою маленькую квартиру у нижнего края лестницы, — «и зовите меня просто Мария». Представляясь, я называл ее по имени-отчеству.
Когда мы входили в ее крошечное жилье на первом этаже, парочка грузинских детей наблюдала за нами с нескрываемым любопытством. Я объяснил Марии, что приехал в Батуми в отпуск после срочной службы в армии. Сказал, что попытаюсь найти здесь работу и сделать прописку. Не могу ли я остановиться у нее на пару недель? Она ответила, что мои шансы найти работу и оформить прописку практически равны нулю. Грузины не хотят, чтобы русские приезжали и селились здесь. К тому же, поскольку город пограничный, есть масса ограничений. Она произнесла это без всякой задней мысли, ничего не подозревая. Конечно, я могу пожить у нее какое-то время, отдохнуть и рассказать больше о ее сыне.
Следующую пару недель я провел, бродя вдоль прибрежных санаториев в поисках работы в качестве инструктора по физкультуре — то, что я делал в прошлом, и что могло бы предоставить мне временную «крышу», необходимую для подготовки к побегу.
Во время поисков, разъезжая на автобусах, я влюбился в побережье. Было много санаториев и домов отдыха вдоль чудесного берега моря к северу от Батуми. Наиболее красивые и желанные места принадлежали избранным — партийным и военным начальникам и КГБ. Я бывал в Сибири в подобных заведениях. Но здесь, на берегу Черного моря, они выглядели даже более величественно и обособленно.
Обычно меня встречал предупредительный администратор, смотрел на спортивные мандаты и затем с вежливыми извинениями посылал куда подальше. Я не был грузином, и не был прислан к нему каким-нибудь чиновником из Батуми или Тбилиси. Я был, при всех своих наилучших намерениях, персоной нон грата. Малейшее подозрение и обо мне могли сообщить в милицию.
Вечерами возвращался домой к Марии и отдыхал. Однако через какое-то время стал ощущать беспокойство и тревогу. Как-то к Марии зашла соседка. Услышав за дверью комнаты шум, который я произвел, она спросила: «Это кошка?» «Нет, — ответила Мария, смутившись, — у меня гость из Сибири, друг моего сына. Он остановился у меня на несколько дней». Я понимал, что ситуация очень скоро станет неблагоприятной. Марии могла грозить опасность. Ведь, как я узнал во время странствий по городу, чтобы получить прописку, надо иметь работу. А чтобы получить работу, надо иметь прописку. Этот заколдованный круг, действовавший во всех закрытых городах страны, включая Москву, был сработан на совесть и прочно.
Чтобы выйти из тупика, следовало сделать то, о чем я как-то забыл под наплывом впечатлений от нового города. А именно: надлежащим образом использовать мой главный козырь — квалификационный билет пловца.
Однажды в уютном кафе я взял шашлык и, хотя редко пил спиртное, пиво местного производства. Шашлык показался мне вкуснее, чем все, что я пробовал в других местах России. Пиво тоже отличалось необыкновенным вкусом. Но цена, которую пришлось заплатить, почти разорила меня.
Нужно было что-то делать и делать быстро. У меня оставалось совсем немного денег из тех, с которыми я уехал из Сибири, продав пальто, подаренное тренером по плаванию после моего побега из психлечебницы.
Подкрепившийся и приободренный едой, но гонимый страхом, что же буду делать, когда деньги кончатся, я пошел прямо в республиканский спорткомитет. Я и раньше знал, а теперь еще раз убедился в том, что ты — никто, пока у тебя нет подходящей двери, в которую нужно постучаться, и рекомендаций, дающих право на вход в эту дверь.
Чиновник в приемной спорткомитета просмотрел мой квалификационный билет и, посовещавшись с кем-то по телефону, пригласил в кабинет. «Тебе повезло, парень, — сказал он, — нам нужны пловцы на спине для предстоящего всесоюзного чемпионата в Москве. Твои результаты впечатляют. Я только что говорил с тренером, и она хочет, чтобы ты пришел к ней в бассейн».
Тренером оказалась молодая грузинка лет двадцати пяти. Она представилась: «Тейя». Вела себя дружелюбно, но тут же попросила прыгнуть в бассейн и «продемонстрировать свой стиль». Я почти год не тренировался (не считая короткого периода после побега из лечебницы) и честно признался Тейе, что не в форме, но могу быстро ее набрать за несколько недель и показать результат, близкий к моему наилучшему. Потом прыгнул в бассейн и сделал несколько кругов, в то время как Тейя хронометрировала и наблюдала. Время оказалось хуже моего высшего результата, но все же явно лучшим, чем результаты местных пловцов. Тейя была довольна. Она велела мне прийти на следующий день в спорткомитет и принести все мои бумаги. Они попытаются добыть мне прописку!
Чего я не знал в то время, так это то, что отец Тейи был военным высокого ранга в Грузии. Отныне мою дорогу облегчали не только спортивные заслуги, но и то, что я имел дело с кем-то, кто имел связи, блат.
Я пришел в спорткомитет с бумагами. Чиновник, который уже переговорил с Тейей, встретил меня с улыбкой: «Я слышал, ты хороший пловец на спине. Нам такие нужны. Но надо сначала найти тебе работу». С этими словами он взял мои документы, включая диплом об окончании техникума, и вышел, чтобы сделать несколько звонков. Вернулся примерно через час с довольным видом.
«Ты будешь работать инженером на местном заводе, который делает…», — он сверился с бумагами, — «… сельхозмашины». Затем взял другую бумагу и прочел, опять не скрывая довольства собой: «Будешь получать 126 рублей в месяц. Тебе дадут место в заводском общежитии. Можешь идти сегодня на завод и устраиваться. Спросишь главного инженера. Я с ним переговорю». И крепко пожал руку: «С тобой все в порядке». Тейя, нетерпеливо ожидавшая меня в приемной, коротко переговорила с чиновником и сказала: «Можешь начинать тренировки в понедельник».
За день до этого я был безработным, без прописки в пограничном городе. А уже на следующий день у меня имелись прилично оплачиваемая работа, место в общежитии и место в команде пловцов - прекрасная «крыша», о которой можно только мечтать. Я с благодарностью думал о бесконечных часах тренировок в заполненных паром, плохо проветриваемых и в избытке хлорированных бассейнах Сибири.
Отправившись на завод, расположенный на городской окраине, без проблем прошел через проходную, показав бумажку, которую дали в спорткомитете. Мой новый руководитель, главный инженер и начальник производства, оказался русским. Этот костистый пожилой человек, по имени Иван Петрович, с несколько затравленным выражением лица, был вынужден молиться одновременно двум богам — производственному плану и указаниям партии.
Ивану Петровичу вовсе не улыбалась перспектива иметь в нагрузку работника-спортсмена, которого, вероятнее всего, не будет видно на заводе добрую половину года. Но у него не оставалось выбора; он должен был подчиниться указанию спорткомитета, которое пришло к нему через партком. Спорт являлся приоритетным видом деятельности, так как отражал волю государства представить СССР на международном уровне как в высшей степени жизнеспособное общество. Цифры спортивных достижений на региональных и республиканских соревнованиях постоянно использовались в государственных пропагандистских материалах. Советский «непрофессиональный» спорт превратился в гигантскую машину, порождавшую олимпийских и мировых чемпионов, победы которых позволяли руководству страны купаться в отраженном свете их славы. Как русский, в этом южном городе я имел только один шанс на выживание — показав лучшее время заплыва на спине на 100 и 200 метров.
Иван Петрович отвел меня в цех, чтобы познакомить с обязанностями. По идее он должен был найти мне такую должность, которая допускала бы частые отлучки, что немаловажно для работающего спортсмена. Так я стал тем, кого называли «толкач», иными словами человеком, который пытается устранить узкие места в поставках и в процессе производства, лично контактируя с теми, чья некомпетентность эти узкие места и создала. Иногда меня откомандировывали на другие заводы и базы снабжения, чтобы добыть недостающие материалы и детали. Если делать все, как следует, то эта деятельность требовала способностей детектива и знания многих технических аспектов производства в сочетании с хваткой бульдога и коммуникабельностью дипломата.
Уже через несколько дней мне по-настоящему понравилась моя работа. Она давала личную свободу и доступ к руководству завода, которое делало мне поблажки для достижения производственных целей. Часто приходилось принимать мгновенные решения о приемлемых допусках, не угрожающих конечному продукту, о непредусмотренных конструкторами изменениях в оборудовании, склонять рабочих и мастеров к принятию нестандартных, а то и полулегальных мер.
Понятно, что основная личная задача, которая передо мной стояла, — использовать свободное время для тренировок к предстоящим соревнованиям, тайно готовясь к побегу. Это было отличное прикрытие! Под этим прикрытием можно было изучить и возможности пересечения границы по суше и по воде. Я решил планировать заплыв. А тем временем вести нормальную жизнь, насколько это возможно.
Тренировки начались в следующий же понедельник.
Мне нравилось плавать в теплом бассейне с умеренно хлорированной водой. С приближением лета мы все чаще делали заплывы в открытом море, что было даже более приятно. Меня готовили к соревнованиям в плавании на спине на 100 и 200 метров, в действительности же я тренировался в плавании на выносливость. Это привело к некоему конфликту с тренером, когда она заметила, что я начал плавать на длинные дистанции со свинцовыми браслетами на руках и ногах. Пришлось объяснить Тейе, что из-за недостатка времени пытаюсь совместить общую подготовку с подготовкой к спринту в единой программе. А чтобы окончательно успокоить ее, применил тренинг по интервальному плаванию, который был тогда в моде у пловцов (быстрые заплывы на 25 или 50 метров с короткими периодами отдыха между ними). Я говорил Тейе, что о комбинации тренинга интервалами с тренировками на выносливость и укрепление силы якобы опубликована статья в американском спортивном журнале, где сообщается, что это ведет к улучшению результатов в скорости.
Я прекратил пользоваться гостеприимством Марии, хотя все еще время от времени заходил к ней. Однажды в один такой приход она пыталась предсказать мне судьбу на кофейной гуще и сказала, что у меня два пути: один ведет назад и теряется в темноте, а второй означает путь в «незнакомые земли». Я пристально смотрел на Марию, когда она занималась предсказанием. Пыталась ли эта добрая женщина сказать, что угадала истинную цель моего приезда в Батуми?
Нелегальное пересечение границы было преступлением, которое, если повезет, наказывалось многими годами тюрьмы, а иногда и расстрелом. Оно имело ранг высшего предательства. Государственная пропаганда рисовала картину неприступности границ, охраняемых отважными пограничниками, у которых все по последнему слову техники, чуткие служебные собаки, мощные прожектора, сетки, мины, вертолеты. Каждый, кто попытается пересечь границу — это или лунатик, или предатель, или, что наиболее вероятно, иностранный шпион. Жители побережья и особенно всевидящие и неусыпно бодрствующие юные пионеры были начеку, готовые поймать каждого, кто выглядел или вел себя подозрительно. Любого, кого обнаруживали вблизи границы без убедительной причины пребывания там, немедленно задерживали и передавали в руки властей. Сообщивший о нарушителе получал благодарность и другие, более весомые награды, вроде денежной премии или продвижения по службе.
На охрану границ тратились астрономические суммы. Контингент пограничников численностью около четверти миллиона был размещен по всей длине границы СССР на суше и на море. Батуми охранялся особенно тщательно — ведь отсюда рукой подать до Турции, потенциально враждебной страны и союзника США. Мягкий в течение почти всего года климат делал попытку побега по суше или по морю чрезвычайно привлекательной. В действительности же бросить вызов этой системе физических и психологических угроз (включая многочисленные пропагандистские фильмы и книги, с которыми вырастал каждый советский человек) не было простой задачей. Над всем этим я постоянно размышлял, уделяя практически все свое время тренировкам, а в перерывах между спортивными сборами и соревнованиями работая на заводе.
Мне нравилось бродить по заводу, слушая анекдоты, некоторые из них носили явно антисоветский характер. Как все, я иногда пересказывал их другим. Типичный анекдот, ходивший тогда, такой. При встрече Никсона и Хрущева они поспорили, чья страна лучше. Никсон сказал, что Америка, потому что русские много пьют. Хрущев ответил, что американцы тоже пьют много. Они договорились: когда Хрущев приедет в Вашингтон, он может застрелить любого, кого увидит пьяным. То же самое может сделать и Никсон в Москве. Однажды ночью Никсон оказался в Москве и застрелил десятки пьяных на улицах. Хрущев, движимый чувством ревности, также вышел ночью на улицы Вашингтона, увидел беспорядочную толпу пьяных людей и застрелил их всех. На следующий день газета «Вашингтон Пост» вышла с заголовком: «Вооруженный лысый гангстер расстрелял весь состав советского посольства в Вашингтоне».
В 1962 году газеты были полны статей о побеге некоего Голуба, советского химика, который попросил политического убежища в Бельгии. Обычно такие истории у нас не афишировались. Но в относительно либеральное время правления Хрущева отдел дезинформации в КГБ, должно быть, чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы выпустить эту информацию в свет и использовать ее для дальнейшего внедрения в сознание советских людей идеи о порочном Западе и безнадежности попыток разрыва граждан с СССР. Я жадно следил за этой историей, покупая каждый день «Правду» и «Известия» в киоске, расположенном прямо у входа на завод. Однажды, пропустив пару дней, я перебирал газеты в поисках желанной статьи. Продавщица, женщина средних лет, посмотрела как-то странно на меня и сказала: «Вот газета, которую вы ищете». Она вручила мне экземпляр «Правды» с продолжением истории Голуба.
Конечно, она могла заметить, что я и раньше выбирал газеты с этой историей. Ведь многие люди интересовались ею тогда. И все же поведение женщины обеспокоило меня. Не наблюдают ли за мной? Не является ли она информатором КГБ?
Вскоре произошел другой инцидент. Мои тренировки по гимнастике проходили в городском спортклубе. Там же занимался спортом и турецкий консул, он часто пользовался боксерской грушей и иногда я начинал работать с ней сразу после того, как заканчивал он. Однажды мы перекинулись несколькими словами — консул немного знал по-русски. Естественно, как и большинство молодых русских, меня тянуло ко всему иностранному.
Как-то, на набережной — самом популярном месте вечерних прогулок в Батуми (ее, как и многие главные улицы в советских городах, в народе называли «Бродвей»), я увидел консула. Он поприветствовал меня. Все это заняло секунду.
Вскоре после этого меня вызвали в городской отдел КГБ в Батуми. В голове лихорадочно проносились мысли: какой опрометчивый шаг я мог совершить? Вспомнил, как однажды мимоходом спросил прохожего, где находится турецкое консульство. А продавщица в киоске и история Голуба?
Принял меня майор Эмниешвили из Батумского управления КГБ. Вначале он спросил, как мне нравится город. Услышав утвердительный ответ, снисходительно произнес: «Да, большинству русских здесь нравится». После еще нескольких вежливых вопросов мы как-то перешли к моим любимым писателям. Я назвал Флобера, Золя, Толстого, Камю, стараясь выбирать авторов не слишком рискованных и в тоже время показать свою эрудицию. «А как насчет Горького?» — въедливо поинтересовался майор. Я парировал: «Мне больше всего нравятся его автобиографические книги; в них человек, возвышается над обстоятельствами, странствуя и набираясь опыта, имеет мужество противостоять неведомому».
«Ты неглупый парень, — благосклонно посмотрел на меня майор, но его улыбка была фальшивой, — ты мне нравишься, но мне тебя жаль… Он на мгновение погрузился в свои мысли. — А не Горький ли сказал, что людей следует не жалеть, а уважать?». Мне разговор совсем не понравился.
Майор Эмниешвили демонстрировал себя как обходительный, образованный человек, представитель нового поколения офицеров КГБ, пытающийся сочетать в себе заносчивость политического набоба с либерализмом интеллектуала. Служа хранителем закона, он сам был как бы выше закона, так и морали, какими их понимали простые смертные вроде меня.
Майор задал мне еще несколько вопросов. «Какими иностранными языками ты владеешь?» — «Немного немецким, да и то не очень». «Понимаешь ли ты турецкий?» — «Нет». «Ты когда-либо работал на военных заводах или предприятиях?» — «Нет».
Насколько хорошо он знал мою историю? Как тщательно они уже проверили ее? Знали ли, почему и как я демобилизовался? И какова истинная причина вызова? Было ли это просто стандартной проверкой, которую они проводят со всеми, кто прибывает в пограничный город?
Раннее семейное фото. На переднем плане бабушка Василиса, дед Василий, мать Марина с братом Володей справа, во втором ряду — две сестры матери и брат Михаил
Мать и отец
Мне 3 года
Я ушел из дома в 14 лет и поступил в техникум в Томске
Привычный пейзаж на улице Красноармейской
И сегодня здесь мало что изменилось
Моя мама, Марина Васильевна, за работой
Я в возрасте 5 лет
Мой отец Патрушев Егор Григорьевич
Список погибших, в котором числилось имя отца
Во время учебы в Томске
«Свидетельство о болезни». Страница 1
Карта Черного моря. (Взята из старого атласа СССР, авторские права не известны)
«Свидетельство о болезни». Страница 2
Карта Черного моря. (Взята из старого атласа СССР, авторские права не известны)
Перед заплывом из Батуми я купил себе компас и ласты. Снимок сделан одним из членов команды пловцов в Батуми, ничего не подозревавшем о моих планах
«Четыре мушкетера» в лагере для перемещенных лиц в Стамбуле: Драгне, я, Владимир и Тодор
В лагере для перемещенных лиц в Левенте (пригород Стамбула), где я старался восстановить спортивную форму, потерянную в турецком заключении
Дни иммиграции в Стамбуле. Энн (коллега Иды), Владимир, Ида и я
Фамилия автора в розыскных списках КГБ, напечатанных в «Посеве»
Лодка доставляла желающих нырять за крестом в залив Золотой Рог
Махариши Махеш Йоги, научивший меня медитации в 1966 г
С дочерью Риммой в Мельбурне, Австралия, 1967 г.
На любительских соревнованиях по лыжному слалому в Австрии
На «Свободе» автор вел спортивные программы во время двух Олимпиад — летней в Мюнхене и зимней, в Саппоро
Удостоверение корреспондента «Свободы»
На Кипре после окончания мюнхенской олимпиады
На ферме в Новой Зеландии. Шутя, я называю эту ферму своей «Ясной поляной»
В 80-е годы местом обитания автора стал Сан-Франциско
С продюсером радио Эй-би-си в Австралии Джули Коуплэнд
В 1983 г. исполнилась моя давнишняя мечта — посещение Каннов
ЗА КОРДОН
Этот вызов усилил мое беспокойство. Я проклинал себя за неосмотрительность, включая анекдоты. Какой растяпа! Не растопило ли теплое солнце Черного моря мои сибирские мозги? В наилучшем случае беседа в КГБ была тем, через что должен пройти каждый вновь прибывший. В наихудшем — это первый из серии допросов, во время которых КГБ собирается раскопать мою историю.
Я вспомнил, что читал о спецпсихушках. Если меня арестуют, такой судьбы не избежать. Оставался только один шанс вырваться. Последний.
Я продолжал создавать видимость нормальной жизни. Ежедневно плавал, занимался в спортзале и больше не пытался дружить с турецким консулом. Изучал в библиотеке карты. Стал сверхосторожным. К книжным полкам с картами приближался, только проверив, что никто меня не видит, а изучая карты, накрывал их другими книгами. Жадно вслушивался в истории о побегах или о попытках бежать, которые эпизодически всплывали в разговорах с товарищами по работе или с пловцами нашей команды. В них было мало утешительного.
Ни одного успешного побега! Люди, в основном, говорили о тех, кто недавно сбежал в ходе загранпоездок, подобно Голубу или Нурееву. Последние новости о Голубе не радовали: по словам советских газет, терзаемый раскаянием и ностальгией, он, в конце концов, «приполз» обратно в советское посольство в Брюсселе, после того как «иностранные спецслужбы выжали и выбросили его».
Однако история Нуреева все еще интриговала людей. И что их больше всего интересовало, — разбогател ли Нуреев после побега за границу.
Несмотря на всю пропаганду, для многих грузин заграница представлялась землей богатых, с неограниченными возможностями. Это была их мечта.
Вскоре после допроса в КГБ товарищи по команде пригласили меня на пикник в горах, прямо над Батуми. Даже весной там все еще лежал снег. Мы проходили по живописным горным селениям. Я охотно учился грузинским приветствиям и другим обиходным фразам и применял их везде, где только мог, вызывая бурное веселье у грузин, не привыкших к интересу со стороны русских к их трудному языку.
Напряжение от событий последнего года и особенно нескольких последних недель сказалось на мне. Я довольно сильно опьянел от чачи — виноградной водки. Помню, как пытался кататься с горы на одной лыже, упал, почти выбив колено, и вызвал дружеские насмешки грузин, полагавших, что как сибиряк я должен быть превосходным лыжником.
В отличие от дружелюбных отношений в команде и на заводе контакты с местными парнями были далеко не мирными. Однажды я пошел на танцы в одном из санаториев за городом. Не зная местных обычаев и бурного темперамента аборигенов, пригласил привлекательную русскую девушку на танец. Вдруг появился молодой грузин, бесцеремонно оттолкнул меня и начал задавать девушке непристойные вопросы. Я сильно ударил его, тот упал. И тотчас на меня надвинулись по меньшей мере трое молодых грузин, один из которых размахивал самодельным пистолетом. Сообразив, что не только рискую жизнью, но и могу попасть в ближайшее отделение милиции, и тогда планы побега окажутся под угрозой, я постыдно сбежал.
Грузины считали русских девушек-работниц ниже себя, поскольку были довольно зажиточными по сравнению с большинством русских. Дети гор и одеты были более стильно. Чтобы стать на один уровень с местными, я приобрел пару остроносых туфель, привезенных из-за рубежа, возможно, из Турции, и костюм с чрезвычайно зауженными брюками. Такие брюки-дудочки в то время носили молодые стиляги, неизменно провоцируя бурную реакцию ханжей в России, иногда До такой степени, что особо рьяные дружинники могли подойти и распороть их ножницами. Здесь же это, напротив, ценилось.
Наша спортивная команда отправилась на соревнования в Сухуми, столицу Абхазии — живописный город с канатной дорогой, которая вела высоко в горы, чтобы кататься на лыжах. Сухуми славился впечатляющим зоопарком и приматологической станцией. Подобно Батуми, он был цветущим курортным городом. Ничто не предвещало того разрушительного запустения, которому подвергнется это мирное побережье тридцать лет спустя во время войны между Грузией и Абхазией.
На соревнованиях мой результат оказался ниже моего наилучшего времени и даже ниже того, что ожидала Тейя. Сказались, видно, приготовления к марафонскому проплыву, а не к спринту. Тренерша была недовольна.
Я уже начал было забывать предсказание Марии о моей судьбе, когда произошел еще один загадочный случай. Во время прогулки по городскому парку в Сухуми ко мне подошла цыганка и предложила погадать. Она проговорила: «Одна из твоих дорог ведет в казенный дом. Другая дорога — за кордон. Ты станешь богатым и знаменитым, если выберешь вторую».
Этот последний случай поверг меня в состояние лихорадочного ожидания. Все казалось возможным. Возвращаясь в Батуми поздно вечером, я мог наблюдать с теплохода длинную береговую линию, усеянную прожекторами, которые своими лучами хлестали море. Однако прожектора не пугали меня. Я был в состоянии, близком к эйфории, подобным тому, что испытывает спортсмен перед ответственными соревнованиями. Что-то внутри говорило, что успех не только возможен, но неизбежен.
К этому времени я собрал приличное количество информации о границе. Она находилась примерно в 18 километрах, если по прямой, и в добрых 30, если плыть вдоль берега по кривой, с большими отступами от береговой линии, когда это требовалось, чтобы избежать близости прожекторов или сторожевых катеров. Я все еще мало знал о препятствиях, которые могу встретить, если выберу не заплыв, а переход сухопутной границы. Из разговоров и советской пропаганды следовало, что граница неприступна. Запретная зона начиналась в предместьях Батуми. Однажды я попал в нее, гуляя за городом. Почти тотчас же меня остановил патруль. От ареста спасло только то, что я работал на местном заводе. Показав заводской пропуск, сказал, что заблудился по пути к другу, который работает вместе со мной и живет в этом районе. Меня отпустили, предупредив, чтобы больше никогда не выходил за пределы города. Все склонялось к морскому варианту.
В то время я эпизодически переписывался с сестрой Катей, жившей в Новосибирске. Она беспокоилась за меня, хотя не думаю, что подозревала о моих сумасшедших планах. Для родственников все должно было остаться тайной, чтобы никто из них не отвечал за мой побег.
Я купил себе компас и ласты. Отрезок моря, который мне предстояло переплыть, был равен Ла-Маншу, но с мощными пограничными препятствиями, кроме естественных, природных — прожектора, самолеты, катера, подводные лодки… Меня могло унести холодными прибрежными течениями в море, я мог потерять ориентацию…
Тяжелые, грубые ласты советского производства нуждались в шлифовке и подгонке по размеру ноги. Я усовершенствовал их с помощью напильника и шлифовальной бумаги и испытал на море. Ласты работали хорошо, значительно увеличивали скорость, хотя было ясно, что они увеличат и нагрузку на мышцы ног, а это увеличит опасность судорог. В открытом море судороги — настоящий убийца. Единственное средство от них — длинная игла, чтобы уколоть мышцу, послав мощный импульс мозгу. Это должно снять судорогу — по крайней мере, в теории. Я никогда не пробовал такую технику и надеялся, что обойдусь без нее и теперь.
Однажды мы с Тейей пошли на танцы в Дом офицеров. Там я познакомился с Галей, мать которой была знакомой Марии. Галя показалась мне самой красивой девушкой из тех, кого я знал в Батуми: густые черные волосы, яркие карие глаза, с губ не сходит какая-то понимающая улыбка. Милая, живая, при этом хорошо танцевала. А когда узнала, что я интересуюсь литературой и религией, повела в библиотеку и, таинственно улыбаясь, показала Библию, спрятанную за книгами на одной из полок. До этого мне никогда не доводилось открывать Библию, хотя я видел ее в руках деда. Галя сказала, что я могу приходить в библиотеку в любое время. Все, что для этого нужно, — сказать, что я друг Гали, и библиотекарь разрешит мне читать любые книги!
В последний год меня постоянно тянуло к духовной литературе. В университетской библиотеке Томска удалось прикоснуться к Дхаммападе — буддийскому тексту, который произвел на меня глубокое впечатление. Там же прочел книги Толстого, написанные незадолго до его кончины, такие как «Путь жизни», где он рассматривал «основные вопросы». Так, почти ощупью, шли духовные искания.
Галя знала в Доме офицеров многих. Однажды танцуя со мной, она взмахом руки приветствовала каких-то мужчин в штатском.
На следующий день Мария сказала мне, что ей звонила Галина мама — Наташа и просила срочно передать, что хочет встретиться со мной в кинотеатре, где она работает. Наташа, с которой мы были уже знакомы, кажется, одобряла мою дружбу с ее дочерью. Но на встречу я шел все-таки в тревоге. И она оправдалась.
Наташа была взволнована. Она завела меня в почти пустой зал кинотеатра. Мы сели в последнем ряду.
— Что ты такое натворил? — спросила она, — какие глупости ты наделал после приезда в Батуми?
— Что вы имеете в виду?
— Почему тобой интересуется КГБ?
Как выяснилось, во время танцев в Доме офицеров меня заметил некий кагэбэшник. Оказывается, Наташа в прошлом работала на эту службу, но ее выгнали, так как не умела держать язык за зубами. Теперь ее вызвали и спросили, как ее дочь познакомилась со мной. Когда Наташа объяснила, что у нас есть общая знакомая, и что я только недавно встретил Галю, сотрудник КГБ предупредил: «Скажи дочери, пусть оставит этого парня. Знакомство с ним к хорошему не приведет». Наташа была уверена, что я совершил какую-нибудь оплошность — например, рассказал антисоветский анекдот в присутствии стукача. Она уговаривала меня держаться спокойно и не делать глупостей: «Они в КГБ, на самом деле, неплохие ребята. Когда узнают, что ты не сделал ничего серьезного, то просто предупредят тебя и отпустят…».
Я поблагодарил Наташу за совет. Теперь я точно знал, что нахожусь под наблюдением. И предположил, что у меня, видимо, не больше двух недель, чтобы подготовиться к уходу, — пока КГБ проверяет мое прошлое.
Зона отчуждения вокруг меня стала расширяться. Звонить Гале было опасно. Но я все еще встречался с ней. Она ничего не знала, и ее не должны были бы связывать с моим побегом.
Передо мной стояли две важные задачи, которые следовало решить, прежде чем сделать окончательный шаг. Нужно было придумать способ, как с минимальным риском избежать света прожекторов. Другая задача — найти место, где можно войти в море незамеченным.
В один из вечеров, перед закатом солнца я пошел к морю, прихватив с собой купальные принадлежности и ласты. Хотелось проверить возможность ухода от прожекторов в реальной обстановке. Моим полигоном стал один из городских пляжей, о котором было известно, что пограничники проверяют его после заката. Как член местной команды пловцов, я имел на случай задержания разумное объяснение того, почему оказался здесь в воде поздно вечером. Официально плавать после заката не запрещалось, но поздним купальщикам пограничники все же предлагали выйти из воды, или высвечивали их прожектором. Если отдыхающие медлили, их забирал и допрашивал патруль.
Покидая общежитие, я убедился, что за мной никто не следит. Оставил одежду на пляже в неприметном месте и вошел в воду. Немного поплавал, проверяя ласты «в боевых условиях».
Вскоре включился прожектор, в запретной зоне рядом с пляжем. Я издали видел один из таких прожекторов — около полутора метров в диаметре, на платформе, где стояли пограничники. Луч мог иметь радиус действия в море длиной три — четыре километра. Позже мне сказали, что наблюдательные вышки пограничников, кроме того, оснащены мощными биноклями»
Пока я плавал, прожектор включился. В луче яркого света, который скользил вдоль берега, был виден патруль, движущийся в сторону пляжа. Как только свет достиг меня, я нырнул. Сердце колотилось — что если меня заметили? Я был под надзором КГБ, и любое задержание или допрос с большой вероятностью могли привести к немедленному аресту.
Я оставался под водой, пока луч прожектора проходил надо мной, высвечивая воду. Как только вода снова стала темной, вынырнул, тяжело дыша. Однако луч через пару минут вновь оказался на мне. Он двигался рывками, непредсказуемо. Пришлось нырять снова, еще не полностью восстановив дыхание. Вскоре я понял, что если мне придется пройти несколько таких мощных прожекторов на пути в Турцию, у меня просто не хватит сил, чтобы и плыть, и нырять. Надо было подыскать лучшее решение.
В следующий раз, когда луч двигался надо мной, я расслабленно лег на воду с полупогруженной головой, вызывая в сознании образ медузы с ее прозрачным телом, свободно висящим под поверхностью воды и невидимым для человеческого глаза.
Трюк удался! Луч прошел надо мной без остановки. Я потратил лишь малую часть энергии, которая могла бы уйти на ныряние. К счастью, в ту ночь на море была рябь. Это означало, что любой объект на поверхности воды становился менее заметным. Так решилась проблема с прожекторами. Кроме того, стало ясно, что нужно тщательно выбрать погоду для побега, — в этот день для маскировки должны быть небольшие, чтобы не слишком замедлить мое движение, но все же волны.
Когда я вышел на берег, проведя около часа в воде, то увидел молодую пару, сидящую недалеко от моей одежды. «Мы думали, кто-то или утонул, или уплыл», — сказали они со смехом. Меня воодушевила их беззаботность. С этого вечера я начал вести себя, исходя из предпосылки, что за мной следят днем и ночью. Лучше быть осторожным сверх меры, чем недостаточно. Несколько раз мне на глаза попадался сидящий на скамейке плавательного бассейна человек, который читал газету и наблюдал за нашими тренировками. А с некоторых пор я заметил, что Тейя стала менее открытой и дружелюбной ко мне, хотя мои результаты постоянно улучшались, а большинство тренировок на выносливость я проводил вне бассейна — в открытом море, в свободное время. Она больше не приглашала меня на обед в Дом офицеров.
Из-за режима двойной тренировки все тело болело так, что перед сном приходилось втирать болеутоляющие массажные средства, и комендант общежития ругал меня за грязные простыни. «Вы по-настоящему даже не работаете, а ваши простыни грязнее, чем у заводских трудяг», — возмущался он. Его резкость тоже показалась мне подозрительной, ведь раньше он общался со мной любезно, почти с уважением.
Я знал, что люди его положения обычно использовались КГБ как осведомители. В мою комнату подселили молодого грузина. Новый парень сообщил, что только что окончил военную службу на пограничной заставе. Он постоянно рассказывал мне истории о границе. Согласно его воспоминаниям, любой, кто когда-либо пытался перебежать за кордон, терпел неудачу. Этот словоохотливый сосед готов был ответить на любые мои вопросы о границе.
Почему КГБ просто не арестовал меня? Как показали дальнейшие события, там рассматривали мой случай достаточно серьезно и начали собирать обширное досье. Они искали потенциальных сообщников и были уверены, что я не смогу ускользнуть незамеченным.
Начались последние приготовления к побегу. И тут возникла мысль запаковать мои рукописи в конверт и отдать их иностранным туристам, с которыми можно было встретиться в гостинице «Интурист» в Сухуми. К счастью, я передумал — затея показалась мне слишком рискованной. Все мои рукописи, письма и фотографии я сжег прямо в комнате, когда моего соседа по комнате не было дома.
Хорошая физическая форма придавала мне уверенность в том, что можно проплыть 25 — 30 километров ночью, используя ласты и найденный мною способ скрываться от прожекторов. И плыть надо именно ночью, так как днем море патрулировали катера и вертолеты и, дальше от берега, самолеты, и не было шанса ускользнуть незамеченным. Конечно, могли помешать и непредсказуемые факторы — такие как погода, течения, потеря ориентации. Но ничто уже не могло остановить меня.
Приближалось мое двадцатилетие. Однажды ночью я пошел в кино с Галей. Это был фильм об Австралии, рассказ о странствующем учителе, который работал и путешествовал по пустынным местам континента.
Мной овладело что-то похожее на тоску по большому бескрайнему миру, который ждал меня. Я видел себя посещающим Канны во время кинофестиваля и в реальной жизни встречающим звезд, которых раньше мог видеть только на экране — среди них Бриджитт Бардо и София Лорен. Потом предстояло открыть экзотические места, подобные Тробрианским островам с их благородными обитателями, и Вену с ее оперой и воспоминаниями о Зигмунде Фрейде…
Галя не разделяла моего энтузиазма по поводу фильма и новых горизонтах, которые он открывал. Для нее это было кино, имеющее такое же отношение к ее жизни, как фильмы о Тарзане и Джейн. Она твердо знала, что никогда не увидит Бриджитт Бардо или Тробрианские острова, и это ее ничуть не беспокоило. Больше всего Галю волновала работа и ее будущая женская судьба. Девушка часто говорила мне, что хочет выйти замуж, иметь детей и вести спокойную и обеспеченную жизнь.
В то время, как я был почти готов к побегу, произошел несчастный случай. Я ехал в общежитие из города на автобусе. Было много пассажиров, задняя дверь не закрывалась, и никто не мог протиснуться к выходу. Пробравшись сквозь толпу, я по привычке попытался выпрыгнуть из автобуса, подъезжавшего к общежитию, прежде чем он затормозит. Однако либо автобус в этот раз двигался быстрее, либо приземление прошло неудачно, но я упал на спину и ударился головой о тротуар. Дело кончилось отделением «скорой помощи» и диагнозом — легкое сотрясение мозга.
Нет худа без добра — это происшествие позволило мне провести несколько дней без тренировок и завершить приготовления к побегу.
На следующий день я пошел в магазин и купил себе новый костюм, потратив деньги, которые все равно не мог взять с собой. Это было хорошим отвлекающим маневром, поскольку показывало, что я веду нормальный образ жизни. Вечером, как большинство молодых людей, пошел бродить по городу. Парадоксально, но я начал привыкать к беззаботной атмосфере Батуми, его улицам, запруженным народом даже в рабочее время. Все это так отличалось от серых, скучных, угрюмых российских городов, к которым я привык. Здесь были летние кафе и бульвары, которые пахли фруктами и цветами, а не заводской копотью и грязью.
Следующим вечером, тщательно проверив, что за мной никто не идет, я отправился искать место в пределах города, где можно было бы войти в море не замеченным. И набрел на заброшенный полигон недалеко от моего завода, южнее городского пляжа, тянувшегося в направлении Турции.
Опустевший полигон был окружен старым забором, по обе стороны которого местные жители заготавливали траву для скота, проделав в заборе дыры. Развалившиеся, обсаженные высокими тополями и поросшие камышом старые оросительные каналы крест-накрест пересекали полигон, позволяя незаметно пробраться к берегу, вдоль которого тянулась небольшая лесополоса. Она также могла послужить защитой от прожекторов.
Все было готово для финального броска. Единственное, что останавливало, так это тихая погода. Представьте себе: начало июня, прекрасное, спокойное, искрящееся голубизной море. День ото дня вода становится теплее, и купальщики не торопятся покидать ее вечером. Между тем, меня все более охватывало отчаяние. Через несколько дней наша команда должна была ехать в Москву. Если я не совершу побег завтра-послезавтра, все мои планы рухнут.
В разгар нарастающей паники я увидел, как легкий бриз покрывает рябью поверхность моря. Волны были менее полуметра высотой. Казалось, в самом воздухе витает что-то возбужденное и настоятельное. «Это мой последний шанс», — подумал я. Меня могли арестовать в любой момент.
Как раз тут позвонила Галя и сказала, что хочет видеть меня немедленно по делу, которое не стоит обсуждать по телефону. Ей, сразу подумал я, звонили из КГБ…
Следующий день прошел в лихорадочных приготовлениях. Я проверил и тщательно спрятал среди вещей всё, что должен был взять с собой. И сделал это так, чтобы во время обыска количество прямых улик было минимальным. В мой арсенал входили: длинная, на шнуре игла на случай судороги, ласты, водонепроницаемый пакет, куда в последний момент надлежало уложить наиболее важные документы, такие как свидетельство о рождении, паспорт, военный билет, мои спортивные удостоверения, диплом и, наконец, не менее важный документ под названием «Справка о болезни». По иронии судьбы в ней говорилось, что я не способен передвигаться (не говоря уж о плавании) самостоятельно, без сопровождающего лица.
В эту последнюю ночь в общежитии, готовясь ко сну, я думал о своей сестре — самом близком для меня человеке. У нее, как и у Гали, были свои проблемы, она должна была обеспечивать свою жизнь и жизнь своих детей. Ее шокировало мое уклонение от воинской службы, но, в конце концов, сестра приняла это.
Я думал о матери и брате. Их будут допрашивать. Они далеки от меня, ничего не знают о тех годах, которые я провел вне дома, мои идеи чужды им. Их не должны наказать.
Помимо прожекторов и возможной судороги, меня очень беспокоили сильные течения в районе, где мне предстояло плыть. Я ознакомился с картами течений, но знал, что придется полагаться в основном на инстинкты и на фортуну. Ласты должны были придать мне больше скорости и силы для борьбы с течениями. Я знал из своего сибирского опыта плавания в быстротечной, особенно ранним летом, реки Оби, что иногда следует идти с течением, даже если оно не вело напрямую к цели, чем пытаться бороться с ним. Я не знал тогда, что именно быстрые течения погубили, унесли в море или даже назад, вдаль от границы, многих пловцов, рискнувших на предприятие, подобное моему.
Когда я заснул, мечты устремились к будущему. Я снова видел себя на Каннском кинофестивале, и Бриджит Бардо улыбалась мне. Чувствовал себя свободным и ничего не боялся. Странствовал по всему миру и встречал людей, которые не только читали Библию и Дхаммападу, но и совершали таинственные и чудесные ритуалы просветления в поисках собственного бога.
ДОРОГА В НЕИЗВЕСТНОЕ
Свежесть утра наполнила воздух ожиданием. Все было готово. Я, как обычно, пошел на тренировку, но много не плавал. Пожаловался на плохое самочувствие и сказал, что после обеда не приду. Тейя посмотрела на меня вопросительно, но ничего не сказала. Интересно, как много она знала.
Море для моей цели выглядело превосходно: волны около трети метра высотой, спокойно катящиеся, стабильные, насколько хватал глаз. Такой же прогноз погоды дали на ближайшую пару дней.
Направляясь после обеда в общежитие, следил, нет ли хвоста КГБ. Кажется, горизонт ясный. Соседа по комнате тоже нет. На всякий случай еще раз убедился, что все готово: снаряжение уложено в сумку, похожую на ту, с которой обычно ходил на тренировки. Купальные принадлежности, пояс с документами, игла и компас, прикрепленные к поясу, небольшой нож. Взял самое необходимое, понимая, что каждый лишний грамм будет мешать достичь цели.
Наконец, я был готов. И, лежа на кровати, коротал последние часы. Надо быть на полигоне прямо перед заходом солнца. Как знать, может быть, в это самое время сюда уже нагрянут с арестом?
Около пяти часов, минут за двадцать до предполагаемого возвращения моего соседа с завода, я прошел по длинному коридору общежития и выпрыгнул из окна второго этажа на пустынный задний двор. Затем перелез через невысокий штакетник и быстро пошел по тропинке в сторону пляжа. Все шло согласно плану. Достигнув полигона, через дыру в заборе пролез внутрь. Снял с руки часы и закопал их в жесткую, сухую от зноя землю. Они мне были больше не нужны. Это был мой последний вечер на советской земле. Нужно было залечь в траве и переждать час-полтора до наступления сумерек.
Заброшенный полигон с ветхим забором вокруг него стал моей стартовой площадкой. Высокие тополя, росшие по краям размытых оросительных каналов, покачивались под легким ветерком, подобно вытянутым антеннам, отбрасывая последние вечерние тени на забор.
Пролежав, как мне показалось, бесконечно долгое время в траве, осторожно огляделся вокруг, просматривая каждый кустик. Оставалось примерно еще около получаса до того момента, как начнет темнеть и включатся прожектора. Ощупал мое снаряжение. Все было в порядке: ласты в сумке, герметично упакованные документы, нож, игла, компас, даже плитка шоколада для подпитки, которую прихватил в последнюю минуту.
Я начал продвигаться ближе к берегу, медленно переползая по высокой траве. Услышал голоса впереди себя. Пограничный наряд? Или просто жители пришли за травой?
У меня не оставалось времени выяснять Надо было предполагать худшее. Нельзя было двигаться ни вперед, ни назад. В любой момент вспыхнут прожектора. В общежитии мой сосед мог уже заметить мое исчезновение и сообщить в КГБ.
Я сделал единственно возможную в моем положении вещь. Надел снаряжение и сполз в пахнущую тиной воду оросительного канала. Вода была солоноватой — канал соединялся с морем.
Следующая задача — миновать предполагаемый наряд пограничников без малейшего всплеска или шума. Я нырнул и тихо поплыл, гребя руками брассом, ногами в свободном стиле. Проплыл таким способом метров сто, едва показываясь из воды, затем осторожно высунул голову наружу. Огоньки сигарет и голоса были позади. Я продолжал плыть и нырять. Берег начал растворяться в наступающих сумерках.
Через несколько сотен метров я перевернулся и поплыл на спине. Первые бледные огоньки стали появляться в городе. Семьи собирались на ужин, шла обычная, мирная беседа, мужчины пропускали стаканчик красного вина, женщины подавали острые грузинские блюда, которые я успел полюбить.
Я почувствовал огонь другого вина в крови. Оно обострило чувства и влило тонус в мышцы. Море ритмически покачивало тело, когда я продвигался вперед. Сердце вызванивало единственное слово: «Турция… Турция… Турция…»
Радость, столь внезапная и столь непривычная за последнее время охватила меня. Я сделал это! Я сбежал! Ладони врезались в воду, тело, движимое ластами, скользило сквозь воду почти без усилий.
Я мысленно видел майора Эмниешвили, распекаемого начальниками, уже без его высокомерной усмешки. Ха-ха! Вы думали, я буду ждать, пока вы меня возьмете? Я видел гэбэшников, яростно перерывающих оставленные мною вещи. Счастливо!
Включился первый прожектор. Он хлестнул море подобно щупальцу гигантского осьминога. Я глубоко нырнул, чувствуя, как растет давление в ушах. Все мои тренировки, испытания на пляже будто бы испарились. Теперь я остался с опасностью наедине, без всякой подстраховки.
Вынырнул на поверхность, задыхаясь. Если так реагировать на каждый прожектор, далеко не уйти. Напомнил себе: просто лежать чуть-чуть под поверхностью воды, распластавшись, как медуза, чтобы сберечь силы и не быть обнаруженным.
Почти тотчас же луч прожектора опять прошел надо мной. Я нырнул, на этот раз не столь глубоко. «Медуза, — повторял себе, — медуза». В промежутках между ныряниями быстро плыл, чередуя свободный стиль и движение на спине.
Радость, которую я испытывал поначалу, испарилась.
Впереди и позади прожектора полосовали море. Время от времени луч неожиданно двигался ко мне, заставляя держаться в тревожном ожидании.
На платформах прожекторов стояли молодые солдаты с неутоленным инстинктом охотников и рыбаков. Гордые, они выловили бы меня, извивающегося, как пойманная рыба, и доставили на заставу. Там меня демонстрировали бы как военный трофей, а молодых солдат наградили, дали медали за мужество в поимке опасного беглеца, скорее всего, шпиона.
Вода стала холоднее. Скоро над горами взойдет луна, дав мне еще один ориентир. Я двигался как мог параллельно берегу, наверно, километрах в четырех — пяти от него. К тому моменту, когда лучи прожекторов достигали меня, они становились бледными и бессильными. Теперь я нырял почти механически, всплывая, как только они проходили, иногда даже секундой ранее. Плыл, в основном, на спине. Это было чуть медленнее, но надежнее для длительного плавания. Во-первых, так лучше видны прожектора и берег. Во-вторых, я знал, что при плавании свободным стилем более сильная правая рука постепенно заворачивает меня влево, заставляя плыть по кривой. Это удлиняет путь.
После того как несколько первых прожекторов осталось позади, в сознании начали всплывать воспоминания о прошлом. Вот мой дед Василий сидит на кровати, с расстегнутой рубахой, обнажающей грудь, которая некогда выглядела, как бочка, а теперь, изможденная возрастом и болезнью, напоминает ощипанную курицу. Его потрепанная Библия лежит на грубо сколоченной тумбочке рядом с кроватью. Он каким-то волшебным способом превращал атеистические передачи по радио в религиозные. «Вот видите, — восклицал он ликующе, — теперь они говорят о Боге даже по государственному радио!».
Мне было жаль деда, и я беспокоился о том, что случится, когда он умрет. Как ребенок, я интересовался: увижу ли, как он отправится на небо? Он был святым человеком. И будут похороны с оркестром, и я смогу прийти на его могилу и попробовать вкусных ягод земляники, которая, как я знал, там росла. «Дорогой мой старый дедушка, — думал я, — ты и бабушка были немногими светлыми пятнами моего детства».
У меня не было времени посетить их могилы до отъезда. Возвращусь ли я когда-нибудь?
Я видел лица докторов, которые меня освидетельствовали. Они выглядели так, как я себе представлял членов святой инквизиции. Я не был для них человеческим существом, а животным, крысой, которую нужно усмирить, перед тем как уничтожить, втоптать в землю, удобряя рай для них и их близких.
Я, должно быть, плыл уже два или три часа по темнеющему ночному морю, когда услышал рядом с собой всплеск. Длинное продолговатое тело, блестевшее в лунном свете, двигалось за мной. Акула? Опасных акул в Черном море не бывает, только маленькие разновидности, не страшные для человека. Мелькнул плавник — дельфин! Это был небольшой экземпляр, может быть, моего возраста в дельфиньем исчислении. Итак, у меня появился спутник. Мы оба двигались, как бы резвясь, вдали от берега. Грация дельфина, которая всегда восхищала меня, теперь казалась почти сверхъестественной.
Это был хороший знак. Пограничники могли увидеть дельфина и решить, что это пара дельфинов, плывущая вместе. Мои мысли, умиротворенные, вернулись обратно в Колпашево.
Мать стояла на пустой автобусной остановке. Напоследок она сделала движение ко мне, как будто хотела обнять. А я, уже гордый от грядущей свободы и растущей возмужалости, отвернулся и вошел в автобус. Когда автобус стал удаляться, она уменьшилась в размерах до маленькой точки, а затем и вовсе исчезла за поворотом…
Я миновал очередной прожектор без происшествий. Хотя все еще нырял каждый раз, когда над головой проходил луч. Под водой, как мне казалось, я иногда улавливал тень дельфина. Вода становилась все холоднее. Проплыл ли я уже устье горной реки Чорох?
Почувствовав первые признаки усталости, вспомнил про шоколад, уложенный мной в пластиковом пакете в плавках. Но смог отогнать искушение. Через несколько часов голод будет сильнее.
Вода стала еще холоднее. Неужели это струи горной речки, так далеко в море? Я должен был уже ее миновать. Возможно, берег ближе, чем мне кажется? Почувствовал, как мизинец на левой ноге сгибается с тем предательским ощущением, которое предшествует судороге. Резина ласт холодила ступни. Стал двигать ногами по плавной скользящей дуге, уменьшив силу гребка и, как всегда, избегая малейшего всплеска. Скорость спала, и я почувствовал, как меня начало относить течением от берега.
Вскоре вода стала теплее. Видимо, я проплыл устье Чороха. Мое плавание продолжалось уже пять или шесть часов. Забыв о судороге и холодной воде, я больше не обращал внимания и на прожектора — их свет был далеким и рассеянным. Тело превратилось как бы в живые часы, отсчитывающие время каждым ударом сердца и каждым движением рук и ног. Сознание опустело.
Вдруг сильный луч света лег прямо рядом со мной. Я инстинктивно нырнул, глотая воду, объятый ужасом от новой, неведомой опасности. Неужели я по незнанию подплыл близко к берегу или же прожектор каким-то образом выдвинулся в море?
В тот же момент я услышал под водой ритмичный постоянный звук. Это патрульный катер, догадался я. Сколько их бороздит море, с погашенными огнями. Ныряя снова и снова, я уплывал от опасности. Мой спутник-дельфин исчез в бездне моря.
Оно было полно ловушек. Я слышал о сонарах, которые обнаруживали объекты в море. Их зона действия была ограничена, и они не делали различия между большой рыбой, пловцом или аквалангистом. Но если пограничники заподозрили нарушителя, они могли выслать в зону патрульный самолет. Если же и он ничего не обнаруживал, у пилота был приказ сбросить небольшую глубинную бомбу — на всякий случай. На следующее утро я мог плавать животом вверх среди других рыб.
Я больше не упивался ликованием и мечтами. Против моих жалких ласт и меня стояли сотни профессиональных солдат, оснащенных новейшими техническими средствами. Ничто, кроме чуда, казалось, не поможет мне безопасно достичь цели.
На суше было бы то же, никакой разницы. Возможно, даже труднее. Я слыхивал о мотках очень тонкой проволоки, которая могла задушить человека. Чем сильнее ты барахтаешься, чтобы освободиться, тем сильнее тебя сдавливает. Бывают также растяжки, запускающие сигнальные ракеты при малейшем прикосновении. Есть еще контактные проволоки, посылающие сигнал на заставу при касании или разрыве, и даже ложные границы, заставляющие неопытного беглеца потерять бдительность.
Прошел еще час. Я все больше и больше ощущал жажду и голод.
Уже появился слабо мерцающий свет, рассвет пролагал путь над скалистым горным берегом. Луна начала растворяться в молочно-светлом небе. Скоро станет светло.
Прямо передо мной, в бухте, прожектор посылал свои лучи в море, борясь с остатками ночи. Смогу ли я миновать его и достигнуть берега до наступления дня? По слухам турки слабо охраняют свою границу, и, бывает, советский патруль ловит беглецов даже в турецких территориальных водах или на их территории. Рассказывали даже о случаях, когда советские пограничники отбивали беглецов от турок. Я мгновенно принял решение и поплыл к берегу. У меня не было представления о том, что буду делать, когда достигну земли, знал только, что берег охраняют пограничники с собаками. Ведомый каким-то инстинктом, я плыл прямо в бухту, очертания которой начали проявляться по мере того, как небо светлело.
Издалека я различил на берегу большую пещеру. Приблизившись, увидел огни и услышал металлические звуки. В глубине пещеры, вдали от входа, на поверхности воды проступали контуры сигарообразного тела подводной лодки. Времени разглядывать не было, да и слишком опасными показались мне мои соседи. Я еще не знал, что этот участок границы окажется для меня спасительным.
Я быстро поплыл к другой стороне бухты, прочь от пещеры. Вскарабкался на берег между большими камнями и нашел себе укрытие в расщелине. Немного отдохнув, нащупал пакет с шоколадом. Он был здесь, в моих плавках. Разорвал пакет и набросился на содержимое. Холод начал охватывать меня, как только я перестал двигаться. Рассвет близок, скоро взойдет солнце и согреет.
Я положил ласты под голову вместо подушки и вжался поглубже в свое укрытие. Солнце поднялось над морем, погасив прожектора. Пограничники, должно быть, сменяют свои наряды. Я был где-то близко, очень близко к границе.
Под лучами восходящего солнца море словно подобрело. Волны накатывались на берег в нескольких метрах от меня, мягко переговариваясь со скалами. Я вытянулся и, прежде чем сам это ощутил, заснул тревожным сном.
Наяву или во сне я услышал лай собак. Проснулся и огляделся вокруг. Собак не было. Солнце всходило. Выглянул из-за камней: берег казался пустынным, хотя дальше был виден забор из колючей проволоки. Только напрягая слух, я слышал, как лаяли собаки. Пограничники регулярно прочесывают берег с собаками-ищейками. Смогу ли я избежать встречи с ними? База подлодок, вероятно, относится к ведению военно-морского флота, так что, можно надеяться, ограждена своим собственным забором и охраняется отдельно. Несколько часов прошли в полузабытьи.
Солнце садилось. Еще пара часов, и я буду готов плыть дальше. Наконец, солнце зашло за гору позади меня. Далеко-далеко был слышен лай собак. Ночь спешила скрыть все завесой темноты. Я чувствовал себя отдохнувшим, хотя все еще был голоден и хотел пить — длительное плавание вызвало обезвоживание организма. Лежа без движения, я страдал и от переохлаждения прошлой ночи, и только тепло, накопленное прибрежными камнями, еще согревало тело.
Когда опустилась тьма, я соскользнул в воду и вновь поплыл.
Последний прожектор, установленный внутри бухты, двигался по гораздо меньшей дуге, чем все предыдущие. Это означало, что нырять придется чаще. Другого выхода не было. Плыть дальше от берега означало удвоить, а то и утроить дистанцию. Я не мог себе это позволить. Весь путь до Турции следовало преодолеть до следующего рассвета. Я поплыл прямо через бухту, держась примерно в двух километрах от прожектора. Двигаться приходилось медленно, с частыми погружениями и быстрыми рывками вперед в промежутках. Через пару километров руки и ноги стали как бы резиновыми, — теперь я чувствовал куда большую усталость, чем в предыдущую ночь.
Когда я был почти на середине бухты, луч прошел надо мной и остановился. Чтобы спастись от него и сэкономить энергию, пришлось изобрести новый способ дыхания: я нырнул, всплыл и лежал, слегка повернув голову в сторону, рот чуть-чуть над водой. Прожектор все не сдвигался. Неужели выследили? Море вокруг искрилось от рассеянного света. Я чуть приподнял голову и огляделся. Яркое пятно света смотрело прямо на меня немигающим глазом. «Конец», — пронеслось в мозгу. Сейчас услышу гул патрульного катера. Однако луч прожектора, как пришел неожиданно, так и ушел прочь. Может, пограничники прикуривали очередную сигарету? Я никогда не узнаю, какое чудо или случай спасли меня.
До чего же медленно продвигался я в сторону турецкого берега! Он казался мне таким близким и… таким далеким. Если б не последний прожектор, можно было доплыть до него за пару часов. Я плыл, и время перестало существовать. Приближался рассвет. Тело совершенно обессилело, плыть приходилось на спине, с каждым новым гребком руки еле двигались, и ноги брали на себя большую часть работы. Я наполовину плыл, наполовину тонул, иногда непроизвольно глотая морскую воду. Наконец, мои колени коснулись песка. Я выполз на берег и лег, почти бездыханный.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЭФФЕНДИ[9]
Я лежал на маленьком пляже. Зеленые кусты, усеянные яркими цветами, каскадом спускались с откоса. Море было спокойным. Мелкие искрящиеся волны накатывались на берег. Чистое голубое небо дышало покоем. По мере того, как солнце прогревало кусты и деревья, окружавшие пляж, в воздухе разливался запах шалфея. В восторге я хотел подняться во весь рост и закричать: «Ура!». Но можно ли быть уверенным, что это уже Турция? Надо спрятаться в эти густые кусты и подождать сумерек, чтобы обследовать окрестности, а потом уж радоваться.
Вскоре нестерпимая жажда выгнала меня из зеленого укрытия. Вскарабкавшись по камням и кустарнику на вершину откоса, поросшую деревьями, я увидел вдалеке дорогу с телеграфными столбами — но ничего такого, что указывало бы, где нахожусь. Под ногами ни окурка сигареты, ни клочка газеты, которые могли бы послужить ключом для ориентировки. Осторожно продираясь сквозь заросли, вышел к ручью, проложившему извилистым путь через рощу, утолил жажду и умыл лицо. Подняв голову, я увидел мальчишку лет шести-семи, стоящего на другой стороне ручья. Смуглого, с черными, как перезревшие вишни, глазами. На нем красовались грязные ярко-голубые штаны. Мальчик, не двигаясь, зачарованно смотрел на меня, глаза его выражали страх и удивление. Выглядел он, как турчонок. Но мог точно также быть маленьким аджарцем на советской стороне.
«Как тебя зовут?», — спросил я, чувствуя, что мне нечего терять. Услышав мой голос, мальчишка повернулся и кинулся бежать, не проронив ни слова. И я побежал… в противоположную сторону, вверх по ложу ручья, прямо по воде. Так я мог сбить с пути собак, окажись все еще на советской стороне.
Выбравшись, наконец, из ручья, взобрался по крутому склону, продираясь через колючие кусты, ранившие тело, на холм и, обессилевший, лег под деревом вблизи вершины. Послышался лай собак. Он приближался. Правой рукой я нащупал нож. Что сказать, если поймают?
В уме я проговаривал слова в свою защиту — они меня не запугают! Вокруг все было тихо. Услышал ли я голос муэдзина, призывающего к вечерней молитве, или мне это почудилось? Приближалась ночь, а я все еще не знал, на чей земле нахожусь.
Шли часы. Когда опустилась темнота, я выбрался через кусты на открытое поле. На другой стороне его были видны горы. Они-то, наверняка, в Турции.
Осторожно, иногда ползком, двинулся вперед. Смутно доносились голоса, я видел, как в сумраке, невдалеке от меня движется группа людей с фонарями. Кто они? Грузинские колхозники? Турецкие дехкане? Или пограничный наряд, прочесывающий местность? По пути наткнулся на маленькую лопату, оставленную кем-то в поле, и поднял ее. Это было лучше, чем мой перочинный нож. По крайней мере, смогу защититься от собак.
Я продолжал идти, но голодные боли в желудке становились все сильнее. Уже двое суток я ничего не ел, кроме плитки шоколада.
Через пару часов подошел к подножию горы и двинулся вперед по узенькой тропинке, ведущей на вершину. В гору лез из последних сил. Несмотря на голод и усталость, по мере восхождения во мне нарастало чувство уверенности. Наконец, я был почти на вершине горы. Внизу были видны огни селения. Судя по пройденному расстоянию, уже не оставалось сомнений, что я — в Турции. Селение, лежавшее у подножья горы, как позже узнал, было действительно турецкой деревней Кемальпаша. Шагая дальше, я набрел на маленькую деревушку на краю дороги. Несколько грубовато сложенных горных хижин, в окнах — ни огонька. Была поздняя ночь, когда я подошел к двери одного из жилищ и постучал. Послышались голоса. Язык, на котором говорили, не был грузинским или абхазским. Значит, турецкий. Сколько я ни ждал, никто не открыл дверь, и тогда я прошел к сараю с навесом. Услышал, как забеспокоились куры в загоне. Открыл дверь и нашел несколько яиц, которые тут же проглотил. Потом залез по лестнице на сеновал и вскоре уснул.
Утром меня разбудили голоса. Я начал спускаться с сеновала. Крестьяне, заметив меня, быстро спрятались в хижине. Сойдя с лестницы, я снял и положил у двери пояс с документами, компасом, иглой и ножом. Высунулась рука и забрала пояс. Через несколько минут шум внутри хижины замер, и дверь открылась. Я поднял руки в знак капитуляции. Одна из вышедших женщин громко вскрикнула, и двери других хижин в деревушке начали открываться, выпуская своих обитателей. Вскоре я был окружен толпой турецких крестьян, вооруженных старомодными ружьями, лопатами, ножами и палками. Они с угрожающим видом стояли вокруг меня до тех пор, пока один из них, должно быть, главный, так же внимательно разглядывавший меня, не опустил, наконец, ружье. «Качак[10]», — произнес он. Турки опустили ружья.
Кто-то принес мой пояс и вручил главному. Изучив вещи, он подтвердил: «Качак». Затем приблизился и показал на мои плавки. Я похлопал себя руками по талии, показывая, что ничего не прячу. Турок резко придвинулся ко мне и снова указал на плавки жестом, который ни с чем нельзя было спутать. Я понял: он требует, чтобы я их снял. Женщины, подчинившись короткому приказу главного, вернулись в свои хижины. Они хотели знать, обрезан я или нет. Это был мой настоящий паспорт, более важный, чем тот, который они не могли прочесть. Главный произнес одно слово: «Гяур». Неверный. Два крепких турка подошли и жестом приказали следовать с ними. Осторожно ступая босыми ногами, я шел по колючей каменистой дороге. Была мысль попросить их об обуви и глотке воды, но я отбросил ее: вряд ли мне, как гяуру, полагается милосердие.
Дети бежали за нами с криками: «Тарзан! Тарзан!» Я, должно быть, выглядел как дикарь, — покрытый грязью, с царапинами и ранами, полученными, когда продирался сквозь кустарник, в одних жалких плавках. Но, несмотря на голод и физическое истощение, я чувствовал себя счастливым. Жив! Толпа крестьян привела меня на турецкую погранзаставу. Там переодели в солдатскую форму. Затем надели наручники, отвели в маленькую кофейню и покормили. А позже отправили на джипе — дальше от границы, в город Карс.
Вскоре я сидел в кузове обычного грузовика, который перевозил местных жителей между соседними селениями. Конвоировал вооруженный охранник, обычный солдат, парень с простым лицом, который, похоже, рассматривал всю эту историю как повод для выезда куда-нибудь. Он переговорил с местными жителями обо мне. Единственные слова, которые я понял «качак» — беглец и «рус» — русский. Здесь уже не чувствовались тревога и подозрительность, с которыми довелось столкнуться в первом селении. Чужой, «гяур», но одетый в обычную солдатскую форму без знаков различия, я, видимо, стал для них просто человеком. Один из крестьян, улыбнувшись, протянул мне сигарету. Другой дал горсть мелких монет. Солдат отвернулся.
Мы ехали по пыльной дороге, петлявшей вдоль берега, окаймленного горами, в город Карс, первый большой военный аванпост на границе. Грузовик остановился возле огороженного строения, и мы с моим стражем слезли.
Провели в пустую комнату, вся обстановка которой состояла из нескольких расшатанных стульев, конторского стола с телефоном и турецким флагом сзади него. На стене висел засиженный мухами портрет Ататюрка, основателя новой Турции. Комната, нагретая утренним солнцем, была полна этих насекомых, которые набросились на мои расцарапанные ноги.
Солдат встал по стойке смирно, когда вошел офицер. Тот коротко взглянул на меня, сел за стол и взял трубку телефона. Потом долго говорил с кем-то на другом конце провода. Он часто повторял два слова — «качак» и «джасус». Значения второго слова я пока егце не знал.
Когда офицер окончил разговор, он вынул из кобуры пистолет, положил рядом с собой на стол и зажег сигарету, устремив на меня жесткий, далекий от дружелюбия взгляд. Постукивая пальцами по столу, он смотрел, пуская клубы дыма и не произнося ни слова. Это продолжалось несколько минут.
Я вскочил со стула и начал отгонять мух, показывая офицеру, что мне нужно чем-то прикрыть ноги.
По непонятной мне причине, это привело его в раздражение. Он начал что-то говорить мне по-турецки скороговоркой, потом встал из-за стола, размахивая пистолетом перед моим носом и повторяя слово «джасус». На мгновение показалось, что он ударит меня. Я улыбнулся ему и снова показал на свои ноги.
Турок успокоился, опять сел за стол и странно посмотрел на меня. Мое молчание и отсутствующая улыбка, должно быть, привели его к мысли, что перед ним слабоумный. Офицер положил пистолет на стол и сделал еще один звонок.
Примерно через час, который прошел для меня будто в забытьи, появился смуглый человек, высокий, с крепким телом горного жителя. Его первое слово было «Здравствуйте» на ломаном русском. Я ответил. Теперь все выяснится. Он спросил мое имя. Я ответил.
Следующий вопрос: «Кто тебя послал?», я попросил повторить. Мне потребовалось время, чтобы осознать его. «Никто, я беженец, переплыл границу. Ищу политического убежища». Офицер снова вскочил, выкрикивая: «Джасус! Джасус!» Я посмотрел на переводчика, ожидая объяснений. «Ты — шпион», — сказал смуглый человек.
«Это что, шутка? Я не шпион. Дайте, пожалуйста, газету прикрыть ноги. Эти мухи меня замучили. И я хочу говорить с вашим вышестоящим офицером».
Турок издевательски захохотал, снова вскочил из-за стола и навис надо мной, выкрикивая что-то угрожающее. Переводчик смотрел, ничего не говоря. Я через какое-то время перестал обращать на них внимание, углубившись в свои мысли. Это, должно быть, простое невежество местных военных. Ататюрк смотрел на меня со стены с едва заметной ухмылкой.
Наконец, они устали. Офицер сделал знак охраннику. Тот подошел и отвел меня, в маленькую хижину с зарешеченными окнами. Когда мы вошли, он жестом велел снять ремень, который забрал с собой. Я огляделся. В углу стояла деревянная кровать с соломенным матрасом. Было около полудня и удушающе жарко. Я почувствовал себя совсем обессилевшим…
Я проснулся от пенья соловьев, доносившегося через окно. Видимо, проспал весь остаток дня. Снаружи были сумерки. Свежий благоухающий воздух проникал в окно. Мухи исчезли.
«Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат…». Слова военной песни непроизвольно всплыли в голове.
Я увидел себя на морском курорте. Бело-синие виллы возвышались среди тополей. Великолепные здания с колоннадами. Лодки на привязи в гавани. «Неаполь», — подумал я. Я видел лицо майора КГБ Эмниешвили: «Людей следует не жалеть, а уважать». Да, майор, вы будете меня уважать. Вам не видать больше ваших погон.
Дрожь прошла по моему телу. Они, вероятно, сейчас допрашивают Галю. Хорошо, что я ничего ей не сказал! Как говорят, намного легче лгать, говоря правду. Они ее отпустят. Она простая работница.
Пенье соловьев убаюкивало. Я увидел склонившееся надо мной задумчивое лицо моего прадеда Мирона, сибирского целителя. «Все пройдет, — говорил он, — и это пройдет. Но ты должен быть осторожен. Мир полон обмана. Не бойся. Я буду тебя охранять».
Не знаю, как долго я спал, но когда проснулся, тело было покрыто холодным потом. Я увидел сон, который не снился мне с самого детства. Будто бы я брожу вокруг ветхой деревянной избушки в лесу. Избушки на курьих ножках. И знаю, что там внутри. Но не могу ни войти, ни уйти. Меня давили тиски старого страха.
Вскочив с кровати, я начал лихорадочно ходить от стены к стене. Что если они на самом деле считают, что я шпион. Мне не только не увидеть Неаполь, мне не удастся выйти отсюда живьем.
Я подошел к окну и попробовал одной рукой расшатать решетку, поддерживая другой брюки, сползающие без ремня. Нужно бежать. Можно добраться до морского порта в Трабзоне и сесть на первое иностранное судно. Лучше французский или итальянский корабль. Это будет просто игрушкой по сравнению с проплывом из России. Высажусь в Неаполе или в Марселе и буду говорить с цивилизованными иммиграционными чиновниками.
Решетка не поддавалась, я отпустил брюки, они упали на глиняный пол, и попробовал снова расшатать ее, уже обеими руками. Но она оказалась такой же прочной, как и державшие ее стены.
Дверь открылась, и вошел офицер. У него было больше звезд на погонах, чем у того, что допрашивал меня накануне. Жестом он указал на выход.
Снаружи стоял зеленый джип с работающим мотором и водителем. Я сел на заднее сиденье, мой сопровождающий рядом со мной. Офицер молчал, но и не выказывал враждебности.
Уже лучше. Может, я смогу сбежать во время поездки?
ПОЛКОВНИК АДОЛЬФ-ОГЛУ
Джип ехал гористой местностью по проселочной дороге несколько часов. Навстречу попадались маленькие деревушки с замызганными хижинами, небольшими огородами и виноградниками. Крестьяне провожали нас взглядами, дети бежали за джипом, женщины тайком поглядывали из-под чадры. Деревни были бедные, беднее тех, что я видел в Грузии. Но в жителях гор чувствовалось достоинство, эти люди в простых одеждах — женщины в длинных развевающихся шальварах, мужчины в традиционных шляпах, старики с палочками, находились далеко от властей и цивилизации.
Я ничего не ел со времени короткого завтрака в пограничной деревне и был голоден. Будто бы прочтя мои мысли, водитель остановился у небольшого ручья под деревьями. Водитель достал сыр, виноград и бутыль с водой. Офицер молча показал, чтобы я присоединился к ним. Я было набросился на еду, но сдержался, увидев легкое изумление на лице офицера. Вкус винограда был великолепен, вода — холодной, а сыр — домашним.
Поездка по извилистым горным дорогам продолжалась. Кое-где рабочие ремонтировали дорогу: они на мгновение поднимали покрытые пылью лица и продолжали долбить скалы тяжелыми молотами и кайлами. Проезжавший мимо грузовик прижался к обочине узкой дороги, как только его водитель увидел военную форму.
Дорога была неровной, с множеством поворотов, джип мотало из стороны в сторону. Никто не произносил ни слова.
После нескольких часов карабканья вверх мы стали спускаться на равнину на большом плато. Чаще попадались деревни и небольшие поселения. Мелькали знаки, изображающие собак, изрыгающих пламя. Мы что, приближаемся к какой-то запретной зоне? Только много позже я узнал, что собаки с горящей пастью — это реклама автомобильных шин. Непривыкший к самому виду рекламы, я все еще был в советской реальности запретных зон и потенциальных опасностей.
Офицер вынул платок и завязал мне глаза. Я насторожился. Все слышнее становились шум транспорта, и прерывистые уличные звуки. Должно быть, мы въезжали в город.
Наконец, джип остановился. Мои спутники обменялись несколькими словами. Все еще с завязанными глазами меня провели в здание, мы поднялись по лестнице. Когда повязку сняли, я увидел, что нахожусь в маленькой комнате, точнее, камере, с белыми крашеными стенами, небольшой койкой в углу, стулом и столом. Оконная рама была окрашена в красноватый цвет, пыльное стекло заляпано засохшими подтеками краски. Высоко под потолком висела тусклая лампа, закрытая проволочной сеткой. Дверь закрылась, послышался тяжелый скрип поворачиваемого в замке ключа. Что это, тюрьма?
Начал осматриваться. Сквозь стекло окна ничего не было видно, видимо, снаружи стояло ограждение. Комната занимала около шести квадратных метров. Я сел на кровать с серым армейским одеялом и подушкой. Отвернув одеяло, увидел, что она безо всякой простыни. Они тут знали толк в беженцах и потенциальных самоубийцах.
Этой камере предстояло стать моим домом на многие месяцы.
* * *
На следующее утро меня вызвали на первый допрос. Как выяснилось потом, я находился в главном управлении военной разведки в Эрзуруме. Именно об этом городке писал Пушкин в своих заметках о поездке к театру действий русско-турецкой войны «Путешествие в Арзрум».
В этом городе Ататюрк впервые провозгласил Турецкую республику. Эрзурум расположен на плодородной равнине, орошаемой двумя реками — Чорохом, холодные воды которого в Черном море чуть не погубили меня, и Араксом. Равнина окружена высокими горами, среди которых Арарат, возвышающийся более чем на пять тысяч метров над уровнем моря[11], — сюда по легенде причалил Ноев ковчег. Другая сторона Арарата находится в советской Армении. Подходящая пристань для моего «ковчега».
Меня привели в кабинет с дубовым письменным столом и кожаным креслом, в котором восседал неприступного вида офицер. Не обращая на меня внимания, он разглядывал бумаги на своем столе. У него были узенькие усики «а ля Гитлер» и три больших звезды на погонах.
Я тотчас же прозвал его «полковник Адольф-оглу». В течение последующих месяцев я научился читать его настроение, как будто он был моим хорошим знакомым, хотя я никогда так и не узнал его настоящего имени и чего-либо о его жизни вне тюрьмы.
Полковник Адольф-оглу, наконец, поднял голову и пристально посмотрел на меня. Позже я узнал глубину ненависти, которую этот человек взлелеял в своем сердце ко всему русскому, включая меня. Казалось, все войны между Россией и Турцией (а их был добрый десяток за последние две сотни лет) оставили личные шрамы на нем. Триходившая в упадок оттоманская империя не могла противостоять напору «неверных» — славян, прокладывавших себе путь к побережью Черного моря, захвативших Крым и почти весь Кавказ.
Однако Адольф-оглу не был таким грубым, как офицер в Карсе. На столе не было пистолета. Он подождал прихода переводчика, лысого осетина, русский язык которого с типичным кавказским акцентом был довольно сносным. Позже я выяснил, что осетин сбежал в Турцию в 20-е годы, когда граница между двумя странами была прозрачней, особенно для местных.
Полковник Адольф-оглу спросил у меня имя, дату и место рождения, и национальность. Заполнил графы на бланке с готовым машинописным текстом. Осетин перевел и предложил подписаться. Это было прошение о политическом убежище. Я подписал его без колебаний.
Тогда я не осознавал, что это была простая формальность. В действительности меня держали здесь негласно, без права общения с внешним миром и не имело никакого значения, что я подписывал или говорил. Турки могли расстрелять меня хоть сейчас, и никто бы не узнал об этом.[12]
Адольф-оглу предложил коротко изложить мою историю и объяснить, почему я оказался в Турции. Он записал все, но было ясно, что не поверил ни единому слову. В одном месте даже прервал меня и строго сказал, что до тех пор, пока не доказана моя невиновность, они могут обвинить меня в незаконном пересечении турецкой границы и отправить в тюрьму на долгие годы.
«Итак, ты говоришь, что приплыл из Батуми в селение Кемальпаша без посторонней помощи?» — саркастически засмеялся полковник. — «Но это же просто невозможно! Мы знаем о советской погранохране, и вдобавок, никто не может проплыть такое расстояние за две ночи».
Что мог я ответить? Только одно: пусть они возьмут меня на море, и я повторю плавание в аналогичных условиях. Он не принял мое предложение всерьез. Сказал, что мои документы, поврежденные водой, изучают эксперты. Результаты станут известны через несколько дней. Взмахом руки Адольф-оглу отпустил меня.
Привели обратно в камеру, принесли завтрак — стакан желтого чая с сахаром, небольшой кусок брынзы и хлеб.
Несомненно, турки все проверят и скоро меня отпустят, уверял я себя. Мне предоставят политическое убежище и позволят выбрать страну, где хочу жить. Кошмар пережитого останется позади.
Я встал и зашагал по камере. Нельзя допустить, чтобы я физически сдал, потерял спортивную форму! Чтобы сохранить форму, я упражнялся три раза в день, делая отжимания, приседания, все, что позволяло ограниченное пространство. Пища, которой меня кормили, была, судя по всему, той же, что получала охрана — суп, рис, иногда с кусочком мяса или рыбы, хлеб. Достаточно, хотя и однообразно. Нужно только попросить у них свежих овощей или фруктов, думал я.
Почти единственным развлечением стал поход в туалет. Он находился в коридоре, недалеко от моей камеры. Я не видел никого, кроме своих охранников, они, должно быть, принимали меры, чтобы ни один из узников не видел кого-либо еще (а я не мог быть уверен, что здесь есть другие заключенные). Ни звука не доносилось сквозь толстые стены, даже случайных шагов в коридоре. Утром, когда было особенно тихо, откуда-то издали слабо слышался призыв муэдзина. Иногда мне чудились извне жалобные звуки зурны.
Я уже знал, что в турецких клозетах нет туалетной бумаги — для гигиенических целей имеется бачок для омовений или кран, мыло не предусмотрено. Решил попросить туалетную бумагу или хотя бы газету. Я пытался продемонстрировать охраннику, что имею в виду. Он посмотрел на меня непонимающе, слегка позабавленный. Я ругал себя за то, что не учил турецкий перед побегом, и решил попросить разговорник или словарь на следующем допросе.
Два дня меня продержали в камере без допросов. Наконец, меня вызвали. Полковник Адольф-оглу сидел за столом с надменным выражением, а осетин рядом со мной. Он вел себя чрезвычайно подобострастно в отношении полковника. Когда я пытался задавать вопросы до того, как ко мне обращались, переводчик смотрел на меня с выражением ужаса.
На этот раз полковник пришел с пачкой бумаг. У него был мелкий, четкий почерк.
Все происходило будто в первый раз. Опять он спрашивал у меня имя, место и дату рождения, национальность.
Потом велел описать пересечение границы и цель прибытия в Турцию. Я сказал, что убежал от преследования, что я — диссидент, и что мое бегство началось, когда я вырвался из томской психиатрической больницы. Видно было, что он не все понял, когда осетин перевел ему мои слова.
— Почему ты был помещен в психбольницу?
— Потому что хотел уклониться от военной службы из-за моих пацифистских убеждений.
— Каких убеждений?
— Пацифистских.
Осетин, очевидно, испытывал трудности в понимании.
— Ты говоришь, что кого-то убил в армии?
— Нет, — терпеливо объяснил я, — пацифизм означает в точности все наоборот. Я не хотел никого убивать и поэтому хотел уйти из армии. А если бы не сделал этого, меня бы убили или изувечили в дедовщине.
— Ты говоришь, что у тебя были проблемы из-за своего деда? Он был кулаком? Его сослали в лагеря и убили? Ваша семья голодала?
— Нет, — говорил я. — Мой дед Василий был шорником, а не кулаком. Мой прадед по матери был целителем и травником в Сибири. Моего отца убили на войне. Я был спортсменом-пловцом и, по крайней мере, с тех пор, как я попал в областную спортивную команду, никогда не голодал. Между прочим, раз уж мы заговорили о еде, нельзя ли мне получать немного свежих фруктов и овощей?
Полковник Адольф-оглу явно запутался в том, кто кого убил, и какое отношение мой прадед имел ко всему этому. Мою нахальную просьбу о свежих овощах и фруктах он проигнорировал. То, что я услышал потом от осетина, заставило меня не поверить своим ушам.
«По имеющейся у нас информации, советы забросили тебя вблизи границы. Ты проплыл небольшое расстояние. Поднялся в горы, где должен был с кем-то встретиться. Ты — агент и лазутчик».
В завершение этой обвинительной речи полковник Адольф-оглу стукнул кулаком по столу для большего эффекта.
«Где ты взял турецкие монеты, найденные в твоих карманах, когда тебя привезли сюда? Лицо, с которым ты должен был встретиться, не появилось. Ты заблудился и решил сдаться».
Меня как громом поразило. Что за дурацкие выдумки? Они наверняка знали, что турецкие крестьяне дали мне монеты, когда меня везли в Карс. Как-никак есть свидетели! И как несколько монет могли обеспечить мою гнусную деятельность в качестве лазутчика и шпиона?
Может быть, осетин неправильно перевел. Я попросил повторить то, что было сказано. Нет, я правильно расслышал. Слово «джасус» повторялось вновь, как зловещая мантра.
На меня вдруг навалилась усталость. Отсюда никогда не выбраться. Они мне не поверят или не поймут то, что пытаюсь им объяснить. Опять я в стране разбитых зеркал. Наши различия больше, чем особенности пользования туалетом. Мы из разных миров, с разными законами и ментальностью. Даже если бы я говорил на совершенном турецком, они бы мне не поверили или не поняли. В этом случае объяснять что-либо полковнику Адольф-оглу казалось бесполезным. Я слышал, как осетин что-то еще бубнил, но едва прислушивался…
* * *
Так продолжалось несколько недель.
«Могу ли я применить какой-то гамбит Гамлета к моему дорогому полковнику Адольф-оглу?» — думал я бессонными ночами. — Что он хочет от меня? Как повлиять на него, чтобы добиться освобождения?
Стало ясно, что ситуация опасна. Забудь Неаполь, Вену и Сан-Франциско, сказал я себе. Эти люди вольны распоряжаться твоей жизнью и смертью. И хорошо обдумывай, что собираешься произнести, если хочешь покинуть это место целым и невредимым.
Полковник Адольф-оглу, кажется, был так же разочарован, как и я. Он сообщил мне, что они собираются проверить детали моего побега, тщательно обследовав территорию в поисках доказательств. Где я бросил свои ласты? Не оставил ли что-нибудь еще, что мне больше не было нужно? Могу ли точно указать место, где якобы видел турецкого мальчика после перехода границы?
Много лет спустя одна моя московская знакомая скажет: «Чтобы переплыть незамеченным почти тридцать километров хорошо охраняемой морской границы, прославленному агенту 007 Джеймсу Бонду потребовалось бы немало суперснаряжения — от маленькой подводной лодки до специального термозащитного костюма. О том, что ты сделал в одних плавках и допотопных ластах, можно сказать так: пусть Джеймс Бонд отдыхает!». Немудрено, что турки так упорно не желали мне верить.
Я старался отвечать на вопросы спокойно и настолько детально, насколько это возможно. Игнорировал провокации. Я догадывался, что постоянное неверие и подозрения — часть стратегии полковника, с целью нарушить эмоциональное равновесие узника, сделав его более подверженным ошибкам.
«Однако — холодно произнес полковник, — пока будет проверяться твоя история, мы не хотим, чтобы ты скучал».
И предложил мне написать детальный рассказ, как и почему я уволился из армии, включив в него рисунки и описания военных сооружений, аэропортов и других важных объектов, таких как радары. Профессиональные переводчики в главном управлении разведки переведут мои заметки.
Я почувствовал облегчение. Наконец-то я могу сказать свое слово, и есть надежда, что его переведут и прочтут интеллигентные люди.
Полковник Адольф-оглу отпустил меня движением руки и поднял телефонную трубку. Осетин вручил стопку бумаги для записей. Я увидел на столе потертый томик русско-турецкого словаря и попросил дать мне его на время. Осетин посмотрел с сомнением, но, увидев, что полковник занят телефоном, отдал книжку. Вернувшись в камеру, я в первый раз за много дней почувствовал, что могу сделать что-то полезное, что-то, что могло бы приблизить день освобождения.
ГАМБИТ ГАМЛЕТА ОПЯТЬ?
К тому времени я сознавал, что турки будут подвергать сомнению каждое мое слово, частью из-за предубеждения, частью из-за простого незнания. Передо мной стояла непростая задача — описать призыв в армию и попытки добиться освобождения от службы по причине «душевной болезни».
Казалось, полковник Адольф-оглу должен быть знаком с понятием пацифизма как основы для сопротивления призыву в армию. Весьма вероятно, что осетин не знал русского термина или турецкого эквивалента этого слова. Я жадно искал его в словаре, который мне дали. Но его там не было!
Стал выискивать и запоминать наиболее употребляемые турецкие слова. Потом решил учить турецкий, хотя бы с помощью словаря и бульварных турецких журналов, которые мне дали. Поставил себе цель запоминать минимум триста новых слов в день. Словарь содержал около тридцати тысяч слов. Примерно на три месяца. Я выучу больше, прислушиваясь на допросах, и буду проверять осетина, чтобы избежать неправильного перевода, который в моем случае может привести к фатальным последствиям.
Я взял первый лист бумаги и написал:
«Август 1961 — призван в армию.
Август-октябрь 1961 — новосибирский армейский спортклуб; затем воинская часть 91060, Новосибирский военный округ.
Октябрь 1961 — декабрь 1961 — новосибирская психбольница; обследование и освобождение от воинской службы с диагнозом «шизофрения, посттравматическая гипертония».
Декабрь 1961 — перевод в томскую психбольницу для «окончательного излечения».
Январь 1962 — побег из томской психбольницы на тайную квартиру. Приобретение документов.
Март 1962 — поездка на побережье Черного моря (Батуми) с намерением побега за границу (Турция).
Апрель 1962 — вступление в абхазскую республиканскую команду пловцов.
Июнь 1962 — побег в Турцию».
В конце как намек полковнику Адольф-оглу, я добавил:
«Дата неизвестна — освобождение из места заключения в Турции с целью иммиграции в любую цивилизованную страну, которая не имеет соглашений по экстрадиции с СССР (предпочтительно: страны Западной Европы, Австралия, США)».
Когда я принес это на следующий допрос, Адольф-оглу окрысился: «Это что за стенограмма? Напишете подробнее!» И отослал меня в камеру.
Пришлось снова взяться за ручку.
«Осенью 1961 года я был призван на военную службу военкоматом города Томска. Из-за моих предшествующих политических и идеологических убеждений, таких как пацифистские установки и общие антиавторитарные устремления…»
Слишком высокопарно. Я перечеркнул последнюю фразу и написал:
«Я был против убийства людей, если это не продиктовано необходимостью самообороны. Полагал, что коммунизм, в том виде как он осуществлялся в Советском Союзе, представлял пародию на провозглашаемые идеалы и в действительности служил только партийным бонзам и их приспешникам…».
Вычеркнул: «только партийным бонзам и их приспешникам» и заменил на: «высокопоставленным членам Коммунистической партии и другим партийным и правительственным функционерам и чиновникам».
Так звучало объективнее.
Но уже написав это, я понял, что вряд ли смогу объяснить вещи подобного рода моим турецким дознавателям. Если у них не было турецкого слова для понятия «пацифизм», они не знают и о Бертране Расселе и уж подавно не знают, с чем едят партийных бонз и их приспешников. Им нужно что-то попроще — бежал от нищеты, бежал от закона.
В окончательном варианте моей «исповеди» полковнику Адольф-оглу я просто написал, что был против службы в армии из-за того, что советская армия творила в Венгрии в 1956 году. Это частично являлось правдой и могло быть косвенно подтверждено рядом известных случаев, когда политические диссиденты попадали в психбольницы или в тюрьму из-за протестов против жестокого подавления венгерского восстания.
Подняв взгляд от моих переведенных записей, полковник Адольф-оглу сурово сказал:
«От тебя требовалось нарисовать схемы аэродромов, радаров и прочих военных объектов, мимо которых ты мог проезжать. Ничего подобного я не вижу. Меня мало интересуют твои политические взгляды или твой опыт пребывания в психиатрическом заведении».
Я запротестовал: откуда мне знать о всяких военных объектах, кроме того, что может видеть любой советский человек, проходя мимо забора с колючей проволокой, ограждающего какие-то таинственные государственные заведения?
«Я же вам объяснил, что я — пацифист, и не хочу, чтобы кто-либо думал, что может выиграть будущую войну. Поэтому даже если бы знал о чем-либо, все равно бы вам не сказал».
Осетин посмотрел на меня с ужасом. Он не собирался переводить эти слова, желая защитить от гнева полковника. И я не мог ничего сделать, чтобы он заговорил.
«Ну, так ты расскажешь о своем пребывании в армии? Опиши твою воинскую часть и ее местоположение».
«Я могу спеть вам тюремные песни, которые мы пели в нашем подразделении».
Осетин что-то залепетал, снова неточно переводя и — я уверен в этом — прикрывая меня от Адольф-оглу.
Следующий вопрос удивил меня.
«Какого цвета крыша больницы, в которую, по твоим словам, тебя поместили? Из какого материала сделана?»
Он, очевидно, не верил ни одному слову из того, что я говорил или писал. Возможно, у них была какая-то информация о психиатрической клинике № 333 в Новосибирске.
Я не мог сдержаться и произнес с досадой: «Даже в России я не был способен летать над крышами».
На этот раз осетин вынужден был перевести то, что я сказал. Лицо полковника Адольф-оглу побагровело, стало почти апоплексическим.
«Ты скажешь все, что знаешь. Если же нет, ты никогда, повторяю, никогда не выйдешь отсюда». Он схватил мои записки.
«Хватит чепухи. Если ты будешь плохо себя вести, мы выведем и расстреляем тебя, как собаку, и никто тебе не поможет, даже твой КГБ. Понял?»
Да, я понял. Спасибо, Адольф-оглу. Уж от кого, а от КГБ я не ждал помощи.
МОЕ «ПРИЗНАНИЕ»
Допросы продолжались, как мне казалось, бесконечно, хотя прошло всего несколько месяцев. Я бы потерял счет времени, не будь у меня турецкого календаря, который я вырвал из выданного мне для чтения популярного журнала, чтобы отмечать в нем дни. Уставая от рутины допросов и раздумий в моей маленькой клетушке, я становился все более раздражительным и подавленным. Ночью терял сон и временами чувствовал, что турки сознательно пытаются привести меня в состояние полного нервного истощения.
Однако бывали и маленькие развлечения, вроде того, что мне удалось загипнотизировать Кемаля. Этот офицер время от времени подменял полковника Адольф-оглу. Они, видимо, играли в традиционную игру «хороший — плохой». Кемаль всегда предлагал мне сигарету и иногда ракию. Он получил образование во Франции, говорил по-немецки. Казалось, этот офицер искренне интересовался мной и, то ли согласно своей роли, то ли в силу врожденного дружелюбия, рассматривал все происходящее как скверную шутку. «Тебе просто надо пройти через эту игру, которую некоторые из моих коллег принимают слишком всерьез», — как бы намекал он мне своим поведением. Однажды Кемаль пришел, страдая от сильной зубной боли. Я предложил с помощью гипноза избавить его от нее. Он согласился. Зубную боль мы у него сняли успешно. Как ни смешно, но потом я понял, что даже такая мелочь грозила обернуться против меня, поскольку у людей менее образованных, чем Кемаль, возбуждала подозрения, что я использую навыки, полученные в разведшколе.
Несколько дней спустя полковник Адольф-оглу пришел на допрос в особенно дурном расположении духа. Должно быть, у него были осложнения с начальством или какие-то другие неприятности. Я полагаю, что ему, как и мне, тоже надоела вся эта затянувшаяся история с моими допросами. Расстраивало, что нет результатов, которых он ожидал, несмотря на то, что испытал на мне все приемы, описанные и не описанные в инструкции. В этот день Адольф-оглу буквально дымился от ярости.
Он пытался вновь загнать меня в угол, выкапывая каверзные вопросы из ставшего уже объемным дела. В какой-то момент полковник начал стучать кулаками по столу, брызгая на меня слюной, поливая бранью на турецком языке, который я к тому времени начал понимать. И снова среди проклятий и ругательств был «джасус». Показалось, что он готов напасть на меня. Я поднял руки, пытаясь защититься. Полковник, видимо, решил, что я хочу напасть на него. Он вызвал охранников из коридора, которые сильно меня поколотили.
Стало ясно, что дело дошло до опасного предела. Нужно было что-то срочно предпринять, чтобы спасти свою шкуру и обрести какую-то надежду на освобождение. Так же, как и в психбольницах России, в этой стране разбитых зеркал я искал тактику, которая опиралась бы на понимание психологии моих мучителей.
Я пришел на следующую встречу с полковником спокойным и полным самообладания. И честно сказал ему, что очень устал от всей этой игры и хочу облегчить ситуацию, как для него, так и для себя. И хотя я не шпион, но готов признаться, что являюсь шпионом, чтобы довести дело до завершения, любого завершения. Мы вместе с ним, используя его знания в технике разведки, создадим правдоподобный сценарий о годах моего обучения в некоей разведшколе. В результате он получит повышение, а я — столь необходимый мне отдых. Я видел, что переводчик-осетин, с которым я иногда тайком обменивался анекдотами и который явно испытывал ко мне симпатию, был на грани слез, когда переводил мое «признание». Он воспринимал все это очень серьезно и предполагал, что я обрекаю себя на верную гибель.
Полковник Адольф-оглу немедленно успокоился и начал смотреть на меня вопрошающе, постукивая пальцами по столу. Я надеялся, что моя игра сработает. Это и в самом деле была большая игра, рассчитанная на то, чтобы заставить его поверить, будто я достиг своего предела, и любые дальнейшие допросы бесполезны. Но он мог ведь принять мое «признание» за чистую монету. Или же за очередную уловку хорошо тренированного разведчика, а это могло привести к опасным последствиям, таким как более изощренные допросы, а то и пытки.
Наконец, он взял мое досье и вышел из комнаты.
Меня оставили в покое на несколько дней. Я терзался сомнениями. Сам факт, что меня не трогают, показывал: моя тактика как-то работает. И по мере того как проходили дни, укреплялась надежда, что дела движутся к лучшему.
И, действительно, мне стали давать свежие фрукты, а охрана стала как будто снисходительней.
Примерно через неделю допросы возобновились. Однако после моего так называемого «признания» произошло заметное изменение в их тоне.
Разговоры стали поверхностными, как будто нужно было заполнить какие-то мелкие пробелы в моей истории. Меня больше не терзали. Все, что я говорил, принималось.
Большинство допросов теперь проводил Кемаль, который чаще всего был учтивым и дружелюбным. Хотя к тому времени я уже мог кое-как изъясняться по-турецки, все же должен был говорить через переводчика, чтобы записи были официальными.
И наконец случилось то, что турки очевидно восприняли как самое большое доказательство моей невиновности. Кемаль принес ко мне в камеру пластиковый мешок, из которого он высыпал на стол куски резины. «Узнаешь?» — спросил он. Да, по цвету я узнал их. Турки, как видно, искали в них встроенные передатчики или еще что-то в этом роде.
Однажды утром после завтрака в камеру пришел охранник и оставил на кровати пакет с одеждой. Когда я развернул его, то подпрыгнул от радости. Внутри был цивильный костюм, рубашка, пара трусов, носки и галстук! Я все еще помню этот галстук со слегка выступающими красноватыми ромбами, дешевый, простой, но который я не променял бы тогда на модель от Пьера Кардена. Он пах новизной, свободой, большими городами, витринами магазинов и ресторанами. Кошмар Эрзурума подходил к концу.
На следующее утро меня попросили надеть цивильную одежду. Когда я переодевался, вошел Кемаль. Он посмотрел на меня с нескрываемым удовлетворением: «Тебя везут в Стамбул».
«Меня освобождают?»
На лицо Кемаля набежала тень.
«Нет, это не совсем так. Тебя переводят туда для дальнейших допросов в управлении разведки. Допрашивать будут старшие офицеры, которые прочли все наши рапорты. Они не очень довольны результатами».
Мое сердце упало.
«Сколько, по вашему мнению, это будет продолжаться?»
«Черт их знает, — мрачно произнес Кемаль, — мне, вообще-то, не положено говорить об этом». Он сделал паузу: «Будь готов ко всему и не заходи в своих надеждах слишком далеко».
СТАМБУЛ
Меня посадили в поезд с сопровождающим в гражданской одежде, но при пистолете в кобуре под мышкой. Мы ехали в отдельном купе. Пре-дупредили, чтобы в поезде я не разговаривал ни с кем. Я с жадностью смотрел в окно — мимо мелькали сценки станций, городков, людей, наслаждавшихся все еще не доступной мне свободой. Я впитывал в себя очертания колоритной одежды крестьян, пытался догадаться по выражению лиц прохожих, были ли они довольны своей жизнью или нет.
В Стамбул прибыли утром, и нас подобрал джип. Мне завязали глаза, пока джип в течение почти двух часов ехал сначала по улицам с городским движением, а затем по каким-то тихим дорогам.
Когда повязку сняли, я оказался перед большим зданием, окруженным деревьями. Меня провели внутрь. Никакого сравнения с Эрзурумом. Комната, в которой меня разместили, была просторной, с большими окнами, на них даже не было решеток. Удобная кровать, покрытая одеялом, со сложенными сверху белыми простынями.
Вечером меня доставили на первый допрос.
В большом просторном кабинете за столом в кресле сидел офицер. Охранник отдал ему честь и вышел. С правой стороны стола находился человек средних лет в хорошем костюме и больших темных очках. Офицер жестом предложил мне сесть.
«Как вас зовут?» — человек в темных очках перевел на достаточно беглом русском.
Я не мог поверить своим ушам. Нет, только не все сначала! Не надо имен моих учителей в начальной школе и моих теток по материнской линии! Я не вынесу это еще раз.
Я перешел на турецкий.
«Я устал от этого… Это смешно. Вы же знаете мое имя. Почему вы не можете поверить мне и отпустить. Я тот, кто есть, как я уже говорил. Вы же нашли ласты?»
Я был готов разрыдаться. Офицер спокойно смотрел на меня.
«Вы должны говорить по-русски, — настойчиво произнес он, — как вас зовут?»
Меня захлестнула ярость, я готов был броситься на него с кулаками. Но осадил себя и сделал глубокий вдох. Вот, такова цена свободы. Туземцы вовсе не обязаны быть дружелюбными.
Правда, эти довольно спокойные и образованные люди отличались от тех, в Эрзуруме. Но, быть может, они были более опасны. Они и вправду могут вывести меня и расстрелять, как собаку, если я не буду играть по их правилам. Здесь даже не было Кемаля.
Я почувствовал себя разбитым и униженным.
«Меня зовут Петр Егорович Патрушев, я родился в городе Колпашево, Томской области Советского Союза».
Офицер усмехнулся с удовлетворением.
«Это уже лучше».
И допросы продолжились.
На протяжении трех месяцев я снова проживал моё прошлое, вспоминая давно забытые детали своей жизни. Пытался вспомнить, что говорил в последний раз, когда мне задавали тот же вопрос в Эрзуруме.
Через некоторое время у меня вновь возникло отчетливое чувство, что турки заполняют пробелы в моей истории, отвечая на вопросы, задаваемые кем-то еще, сверху. Ненависти ко мне, которую я чувствовал иногда в Эрзуруме, здесь не было. Эти люди просто делали свою работу.
Спасибо Кемалю за то, что он предупредил меня. Не знаю, смог бы я без этого пережить новый раунд допросов, не совершив какой-нибудь глупости.
На веранде моего А-образного домика в Каранде, в тропиках на севере Австралии
С сестрой Катей в отеле в Нью Дели. Об этой «тайной» встрече КГБ оказался прекрасно осведомленным
Письмо о «реабилитации»
Письмо от главы грузинского КГБ, уведомляющее о том, что мое «дело» сгорело вместе с архивами
Работа переводчиком на одной из конференций, организованных в конце 80-х годов институтом Эсален
Андрей Сахаров оказался скромным, деликатным человеком…
В рабочем кабинете в 1989 г. накануне первой поездки в Россию после моей реабилитации
Первая после снятия смертного приговора поездка в Россию
Я с сестрой Катей, братом Володей и мамой Мариной Васильевной во время визита в Сибирь в 1990 г.
Встреча с семьей в Томске. Слева направо — племянник Борис, племянница Люда, ее дочь Ксения, я и сестра Катя
Перед входом в Томскую психиатрическую больницу из которой я сбежал тридцать лет назад
Статьи обо мне в российских газетах после поражения путчистов
В институте Эсален в Калифорнии
Подготовка к конференции, посвященной психоаналитику Фрейду, на которую приехал в Австралию д-р Белкин
Во время визита российского премьера Николая Рыжкова и его супруги в Австралию в 1990 г.
Я с конфликтологом Хеленой Корнелиус в Новгороде
Демонстрация австралийских аборигенов в защиту их прав на владение племенными землями в Сиднее
Работа переводчиком во время операции на открытом сердце в Стенфордском университете. В центре — доктор Александр Вишневский
На конференции, посвященной дельфинам, в Австралии, с Игорем Чарковским — основателем системы водных родов
С братом Володей во время второй поездки в Россию, в 1991 г.
С Министром по делам иммиграции и этнических меньшинств Ником Болкусом во время пресс-конференции в 1995 г.
Жена Алиса и сын Андрей
Мы с сыном в заливе, на берегу которого живем
С годами, судьба автора все теснее срасталась с Австралией
Вся семья в сборе
Бангкок, конференция АТЭС 2003, в которой принимал участие Президент Владимир Путин. Я (крайний справа) с группой коллег-синхронистов
С сыном Андреем в Москве во время поездки в 2004 г.
Впервые за многие месяцы меня вывели на прогулку. Сопровождающим был солдат с винтовкой, небрежно висевшей на плече. Высокий забор окружал комплекс зданий. Подумал о побеге и тотчас же отбросил эту мысль. Куда я пойду? И как знать, найду ли лучший прием где-либо еще, даже если удастся попасть на корабль в Стамбуле или сесть на поезд, идущий во Францию? Я был одет в форму турецкого солдата без знаков различия. Далеко ли можно уйти в таком одеянии, с моим акцентом и без денег? Временами, я почти забывал, что нахожусь в тюрьме, да еще и в одиночке. С удовольствием поедал большие сочные плоды инжира в саду, куда меня водили на прогулки. К удивлению, никто их здесь не рвал. Для меня же эти плоды были редким деликатесом, который обещал нетронутые богатства в мире за забором.
Но что меня еще больше увлекало, так это предоставленная мне библиотечка эмигрантских книг и журналов на русском языке. Казалось, турки решили очистить меня от всех остаточных привязанностей к социалистическим идеалам.
Среди литературы выделялась книга Милована Джиласа «Новый класс», описание коррупции правящей коммунистической элиты. У меня были проблески видения этой коррупции, но теперь я глубже понял ее всепроникающий характер и неизбежность. Мы выросли в неравенстве. Еще будучи мальчишкой, я носил бидон молока от нашей коровы на государственный сдаточный пункт, где тщательно измеряли его жирность, чтобы убедиться в том, что мы его не разбавили. Другой бидон тащил через дорогу, где офицерская жена, сверкающая импортной ночной сорочкой и пахнущая духами, брезгливо кривила лицо, принимая бидон из моих чумазых рук.
Однако книгой, которая действительно врезалась в мое сознание, стала «1984» Джорджа Оруэлла. Она обнажала всю философию тоталитарного режима. Большевики использовали недовольство масс, чтобы свалить прежнюю власть, а затем развязали репрессии, на фоне которых царская Россия приобретала вполне благопристойный вид.
Запомнились мне и такие эмигрантские журналы, как «Грани», дававшие яркое описание лагерной жизни в моей родной Сибири. Эти статьи — предшественники книг Солженицына о Гулаге — убеждали, что тюремная жизнь вовсе не была отклонением или случайным явлением. Она являлась гигантской системой подавления всего, что стояло на пути к власти новых мастодонтов — безграмотных, но сильных демагогов, которые пытались править страной после революции. Сцены невообразимой жестокости, подобные той, когда женщин везли на Дальний Восток в вагонах для скота, в тесноте, голоде, холоде, без элементарной гигиены, били и унижали — наполняли гневом за поруганное человеческое достоинство.
Я еще больше убедился в том, что мой юношеский бунт был справедлив. Моя родина вовсе не являлась социалистической страной. Это была полуфеодальная империя, управляемая некомпетентными и жестокими невеждами, произносившими идеологические речи только для того, чтобы прикрыть собственное благополучие и укрепить власть, схожую по деспотизму со временами фараонов. Народу доставались крохи со стола элиты, пытавшейся реализовать фантастические планы мирового господства, но неспособной создать даже нормально работающую канализацию в стране. Все держалось на дешевой нефти и непомерных политических амбициях правителей, которые, в конечном счете, приведут страну к банкротству.
Я кипел от негодования, читая эти книги и статьи. И окончательно понял, что принял правильное решение. Годы нужды и опасностей, проведенные в стране двойных стандартов и Большой Лжи, завершились логично и неизбежно. Все муки и унижения, которые пришлось перенести в турецкой тюрьме, оправдывались тем, что я избежал судьбы, ожидавшей меня в Советском Союзе.
Прошел еще один месяц допросов. Я жадно читал книги и журналы в своей комнате, практиковался в турецком языке, мечтал об освобождении. Теперь у меня не было сомнений, что оно не за горами.
Мой побег был чересчур необычен, и это вызывало недоверие. Намного позднее я узнал, что мой проплыв был единственным успешным проплывом пловца-одиночки за долгие годы. Во всех других попытках пересечь границу по морю были замешаны плавсредства или посторонняя помощь. Сколько несчастных пловцов поглотило Черное море, а сколько отбыло сроки в лагерях или отсидело в дурдомах? Когда-нибудь и эта статистика будет собрана и опубликована. В любом случае, турки и так во все времена подозрительно относились к своим русским соседям. Слишком много войн, пограничных конфликтов, битв за сферы влияния. Борьба за власть, территории и колонии осложнялась религиозным конфликтом, который шел из далеких византийских времен. И турки, естественно, имели право быть подозрительными в отношении советской разведывательной машины, управляемой КГБ.
Но главным камнем преткновения, судя по всему, стало мое собственное упорство, отвращение к произнесению политических банальностей и обвинений, которые ожидались от беженца. Да и отказ дать хотя бы скудную информацию военного характера, которой я случайно мог владеть, тоже приводил в ярость турецких военачальников. Ожидалось, что я буду скромным просителем политического убежища. Иметь свои собственные взгляды и отстаивать их в моем положении казалось непростительным.
Примерно через месяц меня поместили в одну комнату с беглецом из Болгарии. Поначалу я полагал, что он — «наседка», наподобие моего соседа в батумском общежитии. Но вскоре настороженность прошла. Тодор был дружелюбным, может быть, слегка наивным беженцем из маленькой болгарской деревни вблизи турецкой границы. Кажется, у него случились нелады с законом за какое-то незначительное нарушение. Из его рассказов о материальных трудностях стало ясно, что причины его побега, в основном, экономические.
Через несколько дней после нашего поселения с Тодором я увидел на столе допрашивавшего меня офицера досье с английским текстом. Были ли американцы тайно причастны к работе с перебежчиками? Где взяли турки те русские книги, которые давали читать?
Как и в Эрзуруме, когда дело двигалось к концу, допросы стали поверхностными. Турки, казалось, совсем потеряли интерес ко мне и перестали делать ставку на прежние версии по поводу шпионской деятельности. У них явно оставалось мало шансов на служебное продвижение за поимку советского шпиона.
Однажды во время второго месяца пребывания в Стамбуле мне было велено снова переодеться в гражданскую одежду. Опять завязали глаза и вывезли, как я догадывался, в направлении, обратном тому, по которому привезли.
Когда повязку сняли, я оказался перед большим зданием в центре Стамбула. Это было Би-ринджи Шубеси, главное управление турецкой полиции. Меня провели в комнату и оставили ждать.
Вошел маленький смуглый человек и произнес приветствие на ломаном, но понятном русском. Он представился как Решат Бей, начальник лагеря для перемещенных лиц. Турецкий офицер вручил ему небольшой пакет с моими документами.
Я свободен!
Джип привез меня к воротам неприметного дома с лужайкой, покрытой сухой травой. Дом выглядел заброшенным.
Так осенью 1962 года я оказался в лагере для беженцев в пригороде Левент в окрестностях Стамбула.
НЕПРОШЕННЫЕ ГОСТИ
Дом в Левенте был местом, где размещали беженцев из стран восточного блока (в основном, из Советского Союза, Болгарии, Югославии и Венгрии), чтобы они дожидались получения иммиграционных виз в Америку, Швецию, страны Западной Европы и Австралию.
Мы не имели гражданства и были практически вне закона. Турки нас не хотели. Да и никто из нас не хотел оставаться в Турции. Процесс получения визы мог длиться месяцами, а то и годами. Среди нас был пожилой венгр, которого не хотела принять ни одна страна. Он находился здесь со времени конца венгерского восстания в 1956 году. И однажды получил выездную визу — прямо на небеса. Старик повесился на веревке, которой перевязывали посылки, присылаемые нам по американской программе поддержки беженцев.
Однако мрачные предчувствия не посещали меня, когда я входил в дом. После нескольких месяцев одиночного заключения у турок и почти волшебного спасения от, казалось, неотвратимой гибели или заточения в застенках КГБ, жизнь в Левенте стала глотком свободы.
Лагерь для перемещенных лиц в Стамбуле был на самом деле обычным домом в пригороде, окруженном лужайкой с пустырем и небольшим пересыхающим ручьем позади него. Заведовал им Решат Бей, а финансирование осуществлялось несколькими благотворительными организациями. Обитатели лагеря не имели документов, поскольку они ожидали визы для выезда в страны, к которым они обратились. Им не разрешалось покидать территорию лагеря без разрешения или оставаться на ночь где-либо еще. Во всем остальном они были свободны.
Среди перемещенных лиц в лагере жили несколько болгар, венгров, один армянин и четверо русских, включая меня.
Вначале я остерегался и ни с кем много не говорил. Но вскоре начал понимать, что хотя турки и присматривали за лагерем через Решат Бея, который регулярно докладывал полиции о происходящем в Левенте, власти на самом деле просто хотели избавиться от нас как можно скорее.
Я быстро подружился с Саркисом, армянином, сбежавшим через советско-турецкую границу по суше в районе Еревана. Своим успехом об был обязан невероятному стечению обстоятельств: он случайно попал на участок границы, где проходили ремонтные работы, и смог прокопать проход под колючей проволокой, обойдя сигнализацию тревоги.
Невысокого роста, сухой и жилистый, с живым темпераментом, он был чрезвычайно общителен и, как я вскоре узнал, прекрасно ориентировался в обстановке. Саркис неплохо говорил по-турецки. Родился в Бейруте, но вернулся в Армению с семьей и только лишь для того, чтобы узнать, что ненавидит ограничения, которые ему там навязывались. У него не было особых политических убеждений. Он хотел вести беззаботную жизнь на Западе, подобную той, которую помнил по своему бейрутскому детству. Турки допрашивали его всего пару недель. Саркис, по крайней мере при мне, не упоминал о вековой вражде между армянами и турками и никогда не говорил о резне армян в 1915–1918 годах.
«Ты православный или католик?» — задал он первый вопрос после знакомства. Я заколебался. Меня крестили как православного, но если я и считал себя кем-то, то скорее агностиком с сильным интересом к буддизму. Увидев мои колебания, Саркис продолжил: «Кто бы ты там ни был, я тебе очень советую записаться в католики. Миссионеры-католики меньше воруют у беженцев, чем греки, которые заправляют в Совете церквей. И одежда на их складе намного лучше».
Позже я осознал мудрость этого совета. Формально программа содействия беженцам Всемирного Совета церквей возглавлялась мистером Базалджетом, бывшим полковником британской армии, просвещенным и щедрым человеком, однако конкретную деятельность осуществляли сотрудники и добровольцы, махинации которых выходили за пределы детективных способностей англичанина.
Службу беженцев-католиков, с другой стороны, возглавляла богатая итальянка мадам Павиолли[13]. Считали, что у нее есть личная индульгенция самого Папы римского. Она обладала дипломатическим статусом в Стамбуле и тесными связями с турецкими и американскими властями. Даже если ее персонал немного подворовывал, оставалось еще достаточно и для нас.
На пути в службу помощи, куда повел меня Саркис, я был ослеплен и оглушен видами и звуками Стамбула. Реклама стала для меня наиболее впечатляющим явлением этого города. После тусклости советских городов Стамбул привлекал яркими фасадами магазинов и окнами витрин. Мы сели на долмуш (маршрутное такси), идущий к центру города. Саркис, видимо, знал здесь все входы и выходы.
В католической службе помощи нас встретил Тони, помощник мадам Павиолли. Тони родился в греческой семье в Стамбуле, но, подобно многим здешним образованным грекам, кроме турецкого, знал французский и английский языки.
Тони провел нас на склад и предложил выбирать все, что мы захотим. Саркис, проявив большую сноровку, отобрал для меня два костюма, шерстяной джемпер, теплое пальто и две пары брюк.
«Но они же не моего размера», — наивно запротестовал я.
«Не мели глупости, — осадил меня Саркис, — эти тряпки пойдут на продажу. Мы их отнесем в Капали Чарши (рынок в Стамбуле) и продадим эскиджи (торговцу подержанными вещами). А потом купим тебе приличные вещи».
Покинув склад, мы тотчас отправились в Капали Чарши. На улицах было много эскиджи. Наши маленькие заботы и суетливость Саркиса не заслонили от меня прелестей красочного и шумного Стамбула. Это был мост между Европой и Азией. Батуми померк в моем сознании перед увиденным мною изобилием мечетей, магазинчиков, уличных лавок, запахами свежезажаренной форели, печеных каштанов, пряного изюма. Хаос, хаос, но каким благородным казался мне этот хаос после серости недостроек социализма! Мне хотелось просто идти по улицам Стамбула, впитывая его запахи и краски, позабыв о моем временном статусе здесь и мелочных заботах об одежде и еде.
Но неумолимый Саркис тащил меня в узкую улочку с маленькими магазинчиками вдоль нее. «Я знаю торговца, который прилично платит и может правильно оценить хорошие вещи. Например, за этот джемпер можно получить 50 лир, достаточно, чтобы пять раз сходить в бордель!»
Мы вошли в магазин, и Саркис поприветствовал продавца. После споров и торговли они сошлись в цене. Я помалкивал. Хозяин угостил нас чашкой чая. Когда мы вышли, Саркис положил мне на ладонь несколько банкнот.
«Двести пятьдесят лир, — сказал он, — хорошая выручка. Теперь пойдем в другой магазин и купим тебе модную куртку и пару приличных брюк».
Пищу в нашем доме готовил повар — турок по имени Мустафа. Его стряпня оставляла желать лучшего даже для наших непритязательных вкусов. Блюда от Мустафы представляли собой, в основном, разные варианты варева из бобов с небольшим количеством мяса из консервных банок, поставляемых службами помощи; ингредиенты из банок вываливались в кастрюлю, и все это перемешивалось и разогревалось. По ночам взрывчатые газы, содержащиеся в бобах, создавали в доме жуткую атмосферу.
Чтобы пополнить нашу скудную диету, мы пускались во все тяжкие, от ловли ласточек самодельными силками до поисков черепах на окрестных холмах. Эти черепахи — обычная огородная разновидность, которая никогда не была предназначена для питания — оказались чрезвычайно прочными. Предприимчивый болгарин Тодор, мой старый знакомый, в конце концов, изобрел метод, включавший в себя убийство черепах электрическим током с помощью голых проводов от сети и разделку их большим кухонным ножом. К тому времени как он приканчивал бедное создание, пробки в доме перегорали, пол был покрыт черепашьими испражнениями, и только самые огрубелые души могли отважиться попробовать стряпню, которую Тодор готовил из останков черепахи.
В углу кухни Мустафа презрительно фыркал, наблюдая всю эту процедуру. Решат Бей безутешно кудахтал над сгоревшими предохранителями. После нескольких неудачных кулинарных экспериментов черепахи были навсегда исключены из меню беженцев. Нам, правда, иногда удавалось установить личные взаимоотношения с персоналом и добровольцами, работавшими в различных организациях содействия, чтобы иногда заполучить лишнюю банку консервов или пачку сыра.
Еще одним русским в лагере был бывший советский пограничник по имени Николай. Он сбежал во время обхода пограничным нарядом нейтральной полосы. Свой побег готовил много недель, но хотя от турецкой стороны его отделяло лишь несколько сотен метров, не мог этого сделать. Командиры заботились, чтобы наряды составлялись из солдат различных национальностей, они не должны были дружить между собой, и с ними всегда должен был идти сержант, лояльность которого была вне подозрений. Любая попытка бежать казалась невозможной. Им говорили, что попытка побега — измена родине и карается смертной казнью. Солдатам показывали картины казней предателей и предупреждали, что турки все равно выдадут перебежчиков советской стороне после допросов.
Решив бежать, Николай улучил момент, когда два его товарища держали свое оружие стволами вниз. Он предложил им присоединиться к побегу. Когда один из пограничников попытался воспользоваться оружием, Николай застрелил их обоих.
Был там еще один русский пограничник, Семен. Он, как и Николай, застрелил двух своих товарищей. У Семена в лагере совершенно нарушилась психика. Убийца все время повторял, что находится под угрозой, что его выкрадут советские агенты. Периодические ложные тревоги, в конечном счете, привели его к отправке в психбольницу. Несколькими месяцами спустя я посетил его в качестве переводчика вместе с социальным работником из Всемирного Совета церквей. Условия в больнице были средневековые, пожалуй, не лучше, чем в советских психбольницах, хотя это и трудно себе представить. Когда мы пришли к Семену, ему уже ничем нельзя было помочь. Его накачали медикаментами, и он говорил бессвязно. По-турецки же не знал ни слова. Я не знаю, что с ним сталось, но мало надежды, что он выжил.
Николай, в противоположность Семену, видимо, никаких угрызений совести не испытывал. Он выделялся своей простецкой осанкой и круглым лицом с выдающимися татарскими скулами. Низкорослый, но жилистый парень, которому, как и мне, едва исполнилось двадцать. Турки его допрашивали пару месяцев. Поскольку он сбежал с оружием, в СССР его наверняка обвинили в дезертирстве и заочно приговорили к расстрелу.
Третьим советским перебежчиком в лагере был украинец по имени Ерема, который спасся, как он считал, благодаря Божьей помощи.
Это его убеждение даже укрепилось, когда он узнал от бывших пограничников Николая и Семена, насколько невероятной была его удача. Оказалось, что когда Ерема только приближался к границе, пограничники были предупреждены, что идет потенциальный нарушитель. Ерема несколько ночей прятался в кустах в жутком страхе от одного вида пограничных укреплений, находившихся на его пути. К счастью, он взял с собой достаточно еды, чтобы поддержать себя. Должно быть, он прятался в таком малодоступном месте, что пограничные наряды с собаками не смогли обнаружить его. Ерема даже не знал, как ему удалось незамеченным пересечь границу, пока один из наших беглых пограничников не прояснил ситуацию. В ночь, когда Ерема, наконец, решил сделать рывок к границе, внимание там уже несколько ослабело. В результате, один из пограничников, который должен был вскоре смениться, из-за лени оставил на пограничном посту свою тяжелую ракетницу. Ему следовало в свой последний обход выйти на ничейную землю и там, в случае тревоги, выпустить ракету, указав направление, в котором мог двигаться предполагаемый перебежчик. Когда он увидел другие ракеты на советской стороне границы, означавшие, что беглец приближается, то вынужден был бежать на пост за оставленной ракетницей. Боясь, что его оплошность заметят, солдат добежал до поста и выпустил ракету, что означало, будто он видел беглеца на ничейной земле в непосредственной близости от поста. Тем самым другие пограничники, которые должны были преградить путь Еремы к ничейной земле, были направлены совсем в другую сторону.
Услыхав это объяснение, Ерема стал лихорадочно молиться, благодаря Бога за помощь; и действительно, в сравнении с большинством из нас, он был счастливчиком. Но по вполне земной причине: у него были украинские друзья в Канаде, которые посылали деньги и посылки с едой и помогали ему получить визу в Канаду.
Ерема стал мишенью для шуток Саркиса, дразнившего его за любовь к салу и за простоту. Украинец пытался хранить сало в общем холодильнике, из которого оно неизбежно исчезало. Он ненавидел лагерь и Турцию и хотел как можно скорее попасть в Канаду к своим родственникам в религиозной общине.
Последним добавлением к советскому контингенту был Владимир, молодой здоровяк, сделавший две попытки побега из СССР, вторая из которых была удачной. Он обладал гаргантюанским аппетитом, легким отношением к жизни и бычьй мощью. В лагере Владимир чувствовал себя, как дома. В конце концов, он уехал в Швецию.
Николай служил пограничником во время моего побега. Он рассказал, что побег этот вызвал настоящий фурор. КГБ и командование погранохраной пытались понять, как я проскользнул незамеченным. Одной из теорий была такая: у меня с собой был лист пластика, который я разворачивал и накрывался им, когда луч прожектора проходил надо мной. Теперь мне стало еще очевидней, что, когда я решил не нырять глубоко, а просто лежать на воде, дыша спокойно, я буквально спас себе жизнь. Ныряй я глубже, был бы обнаружен сонарами. Оказалось, меня нельзя было обнаружить, пока я находился вблизи поверхности воды, где рябь, создаваемая волнами, служила мне прикрытием даже на экране сонара. Николай сказал, что после моего побега высокий пограничный чин был понижен в звании. Они не знали о моей остановке на военно-морской базе. И я не раскрывал этой детали моего побега много лет, чтобы эта последняя ниша не была закрыта для других беглецов.
Новые товарищи рассказали мне истории о некоторых перебежчиках, которые, как предполагалось, исчезли в заточении в Турции, и их никогда не видели больше. Были ли они агентами? Этого мы теперь не узнаем. Но все только подтверждало мои подозрения, что я выскочил из очень опасной переделки. Для людей, подобных мне, не существовало ни защиты, ни апелляции к высшим властям или какому-то беженскому трибуналу.
Обосновавшись в лагере, я понял две вещи: надо вырваться отсюда как можно скорее и надо учить английский язык. Турки не ожидали, что кто-то из нас захочет остаться в Турции. Нам не разрешалось работать. У нас не было документов. Фактически мы были персона нон грата.
Я обратился с прошением об иммиграции в страны, которые тогда принимали мигрантов. Подача заявлений на визу предпринималась по нашему поручению Всемирным Советом церквей и Католической службой помощи. Я обратился за визой в Швецию, Австралию и США.
Мы в значительной степени были отрезаны от мира. Но в скором времени я нашел источник новостей с Родины. Один человек, с которым я познакомился через православную церковь в Стамбуле, продавал русские газеты и журналы. Вначале я начал читать, а потом и писать статьи для эмигрантской газеты «Посев», издаваемой в Мюнхене, в Западной Германии. Я написал статью, озаглавленную «Не могу молчать», где описал пережитое мною. Это была одна из первых статей на тему о психиатрических злоупотреблениях, когда-либо публиковавшихся очевидцами в период после второй мировой войны. Описывал подробно и истории о пересечении границы, услышанные от людей, встреченных мною в Левенте.
Приговорен к расстрелу
За английский я взялся всерьез. Слушал передачи по старому приемнику Би-Би-Си. Вначале я понимал только название радиостанции и время. Словарей не было. Лежала стопка комиксов на английском языке и «Диалоги с Сократом» Платона в бумажной обложке. Единственный человек, который в лагере знал английский, был доктор Тенков, болгарский интеллигент, который бежал в Турцию, переплыв реку. Он стоял выше всех нас по положению: имел родственников за рубежом, говорил на нескольких языках, безупречно одевался и, казалось, пользовался уважением даже у турецких властей и Решат Бея. На какое-то время Тенков стал моим живым словарем.
Однако по мере улучшения моего материального положения в связи с регулярными поездками в службу помощи, я смог позволить себе роскошь посещать магазин иностранных книг в Стамбуле. Там не было словарей с русским языком, но нашелся двухтомник английского в картинках, который стоил недорого и оказался для меня бесценным. Он позволял мне изучать английский язык напрямую, без перевода на русский. Я занимался днем и ночью и вскоре уже мог читать простые предложения. И продолжал регулярно слушать Би-Би-Си, чтобы улучшить произношение.
Наконец, пришел день, когда я смог подойти к доктору Тенкову и на ломаном английском попросить у него на время «Диалоги с Сократом». Он был так изумлен, что отдал книгу без возражений.
Мой начальный словарь представлял собой разнородную смесь из всех этих источников. Все, что следовало мне сделать, — собрать их воедино. До сих пор помню выражение на лице голландского священника, с которым я заговорил на одной из встреч, организованной для нас. Впервые я опробовал свой английский именно на нем. Словарный запас, приобретенный из комиксов о Микки Маусе и диалогов с Сократом, да еще с русским акцентом, должно быть, звучал потешно.
Второй мой экзамен случился, когда милый мистер Базалджет и социальный работник, голландка Ида, служившая под эгидой Всемирного Совета церквей, организовали посещение нашего дома группой из стамбульской иностранной колонии. Я пытался говорить с Идой по-английски, но выяснил, что она говорит по-немецки, и с неохотой перешел на свой хоть базовый, но надежный немецкий, к ее нескрываемому облегчению.
Возглавлявший группу священник приехал в сопровождении стайки пожилых прихожанок, которые захватили с собой пару молодых женщин, принадлежащих их конгрегации. Это оказалось ошибкой. Здоровый увалень по имени Драгне, который, как я сильно подозревал, спасался от болгарского правосудия, все время ходил к себе в комнату, чтобы набраться куража от жуткой смеси, которую мы научились делать, добавляя сахар в дешевое турецкое вино и оставляя бродить на несколько дней. Будучи в подпитии, он, наконец, попытался заставить одну из молодых женщин танцевать с ним. Она благоразумно отказалась, после чего он начал ее лапать. Произошла всеобщая сумятица, когда мы старались сначала отвлечь Драгне, а потом, потерпев неудачу, усмирить. Пожилые прихожанки и молодые женщины были удалены из дома священником, который потерял в этой свалке туфлю.
Между тем Решат Бей бегал вокруг, угрожая лишить жильцов, которые «оказались такими нецивилизованными дикарями», всех привилегий. Мистер Базалджет и Ида тихонько удалились. Первый эксперимент с «открытым домом» окончился неудачей.
Однажды я заметил, что за мной следят. Сначала думал, что это турецкие органы безопасности. Но когда Ида попрощалась со мной на центральной площади, где я садился в автобус до Левента, ко мне подошел мужчина чуть больше сорока лет, широкоскулый, с проницательным, но вовсе не враждебным, как мне показалось, взглядом и несколько театрально произнес на ломаном английском: «Если вы будете продолжать писать ваши статьи, вашей семье будет плохо».
Я пристально посмотрел на него. У него был безошибочно узнаваемый славянский акцент. Я ответил ему по-русски: «Я сбежал из России, потому что не хотел жить в страхе. Я не перестану писать».
Человек добавил, все еще по-английски: «Тогда мы вас убьем». Потом быстро скрылся в толпе.
Об этой встрече я рассказал Решат Бею. Он поговорил с турецкой полицией, и они велели держать их в курсе. Турки, казалось, не очень-то беспокоились о моей безопасности. В то время я не знал, что суд Грузии приговорил меня заочно к смертной казни по обвинению в измене родине. Позже друзья-эмигранты сказали мне, что я все сделал правильно. Поддайся я шантажу, КГБ продолжал бы давить на меня и моих родственников. Им очень не нравились мои статьи в «Посеве», но они уже были опубликованы и причинение мне какого-либо вреда вызвало бы скандал.
МАДАМ ПАВИОЛЛИ
Мадам Павиолли была руководителем Католической службы помощи в Стамбуле. Эта богатая итальянка лет пятидесяти с лишним, с обширными связями в Риме и в Стамбуле, арендовала небольшой особняк в одном из роскошных пригородов. Я заметил, что мадам начала довольно часто приглашать меня и Николая к себе домой, возить на обеды и осмотры достопримечательностей. Вскоре стало очевидно, что она проявляет интерес исключительно к Николаю, но так как тот говорил только по-русски, а мадам Павиолли владела «всего лишь» итальянским, английским и французским языками, меня приглашали как переводчика. Другой причиной моего присутствия на этих свиданиях было желание мадам придать их альянсу благопристойный вид невинных встреч с парой находящихся в трудном положении беженцев.
Мы обедали в дорогих ресторанах и разъезжали в черном «Мерседесе» мадам Павиолли. Николай неизменно выбирал в меню самые дорогие блюда, независимо от того, что они собой представляли. Мадам это очень забавляло, и она любовно наблюдала, как Николай и я набрасываемся на еду, подобно голодным волкам.
Обычно все заканчивалось в доме мадам ликерами и десертами. Потом она брала Николая за руку и уводила, говоря, что хочет, чтобы он ее немного поучил русскому языку.
Мне потребовалось немного времени, чтобы понять, что она безнадежно влюблена. Совершенно невероятный роман полуграмотного русского дезертира и стареющей итальянской матроны вызвал скандальные пересуды в иностранном и дипломатическом сообществе Стамбула. Было очевидно, что это романтическая лебединая песня мадам Павиолли.
Николай, между тем, жил полной жизнью. Мы ели, как короли, а Николай еще и притаскивал домой дорогую еду со своих мародерских набегов в особняк мадам. К сожалению, он начинал чувствовать себя выше и могущественнее всех остальных беженцев. Однажды после наших обычных десертов у мадам Павиолли он велел мне пойти погулять и предоставить ему пару часов с его любовницей. Я послал его подальше и больше никогда к ним не присоединялся.
Чем безнадежней мадам Павиолли привязывалась к Николаю, тем наглее он злоупотреблял этим. В разговорах со мной Николай с самодовольным видом похвалялся, что у него есть ключи от ее дома, и он… водит туда проституток, давая им вещи из ценного гардероба мадам. А однажды сказал, что в ее спальне обнаружил сейф, полный иностранной валюты и золота. И когда-нибудь он попробует подобрать код.
В один из не самых прекрасных дней я увидел, как мадам Павиолли пришла на работу с огромным синяком. Дело очевидным образом шло к своему грустному финалу. Говорили, что мадам заказывала для Николая дорогие костюмы по индивидуальным меркам и разрешала их носить, только когда они выходили вместе. Я видел его однажды в одном из таких костюмов. Несмотря на шик, он все равно выглядел в нем как огородное пугало.
В Стамбуле царила атмосфера вседозволенности, по крайней мере для иностранцев с высоким, как у мадам Павиолли, положением, и ее связи удерживали ситуацию от возможных осложнений. Справедливости ради нужно сказать, что, исключая это временное наваждение, мадам Павиолли была деловой, щедрой и доброжелательной дамой и реально заботилась о беженцах, которых ей доверили.
Рано или поздно мадам Павиолли должна была освободиться от тяжкого груза этой «любви». Мне рассказывали, что позднее, когда я уже оставил Стамбул, она использовала свои связи, чтобы добыть Николаю визу в Соединенные Штаты. Не знаю, удалось ли ему подобрать шифр к ее сейфу до того, как он туда подался.
Стамбул в начале шестидесятых был привлекательным городом для туристов. Продукты были до смешного дешевы, и иностранцы, в общем, чувствовали себя здесь в безопасности (если, конечно, они не были греками, так как отношения между Турцией и Грецией в то время периодически ухудшались).
В один из таких периодов, когда витрины некоторых греческих магазинов в городе были разбиты, я пошел обедать с моим другом Владимиром в турецкий ресторан. Владелец этой «локанта» по ошибке принял нас за немцев. В то время они пользовались любовью турок, так как предоставляли им работу в качестве гастарбайтеров. Хозяин знал несколько слов по-немецки, а я, не желая разочаровывать его и обсуждать наше истинное происхождение, ответил на его приветствие по-немецки. Турок, перейдя на родной язык, начал извиняться за убийство немецкой супружеской пары туристов какими-то местными, которые, как он сказал, по ошибке приняли их за русских.
Владимир, который знал всего несколько слов по-турецки, не уловил опасный поворот разговора, гордо указал на свою геркулесову грудь и заявил своим громовым голосом во всеуслышание: «Рус».
На мгновение в ресторане повисла гнетущая тишина, а потом я увидел, как в нашу сторону полетел стакан. Я скомандовал Владимиру пригнуться и бежать. Когда мы выбежали из «локанта», Владимир вдруг попытался вернуться. Он забыл на вешалке свой недавно купленный в Капали Чарши плащ.
Несколько турок выбежали за нами на улицу с ругательствами и проклятиями. Владимир быстро уложил их своими кулачищами. С балкона полетел стул и чуть не попал ему по голове. Турок, которому удалось выскочить из двери, выхватил нож. Я крикнул Владимиру, что куплю ему другой плащ. Мы бежали в сторону моста Галата, а разъяренная толпа турок неслась за нами по пятам.
В лабиринте ларьков и магазинов на другой стороне моста мы, наконец, оторвались от преследователей. Думаю, Владимир даже не осознал, насколько опасной была ситуация. До того, как в ссору вмешалась бы полиция (которая тоже не славилась вежливостью обращения), нас бы наверняка жестоко избили.
Приближалась зима, и православная община Стамбула готовилась к празднованию Крещения, во время которого было принято бросать в воды залива крест, а верующие соревновались за честь достать его первым. На этом празднике царило доброжелательное соперничество между греками и болгарами. В предыдущем году крест достал грек, и болгары пригласили меня присоединиться к их команде в надежде на реванш. В Левенте я старался восстановить спортивную форму, потерянную в турецком заключении, и в значительной мере добился этого.
Ида отвезла нас с Владимиром на место празднества на своем потрепанном «Фольксвагене».
Воды залива вблизи моста Галата (которые сейчас слишком загрязнены, чтобы в них плавать) местами сковывал лед, а земля была укрыта снегом. Православные верующие, подкрепленные существенными глотками крепкого напитка, выстроились в очередь к лодке, которая доставляла желающих нырять за крестом в залив на расстояние около двухсот метров от берега. Когда крест упал в воду, участники выпрыгнули из лодки, чуть не перевернув ее. Поскольку я оказался единственным тренированным пловцом, мне не составило большого труда добыть крест. В благодарность болгары, честь которых была восстановлена, пригласили нас на свой праздник, который затянулся далеко за полночь.
Тем вечером мне предстоял урок английского с Идой. Вообще наши уроки становились все более продолжительными и менее формальными. Ида приехала в Стамбул из благополучной Голландии, с романтическими идеями помочь страждущим беженцам и как-то облегчить их участь. После моего успешного заплыва за крестом мы вернулись к ней поздно и выпили слишком много водки. Я остался на ночь. Я рассказал ей о моей дружбе с Галей перед побегом, сожалея, что все связанные со мной люди непременно должны были попасть на допросы в КГБ. Она слушала меня с пониманием.
Ида настаивала, чтобы мы скрывали наши отношения, поскольку она, не имея такого влияния, как мадам Павиолли, могла потерять свою работу. Используя связи с Решат Беем и турецкими властями, она ходатайствовала о разрешении мне работать с ней в качестве переводчика. После нескольких месяцев пребывания в лагере мой английский стал достаточно сносным и, так как я к тому времени неплохо знал турецкий и мог понять болгарский и сербский языки, мои услуги были востребованы. Однажды после деловой встречи в городе Бурса на азиатской стороне Босфора мы поехали с Идой на лыжный курорт в горах. Это была редкая и прекрасная передышка в жизни беженца. Ночь провели в мотеле, а утром даже смогли покататься с гор перед отъездом обратно в Стамбул.
Постепенно я установил контакты с русской эмигрантской общиной. Один русский, бывший белогвардеец, воевавший против большевиков, нашел, что информация о жизни в Советском Союзе, которой я делился, ему не понятна. Подобно офицеру турецких органов безопасности, который меня допрашивал, он полагал, что большинство населения России или голодает, или сидит в лагерях. Он даже не слышал о речи Хрущева, разоблачавшей Сталина, на 20-м съезде в 1956 году. Ему трудно было понять меняющиеся политические реалии в мире, но он стремился к общению и несколько раз приглашал меня и Владимира на свою виллу на побережье. Позже я узнал, что он был убит при таинственных, но как будто не связанных с политикой обстоятельствах.
Наиболее приятными и безобидными представителями эмигрантского сообщества были пожилые дамы, которые готовили блюда и обслуживали посетителей в отличном русском ресторане «Ренессанс» рядом с Бейоглу, главной улицей Стамбула. Их котлеты «по-киевски», пирожки и борщи были просто восхитительны. Единственный недостаток — близость ресторана к советскому посольству. После памятной встречи с агентом КГБ я старался не испытывать судьбу.
Обстановка в лагере стала напряженной после драки по какой-то пустяковой причине, в которую оказались замешанными русские и болгары. Какое-то время казалось, что напряжение, которое мы все испытывали, привело к появлению неприязни и зависти между разными этническими группами. Многие завидовали еде и одежде, которые приносил в лагерь Николай. Обычно стычки происходили после тайных попоек. Владимир, естественно, наслаждался возможностью показать свою силу. Он регулярно тренировался со штангой, сделанной из кирпичей и лома, и спал с пожарным топором под подушкой. К счастью, вскоре обстановка разрядилась — Тодор, один из главных зачинщиков драк, в конце концов, пошел на примирение после того, как мы с ним хорошо выпили и переговорили, подарив ему вдобавок бутылку коньяка из секретных запасов Николая.
Через год Ерема отправился в Канаду. За ним последовал Владимир, получивший шведскую визу. Предполагалось, что он будет работать на трикотажной фабрике в Мальме. Доктор Тенков уехал в Соединенные Штаты, Саркис эмигрировал в Австралию. Из русского контингента остались лишь я и Николай. Я получил шведскую визу, но решил подождать визу в Австралию или Соединенные Штаты.
Через несколько месяцев позвонили из британского посольства в Стамбуле. Со мной хотел встретиться представитель Австралии.
Это был долгий разговор, человек, говоривший со мной, несомненно, получил информацию обо мне от турецких спецслужб. Поскольку эмигрантов в Австралию из Советского Союза уже давно не было, меня решили взять в порядке пробы. Мне сказали, что Австралия нуждается в рабочей силе.
Я попрощался с друзьями в лагере, а также с помощником мадам Павиолли Тони и самой мадам, которая, как и всем беженцам, оплатила мне дорогу морем из фондов ее организации. Последнюю ночь в Стамбуле я провел в доме Иды. Она сказала, что, несмотря на все наши ухищрения, многие в иностранной колонии и в ее организации знали о нашей связи. Мы могли бы играть в открытую. На прощание Ида подарила мне золотой датский гульден. Мы оба знали, что наши судьбы соединились мимолетно. Меня ждала новая жизнь в Австралии.
НАКОНЕЦ, АВСТРАЛИЯ!
Океанский лайнер отошел от причала в Стамбуле. Вдалеке стояли и махали мне, желая счастливого пути, Ида, мадам Павиолли, мои друзья из Левента. В последнюю минуту мне стало чуточку жалко покидать Стамбул — за год с лишним я к нему привык. Но все сожаления рассеялись, как только лайнер вышел в море.
Мы остановились по дороге в Пирее и потом в Неаполе. Остановка в Пирее была короткой, и я смог только немного побродить по городку. В Пирее было русское кладбище, и порт был когда-то базой российского средиземноморского флота.
В Неаполе мы остановились на ночь, и у меня была возможность посмотреть город. Из окон неслась веселая музыка, я пил в таверне дешевое красное вино и наслаждался певучей итальянской речью. Итальянцы показались мне веселыми, жизнерадостными и общительными. Это был Неаполь, о котором я так мечтал в турецком заточении. Но, конечно, мечта отличалась от действительности. Денег у меня практически не было, и я бродил пешком вдоль берега моря, рассчитывая поплавать на местном пляже. Помню, меня поразило то, что я не мог подойти к морю несколько километров — вдоль берега располагались богатые частные виллы, а дорожек к морю не было. И все-таки я был счастлив, когда, наконец-то, окунулся в воды Средиземного моря.
Поездка из Стамбула в Австралию длилась около месяца. В Индийском океане нас здорово трепало пару недель. Почти все пассажиры и многие из экипажа болели морской болезнью. Столовая была практически пустой во время ужина.
Во время этого долгого морского путешествия я начал немного выпивать, благо вино с обедом подавалось бесплатно. Я был, наверное, единственным политическим беженцем на судне. Люди беседовали о том, как делать деньги, о своих семьях и друзьях. Некий австралиец грубо обругал меня, услышав, что я слушаю русские передачи по коротковолновому радио. Почему я слушаю это иностранное радио? Я должен учить английский, раз собираюсь поселиться в Австралии. Я промолчал. В тот момент я гордился своим уже довольно беглым английским, но спор с этим полуграмотным австралийцем казался пустой тратой времени.
Я ничего не знал об Австралии, кроме того, что увидел в кино в Батуми и прочел в книгах и в энциклопедиях. Не знал, например, что окажусь практически единственным человеком, эмигрировавшим из СССР в те годы. Прошла уже послевоенная русская иммиграция из Европы, прошла и харбинская иммиграция из Китая, и не началась еще еврейская иммиграция конца 70-х — начала 80-х годов. Австралийские власти отнеслись ко мне корректно, хотя и с некоторым подозрением. Вскоре после приезда меня недели три допрашивала австралийская секретная служба. Все это, конечно, было понятно после нашумевшего дела Петрова[14]. Для многих австралийцев я был вообще первым русским, которого они увидели.
Эпизод на корабле как бы предвосхищал то, что будет происходить со мною дальше. Высадившись на берег в Мельбурне, я в течение трех или четырех недель работал на местной фабрике. Поселился у милой дружественной русской семьи среднего достатка, которая прибыла в Австралию из Харбина много лет назад. По иронии судьбы опять, как когда-то в Томске и Батуми, я служил в отделе технического контроля. И, казалось, теперь уже некуда и не от кого было бежать. Мое будущее могло стать таким же, как у этой пожилой пары, считавшейся удачными переселенцами. Они добились своего — владели скромным домом, садом и могли не беспокоиться о том, на что будут жить в старости. Их эмоциональная жизнь вертелась вокруг холостого сына, который был к ним очень привязан, и любимой канарейки. Большинство вечерних разговоров сосредотачивалось вокруг уморительных проделок этого пернатого любимца.
Я чувствовал, что задохнусь в этой среде. Я был рад вырваться из СССР и избежать смертельной опасности, которая грозила мне там. Владел языком. Но о чем можно было говорить с обитателями этой чужой страны? Они мало знали о внешнем мире и их это нисколько не заботило.
Через несколько недель я оставил работу и с достаточной суммой в кармане отправился в Брисбен на далеком севере Австралии. Наконец-то буду любоваться экзотическими ландшафтами, наслаждаться теплым климатом, увижу диких кенгуру и, может, даже встречу аборигенов. Приехав в Брисбен, нашел работу чертежника. Деньги, проклятые деньги, являлись билетом на свободу, и их надо было зарабатывать.
Главный чертежник оказался русским иммигрантом, попавшим в Австралию после войны. Этот образованный и добросердечный человек разрешил мне жить в уютной комнатке в цокольном этаже служебного здания. Его семья приняла меня, как второго сына. Я купил себе хороший костюм, начал «выходить в свет» и… продолжал пить. Какой-то мерзкий червь грыз меня изнутри, делая пищу, которую я ел, несвежей, а вино выдохшимся.
Насколько сложными могут быть судьбы эмигрантов даже следующих поколений, я узнал из судьбы Вадима, сына моего ментора-чертежника. Он практически не видел своего отца, который работал день и ночь, пытаясь обеспечить семью и даже разбогатеть. Мать обожала Вадика и считала его гением. Когда отец ушел в отставку, Вадим начал увлекаться всякими учениями «нью эйдж» и стал даже на короткое время видным деятелем местного Теософского общества. Но постепенно (несмотря на мои постоянные увещевания) он склонялся к все более крайним течениям и сделался последователем секты бриферионистов (Ьгеайаапаш), высшим достижением для которых был полный отказ от пищи и переход на питание воздухом. Не буду описывать все довольно сложные детали этой печальной истории, скажу только, что Вадим и его жена, помогавшая ему обучать учеников, оказались, в конце концов, в тюрьме за непредумышленное убийство. Умерла от осложнений их ученица, так и не достигшая способности питаться только кислородом.
Для большинства русских эмигрантов в те годы единственными отдушинами служили церковный ритуал и споры о том, как и когда надо освобождать Россию, или же, наоборот, пение дифирамбов «коммунистическим достижениям». Нас окружали простые австралийцы, самосознание которых едва ли выходило за пределы поисков хлеба насущного, лошадиных бегов и питья пива. В то время для меня, двадцатилетнего максималиста, заурядность являлась тяжким грехом.
Как-то я поведал своему другу-собутыльнику, что чувствую себя одиноким. Он пришел в ужас. Для него я был героем, который преодолел невероятно трудные препятствия и теперь стоял на пороге «хорошей жизни».
Времени на то, чтобы предаваться раздумьям или просто отдохнуть, не было. Жизнь должна идти вперед, и регулярные попойки — это все, что мне оставалось, чтобы как-то забыться и побыть в компании друзей. Много лет позже я прочел книгу о самоубийствах в Америке — «Самоуничтожение в стране обетованной». Главной причиной самоубийств, как выяснили авторы, являлись неоплаканные потери из прошлого, часто охватывающие многие поколения мигрантов, для которых главной ценностью была не жизнь, а выживание и «успех», измеряемый почти исключительно материальными приобретениями и соответствующим повышением социального положения и статуса.
Я не мог найти новой цели в жизни. Когда я боролся за свои убеждения, у меня была цель. Когда я пересекал Черное море, я видел себя на пороге новой жизни. Даже когда меня допрашивали турки, была цель — попасть поскорее на свободу. Но здесь я стал еще одним иммигрантом, пытающимся как-то вписаться в общество потребления, заработать на хлеб и, по возможности, залатать свою жизнь.
Именно в Брисбене я встретил Наталью. Она была из семьи, которая уже давно перебралась в Австралию из Китая. Простая женщина с земными заботами. Мы с ней встречались, и она забеременела. Я не был готов принять на себя ответственность отцовства и брака.
Ее мать не одобряла нашей связи, и вскоре мы с Натальей вынуждены были переехать из Брисбена в Мельбурн. Меня постепенно затягивала обыденность. Находил случайную работу: контролер качества, тренер по плаванию, чернорабочий. Даже завел небольшой бизнес — агентство химчистки, которой некоторое время заведовал. Этот малый бизнес оставлял мне достаточно времени, чтобы читать и писать. Я сидел за конторкой в пригороде Мельбурна — Ст. Кидда, обслуживая посетителей и запоем читая книги. Это был злачный район (такой он и сейчас) и, так как я сдавал в доме, где я жил, несколько комнат (дом принадлежал одному латышу, и он дал мне возможность жить в нем бесплатно, возложив на меня ответственность за сдачу квартир и сбор аренды), у меня было немало приключений. Как-то раз ко мне вселились три очень приятные молоденькие австралийки. Через несколько дней в дверь постучалась полиция, утверждавшая, что я владею борделем. Мне с трудом удалось переубедить их. Девочек пришлось выгнать.
Химчистка приносила мало прибыли, пока прежние владельцы не научили меня некоторым секретам их бизнеса. Моими самыми прибыльными и активными клиентками оказались местные проститутки. До сих пор помню запах духов, которыми была пропитана их одежда. Эти женщины никогда не пользовались купонами из газет, которые давали скидку на химчистку одежды на оптовом предприятии, где производилась фактическая обработка собранной мною одежды. Приняв одежду, я распределял ее в несколько пакетов и снабжал соответствующими купонами. Денег немного прибавилось.
Я играл в местной русской волейбольной команде и приобрел несколько близких друзей. Можно написать отдельную книгу о судьбах некоторых из них. Один из друзей, Алексей К., много лет спустя получил солидное наследство от тетки в Калифорнии и, преисполненный желания воссоединиться со своей далекой, к тому времени перестраивающейся, Родиной, купил на эти деньги рыболовное судно в России вместе с экипажем. Он мечтал о бизнесе в районе островов Фиджи, где жили родственники его жены. Так как у Алексея не было никакого опыта в бизнесе, а капитан судна и многие из экипажа рассматривали всю эту затею как предлог уйти от российских проблем и провести экзотический отпуск в тропиках, дело шло плохо. Рыбы не удавалось наловить даже на собственный обед. Многие на борту запили. Кто-то пытался жениться на фиджийке и остаться на острове насовсем. Один больной моряк умер, и его тело надо было репатриировать на родину. Кончилось тем, что экипаж остался совсем без денег, и вызволять его пришлось профсоюзу моряков. Судно продали за бесценок местным спекулянтам. Алексей стал на короткое время представителем Дальрыбы в Австралии, но, после финансовых неувязок, уехал на Фиджи и, через несколько лет вернувшись в Австралию, сделался финансовым брокером.
В то время я много времени проводил с друзьями в пивнушках. Единственной настоящей отрадой в жизни, как и в детстве, оставались книги и природа. Читал жадно, теперь почти исключительно по-английски, в значительной степени насытив свой интерес к эмигрантской литературе.
Я восполнял пробелы во всех областях знаний. И к великому моему огорчению скоро понял, что психология, философия, социология, как я знал их в России, оказались весьма усеченными, отрезанными от основного организма знаний, которые столетиями накапливались в мире. На западе этот организм был живым, растущим и развивающимся в направлениях, о которых советская наука лишь упоминала в кратких комментариях, невежественных и почти всегда критических.
Чтение было хаотичным, но идея получения какого-либо формального образования меня пока не вдохновляла. Я искал ответы на вопросы, связанные со своими эмоциональными и духовными потребностями. Поиск больше походил на детектив — ключи к разгадке могли быть найдены в самых неожиданных местах.
Однако прогресс от моей самодеятельности вовсе не был гарантирован. Меня захватил и увлек вихрь беспорядочных эмоций. Я заливал это сверху водкой. Наталья была надежной опорой, а я — разрушителем для нее и нашего брака.
Я едва помню, как росла дочь Римма, слишком занятый выпивкой и друзьями. В двадцать лет роль отца оказалась мне не по плечу. А Римма была обаятельным ребенком, не по годам взрослым, будто понимавшим несовместимые судьбы родителей.
К СВЕТУ
И вдруг моя жизнь стала меняться. Я и раньше увлекался такими вещами, как йога, гипноз, обучение во сне. В 1967 году индийский гуру Махариши Махеш Йоги появился в нашем городе вскоре после его широко освещавшихся в прессе встречи с группой Битлз. Я пошел на его лекцию. А на следующий день явился к нему с намерением пройти инициацию. Он спросил меня, чего я хочу, счастья или знаний. «И того, и другого». Он улыбнулся и сказал: «Тогда будешь иметь и то, и другое».
Он прошептал мне на ухо мою мантру. Первоначально, я был настроен ко всему этому достаточно скептически. Во время медитации малейший шум заставлял вздрагивать. Меня раздражало льстивое, по моему мнению, низкопоклонство перед гуру со стороны последователей. Иногда он даже не понимал вопросов, которые ему задавались. Тем не менее, аудитория подобострастно внимала любым ответам. Упрощенные аналогии, которые он повторял, заставляли сомневаться в хваленой мудрости Махариши. Но я продолжал заниматься медитациями, вскоре отойдя от культа Махариши и перейдя на буддистскую систему випассана, не связанную ни с каким культом. Ею, как и хатха-йогой, я занимался потом лет двадцать и они помогли мне уйти от пристрастия к табаку и алкоголю и найти на время определенную долю душевного равновесия.
Я поехал на север, в Квинсленд, на ферму моего тестя, чтобы поработать над рукописями. Это был удаленный, необжитой район. Здесь я охотился на фазанов и кенгуру, искал золото, собирал папайю, очищал землю от кустов. Пытался воспроизвести по-английски содержание записных книжек, уничтоженных перед побегом. Сидел, обложив себя горой словарей. Осуществлялась моя мечта: писал, был свободен, никто не стоял надо мной и не говорил, что делать. Только большая змея — там было полно змей и их воспринимали как домашних животных, к тому же охраняющих дом от грызунов — свисала надо мной с балки, когда я пытался сосредоточиться над печатной машинкой.
Мой тесть всю жизнь мечтал найти на ферме золото. Это была мечта почти каждого эмигранта о своем «Эльдорадо». Мы перерыли много грунта, но ничего не нашли. Парадоксально, но много лет спустя, его сын нашел на своей ферме в этом же районе крупные залежи ценного мрамора, которым обшиты теперь стены австралийского парламента.
Мне нравилось работать в естественном окружении прекрасной экзотической природы. Вечерами мы с тестем готовили ужин, и я закуривал трубку, редактируя написанное за день.
Поскольку я не мог еще писать приличную прозу по-английски, то избрал «модернистскую» технику. Но когда я потом принес книгу одному издателю в Лондоне, он посоветовал мне ее сжечь, что я и сделал.
Первый контакт с матерью и семьей в России произошел в 1966 году, три с половиной года спустя после побега. В эти переходные годы я пытался забыть свои российские корни, насколько это было возможно. Чувствовал, что если мою семью не трогать, им будет так безопаснее. Они оставались в полном неведении относительно моей судьбы. Но затем, через одного приятеля, работавшего в русскоязычной газете в Мельбурне, у которого тоже были родственники в Сибири, я узнал, что мать и сестра разыскивали меня через Красный Крест. И решил им позвонить. Только много позже я узнал, что все мои родственники и большинство друзей допрашивались в КГБ после моего побега. Там скопилось увесистое дело обо мне. Побег этот стал учебнылл примером для старших офицеров КГБ в секретном учебнике (об этом говорил гэбэшник, задержавший меня при первом обратном пересечении границы СССР в 1990 году, — но об этом речь впереди).
Однажды я просто взял и вызвал мать на телефонный разговор на колпашевской почте. Наша первая беседа была не очень содержательной. Связь нарушалась помехами, нас наверняка подслушивали (как позже рассказала мать, сотрудник КГБ стоял рядом с ней), о те годы, вероятно, единственный раз кто-то из-за границы звонил в маленький сибирский городок. Кажется, большую часть разговора мы потратили, убеждаясь в том, что действительно говорим друг с другом. Я представлял мать стоящей в телефонной будке почты в валенках и старом пальто, слушающей мой голос, искаженный расстоянием в многие тысячи километров. Где эта Австралия? Вероятно, для нее мой голос звучал, как голос с того света. Это было почти так. Вскоре после побега местные гэбисты терроризировали мать, показывая фотографии утопленников, якобы подобранных в Черном море при попытке бегства в Турцию, и предлагали ей опознать мое тело. К тому времени советские властные структуры были официально информированы турками о моем побеге и формальном обращении за политическим убежищем, следовательно, прекрасно знали, что я жив. И пытка матери была своего рода местью за свой провал на границе и невозможность достать меня самого.
После звонка у меня возникло чувство исполненного долга. С тех пор происходили лишь случайные обмены письмами с семьей, содержание которых ограничивалось в основном деталями повседневной жизни без малейшего упоминания чего-либо политического (советская цензура проверяла почту из-за границы). Глубокая пропасть начала отделять мой жизненный опыт от опыта моей семьи. Мы жили на разных планетах.
Прочитав газетное объявление, я подал заявление о приеме на работу в русскую службу Би-Би-Си в Лондоне и, после сдачи экзамена на русском и на английском языках, был принят. В Англию отправился один, так как существовал шестимесячный испытательный срок, только после него можно было привезти семью. Приехав в Лондон, я пребывал в состоянии, граничащем с экстазом. Даже маленькая комната в отеле на Стрэнде, казалось, излучала дух старой Англии. Набросился на газеты — они оказались невообразимо лучше австралийских. Это был настоящий Запад!
Я стал первым свежим эмигрантом из СССР, принятым на Би-Би-Си (шел 1968 год). На станции было засилье старых эмигрантов вроде Леонарда Шапиро, принципиально не читавших советских газет, говоривших на «петербургском» русском начала века и воспринявших меня, а потом и последовавших за мной свежих иммигрантов, как толпу гуннов, вторгшихся в их обжитое, уютное царство (Шапиро славился своей коллекцией антикварных картин, купленных за годы работы на Би-Би-Си).
Вскоре за мной последовал Николай Рытьков, старый лагерник, которого упрятали в Гулаг за увлечение эсперанто. Он был внешне похож на Ленина и иногда разыгрывал сценки в Гайд-Парке, становясь на ящик оратора в позе Ильича. Он сбежал на Запад сразу после освобождения и реабилитации, как только его отпустили на конгресс эсперантистов в Вене. Потом пришел Азиз Удугов, выпускник Иняза, сбежавший в Индии.
Мы создали политическую и лингвистическую когорту, с которой старым зубрам на Би-Би-Си пришлось считаться. Шапиро постепенно перестал доставать из мусорных ящиков свои переводы, поправленные нами, которые он поначалу, брызгая слюной, с жалобами носил по комнатам. Он начал спокойней принимать наши поправки, очевидно, почувствовав, что время (да и начальство) не на его стороне.
Я был в состоянии полного неистовства, посещая кино, театры, галереи. Лондон в конце 60-х был, пожалуй, одним из самых интересных городов мира. Я смотрел пьесы с участием Лоуренса Оливье, Ральфа Ричардсона, Ричарда Бэртона. Питер Брукс создавал новаторского «Эдипа», писал свое знаменитое кредо о «Пустом пространстве». Старики на Би-би-си были рады моему энтузиазму и энергии. Пиши на здоровье, говорили они, отдавая мне свое место в эфире. Я ходил в бары, где читали стихи поэты и играли такие мастера джаза, как Роланд Керк. Я знакомился с местными поэтами. По роду своей работы встречал представителей всех социальных слоев, от нищих до знати. Директор внешней службы Би-Би-Си пригласил меня на встречу «на чай» с принцессой Маргарет, сестрой королевы, которой понравилась экзотика моего побега. Мы много смеялись, и я обещал в шутку научить ее играть на балалайке, подаренной ей недавно посетившим Англию русским народным ансамблем. Она рассказала мне о своей неудачной пьесе под названием «Лягушка» и о ее частых «побегах» от прессы и назойливых друзей на островок Мастик в Карибском море. Мне показалось, что за ее манерой добродушной и дипломатичной представительницы королевской семьи скрывалась какая-то личная трагедия. И действительно, я потом читал в газетах о ее связях с представителями лондонской богемы, о постоянных срывах в исполнении ее роли «принцессы». Через 10 лет она окончательно расстанется с этой ролью и разведется с лордом Сноудоном.
Би-Би-Си пыталась привить нам стандарты объективности, учила нас технике сбора информации и ведения интервью. Спустя гдд я начал делать собственные программы: очерки о жизни в Англии, «студенческой революции», обзоры театральных постановок и спортивных событий. Особенно нравилась работа над юмористически/л и сатирическим радиожурналом, который мы назвали «Тот самый журнал» (в память о многих провалившихся попытках создать нечто подобное на Би-Би-Си). Я работал над ним вместе с молодым Володей Родзянко (сыном отца Владимира Родзянко — ведущего религиозные передачи на Би-Би-Си в течение многих лет), Димой Изотовым, спортивным корреспондентом Би-Би-Си и Колей Рытьковым, актерские способности которого нам очень пригодились. Мы творили что-то вроде знаменитого английского «Гун» шоу, с музыкой, шутками, злой сатирой, скрытой под маской театра абсурда. Все это так отличалось от обычных советских представлений о каких-то злопыхателях на иностранном радио (классически нарисованных Кукрыниксами), служащих рупором империалистов, которым они продались за тридцать сребреников.
Володя Родзянко оказался вовлеченным в побег балерины Натальи Макаровой в 1970 году. У них завязался роман, Володя бросил жену (тоже балерину в прошлом, но из Южной Африки) и переехал с Макаровой в Америку, попытавшись стать ее менеджером. Но очень скоро она нашла себе настоящего менеджера, а потом и мужа. Что случилось с Володей дальше, не знаю. Помню только, что его отец публично просил свою паству в эфире «молиться за моего грешного сына».
Еще одним громким перебежчиком был Анатолий Кузнецов (автор известной книги «Бабий яр»). Он пришел ко мне вскоре после своего побега, как только его отпустила английская разведка, охранявшая его (и не напрасно: вспомним, как Григорий Стоянов, сотрудник болгарского отдела Би-Би-Си был убит в 1978 году уколом отравленного зонтика). Я помню Анатолия очень напряженным. Он рассказал, что тоже задумывал переплыть из Батуми (сколько людей пытались уйти этим путем, не счесть — есть истории о Пушкине, Есенине, даже Леониде Утесове!). Хотел использовать акваланг, но вовремя передумал. Я объяснил, что у него не было никаких шансов на успех. Умер Анатолий в сорок девять лет от сердечного приступа, непонятно чем вызванного. Я до сих пор помню его огромную кошку, сидящую на подоконнике его лондонской квартиры.
Он показался мне очень одиноким в эмиграции и не нашедшим своего места в новом мире.
После нескольких месяцев работы на Би-Би-Си мне удалось полностью побороть страх перед микрофоном. Как оказалось, мой голос имел высокую «полетность» и тембр, который пробивал глушение. Меня стали звать на наиболее ответственные записи. Единственным человеком с большей пробивной способностью голоса была Елена (фамилию забыл), которую прозвали «Иерихонской трубой». У нее был сильный голос, и она смеялась, рассказывая, как часто торговцы принимают ее по телефону за мужчину. Вместо конфузливых объяснений, она обычно просто говорила, что «за покупкой придет моя жена».
Атмосфера на Би-Би-Си была непринужденной, теплой. Случались казусы, как, например, когда я записывал с Колей Рытьковым передачу об английских скачках, и он, не заметив, что магнитофон продолжает крутиться, вдался в длинную дискуссию о том, почему на скачки нельзя пускать жеребцов. Передача пошла ночью. Ночными сменами заведовали обычно машинистки, которые просто подавали сигнал технику в студии, когда надо пускать новую пленку. Наутро бедная тетя Оля в ужасе рассказывала нам о нецензурных вещах, которые пошли в эфир, пока она не догадалась перейти на музыку.
Мне тоже иногда приходилось вести ночные смены, когда требовалась подача свежих новостей, как, например, во время кризиса в Чехословакии. В Буш-хаузе, где находилась Би-Би-Си, была своя маленькая гостиница для ночных смен. Старые сотрудники-англичане рассказывали нам, как они практически баррикадировались в студиях во время Суэцкого кризиса, когда правительство хотело оказать нажим на Би-Би-Си, придерживавшейся слишком нейтральной позиции.
В мои годы на Би-Би-Си русским отделом заведовали грамотные и талантливые люди, такие как Мэри Ситон-Уотсон (дочь знаменитого советолога Хью Ситона-Уотсона, преподававшего в Лондонской школе экономических наук) и Гордон Клаф, ставший потом звездой английского телевидения. Ряды штатных и внештатных сотрудников пополняли выпускники лучших английских университетов. Некоторые из них, например, Майкл Скаммелл стали потом видными переводчиками и писателями. С такими людьми было приятно и интересно работать. Мы жадно поглощали дары культурной среды, в которую попали, и старались передать хоть что-то из нее нашим слушателям на Родине.
Рутину скрашивала и возможность поработать в студии с интересными людьми. Однажды мне пришлось провести около трех часов в студии с актрисой Ванессой Редгрэйв, которая сама хотела прочитать по-русски письмо протеста против суда над Синявским и Даниэлем. Она явилась на Би-Би-Си в прозрачной кофточке, чуть не вызвав кондрашку у чопорного швейцара на входе. Практически не говоря по-русски, она все-таки смогла заучить, повторяя за мной каждое слово, текст письма и прочитать его в эфир.
Помню также смешной эпизод при озвучивании фильма Тони Ричардсона «Айседора Дункан». Меня пригласили на запись как консультанта. Для озвучивания были наняты кем-то по блату люди, плохо говорившие по-русски. Несколько слов в народной песне, которую они напевали, могли звучать как нецензурная брань. Когда я сказал об этом Ричардсону, он очень ругался, ибо пришлось заново записывать сцену.
Большинство англичан на Би-Би-Си любили Россию и сохраняли идеалистические взгляды в отношении своего долга по отношению к своим слушателям — доносить до них наиболее просвещенные взгляды и мнения из Англии.
Со временем мой медовый месяц с Англией и Би-Би-Си подошел к концу. Я начал ощущать пределы журналистской свободы, какими бы мягкими они ни были. Конечно, никакой грубой цензуры не было. Мы могли передавать по радио письма Светланы Аллилуевой, дочери Сталина, несмотря на просьбу со стороны Форейн Офис отложить это во время визита британского министра иностранных дел в Москву.
Однако британское чувство уместности, пусть более изощренное, чем цензура, в конечном счете, диктовало, какие вопросы были разрешены, а какие нет, так же как и общий тон дискуссий. Существовали некие неприкасаемые священные коровы: королевская власть, колониальное прошлое, расслоение британского общества, проблемы Северной Ирландии. Это лишь немногие примеры тем, в освещении которых надо было быть очень осмотрительным. (Мне, например, не разрешили поехать в Белфаст за материалом о конфликте в Северной Ирландии, несмотря на неоднократные просьбы.). Мы часто должны были иметь дело с информацией из вторых рук, переводя сообщения британских журналистов и комментаторов. В конечном счете, британцы нам в некоторых отношениях не доверяли. Единственно кому позволялось делать прямые комментарии, были особо матерые журналисты, такие как Анатолий Гольдберг. Этот старый лис мог создать гибридный жанр комментария, казавшийся столь же личным и многообещающим, как «Письма из Америки» Элис-тера Кука. Даже в среде самих британцев всякое реальное критическое расследование ограничивалось определенными рамками. Любое «сенсационное» расследование запретных тем, как намекали главные СМИ, не заслуживало серьезного рассмотрения.
Иногда дело доходило до прямого столкновения между британскими хранителями морали и порядка и непослушной прессой. При мне в Лондоне начал выходить крамольный и эротический журнал «Оз» (позднее я познакомился с двумя его ведущими авторами, австралийцами Ричардом Невиллем и Мартином Шарпом). В 1971 году над его авторами и редакторами, которым предъявили обвинение в напечатании непристойных материалов, состоялся шумный суд. Но к чести британской судебной системы закончился он полным провалом обвинения.
Я стал все чаще уезжать из Лондона: на Майорку для занятий плаванием, в Шотландию и в Австрию, кататься на лыжах. Восточно-европейской службой Би-Би-Си заведовал тогда Александр Левин, опытный администратор, ценивший «новую кровь» и последовавшее за ней повышение журналистских стандартов.
Моя семья приехала из Австралии. К тому времени я полностью бросил пить. Продолжал заниматься йогой и медитировать. Но воодушевление от работы на Би-Би-Си стало истощаться. Опять давила рутина. Была ли это моя неуемная натура «Близнеца»? Мне хотелось писать что-то свое, не перепевая написанные английскими журналистами комментарии.
Домашняя обстановка была такой напряженной, что Наталья, которой очень нравилась жизнь в Англии, отправилась со мной к психологу. Тот посоветовал нам развестись. Я вскоре уволился с Би-Би-Си. После долгих и горячих споров мы решили возвратиться в Австралию.
Мы сели на теплоход, идущий вокруг мыса Доброй Надежды с остановкой в Кейптауне. Путешествие было далеким от мирного. Отношения с Натальей становились все более и более напряженными, и в конце концов она взбунтовалась против моей раздражительности и агрессии.
По прибытии мы поселились в маленьком домике в Сиднее недалеко от побережья. Я ходил удить рыбу с камней, плавал, занимался йогой и медитацией по утрам. Днем переводил на русский книгу Карла Юнга «Человек в поисках смысла». Водил дочь в маленький бассейн на берегу и иногда брал с собой на рыбалку, провожал ее в школу и обратно. Я старался посвятить Римме больше времени, чтобы хоть как-то скрасить влияние наших постоянных ссор на ее психику. Наталья все еще злилась на меня за решение покинуть Англию. Мы или не разговаривали друг с другом, или пререкались. Брак неотвратимо распадался.
КОНФРОНТАЦИЯ СО «СВОБОДОЙ»
В те дни мной владело почти такое же чувство, какое я испытывал в четырнадцать лет, уезжая из Колпашево в Томск. Я задыхался в рутине, в ссорах с Натальей, которая, в отличие от меня, была практичной женщиной, пытавшейся создать какой-то семейный уют.
Подал заявление о приеме на работу на радио «Свобода» в Мюнхене и был принят. Отъезда ожидал с нетерпением, предчувствуя, что не вернусь к семье. Говорил себе, что развод — лучший выход для нас и для нашей дочери. По крайней мере, она будет избавлена от зрелища постоянно ссорящихся родителей.
Но в Мюнхене я вдруг обнаружил, что мне не хватает Риммы. Вспоминал ее слова при расставании: «Ты опять уезжаешь, папа…» Римма вскоре приехала ко мне в Мюнхен на несколько месяцев. Для нас это было трудное время. Римме еще не исполнилось семи лет, и она ревновала меня к моей подруге. А я оказался недостаточно чувствительным, чтобы понять ее переживания. Но все-таки старался устроить ее жизнь как можно лучше: она ходила в хорошую частную школу, мы часто выезжали за город, катались на горных лыжах, я покупал ей дорогие игрушки.
Атмосфера на «Свободе» радикально отличалась от Би-Би-Си. На работе я пытался создать свою нишу, которая давала бы наибольшую творческую свободу. Программы подвергались цензуре, перед тем как выпускаться в эфир, среди персонала было расслоение с большой разницей в оплате. Американцы получали наивысшую ставку, иностранные журналисты по свободному найму, вроде меня, были следующими по привилегиям и, наконец, шли местные эмигранты, которым платили меньше всего. Немцы, занимавшиеся администрированием на станции, находились где-то посредине и хорошо устраивались, имея приработки и другие блага.
В то время как задача Би-Би-Си в основе проста — транслировать британскую точку зрения всему остальному миру, то у радио «Свобода» все было гораздо сложней. Подразумевалось передавать обратно в СССР голос инакомыслящего меньшинства страны, олицетворяемого эмигрантами за рубежом и диссидентами на родине, а также распространять западные ценности. Радиостанция финансировалась правительством США. И было бы наивным ожидать, что государственный департамент США станет выбрасывать на ветер миллионы долларов только для того, чтобы позволить эмигрантам и диссидентам свободно разглагольствовать в эфире.
Существовали тщательно разработанные, регулярно обновляемые детальные инструкции, с помощью которых редакторы соответствующим образом направляли перья авторов и переводчиков.
Мне повезло, что во время моей работы на радио его возглавлял очень либеральный человек, которого мы звали просто Ронни. Он поощрял профессионализм, что было совсем непросто на радиостанции, обремененной столь многими ограничениями. Дружески относился ко мне, даже когда я бунтовал против цензуры, прикрепил к послушному редактору. По счастью, на станции в это же время работали такие неглупые люди, как Джон Лодисен, также ценивший журналистов с опытом, и молодой фон Деминг в политическом отделе. Ронни, Джон и фон Деминг и еще несколько прогрессивных сотрудников, таких как Юрий фон Шлиппе, взяли меня под опеку, сдерживая рвение администраторов, пытавшихся иногда убрать мои программы из эфира. Я подружился с Юрой фон Шлиппе и его семьей — он был одним из немногих журналистов на «Свободе», владевших несколькими языками и пытавшихся делать передачи на темы социологии и политики выходящими за узкие рамки антисоветской пропаганды. Семья фон Шлиппе вообще была отдушиной для меня. В их доме обсуждались интересные книги, моя дочь Римма проводила время с их детьми.
На станции была большая библиотека с иностранными и русскими изданиями, исследовательский отдел, который по просьбе авторов также предоставлял детальную информацию. Мой опыт и обучение на Би-Би-Си не позволяли опускаться до дешевой пропаганды. Я пытался копать глубже, смотреть в корни коммунизма, читая о религиозно-фанатических движениях прошлого, пытался понять, как они связаны с Октябрьской революцией. Сделал серию программ по психоаналитическому истолкованию сталинизма[15]. Мой рабочий стол был завален толстыми томами из библиотеки Мюнхенского университета. Я подтянул свой школьный немецкий, чтобы иметь возможность не только общаться с местными жителями в повседневной жизни, но и читать газеты. Меня больше не удовлетворяли упрощенные антикоммунистические теории, проповедовавшиеся эмигрантской прессой и большинством программ на радио «Свобода». Когда я попытался быть объективным и критиковать Америку за некоторые из ее экологических безумств (моя серия передач была единственной, где вообще упоминалось слово «экология»), программу едва не сняли с эфира, и лишь вмешательство директора радиостанции спасло ее.
На «Свободе» царила совершенно иная рабочая обстановка по сравнению с либерализмом Би-Би-Си. Охрана была строгой, хотя на радиостанцию все-таки проникали агенты КГБ, которые позже писали обвинительные разоблачения о ее работе и людях. В отличие от Би-Би-Си у меня здесь было мало друзей. Я старался как можно скорее закончить свои программы и отправиться куда-нибудь на прогулку, пойти на лыжах, а то и в какое-нибудь путешествие. У меня сложились близкие отношения с молодой американкой, работавшей в исследовательском отделе. Обычно она сопровождала меня в поездках по Европе, которые отсюда можно было сделать намного легче и дешевле, чем из Англии. Мы ходили вместе в кино и на концерты.
Приближалось мое тридцатилетие, и вопросы, которые я никогда себе не задавал раньше, начали одолевать меня. Являлся ли мой побег только политическим актом, или это было как-то связано с детством, с потерей отца и общим чувством протеста и отвержения общества, которое проявилось во мне с ранних лет?
Стали меняться и мои радиопрограммы. Я все больше писал об экологии, науке, об общечеловеческих ценностях. Интервьюировал ученых, писателей, футурологов, пытался уловить тенденции будущего. Помню интервью с английским ученым Мишаном, который ввел новое понятие подлинных экономических затрат на производство, включая экологический урон и вред здоровью населения. Такие передачи вызывали приподнятые брови в политическом отделе «Свободы». Неужели у Патрушева нет более злободневных тем, чем экология и ее влияние на экономику?[16]
Предстояли олимпийские игры в Мюнхене, и я возглавил команду радиожурналистов, освещавших олимпиаду. В нее вошел по инерции Михельсон (внук или правнук знаменитого фабриканта), делавший спортивные передачи до меня. Его представление о радиорепортажах было таким: записать заранее программы вместе со звуковыми эффектами и потом вставлять в них результаты соревнований, не выходя из студии. Мне пришлось разочаровать его, поставив живые микрофоны на многих стадионах и местах соревнований. Но он, слава богу, не мешал нам работать, проводя время, в основном, в столовой пресс-зала (немцы назначили шеф-поваром бывшего повара де Голля, и мы были завалены хорошими подарочными винами из Германии и Франции).
Как раз в эти дни в советской прессе появился ряд раздраженных, обличительных статей обо мне. Сестра рассказывала потом, как она приходила пораньше на работу, просматривала прессу и вырезала оттуда все, касающееся меня, до того, как начальство сможет это увидеть. Статьи были полны преувеличений и искажений и писались сотрудниками КГБ, которые пытались представить меня как врага народа, предателя. Они обычно не описывали деталей моего побега из России, чтобы не дать никому надежды или не подсказать способ. Тем не менее, я узнал, что история о марафонском заплыве в Турцию стала почти легендой и пересказывалась в тюрьмах и лагерях.
Статьи в «Советском спорте» и других газетах призывали к физическому насилию против меня:
«Убей змею, пока она не ужалила твоего ребенка» — цитируя восточную пословицу, писал в истерике подставной корреспондент из ГБ. Это была попытка оказать нажим на правительство Германии и на МОК, чтобы они отказали в аккредитации «Свободе».
Помню, какой шок вызвал теракт группы «Черный сентябрь» на мюнхенской олимпиаде. Немцы, прекрасно подготовившие все, не ожидали этого события, и захват команды Израиля закончился трагедией, частично в силу некомпетентности полиции и спецчастей. Настроение у всех радикально изменилось после этого события, и олимпиада закончилась как-то скомкано.
Нам все-таки удалось побить по оперативности освещения соревнований не только советские СМИ, но и многие западные. «Свобода» получила за время олимпиады несколько сот тысяч новых слушателей.
Однако, несмотря на этот успех (а может, благодаря ему), возрастало давление администрации с целью сделать мои программы более «политически значимыми», что означало — более отражающими взгляды правительства США, как это представлялось чиновникам на радио.
Я никак не мог по-настоящему прижиться в Германии. Многие немцы, особенно бюрократы на станции, казались упрямыми и тупоголовыми. Может, подсознательно во мне таилась неприязнь к немцам из-за войны и гибели отца.
Все это, в конце концов, заставило меня подумать о переходе на внештатную работу. Пошли слухи, что Ронни уходит со своего поста, было понятно, что с его уходом мое положение усложнится. Предвосхищая это, я подготовил ряд интервью с учеными и другими публичными фигурами в Соединенных Штатах.
После олимпиады я провел почти два месяца в Греции и Турции, переезжая с острова на остров, плавая, охотясь с подводным ружьем на рыбу. Мне не хотелось возвращаться в Германию. Было желание пожить на каком-нибудь греческом острове и дать себе время для размышлений.
Путешествуя по Турции, я вспомнил турецкий и мог общаться с местными жителями. Теперь меня уже никто не принимал за Тарзана. Наоборот, турки просили меня помочь им эмигрировать в Германию. Судьба повернулась на сто восемьдесят градусов. Смешно было вспоминать об Адольф-оглу и его желании сделать из меня агента КГБ.
Я опоздал на радио на две недели, так как заранее заготовил передачи, которые могли идти в эфир без меня. Но получил выволочку за то, что не уведомил администрацию о своей задержке, — они испугались, что меня убили или похитили агенты Лубянки. «Посев» опубликовал розыскные списки КГБ, в которых красовалась и моя фамилия, вместе с приговором к смертной казни.
Я был благодарен «Свободе» за то, что она позволила мне пройти «мои университеты» и поглубже понять Россию, ее прошлое и настоящее. Впереди меня ждала Америка.
БЕЛЫЙ СВЕТ НА ВОЛЮ ДАН
Я не ошибся, ожидая от этой Америки чего-то свежего. Я беседовал с людьми, которые проектировали новые, экологически чистые строительные сооружения, протестовали против сверхзвуковых пассажирских реактивных самолетов, создавали математические модели стимулирования мировой экономики. Разговаривал с правительственными чиновниками и университетскими профессорами. Приобретал новых друзей. Учился у тех, кого интервьюировал, и передавал свои знания радиослушателям.
Программы стали разнообразнее, касались все более сложных вопросов. Некоторые из них содержали критику как советских, так и американских путей решения проблем окружающей среды. И вновь мои передачи подверглись нападкам со стороны чиновников на «Свободе» за то, что слишком «элитарны», что не концентрируются на том, что хочет услышать «простой советский человек с улицы».
Материала, собранного в Америке, мне хватило бы на добрых полгода. То, что я делал в то время, было относительно новым для радио «Свобода». Журналист выходил в жизнь, чтобы собирать новости, брать живые интервью, вместо того чтобы пересказывать западную прессу или повторять дешевую и банальную пропаганду. Я был разъездным корреспондентом, мог покрывать свои деловые расходы и траты на путешествия, поэтому был практически не ограничен в выборе тем и мест. Я взял билет из Сан-Франциско до Сиднея, с остановками на Фиджи и в Новой Зеландии. Как обычно, я записал несколько передач заранее, чтобы не волноваться в пути о возможных перерывах. Надо сказать, что, несмотря на частые поездки, за восемь лет работы на «Свободе» я ни разу не пропустил ни одной передачи, а их шло по две в неделю, а иногда и больше.
Я остановился на Фиджийских островах, о которых раньше только читал. Мечты, которые я лелеял в турецком заключении, сбывались. Я оставил позади прилизанные улицы Мюнхена, немецкую чопорность и необщительность.
Я остановился на короткое время на острове Вити Леву, в столице Фиджи Суве. Но вскоре мне повезло, и я присоединился к группе американцев, снимавших фильм на острове Ватулеле, расположенном всего в нескольких километрах паромом от Вити Леву. Этот остров был недоступен тогда иностранцам без приглашения вождя племени, Рату Джорджа. Майкл, глава съемочной группы, бывший офицер американского ВМФ, по профессии антрополог, лично знал Рату Джорджа со времен 2-ой мировой войны, и нас приняли как почетных гостей. Нам нужно было приготовить подарки для вождя и его супруги. На острове был сухой закон, но сам вождь не брезговал хорошим виски. Его жене я привез отрез сукна, купленный на базаре в Суве у торговца-индийца, а самому вождю — большую бутылку шотландского виски[17].
Нас поселили в фиджийской избушке («буре»), за нами ухаживала дочка вождя, готовившая прекрасные фиджийские блюда, которые мы ели прямо руками, как и положено по местным обычаям. Практически каждый вечер нас приглашали на церемонию питья напитка, называемого «кава». Мы пили огромные количества этого слабого наркотического напитка, который также является сильным мочегонным средством. Приготовлялся он из корней перечного дерева, доставляемого с соседнего острова. Корни перемалывались в ступе и разбавлялись водой. Получался грязноватый на вид напиток, который всегда следовало допивать до конца, чтобы не обидеть вождя. Напиток слегка расслаблял и вызывал состояние благодушия. Я подумал тогда, как было бы здорово, если бы в России водку заменили кавой! К тому же, как мне доверительно сообщил Майкл, кава обладала еще и антимикробными свойствами и американские морпехи во время войны использовали ее для лечения гонореи.
Каждая церемония распития кавы была связана с ритуалами, в соответствии с которыми гости рассаживались на причитающиеся им по рангу места. Все иностранцы автоматически получали ранг старейшин и рассаживались около вождя (позднее я узнал, что некоторые старейшины вовсе не считали это справедливым, особенно когда иностранный гость был молодым), самый уважаемый гость — напротив веревки, привязанной к краю чана с кавой.
Днем я отправлялся на подводную охоту с молодыми фиджийцами. Я был вооружен подводным копьем, купленным в Суве, и ластами. Однако туземцы были под водой намного более подвижны. Они стреляли по рыбе из пращей, оснащенных короткими металлическими стрелами. Думаю, что если бы туземцы не уступили мне несколько рыб и лангуст, мне могло бы ничего не достаться.
На острове, как мне объяснили со временем местные жители, было два племени, одно из которых было побеждено другим много лет назад. До сих пор между победителями и побежденными было заметно неравенство. Победители жили на самых плодородных землях острова, и вождь был именно из их племени. Трудно было представить себе, что предки этих приветливых людей, регулярно ходивших в методистскую церковь на острове, были когда-то, пожалуй, самыми коварными и жестокими людоедами Полинезии.
Майкл, сумевший заснять на видеопленку специально для него инсценированные и уже исчезающие из памяти племени военные ритуалы и пляски, по вечерам повествовал нам холодящие кровь рассказы о жестокости фиджийских дикарей, поведение которых могли наблюдать первые миссионеры. Нередко туземцы не только заставляли своих жертв самим готовить костер, на котором их потом зажаривали, но и, отрубая у них одну за другой руки и ноги, поглощали их на глазах у живых еще жертв.
Ныряя на Фиджи, я впервые увидел морских змей. Говорят, что они произошли от наземных австралийских змей. Некоторые породы этих змей чрезвычайно ядовиты. Две змеи, которых я увидел под водой, были более двух метров длиной. Они спокойно проплыли мимо меня. Когда я рассказал об этом нашему кинооператору, а он был заядлым любителем-герпетологом, он прыгнул в воду и попытался найти их, но их и след простыл.
По приглашению Рату Джорджа и для нашего развлечения, к нам на остров приехали жители соседнего острова Бенга (фиджийцы произносят его Мбенга), славящегося своими специалистами по огнехождению. Фиджийцы входили в состояние транса. Насколько я мог судить, температура углей и камней, по которым они ходили, была довольно высокой, а проложенная огненная тропа была длиной метров шесть. Их ноги никто не обливал водой, как только они заканчивали проход, как это делалось в Калифорнии.
Мне запомнились фиджийские дети, не отступавшие от нас ни на шаг и всегда готовые забраться на пальму, чтобы сбить для нас кокосовые орехи. Я попробовал сам забраться на пальму с ремнем, как это делали они, и понял, что лазать на гладкую пальму было намного труднее, чем на кедр.
Можно было подивиться жизнерадостности и энергии островитян. Почти каждый вечер они устраивали танцы. С их лиц редко сходила улыбка и, увидев обычную задумчивую европейскую мину, они всегда интересовались, не произошел ли какой-то несчастный случай. Это было заразительно и, покинув Ватулеле, я долго еще не мог стереть со своего лица улыбку.
Заготовленные заранее радиопередачи подходили к концу, и я с сожалением покинул остров Ватулеле и его гостеприимных обитателей.
После Фиджи я остановился в Новой Зеландии, чтобы просто посмотреть на нее, но так случилось, что прожил там два с половиной года, благо с австралийским паспортом и моей журналистской аккредитацией преград для моего проживания не было. Пребывание в Новой Зеландии оказалось для меня плодотворным и счастливым временем. У меня накопилось достаточно материала не только для радиопередач, но и для книг.
Я арендовал ферму у врача, который уезжал на несколько лет работать в Китай и хотел, чтобы кто-то присматривал за его хозяйством и многочисленными картинами из его коллекции. На ферме росло самое большое на новозеландском Северном острове дерево каури, текли маленькие ручьи. Неподалеку были прекрасные пляжи. Владелец фермы был одним из первых коллекционеров работ совсем еще не известного тогда художника Колина Макмахона, ставшего позднее, пожалуй, самым известным художником Новой Зеландии. Комнаты в доме были завешаны его картинами и триптихами гигантских размеров, написанными исключительно на религиозные темы.
Я занялся огородом, купил двух коз, которые давали молоко. Шутя, я называл потом эту ферму, носившую экзотическое название «Кахикатея буш фарм» (на языке маори кахикатея означает «белая сосна»), моей «Ясной поляной». И действительно, это был, пожалуй, самый спокойный и творческий период моей жизни. В перерывах между рабочими периодами, когда я записывал очередные передачи для «Свободы» или работал над книгами, я ездил по Новой Зеландии, ловил лангуст на полуострове Корромандель, наслаждался горячими гейзерами около Роторуа, ловил форель на удочку в кристально чистом озере Уэйкоремоана, катался на лыжах в горах около Куинстауна. Это была благодатная страна, где вообще не было змей и ядовитых животных, и где в большинстве мест не надо было даже опасаться акул. Это была страна бескрылых птиц, не боявшихся людей (гигантская моа была выбита первыми полинезийцами, а киви стала национальным символом Новой Зеландии, хотя и ее численность сокращается). Это страна быстро меняющихся климатических условий и ландшафтов, от «вечного лета» севера до ледников над Крайстчерчем и фьордов Южного острова.
Здесь, в Новой Зеландии, я начал новую серию передач под названием «Внутренний мир человека». В ней рассматривались духовные и психологические подходы к личностному росту и самосознанию. Приходилось много читать, изучая различные пути совершенствования духа: христианский, буддистский, индийский, китайский. Я вспоминал о своих встречах с видными учителями из Индии — Махариши, Джидду Кришнамурти, Венкатешанандой, Диравамсой. Читал много и о христианской эзотерике, открыв неизвестных мне православных святых и особенно «Добротолюбие» и «Откровенные рассказы странника» с их описанием «умного делания» (медитации). Свои «открытия» передавал слушателям. Насколько это было возможно, пытался давать и практические уроки в эфире: мантры для медитаций, непосредственное обучение различным психотехникам[18].
Наряду с программами я начал работу над книгой, которой дал название «Трансцендентальная обезьяна»[19]. Это был синтез научных теорий об эволюции и исследований в области религиозного сознания.
Почти закончив эту книгу, я решил поехать опять в США, чтобы изучить непосредственно некоторые процветавшие гам культы, как например, культ Раджниша, который я описывал в «Обезьяне». К этому времени врач — хозяин фермы вернулся и решил продать свое хозяйство.
Местом моего обитания стал Сан-Франциско, откуда я время от времени выезжал в другие части Соединенных Штатов для интервью и реализации своих проектов. Все эти годы связь с Риммой не обрывалась — я посылал ей длинные магнитофонные записи, в основном юмористические, со всевозможными имитациями и шутками. Родным же в Советском Союзе почти не писал, слишком далеко разнесла нас жизнь.
Мои друзья в Сан-Франциско покуривали марихуану и принимали психоделические вещества. Я был резко против этого, чувствовал, что любые наркотики опасны и вредны для духовного развития. К этому времени я рассматривал себя уже как специалиста в области, медитации, во время которой испытывал вспышки блаженных и всеохватывающих ощущений. Это было интересное время. Я прошел все обычные калифорнийские эксцессы — хождение по раскалённым углям, психодрама, разные виды медитации. Были и интересные встречи, как например, с видным психофармакологом Сашей Шульгиным, жившим по соседству со мной, в Беркли. Шульгин — «крестный отец» ставшего популярным психотропного вещества экстази. Я не разделял его энтузиазма в отношении химических веществ и их воздействия на мозг. Но разговоры с ним о «революции сознания» были интересными. Меня особенно заинтересовали его размышления о возможности использования вытяжек из психотропных растений, таких как некоторые виды грибов, для борьбы с наркоманиями и алкоголизмом. Саша рассказал как он впервые принял мескалин в 1960 году, что и дало ему стимул перейти от чисто лабораторных исследований к личному опыту. Он оставил у меня коробку с экстази (это вещество было тогда еще легальным), она несколько лет валялась на полке в кухне.
Из моих калифорнийских знакомых интересным показался мне доктор Ричард Алперт (гуру «нью эйдж», получивший всемирную известность как «Баба Рам Дас», написавший бестселлер, «Будь здесь сейчас»). Он был другом и коллегой Тимоти Лири, с которым он преподавал в Гарварде[20]. В отличие от Лири, который так до конца и остался нонконформистом (он был готов умереть в прямом эфире на Интернете, а свои останки хотел забросить в космос), Алперт создал благотворительный фонд, который помогал заключенным и людям, находящимся при смерти и, даже перенеся инсульт, продолжал свою просветительную деятельность.
Посетив коммуну Раджниша в Орегоне незадолго до ее развала, я увидел современный культ в его истинном свете. За сусальными речами «Бхагвана» стояла эксплуатация учеников, паранойя в отношении «нормального мира», полное отсутствие морали. Я наблюдал по утрам как тысячи ополоумевших поклонников Раджниша, с песнопениями и грохотом цимбал ожидали его триумфального проезда по деревне на одном из его 90 Роллс-Ройсов. У одного из приближенных Раджниша, собиравшегося покинуть секту, я узнал, что Раждниш был отдан своими родителями бабушке и дедушке, после того как гадалка предсказала им несчастье от него (что-то очень похожее на мотивы Эдипова мифа). Все его детство было серией потерь и разочарований, которые он теперь пытался возместить славой и богатством. На деле, он был несчастным и больным человеком, хотя несомненно, с очень живым умом и воображением. Какое-то время я был достаточно впечатлен его обширной эрудицией, читая его книги. Но ко времени моего приезда Раджниш, как я узнал от его приближенных, был по-настоящему болен, судя по всему, синдромом хронической усталости, принимал большие дозы валиума от болей и находился практически на грани умопомешательства. Коммуна охранялась вооруженными людьми. При въезде мою машину обнюхали ищейки — якобы для того, чтобы проверить на присутствие наркотиков. И это несмотря на то, что внутри коммуны можно было спокойно купить и марихуану, и экстази.
Собрав нужные мне материалы для книги и передач, я уехал оттуда, опасаясь возможного столкновения коммунаров с властями. Вскоре, сам Раджниш сбежал из коммуны, бросив своих учеников на произвол судьбы. Американские власти проявили в данном случае достаточно дипломатичности и терпения (в отличии, например, от эпизода с Уэйко, когда было сожжено, в результате ошибок и агрессивности ФБР, 80 сектантов) и все закончилось без эксцессов. Особое впечатление на меня произвела способность учеников закрывать глаза на реальность, когда речь шла о «высоких идеалах». В этом они напомнили мне правоверных коммунистов.
В ПОИСКАХ СЕБЯ
Я с детства интересовался гипнозом и шаманизмом, склонность к такого рода занятиям была, наверное, у меня в крови. Интерес к йоге и древнекитайской философии тоже был достаточно глубоким, заставив меня не только проработать многие источники, но и переработать некоторые из них, сделав их более понятными для себя и своих слушателей. В 70-е годы в Америке чрезвычайно возрос интерес к восточной философии, медитации и различным видам психотехники. Пожалуй, ни одна организация не сделала столько для стимулирования этого интереса, как калифорнийский институт Эсален в Биг-Сур.
Я поехал в институт Эсалена. в городе Биг-Сур на симпозиум по Тай-Чи. Там в первый раз попробовал технику дыхания, направленную на раскрепощение подавленных эмоций и воспоминаний. Эта техника использовалась в Эсалене доктором Стэном Грофом, психиатром, который в прошлом провел большую экспериментальную работу с ЛСД. Он заверил меня, что техника дыхания работает так же хорошо, как и психотропные вещества, даже лучше. Расслабленное, полное и непрерывное дыхание в сопровождении эмоционально насыщенной музыки вызывало не просто гипервентиляцию, но раскрепощение эмоций, поднимая из подсознательного давно забытые эпизоды из прошлого и, как некоторые утверждали, даже из прошлых жизней. Осознание этих забытых или вообще неиспользованных «трансперсональных» пластов сознания соединяло индивида с космосом, с коллективным подсознанием, с его собственным «сердцем». Звучало все это очень заманчиво и, так как эксперименты не были связаны с принятием каких-то галлюциногенов, они казались мне безвредными и, возможно, даже полезными.
Первое время, присоединившись к этим современным любителям «пляски Святого Витта», я чувствовал себя очень неловко. Испытывал определенные экстатические ощущения, но когда вокруг меня разверзся дикий эмоциональный кавардак, с выкриками, стенаниями и плачем, вынужден был уйти.
Я вернулся позднее к дыхательной терапии, но менее радикального характера, чем у Грофа.
Еще одна интересная встреча в Эсалене была с Роном Курцем, с которым я провел несколько недель, изучая его методику и практикуя ее. Он назвал свой метод Хакоми. Само слово «хакоми» было взято из языка индийцев племени Хопи и означало: кто ты есть, или, буквально, «каково твое положение в отношении к этим многим мирам»? Для Хопи вопрос о возможности параллельного существования многих миров, символических и реальных, не стоял: он был частью их непосредственного опыта. Метод Хакоми на практике основывался на пяти главных принципах: внимания, органичности, ненасильственного подхода к разрядке эмоций (в отличии от любившего драму Грофа!), взаимосвязи между телом и психикой, а также принципа единства и возможности гармонии в мире и в психике человека.
Рон Курц понравился мне своей непосредственностью и простотой. В нем не было и следа наигранности. Он был физиком по образованию, но стал психотерапевтом случайно, наткнувшись на эффективность родившегося у него в сознании метода в ходе эксперимента в тюрьме. Он часто с юмором рассказывал об этом случае, когда ему удалось так растормозить одного закоренелого рецидивиста, с которым отказывались работать тюремные психиатры, что тот заснул во время сеанса и даже обмочился. «Тогда, — говорил Рон, — я понял, что сам Господь толкал меня на стезю психотерапии». От Рона Курца я научился бережному и осторожному обращению со своей психикой и психикой других.
Там же в Эсалене я встретился впервые с Джоном Лилли, создавшем знаменитую «изоляционную ванну». В этой ванне содержался насыщенный раствор английской соли при температуре + 34 °C. Человек находился в состоянии невесомости в совершенно затемненной и изолированной от звука камере. Конечно, Лилли не был удовлетворен просто этим. Он одновременно принимал сначала ЛСД, а потом кетамин (вещество, используемое обычно для наркоза животных), причем в больших и периодически повторяющихся дозах. Первоначально, он проводил эти опыты для того, чтобы избавиться от хронической мигрени. Позже полученные в результате опытов прозрения легли в основу книг о сознании дельфинов и о связи с космическими существами. Мало кто знает, что эти опыты несколько раз ставили его на грань смерти — однажды он чуть не утонул в собственной изоляционной ванне, а в другой раз сильно расшибся, упав с велосипеда, когда он был под влиянием наркотика. Нет сомнения в том, что Джон Лилли изначально был неплохим ученым-нейрофизиологом, и что он смог стать гуру для целого поколения молодежи. В его ванне «расширяли сознание» многие ученые, музыканты и мыслители, от Олдоса Хаксли, до Баки Фуллера, Джона Леннона и нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана. Я попробовал ванну Лилли тоже и должен сказать, что, выйдя из ванны, я некоторое время говорил только каламбурами! Ее воздействие на подкорку и творческое мышление было явным. Естественно, я не принимал никаких «ускорителей» для пущего эффекта. Моя осторожность оказалась оправданной: когда я встретил Джона Лилли много лет спустя в Австралии на конференции, посвященной дельфинам, было заметно, что многолетнее экспериментирование сожгло не только его «плохую карму», как он любил выражаться, но и некоторые необходимые нам для повседневной жизни нейроны. В кулуарах конференции он скручивал себе огромных размеров самокрутки из марихуаны и любил разглагольствовать о «космических центрах управления», с которыми он якобы находился в постоянном контакте. Несмотря на этот несколько печальный финал, нельзя занижать роль Лилли как ученого-экспериментатора, сделавшего популярными неортодоксальные подходы к изучению человеческого сознания и сознания других животных, которых Лилли учил уважать как наших близких родственников[21].
После Эсалена, в конце концов напомнившего мне своего рода грандиозную «фабрику сознания» (через курсы Эсалена прошло за 40 лет его существования около 300 000 человек, включая множество людей из стран Восточной Европы и бывшего СССР), вместе с группой других «пилигримов духовного роста», я отправился в Кэмпбел Хот Спрингс, полузаброшенный курорт с целебными водами. Здесь жила и работала группа людей, которые тоже практиковали дыхательную терапию, однако здесь все было менее формальным и напоминало домашнюю обстановку. Руководил ими Леонард Орр, который называл себя «отцом реберфинга[22]». Именно там у меня появились первые проблески сопереживания другим, истинного их понимания. Когда сознание отключалось, возвращались некоторые эмоции раннего детства. Я переставал быть просто журналистом и летописцем калифорнийских эксцессов и начинал прислушиваться к тому, что происходило внутри меня самого.
Я погружался в горячие источники, окруженные елями и снегом. Тепло источников было теплом Матери-Земли, оно постепенно растворяло зажимы в теле, делая меня мягче, податливее. Я продолжал заниматься йогой и придерживался строгой диеты, не принимая не только никаких наркотиков, но даже рассматривая обычный чай как чрезмерно стимулирующее вещество. Я был в хорошей физической форме, не уступавшей той, которую я имел перед побегом. Но теперь мои главные усилия были направлены на внутренний рост, на осознание смысла жизни и моего собственного пути[23].
В Кэмпбел Хот Спрингс я странствовал к далеким мирам и начал ощущать, что «внеземное» существует. Это не было мыслью или иллюзией, вызванной наркотиком. «Внеземное» начиналось на Земле, к нему можно было приблизиться, коснуться пальцами. Всё, что случилось со мной, все пережитые страдания и радости были оправданы, имели смысл.
Иногда казалось, что глубокое дыхание растормаживало и воспоминания, которые никак не относились к этой моей жизни. Я видел себя тореадором на ринге в тот момент, когда меня ударил бык прямо в грудь. Единственным прямым воспоминанием, как-то связанным с этим, было воспоминание о том, как меня, совсем еще мальчишку, бык придавил к забору, сильно сдавив грудь. Но воспоминание о бое быков было очень четким и трехмерным. Мне позднее довелось наблюдать в Севилье бой быков. Надо сказать, что меня эта моя «прошлая профессия» больше не привлекала. Под влиянием посещения корриды я написал стихотворение, в котором восставал против убийства быков ради человеческой забавы.
Мне казалось, что я возвращался к истокам жизни. Любая боль, которую я испытал, уже была испытана миллионами предшествовавших мне людей. Мне запомнились слова Иошиока Сэнсэя, преподавателя боевого искусства айкидо. Он устроил в местном спортзале на острове Кауайи (одном из Гавайских островов) показательное выступление и лекцию. Он впечатлял своей способностью расправиться с дюжиной нападающих на него молодых парней, как будто совсем не прилагая усилий и используя инерцию движения самих нападающих.
«Истине нас учит Природа. Однако мы плохо понимаем, что пытается сказать нам Природа. Мы слишком много болтаем и не слышим ничего кроме себя. Когда наше сознание занято собственными мыслями, мы не в состоянии слышать ничего другого. Когда вы освободитесь от мыслей, вы услышите голос Природы».
Кто-то спросил его о развитии шестого чувства и о парапсихологии. Он ответил: «Если вы не развили свои пять чувств до остроты, как можно говорить о шестом чувстве? На то, чтобы развить даже пять чувств, требуется много лет и огромная самодисциплина. Кто способен на такие усилия? Все хотят чудес».
Помню, как вдохновленный этими словами, я отправился с группой молодежи на длинную прогулку по заброшенным тропам, извивавшимся вдоль утесов, на отдаленный пляж, где местные гавайцы планировали проведение празднества по случаю полнолуния. У меня не было соответствующей обуви для этого перехода, длившегося день и ночь. Я скользил по залитой тропическим ливнем тропе, иногда в опасной близости к обрыву. Но то, что мы увидели, добравшись до цели, по-настоящему захватывало дух. Мысли останавливались сами по себе. Огромный водопад, длиной около километра, падал в кристально чистую лагуну у подножия утеса. Вокруг росли кусты с дикими тропическими фруктами гуава. Крабы на пляже с неохотой прятались в песок, заслышав людские шаги, к которым они не привыкли. Из-за утеса вышла огромных размеров луна, заливая все бледно-голубым светом. Я почувствовал себя так, как Адам, наверное, чувствовал себя до изгнания из рая.
Но где-то в глубине сознания, подобно Джону Лилли, мчавшемуся под гору на велосипеде, я чувствовал, что моя жизнь потребует баланса, если я не хочу разбиться о скалы. Я смотрел на хиппи, живших месяцами на пляже на Кауайи в примитивных хижинах и — не видел себя среди них. Буквальные попытки восстановить рай на земле, будь то у хиппи или у Раджниша, вели к провалу. Надо было серьезно задуматься о своем будущем. Я начал подумывать о том, чтобы вернуться в Австралию и начать заново устраивать жизнь. Но время для этого еще не пришло. Как мое прошлое, так и мечты о каком-то фантастическом будущем, все еще преследовали меня. Я никак не хотел опуститься с неба на землю.
«ЕДОКИ КАРТОФЕЛЯ»
В Калифорнии мне исполнилось тридцать шесть лет. Я устал от журналистики. Радио «Свобода» перестало быть для меня средством общения с Родиной и даже средством самосовершенствования. Нужно было доказать себе, что я могу стоять на собственных ногах и не нуждаюсь больше в использовании русского происхождения, что могу на равных соревноваться на рынке интеллектуального труда.
Мои отношения с радио «Свобода» пришли к точке разрыва. Мюнхен посылал нетерпеливые напоминания делать программы менее заумными, более приближенными к нуждам «советского человека с улицы». Я послал им письмо об отставке.
У меня был обратный билет в Австралию через Европу и Японию, благодаря которому можно было попутешествовать по Старому Свету. Останавливался я у друзей и в дешевых отелях. Большую часть времени посещал галереи, ходил на корриду в Мадриде, бродил по мавританским руинам в Севилье. Хотелось прикоснуться к старым реликвиям, увидеть, как будто в последний раз, перед тем, как я окунусь в рутину работы и забот, лица святых и грешников, как их видели современники, посмотреть на шедевры искусства.
В Амстердаме я побывал в музее Ван Гога, вчитывался в страницы его жизни, всматривался в его картины. И почувствовал глубокое сострадание к Винсенту. Его «Едоки картофеля» были картиной и моего детства[24]. В ней чувствовался громадный недостаток любви, с которым ассоциировалась скудная пища. Мрачная, страдальческая атмосфера. Ван Гог стремился узнать женщин и любить их, но при этом выбирал партнерш, символизирующих обнищание женской части его собственной души, израненной восприятием своей матери. Его мать никак не могла забыть умершего за год до рождения Ван Гога его брата, тоже названного Винсентом. Винсент всегда чувствовал, что в сердце матери не осталось места для него. Одно из истолкований эпизода с отрезанием уха предполагает, что это был символический жест идентификации с мертвым братом и попытка заслужить сочувствие и любовь матери. Самоуничижение Ван Гога выразилось в том, что он отнес отрезанное ухо проститутке, женщине, любви которой он мог считать себя достойным. В конце пути он ощупью продвигается к свету, который символизируется изображением подсолнуха.
Он хватается за тень своего отца и не находит его. Единственным прибежищем становится Отец небесный. Я чувствовал, что живопись Ван Гога религиозна, в более глубоком смысле, нежели обычные картины, изображающие херувимов и небеса. Его религия — личная религия, глубоко прочувствованная, но трагично одинокая. Только теперь, с отступом на полтора столетия, мы можем оценить его дарование и принесенную им искусству жертву. «Мне часто не хватало душевного равновесия», — жалуется Ван Гог в одном из своих писем. «Мне кажется, что моя жизнь не была достаточно спокойной — все эти горькие разочарования, всякие напасти, перемены — они не давали мне полностью и естественно развиваться в своем призвании художника».
Я вспомнил об еще одном художнике с похожей судьбой, на этот раз русском, большом почитателе Ван Гога, которого он считал своим единственным учителем. «Лучший рисовальщик века», так говорил Пикассо об Анатолии Звереве, который был его любимым русским художником. Зверев открыл новую технику письма, которую назвал ташизм. Но как только Зверев стал известен на Западе, власти начали его преследовать. Умер Анатолий Зверев среди друзей, но большинство русских людей узнали о его творчестве только после его смерти. Воспоминания Анатолия о детстве были тоже невеселыми: голод, крысы и холод. Его отец был инвалидом войны, он рано умер и оставил после себя жену с тремя детьми. В свой первый день в школе Анатолий пришел в двух разных ботинках, потому что не было денег купить новые. Картины Зверева, выросшего в обществе почти тотального запрета на нонконформистское искусство, в отличие от картин Ван Гога, не попали ни в какие официальные коллекции и каталоги советских времен. Тем не менее их нельзя было вывозить, они представляли «достояние нации». Мои друзья, тайком вывезшие за рубеж коллекцию, продали несколько его картин в Нью-Йорке на аукционе, где они были сразу оценены по достоинству любителями искусства.
Теперь, во время выставок, с утра до вечера, люди идут смотреть на его искусство, иногда не подозревая, что стояло за ним. При жизни, многие принимали его за юродивого, его нередко били и он иногда ночевал буквально в подворотнях. Его картины получили посмертное признание еще и в том, что на них имеется множество подделок. «Наш русский гений», так говорят об этом художнике.
* * *
Перед отъездом из Сан-Франциско, я установил контакт с компьютерной компанией Инфомедия Корпорэйшн, которая запустила инновационный проект, смесь компьютерной технологии с эффективной связью, предшественник будущего Интернета.
Это была пионерная компания в Силиконовой Долине, руководимая людьми, которые поражали как своим воображением, так и технической компетентностью. Их центральный компьютер мог связывать людей из любой точки мира в коммуникационную сеть. Список клиентов был впечатляющим: НАСА, основные нефтяные компании, ядерные установки по всему миру. У них не было представителя в Австралии и в Южной Азии, — я и предложил на эту роль себя. В Австралию отправился полный энтузиазма, не подозревая, что следующие несколько лет, по крайней мере, в материальном плане, будут очень трудными.
Я привез с собой систему связи, которая большинством людей рассматривалась как научная фантастика. У меня не было ни опыта в бизнесе, ни денег, кроме небольшого стартового капитала в пять тысяч долларов, который я получил в Калифорнии. Потенциальными клиентами были государственные организации и большие транснациональные компании.
Первые несколько месяцев я жил на грани нищеты, несмотря на то, что работал практически круглые сутки. Организуя свой бизнес, поддерживал существование преподаванием на заочных курсах. Три года это выглядело, как безнадежная борьба. Только ежедневные вхождения в центральный компьютер были моей подпорой, вливанием надежды. Одновременно с этим, сидя в своей маленькой квартирке в Сиднее, я должен был отбиваться от кредиторов, бороться с Телекомом, который рассматривал, новую технологию как конкуренцию, и заниматься переговорами, выставками и семинарами по всему нашему региону.
На торговых семинарах и выставках я горячо восхвалял преимущества компьютерной связи, выступая перед недоверчивыми государственными руководителями и менеджерами, но чаще — перед группами случайных любопытствующих.
После двух с половиной лет борьбы, наконец, начался прилив. Появились несколько крупных клиентов. Я должен был исполнять тонкий жонглерский акт, представляя свою фирму как быстро растущий филиал транснациональной компании. Установил круглосуточный автоответчик и купил себе дорогой костюм. Я становился частью растущего сообщества дистанционных компьютерных профессионалов, которые работали отовсюду: из дома, из комнаты в отеле или телефонной будки, соединяясь с помощью своих магических устройств с клиентами и коллегами в любом месте земли.
Со мной заключили контракты на установку связи для двух крупнейших энергетических проектов в южном полушарии. С чувством восхищения, а иногда и скепсиса калифорнийские коллеги наблюдали за моей битвой в одиночку против могущественных соперников на удаленном аванпосту. Вскоре начались разъезды по Юго-Восточной Азии с целью организации филиалов нашей все разрастающейся сети. На какое-то время я почувствовал себя на вершине мира. Мог теперь позволить себе обедать в лучших ресторанах и останавливаться в дорогих отелях. Гордился, что стал частью Третьей Волны, которая могла остановить грядущий мировой спад, может, даже войну. Участвуя в этом деле, я как бы отдавал долг Австралии за то, что она предоставила мне убежище в первые трудные годы эмиграции.
Теперь меня слушали более внимательно на семинарах и конференциях. Я публиковал заметки и статьи в журналах и в трудах симпозиумов об автоматизации предприятий и о «безбумажном офисе». Каким далеким казалось мне мое бедное детство в сибирском городке!
Переехал в дом на побережье в Сифорст, одном из самых престижных районов Сиднея. Сколько раз раньше я представлял себя сидящим за компьютером в комфортабельном доме, работающим творчески, без страха за существование; теперь у меня было, казалось, все — современная связь с миром, время и деньги для писательства, чтения и учебы. Я достиг пределов материальной мечты. И вот сижу в своем кабинете с панорамным видом на залив, тупо глядя в окно, где парусники скользят по волнам, как бездомные чайки. Монитор мерцает в ожидании, приглашая писать. Но слова не идут. Я вдруг почувствовал себя бесплодным и пустым.
«ПОСЛЕДНИЙ СРОК»
Я сидел вечером на кровати, читая «Последний срок» Валентина Распутина — книгу о женщине, умирающей в сибирской деревне и ожидающей, что все ее дети приедут и будут с ней в последний час. Как и все книги Распутина, эта история была простой, но глубоко трогательной и гуманной. Уже около двух недель меня терзало какое-то смутное предчувствие. Зазвонил телефон. Это была Наталья. Для меня письмо.
— Из России?
— Да, — подтвердила она, — от твоей сестры.
После многих лет молчания пришла первая весточка от моей семьи. Это стало началом путешествия назад, в прошлое, и возрождением связей с родными. Завязалась регулярная и интенсивная переписка.
Именно в то время, когда я полагал, что мой бизнес становится успешным, центральный офис в Калифорнии и его филиалы начали испытывать серьезные затруднения. Сервис, в котором мы были первыми, притянул внимание больших транснациональных телекоммуникационных компаний, таких как Ай-Ти-Ти. Они создавали мощные глобальные сети и делали невозможным выживание маленьких компаний, вроде нашей. Я советовал головному офису как можно скорее все продать, или стать филиалом какой-либо большей компании, или специализироваться в какой-то отдельной части рынка. Мне были очевидны захватнические маневры крупных корпораций, вступающих в контакт с правительственными службами — Телекомом или Оу-Ти-Си (иностранное отделение Телекома), ограничивая малый и средний бизнес по мере изменения правил игры. Оу-Ти-Си усиливало свои позиции, накапливая базы данных: я должен был связываться со своими клиентами через них, поскольку они обладали госмонополией. Небольшие компании-первопроходцы были использованы на стадии освоения рынка, а затем отброшены, вытеснены с него.
Через несколько месяцев мы стали частью отходов компьютерной индустрии. Я много узнал о бизнесе из этого опыта. Все мои семинары и статьи работали отныне на благо Оу-Ти-Си и Ай-Ти-Ти, будущих клиентов которых я обучал.
Я закрыл свой офис в Сиднее и отправился в долгую поездку на север Австралии. Со мной по-прежнему был мой ноутбук, позволявший выходить на связь ежедневно, даже из самых отдаленных мест, и поддерживать то, что осталось от клиентуры. Еще через месяц стало ясно: наша головная калифорнийская компания — на грани банкротства. Я мог бы перейти к конкурентам вместе со своими клиентами и неплохо обеспечить себя на будущее, но не сделал этого, хотя друзья бизнесмены советовали не поддаваться чувствам ложной лояльности.
* * *
Я путешествовал по удаленным побережьям, маленьким поселкам, прибрежным островам, снова встречался с Австралией, которую любил: леса, океан, простые деревенские жители. Наблюдал природу, фотографировал ее маленькие чудеса.
Наконец, добрался до деревеньки в тропическом Квинсленде. Тут пришел муссонный сезон и запер меня в этой деревне на месяцы. Это было прекрасно. Я нуждался в спячке, в том, чтобы осмыслить события и наметить курс на будущее. Решился купить двухэтажный деревянный домик с А-образным каркасом, со всеми современными удобствами, с большим участком, на котором я вскоре посадил огород. Дом был окружен тропическим лесом, и мне нередко приходилось видеть в нем питонов и других змей.
На балкон залетали тропические бабочки размером с развернутую книгу. В доме было так влажно, что приходилось даже осенью топить камин, а в гардеробе постоянно держать зажженными лампочки — для просушки воздуха, иначе все покрывалось плесенью. Обитатели этой маленькой и обособленной в те годы деревушки под названием Каранда жили в ритме, продиктованном муссонами и наплывами туристов. Каранда расположена на более прохладном плоскогорье над тропическим городом Кэрнс, что рядом с Большим Барьерным рифом. Теперь эта деревня стала одним из наиболее популярных туристических мест в Австралии.
Стал писать длинные письма сестре. Та была недовольна нашей матерью. Принимая огорчения и раздражение сестры, я старался все же пробуждать в ней и сострадание к матери, тем самым как будто убеждая и самого себя в ее врожденной, хотя внешне не проявлявшейся из-за трудных условий, доброте.
Мне казалось, что мы все были незримо связаны друг с другом. Любое движение к любви и пониманию или же, наоборот, к отчуждению со стороны кого-либо из нас подсознательно отмечалось всеми нами. Я чувствовал, что отражение нашего согласия или несогласия как бы вибрировало в прошлом, в душах почивших предков, и в будущем, в наших детях и тех, кто еще не родился.
Но это было в моем воображении. Когда я посылал Кате фотографии, на которых была отражена окружавшая меня среда, сестра не хотела верить, что в природе бывают такие яркие краски. Я уверял ее, что в действительности все еще ярче, чем на снимках. Она верила этому, наверное, так же мало, как и тому, что по обочинам улиц и дорог росли деревья с манго и авокадо, которые просто осыпались на землю и их можно было подбирать любому. В Новосибирске тогда вообще не было ни манго, ни авокадо, и даже простым ранеткам ребятишки не позволяли осыпаться на землю.
Вскоре к моей отшельнической жизни присоединились двое друзей — парень и девушка. Молодой человек, уроженец Австрии, был когда-то членом австралийской олимпийской команды по спортивному ориентированию[25]. Время от времени он подвергал себя жесткому голоданию и почти фанатически соблюдал естественные целительные диеты и применял натуральные средства лечения. Ему часто звонила мать, знавшая об увлечении сына натуропатией, беспокоясь о его здоровье, — чувствовалось, что он получает удовольствие от повышенного внимания к себе, которое сам же провоцировал.
Будучи превосходным садовником, этот юноша помог мне расширить огород и создать быстро растущую плантацию тропических деревьев. Девушка, составившая нам кампанию, изначально была нанята мной в качестве секретарши. Однако когда обнаружилось, что она печатает с ошибками, пришлось ее уволить, но квартировать она осталась по-прежнему с нами.
Я читал, медитировал, беседовал со своими молодыми друзьями, ходил в долгие походы по тропическому лесу с его буйной растительностью. Неподалеку от моего дома были кристально-чистые озёра и горные водопады. По утрам меня будил хохот кукабар, крупных и как бы все время нахохлившихся птиц, любивших воровать с подноса сырое мясо, приготовленное для шашлыка. Белые попугаи-какаду (которых сами австралийцы называют «лесными хулиганами») ловко снимали крышку мусорного ящика и разбрасывали его содержимое по двору в поисках чего-то съедобного. Пришлось положить на крышку тяжелый камень, который они не смогли сдвинуть. Их разочарованный скрежет и выкрики оповещали об их недовольстве. К дому привязалась приблудная собака, хозяина которой разыскивала полиция за торговлю марихуаной. Мы прозвали ее Реф (краткое от «refugee» — беженка), и она немедля начала зарабатывать себе на хлеб, с энтузиазмом отгоняя опоссумов и прочую прожорливую тварь от нашего сада. Я работал в саду и по-прежнему выходил по компьютерной сети на контакт со своими оставшимися клиентами, стараясь сохранить, что можно было, от еще недавно прибыльного бизнеса.
В Каранде я впервые близко познакомился с австралийскими аборигенами. Этот древний народ прожил на территории Австралии 50 000 лет. Помню, что одной из первых книг об Австралии, которую я прочел, уже приехав сюда, была автобиография аборигена Уайпулданья, записанная журналистом Локудом. В книге были описаны верования и приемы аборигенских знахарей, которые я нашел чрезвычайно интересными, такие, например, как вырезание печени под гипнозом и ритуал «указания костью», обычно приводящий к смерти человека, осужденного знахарями племени, при полном отсутствии физического воздействия.
Я иногда подвозил на автомобиле аборигенов Каранды, и они рассказывали мне о своих бывших племенных охотничьих угодьях и о строгом соблюдении территориальных границ между племенами. Не было сомнения, что аборигены пострадали от белой колонизации, основанной на фикции «незаселенного пространства», существовавшего якобы до прихода европейцев на континент. Надо понять, что аборигены не привыкли жить в современных домах, которые они быстро приводят в негодность. Алкоголизм, безработица, плохая гигиена и непривычная для аборигенов еда делают свое дело. Продолжительность жизни аборигенов намного ниже австралийцев неаборигенного происхождения. Потеря прежних устоев жизни, чувство неполноценности, связанное с ощущением принадлежности к побежденной нации — все это оказало свое воздействие. Только в 1967 году коренное население получило право голоса. И только в 1982 году оно получило право затребовать назад земли, если можно было доказать непрерывное проживание на них. Впервые за долгое время население аборигенов начало увеличиваться и за последнее десятилетие достигло почти полумиллиона[26].
Сложное и похожее на модернистское искусство некоторых художников-аборигенов снискало им всемирное признание. Впервые за все время колонизации аборигены начинают гордиться своим прошлым. Мне довелось переводить материалы об аборигенском искусстве для выставки в Эрмитаже.
Практически по всей Австралии можно найти картины аборигенов в пещерах и на скалах. Они отражают мотивы жизни аборигенов и их взаимоотношений с природой, с другими племенами и с высшими существами посредством стилизованных кругов, линий и образов. Искусство аборигенов одновременно сугубо практично, то есть оно описывает детали обыденной жизни племени, но в то же время оно связано с потусторонним миром и с магией. Понятие искусства как украшения для стен чуждо менталитету коренных аборигенов. Картины аборигенов проникнуты преклонением перед мощью и способностями тотемических предков, создавших все формы жизни и саму землю и космос. Мир и время сновидений — мифическое время предыстории и создания мира — соприкасается с личным миром через ритуал танца, песен и живописи. Места, где духи почили, превратившись в скалы, деревья и черты ландшафта, становятся священными и требуют особого уважения.
Естественно, подобные представления о жизни столкнулись с экономическими интересами колонистов. Если в настоящее время необходимо согласие аборигенов на ведение каких-либо работ или геологической разведки в местах, которые они считают священными, то в прошлом все это просто игнорировалось. Новые боги, вооруженные «огнедышащими палками» попирали мир старых богов. Это противостояние миров и мировоззрений до сих пор не сгладилось полностью. В отличие от Канады или Америки, белое население в Австралии не признало полностью жестокость периода колонизации и не попросило прощения у аборигенов за эксцессы прошлого. Более того, за последнее время наблюдаются попытки обелить эти эксцессы, представляя целенаправленную политику колонистов как серию ошибок местного значения, мало отразившихся на конечном «благотворном влиянии» европейской культуры на аборигенов.
И все-таки аборигены были живым напоминанием истории этого необычного континента, по которому еще 50 000 лет назад бродили гигантские сумчатые — кенгуру, вомбаты, дипротодонты, высотой в 2–3 метра[27]. Австралия — единственный континент, не перенесший ледникового периода и не имевший вулканов, что привело к отсутствию плодородных почв на большей части континента. Отсутствие крупных хищников (до появления человека) позволило сохранить до недавнего времени уникальную фауну. Культура аборигенов мало менялась на протяжении многих тысяч лет. Они не имели домашних животных (за исключением собак, которые, в частности, согревали их холодными ночами, отсюда выражение «ночь пяти собак», т. е. очень холодная ночь), не занимались сельским хозяйством и производили орудия каменного века. Их «отсталость» объяснялась сравнительной негостеприимностью этого континента, разобщенностью и малой численностью населявших континент племен, и их изоляцией не только друг от друга, но и от ближайших соседей в Азии и в Папуа Новой Гвинее.
Несколько раз я приглашал местных аборигенов к себе. Было поразительно, как аборигенские детишки мгновенно находили любые лакомства, где бы они ни были запрятаны в доме и мгновенно поглощали их. У них было прямо шестое чувство на это. Когда я предложил им пойти помыть руки перед обедом, я обнаружил, что после мытья исчезло и мыло из ванной. Это было не просто «грабь награбленное». Аборигены вообще плохо различают общую собственность от частной. Они привыкли всем делиться со своим кланом.
Сравнительное неуспевание аборигенских детей в европейской школе объясняется их иным темпераментом: использование игр и соревнования для исполнения задач приводит к тому, что дети совершенно теряют концентрацию на предмете задачи и готовы часами продолжать подвижные игры. Чтобы как-то привлечь и удержать их внимание, необходим спокойный и ровный подход и поиск тем, которые были бы близки им (мне приходилось вести компьютерные классы для аборигенов, и я научился пользоваться только интересной для них тематикой). Использование стандартных учебников также плохо подходило для них; они предпочитали работать над конкретными проектами, обращаясь к учебникам или к написанному на доске только в случае необходимости. Быть может, эта психология более здоровая чем у европейцев, но она несомненно сталкивается со стандартами, навязанными им школьными экзаменами, одинаковыми для всех австралийцев.
Нередко, «столкновение культур» приводит к поистине анекдотическим ситуациям. Картина, продающаяся за десятки тысяч долларов в галерее Нью-Йорка, может быть подписана знаменитой художницей, хотя ее нарисовал на деле никому не известный племянник художницы. Абориген может позаимствовать у своего двоюродного брата резюме, пытаясь поступить на работу. Когда его спросят, почему детали в резюме не совпадают, он ответит, что он уже отдал свое резюме тестю, которому оно потребовалось.
Такого рода недоразумения приводили к конфликтам еще во времена «сухого закона» для аборигенов, когда только немногие из них, как, например, ставший знаменитым художник Альберт Намаджира, могли иметь доступ к алкоголю. С одной стороны, племенные законы велели ему делиться своим имуществом, с другой, «законы белых» запрещали давать алкоголь соплеменникам.
Местные власти научились, когда им это выгодно, закрывать глаза на племенные нравы и порядки, иногда даже поощряя традиционные виды наказания (такие как прокол бедра копьем за определенные нарушения), вместо того, чтобы пополнять и так переполненные тюрьмы представителями коренного населения.
Мне приходилось встречать и образованных аборигенов — адвокатов, фермеров, бизнесменов. Те из них, кто получил право распоряжаться ресурсами на своих землях, стали богатыми людьми. В массе, главная черта аборигенов, которая бросается в глаза — это простота и почти детская доверчивость. Они всегда готовы прийти на помощь. Когда у моих знакомых в небольшой деревне, где жили аборигены, сгорел во время лесного пожара дом, аборигены были первыми, вызвавшимися помочь и построить дом заново.
* * *
Переписка с Россией расшевелила стремление к родственным контактам. На короткое время ко мне приезжала дочь Римма. Мы ощущали некоторую взаимную близость, хотя чувствовалась и дистанция. Римма планировала приехать еще раз позже, но не приехала. Она проходила трудный подростковый период. Странно, я вдруг обнаружил в себе строгого отца, сторонника дисциплины, желавшего, чтобы дочь имела большее чувство ответственности. Хотя я довольно часто встречался с Риммой (ее мать работала в авиалинии и могла доставать практически бесплатные билеты для Риммы в любую точку мира), между нами нарастало отчуждение. Экзотические отпуска — включая очень приятное время, которое мы провели вместе на Гавайях незадолго до этого — не могло заменить близости, возможной только при совместной жизни.
Я отправился в деловую поездку в Сан-Франциско, чтобы завершить дела с центральным калифорнийским офисом. Остановился у Б., молодой программистки, работавшей в нашем центральном офисе. Её отец был священником в одном из наиболее либеральных местных приходов, а мать — советником в администрации штата по делам религий. Б. снимала маленькую квартиру в округе Тендерлойн — районе порномагазинов и заведений с красными фонарями. Ее родители были очень обеспокоены этим. За небольшое время она ухитрилась переспать с огромным количеством мужчин, преимущественно старшего возраста. Особенно ее тянуло к тем, кто работал или хотя бы имел косвенное отношение к исследованиям в области космоса. Ее заветной мечтой было родить ребенка в космосе. Квартира Б., заполненная вещами, напоминающими о космосе, представляла собой настоящую орбитальную капсулу посреди района, где жителей интересовали куда более земные дела.
Из Сан-Франциско я написал письмо матери. И послал его через Катю: настолько отчужденным от матери и удаленным от российского прошлого себя ощущал, что нуждался в переводчике, посреднике, который близко знал бы нас обоих и мог перевести мои чувства в понятные для матери слова.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В РЕАЛЬНОСТЬ
Я возвратился в Сидней довольно изнуренный. Во время путешествий растаяла большая часть моих сбережений. У меня не было работы, дом в Каранде пришлось продать, чтобы было на что жить. Мне исполнилось сорок три. Я не принимал никаких мер, чтобы обеспечить свою старость. Друзья, которых волновало мое будущее, советовали найти работу, обрести стабильность, осесть.
Пытался писать, но из этого тоже ничего не вышло. Все движения казались больше ритуальными, чтобы подбодрить друзей и самого себя. После периода возбуждения во время путешествий маятник качнулся обратно. Именно тогда я снова позвонил матери. Мать говорила успокаивающе, не было ни раздражения, ни огорчения, ничего напоминающего размолвку, как я ожидал. Это был наш второй разговор за более чем двадцать лет.
Приятель, доктор, чуть было не уговорил меня принимать лекарство от депрессии. В эти моменты помрачения я видел себя типичным Питером Пэном, психологическим недорослем, соскальзывание которого в религию, мистицизм и другие высокоинтеллектуальные занятия было бегством от настоящей ответственности за себя и свою судьбу.
Мистические учителя, гуру вроде Раджниша, сами были Питерами Пэнами или же представляли собой умных эксплуататоров, более наивных молодых современников. Нет, я должен восстановить членство в Австралийском компьютерном сообществе, получить магистерскую степень и стать продуктивным членом общества. Тогда буду признан и обеспечу себе безопасную жизнь в среднем возрасте и досрочную пенсию.
И все же, думал я, мой путь был не напрасен. Я не хотел бы бесповоротно вернуться к тому, чтобы есть картошку Ван Гога и наполнять ею свое подполье, после того как попробовал его подсолнухи.
Я пытался записывать свои рассказы на магнитофонную ленту для матери и сестры, делясь с ними своим опытом. И обнаружил, что почти не способен говорить на понятном им языке. Сделал около двадцати попыток и закончил просто пением русских народных песен.
Страх нищеты, потери уважения, страх стать изгоем начал преследовать меня. Я был подвешен между двумя мирами — прошлым в Советском Союзе и поисками на капиталистическом Западе. Вспоминал то, что мать сказала по телефону: «Самое страшное для человека — это жадность»… Знала ли она, что существует и духовная жадность?
В своих снах я снова попадал на родину, и всегда что-то было не так: чиновник или милиционер останавливал меня и спрашивал, почему я там. Как правило, во сне я находился там тайно, не имея соответствующих документов. Потом видел сон — последний из этой серии, в котором, остановленный чиновником, уверенно показывал паспорт со штампом, разрешающим въезд в Россию и выезд из нее по моему желанию.
Конечно же, жила во мне и другая Россия: край девственных лесов и озер с кристально чистой водой, край просторной, захватывающей дух красоты. Родина жила для меня и в старинных народных песнях, которые я все еще пел, когда был за рулем в одиночестве. Наверное, во мне говорил дух моего прадеда Мирона, целителя, человека, который чувствовал себя связанным с тайнами жизни.
Однако эта моя Россия как бы спала, была лишь воспоминанием. А официальная Россия, Советский Союз, ассоциировалась с самоуверенными передовицами, двойными стандартами морали, бездуховностью. Каждый раз, читая советскую газету, я съеживался. И чувствовал, что не только правительство, но даже народ осудил бы меня. Я был предателем, перебежчиком (или сбегантом, как любила шутить одна моя австралийская приятельница, изучавшая русский язык). Мои взгляды были бы непонятны русским.
Если уж ты попал на Запад, сказали бы они, почему бы тебе не перестать стенать о Боге и судьбе и не пожить всласть? Миллионы русских охотно поменялись бы с тобой местами, чтобы просто иметь возможность купить все эти видеомагнитофоны и машины, которые ты рассматриваешь как не столь уж значительные вещи. Люди хотят жить нормально, без нищеты и лишений.
Но ведь большинство людей на Западе, размышлял я, тоже дерутся за лучшую зарплату или лучший дом, платят непомерные деньги за страховку, чтобы как-то защитить себя от чувства тревоги за будущее, жалуются на инфляцию и безработицу. И какими бы богатствами не располагала страна, люди сделают так, и очень быстро, что выявится недостаток в земле, в рабочих местах, в домах, которые можно снять или купить. Некоторые загребут больше, чем нужно, а другие должны будут бороться за самое необходимое. Неравенство есть повсюду.
Я знал об особых трудностях многих российских семей, которые эмигрируют без английского языка, денег или контактов, не имея легко переносимых на чужую почву профессиональных навыков, особенно в случае достижения ими старшего возраста. Родители, присоединяющиеся к своим детям, которые уже живут на Западе, зачастую продолжают жить в основном старыми воспоминаниями. Они не в состоянии пустить новые корни на чужой земле; они чувствуют себя как оранжерейные растения, пересаженные в цветочные горшки.
Пример такой несколько трагической, но поучительной истории — моей знакомой Анны, приехавшей сначала в Америку и позже переселившейся в Австралию. Анна много лет пыталась получить приличную работу. Она была доктором наук и говорила на нескольких языках, включая английский. Живя в Нью-Йорке со своей матерью и двумя детьми, она всеми силами боролась за выживание. Работала как доброволец, создавая собственные программы для американского радио на английском языке. У нее были прекрасные рекомендации от ведущих специалистов в университетах Европы и США, которые знали о ее работе в России. Однако, когда она переехала в США, некоторые ее американские коллеги смотрели на нее уже как на опасную конкурентку. Не сумев получить работу по специальности, она подала заявление на работу в «Голос Америки» и прекрасно сдала экзамен для поступления, но не получила ее, так как на ее место был нанят менее опытный, но более «пробивной» мужчина. Но Анна не потеряла духа и присоединилась к группе других женщин, подавших в суд иск по поводу дискриминации в пользу менее компетентных мужчин. Их адвокаты в конечном счете выиграли это дело у федерального правительства, добившись солидного вознаграждения для 1100 женщин, не получивших работу в государственных учреждениях в силу дискриминации по признаку пола.
Судебный процесс длился более 20 лет; Анна скончалась в ходе процесса, не дождавшись его завершения. Но ее дети смогли унаследовать деньги, полученные в качестве компенсации. Правосудие восторжествовало, хотя и с опозданием. Это дает надежду и другим иммигрантам, что даже на чужбине их права не могут быть попраны.
Но это — о людях, которые всегда честно пробивали себе дорогу. Таких меньшинство. Некоторые бывшие функционеры, партийные, профсоюзные и комсомольские работники зачастую не только не пострадали в ходе перестройки, но и укрепили свое положение. Многие из них посылают теперь своих детей за границу, в том числе и в Австралию. Они купили дома за наличные деньги в дорогих районах, таких, как Золотое побережье, их дети учатся в элитных университетах, а они сами готовятся переехать сюда на «заслуженный» отдых, особенно в случае невыгодного для них поворота возможного следующего раунда передела собственности в России. Они и их дети на полную катушку используют социальные блага и услуги капиталистического общества (пенсии, дешёвое жилье, скидки на транспорт и коммунальные услуги, бесплатную медицину, практически бесплатное образование и государственные переводческие службы), естественно, все еще, по старой привычке, поругивая его.
* * *
Позвонила сестра Катя. Ей удалось получить визу на поездку в Индию, по линии профсоюза. Такой шанс для советского человека может оказаться единственным в жизни, я должен был бросить все и увидеть ее.
Прошлое внезапно стало для меня реальностью. Я не мог уклониться от него. Сестра была моей ожившей памятью, Россией. Двадцать пять лет разлуки подходили к концу. Круг замыкался.
Затерялось Катино письмо с описанием ее маршрута — непростительная небрежность, которая позже оказалась скрытым провидением, прямо по Фрейду.
Мне повезло, что маршрут сестры был потерян. Я успел дать ей адрес в Нью Дели, через который она может найти меня. Это и спасло встречу, поскольку маршруг группы изменился. Мы были близки к тому, чтобы потерять друг друга, когда я, наконец, получил сообщение от Кати. В результате и она, и я поселились в одном отеле, так что могли провести столько времени вместе, сколько возможно, не выдавая себя «наседке» из КГБ. Мы проговорили целую ночь.
Говорили обо всем: о России и Австралии, о ней, Кате, и обо мне, о нашей матери и моей дочери, о политике, литературе, религии… Я чувствовал свою близость с сестрой, но мы были разделены невидимой чертой. Ее представления о внешнем мире и о моей жизни казались наивными, а то и просто неверными. Так, она, привыкшая к опеке КГБ, всерьез подозревала, что за нашей встречей ведет наблюдение и ЦРУ! Сестра ясно дала понять, что очень привязана к России и своей семье и никогда бы не захотела покинуть Россию навсегда.
Утром мы попрощались, крепко обнявшись, думая, что, возможно, никогда больше не увидимся. Катя спросила, может ли она сделать что-нибудь для того, чтобы я вернулся в Россию. Я ответил — ничего, это никогда не будет возможно. Туристский автобус отошел[28].
Я поехал в Кашмир, чтобы немного отдохнуть. В городке Шринагар, около которого я остановился в плавучем отеле, было спокойно, хотя в горах иногда шли столкновения между пакистанскими экстремистами и индийской армией. Помню смешную сценку. Я занимался тогда китайской книгой И-цзин[29], и хозяин отеля попросил погадать ему. Ему выпала гексаграмма, говорившая о женитьбе бедного жениха на богатой невесте. Оказалось, что я попал в точку, ибо именно неравный брак был его главной проблемой. Помню, как хозяин привел потом своих родственников, чтобы я им тоже погадал. Меня долго не отпускали.
Я должен был лететь на конференцию в США, где мне предложили работу переводчика. До конференции оставалось две недели. Я летел с остановкой в Германии, где хотел повидать друзей и отдохнуть от Индии.
Вскоре после прибытия в Германию я слег с лихорадкой и ощущением полного изнеможения.
Я подхватил какой-то вирус, плавая в загрязненной воде в Кашмире. Казалось, все стрессы предыдущих недель, а может быть и лет, искали выхода. Голова горела. Но вдруг все прошло. Я начал писать. Каждый день военные реактивные истребители — не знаю, американские или немецкие — пролетали над головой. Подобно разъяренным шершням, они вспарывали воздух, выполняя свои виртуозные маневры. Когда я писал, то неизъяснимым образом словно изгонял их из своего сознания.
Я был в Германии, стране, которая убила моего отца. Я знал, сколь преходящ и хрупок мир. Невидимая пыль из взорвавшегося реактора в Чернобыле оседала на дно мирного пруда, на который я смотрел с веранды. Была весна 1986 года.
РАБОТА В ВАВИЛОНСКОЙ БАШНЕ
Когда началась Перестройка, на запад хлынули целые толпы советских общественных деятелей, ученых и писателей. Одной из первых американских организаций, оценивших значение перемен, был тот самый институт Эсалена в Калифорнии, где я раньше проходил курсы и семинары. Я стал консультантом и переводчиком для их программы советско-американского обмена. Институт провел много конференций, коллоквиумов и собраний, например, организовал первый визит в США тогда еще практически неизвестного Бориса Ельцина. Меня пригласили переводить для него, но я уже подписал контракт на другую конференцию. С будущим президентом я встретился несколько лет спустя, на Конгрессе соотечественников в 1991 году.
С институтом Эсалена работал и частный филантроп Генри Дэйкин (известный своими плюшевыми игрушками — это его «Мишка» украсил Московскую олимпиаду 80-го года). Он также финансировал некоторые российско-американские обмены. Генри был примечательной личностью и большим русофилом. Это был застенчивый человек, ставший филантропом после того, как часть его семьи погибла в авиационной катастрофе. Он помогал многим благотворительным организациям. Дом Дэйкина на Сакраменто Стрит в Сан-Франциско был базой для многих «альтернативных» начинаний в области экологии, компьютерной связи, издательского дела. Генри был спонсором местной школы Вальдорфа, стал одним из основателей института Грин Сентюри, организации, способствующей развитию экологически устойчивых человеческих поселений. Я подружился с ним и с его семьей и смог, работая на его организацию, содействовать визитам российских ученых, которые занимались исследованиями в таких областях, как психофармакология и психонейроэндокринология. Одним из них был доктор Арон Белкин, возглавлявший в Москве институт по борьбе с наркозависимостью.
Из наших бесед с Белкиным у меня возникла идея написать фантастическую книгу «Проект Нирвана». В ней отчаявшееся советское руководство пытается справиться с проблемой алкоголизма, разрушающего здоровье народа и экономику, путем внедрения некоей разновидности медитации, вместе с экстрактом из галлюциногенных грибов. Это была не столько научная фантастика, сколько экстраполяция действительности, — о подобных проектах в СССР действительно поговаривали и даже проводили эксперименты на Чукотке. В книге я использовал идею исследований на стыке этноботаники и психотерапии, чтобы показать их последствия как в Советском Союзе, так и в мире в целом. Издательство «Уорнер Букс» заинтересовалось как самой книгой, так и ее возможной экранизацией. Однако они сочли мой подход «утопическим» и хотели, чтобы я в конце показал американское превосходство. Для этого нужно было бы полностью изменить направленность книги, и я отказался это сделать[30].
Во время поездок и встреч с российскими учеными случалось много занимательных происшествий. Мы обычно встречали делегатов в аэропорту Сан-Франциско на длинном лимузине, в баре которого стояла бутылка шампанского для гостей, и помещали их в хорошем отеле в городе. Поскольку эти люди все еще находились в режиме ограничений советской системы и получали что-то около десяти долларов в день, они приходили в ужас от «ненужной» расточительности во время приема. И просили меня уговорить организаторов отвезти их из аэропорта на обычном такси и поместить всех в одну комнату, а разницу в стоимости расходов презентовать им, чтобы они могли позволить себе привезти хорошие подарки для своих семей.
В поездках по Америке с Белкиным и другими учеными, я имел возможность познакомиться с некоторыми американскими исследованиями, работой и частной стороной жизни ученых, когда они приглашали нас к себе в лаборатории и домой. Мы встречали таких людей, как Кэндис Перт из Вашингтона, которая была пионером в исследовании СПИДа.
Припоминаю любопытный инцидент, когда Эндрью Вейл[31], ведущий американский исследователь в области холистической медицины и психоактивных веществ, повез нас в амазонскую пустыню для того, чтобы провести непосредственный опыт с одним из его экспериментальных снадобий. Нас сопровождала китаянка, подруга Энд-рью, и два его огромных родезийских риджбэка.
На какое-то время китаянка исчезла в пустыне, и мы с Белкиным остались наедине с Энд-рью и его собаками. Эндрью рассказал нам, что это место было священным у индийских племен, обитавших ранее в Аризоне. Снадобье начинало действовать, и я заметил, что Белкин испытывает чувство острого беспокойства. Я спросил его, в чем дело. Он шепотом рассказал мне о своих видениях, что Эндрью принадлежал к древнему племени шаманов и что он уже встречался с ним в Африке тысячи поколений назад. Между их племенами много лет шла острая вражда. Он чувствовал, что Эндрью был гораздо лучше подготовлен к встрече и мог даже управлять поведением животных — таких, как скорпионы и змеи, которых он мог натравить на нас. Я успокоил его, сказав, что змеи в это время года практически нет, и что к вечеру они засыпают.
Белкин впоследствии логически проанализировал весь этот опыт и пришел к выводу, что испытал острое параноидальное состояние под воздействием приготовленного Эндрью снадобья. Ему потребовались несколько часов, чтобы успокоиться и начать бесстрастно рассматривать свой опыт. Он полагал, что эксперимент был очень ценен, так как позволил ему взглянуть изнутри на сознание человека, переживающего параноидальные идеи. Мне же этот эпизод особенно запомнился потому, что я был посредником в дискуссиях двух ученых, живущих в параллельных, но разделенных мирах. Эндрью Вейл, кажется, больше всех получал удовольствие от поездки и играл магические мелодии на своей флейте во время захода гигантского красного солнца над темнеющей пустыней. Кстати, за последние годы Эндрью стал, пожалуй, самым известным в Америке специалистом по холистической медицине. После серии популярных телепередач вся Америка узнает его по седой, как у Деда Мороза, бороде.
Вместе с советскими учеными я принимал участие в шаманских сеансах с Майклом Харнером под звездами Эсалена и в сеансах холономичес-кой интеграции (гипервентиляция, сопровождаемая ритмической музыкой) со Стэном Грофом[32], пионером исследований воздействия ЛСД на человеческую психику. На советских людей произвело большое впечатление то, что один из столпов антропологии Майкл Харнер является также практикующим шаманом, ловко высушивающим перед сеансом свой обтянутый кожей барабан с помощью фена. Один из русских ученых испытал нечто вроде религиозного экстаза во время сеанса и вдохновился на исследования в этом направлении.
Припоминаю, что Стэну Грофу доставляло удовольствие катать советских коллег в своей быстрой и дорогой машине, и что они явно завидовали материальным благам, которыми сопровождался успех ученых на Западе.
Одним из визитеров был доктор Александр Вишневский, внук знаменитого русского хирурга, создавшего лечебный бальзам во время второй мировой войны. Мне довелось быть переводчиком в ходе операции на открытом сердце, которую проводила ведущая команда американских кардиохирургов в Стенфордском университете. Вишневский был чрезвычайно заинтересован не столько техникой операции (он говорил мне, что в каких-то деталях они были впереди американцев), сколько производителями передовых хирургических инструментов, использовавшихся во время нее. Доктор также коллекционировал инструменты для работы типа «сделай сам» и в перерывах между совещаниями просил меня сводить его в магазины, где восторгался разнообразием инструментов и приспособлений.
Позднее Белкин хотел оказать мне взаимную услугу за мои усилия по организации его визита. Он попытался оформить приглашение в Россию, чтобы я мог выступить на одной из собранных им и спонсируемых Минздравом конференций. Ему удалось пригласить в Москву Стэна Грофа, который провел первые в СССР сеансы его «холотропной» медитации в институте Белкина. Приехал в Москву и Дин Орниш, ставший впоследствии одним из самых известных в мире специалистов по холистическому подходу к лечению сердечных заболеваний. Однако, несмотря на связи Белкина в Минздраве, МИД отказал мне в визе. Это было не удивительно, так как мое имя все еще стояло в списке КГБ на розыск, и я находился, по крайней мере де юре, под угрозой смертной казни.
Переводческая активность возрастала, по мере того как перестройка создавала все более благоприятные условия для советско-американских отношений. Я преподавал русский язык группам русофилов и бизнесменов в одном из принадлежащих Генри Дэйкину домов в Пасифик Хайтс. Мы провели первые видеомосты с Москвой, а Генри финансировал компанию Сан-Франциско-Москва Телепорт, которая стала одним из первых свободных Интернет-серверов в России. Довелось мне также участвовать и в телевизионном мосте между Конгрессом США и Верховным Советом.
Хотя вопрос о моей возможной реабилитации больше волновал мою сестру, чем меня самого, появилась возможность узнать о состоянии моего «дела» из соответствующих инстанций. Когда я переводил на конференции в Калифорнии, куда приехал с визитом Андрей Сахаров, я дал ему описание своего дела с просьбой узнать, не мог ли измениться мой статус преследуемого политического преступника в СССР. Сахаров пообещал заняться этим. Он казался скромным, деликатным человеком, готовым помочь мне, как и многим другим. Его жена Елена Боннэр была более экстравертной особой, взявшей на себя роль политического рупора для своего более застенчивого мужа.
В одной делегации с ним был бывший главный прокурор Грузинской республики, который просто сказал, что за сто долларов, нужных ему, чтобы купить хороший подарок для внука, он организует мою реабилитацию гораздо быстрее, чем все Сахаровы в мире. Я не был уверен, можно ему верить или нет, но так как хотел увидеть когда-нибудь свою семью и знал как это трудно сделать, дал ему денег.
Уж не знаю, кто в результате помог мне (сам я никогда не подавал заявления о пересмотре моего дела, сестра Катя писала многочисленные письма в правительство с просьбами об этом), но в 1990 году я был реабилитирован.
* * *
Помимо переводческой работы я на протяжении многих лет печатал аналитические статьи, книжные рецензии и заметки в самой крупной и, пожалуй, самой влиятельной австралийской газете Сидней Морнинг Геральд. Особенно острый интерес к событиям в СССР, Восточной Европе и Китае существовал в годы перестройки и в течение первых лет правления Ельцина. Сотрудничал и в альтернативных газетах, печатавших мои серии юмористических статей, которым я дал название «Электрическая собака»[33] .
В те годы я принимал активное участие в интервью и круглых столах, проводимых национальным австралийским радио Эй-би-си, а также на радио и телевидении Эс-би-эс. Как обывателей, так и политических деятелей интересовал вопрос — куда пойдет Россия после перестройки? Как изменится ее положение в мире и какую новую роль она для себя найдет?
С годами большую часть времени стала занимать переводческая работа на различных международных конференциях и встречах, где выступали российские президенты Горбачев[34], Ельцин, а позже и Путин; во время визитов советских премьер-министров и других высших чиновников, а также бизнесменов, ученых и т. п. Это дало мне возможность глубже понять природу изменений, которым подвергалась советская система и Россия. Утвердился я и профессионально: стал членом Женевской организации переводчиков-синхронистов (AIIC) и австралийской организации переводчиков (NAATI), получил университетский диплом по социальной коммуникации.
В ходе поездок на конференции на протяжении почти 30 лет мне удалось посетить практически все страны, которые я хотел повидать. Запомнилась поездка в Канны и Монако, совпавшая с кинофестивалем — исполнение еще одной моей «золотой мечты» со времен турецкого заключения. Как это часто бывает, мечты плохо соотносились с реальностью. Если ты не знаешь французского, не имеешь местных друзей или уйму денег, Канны это дорогой и, за исключением периода кинофестиваля, довольно скучный и провинциальный французский городок.
Я много ездил по странам Азии, работая сначала на Инфомедию, а позднее как переводчик на конференциях. Часто бывал в Японии и близко познакомился с японской культурой, особенно живописью в стиле «дзен» и японским фольклором. Моим любимым местом в Японии стал городок Койясан неподалеку от Осаки, расположенный на священной горе с множеством буддистских монастырей. Это было место, где Кукаи, родоначальник буддистской секты Шингон, в начале 9-го века основал свой первый монастырь. Как и многие другие посетители, я останавливался обычно не в отеле, а в «шукубо», т. е. комнатке при монастыре. Трудно передать атмосферу покоя, которую навевало это место. Надгробные памятники на кладбищах Койясан, многие из которых были настоящими произведениями искусства в самых разнообразных стилях, содержались в безукоризненном порядке и чистоте более 11 столетий.
Помню и землетрясение в Тайпее, заставшее меня на верхнем этаже отеля, прикованным к стульчаку, после того как я отравился испорченной рыбой в ресторане. Я пережил до этого несколько землетрясений, включая одно в палатке на Кипре, где я подпрыгивал буквально на полметра, лежа на надувном матрасе. Здание отеля сотрясалось и раскачивалось с невероятной силой. Я был рад, что у меня в номере не было свидетелей.
В Таиланде я особенно любил малоизвестный в те годы остров Ко Пханган. Сейчас он стал знаменит во всем мире его грандиозными празднествами молодежи в день полнолуния. Один раз я посетил его во время фестиваля полнолуния. Ничего не подозревая, я арендовал избушку прямо на краю пляжа, где, как оказалось, проходили главные празднества фестиваля. Когда я увидел, что на пляже установили 2 спикера размером с большой грузовик, направленные прямо на мою избушку, я решил, что спать в эту ночь не придется. Так оно и было. Наутро я мог обозревать результаты бурного веселья: парочки, которых сон объял прямо на пляже, и многочисленные жертвы передозировок как алкоголя, так и прочих снадобий, включая знаменитые копханганские галлюциногенные грибы. Полиция никого особенно не наказывала, ибо доходы, получаемые от этого фестиваля, на время приостанавливали слишком строгое исполнение местных законов.
В Макао мне довелось делать синхронный перевод для владельца одного из крупнейших казино, к которому приехала поучиться бизнесу группа дельцов из одной центрально-азиатской республики. Этот китаец говорил только на кантонском наречии, его речь переводила на английский язык местная переводчица, после чего я переводил на русский. На встречу приехала также молодая русская переводчица из Пекина, переводившая на мандаринском наречии. Однажды утром она рассказала мне, что кто-то каждый день засыпает ее постель множеством красных роз. Подозрения пали на владельца казино, ибо такое дорогое удовольствие мог себе позволить только он. Подозрения оправдались, поскольку на следующий день он сделал моей коллеге предложение стать его наложницей, пообещав ей очень щедрую сумму на содержание. Она отказалась, после чего режим ее работы стал более жестким. Работали мы так или иначе ненормированные часы, так как владелец страдал бессонницей и любил полностью менять программу следующего дня ровно в полночь, приводя свою многочисленную свиту в состояние паники. Вскоре после этого визита произошла разборка между различными группировками, контролировавшими игорные дома в Макао, в результате которых было убито несколько человек.
Австралию называют иногда тихоокеанской Швейцарией, призванной играть роль посредника между европейским западом и соседними странами Юго-Восточной Азии. Это, наверное, преувеличение, хотя Австралия явно находится в уникальном положении в своем регионе, будучи одновременно крупным поставщиком сырья для Китая и других стран Азии и одним из самых тесных союзников США. Конечно, такое положение посредника чревато осложнениями, и австралийским политикам придется искусно лавировать в ближайшие десятилетия, чтобы страна не была раздавлена двумя гигантами — Китаем и США, борющимися за первенство в мире. Некоторые азиатские страны (особенно Малайзия и, в меньшей мере, Индонезия) несколько презрительно считают Австралию «шерифом Америки» в «их» регионе. Тем не менее, экономическая мощь Австралии заставляет соседние с ней страны считаться с ней. Корпорации из Азии нередко избирают Сидней в качестве центра для своих филиалов. В Австралию приезжают туристы и студенты из всех стран Азии. Доход от туризма и обучения иностранных студентов почти соперничает теперь с доходами, получаемыми от продажи сырья.
Запомнилась работа на Сиднейской олимпиаде 2000 года. Это было событие национальной важности не только потому, что австралийцы по традиции преуспевают в спорте и любят его, но и потому что они действительно хотели сделать сиднейскую олимпиаду одной из самых успешных из всех, когда-либо имевших место. Тысячи добровольцев жертвовали своим временем, помогая проведению различных мероприятий и сопровождая туристов. Частично благодаря этому, она оказалась лучше организованной по сравнению с хорошо мне запомнившейся Мюнхенской, и прошла без терактов, хотя их опасались. Я переводил на пресс-конференциях и церемониях награждения российских медалистов. Поражало, сколько спортсменов российского происхождения выступают за другие страны. Александр Попов жил и тренировался в Австралии, хотя выступал за Россию. Среди многих замечательных выступлений запомнилось выступление Алины Кабаевой, получившей «только» бронзу из-за случайной ошибки. Но она все равно была фавориткой зрителей. По слухам, она метит теперь попасть в Голливуд.
В годы перестройки интерес к происходящему в России был огромным и тематика конференций и встреч, где мне довелось переводить, самой разнообразной, буквально, от космоса до косметики.
К сожалению, нужно признать, что экономический спад, сокращение российского научного и военного потенциала неизбежно привели к потере интереса к России, к русской науке и языку. Число курсов русского языка в университетах Австралии, Америки и Европы сократилось. Да и на международных конференциях реже звучит русский язык. Многие из актуальных для России конференций посвящены теперь таким проблемам, как сокращение нищеты и борьба со СПИДом.
Увы, война в Чечне, рост преступности, коррупция и обнищание большей части населения, не получившего обещанных благ после смены власти, — всё это подорвало веру многих людей на Западе в положительные преобразования в России. Хотя русские иммигранты в Австралии пытаются стимулировать интерес к русскому языку и культуре среди австралийцев, нужны значимые перемены к лучшему в самой России и восстановление ее авторитета в мире, чтобы эти попытки стали более успешными.
ЛЕКАРСТВО ОТ НОСТАЛЬГИИ
В 1990 году я впервые въехал в Россию после почти тридцатилетней эмиграции.
Эта первая поездка была, наверное, самой драматичной. За год до этого мне отказали в визе вообще, без объяснений, хотя у меня было официальное приглашение на научную конференцию. Я рассчитывал посетить Россию без осложнений, до того как начнется возможный откат реформ. Хотелось повидаться с семьей, с матерью, прежде чем, быть может, опять захлопнется дверь. Я много переводил в те годы для австралийского МИДа, и дипломаты заверяли, что в то время мне не грозила никакая реальная опасность.
Но друзья волновались. Одна знакомая пара, увлекавшаяся всякими учениями «нью эйдж», принесла в аэропорт в Сиднее охранный амулет — кольцо в виде скарабея. Уже в самолете я открыл приложенную записку: в ней описывались тайные силы амулета, включая способность противостоять боли при пытках и отводить пулю при расстреле! Я сунул эту записку куда-то в сумку и забыл о ней.
Перед отъездом я принял все необходимые меры предосторожности: в Москве меня должны были встретить не только племянник, капитан милиции, но и съемочная телевизионная группа из США, которая должна была взять у меня интервью. Несколько друзей в Америке и в других странах ждали от меня весточки вскоре после прибытия, пообещав в случае задержки начать бить тревогу. Я был тогда членом Международной Ассоциации Журналистов и мог рассчитывать на ее поддержку. О моем приезде знало и посольство Австралии в Москве.
Я вспомнил о записке в моей сумке только после того, как был задержан КГБ в Шереметьево сразу после прилета. Так как гэбисты заявили сначала, что мой багаж потерян, я начал подозревать, что меня намереваются задержать по какому-то ложному поводу. Найдут эту глупую записку да еще и подложат какой-нибудь наркотик!
Меня держали в изоляции в специальной гостинице рядом с Шереметьево, без права связи с внешним миром. Офицер, арестовавший меня, сказал, что наутро «приедет следственная группа, которая меня допросит». В конце концов, багаж вернули. И наутро меня выпустили, без всякого объяснения.
Я все-таки добрался до Новосибирска и там сумел повидаться со своими родственниками. На въезд в Томск нужно было получить разрешение с подписью министра внутренних дел Бакатина, на что могло уйти несколько дней. Гэбисты постоянно наблюдали за мной. Они даже предложили отвести меня в Томск на своей машине и с сопровождением, но я от этой любезности отказался, сказав, что поеду только после получения официального разрешения. Мать тогда сама приехала из Томска на встречу со мной.
После первоначальных объятий и слез она осторожно спросила: «А как ты смог получить разрешение на въезд и от кого?» Напуганная годами «бесед» с КГБ, она уже ничему и никому не верила. Еще раньше, когда я собирался приехать на конференцию в 1989 году, я позвонил Кате, попросив ее спросить у матери, что она думает о моем возможном приезде. Мать сказала просто: он приедет сюда на верную смерть.
Встретился я и с сотрудником КГБ, который курировал мое дело в Новосибирске, — он сказал, что скопилось многотомное дело, и пожаловался на маленькую зарплату. Всемогущий комитет хирел на глазах.
Повидав мать и родственников, мне больше всего хотелось выбраться живым из страны. Снились потом кошмарные сны, что я застрял в России. Отлет самолета из Шереметьево был задержан на четыре часа, когда мы все уже были на борту самолета, и как всегда, без объяснений. Потом выяснилось, что именно в этот момент началась война в Персидском заливе.
Вторая поездка в Россию состоялась в августе следующего года. Я был приглашен на Конгресс соотечественников — самое большое собрание эмигрантов и беженцев в истории России. В первый раз эмигранты могли вернуться на родину как свободные граждане, не опасаясь быть отправленными в запертых вагонах в места заключения.
У меня все же были сомнения принять ли приглашение. Я решил на короткое время остановиться в Москве по пути в Европу, где у меня были другие дела, а потом снова вернуться на Конгресс. Но прежде хотел выяснить наличие потенциальной опасности. Обстановка в Москве казалась достаточно безопасной, хотя и напряженной, противники перестройки не сдавались. Мой племянник Борис, живший в Москве, капитан милиции, успокоил, что опасности переворота нет.
Несколькими неделями позже, когда я пересаживался на свой рейс в Москву из Парижа, на душе было почему-то тяжело. Буквально за несколько дней до того я сочинил поэму, в которой описывал жизнь, как «свободное падение в судьбу». И в самом деле, какая судьба меня ждала, если бы произошел путч? Несомненно, путчисты не стали бы терпеть толпу бывших «врагов народа», высадившуюся в Москве.
Проходная будка в Шереметьево была полна отверстий, но узкая щель мешала видеть полностью, что происходит внутри. Когда пограничник щелкнул своим невидимым аппаратом, я предположил, что он посылает изображение моего паспорта в главное управление, где его сверяют с компьютером КГБ. Все это время он говорил с кем-то по телефону. Пограничник проверял срок действия моей визы и хотел получить разрешение начальства. Получив согласие, он пригласил меня пройти.
Итак, Конгресс должен был стать возможностью для моего формального примирения с родной страной. Россия звала обратно своих блудных сыновей и дочерей, вроде бы нуждаясь в их советах и взглядах на будущее страны, хотя все это могло легко стать, как обычно, пустым ритуалом. Среди прочего литературного багажа я вез свой перевод книги о приемах разрешения конфликтов, ведения переговоров и посредничества. Ее соавторы — две австралийки, Хелена Корнелиус и Шошана Фэйр, предлагали методики, в которых, как мне казалось, Советский Союз нуждался, когда начал расползаться по швам. Презентации, организованные мною на различных круглых столах с советскими и западными экспертами, вызвали интерес в средствах массовой информации. И все же чувство беспокойства не покидало меня. Все, казалось, шло слишком гладко. Интуиция подсказывала, что власть, которая уничтожила миллионы, вряд ли уйдет просто так.
В ночь на 18 августа мне приснился сон. Будто стою у окна, пытаясь удержать его закрытым под напором ужасающей бури, в любую минуту оно может не выдержать. И одновременно вижу, что моя сестра спит на полу, обнимая ребенка. Я пытаюсь разбудить ее, чтобы предупредить об опасности…
На следующее утро меня разбудил телефонный звонок из Австралии. Звонил Приа Вишнулин-гам, ведущий телевизионной программы новостей.
Он спрашивал, знаю ли я о мятеже. Включил телевизор. На фоне спокойных лугов играл оркестр. Часом позже зачитали сообщение о ГКЧП. Кошмар стал реальностью.
В то утро Патриарх всея Руси Алексий пригласил участников Конгресса на специальную службу в один из храмов Кремля. Это было Преображение Господне. Пока продолжалась церемония, танки и бронетранспортеры собирались вокруг Красной площади.
Следующая ночь 20 августа была самой тревожной. Российский Белый Дом, окруженный импровизированными баррикадами, защищала в основном молодежь. Все это напоминало китайскую площадь Тяньаньмэнь с ее полиэтиленовой богиней демократии двумя годами раньше.
Окно гостиницы, где я жил, служило отличным наблюдательным пунктом, из которого можно было видеть улицы, прилегающие к Кремлю, и часть Красной площади. Мой верный карманный коротковолновый приемник стоял на подоконнике, соединяя с миром. Сквозь моросящий дождик я видел, как быстро носились лимузины — голодные черные тараканы, въезжающие в Кремль и выезжающие из него на опустевшие из-за комендантского часа улицы. Вскоре после полуночи внезапно вышло в эфир «Эхо Москвы», единственная из оставшихся независимых радиостанций, с сообщением о надвигающейся осаде Белого Дома правительственными войсками.
У меня не было иллюзий в отношении моей личной безопасности, несмотря на ободряющий телефонный разговор с австралийским посольством. Если эта банда смогла похитить законно избранного президента вместе с его ядерным чемоданчиком, мой австралийский паспорт и журналистские удостоверения вряд ли произведут впечатление.
Я был уверен, что вряд ли мне по плечу повторить свой заплыв почти тридцатилетней давности. И возраст не тот, и время года неподходящее… Уж лучше отправиться в Ленинград и попытаться сесть на первый же поезд в Финляндию.
Я вспомнил о судьбе Юрия Ветохина, одного из немногих людей, безуспешно попытавшихся повторить мой путь. Через год после моего заплыва он, без ласт — фатальная ошибка! — поплыл из Батуми в Турцию. Однако сильные течения отнесли его назад настолько, что он оказался не в Турции, но еще глубже, на территории СССР! Ему удалось избежать ареста в тот раз, но, когда он повторил попытку побега в 1967 году с использованием надувной лодки, его поймали и он отсидел восемь лет в психушке — ВНИИ Судебной Психиатрии имени Сербского. Он перенес издевательства, принудительное лечение, побои и голод, перед которыми, по признанию заключенных времен войны, бледнели немецкие концлагеря. Выйдя полумертвым в 1975 году, он сразу начал готовить новый побег, с заплывом в Индонезию с туристического судна. Судно не заходило в загранпорты и ему удалось получить туристическую визу. Ему предстоял долгий заплыв, хоть и без пограничников, но с огромными естествен-ними преградами — течениями, акулами, прибоем, ориентацией в ночное время. Заплыв удался, и он в конце концов попал в США[35].
Когда распространились новости о победе Ельцина и возвращении Горбачева в Москву, я отправился к Белому Дому. Лица людей в метро светились радостью. Бывшие правители еще раз доказали свою бездарность и бессилие. Так как газеты не выходили, толпы людей собирались вокруг листовок, расклеенных на стенах. Мужчина средних лет читал листовку вслух перед большой толпой, запинаясь, но воодушевленно.
После Конгресса я планировал слетать в Сибирь, повидаться с семьей. Племянник Борис, все еще озабоченный моей безопасностью, вызвался лететь со мной в качестве сопровождающего. На самолет билетов не достали и добирались на поезде два дня и три ночи через Урал, загрузив рюкзаки изрядным количеством еды и прихватив баллончик с парализующим газом, на всякий случай.
Несмотря на опасения, поездка прошла почти без приключений. Проводницы без конца носили нам чай, извиняясь, что уже два месяца нет сахара. К счастью, у нас с собой была банка джема. На станциях продавали соленые огурцы и горячую картошку. За доллар можно было накупить кучу еды и еще получить сдачу.
В коридоре вагона играли дети. Рабочий, ехавший в нашем купе, не переставал повторять, что ему все равно, кто правит страной, лишь бы иметь приличную зарплату- и возможность покупать вещи. За окном мелькали водонапорные башни, дымящие трубы предприятий, ветхие от времени домишки, перемежаясь с бескрайними лесами и укрытыми осенним туманом озерами.
В Новосибирске к нам присоединилась Катя, чтобы вместе отправиться в Колпашево, где когда-то был наш родительский дом, ведь в первый приезд меня в родной город не пустили.
Я был готов ко всему. Мы приехали инкогнито, даже не позаботившись о регистрации в милиции, так как рассчитывали пробыть здесь не больше двух дней. За несколько месяцев до этого редактора местной газеты чуть не уволили за перепечатку из «Сибирской Газеты» интервью со мной. Комитет ветеранов войны опубликовал боевой клич с осуждением моего возможного визита. Воинствующие старики-коммунисты собирались показать мне, кто в стране все еще хозяин.
Первый день в Колпашево оказался на редкость хмурым. Моросящий дождь покрывал все серой сеткой, затуманивал объектив фотоаппарата. Мы пошли к памятнику горожанам, павшим на войне, — имя нашего отца на нем не значилось. Памятник поставили уже после моего побега, партия была начеку — отец «предателя» не заслуживал чести числиться среди тех, кого «утвердили» павшим героем.
Неподалеку от дома, где мы жили когда-то, был магазин. Взрослые как-то послали меня сюда купить бутылку водки, а я, не в силах противиться искушению, купил вместо нее перочинный ножик и получил за это ужасную трепку. Рядом находился котлован, где я часто играл ребенком. Тридцать прошедших лет заполнили его мусором времени: старыми ботинками, пластиковыми бутылками, газетами и прочей грязью. Одновременно я думал о другом рве — не отмеченном на картах массовом захоронении жертв репрессий, чуть поодаль, на берегу реки. Мой маленький сибирский городок был памятником трагедий моей страны.
Когда мы с сестрой стояли у могил дедушки и бабушки, я вспоминал, что они ушли без традиционного христианского прощения друг друга. Может быть, и я не способен никого прощать и чувствовать благодарность к жизни? И не коммунисты или экологическое загрязнение, а вот эта неспособность прощать, это отсутствие веры и милосердия стали истинной причиной разрушения человеческих и материальных ценностей, которое я видел вокруг себя? Это был гнев, который мы передавали от одного поколения другому. Стоя у могил наших предков, мы с сестрой дали друг другу слово простить всех родных и близких на пороге своей смерти.
В день отъезда местная газета попросила меня дать интервью и написать личное обращение к жителям города. Я написал о надежде и согласии. Я думал о мальчиках и девочках возраста, в котором я покинул Колпашево. Казалось, их возможности невероятно возросли с приходом «перестройки». Но возросли и препятствия — преступность, обман надежд, конкуренция за теплое место под солнцем, своим или заграничным. И все-таки я верил, что сибирская смекалка, позволяющая перенести все превратности природы и все закавыки российской истории, поможет и им. Им не придется, как мне, тайком брать книги из районной библиотеки. Им открыт Интернет с его огромным потоком информации. Нужна только вера в успех, в судьбу, в свои возможности. Нужна и честность духа, умение смотреть правде в лицо.
Мы поехали в Томск к матери и брату. Володя ждал нас около дома, где жила мать; он сидел на лавочке и курил сигарету. Он здорово постарел, хотя и не потерял своего привычного чувства юмора. Я вошел в маленькую квартиру. Мать стояла посреди комнаты — морщинистая, но все еще бодрая, несмотря на свои восемьдесят шесть лет. Она была одета как всегда аккуратно, в простой, домашний халат собственного шитья. Родственники приходили и уходили, делясь со мной рассказами о своей жизни и о том, как их допрашивала милиция после моего побега. Впервые я мог им рассказать всю свою историю. Я больше не был отверженным, потерявшимся на чужих берегах. Меня скорее воспринимали как героя, возвратившегося из долгой опасной одиссеи с дарами другой цивилизации. Даже мой старший брат, которому я всегда казался немного идеалистом, был поражен моей способностью превращать кусочки пластика из бумажника в бутылки импортного коньяка и блоки сигарет. Он по-прежнему с недоверием относился к моей профессии переводчика и журналиста. «Вот если бы ты завел в Австралии свиноферму», — всего лишь полушутя говаривал он, — «тогда бы мы поговорили».
Мой бывший товарищ по команде пловцов, Борис Филиппус, ставший, кстати, чемпионом мира среди сениоров, свозил меня в печально знакомую мне Томскую психиатрическую больницу. Мы ходили по улицам вокруг больницы. Вокруг были такие же обшарпанные здания, во дворах бродили летаргические пациенты, напичканные нарколептиками. В воздухе — тонкий запах мочи, наверное от матрасов, которые сушили на солнце. На секунду я почувствовал, что мне надо зайти опять в палаты, чтобы понять, заново прочувствовать весь ужас моей тогдашней ситуации. Что было бы со мной, если бы в тот сибирский холодный день я не рискнул прорваться через кухонный зал? Вернувшись к родным, я чувствовал себя тихим и удовлетворенным, но не очень-то счастливым. Кем я был для них? Своим или иностранцем? Вспоминались слова старого эмигранта, учителя балета во Франции: «Когда я с французами, я знаю, что я — не француз. Когда я с русскими, я знаю, что я — не русский».
Наутро я попрощался с матерью, сестрой и братом, не уверенный, что снова их увижу. Приближалась суровая зима.
Только чудо может спасти Россию, думал я на обратном пути в Шереметьево, а тело стонало и скрипело от месячной перегрузки холестерином, алкоголем и нитратами. Вспомнился анекдот: очень легко превратить капитализм в социализм — это как сварить уху из аквариума. Но гораздо труднее сделать наоборот.
Немолодой водитель такси, явный шестидесятник, проигрывал кассеты с бардовскими песнями протеста. Вспоминалась русская сказка. Иван-царевич лежит в поле, разрубленный на куски Кащеем бессмертным, злодеем, с незапамятных времен преследовавшим Россию. Иван воскрес, спасенный могучим Духом Зверей, с которыми предусмотрительно обручил трех своих сестер. Звери принесли живую и мертвую воду и вдохнули в тело царевича жизнь. Но так было в сказке…
Во время моих поездок я с горечью наблюдал, как с годами новой философией в России все более становился цинизм. Еще при Ельцине свобода воспринималась как вседозволенность. Наш закрепощенный народ, не привыкший к самостоятельному принятию решений, видимо, не нашел сил справиться с этой свободой, и она превратилась в распущенность.
Как внизу, в нелегкой борьбе за выживание, так и наверху — в ходе накопления первоначального капитала, критерии морали были выброшены за дверь. Ловкачи проявили недюжинные таланты и чудеса изобретательности, обворовывая ближних. Люди, не привыкшие с детских лет к самостоятельности, поверившие в сказки о внезапно свалившейся на голову халяве, тысячами попадались на посулы невероятных денежных процентов, дешёвых квартир и машин, заграничных туров и огромных дивидендов от якобы ценных бумаг. Крупномасштабная коррупция шла с верхов власти вниз и возвращалась с утроенным моментом снизу вверх. «Силовики» создавали свои теневые структуры, которые помогали им «крышевать» олигархов и бандитские мафии. Народ (по крайней мере, те, у кого есть еще силы поднять глаза от тарелки с тощим супом), лупил глаза на мыльные оперы и порнуху, лечился у экстрасенсов, скупал на последние деньги биодобавки и прочие чудеса коммерческой медицины. Чиновники брали взятки, продавали «мертвые души» и мечтали об оффшорах. Интеллигентская элита предавалась ностальгии по прошлому или будущему и читала лекции за рубежом. Бизнесмены старались урвать побольше и подставить друг другу ножку. Собственное производство (кроме сырьевых отраслей, приватизированных олигархами) практически не развивалось. Россия по-прежнему сидела на нефтяной игле. И на фоне всей этой языческой вакханалии бродили тысячи бездомных, беспризорных детей, сбивающихся в далеко не безобидные стайки. Россия стала страной обедневшего матриархата, страной без отца и без настоящего хозяина…
Выросло поколение, которое «выбирает пепси», компьютерные игры, попсовые шоу типа «За стеклом» и просто не хочет читать. Многие не знают ни своих дедов-прадедов, ни истории своей страны. Одна надежда: Россия всегда славилась талантами. Поразительно, но даже в таких условиях люди работали в информационном потоке Интернета, создавали, вопреки всему, новые высокие технологии, получали международные премии в области науки, литературы и искусства. Были и талантливые управленцы и финансовые гении. И — увы! — гениальные хакеры. По-прежнему встречались настоящие мастера — «золотые руки». Всё это как будто говорило о том, что у России есть будущее. Только вот когда оно будет лучшим для большей части народа, хотя бы настолько, как это происходит в Китае.
ВЫИГРАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ?
После реабилитации я начал регулярно ездить в Россию, охваченный, как и многие, чувством надежды, если не эйфории, на возможное посткоммунистическое возрождение. Я хотел участвовать в меру своих сил в этом процессе. Одним из первых моих вкладов был перевод и издание книги по разрешению конфликтов «Выиграть может каждый», которая, мне казалось, была полезной для наработки новых политических навыков в России[36].
Я связался с автором книги Хеленой Корнелиус и с Сетью по разрешению конфликтов (СРК) в Австралии, что позволило провести ряд семинаров по разрешению конфликтов и миротворчеству под эгидой Российской Академии Наук и различных международных организаций, таких как ЮНЕСКО, Европейский Союз, International Alert. Начав работать сначала как переводчик на одном из первых в России семинаров по урегулированию этнических конфликтов, я начал руководить группами тренеров из разных стран на семинарах в Пятигорске и, позднее, в Амстердаме. Став членом Института по исследованию мира и конфликтов при университете Сиднея, я публиковал статьи о воздействии раннего психологического воспитания на будущие навыки при разрешении конфликтов[37].
Поначалу в России был большой интерес к этой теме. Сеть по разрешению конфликтов получала тысячи писем из разных мест. Новая Россия находилась на пике реформ, которые, как предполагалось, позволят ей присоединиться к ведущим странам мира. Чего только не было' в письмах, приходивших к нам — от тревоги в отношении глобальных конфликтов до семейных историй и просьбы прислать из Австралии пару новых шин для колхозного грузовика. Сотни людей просили помочь им уехать на Запад, рассказывая об ужасных условиях своей жизни. Некоторые спрашивали, как им присоединиться к СРК и создать подобные организации на территории бывшего Советского Союза. Особенно острый интерес проявляли люди, живущие в конфликтных зонах, таких как Кавказ. Российская Академия Наук, вместе с другими организациями на Западе, спонсировала проведение ряда семинаров-тренингов продолжительностью до двух недель.
Однако, когда большинство общественных структур, подобных профсоюзам, стали разваливаться, и многие образованные люди вынуждены были бороться за элементарное выживание, интерес к работе конфликтологов стал падать. Сети, которые мы создавали, таяли на глазах. Базовые ценности, сформированные при советской системе, столкнулись с либерально-демократическими ценностями — основой психологии разрешения конфликтов. Наши слушатели жадно впитывали информацию и новые умения с ролевыми началами, но когда дело доходило до реальной жизни, вновь сформированные умения куда-то испарялись. Трудно было изменить жизненные принципы взрослых людей, если их главные установки формировались десятилетиями.
Помню случай, произошедший в конце семинара в Пятигорске, когда наши слушатели, овладев, по меньшей мере, двенадцатью приемами разрешения конфликтов, пасовали при простейшей ссоре: реагировали на провокацию в глубоко укоренившейся манере, послав своего обидчика к черту. Война в Чечне вспыхнула после одного из семинаров, который мы проводили вблизи Амстердама, с российской и кавказской молодежью и лидерами их общин.
Люди — ни в семье, ни на улице, ни в Думе — абсолютно не умели и не хотели слушать и понимать друг друга. Но перемены могут произойти лишь в том случае, если толерантность в обществе будет поддержана высшим руководством, которое должно само следовать этим принципам. Похоже, что в России, как и на Ближнем Востоке или в Южной Америке, осознание необходимости разрешения конфликтов более или менее мирным путем может прийти лишь в конце взаиморазрушительной схватки, во время которой будут испытаны все средства, кроме мира.
Когда я ездил в Ливан и Израиль для обучения разрешению конфликтов после окончания гражданской войны в Ливане (наши поездки и работу спонсировал ЮНЕСКО), то видел целые кварталы, разрушенные взрывчаткой, подобно консервным банкам, вывороченным гигантским ножом. Можно было лишь догадываться о масштабах человеческой трагедии, которую повлек за собой этот конфликт. Меня поразила степень недоверия и ненависти, испытываемых многими ливанцами по отношению к Израилю, и, в свою очередь, израильтянами — к арабам.
Корни конфликта шли в глубины расовой памяти, насилие и жертвы вскрывали старые раны и делали мирное разрешение конфликта практически невозможным без вмешательства третьей силы, которой оба противника могли бы доверять. По мнению некоторых наших семинаристов в Ливане только полное физическое устранение евреев с Ближнего Востока могло разрешить глубоко укорененный конфликт. В Бейруте палестинцы показывали мне свои документы, надлежащим образом оформленные британскими оккупационными властями, на земли и дома, находящиеся там, где теперь современный Израиль. Никто из них не хотел и знать о тысячах евреев, изгнанных с насиженных мест в арабских странах.
Война больше не казалась мне сущим безумием. В войне была внутренняя логика, связанная с самой человеческой историей: в прошлом это было хорошее средство, чтобы обрести контроль над чужими ресурсами, сохранить свои и избавиться от конкуренции. Война оказалась встроенной в человеческое существование, стала биологической «привычкой», сломать которую будет нелегко. За «войной с террором» стоит столкновение цивилизаций, столкновение архаического прошлого человечества и его не совсем еще понятного будущего.
ЭПИЛОГ
Чжуан-цзы сказал: «Когда обувь по ноге, забываешь о ноге; когда пояс по талии, забываешь о животе; когда сердце на месте, уходят сомнения».
Я приезжал в Россию девять раз, после того, как с меня был снят смертный приговор.
Каждая поездка была как будто в другую страну — путч, коммерческий ажиотаж с пирамидами типа «МММ», дефолт, Чечня и, в последний раз — Беслан. Менялся постепенно и мир моих знакомых, и семьи. Племянник Борис стал одно время чуть ли не новым русским, купил себе большую загородную дачу, ездил на новой иномарке. Сейчас он торгует оптическими линзами, после того как конкуренты подсадили к нему «наседку», воровавшую у него коммерческие секреты, приведшие его бизнес к практическому банкротству. Увлекавшийся в молодости книгами Кастанеды, он стал теперь глубоко верующим православным. Сестра Катя, убежденная поклонница Сталина и противница ельцинских реформ, тоже увлеклась сначала религией, но потом занялась раджа-йогой и народной медициной.
Впечатления и опыт, полученные в поездках на Родину, я использовал в многочисленных интервью и статьях для австралийской прессы. Несколько лет сотрудничал также на радио и телевидении SBS, ведущем передачи на разных языках, включая русский.
И сейчас я по-прежнему работаю переводчиком-синхронистом, делаю письменные переводы, пишу книги и статьи. Вопрос о возвращении в Россию на постоянное жительство уже не стоит. Во время поездок туда мне неоднократно предлагали работу и возможность остаться в России: открыть школу для переводчиков, преподавать английский, помогать конфликтологам, работающим в Российской академии наук. Некоторые из таких предложений были заманчивыми, но с годами моя судьба все теснее срослась с Австралией. Немного не дожив до ста лет, как она мечтала, умерла моя мать. Пр ивык-ший ездить без визы или с минимальными формальностями по всему миру, я не смог бы привыкнуть к российским бюрократическим ограничениям. В последнюю частную поездку, несмотря на приличные деньги, заплаченные за визу и за ее оформление, я должен был три дня мотаться по паспортным столам и ЖЭКам Москвы. В одну из предыдущих поездок меня попросили перевести в прямом эфире речь Ельцина для Си-эн-эн и тут же предупредили, что, если я хочу регулярно работать на высоком уровне, лучше встать под одну из соответствующих «крыш».
Я живу сейчас с женой Алисой и сыном Андреем на берегу Южного Тихого океана, в маленькой деревушке, славящейся прозрачной, как в Байкале, водой. Из дома в бинокль можно наблюдать резвящихся у берегов дельфинов, а иногда и заходящих в залив китов.
Мы живем в опасный, но увлекательный век, век стирания видимых границ. Российская парламентская делегация, посещающая Австралию, каждое утро снимает на моих глазах в отеле свежие новости с Интернета. Преступные группировки платят бывшим профессорам математики в Питере, чтобы те писали программы для захвата персональных компьютеров в разных точках мира. Больные болезнью Паркинсона из Австралии едут в Китай для пересадки стволовых клеток в мозг. Ученые пересаживают мозговые клетки человека мышам, поговаривая о новых, неслыханных гибридах. Мы находим останки людей-карликов (нового подвида гомо сапиенс) на островах Индонезии. Узнаем о первых моментах сотворения нашей Вселенной.
Для многих этот обвал прежних понятий, ограничений и устоев миропонимания представляется катастрофическим.
Австралия стала интереснее и разнообразнее, чем она была, когда я попал сюда сорок с лишним лет назад. Если в те годы ее главными проблемами были проблемы отдаленности и летаргии (в сочетании с довольно высоким уровнем жизни), то теперь это проблемы огромных и необычайно быстрых социальных изменений в демографии, взаимоотношениях полов, в неравномерном распределения доходов и доступа к новым технологиям, в растущей популярности таких фундаменталистских религий, как баптизм и пятидесятничество, по сравнению с традиционными католицизмом и англиканством. Средний австралиец больше встревожен теперь последствиями глобального изменения климата и возможностью распространения сюда из Азии пандемии птичьего гриппа, чем даже опасностью международного терроризма. Австралийцы любят путешествовать и работать за рубежом — каждый пятнадцатый австралиец живет за границей. Австралия — страна многонациональная, среди моих друзей есть голландцы, немцы, китайцы, американцы, израильтяне, испанцы, и конечно, русские. Австралийцы очень независимые люди, и в Австралии модно создавать и даже юридически оформлять собственное суверенное государство (или, если речь идет всего лишь о комнатке в коммунальном доме, то, по меньшей мере, графство). Их целью может быть уход от налогов (чаще всего неудачный), анархические тенденции, или просто желание получить известность и заработать деньги на выпускаемых «паспортах» и «марках». Здесь таких «независимых» государств больше на душу населения, чем где бы то ни было в мире; известны даже случаи объявления такими «суверенными государствами» войн другим государствам или даже самой Австралии.
Изменилась и русская эмиграция: за большой еврейской волной 70-80-х годов последовала разношёрстная, но в массе довольно образованная и любопытная эмиграция последних лет. Это, в основном, люди квалифицированные, со знанием английского языка, либо достаточно находчивые и упорные, чтобы получить статус беженца. Для женщин есть шанс стать женами одиноких австралийцев. В силу ужесточения иммиграционных законов немногим удается попасть сюда в последнее время по родственным связям или гуманитарным соображениям. Практически прекратился приток политических беженцев, люди приезжают сюда, в основном, по экономическим соображениям, в поисках лучшей жизни для себя или, по крайней мере, для своих детей.
Люди из разных стран стремятся попасть в Австралию, и проблема незаконных попыток проникнуть в эту страну стоит очень остро, порою решая исход на выборах правительства. Иммигранты, зачастую претендующие на статус беженца, стекаются сюда из стран Ближнего Востока и стран Азии, переходя границу всеми правдами и неправдами, зачастую рискуя жизнью, в перегруженных утлых суденышках. Случаев заплывов сюда, естественно, нет (лучше акул пограничников не придумаешь!), хотя был случай, когда в сиднейском порту с советского судна сбежала девушка, выпрыгнув в воду из люка пришвартованного судна. Австралийской прессе показался особенно примечательным факт, что она была одета в красное бикини. Ее так и запомнили, как «русскую беженку в красном бикини».
Если кому-то не хватает смелости физически пересечь границу, то некоторым потенциальным иммигрантам нельзя отказать в изобретательности. Я знаю случай, когда друзья достали одному парню деловую визу как редкому специалисту по изготовлению и ремонту кукол для чревовещания. Многочисленные объявления в местных газетах не нашли ему австралийской замены. Так как малая фирма, в которой работали друзья этого парня претендовала на выход на азиатский рынок со своим «продуктом», визу удалось получить. Некоторые случаи с российскими иммигрантами взяты прямо из раздела «нарочно не придумаешь». Одна женщина приехала по фальшивому паспорту, который был сделан так искусно, что власти, даже после ее признания, не поверили ей. Как она потом утверждала, ее единственным подлинным документом было свидетельство о ее смерти, выписанное ей друзьями, работавшими в морге, когда она скрывалась от внесудебных преследований со стороны властей в одной из республик бывшего СССР.
С наступлением горбачёвской оттепели появилась возможность наладить более непосредственные контакты и в обратном направлении. Русская община в Австралии оказала помощь детским домам в Курске, Владивостоке и других городах, помощь детям — жертвам Чернобыльской катастрофы. Был организован приезд школьников средних школ для обучения в Австралии. Помощь российским сиротам, жертвам Беслана и вообще нуждающимся людям продолжается до сих пор. Главная трудность, с которой приходится иметь дело жертвующим русским австралийцам — это как обеспечить получение помощи адресатам, а не коррумпированными «посредниками».
Несколько лет назад я прочел книгу «Другая Россия — опыт изгнания»[38]. Это сборник интервью с эмигрантами и беженцами из России, представителями нескольких поколений, со времени Октябрьской революции до 60-х годов XX в. Она поражает разнообразием историй, судеб, исходов. Все это напоминает многоцветный холст с множеством мазков, смысл которых на общем фоне поймут, как мне кажется, только будущие поколения. Мне хотелось, чтобы и моя история стала бы еще одним мазком на этом пестром холсте жизни.
Примечания
1
Прекращение дыхания у ребенка, долго плакавшего.
(обратно)2
Даже в годы моего детства я улавливал, что за серой жизнью нашего города скрывается какая-то иная, пугающая и увлекательная реальность. Группы заключенных, шедших волнами после каждой амнистии через наш городок, случайно услышанный разговор о пытках в застенках НКВД, тюремный жаргон, который мы воспринимали как неотъемлемую часть русского языка — все это западало в память, хотя стало понятным только много лет спустя.
(обратно)3
См. материалы о деле Клюева и выдержки из его стихов в книге Виталия Шенталинского «Рабы свободы».Изд. «Парус», 1995, стр. 264-295. См. также веб-сайт, посвященный Клюеву: Ьпр://к1иеѵ.ог§.иа/. В 1991 году, когда я впервые после побега посетил Колпашево, местный журналист подарил мне деревянную ложку с изображением Клюева, по его рассказам вырезанную якобы каким-то заключенным. На ней были отмечены даты рождения и смерти поэта - 1884-1937.
(обратно)4
Брат матери, Николай Лещин, номенклатурный работник, заведовавший почтовым отделением в засекреченном городке Томск-5, до этого — министр почтовой связи в Киргизской ССР.
(обратно)5
Интересно, что хотя мои воспоминания о детстве ярки, включая почти голографически четкое воспроизведение города и его окрестностей, память об этом отъезде совершенно стерлась.
(обратно)6
Пенсию долгое время не выплачивали, так как отец считался пропавшим без вести (т. е. потенциально «врагом народа»). Мать предупредили в военкомате, чтобы она немедленно сообщила им, если получит какую-либо весточку от отца. Она замуровала в стенку все его письма с фронта — не дай бог, найдут что-то предосудительное. Потом узнали, что отец был убит при попытке побега из лагеря для военнопленных. Два его товарища выжили и подтвердили факт смерти.
(обратно)7
Хотя с 1 января 2004 года в России начал действовать закон о введении альтернативной гражданской службы, и это есть знак несомненного прогресса, практическая пригодность этого закона для большинства призывников, не желающих служить в обычных родах войск, пока еще не доказана. Симуляция и уклонение от призыва легальными и нелегальными способами до недавнего времени были достаточно частыми занятиями для молодежи. Станет ли профессиональная армия, которая поможет решить все эти проблемы, реальностью в России — до сих пор непонятно.
(обратно)8
Гамлет, попавший в опасную и нестерпимую ситуацию, мог высказывать свои скрытые мысли только под прикрытием «помешательства». Этот «гамбит» спас его.
(обратно)9
Господин (тур.)
(обратно)10
Беглец (тур.)
(обратно)11
И уж вовсе я не мог предполагать, что горы в окружении Эрзурума станут примерно через 40 лет прибежищем русских горнолыжников.
(обратно)12
Позже мне стало известно, что мое прошение было, в конце концов, передано советским властям и они требовали моей выдачи или свидания со мной.
(обратно)13
Я изменил ее имя, чтобы не смущать ее потомков. Почему — поймете дальше.
(обратно)14
Петров был агентом КГБ, сбежавшим вместе с женой в Австралии. Этот побег и сопровождавшие его разоблачения об агентуре КГБ и ее австралийских помощниках из среды социалистов и интеллигенции, а также из кругов верхушки лейбористской партии, сотрясли политическую жизнь Австралии. Отголоски этого замирают только сейчас, после смерти главных протагонистов.
(обратно)15
Я сохранил эти передачи и они опубликованы на моем веб-сайте:
(обратно)16
Много лет спустя стало ясно, что экология вовсе не «пустая тема» ни в политическом, ни в экономическом плане. Я был потрясен такими, например, данными, полученными одним российским ученым и опубликованными, насколько помню, в «Новом журнале» в 1995 году: «Советский Союз тратил в 10 раз больше сырья на производство типового продукта или изделия, чем Запад, и выбрасывал в 20 раз больше загрязнений в среду». Т. е. система, по чисто физическим законам, очень быстро шла на износ. Богатство природных ресурсов только усугубляло проблему и затягивало агонию.
(обратно)17
В настоящее время на Ватулеле построены современные курорты, куда ездят и россияне. Цена на проживание в собственном буре может достигать 300 долларов и более за ночь.
(обратно)18
Мои передачи вызвали критику со стороны тех, кто вел религиозные программы на «Свободе». Они считали, что тема эта близка к ереси и советовали вообще снять мои передачи из эфира. Теперь информацию об «умном делании» и «Иисусовой молитве» можно найти на многих официальных сайтах православия.
(обратно)19
Книга вышла на английском в 2005 году и информацию о ней можно найти на моем сайте
(обратно)20
На рунете есть обширные материалы об этих исследователях: /
(обратно)21
Идеи Лилли вдохновили два голливудских фильма, «Лень дельфина» (1973) и «Измененные состояния» (1980).
(обратно)22
Техника замкнутого циклического дыхания, приводящая к растормаживанию эмоций и пробуждению подавленных или искаженных воспоминаний. Орр ездил в Россию в 2003 году и популяризировал там свою технику
(обратно)23
Ушло еще много лет, пока я усвоил, что духовное развитие идет не по прямой, но, в лучшем случае, по восходящей спирали, с частыми возвращениями на прежние витки. С витками, правда, меняются ценности, кругозор и восприятие действительности, но «духовная революция» только у немногих происходит быстро или даже мгновенно. Причем, очень часто за такой быстрый прогресс приходится очень дорого платить, о чем писал еще Достоевский. Для тех, кто верит в реинкарнацию, надо, наверное, еще покрепче запастись терпением.
(обратно)24
В годы войны и после войны мы жили в основном на картошке, и моя мать славилась тем, что могла готовить из нее множество хотя бы поверхностно отличавшихся друг от друга блюд. Одной из моих кличек в детстве было «картофельное брюхо».
(обратно)25
Вид спорта, включающий различные соревнования в скоростном ориентировании и передвижении на местности с использованием крупномасштабной карты и компаса.
(обратно)26
К приходу европейцев численность аборигенов в Австралии достигала 300 000. К 1921 году их осталось 60 000.
(обратно)27
Животные, представлявшие что-то среднее между коровами и носорогами. Аборигены, по всей вероятности, выбили всю мегафауну и полностью изменили лицо континента за счет использования огня как орудия охоты.
(обратно)28
Позднее выяснилось, что КГБ знал о нашей встрече и, воспользовавшись «лояльностью» моей сестры, намеревался завербовать меня. Только побег одного туриста из группы и поднявшаяся вокруг этого шумиха заставили их отказаться от этих планов.
(обратно)29
Мое истолкование китайского священного писания Дао Дэ Цзин на русском языке можно найти на сайте .
(обратно)30
Книга вышла на английском в 2005 году и информацию о ней можно найти на моем сайте
(обратно)31
Эндрью проработал 15 лет в Ботаническом музее Гарвардского университета. Психоактивный гриб Psilocybe weilii был назван в его честь. Журнал Тайм внес его в список ста влиятельных личностей века (Time, 18 апреля 2005 г. Стр. 97).
(обратно)32
Гроф — автор и соавтор четырнадцати книг и более ста статей, переведенных на двенадцать языков. Многие его материалы можно найти в Интернете на русском языке.
(обратно)33
Название взято из серии научных экспериментов Павловского типа, когда получившая шок при звонке собака продолжала прыгать из клетки в клетку, хотя ток был давно отключен — намек на инертность человеческой психики и неспособность перестраиваться при новых обстоятельствах. Эти и другие мои статьи можно найти на сайте
(обратно)34
Я переводил Горбачеву в Токио, куда его пригласила японская газета Иомиури Шинбун. Он произвел впечатление очень недалекого, хотя довольно дружелюбного и приятного человека.
(обратно)35
Юрий Ветохин, «Склонен к побегу», издание автора, 1983.
(обратно)36
Текст книги размещен теперь для бесплатного пользования в Интернете: -resolve.org
(обратно)37
См. материалы на сайте -resolve.org
(обратно)38
Glenny, Michael and Norman Stone (eds.) The Other Russia: The Experience of Exile. NY, Viking, 1991.
(обратно)




![Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга И.Д.Путилин. В 2-х тт. [Т. 2]](https://www.4italka.su/images/articles/555469/primary-medium.jpg)
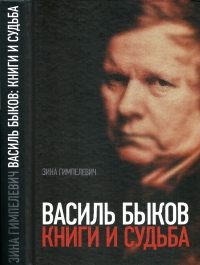

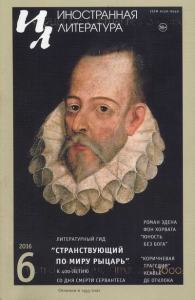
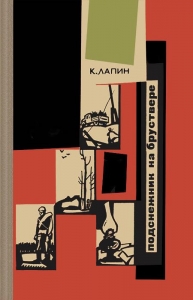
Комментарии к книге «Приговорен к расстрелу», Петр Патрушев
Всего 0 комментариев