Лиза Бреннан-Джобс Маленькая рыбка. История моей жизни
Lisa Brennan-Jobs
SMALL FRY
A MEMOIR
© Lisa Brennan-Jobs, 2018
© Brigitte Lacombe (фото автора на переплете), 2018
© Alison Forner (оформление обложки), 2018
© ООО «Издательство АСТ» (оформление, перевод на русский язык), 2019
* * *
Посвящается Биллу
3-й рыбак. Удивляет меня, хозяин, как это рыбы живут в море! ‹…›
1-й рыбак. Да так же, как и люди на земле. Богатый скупец подобен акуле: она, плескаясь, гонит перед собой целую ватагу мелкой рыбы, а затем и набивает себе ею полный рот и пожирает ее всю. Такие акулы встречаются, как я слыхал, и на земле; они все глотают, пока не спрячут в утробе и приход, и церковь, и колокольню, и колокола, словом – все[1].
Уильям Шекспир. ПериклЛюбопытное переживание: чувствовать себя непризнанным источником общественного внимания, волоча при этом ноги по слякоти. Тогда сам себе кажешься привидением.
Сол Беллоу. Подарок от Гумбольдта♦
За три месяца до того, как умер отец, я пристрастилась таскать из его дома вещи. Бродила по дому босиком и тихонько клала что-нибудь в карман. Так я унесла румяна, зубную пасту, две треснувшие чашки из голубого фарфора для полоскания пальцев, лак для ногтей, поношенные кожаные балетки и четыре старые белые наволочки, пожелтевшие, как старые зубы.
После каждой кражи я чувствовала удовлетворение. Обещала себе, что это последний раз. Но вскоре потребность взять что-нибудь овладевала мною вновь, подобно жажде.
Я на цыпочках прошла в комнату отца, стараясь не наступить на скрипучую половицу при входе. Раньше, когда он еще мог подниматься по лестнице, эта комната служила ему кабинетом, но теперь он в ней спал. Она была завалена книгами, письмами, пузырьками лекарств, стеклянными и деревянными яблоками, наградами, пачками бумаги. Еще там были гравюры Хасуи в рамках, изображавшие храмы в сумерках и на закате. Вдоль стены рядом с отцом протянулась полоса розоватого света.
Он полусидел на кровати, на нем были шорты. Его голые ноги были худы, как руки, и изогнуты, как у кузнечика.
– Привет, Лиз, – сказал он.
Рядом с ним стоял Сегью Ринпоче. Последнее время я часто заставала его, когда заходила. Это был низкорослый бразилец со сверкающими карими глазами и хриплым голосом – буддийский монах в коричневой рясе поверх круглого живота. Мы обращались к нему, используя только титул. Тибетские святые теперь рождаются и на Западе, в местах вроде Бразилии. Мне он не казался святым: в нем не было ни отрешенности, ни загадочности. Рядом с нами гудел насос черного мешка с питательной смесью, от которого тянулась трубка и исчезала где-то под одеялом, укрывавшим отца.
– Хорошо бы коснуться его ног, – сказал Ринпоче, заключив ступню отца в свои ладони. – Вот так.
Я не знала, должно было касание ног помочь отцу, или мне, или нам обоим.
– Хорошо, – ответила я и взялась за вторую ступню внутри толстого носка, хотя это и было странно. Я смотрела на лицо отца: когда оно морщилось от боли или гнева, было похоже, будто он собирался улыбнуться.
– Приятно, – сказал отец, закрыв глаза. Я посмотрела на тумбочку рядом с ним и на полки у стены напротив: я искала глазами вещицы, которые мне понравились бы, хотя знала, что не осмелюсь ничего украсть прямо у него перед носом.
Пока он спал, я ходила из комнаты в комнату в поисках чего-то, чего не знала сама. На диване в гостиной, сложив руки на коленях, ждала сиделка: не позовут ли ее? В доме было тихо, все звуки вязли в воздухе, белые кирпичные стены с ямками и неровностями напоминали подушки. Плиточный терракотовый пол холодил мне ноги, теплым, как мое тело, он был только там, где солнце нагрело его.
По пути на кухню, в туалете рядом с ванной комнатой, в шкафчике, где раньше лежала потрепанная «Бхагавадгита», я нашла дорогой спрей для лица с розовой водой. Сидя в темноте на унитазе за запертой дверью, я распылила его в воздухе и закрыла глаза. Он окутал меня туманной дымкой, прохладной и божественной, словно в лесу или в старой каменной церкви.
В шкафчике нашелся также серебристый тюбик геля для губ с кисточкой на одном конце и завинчивающимся механизмом для выдавливания на другом. Я не могла этого не взять. Сунула тюбик в карман, чтобы унести в однокомнатную квартирку в Гринвич-Виллидж, где жила со своим другом и где, я знала – настолько твердо, насколько я вообще когда-либо что-либо знала, – этот гель для губ сделает мою жизнь полной. Пока я старалась не столкнуться с экономкой, братом, сестрами и мачехой, которые могли поймать меня на воровстве или ранить отказом признавать меня, отвечать на мои приветствия, пока опрыскивала себя в темном туалете, чтобы почувствовать, что я не исчезаю, что в опадающей туманной дымке у меня снова есть очертания, – усилия, потраченные на визит к больному отцу, стали казаться непосильной ношей.
Весь прошедший год я приезжала к нему на выходные почти каждый месяц. Я уже не ждала великого воссоединения, как в кино, но все равно возвращалась.
В перерывах между визитами отец мерещился мне по всему Нью-Йорку. Я видела его в зале кинотеатра – изгиб шеи, переходящий в линию челюсти и скул, в точности как у него. Зимой, на пробежке по набережной Гудзона, я видела его сидящим на лавочке: он смотрел на пришвартованные лодки. По дороге на работу, из окна поезда я смотрела, как он идет по платформе сквозь толпу. Худощавые мужчины с оливковой кожей, тонкими запястьями, длинными пальцами и щетиной, которые под определенным углом выглядели точь-в-точь как отец. Каждый раз я с колотящимся сердцем подходила ближе, чтобы убедиться, хотя знала, что это никак не может быть он. Потому что он болен и лежит в постели у себя дома в Калифорнии.
До этого, в те годы, когда мы почти не разговаривали, мне повсеместно попадались его фотографии. При взгляде на них у меня возникало странное ощущение. Примерно как если вдруг замечаешь отражение в зеркале в другом конце комнаты и поначалу думаешь, что это кто-то незнакомый, а потом понимаешь, что это твое собственное лицо. Так и его изображение смотрело на меня отовсюду: с обложек газет и журналов, с экранов телевизоров – в каком бы городе я ни находилась. И я думала: «Это мой отец, и никто об этом не знает, но это правда».
Прежде чем попрощаться, я зашла в туалет, чтобы в последний раз подставить тело под мелкие капли розовой дымки. Это был натуральный спрей, что означало, что через несколько минут запах душистых роз сменится запахом болотной гнили, но в тот момент я этого не понимала.
Когда я вернулась в комнату отца, он пытался встать. Я смотрела, как одной рукой он подхватил ноги, повернул себя на девяносто градусов, отталкиваясь от изголовья другой, а потом обеими руками перекинул ноги через край кровати, чтобы они коснулись пола. Обнимая его, я чувствовала его позвонки и ребра. От него исходил затхлый запах: пот, кожа пахли лекарствами.
– Я скоро вернусь, – сказала я.
Мы отпустили друг друга, и я повернулась, чтобы уйти.
– Лиз.
– Да?
– Ты пахнешь туалетом.
Хиппи
♦
К тому времени, как мне исполнилось семь, мы с мамой успели переехать тринадцать раз.
Мы снимали жилье неофициально: то поселялись в свободной комнате у друзей, то снимали угол у основного съемщика. Последнее место, где мы жили, перестало быть пригодным для обитания, когда кто-то без предупреждения продал холодильник. На следующий день мама позвонила отцу с просьбой давать больше денег, и он увеличил ежемесячную денежную поддержку на 200 долларов. Мы снова переехали, на этот раз в квартиру на первом этаже маленького здания позади дома на Чаннинг-авеню в Пало-Алто – первое жилье, которое мама сняла на свое имя. Наше новое обиталище было только для нас.
Темно-коричневый дом, позади которого находилась наша квартира, был в американском ремесленном стиле, с пыльными зарослями плюща вместо лужайки и двумя согнутыми кустарниковыми дубами, почти касающимися земли. Паутина, протянувшаяся между плющом и деревьями, притягивала пыльцу и сверкала белизной в лучах солнца. С улицы не видно было, что позади дома находится здание с квартирами.
До этого мы жили в городках неподалеку: Менло-Парке, Лос-Альтосе, Портола-Вэлли, – но именно Пало-Алто мы впоследствии стали называть домом.
Земля здесь была черной, жирной, душистой, и под камнями я находила красных жучков, червей розового или пепельного цвета, длинных сороконожек и мокриц с серым панцирем, которые сворачивались в клубок, когда я трогала их пальцем. Воздух пах эвкалиптом, нагретой солнцем грязью, влагой и скошенной травой. Железнодорожные пути делят город на две половины; рядом с ними находится Стэнфордский университет с его длинным овальным газоном и золоченой часовней в конце усаженной пальмами дороги.
В день, когда мы переехали, мама поставила у нового дома машину и мы перенесли все наши вещи: кухонные принадлежности, матрас, письменный стол, кресло-качалку, лампы, книги.
– Поэтому кочевники так ничего и не создали, – занося в дом коробку, сказала она, всклокоченная, руки перепачканы белой грунтовкой для холста. – Они так часто переходят с место на место, что не успевают построить что-нибудь, что осталось бы после них.
В гостиной была раздвижная стеклянная дверь, которая вела на небольшую веранду. За верандой тянулась полоса сухой травы и чертополоха, рос чахлый дуб и такое же чахлое фиговое дерево, а за всем этим – дебри бамбука, от которого, по маминым словам, очень трудно избавиться, если он пустит корни.
Когда мы покончили с разгрузкой, она встала, уперев руки в боки, и мы вместе оглядели комнату – даже со всеми нашими вещами она казалась пустой.
На следующий день она позвонила отцу на работу и попросила о помощи.
– Сейчас приедет Элейн на фургоне: мы собираемся к твоему отцу забрать диван, – сказала мать несколько дней спустя.
Отец жил в Саратоге, рядом с Монте-Серено, в получасе езды от нас. Я никогда раньше не бывала у него дома и не слышала о городе, где он жил. Я и видела-то его всего пару раз.
Мама сказала, что когда она позвонила, отец предложил отдать нам лишний диван. Она не сомневалась: если мы не заберем диван как можно скорее, отец его просто выкинет или предложение перестанет действовать. И как знать, когда нам снова удастся воспользоваться фургоном Элейн?
Я ходила в первый класс вместе с детьми-близнецами Элейн, братом и сестрой. Элейн была старше матери. Она не собирала волосы, и свободно лежавшие пряди ее волнистых черных волос при определенном освещении создавали вокруг ее головы подобие гало. Мама была юной, чувствительной и сияющей, без мужа, дома, семьи – всего того, что было у Элейн. Вместо этого у нее была я, а у меня было две задачи: первая – защищать ее, чтобы она могла защитить меня, и вторая – воспитать и ошлифовать ее, чтобы она могла справиться с миром, как шлифуют наждачной бумагой поверхность, чтобы краска лучше ложилась.
– Налево или направо? – все время спрашивала Элейн. Она спешила: у нее была запись к врачу. У мамы дислексия, но она всегда настаивала, что не пользуется картами совсем не по этой причине, а потому что карты, по ее словам, были внутри нее, и она могла найти дорогу в любое место, где когда-либо бывала, даже если для этого приходилось пару раз не туда свернуть. Но часто выходило так, что мы сбивались с пути.
– Налево, – сказала она. – Нет, направо. Погоди. Да, налево.
Элейн это слегка раздражало, но мама и не думала извиняться. Она вела себя так, будто спасаемый находится в равном положении с теми, кто его спасает.
Солнце плело кружевные узоры на моих ногах. Воздух был влажный и плотный, пряные запахи лавра и земли щекотали мне нос.
Холмы в городках вокруг Пало-Алто появились из-за колебаний земной коры, там, где терлись друг о друга края литосферных плит.
– Мы как раз на слабом месте, где они встречаются, – сказала мама. – Если прямо сейчас случится землетрясение, мы провалимся.
Мы нашли правильный поворот, а потом подъездную аллею, утыкавшуюся в лужайку. Яркая трава с тонкими побегами казалась такой мягкой, что хотелось пройти по ней босиком. Дом был деревянный, с двускатной крышей – темной черепицей над белыми стенами. Солнечные лучи разбивались о высокие окна. Подобные дома я рисовала в тетрадке.
Мы позвонили в дверь и подождали, но никто не открыл. Мама подергала ручку.
– Заперто, – сказала она. – Черт. Похоже, он не собирается к нам выходить.
Она обошла дом, проверила все окна, попробовала открыть заднюю дверь.
– Заперто! – каждый раз кричала она.
У меня появились сомнения, действительно ли это его дом. Мама вернулась к главному входу и посмотрела на окна высоко над головой.
– Попробую там, – сказала мама. Ступила на водораспылитель, потом на водосток и, прижавшись к стене, ухватилась за подоконник. Нашла новые опоры для рук и ног, подняла голову и подтянулась.
Мы с Элейн наблюдали. Я жутко боялась, что она может упасть.
Предполагалось, что отец откроет нам дверь и пригласит войти. Может быть, покажет другую ненужную ему мебель и предложит навещать его.
Вместо этого мама карабкалась на стену, как воровка.
– Пойдем отсюда, – крикнула я. – Кажется, нас здесь не ждут.
– Надеюсь, у него нет сигнализации, – сказала она.
Она забралась на подоконник. Я затаила дыхание, ожидая воя сирен, но все было тихо. Она со скрипом открыла окно и, перебросив внутрь сначала одну ногу, потом другую, скрылась внутри. Через несколько секунд мама вышла через парадную дверь на солнце.
– Готово! – воскликнула она. Я заглянула внутрь: свет отражался от деревянного пола, высокого потолка. Прохладное, пустое пространство. В тот день и позже отец ассоциировался у меня с лужицами света, отражающегося от больших окон, тенями в глубине комнат и сладкими, затхлыми запахами благовоний и плесени.
Элейн и мама взялись за противоположные концы дивана и, маневрируя, вынесли его через дверь, спустили по ступенькам.
– Не такой уж тяжелый, – сказала мама. Потом попросила меня отойти с дороги. Каркас дивана был плетеным – из плотного пальмового волокна, – и он удерживал обитые льном сидение и спинку. К нему также прилагались кремовые ситцевые подушки, усыпанные красными, оранжевыми и синими цветами, и несколько лет с того дня я давила на лепестки цветов пальцами, пытаясь погрузить их под нарисованные цветочные края.
Элейн с матерью были серьезны и двигались быстро, будто с раздражением; из-под ленты на маминой голове выбилась прядка волос. Затолкав диван в фургон, они вернулись в дом и вынесли входящие в комплект пуфы и тахту.
– Ну, поехали, – сказала мама.
Сзади стало тесно, поэтому я села вперед, к ней на колени.
И мама, и Элейн казались окрыленными. Они забрали мебель, Элейн успевала к врачу. В этом была цель моей постоянной бдительности, причина моего беспокойства – я не хотела упустить момент, когда мама станет весела и довольна.
Элейн свернула с подъездной дорожки на главную дорогу. Мгновение спустя мимо нас пронеслись в противоположном направлении две полицейские машины.
– Возможно, они едут за нами! – воскликнула Элейн.
– Мы могли попасть в тюрьму! – засмеялась мама.
Я не поняла ее беспечности. Если бы мы попали в тюрьму, нас бы разлучили. Насколько я знала, взрослых и детей сажают в разные камеры.
На следующий день позвонил отец.
– Эй, это вы вломились в дом и забрали диван? – спросил он. Он смеялся. Сказал, что у него бесшумная сигнализация. Она передала сигнал тревоги в местный полицейский участок, и к дому на всех парах помчались четыре машины. Они появились там, едва мы уехали.
– Да, это мы, – ответила мама игривым тоном.
Долгие годы меня мучило воспоминание о бесшумной сигнализации и о том, как мы, не зная того, чудом избежали опасности.
♦
Мои родители встретились весной 1972 года в старшей школе Хомстеда, Купертино, штат Калифорния, – отец был на класс старше матери.
По вечерам в среду мать вместе с друзьями снимала во дворе школы мультфильм. Однажды вечером отец подошел к ней: она стояла в лучах прожектора, дожидаясь, когда нужно будет передвинуть пластилиновую фигурку. Он передал ей лист бумаги, на котором напечатал текст песни Боба Дилана Sad-Eyed Lady of the Lowlands.
– Верни, когда закончите, – сказал он.
По вечерам, когда она была там, он приходил и держал для нее свечи, глядя, как она рисовала в перерывах между эпизодами.
Лето они провели вместе в домике в самом конце Стивенс-Каньон-роуд. Отец платил ренту, подрабатывая продажей приборов, которые они собирали с приятелем по имени Воз и называли «голубыми коробками». Воз был инженером, на пару лет старше отца, темноволосым, застенчивым и впечатлительным. Они познакомились в клубе, объединявшем увлеченных техникой молодых людей, стали друзьями и потом вместе основали Apple. «Голубые коробки» испускали сигналы, которые позволяли бесплатно звонить куда угодно – нелегальным путем. Отец с Возом нашли в библиотеке книгу, выпущенную телефонной компанией, в которой объяснялось, как это устроить и какие именно сигналы требуются. Нужно было поднести коробку к трубке, коробка делала свое дело, и телефонная компания соединяла абонента с любой точкой мира.
Люди, с которыми родители делили дом, держали коз, на удивление агрессивных, поэтому, когда родители возвращались на машине домой, отец отвлекал коз, а мама бежала к двери или же он подбегал к ее стороне машины и нес в дом на руках.
К тому времени мамины родители развелись: ее мать была нездорова психически и становилась все более жестокой. Мама моталась туда-сюда между домами родителей, ее отец часто отсутствовал, потому что много ездил по работе. Он не одобрял того, что мои родители жили вместе, но не вмешивался. Отец моего отца, Пол, и вовсе пришел в ярость, узнав об их выходке, но его жена Клара была добра к ним. Она была единственной из четырех родителей, кто однажды пришел к ним на ужин. Они разогрели для нее суп из банки, сделали спагетти и салат.
Осенью отец отправился в Рид-колледж в Орегоне, где проучился полгода, пока наконец не бросил. Они с мамой расстались. Но никогда, по ее словам, они прямо не говорили об этом – ни об отношениях, ни о расставании. Она просто стала встречаться с кем-то другим. Когда отец понял, что его бросили, он так огорчился, что не мог нормально передвигаться – так рассказывала мама – и ходил сгорбившись. Я удивилась, когда узнала, что это она была инициатором разрыва, и позже задумалась: не то ли расставание было причиной его мстительного, враждебного отношения к ней, после того как родилась я? По ее словам, он тогда слонялся без цели, нигде не учился, тосковал по ней, даже будучи рядом.
Отдельно друг от друга они съездили в Индию. Отец провел там полгода, мама – еще год после его отъезда. Позже отец рассказывал, что отправился туда специально, чтобы встретиться с гуру Нимом Кароли Бабой, но, когда приехал, тот уже умер. Отцу разрешили остановиться на несколько дней в ашраме, где жил гуру, и поселили в белой комнате, где не было ничего, кроме кровати и книги под названием «Автобиография йога» на полу.
Два года спустя, когда отец вместе с Возом только основал компанию Apple, родители уже снова встречались и снимали в Купертино темно-коричневый дом, похожий на ранчо, вместе с другом по имени Дэниел, который тоже работал в Apple. Мама работала там же в отделе упаковки. Она как раз решила скопить немного денег, чтобы оставить отца – который был капризен и переменчив, – переехать в Пало-Алто и получить работу в сетевом ресторане здорового питания на углу Эмерсон-стрит и Юниверсити-авеню. Она установила внутриматочную спираль, но вскоре случилось ее отторжение, что в редких случаях бывает. Она не знала о том и однажды обнаружила, что беременна.
Мама сообщила об этом отцу на следующий день, оба они стояли посреди комнаты рядом с кухней. Там не было мебели, только ковер. Когда она рассказала отцу, на его лице появилось разъяренное выражение, он стиснул зубы и выбежал на улицу, хлопнув дверью. Мама решила, что он поехал к адвокату, который посоветовал ему не разговаривать с ней, ведь после этого он не сказал ей ни слова.
Она уволилась из отдела упаковки Apple, потому что ей неловко было работать в компании отца, будучи беременной его ребенком, и стала жить то у одних друзей, то у других. Существовала на пособие – ни машины, ни дохода. Подумывала сделать аборт, но не стала: ночами ее мучил кошмарный сон – она видела паяльную лампу у себя между ног. Подумывала и о том, чтобы отдать ребенка приемным родителям, но женщину из Американской федерации планирования семьи, на помощь которой она рассчитывала, перевели в другой штат. Подрабатывала уборщицей, некоторое время жила в трейлере. Четыре раза за время беременности ездила в приюты безмолвной медитации, отчасти из-за того, что там было полно еды. А отец жил все в том же доме в Купертино, пока не купил дом в Монте-Серено, откуда мы впоследствии стащили диван.
Мама родила меня весной 1978 года, когда родителям было по двадцать три, на ферме их друга Роберта в Орегоне, под присмотром двух акушерок. Роды, от самого начала до самого конца, заняли три часа. Роберт фотографировал. Отец приехал через несколько дней.
– Это не мой ребенок, – повторял он всем на ферме, однако все равно примчался встретить мое появление на свет.
У меня были черные волосы и большой нос, и Роберт сказал:
– Но очень похожа на тебя.
Родители отнесли меня в поле, положили на одеяло и принялись листать книгу с детскими именами. Отец хотел назвать меня Клэр. Они перебрали несколько имен, но так и не смогли добиться единодушия. Им не хотелось ничего производного, сокращенной версии более длинного имени.
– Как насчет Лизы? – наконец предложила мама.
– Точно! – обрадовался отец.
На следующий день он уехал.
– Разве Лиза – не сокращение от Элизабет? – спросила я как-то маму.
– Нет. Мы проверили. Это самостоятельное имя.
– А зачем ты дала ему поучаствовать в выборе имени, если он притворялся, что не мой отец?
– Потому что он твой отец.
В свидетельстве о рождении мама указала обоих родителей, но записала меня под своей фамилией – Бреннан. По краям документа она нарисовала звездочки – не закрашенные, а только контуры.
Несколько недель спустя мы с мамой переехали к ее старшей сестре Кэти в городок Идилвилд в Южной Калифорнии. Мама все еще жила на пособие: отец не навещал и не помогал деньгами. Через пять месяцев мы уехали оттуда, и начались наши бесконечные переезды.
Пока мама была беременна, отец приступил к работе над компьютером, который впоследствии назвал Lisa, «Лиза». Это был предтеча «Макинтоша», первый поступивший в массовое производство компьютер с внешней мышкой – размером с головку сыра – и программным обеспечением на дискетах, помеченных LisaCalc и LisaWrite. Но он был коммерчески невыгодным, слишком дорогим для рынка, потому отец вскоре забросил этот проект и перешел к созданию «Макинтоша», который стал конкурировать с предшественником. В конечном итоге компьютеры Lisa сняли с производства, и 3000 нераспроданных машин были погребены на полигоне в Логане, штат Юта.
Когда я была мала – пока мне не исполнилась два, – мама подрабатывала уборщицей и официанткой, чтобы достать денег вдобавок к пособию. Отец не помогал вовсе; ее отец и сестры помогали, чем и когда могли, – немногим и нечасто. Она нашла работу няни в яслях при церкви, которыми заправляла жена пастора. Несколько месяцев мы жили в комнате в доме для беременных, собирающихся отдать ребенка в приемную семью, – мама заметила его на доске с объявлениями.
– Ты все время плакала, и я вместе с тобой: я была так молода, не знала, что делать, и когда ты грустила, мне тоже становилось грустно, – рассказывала мне мама об этих временах. Такой подход видился мне неправильным. Слишком сильно мы были связаны. Но в то же время мне казалось, что он сформировал меня, научил сочувствовать окружающим так, будто они были мною самой. Из-за того, что она растила меня одна, всякое решение, которое ей доводилось принимать, выглядело роковым, словно действие разворачивалось на фоне черного занавеса и каждое движение было видно.
Позже я винила ее за то, что мне тяжело засыпать в комнате, где не царила абсолютная тишина.
– Нужно было сделать так, чтобы я научилась спать и в шумных местах тоже, – говорила я.
– Но вокруг никого не было, – отвечала она. – Что мне оставалось? Стучать по кастрюлям и сковородам?
Когда мне исполнился год, она нашла работу официанткой в «Варсити-театре», ресторане и артхаусном кинотеатре в Пало-Алто. Обнаружились и хорошие недорогие ясли в детском центре неподалеку.
В 1980 году, когда мне было два, прокурор округа Сан-Матео, штат Калифорния, призвал отца к ответственности за то, что тот не платил алиментов. Власти добивались того, чтобы отец взял на себя материальную заботу обо мне и компенсировал штату уже выплаченное пособие. Калифорния подала иск от лица матери. Отец в ответ стал отрицать отцовство, поклялся, что неспособен иметь детей, и назвал другого человека моим отцом. Суд получил в свое распоряжение слепки и снимки его зубов, а также другие медицинские данные, и они не совпали с моими. Тогда адвокаты отца заявили, что «между августом 1977 года и началом января 1978 года истица вступала в сексуальные отношения с лицом или лицами, чьи имена неизвестны ответчику, но истица хорошо их знает».
Суд постановил сделать анализ ДНК. Тогда он только появился, для него брали кровь, а не буккальный мазок, и мама потом рассказывала, что медсестра никак не могла найти вену на моей руке и просто колола иглой в то место, где она могла находиться, а я вопила. Отец тоже был там, потому что суд назначил нам всем явиться в больницу в одно и то же время. Мать с отцом держались вежливо друг с другом, пока ожидали в приемной. Пришли результаты: вероятность родства оказалась самой высокой, какую могли тогда определить приборы, – 94,4 %. Суд велел отцу компенсировать затраты штата на пособие в размере 6000 долларов, а также постановил выплачивать алименты – 385 долларов в месяц, и отец потом увеличил их до 500 – и платить за мою медицинскую страховку, пока мне не исполнится восемнадцать.
Это было дело номер 239948, рассмотренное Высшим судом округа Сан-Матео, истец против ответчика, моего отца. Подпись отца начиналась с маленькой буквы – менее уверенный вариант его будущей подписи. Подпись матери была кривой и стиснутой, мама поставила ее дважды: одну под чертой и вторую – над. Начала, но зачеркнула третью – если бы она закончила ее, та подпись парила бы над всеми остальными.
По настоянию отцовских адвокатов дело было закрыто 8 декабря 1980 года, и мама не догадывалась, почему они так спешили покончить с ним, хотя до этого тянули месяцами. Четыре дня спустя компания Apple стала публичной, и состояние отца за ночь перешагнуло за отметку в 200 миллионов долларов.
Но до этого, сразу по окончании разбирательств, отец навестил меня в доме на Оак-Гроув-авеню в Менло-Парке, где мы снимали однокомнатную квартирку. Я не помню подробностей этой встречи, но это был первый раз, как мы увиделись, со дня моего рождения в Орегоне.
– Знаешь, кто я? – спросил он и отбросил упавшую на глаза прядь волос.
Мне было два с половиной года – я не знала.
– Я твой отец.
(«Будто бы он был Дартом Вейдером», – впоследствии говорила мама, когда рассказывала мне эту историю).
– Я один из самых важных людей в твоей жизни, – добавил он.
♦
На нашей улице семена дерева шинус в своих розовых оболочках свисали так низко, что можно было дотронуться до них, и когда я растирала их между пальцами, они лопались. Легкий ветер колыхал похожие на рыбьи скелеты листья. Плачущие горлицы ворковали, как выведенная из строя свирель. Тротуар под деревьями вздыбился и потрескался.
– Это из-за корней, – объяснила мама. – Они такие сильные, что разрывают асфальт.
Когда мы с ней принимали душ, по стенам стекали капли воды. Они походили на животных: так же дергались и убегали, кто-то быстрее, кто-то медленнее, извиваясь, оставляя за собой след. В душе было темно и тесно, были плитка и занавеска. Когда мама поворачивала кран с горячей водой, мы кричали: «Открываем поры!» А когда с холодной: «Закрываем поры!» Она объяснила, что поры – это дырочки в коже, которые открываются, когда жарко, и закрываются, когда холодно.
Она обнимала меня в душе, и я прижималась к ней так, что становилось неясно, где заканчивалась она и начиналась я.
Мамина цель была в том, чтобы быть и хорошей матерью, и успешным художником, поэтому каждый раз, когда мы переезжали, она брала с собой два больших альбома: с фотографиями моего рождения и художественный, который она называла портфолио. Я всегда надеялась, что она выбросит первый, потому что там было обнаженное тело, и боялась, что потеряет второй.
В портфолио были ее рисунки – каждый в пластиковой папке. Это название – портфолио – придавало альбому значительности. Я часто листала его, наслаждаясь тяжестью страниц. На одном карандашном рисунке была изображена женщина: она сидела за столом в кабинете, порыв ветра из открытого окна растрепал ее волосы, сделав их похожими на веер, и разметал бумаги, и те закружились в воздухе, словно ураган белых мотыльков.
– Мне нравятся ее волосы, – говорила я. – И юбка.
Я не могла насмотреться на женщину; мне хотелось быть ею или чтобы ею была мама.
Она сделала тот рисунок, сидя за столом, с помощью механического карандаша, ластика, помогая тыльной стороной ладони и периодически сдувая с бумаги графитовую крошку от карандаша и шелуху от ластика. Мне нравилось, как шуршит, соприкасаясь с бумагой, карандаш, нравилось ровное и медленное мамино дыхание. Казалось, она рассматривает свое искусство с любопытством, а не как творец и обладатель, словно это не ее рука выводит линии.
Наибольшее впечатление на меня произвело то, каким реалистичным получился рисунок. Каждая деталь была точной, как на фотографии. Но в то же время вся сцена была фантастической. Мне нравилось, какие спокойствие и чувство собственного достоинства хранит эта женщина в юбке-карандаш и до верха застегнутой блузке посреди хаоса разлетающихся бумаг.
– Это всего лишь иллюстрация, ненастоящее искусство, – с пренебрежением ответила мама, когда я спросила, почему она не рисует ничего похожего. (Тот рисунок она сделала по заказу, за деньги, ничего особенного по сравнению с ее картинами, но я тогда не понимала, в чем разница.) Ее наняли проиллюстрировать книгу под названием «Тайпан», и рисунок был одной из иллюстраций.
Машины у нас не было, поэтому я ездила в пластиковом сиденье, крепившемся к багажнику ее велосипеда, – по тротуару под деревьями. Однажды нам навстречу ехал другой велосипедист; мама свернула, велосипедист сделал то же самое, и они столкнулись. Мы полетели на асфальт, обдирая руки и коленки. Потом мы приходили в себя на лужайке. Мама сидела и плакала: одно колено было ободрано и перепачкано кровью, шорты сползли. Велосипедист пытался помочь. Она плакала слишком долго, и я догадалась, что дело было не только в падении.
Однажды вечером, вскоре после этого, мне захотелось погулять. Мама была в плохом настроении и отказывалась, но я умоляла, тянула ее за руку, пока она не поддалась. На улице мы увидели зеленый, как трава, хэтчбек «Фольксваген» с объявлением «Продается. Собственник. $700». Мама обошла машину кругом, заглядывая в окна.
– Что думаешь, Лиза? Может, это как раз то, что нам нужно.
Она записала имя и телефон владельца. Позже отец привел ее в кредитный отдел Apple и устроил все для того, чтобы ей выдали ссуду. Потом мама рассказывала о том, как я вытащила ее на прогулку тем вечером, – будто я совершила подвиг.
За рулем она пела. В зависимости от настроения – Blue Джони Митчелл, или The Teddy Bears’ Picnic, или Tom Dooley. Иногда она пела песню, в которой просят бога о машине и телевизоре. А когда чувствовала себя счастливой, полной задора, пела Rocky Racoon, и там было место, где вместо слов – череда звуков, то высоких, то низких, вроде скэта, и когда она напевала это, мне становилось смешно и неловко. Я была уверена, что такой песни быть не может, что это слишком странно, что она сама ее сочинила, и очень удивилась, когда годы спустя услышала по радио версию Beatles.
То были рейгановские годы, а Рейган унижал матерей-одиночек и матерей, живущих на дотации: он называл их королевами с протянутой рукой. Президент считал, что они выпрашивают у государства деньги, чтобы разъезжать на «Кадиллаках». Позже мама говорила, что Рейган был дураком, прощелыгой и вообще объявил кетчуп в школьных обедах овощем.
Примерно в это время нас навестила тетя Линда, младшая сестра мамы. Она работала в сетевой парикмахерской «Суперкатс» и копила на квартиру. У нас не было денег, и Линда сказала, что провела за рулем целый час, чтобы дать маме 20 долларов на еду и подгузники. Мама купила еду, подгузники, а еще букет ромашек и маленькую упаковку узорчатой бумаги для оригами. Деньги, когда они у нас были, сгорали быстро и ярко. Их никогда не бывало достаточно. Мама не умела откладывать, но любила красоту.
Линда вспоминала, как зашла в комнату и застала такую сцену: мама, сидя на матрасе, плакала в телефонную трубку и говорила: «Нам просто нужны деньги, Стив. Пожалуйста, пришли нам немного денег». Мне было всего три года – а это совсем немного, – но Линда помнит, как я выхватила у мамы телефон. «Ей просто нужны деньги. Понял?» – сказала я и повесила трубку.
* * *
– Сколько у него денег? – спросила я маму несколько лет спустя.
– Смотри, – мама показала на клочок бумаги размером с ластик. – Столько есть у нас. А теперь смотри сюда, – сказала она и показала на рулон белой крафтовой бумаги. – Это сколько у него.
Это было после того, как мы вернулись с озера Тахо, куда переехали на своем зеленом «Фольксвагене», чтобы поселиться у маминого бойфренда. Он когда-то был знаменитым альпинистом, но порванная связка и неудачная операция на безымянном пальце правой руки вынудили его оставить это занятие. Он основал компанию по производству походного снаряжения, и мама делала для него иллюстрации – рисовала гамаши и другую спортивную экипировку – и к тому же работала официанткой в кафе. Потом, когда они расстались, он стал успешным продавцом пылесосов и ударился в христианство, но в те годы о нем все еще иногда писали в журналах для альпинистов. Однажды в магазине мама показала на обложку такого журнала: на ней была фотография свисавшего со скалы человека.
– Это он, – сказала она. – Он был альпинистом мирового класса.
Крошечная точка на фоне гор – я едва могла хоть что-то различить. И не могла поверить, что это тот самый человек, который водил меня гулять по кедровому лесу в парке «Скайландия». Лесу, который заканчивался там, где начинался пляж.
– А это, – сказала она, открывая другой журнал, – твой отец.
Вот это было лицо, которое легко было разглядеть. Отец был красивым: с темными волосами, красными губами, приятной улыбкой. Альпинист был кем-то неопределенным и незначительным, а отец – важной фигурой. И хотя альпинист обо мне заботился, я жалела его за несостоятельность и в то же время испытывала угрызения совести из-за этой жалости – ведь это он был рядом.
Мы прожили у озера Тахо почти два года, когда мама решила оставить альпиниста и вернуться в область залива Сан-Франциско. Примерно в это же время, в январе 1983 года, когда мне было четыре, в журнале Time вышла статья об отце и компьютерах, «Машина года». В ней отец намекнул, что мама спала со многими мужчинами и врала. В этой статье он рассказывал обо мне и заявил, что «28 % мужского населения Соединенных Штатов могут оказаться моим отцом». Вероятно, он имел в виду, что результаты анализа ДНК были фальсифицированы.
Когда мама прочла статью, ее покинула способность нормально двигаться: руки и ноги не слушались, медленно поднимались и опускались, на лице было отсутствующее выражение. Она приготовила ужин почти в полной темноте, не считая тусклого света, проникавшего из-под шкафчика. Но через несколько дней к ней вернулось ее обычное чувство юмора, и она послала отцу фотографию: я сидела голой на стульчике в одних только шуточных очках Граучо Маркса с большим пластмассовым носом и черными усами.
«Мне кажется, это твой ребенок!» – написала она на обороте фотографии. Отец тогда носил усы, у него были очки и большой нос.
В ответ он выслал ей чек на 500 долларов, которые она употребила на то, чтобы снова переехать к заливу, где мы месяц снимали комнату в доме на Эви-авеню в Менло-Парке вместе с хиппи, который разводил пчел.
На следующий день после того, как мы вернулись с озера Тахо, отец решил показать нам свой новый дом. Я не видела отца несколько лет и не увижу еще несколько после того. Память об этом дне, необычайном доме, моем чудно́м отце – будто сюрреалистичный сюжет; мне часто казалось, что всего этого не могло быть на самом деле.
Он приехал за нами на своем «Порше».
В доме не было мебели, только просторные пустые залы. В одной огромной, похожей на сырую пещеру комнате мы с мамой нашли церковный орган на возвышении – деревянный набор педалей внизу, а над ними – два пространства, отделенные фигурной решеткой, полные сотен металлических труб всевозможных размеров: от гигантской трубы, куда я могла бы войти целиком, до трубки меньше ногтя на моем мизинце. Каждую в вертикальном положении удерживала специальная деревянная выемка, точно подходившая по размеру.
Я нашла лифт и каталась на нем вверх-вниз, пока Стив не велел прекратить.
Фасад, открывавшийся с подъездной дорожки, в действительности оказался торцом, а настоящий фасад смотрел на лужайку – огромный, с большими белыми арками, увитыми бугенвиллеей.
– Дом – полная дрянь, – сказал Стив маме. – И архитектура – дрянь. Я хочу его снести. Купил это место из-за деревьев.
Я так удивилась – будто кто-то ударил меня в грудь, а они шли дальше, словно ничего не случилось. Как может он думать о деревьях, когда у него такой дом? Неужели он его снесет раньше, чем мне выпадет возможность сюда вернуться?
Его «с» шипели, как опущенные в воду спички. Он шел, словно в гору – наклонившись вперед: казалось, его колени никогда не выпрямлялись. Темные волосы мешали ему, падали на глаза, и он отбрасывал их движением головы. Лицо в обрамлении блестящих темных прядей казалось свежим. Я находилась близ него в ярком солнечном свете, пахло землей и деревьями, вокруг был простор – все это дарило мне магическое, электризующее ощущение. Один раз я заметила, что он поглядывает на меня искоса пронзительным карим глазом.
Отец указал на три огромных дуба на другой стороне обширной лужайки.
– Вон те, – сказал он маме. – Из-за них я и купил это место.
Была ли это шутка? Я не понимала.
– Сколько им лет? – спросила мама.
– Двести.
Я могла обхватить руками только маленький кусочек ствола.
Мы пошли обратно к дому, потом спустились с пригорка к большому бассейну, прятавшемуся посреди заросшего травой поля, и стали у края, глядя на тысячи мертвых букашек, покрывавших поверхность воды: черные пауки, долгоножки, однокрылая стрекоза. Вода под их неподвижными телами была едва различима. Там была лягушка, плававшая белым брюхом кверху, и столько опавших листьев, что вода сделалась темной и густой, как чернила.
– Кажется, тебе нужно почистить бассейн, Стив, – сказала мама.
– Или просто слить из него воду, – ответил он. И в ту ночь мне снилось, как насекомые и та лягушка превращаются в крылатых драконов и взмывают в небо, оставляя под собой чистую бирюзовую воду, покрытую сеткой лунного света.
Несколько недель спустя отец купил нам серебристую «Хонду Цивик» взамен зеленого «Фольксвагена». Мы поехали забрать ее с парковки.
Как-то раз, спустя несколько месяцев, маме захотелось отдохнуть, и мы отправились с ночевкой в заповедник и оздоровительный центр «Харбин Хот Спрингс». Мы возвращались ночью, шел дождь, и мы заблудились среди холмов, между которыми вилось шоссе, в паре часов езды от дома. На ее стороне дворник работал исправно, а на моей погнулся и оставлял после себя потеки. На лобовом стекле против меня была круглая вмятина – сюда, должно быть, ударила галька.
– Ничего нет. Ничего, – сказала мама. Я не знала, что она имеет в виду. Она заплакала, высоко и протяжно всхлипнув – как звенит натянутая тетива.
В двадцать восемь лет, в очередной раз расставшись с бойфрендом, она обнаружила, что растить ребенка тяжелее, чем она ожидала. Помощь, которую могла оказать ей семья, была незначительной: ее отец Джим иногда давал ей в долг немного денег и впоследствии купил мне первую крепкую пару обуви, но и только. Ее мачеха Фэй время от времени со мной сидела, но в целом не одобряла детей в доме, беспокоясь за мебель. Ее старшая сестра Кэти сама была матерью-одиночкой с маленьким ребенком, а две младшие сестры только начинали жить самостоятельно. Мама до самого своего нутра стыдилась того, что была не замужем, и чувствовала себя отвергнутой обществом.
Мы проехали мимо тех же холмов, что миновали днем, когда те казались гладкими и доброжелательными, как верблюжьи горбы. Теперь это были одинокие черные изгибы под темным небом. Мама плакала все горче, задыхаясь от всхлипов. Я стоически молчала. По встречной проехала машина, и я взглянула на мамино лицо, попавшее на мгновение в свет фар.
– Наверное, мы пропустили поворот. Не знаю.
Дождь лил все сильнее, и она включила дворники на полную мощность. Едва появлялся сухой полукруг, дождь снова заливал его.
– Не хочу такой жизни, – всхлипнула она. – Хочу уйти. Я так устала жить. Твою маааааать! – взвыла она. Как сирена. Я закрыла уши. – Сволочь! Дрянь! Дрянь! – вопила она, уставившись в лобовое стекло. Как будто оно так разозлило ее.
Мне было четыре, я сидела рядом с ней, пристегнутая двумя ремнями (это было до того, как детям запретили сидеть впереди). Мне казалось, что в проезжавших мимо машинах царит мир, и я мечтала очутиться в одной из них. Если бы только мама снова стала такой, как до того, как днем. Казалось, в ней уживаются два человека, которые никак не могут соединиться. И когда она кричала в ту ночь, как рассказала она позже, она понимала – хоть и не могла остановиться, – что я уже достаточно большая, чтобы запомнить это.
– У меня ничего нет, – твердила она. – Жизнь – дерьмо. Дерьмо! – она задыхалась. – Я больше не хочу жить! Гребаная жизнь. Ненавиииижу! – ее голос охрип от крика, будто гравия насыпали в горло. – Чертова жизнь.
Вскрикивая, мама давила на педаль, отчего машина рвала вперед, цепляя колесами отсыпку дороги, брызги дождя разлетались, как слюна. Словно она хотела сделать мотор воплощением своего голоса.
– Гребаный Time! Гребаный сукин сын!
«Сукин сын» было резче, чем просто «сука», с жалом на конце. Оно вонзилось мне в живот. Мама издала бессловесный вопль, тряхнула головой, разметав волосы, оскалилась и хлопнула ладонью по приборной панели, отчего я подскочила.
– Что? – заорала она на меня, потому что я двинулась. – Чтооо?
Я замерла, превратилась в приведение застывшей на переднем сидении девочки.
Неожиданно она так круто свернула, что мне показалось, будто мы сейчас слетим с дороги и умрем. Но там был съезд.
Она подъехала к обочине, ударила по тормозам и, уронив голову на сложенные руки, разрыдалась. Ее спина тряслась. Мамина печаль поглотила меня, я не могла сбежать, не могла ее утешить. Через несколько минут она поехала дальше и вскоре свернула на другую дорогу. Она по-прежнему плакала, но уже не навзрыд, и в какой-то момент я послала что-то вроде молитвы стеклянному глазку, круглой вмятине на стекле, куда ударила галька, – я просила последить за дорогой вместо меня, а потом заснула.
Посреди шума и безнадежности я чувствовала на себе чей-то спокойный благосклонный взгляд, хотя знала, что мы одни в этом дождливом аду, в подскакивающей машине. Словно кто-то добрый, кто любил нас, но не мог вмешаться, смотрел с заднего сидения. Этот кто-то не мог прекратить этого, не мог помочь – мог только наблюдать и подмечать. Теперь я думаю: что если это была взрослая я, призрачный образ, приглядывающий за нами с мамой в той машине?
На следующее утро наш сосед-пчеловод надел шелестящий белый костюм, к которому крепились перчатки, и шляпу, к которой была пришита сетка. Пчелы жили в ящике из реек на крошечном заднем дворе. Мы смотрели во двор из кухни – пристройки к задней стене одноэтажного дома. Пчеловод махнул мне рукой, подзывая подойти и посмотреть.
– Нечего бояться, – сказал он.
– У нее аллергия на пчел, – ответила мама. Однажды я наступила на пчелу, у меня раздулась ступня, и я не могла ходить неделю.
– Мои пчелы всем довольны, – сказал он. – Они не жалят, – произнося эти слова, он снял шляпу, и мы видели его лицо. – Это пчелы, которые делают мед, они дружелюбные.
– Но сам-то ты в костюме, – ответила мама. – А она в шортах. У нее нет никакой защиты.
– Это потому что мне нужно залезть к ним и забрать мед. Иначе я бы оделся, как ты. Они не хотят тебя жалить, – обратился он ко мне. – Знаешь, что происходит, когда они жалят? Они погибают, – он остановился и продолжил. – Зачем им отдавать жизнь, чтобы тебя ранить, когда они всем довольны и ты их не обижаешь?
– Уверен? – снова спросила мама. Что-то в его словах и всем происходящем было неправильно. Но что мы понимали в пчелах?
– Да, – ответил он, надевая шляпу. Я никогда не видела улея вблизи.
– Ну хорошо… – протянула мама. Пчеловод так и не убедил ее до конца.
Я подошла к нему и посмотрела на копошащуюся бархатную массу. Пчелы походили на поблескивающий коричневый ковер. Некоторые взлетали, покачиваясь, как крошечные воздушные шарики с крыльями. Одна села мне на щеку и стала ползать кругами. Я не знала, что кружение было чем-то вроде подготовительного танца. Я попыталась ее смахнуть, но она вцепилась в щеку и ужалила.
Я побежала обратно к маме, та затащила меня на кухню. Через открытое окно до пчеловода долетел ее голос.
– О чем ты только думал?! – орала она на него, распахивая дверцы шкафчиков в поисках соды, которую намеревалась смешать с водой в миске, чтобы получилась паста. – Совсем с ума сошел!
Она присела возле меня на корточки, вытащила жало щипчиками и кончиками пальцев нанесла пасту на раздувавшуюся щеку.
– Что за идиот, – бормотала она. – В полном снаряжении. И говорит девчонке, что это безопасно!
Когда у нас бывали деньги, мы ездили в Draeger’s Market, большой магазин, где за прилавком высилась стена духовых шкафов, а внутри, за прозрачным стеклом медленно поворачивалось мясо. Пахло сладкой землей и паром. Яркие белые тушки сырых кур, присыпанные оранжевыми специями, легко было отличить от приготовленных, с тугой коричневой кожицей. Мама взяла талон с номером.
– Половинку курицы-гриль, пожалуйста, – попросила она, когда подошел наш черед. Продавец разрезал курицу пополам прибором, похожим на садовые ножницы, под аппетитный хруст ребрышек. Потом он опустил зажаренный кусок в белый пакет с серебристыми полосками по краям.
Мы вернулись в машину, она положила пакет на ручной тормоз между нами, открыла пакет, с силой потянув за края, и мы принялись за курицу – мы ели ее руками, вокруг запотевали стекла.
Когда все было съедено, она смяла в комок пакет с костями, вытерла салфеткой мои жирные пальцы и стала разглядывать мою ладонь. Там, где ладони сгибались, тянулись борозды, словно русло пересохшей реки, на которое смотришь с большой высоты. Не существует двух людей с одинаковыми линиями, объясняла она мне, но у всех похожие узоры.
Она наклонила мою ладонь так, чтобы на борозды падал свет.
– Боже, – произнесла она, поморщившись.
– Что? – спрашивала я.
– Просто… все не очень хорошо. Линии обрываются, – она смотрела, будто пораженная страшным горем. Она отстранялась, уходила в себя. Раз за разом этот ритуал повторялся в разных вариациях, по мере того как я росла, добавлялись новые детали, но каждый раз, будто в первый, она совершала одну и ту же ошибку.
– Что это значит? – у меня в животе, в груди поднималась паника.
– Никогда такого не видела. Линия жизни, вот эта, изогнутая – прерывается, на ней пузыри.
– А что не так с пузырями?
– Это означает разрывы, травмы, – сказала она. – Прости.
Я знала, что она извиняется не за мою ладонь, а за мою жизнь. За то, как та началась, хотя я этого и не помнила. За то, как тяжело нам было. Наверное, она думала, что я не знала, какой должна быть настоящая семья. Но однажды, как раз в то время, она услышала, как я презрительно сказала мальчику в ботинках-лодках, не по размеру, за которым гонялась на детской площадке: «А у тебя даже отца нет».
– А это что за линия? – спрашивала я, показывая на ту, что начиналась под мизинцем.
– Линия сердца, – отвечала она. – Тоже нехорошая.
И на меня накатывала печаль, хотя мгновением раньше мы были веселы и счастливы.
– А эта? – последняя, прямо посередине, отходившая от линии жизни. Поначалу толще и четче, чем остальные, – о, надежда! – но потом и она истончалась, расщепляясь, словно веточка.
– Подожди, – произнесла она, вдруг просияв. – Это у тебя левая рука?
Из-за дислексии она все время их путала.
– Да, – сказала я.
– Отлично. Левая обозначает то, что дано от рождения. Теперь посмотрим на правую.
Я дала ей вторую руку, и она внимательно ее разглядывала, проводя пальцем по линиям, поворачивая, чтобы было лучше видно. Кожа блестела от куриного жира.
– На этой руке показано, как ты распорядишься своей жизнью, – рассказала мама. – И она выглядит куда лучше.
Откуда она знала? Может, научилась гадать по руке в Индии.
В Индии люди не пользуются левой рукой в обществе, говорила она. Для всех ритуалов предназначена правая. Это потому, что они обходятся без туалетной бумаги – для этого есть левая рука, которую они после моют. Меня это приводило в ужас.
– Если я когда-нибудь поеду в Индию, – заявляла я, когда разговор заходил об этой стране, – обязательно возьму с собой рулон бумаги.
Мама иногда рассказывала одну из своих индийских историй – о поездке в Аллахабад на фестиваль Кумбха-Мела, который проводился раз в двенадцать лет и в том году состоялся у слияния рек Ганг и Ямуна. Там собралась огромная толпа. На парапете в отдалении сидел какой-то святой, он благословлял апельсины и бросал их в толпу.
– Он был так далеко, что казалось, будто он ростом с палец, – сказала она.
Апельсины до нее не долетали, сказала она, но вот он бросил один апельсин, и она поняла, что тот летит прямо на нее, и – бам! – он ударил ее прямо в грудь, прямо в сердце; на мгновение она перестала дышать.
Как только он отскочил, на него накинулись стоявшие рядом люди, рассказывала она, поэтому апельсин ей не достался. Но я знала, что это означало: в ней, в нас есть что-то особенное, ведь освященный апельсин, пролетев так далеко, ударил в сердце именно ее.
– Знаешь, – сказала она, – когда я рожала тебя, ты вылетела, как ракета, – она часто рассказывала об этом, но я не перебивала, как будто слышала в первый раз. – Я ходила на эти занятия по подготовке к родам, где все говорили, что нужно тужиться, но когда дошло до дела, ты выскочила так быстро, что я не смогла бы тебя остановить.
Мне нравилась эта история, потому что в отличие от других детей меня не пришлось выталкивать, я сэкономила маме усилия, и это кое-что говорило обо мне.
Все это: линии на ладони, апельсин, история моего рождения – означало, что когда я вырасту, я стану отличной взрослой.
– Когда я буду взрослой, ты будешь старой, – говорила я. Я представляла свое взросление как продвижение по линии жизни: чем старше я становлюсь, тем ниже обозначающая меня точка на ней.
Мы ходили в сетевую кофейню за углом, и продавец угощал мою маму кофе, а потом мы садились на нагретую солнцем скамейку на улице. По краю площади напротив кофейни тянулся двойной ряд сикоморов, стриженных почти до самого ствола, отчего они напоминали детские игрушки: короткие веточки с толстыми шарами на концах. В воздухе пахло корой деревьев.
– Вот такой? – шамкала мама, будто у нее нет зубов, ковыляя, как старушка с тростью. Потом выпрямлялась. – Солнце, я только на двадцать четыре года тебя старше. Когда ты вырастешь, я буду еще молодой.
Я говорила: «Мм», – как будто соглашаясь. Но все ее слова, все ее объяснения не имели значения. Я представляла, что мы сидим на противоположных концах качелей-весов: когда одна расцветала – набиралась сил, или становилась счастливой, или обретала почву под ногами, – другая тускнела. Я все еще буду молодой, а она станет старой. Будет пахнуть застоявшейся водой в вазе, старыми людьми. А я буду свежей, зеленой, и буду благоухать только что срезанными ветвями.
♦
В середине учебного года я поступила в подготовительный класс государственной школы в Пало-Алто. До этого я ходила в другую школу, но мама решила, что в классе слишком много мальчиков, поэтому меня перевели. В первый день помощница учительницы вывела меня во двор, поставила у стены и сделала полароидный снимок, который повесила на доске рядом с фотографиями других учеников, подписав внизу мое имя. На нем я как-то по-дурацки обхватила рукой голову, потому что в тот момент решила, что буду здорово смотреться на фоне других учеников, снятых перед голубой занавеской. Мой снимок выглядел кустарным, был весь пропитан светом. Мне казалось, он говорит не только о том, что я позже других перешла в эту школу, но и о том, что мои очертания были подвижны, что они вот-вот должны были раствориться на солнце.
У нашей высокой, полной учительницы Пэт был певучий голос, она надевала босоножки на носки, носила джинсовые юбки длиной по лодыжку, футболки, свисавшие с ее пышной груди, и очки на веревке. На переменах мы играли в комнате рядом с классом в деревянных джунглях – среди соединенных мостками и перекладинами гимнастических снарядов. Висевшую между двух деревянных платформ канатную сетку, хихикая, называли постелью. Я представляла себе, что там нужно извиваться всем телом и замирать, извиваться и замирать. Было в этом что-то мерзкое. Вскоре после перехода в новую школу я упала в нее, и пока выбиралась оттуда, все вокруг орали: «Вей-ся! Вей-ся!»
В подготовительном классе делали упор на чтение, но я не умела читать. За каждую прочитанную книжку ученикам давали маленького плюшевого медведя.
Я выучила книжку наизусть – хотела обмануть помощницу учительницы и тоже получить мишку.
– Я готова, – сказала я. Мы сели на пол, прислонившись к книжному шкафу; книга лежала у меня на коленях. Я стала произносить слова, которые, как мне казалось, должны были быть на страницах, – я ориентировалась по памяти и картинкам. Через две страницы ее лицо посуровело и губы сжались.
– Ты не там перевернула страницу, – сказала она. – И пропустила слово.
– Всего одного мишку, – попросила я. – Ну, пожалуйста.
– Пока нет, – ответила она.
Даниэла набрала целых двадцать два, я попросила у нее одного.
– Для этого нужно прочесть книгу, – сказала Даниэла.
У меня появилось ощущение, будто во мне есть что-то постыдное, отталкивающее, будто уже слишком поздно пытаться это исправить. Я была не такой, как другие девочки моего возраста; все нормальные люди это замечали и чувствовали брезгливость. Первым доказательством была фотография. Вторым – мое неумение читать. Наконец, я была куда более придирчивой и мнительной, нежели другие девочки. У меня было много необузданных желаний. Внутри была червоточина, словно я подцепила какую-то болезнь или во мне поселились личинки из муки и сырых яиц, когда таскала тесто для печенья. Я чувствовал это в себе, и мне казалось, по мне это видно, и потому вздрагивала от удивления каждый раз, когда, проходя мимо зеркала, замечала вовсе не такое грязное и уродливое отражение, каким его себе рисовала.
Во время перерыва для внеклассного чтения мы с Шеннон тихонько убегали на улицу, пробирались через деревянные гимнастические джунгли и прятались в укромном месте позади нашей классной комнаты, за пышными кустами у кабинетов младших классов, где земля была вымощена неровным камнем. У Шеннон были очень светлые волосы, белесые густые брови и ресницы, и она тоже не умела читать. Штаны на ней были все время перекручены, поэтому шов никогда не совпадал с серединой ноги. Мы кидали камни в окна, а потом показывали неприличные жесты и валялись на камнях.
Пэт объявила, что скоро к нам в класс придет новый мальчик.
– Давай плюнем в него водой, – предложила я.
– Да, – поддержала Шеннон. – Из фонтанчика.
Мне казалось, всем будет весело, даже ему.
В то утро, когда появился новый мальчик, мы с Шеннон ждали его у фонтана с питьевой водой. У него были темные волосы, он был одет в шорты и выглядел уверенным в себе, а я-то ждала, что он будет маленьким и хрупким.
Мы набрали в рот воды и встретили его на подходе, под деревом.
– Эй, – сказала Шеннон, задирая голову, чтобы не расплескать воду. Я глянула на нее, едва сдерживая смех: у нее тряслась шея, по подбородку бежала прозрачная струйка. Будет так забавно, предвкушала я, это будет моя самая забавная затея. И самая умная.
Мальчик посмотрел на нас.
– У-у-у, – пропели мы почти в унисон. И на последнем «у» плюнули. За одно мгновение до того, как на его лице появилось ошеломленное выражение, как его родители, шедшие позади, бросились к нему, опустились на колени, стали утешать – а я поняла наконец, что натворила, – тогда я была самого высокого о себе мнения.
Нас с Шеннон развели в разные стороны, а наших мам вызвали в школу.
На обратном пути домой мама не умолкала:
– И как чувствовал себя этот мальчик? Ты представляешь, каково ему было?
– Плохо, – сказала я. Я уже поняла, что ему было совсем не смешно, хотя накануне мне так не казалось. Только нам было весело, но шутка закончилась, едва ему в лицо ударила струя воды.
– Мне стыдно. И жаль мальчика, – сказала мама, слишком сильно надавив на педаль газа. – Но Пэт тоже виновата. А чего она ждала? Пэт с ее идиотскими мишками.
♦
На следующий год меня перевели в Вальдорфскую школу полуострова. Той осенью она только открылась. Летом родители покрасили стены в классах, выбрали дерево для парт, ошлифовали его и покрыли лаком к началу нашего первого учебного года. Плата за обучение составляла 600 долларов в семестр с учетом полагающейся нам скидки, и мама решила, что мы потянем, если не будем покупать мебель. Но все равно мы часто влезали в долги, и тогда мама звонила отцу – просила выслать чек на небольшую сумму, что он и сделал дважды.
Тогда мы жили на Чаннинг-авеню и однажды отправились в Лос-Альтос, где маме нужно было прибрать в доме. Сначала там убирала ее подруга Сандра, но перед своим переездом она передала состоятельных клиентов маме. Сандра относилась к нам с теплотой. Однажды она даже вырезала из газеты статью о матери и дочери: они въехали зимой в сугроб, мать потеряла сознание, и трехлетняя девочка прошла одна три километра, чтобы позвать кого-то на помощь.
– Лиза тоже бы так поступила, – говорила маме Сандра.
Хозяйка дома в Лос-Альтосе показала мне, как полировать майонезом листья пыльного фикуса, чтобы они стали темно-зелеными и блестящими. После того как мама закончила с уборкой и хозяйка расплатилась, мы поехали прямиком в банк, чтобы положить деньги на счет, а потом – в магазин для художников, который находился совсем рядом.
– Добрый день! У меня членство, – сказала она продавцу за стойкой. Художники могли вступить в местное творческое объединение и получить скидку. – Я волнуюсь, вдруг чек, который я вам недавно выписала, не прошел, – сказала она. Мама часто говорила о чеках, которые не прошли. Я не совсем понимала, что это значит, – только то, что это хорошо звучит, хотя на деле все не так. – Я выпишу другой, только сначала куплю краски, ладно?
– Конечно, – ответил продавец. – Выбирайте, что хотите, потом разберемся.
Он улыбнулся нам, мы улыбнулись в ответ. Мама казалась обворожительной и честной, вместе мы освещали собой комнату.
Она медленно пошла вдоль полок, касаясь каждого тюбика, разглядывая понравившиеся, даже если они были ей не нужны или она не могла их себе позволить. Тюбики с кармином, сиеной, бирюзой, гуммигутом – новехонькие, без единой вмятины, они висели рядами, подхваченные за узкое место под шляпкой.
– У каждого цвета своя цена, – говорила мама. – В зависимости от ингредиентов.
Ингредиентами назывались цветные пигменты, добытые из земли. В магазине были и дорогие кисти из нейлона или шерсти животных, у каждой свое назначение. Они продавались в пластиковых чехлах; их заостренный кончик был твердым, но как только кистью начинали пользоваться, он распадался и становился мягким. Закончив рисовать, мама мыла кисти и облизывала их, чтобы вернуть заостренную форму.
В тот день она купила тюбик жженой умбры. Выписала чек на всю сумму. От пакета отказалась и отнесла тюбик в машину в бережно сложенной ладони.
Потом мы поехали в книжный магазин за углом от нашей кофейни. За прилавком стоял хозяин магазина. Он разговаривал с мамой, и видно было, что он умен и хорошо образован. Старый, с бородой и кустистыми бровями, похожий на неухоженного Бога. Мне хотелось, чтобы он обратил на меня внимание.
– Мой отец – Стив Джобс, – заявила я. Мне не велели рассказывать, кто мой отец. Мама бросила на меня удивленный взгляд; кроме нас, в магазине никого не было.
– Да? – спросил продавец и надел очки.
– Да, – ответила я. Это было как блик света на листве, привлекало взгляд. – И я самая умная девочка в мире.
♦
– Мы едем к Элленам плавать в бассейне, – объявила как-то мама, забирая меня из школы.
Новость вызвала у меня смешанную реакцию: Эллены купались голышом.
– А нам обязательно туда идти? – спросила я.
– Мне нужно побыть в компании взрослых людей, – ответила она. Не то чтобы она была особенно дружна с Элленами, но никто из наших друзей не устраивал домашних посиделок, а Эллены пригласили нас к себе поплавать.
По пути в машине мы слушали радио, и там говорили об истощении озонового слоя. В моем воображении он представлялся тюлевым покровом на самом верху неба, который прохудился, стал рваться, и без него мы все должны были сгореть от солнечного жара.
Дом Элленов, просторный, с темной кровлей, находился в исторической части Пало-Алто, где все было больше: и деревья, и участки. Внутри он казался огромным и пустым, со стенами цвета сухой земли, коробками по углам, грязными окнами, пылью. Во внутреннем дворе сиял бирюзовый прямоугольник бассейна, сам двор был скрыт от посторонних взглядов высоким забором из темного дерева – к моему облегчению. На бетонном краю бассейна и на разномастных стульях вокруг сидели голые бледные взрослые, разговаривали и периодически пробовали пальцами воду. Женщины заходили в бассейн медленно, держа ладони на поверхности воды, набираясь решимости, прежде чем полностью погрузиться.
– Ты наденешь купальник? – спросила я маму.
– Вообще-то не собиралась.
– Пожалуйста, надень. Пожалуйста.
– Не будь бабулей, Лиза. Странно будет, если я одна буду в купальнике.
– Пожалуйста, ради меня, – попросила я. Мне было спокойнее, когда ее тело было прикрыто.
– Ну хорошо, – ответила она. – Сделаю это для тебя, маленький консерватор.
Хиппи не обращали внимания, что по углам их дома копится пыль. Не меняли старую, темно-коричневую мебель. В разговоре тянули гласные, отчего те повисали между согласными, как мокрые простыни на веревке под собственной тяжестью. «Привеет», – говорили они. Они исповедовали свободу, но это была неправильная свобода. Скорее, бесцельное болтание. У меня не вызывало сомнений, что если мы станем слишком часто с ними общаться, то вся жизненная энергия, всякое стремление к свету, к чему-то лучшему – все то, что, я знала, есть у других людей, исчезнет, утонет, и мы увязнем в болоте. Мама легко поддавалась влиянию хиппи, потому что была одинока. Она охотно принимала их общество. Иногда ей хотелось ненадолго от меня отделиться, стать свободнее. У меня же от них были мурашки по коже. Когда она предлагала провести с ними время, я превращалась в зануду и старомодного блюстителя нравов – охранителя и тюремщика мамы.
Но большинство хиппи из числа наших знакомых были безобидными, даже жалкими. Иногда я расспрашивала ее о том парне, с которым она когда-то встречалась – всего два месяца – и который, похоже, выдвинул ультиматум: обещал порвать с ней, если она не отдаст меня на удочерение. Все хиппи были похожи, мне казалось: пустой взгляд, тягучие гласные, одежда унылых цветов, отсутствие нормальной работы. Постоянно напоминая о том бестолковом ухажере, я пыталась указать ей на ее явную неразборчивость.
Но чаще всего мы говорили совсем не о хиппи, а о том, что когда я была маленькой, мама сомневалась, нужна ли я ей; я чувствовала, что ее и тогда не оставляли фантазии о побеге – от меня, от жизни со мной, – поэтому стремилась пристыдить ее, заставить раскаяться.
– Он был ужасным, – говорила я, – этот твой хиппи. Я его ненавижу.
– Ненависть – сильное слово, Лиза. Не думаю, что ты его ненавидишь, – она задумалась, потом продолжила. – Хотя я слышала, что после меня он встречался с девушкой, у которой была собака – она ее обожала, – и заявил, что бросит ее, если она не избавится от нее. Ты представляешь? Он выбирал самое дорогое для другого человека и требовал порвать с этим, ради него. С ним явно не все в порядке, Лиза. Не стоит его за это ненавидеть.
Я ненавидела его все равно.
Ада Эллен была хрупкой, как фея, с хрипловатым заискивающим голосом, сияющей, медового цвета кожей, зелеными глазами и упругими золотыми кудряшками, окружавшими лицо. Ей было всего пять – почти на два года меньше, чем мне, – но она казалась не по годам развитой, наверное, потому что находилась на домашнем обучении. Мы обе были в купальниках.
Мы прыгнули в бассейн. Потом пошли в дом за полотенцами, лежавшими у здоровенной стиральной машины, – прочь от воды и компании взрослых.
– Тссс, – прошипела Ада и показала упаковку жвачки Juicy Fruit, которую она спрятала в полотенце. Было неясно, откуда она ее взяла. Нам обеим не разрешали есть сладкое.
Мы на цыпочках прошмыгнули мимо голых взрослых и стали пробираться по камням и колючей траве к кусту, за которым можно было спрятаться. Я шла так быстро, как только могла, выискивая пятачки голой земли между пучков сухой жесткой травы и острых камней. Листвы на кусте едва хватало, чтобы его можно было назвать укрытием. Мы развернули серебристую бумагу и сжевали сразу всю упаковку, забрасывая в рот один обсыпанный сладкой пудрой кусок за другим, будто это были карамельки. Комок жвачки во рту становился все больше – целая резиновая подушка цвета зубной эмали.
– Что это вы обе там делаете? – позвала мама.
Мы с Адой вышли из-за куста и, не прекращая жевать, встали перед голыми взрослыми – и моей мамой в купальнике. Из худой спины Ады выступали лопатки.
– Это что, жвачка? – спросила Энн, мать Ады. – Кто вам ее дал?
У нее была сливочно-желтая, как скисшее молоко, кожа. Груди, маленькие и плоские сверху, книзу собирались в мешки. Вокруг бедер был повязан домокрашеный цветистый платок.
– Жвачка обманывает ваш желудок: он думает, что вы едите, – продолжила Энн. – А если он ждет, что скоро в него упадет еда, он выделяет кислоту, чтобы переварить ее.
У меня заболел живот. Это меня не остановило.
Рядом с Энн сидела незнакомая женщина, ее бедра укрывало полотенце. Она произнесла:
– Кислота разъест ваши желудки.
Хиппи не слишком переживают из-за одежды, подумала я тогда, но с сахаром у них строго.
– Это правда, – сказала мне мама.
– Сюда, – сказала Энн, подставляя сложенную ладонь. – Выплевывайте.
Сначала выплюнула Ада, потом я.
– Идите чистить зубы. Обе.
Мы вошли в темноту дома и поднялись в ванную на втором этаже. Я воспользовалась зубной щеткой Ады. Она смотрела, как я чищу зубы – сначала с одной стороны, потом с другой, – и непроизвольно шевелила ртом, верхней губой, совсем как я, словно мое бледное отражение, словно она тоже чистила зубы.
Как-то раз после одного из таких визитов мама уехала, а я осталась поиграть с Адой.
– Иди за мной, – сказала Ада и проскользнула в пустую комнату, сразу против лестницы на второй этаж.
Посреди комнаты на полу лицом к двери сидела, скрестив ноги, Энн. Она была голая по пояс, цветистый платок покрывал ее бедра и ноги. Ее муж Мэтью, полностью одетый, стоял у противоположной стены спиной к нам, лицом к двум расположенным поблизости друг от друга окнам. Ада встала рядом с матерью, повернувшись ко мне.
– Ты пробовала сосать грудь? – спросила Ада напористым, жизнерадостным тоном, какого я никогда до этого не замечала – будто вся сцена была частью какого-то спектакля.
– Аде нравится, – отозвался с противоположной стороны комнаты Мэтью. – Ты тоже должна попробовать.
Я оглядела их всех, не шелохнувшись.
– Нет, спасибо, – ответила я.
– Это же здорово. Я все время это делаю, – сказала Ада все тем же приторным голосом, вспоминать который потом было неприятнее всего: как изменилась моя подружка, стала искусственной, механической, предала меня. Рука Энн лежала у нее на спине.
– Нет, спасибо, – повторила я, – не хочется.
Но я чувствовала, как в воздухе нарастает напряжение, точно перед грозой.
– Покажи ей, – велела Энн, и, к моему удивлению, Ада опустилась, положила голову на колени матери и стала сосать ее грудь.
Мэтью подошел ближе и остановился за спиной у Энн.
– Попробуй. Тебе понравится, – сказал он. – Разочек.
Ада перестала сосать и села на колени рядом с матерью.
– Обожаю, – сказала она. – Так здорово.
Тогда я поняла, что меня не выпустят, пока я не попробую грудь Энн. Хотя бы недолго. Это был унизительный момент, и я рада была, что меня никто не видит.
– Хорошо, – сказала я и скрючилась, положив голову Энн на колени, как до этого Ада.
Никакого молока не было; кожа была влажной, немного холоднее моего рта, безвкусной. И несоленой. Я не знала, когда уже можно перестать. Закончи я слишком быстро, возможно, меня заставили бы начать заново. Я закрыла глаза. Тысяча один, тысяча два, тысяча три, тысяча четыре, пять…
– Спасибо. Было здорово, – сказала я, поднимаясь.
– Эллены заставили меня сосать грудь Энн, – рассказала я маме несколько недель спустя. Долго не могла решиться. С тех пор мы уже бывали у них однажды, и я боялась, что если и дальше буду тянуть с признанием, в конце концов снова окажусь с ними наедине. Мы только что сели в машину и отъезжали от дома, направляясь куда-то.
– Сосать грудь?! – она застыла.
– Мне пришлось.
– Тебя заставили сосать грудь?!
– Они не давали мне уйти.
Я надеялась, что ей не будет стыдно за то, что я уступила.
– Что? – завопила она, заглушила мотор и побежала обратно в дом. Я вылезла из машины и встала, ожидая, возле куста. Следующие несколько дней я время от времени слышала, как она разговаривает с кем-то по телефону. Часто со слезами. Позже, через несколько лет, она рассказала, что звонила отцу, но он не воспринял ситуацию всерьез и посоветовал не сообщать в полицию. Мама звонила и другим людям. Ее реакция и телефонные звонки означали – так я решила, – что мне больше не придется оставаться с Элленами наедине. И действительно с того дня мы никогда с ними не виделись. Я испытала облегчение, хотя и беспокоилась об Аде. Рон, новый мамин бойфренд, сказал, что заявить в полицию все же стоит, что она и сделала.
♦
До Рона мама некоторое время встречалась с человеком, который создавал арт-объекты из палок.
Мне он не нравился. Скорее, впрочем, мне не нравилось то, как она трепетала перед ним, искрилась, порхала. Не нравилось, когда казалось, будто она сотворена из воздуха, а не из приятной тверди. Он держался отстраненно, говорил тихо, как если бы скрывал что-то, был застенчив, и из-за этого я считала его не до конца откровенным. Как-то вечером после ужина он отвел нас к своей машине и открыл багажник. В багажнике на покрывале лежала палка, обмотанная местами цветными нитями и веревками. В одном месте к ней был привязан кристалл, а в другом – перо.
– Вот что я делаю, – сказал он тихо.
– Как красиво, – сказала мама. Я надеялась, она притворяется.
– Это кристалл силы, – пояснил он. – А это орлиное перо я нашел на прогулке.
– Орлиное перо. Потрясающе, – сказала она.
– Но тебе же они не нравятся, правда? Палки? – спросила я, когда его не было поблизости.
– Нравятся, – ответила мама.
– Это просто палки. Он не настоящий художник, не как ты, – мне хотелось напомнить ей о ее таланте, о той умиротворенной женщине в вихре разлетевшихся бумаг.
– Мне кажется, это больше, чем просто палки, – ответила она. – То есть он их украшает. На это требуется время. Некоторые палки говорят с ним. Он слышит природу. Может быть, я сама попробую.
– Боже, – сказала я.
– Серьезно. Может быть, попробую.
– Мама, это палки. Палки.
– Ну, хорошо. Может быть, это и правда немного глупо, – согласилась она.
Она вернулась в себя.
* * *
Вечерами, несколько раз в неделю, мама работала официанткой в кафе-кондитерской и однажды взяла меня с собой. Она рассказала мне по секрету: хозяин кафе, он же кондитер, оформляя ассорти из пирожных на кухне в самом дальнем углу, слизывал с носика кондитерского мешка нитку глазури, чтобы она не тянулась через противень. Но когда я пришла навестить маму, я все равно заказала там пирожное. Обычно мне не разрешали сладкое, но пирожное было слишком вкусным. И слишком вкусным, чтобы бояться чужих микробов.
– Мир состоит в основном из пространства, а не из материи, – сказала мама несколько дней спустя, когда мы были дома. Она читала книгу по квантовой физике, и у нее разыгралось воображение. Она сказала, что атомы расположены так далеко друг от друга, что нет никакой разницы между пространством и материей, потому что материя состоит из пространства, и любое тело – диван, стол – только кажется телом – диваном, столом, – а на самом деле оно – пространство; тот, кто по-настоящему это осознает, может ходить сквозь стены.
Еще она сказала, что некоторые просвещенные, те, кому известна тайна мира, умеют просачиваться сквозь стены, словно стен не существует; они разбираются в квантовой физике, хотя бы и на подсознательном уровне, и знают об огромном, больше футбольного поля, пространстве, разделяющем атомы. Так сказала мама. Я никогда не видела футбольного поля. Эти просвещенные не подвержены нашим иллюзиям о разделенном пространстве, и поскольку они понимают, что плотность ложна и призрачна, им необязательно придерживаться законов физики. По ее словам, ходили рассказы о гуру, находившихся в двух местах одновременно и говоривших в одно и то же время с разными людьми.
Она рассказала мне об этом в гостиной. Я попыталась представить спальню за стеной и так твердо поверить в отсутствие материи, чтобы стена растворилась на моих глазах. На следующей день несколько восхитительных часов мне казалось – когда я подносила палец к носу, усиленно смотрела вдаль, и палец расплывался до полупрозрачности, – что я могу видеть сквозь палец. Я умела творить чудеса. Следующие на очереди – стены.
Линии жизни
♦
Когда я была во втором классе, по выходным мама проводила уроки живописи для меня и пяти других учеников. Она отвозила нас на местную ферму под названием «Потайная вилла», где мы рисовали с натуры.
– Один ремень безопасности на двоих, – сказала она.
Я сидела на переднем сиденье, притиснувшись к Мэри-Эллен, девочке с короткими волосами, ямочками на щеках и равномерным дыханием, которое я чувствовала спиной. Мама погрузила все наше снаряжение в багажник. У каждого художника был маленький складной мольберт, доска из оргалита, чтобы крепить бумагу, акварельные краски, угольные карандаши, ластик и небольшой отрез мягкой ткани.
– Что мы будем рисовать? – спросил Джо.
– Пока не знаю, – ответила она. – Что-нибудь да найдем, когда будем на месте.
Она была не похожа на других матерей, а мы с ней не походили на другие семьи. Я боялась, что во время занятий она выдаст нас, что всем станет ясно, какие мы странные.
За несколько дней до этого, заглянув в туалет, я застала ее забравшейся с ногами на унитаз: она сидела на корточках, джинсы спускались с ее торчащих колен, как занавес.
– Что ты делаешь? – в ужасе спросила я.
– Я научилась этому в Индии, – ответила она. – Это положение лучше. Закрой дверь.
Ферма находилась среди заросших лаврами холмов, вокруг тонких стволов лежали желтые полумесяцы опавших листьев, по обочине дороги бежала ярко-зеленая полоска клейтоний. Прозрачный, звенящий воздух был пропитан ароматом лавровых деревьев. Это был плоский треугольник земли, окруженный холмистой грядой; семья, владевшая им, нажила состояние на продаже асбеста. Мама рассказывала, что асбест – это теплоизолятор, который оказался ядовитым. На ферме я вспомнила о ее словах и подумала о том, какой чистый воздух вокруг, какое все зеленое, но причина всей этой красоты – производство яда.
Мы подхватили свое снаряжение и пошли вслед за мамой – в поле возле парковки, где росло одинокое деревце, покрытое шершавой корой. На ветвях еще держались редкие листья, у основания ствола торчали, как кошачьи усы, травинки, между их яркими стебельками виднелись комья земли.
– Здесь, – сказала мама.
Мы расставили мольберты полукругом. За деревом была изгородь, и сад, и амбар, и какие-то сараи, а за ними, в конце узкой долины, словно сморщенная кожа, поднимались складки холмов. Весь этот пейзаж: дерево, зеленую траву, синие холмы, пурпурные холмы, небо – слишком сложно было уместить на маленьком листе бумаги.
– Воткните ножки мольбертов поглубже, чтобы они не шатались, – наставила мама. Она обошла нас, поправляя мольберты, надавливая на них, чтобы те вошли в сухую землю, и ее естественная уверенность, непринужденность по отношению к окружающему миру, смелость речи, движений были новыми для меня и немного пугающими. Мы скотчем прикрепили бумагу к доске, и она встала перед нами с заостренной кисточкой в руке, подняв вторую руку с выпрямленной ладонью, изображающей лист бумаги.
– Перед тем как мы начнем, я хочу научить вас пользоваться кистью, – сказала она. – Не надо давить ею, вот так, – она ткнула кисточкой в ладонь, отчего та распласталась, как швабра. – Ведите ею по бумаге в одном направлении, не против щетинок, а вместе с ними.
Я уже давным-давно умела пользоваться кистью, поэтому злилась оттого, что меня инструктируют наравне с остальными.
Мы приступили к рисованию. Сначала коричневыми четырехгранными карандашами Конте, которые сами были похожи на ветки. Поверх рисунка мы должны были нанести краски, чтобы добавить цвета.
– Рисуйте не то дерево, которое, как вам кажется, вы видите, – сказала мама. – Рисуйте дерево. Доверьтесь своему глазу.
Я не понимала, где на моем листе должно начинаться дерево, как оно должно пробиться к небу сквозь холмы, возвышающиеся на заднем плане. Внимательно присмотревшись к пейзажу, я заметила, что трава на земле занимает почти столько же места, сколько холмы. И испугалась, что дерево у меня получится лишь точкой в центре ничем не занятого белого пространства, которое вызывало у мамы отторжение.
– Первый штрих требует смелости, – сказала она, мельком взглянув на мой пустой лист. – И запомните: в природе не бывает прямых линий.
Я сделала несколько прямых штрихов.
– Лужа на земле может быть интереснее рисунка, – сказала она. Я и раньше слышала от нее эту фразу: так говорил кто-то из ее преподавателей в муниципальном двухгодичном колледже. Когда мы с ней рисовали вместе, она не разрешала мне пользоваться черной краской из набора, настаивая, что черный – это не цвет и что если я присмотрюсь повнимательнее, то замечу другие оттенки. Еще она не верила, что персонажи в книге или фильме делятся на хороших и плохих, и сердилась, когда я их так называла. Мне же и такие эпитеты, и черный цвет давали облегчение, казались удобным уступом, где можно наконец передохнуть.
Пока мы работали, мама ходила между нами, помогала одному затереть неправильно нарисованную деталь, другому – изобразить то место, где из ствола вырастала ветка.
– Не возражаешь? – спросила она у Мэри-Эллен, обращаясь к ней, как ко взрослой, прежде чем взять у той карандаш.
– Я хочу, чтобы вы попытались ухватить дух дерева, – сказала мама. – Не только его внешний вид, но и жизненную силу внутри.
Меня удивило, что ее слова ни у кого не вызвали насмешливой улыбки, наоборот, все рисовали сосредоточенно, чего не получалось у меня. И если поначалу я боялась, что остальные будут ассоциировать меня с мамой, то теперь мне хотелось, чтобы во мне видели ее дочь, близкого ей человека, владеющего знанием, недоступным для остальных. Мне казалось, она говорит на непонятном никому, кроме меня, языке, и мне было неловко понимать его, хотя остальные ученики слушали так, будто тоже понимали, и им совсем не было неловко.
Сложно было видеть дерево таким, каким оно выглядело в действительности. Как для правши писать левой рукой. Глаза и пальцы обманывал привычный образ дерева, поэтому, когда я что-то подмечала, мне приходилось рисовать это очень быстро, чтобы успеть до того, как увиденное снова трансформируется в образ.
– Закройте один глаз, это помогает, – сказала мама. Я попробовала, и мир стал плоским. А потом случилось нечто неожиданное: ветка, которую я рисовала, больше не торчала. Теперь это была не ветка, а силуэт, сотканный из света, среди других сотканных из света силуэтов. Меня охватил трепет. Дерево было всего лишь силуэтом, никак не связанным с ветками. Я быстро зарисовала его таким, каким оно выглядело, не таким, каким было.
На этом я закончила. Всего на мгновение я увидела дерево. Этого было достаточно.
Мы взялись за акварели, стали наносить на рисунок цвет.
– Деревьям нужен солнечный свет, вода, питательные вещества, – сказала мама. – Но если их слишком много, в избытке, они чахнут. Борьба делает их сильнее, а их плоды – слаще.
Она неоднократно повторяла эту фразу в течение многих лет, и в какой-то момент я поняла, что это метафора.
– Постарайтесь увидеть цвета такими, какие они есть, а не такими, какими должны быть, – произнесла она.
Однажды она показала мне, что апельсин в чашке может казаться голубым, когда отражает небо, или фиолетовым в тени, или белым под ярким солнцем. Когда такое происходит, это всегда вызывает удивление, сказала она, и ты понимаешь, что это по-настоящему.
Не существует цвета безотносительно других цветов. Даже тон бумаги играет роль. Все имеет значение не только само по себе, но и относительно всего остального. Должно быть, в какой-то момент она коснулась лица, чтобы откинуть прядь, и, взглянув на нее, я увидела на переносице коричневое пятно.
– Мам, – сказала я. – У тебя краска на носу.
– Это не важно, Лиза, – ответила она.
Перед приездом родителей она обошла нас, делая замечания по поводу наших рисунков. Она назвала это «критикой».
– Мне нравится композиция, – сказала она об одном рисунке.
– Тонко, изящно, – сказала она о другом.
Особенное впечатление на нее произвел рисунок Джо.
– Вот эта часть, – сказала она, указывая на холмы, – превосходна. Браво!
У меня она похвалила изгибы ветвей и ствола, но назвала рисунок незавершенным. Сказала, что я закончила слишком быстро, нетерпеливо делала штрихи и накладывала краски, будто это был урок рисования на скорость.
♦
– Завтра должен приехать Стив и привезти кровать.
Она назвала его по имени, как будто мы с ним были хорошо знакомы. Он уже дважды обещал привезти кровать, но в назначенное время не являлся. В гостиной была отгорожена занавесками ниша со слуховым окном под потолком. Там на полу лежал матрас, который служил мне постелью, когда я спала отдельно от мамы, и который должна была сменить кровать. Нам даже позвонила его девушка, с которой мы никогда не встречались, извинилась и пообещала, что на этот раз он приедет.
Стив. Я так мало о нем знала. Он был как скульптуры Микеланджело – мужчины, застывшие в камне, местами гладком, местами необработанном, что вызывало в воображении те их части, что еще не явились миру.
– Он не приехал в прошлый раз, – сказала я. Мы прождали час. Может быть, он не знал, какую кровать купить, а может, не знал, как найти наш дом. Возможно, мама сказала ему неправильное время.
– В этот раз он обещал приехать, – ответила она. – Посмотрим.
Сначала мы ждали дома, потом вышли на улицу, на асфальтовый пятачок, и стали смотреть на дорогу. Меня так взбудоражил его приезд, что я надела нарядное платье, которое мне подарил альпинист, и в животе у меня порхали бабочки. Мимо проезжали машины. Внутри каждой из них мог оказаться он. Мы ждали.
– Похоже, он не приедет, – наконец сказала мама. Мы вернулись в дом. Я чувствовала себя опустошенной. День, предвещавший нечто новое, увлекательное, экстраординарное и загадочное, оказался скучным днем, похожим на все остальные. Мы снова были только вдвоем, и нам нечем было заняться.
– Поехали кататься на роликах?
Когда мы с мамой катались на роликах, любимым нашим занятием было искать новый, мягкий асфальт. Когда идешь пешком, никогда не обратишь внимания на швы на мостовой, но когда катишься по дороге на роликовых коньках, всегда чувствуешь разницу между свежим и бывалым покрытием. Мы говорили, что мягкий асфальт, «как масло». Катиться по такому после жесткого, бугристого асфальта, на самых неровных участках которого вибрировали бедра и коленки, тряслись щеки и даже глаза, было все равно, что парить в воздухе.
Одну такую дорожку мы нашли рядом с парковкой на Оак-Гроув, где мы когда-то жили. Нашу старую однокомнатную квартирку снесли вместе с домом, к которому она была пристроена, и на их месте возвели здание банка «Комерика» с коричневой кровлей.
– Где-то там, в земле под банком, закопана твоя пуповина, – сказала мама, когда мы проезжали мимо. Это меня взволновало: другие матери наверняка не закапывали пуповины во дворе.
Мягкий асфальт был перед офисным зданием в псевдо-палладианском стиле с двумя галереями, дугой спускающимися над альпийскими горками ко входной двери из тонированного стекла. На подъездных дорожках, обрамленных изогнутой железной оградой, асфальт был как шелковый. Мы катались по кругу, сначала вверх по одной дорожке, потом вниз по другой, снова и снова. Мама все время поглядывала на меня, а я делала вид, что не замечаю.
– Знаешь, ты именно та дочка, какую мне хотелось, – сказала она. – Точь-в-точь. На ферме, где ты родилась, жила с мамой маленькая девочка, ей было три или четыре года. Телец по знаку, маленькая, но рассудительная и смышленая. Я подумала, что хочу такую же.
– Знаю, – ответила я. Она мне уже об этом рассказывала. («Я не просто люблю тебя, – часто говорила она. – Ты мне нравишься».) – И он назвал компьютер в честь меня?
– Потом он притворился, что нет, – и она заново поведала мне историю о том, как они вместе выбрали мне имя в поле, как он забраковал все ее предложения, кроме последнего – Лизы.
– Он любит тебя, – уверила она. – Но не знает о том, что любит.
Это было сложно осмыслить.
– Если бы он увидел тебя, по-настоящему увидел и понял, что упускает, когда не приезжает к тебе, это бы его убило. Это было бы вот так, – она остановилась, вцепилась в ограду, схватилась за сердце и, изобразив отчаяние на лице, сгорбилась, как будто сейчас упадет и умрет.
Я попыталась представить, что именно он упускает. Ничего не пришло на ум.
Впоследствии мне рассказали, что отец носил в бумажнике мою фотографию. За ужином с друзьями он вынимал ее, показывал присутствовавшим и говорил:
– Это не мой ребенок. Но у нее нет отца, поэтому я стараюсь заботиться о ней.
– Ему же хуже, – сказала мама, когда мы покатили домой. – Он столько теряет, столько… Однажды он это поймет. Он вернется к нам, и его сердце разобьется, когда он увидит тебя, увидит, как ты на него похожа и сколько он упустил.
Я чувствовала, что это как раз подходящий момент, чтобы выпросить себе котенка.
Местный офис общества защиты животных находился в здании казенного вида на краю заповедника «Бейлендс».
– Там слишком много котят, – сказала мама на пути туда, в то время как я старалась сдерживать восторг. – Если им не найдут хозяев, придется их усыпить.
Основное помещение было просторным, с каменным полом и балками под высоким потолком, о который ударялось эхо. Животные находились в соседней комнате, за дверью. Женщина за стойкой, одетая в форму цвета хаки с ремнем и множеством карманов, вытащила папку с бумагами и спросила, где мы живем и как долго.
– Дом в Менло-Парке, – ответила мама. – Уже несколько месяцев.
– А до этого? – спросила женщина.
– Два месяца у друзей, – ответила мама ровным голосом. – А до этого в другом месте четыре месяца.
С лица женщины, все это записывавшей, сошла улыбка. Я пожалела, что мама не соврала и не опустила подробности о некоторых из наших переездов, чтобы выставить нас в лучшем свете; до того как она начала их перечислять, я и не думала, что об этом нужно помалкивать. На ум закралось подозрение, что хотя мама и согласилась приехать сюда, чтобы выбрать питомца, она все еще сомневалась, а потому рассказывала все, как есть, не пытаясь сгладить дурное впечатление. А может быть, она была неисправимо честной. Или же четкость обзора с высоты птичьего полета, которая открылась ей, когда она отвечала на вопросы той женщины, приносила удовлетворение, и повествование в этом духе стало интересовать ее больше возможности заполучить кота. Сложный ландшафт нашей жизни развернулся перед ней: если смотреть свысока, он был только простым рисунком.
– У нас есть небольшой участок, – вставила я.
Женщина обратилась к маме:
– Думаете, вы сможете обеспечивать животному надлежащий уход, учитывая частую смену обстановки?
– Думаю, да, – ответила мама. – Мы теперь немного укоренились.
Женщина выпрямилась.
– Боюсь, что в данный момент мы не сможем отдать вам котенка.
Я не ожидала такой категоричности. Нам даже не показали животных. Мы с мамой молча вышли из здания на едкий, соленый воздух «Бейлендса», потрясенные и усталые.
Несколько дней спустя мы заехали в зоомагазин, и мама купила мне двух белых мышей и аквариум из стекла, самый дорогой, что у них был.
В какой-то момент кровать прибыла без отца. Это была кровать-чердак из множества красных металлических трубок, которые, закручиваясь, переходили одна в другую, что делало конструкцию похожей на городок для игр. Мама собрала ее и распрямила коробки, в которых ее доставили. К кровати был прикреплен такой же трубкой белый столик из ДСП и похожая белая полка над ним. Я залезала по лесенке на самый верх, под мансардное окно. Это была моя первая кровать и первый подарок от отца.
♦
Дебби, старшая сестра маминого бывшего бойфренда-альпиниста, стала брать меня на прогулки: в парк, зоопарк, по магазинам. Она давала уроки английского для иностранцев, работала продавщицей косметики в сетевом универмаге «Мэйсиз» в центре Сан-Франциско и убиралась в доме холостяка в соседнем городишке под названием Атертон. Как и маме, Дебби было под тридцать, но у нее не было детей. Она предложила брать меня на прогулки, вдохновившись примером девушки, которая когда-то, когда Дебби была маленькой и в семье возникли трудности, проявила к ней интерес, научила пользоваться косметикой, духами и аксессуарами.
В назначенный день мы с мамой ждали ее у дороги. Когда она вышла из машины, на ней были светло-розовые джинсы, белые босоножки на высоком каблуке и красный топ с оборками. Многочисленные пластиковые браслеты клацали при каждом движении, крупные серьги-кольца покачивались над легким узорчатым шарфом. Она напоминала тропическую птицу в мире, где царили оттенки коричневого.
Она водила красный «Форд Фиеста» с механической коробкой передач и излучала блаженный оптимизм, казавшийся ее особым призванием, светом, в лучах которого все остальное становилось несущественным. Она ввела меня в хорошую жизнь. Ее окружала парфюмерная дымка – аромат апельсинового цвета и запахи косметики, которой она пользовалась. У нее были короткие, тщательно уложенные волосы; их цвет и форма прически наводили на мысль о волнах, мягко разбивавшихся о ее голову, и я удивилась, когда, потрогав их, ощутила корочку.
– Лак для волос, – пояснила она.
Я надеялась, что, когда стану старше, тоже смогу пользоваться лаком.
Когда мы ехали в «Мэйсиз», зоопарк, городской бассейн под открытым небом, к ней домой и обратно по шоссе 280, или Эль-Камино, или Аламеде-де-лас-Пульгас, она говорила о том, что хорошо бы отыскать путь в небо, дорогу, бегущую, по ее словам, высоко над нами, в облаках.
– Если бы только мы могли его найти, – говорила она. – Где-то должен быть поворот на него.
И мы обе высматривали этот съезд, хотя я не имела ни малейшего представления, как он должен выглядеть.
– Черт, – наконец говорила она. – Наверное, я его пропустила. Иногда его закрывают. В следующий раз.
Годом ранее Дебби жила в одной семье в Италии, в доме на побережье Адриатического моря, и подумывала остаться там навсегда, но за ней прилетела ее мать и вернула восвояси. И теперь она делала первые сложные шаги, чтобы обустроить свою жизнь. Но я в то время об этом не знала, и она казалась мне ничем не обремененной, чуждой взрослой серьезности, восхитительной, неотмирной, словно путь в небеса.
Всю неделю я с нетерпением ждала наших прогулок, заранее выбирала наряд, не надевала его и держала отдельно от остальных вещей, чтобы к назначенному дню одежда была чистой. Я влюбилась в Дебби, как иногда влюбляются девочки в женщин, которые не приходятся им матерью. Когда я была с ней, я больше всего нравилась себе. Дебби с ее воздушным голосом, непривычным взглядом на жизнь, мелодичным перестуком браслетов, мятежным, полным жизненной силы вихрем цвета и формы в одежде была полной противоположностью моей матери, все глубже погружавшейся в депрессию.
– Вот так всегда и должно быть, – сказала мама, посмотрев передачу о китах и узнав, что они с самого рождения умеют держаться на воде, плавать, нырять. Никаких подгузников, никакого отказа от жизни в пользу сидения с ребенком, никакой притупляющей разум рутины.
С тех пор как мама рассталась с художником, собиравшим палки, ей ничего особенно не хотелось, да мы ничего особенно и не могли себе позволить. Она готовила еду – бурый рис, овощи, тофу, – которая ни у одной из нас не вызывала аппетита, и подолгу, с полудня до самого вечера сидела в своей комнате при выключенном свете, гадала на китайской Книге перемен. Полумрак пугал меня, потому что в очередной раз заявлял о нашей непохожести, о том, что для нас не существует формальностей и границ.
Как-то раз, почувствовав себя лучше, она сказала, что мы поедем в Музей современного искусства Сан-Франциско, а по дороге заглянем в банк. В музее мы пройдемся по галереям, оглядим зал с огромными смешными скульптурами Класа Олденбурга, я посижу на скамейке или сделаю стойку на голове, пока она разглядывает экспонаты или пока шепотом рассказывает мне на ухо о художниках, и под конец мы перекусим в кафе.
– Давай не будем останавливаться у банкомата, – попросила я. – Пожалуйста.
Но мы все равно остановились на выезде из города. Денег он не выдал, только бумажку. Мама схватила ее, отошла на пару шагов, остановилась посреди тротуара, чтобы лучше рассмотреть. На ней не было лица. Мы поехали домой. Она не отвечала на мои вопросы, попросила помолчать и до конца дня не выходила из комнаты.
– Иди поиграй, – сказала она. – Все в порядке. Дай мне побыть одной, милая.
Рисовать, выбирать одежду, ухаживать за мышами в аквариуме – любое обыденное занятие казалось рискованным, будто я находилась в маленькой лодке посреди бушующего моря. Стоит на секунду оставить ее без внимания, и она перевернется в тот момент, когда этого не ожидаешь.
На следующей неделе мы с Дебби поехали в дом на Хобарт-стрит в Менло-Парке, где она жила с родителями. Ее мать – полная блондинка в фартуке, кожа на лице и руках похожа на пергаментную бумагу, – сидела за кухонным столом и вырезала прямоугольники из пестрой газетной страницы. Ножницы издавали приятный скрежет.
Я спросила ее, что она вырезает.
– Купоны, – ответила она. – Я отнесу их в магазин и получу скидку.
Каждый прямоугольник она клала в специальную секцию в пластиковой коробке.
В комоде Дебби было секретное отделение. Ящичек внутри ящика.
– Никто в семье об этом не знает, – прошептала она, склонившись к моему лицу. Это была шкатулка с украшениями, а в шкатулке – кулон, его тонкая цепочка совсем перепуталась.
– Может, у тебя получится распутать своими маленькими пальчиками, – сказала она. – Если распутаешь, можешь забрать себе.
Я села на ее кровать и стала потихоньку расплетать каждый узел, пока цепочка не приобрела привычный вид.
– У тебя есть муж? – спросила я, когда она застегивала ее у меня на шее.
– Пока нет, – ответила она. – Но будет. Однажды я буду прогуливаться по улице, и тут – бамс! – он свернет из-за угла!
Когда мы вернулись, мама была в одежде, в какой обычно рисовала.
– Смотрите, – сказала она, махнув рукой на почти законченную картину. Дебби подошла ближе, чтобы рассмотреть.
– Потрясающе, – сказала она. – Никогда не видела картины прекраснее.
(Позже Дебби сказала мне, что всегда удивлялась, почему мы бедны, если у мамы такой талант. По ее мнению, мама могла хотя бы продавать свои произведения на улице. Но ее творчество не приносило нам денег, у нее лишь иногда заказывали иллюстрации.)
Мы сели за стол, я – у Дебби на коленях. В какой-то момент во время разговора я подняла глаза и сказала:
– У тебя белые зубы. А у мамы желтые.
Мама поерзала на стуле: она часто жаловалась на состояние зубов.
– Дебби понятия не имеет, – сказала мама, после того как Дебби ушла. – Она поверхностная и судит обо всех и вся, а сама и понятия никакого не имеет.
Дебби действительно ее осуждала: пока сидела у нас, она заметила грязную посуду в раковине и пятно на стене – должно быть, прежние жильцы пролили выпивку. С течением времени это место потемнело, будто на него легла вечная тень. Дебби заметила это и наморщила нос.
– Заявляется сюда и увозит тебя, – продолжала мама, – ты прелесть, а меня она осуждает. Хотя это благодаря мне, моим усилиям ты такая замечательная.
– Мне она нравится, – сказала я.
– Знаешь, она тоже не идеальна. И она не все время счастлива. Она поверхностная.
– Тебе нужно вырезать купоны, – сказала я.
– Ни за что, – ответила она. – Я не такая. И не хочу такой становиться, никогда.
С того дня мама больше не ждала со мной приезда Дебби – утром выходного дня, на заасфальтированном круге у гаража.
♦
Как-то в выходные родители моей школьной подружки Даниэлы повели нас с ней на концерт. На мне были белые толстые шерстяные колготки. В середине представления мне захотелось в туалет, но выйти было нельзя. Я сопротивлялась, сколько могла, но наконец, не в силах больше держаться, надула в штаны. (К моему облегчению, когда зажегся свет, по ним было незаметно, что они мокрые.)
Во время антракта я попыталась спустить колготки в унитаз. Они намокли, распухли, скрутились и застряли в сливе. Когда я вышла из кабинки, очередь в туалет растянулась и начиналась уже в коридоре. Следующая по очереди женщина направилась прямо к кабинке, из которой я вышла.
– Возможно, вам стоит воспользоваться другой, – сказала я ей, тщательно артикулируя, как будто мы были заговорщиками. – Там в унитазе детские колготки.
Женщина бросила на меня удивленный взгляд, и я поняла, что выдала себя, только когда покинула уборную.
После концерта мама отвела нас с Даниэлой в пиццерию «Эпплвуд», и возвращаясь к машине, мы с подружкой по очереди крутили маминой холщовой сумкой на длинной ручке, чертя над тротуаром размашистые круги. Была очередь Даниэлы. Мама носила в сумке ножик, нужный ей для художественных проектов, и он, должно быть, провалился на самое дно, потерял чехол и проткнул ткань. Нож прошел повыше моего запястья и оставил глубокий порез. Позже он превратился в вертикальный шрам в форме буквы «I» длиной в пару сантиметров; он был не лишен привлекательности, и я к нему привыкла. Поначалу Даниэла чувствовала себя настолько виноватой, что едва могла смотреть на мою руку. Но годы спустя она стала показывать на него и восклицать: «Я оставила на тебе свою подпись!» Будто я была ее произведением.
Иногда мама мимоходом рассказывала о том, что делала или не делала ее мать, Вирджиния: не брала ее в кафе за тортом, не вступалась за нее в школе, не приносила перекусить в постель, когда ей хотелось есть, – в общем, все рассказы сводились к тому, что ее мать не баловала ее тем, что в собственном детстве мне нравилось больше всего.
– Когда я была маленькой, – рассказывала мама, – она заметила у меня талант к рисованию, пошла и купила моей сестре Линде мольберт и большой набор красок. А потом запретила мне к ним прикасаться.
Мне хотелось больше таких историй, историй о жестокости Вирджинии, но в основном она рассказывала о том, что ее мать великолепно готовила, развешивала по кухне толстую, нарезанную вручную лапшу сушиться, как носки, и покупала только пуховые одеяла еще до того, как их стали использовать все. Однажды зимой, в день, когда шел снег, Вирджиния выглянула в окно, увидела двух ярко-красных кардиналов на ветке, решила купить себе красные туфли – и купила. Через Вирджинию мы были связаны родством с покойным Бранчем Рики, братом ее деда и руководителем бейсбольного клуба «Бруклин Доджерс», человеком, который помог Джеки Робинсону попасть в Главную лигу бейсбола. Мама дала понять, как важно защищать Вирджинию, еще до того как я узнала, от чего мы ее защищали.
– Первое мое воспоминание: я младенцем лежу в кроватке, оглядываюсь и замечаю, какая жалкая у меня комната, – рассказывала она. – Как будто явилась из места, где было гораздо лучше.
В ее рассказах о детстве она представала порой беззащитной, а порой очень сильной. Суровой зимой в Огайо ее заставляли ходить в школу в юбках и тонком пальто; ей хватило предприимчивости и воли, чтобы собрать фишки из коробок с хлопьями, обменять их на бинокль и после бродить в одиночестве на рассвете, наблюдая за птицами. Теперь ей хотелось чего-то лучшего, чем то, что ей когда-либо довелось испытать, чего-то изысканного, что она могла представить, но никогда не видела и не пробовала, – для нас обеих.
♦
Мы с мамой отправились на прогулку среди заросших холмов заповедника к семинарии Мэрикнолл, где жили отошедшие от дел священники-миссионеры. Мы шли по широкой грунтовой дороге. Воздух вобрал запахи трав и крапивы, напоминавшие о благовониях и банном мыле. Громко стрекотали насекомые и вдруг резко умолкали, все сразу, будто падало давление, и воцарялась тишина, пустота в воздухе, а потом снова, постепенно нарастая, поднимался стрекот. Стояла змеиная погода. В такую змеи выползают на дороги понежиться на солнце.
– В Индии я видела детеныша кобры, – сказала мама. – Он поднялся и раздул капюшон, перегородив дорогу, – она изобразила гортанное шипение. – Они хуже всего. Они еще не знают своей силы, выпускают весь яд сразу.
Слушая мамины истории, я не представляла ее. Я видела все происходящее ее глазами, как будто это я была в Индии с детенышем кобры.
На склоне холма над нами рос зеленый кактус с ярко-красным плодом.
– Опунция, – сказала мама. – Мне как раз хотелось попробовать.
И она полезла на холм, вызвав небольшой пыльный оползень.
– Мам, не надо, – попросила я.
– Я рада, что ты не моя мать, – ответила она.
– Давай потом, – попросила я.
– Да ладно тебе, Лиза. Я всегда хотела попробовать.
– Там колючки, – сказала я.
– Я не со вчерашним дождем родилась, – ответила она, продолжая лезть вверх. Она повторяла эту фразу, когда я вела себя, как всезнайка. А дождь бы как раз пригодился: стояла засуха, самая сильная за последние годы. Нельзя было смывать, сходив по-маленькому. Склоны холмов пожелтели, сухая трава хрустела под ногами.
Мама забралась чуть выше кактуса и нагнулась к нему. Растение казалось не настоящим, а фантастическим, словно составленным из пластиковых частей, как кукла.
– Красный – знак опасности в природе, – сказала она, нагнувшись к ярко-красному плоду. – Он предупреждает: «Я ядовитый, не ешь меня».
Она обернула руку низом футболки, втянула живот, нагнулась, схватилась за плод и потянула. Он не оторвался так легко, как она ожидала.
Она принялась вращать его.
– Волокнистый, – крякнула она. – Не отходит.
Я хотела, чтобы она перестала: она вела себя как сумасшедшая, я ее ненавидела. Я все знала. Была полна предчувствий. Вокруг шипела трава.
Наконец плод оторвался, и мама спустилась с ним вниз, туда, где стояла я.
– Давай возьмем его домой и сварим, – предложила я.
– Я хочу съесть сейчас, – ответила она. – Если только получится содрать шкуру.
Используя футболку, чтобы защитить руку, она сняла кожицу и, стараясь не касаться ее, осторожно откусила мякоть сердцевины.
– М-м-м… вкусно. Интересный вкус. Хочешь?
– Нет, спасибо, – ответила я.
По дороге домой она принялась стонать.
– Мое горло, – сказала она. – Больно глотать.
Остановившись на светофоре, она привстала, разинула рот и стала разглядывать его в зеркале заднего вида. Несмотря на мою решимость не жалеть ее, я была в ужасе.
– А я говорила тебе подождать, – сказала я.
– Я знаю. Не могу говорить, Лиза, слишком больно, – должно быть, ей в горло впились тонюсенькие, прозрачные колючки с кожицы плода.
Когда мы вернулись домой, горло саднило. Она пошла достать одежду из сушилки и обнаружила, что из-за неосторожности ее любимая кофта из ангорской шерсти села.
– Черт, – сказала она. Кофта застегивалась на ряд жемчужных пуговиц. – Можешь забрать себе.
Мягкий трикотаж, цветочный узор на розовом поле – она пришлась мне как раз в пору, чуть ниже пупка и с рукавами до запястий, будто была связана для меня.
Следующие несколько дней перед очередной прогулкой с Дебби я старалась не носить севшую кофту: мне казалось, будто с ней я забрала что-то у мамы, будто это частица удачи, покинувшая ее и перешедшая ко мне.
Несколько дней спустя я зашла в мамину комнату и застала ее бросавшей три мелкие монетки на ковер рядом с книгой, ручкой и листком бумаги и заглядывавшей в Книгу перемен. Она сидела в углу, не включая свет. Был еще день, но в комнате стоял полумрак. Она согнулась, опершись локтем о колено и подперев лоб ладонью. Пряди волос, заправленные за ухо, падали на лицо.
– Что случилось? – спросила я.
– Я лишилась молодости.
Она снова бросила монетки, взглянула, начертила на бумаге какие-то линии, столбики которых покрывали почти весь лист, – тонкие, как лапки насекомых, – и зашелестела страницами небольшой книги.
– Но она у тебя была, – возразила я.
– Тебе хорошо, – сказала она. – Ты катаешься по городу и веселишься с Дебби. А у меня никого нет.
– Ты можешь пойти с нами, – ответила я, хотя знала: это не то, чего ей хотелось бы.
– Я хочу своих друзей, свою жизнь, – на слове «жизнь» она бросила монетки еще раз. Мы с ней не могли быть счастливы одновременно. Ее жажда жизни, веселья, опунции для меня была сигналом опасности. Я черпала счастье из ее ресурсов, мы как будто перетягивали канат. Когда длинный конец был у нее, мне ничего не оставалось, когда у меня – она сникала. Как будто душевных сил, богатства целого мира не хватало на нас обеих сразу.
– У тебя есть друзья, – сказала я.
Эти слова заставили ее всхлипнуть.
– У меня нет мужчины, мужа, парня, отношений. Ничего.
Воздух в комнате застыл.
– Но я люблю тебя, и я рядом.
– Я пытаюсь, но ничего не получается, – продолжила она, как будто не слышала. – Раньше у меня были такие красивые сильные руки, – теперь она плакала навзрыд, на губах показалась слюна, и она едва могла говорить. – И знаешь, что Фэй подарила мне на Рождество?
Она говорила о своей мачехе. Именно Джима и Фэй я звала дедушкой и бабушкой, потому что видела Вирджинию всего пару раз.
– Она подарила мне утюг, – сказала мама. – А знаешь, что она подарила Линде? – Линда была ее младшей сестрой, красоткой, той, кому достался набор красок. Теперь Линда управляла несколькими парикмахерскими сети «Суперкатс» и встречалась с физиком из НАСА, владельцем усов и джакузи.
– Ведерко для шампанского! – воскликнула она.
Я знала, что дело не в практической ценности подарков. Мы пользовались утюгом и гладильной доской, которая шла в комплекте, несколько лет. А Линда позже рассказала мне, что ведерко было не для шампанского, а для льда и она специально попросила его в подарок, как мама попросила утюг. Именно символическое значение подарка сделало его таким ужасным. Но все же мне хотелось, чтобы она сказала Фэй, что та ошиблась, попросила ее забрать подарок и подарить другой, который мама по правде хотела получить.
Она поднялась, вышла из комнаты, взяла со стола в гостиной ножницы для ткани, подошла к шкафу и стала яростно передвигать плечики, срывая с них рубашки и бросая в кучу.
– Не надо!
– Не указывай мне. Мне нечего носить. Нечего, – она схватила старую серую блузку и рванула с двух сторон; пуговицы расступились, обнажив изнанку.
– Этот вырез. Он просто ужасен. Ненавижу свою одежду, – она расплакалась, потом зарычала. Сделала надрез на краю футболки, потом схватилась за нее обеими руками и разорвала надвое, завывая от ярости.
Она поступала так с одеждой и раньше, когда злилась: обрезала воротники, укорачивала рукава и подолы, а потом никогда больше не надевала. Ей приходилось выбрасывать все это, и ее и без того скудный гардероб становился еще беднее.
Примерно в это время отец готовился с размахом отпраздновать свой тридцатый день рождения. Он пригласил и маму, поначалу она собиралась пойти, даже позвала с собой Дебби. Но чем ближе была дата торжества, тем сильнее становились ее сомнения. Она не могла позволить себе новое платье. И ей стыдно было появиться в обносках рядом с нарядно одетыми гостями, которые станут поздравлять его. Она отказалась в последнюю минуту, оставив ни с чем Дебби, вознамерившуюся найти на вечеринке мужа. Я ничего тогда не знала о вечеринке и замечала только, что мама все чаще предается меланхолии, постоянно занята мыслями о своем гардеробе и потерянной молодости.
Я знала, что ей в себе не нравится: лоб, бедра, зубы, морщинки над губой – и знала, что, по ее убеждению, из-за этих недостатков и старой одежды она никогда не получит то, чего хочет. На самом деле она была красавицей с высокими скулами, тонким носом. Она рассказала, что ее, Кэти и Линду в старших классах дразнили лобными сестрами, потому что у них был слишком высокий лоб, но мне он нравился – пустой и гладкий, как яичная скорлупа. Ее фигура походила на стан женщины с рисунка Родена, который я увидела годы спустя; та стояла лицом к зрителю, оглядываясь назад, и каждая деталь ее тела была женственной и удивительно пропорциональной: грудь, спина, ягодицы. Тонкая талия.
Тем вечером, готовя ужин, она мыла чечевицу, медленно перебирая ее подушечками пальцев и скорбно глядя на буроватую горсть, словно в тот момент от нее ускользало нечто бесценное.
* * *
Как-то раз, когда мы с Дебби возвращались домой поздним вечером, мама ждала нас у гаража. По ее виду я сразу поняла, что что-то не так: она стиснула зубы, нижняя часть лица была напряжена. Козырьком ладони она закрывала глаза от солнца, но я заметила, что она плакала.
Она заговорила, едва мы вышли из машины:
– Знаешь, мне это надоело. То, что ты считаешь себя лучше меня.
– Мам, – сказала я. – Перестань.
– Не вмешивайся, милая, – велела она.
Дебби, казавшаяся потрясенной несправедливым обвинением, попятилась обратно к машине.
– Не притворяйся, будто не знаешь, о чем я, – сказала мама.
– Я не… я никогда не… – запинаясь, пробормотала Дебби.
– Влезла в нашу жизнь и осуждаешь меня на глазах у дочери. Думаешь, ты такая идеальная, а на самом деле просто поверхностная, глупая, – сквозь зубы процедила она. В ее словах была доля правды, и оттого ее ярость казалась еще более пугающей.
– Хочешь, чтобы Лиза привыкла к тебе, пытаешься быть лучше матери. Это мерзко. Что ты о себе возомнила? Да это растление малолетней! – она перешла на крик. Ее лоб и губы сморщились, как фольга, зубы обнажились; Дебби, как громом пораженная, стуча слишком высокими каблуками и покачиваясь, отступила к двери машины.
Я боялась, что Дебби будет видеть во мне мою мать. Мне казалось, окружающие не различают нас и воспринимают как одного человека в двух телах.
– Мам, – позвала я.
– Тихо, Лиза, – сказала она.
От шока я впала в ступор, было тяжело говорить и двигаться. Я стыдилась матери. Какой страшной она была, когда орала, свирепая и всклокоченная. Скандал тем не кончился – он развивался, как две развязанные, а до того туго скрученные ленты: Дебби оправдывалась, мама наседала на нее, не переставая кричать. Дебби скользнула в машину, завела ее и уехала. Больше я Дебби не видела.
♦
Мама собиралась на первое свидание с Роном.
Он должен был заехать за ней, познакомиться со мной, а потом они вместе должны были отправиться на ранний ужин. Соседи были дома – на случай если мне что-нибудь понадобится. Я была достаточно взрослой – семь лет, – чтобы два часа посидеть одной, но детали были все еще на стадии обсуждения.
– А потом?
Предполагалось, что я лягу спать до ее возвращения.
– Возможно, он зайдет к нам, – ответила она.
Я заставила ее пообещать, что они не пойдут в ее комнату, и по какой-то причине она согласилась.
Увлекшись Роном, она перестала уделять мне столько внимания, сколько раньше. Не гадала больше на Книге перемен. От счастья она стала рассеянной, на губах играла та же полуулыбка, как когда она карабкалась на холм, чтобы сорвать опунцию.
Именно в промежутках между ее мужчинами – между одиночеством и отчаянием, которыми заканчивались одни отношения, и подъемом, которым начинались другие, – я и хотела остаться навсегда. Чтобы мы с ней были командой, единственными настоящими партнерами.
В тот вечер, на который было намечено свидание, Рон появился вовремя. Когда он постучал, мама наносила макияж, перегнувшись через раковину в ванной.
Я побежала открыть дверь. И сразу же поняла, что Рон не хиппи. У него была лысина с пучками волос, торчащими с обеих сторон, как у клоуна, и широкие кустистые брови, очки в золоченой оправе и раздутые рыбьи губы. Он выглядел чистым, от него пахло мылом и средством для стирки.
– Здравствуйте, – сказала я. – Я Лиза. Мама собирается.
– Приятно познакомиться, – ответил он, протягивая руку.
Он прошел за мной в гостиную; я заметила, что при ходьбе он сильно выворачивает носки наружу.
Мама крикнула из ванной:
– Мне нужна еще минута!
Проходя мимо книжной полки, я сняла с нее альбом с фотографиями моего рождения – я этого не планировала и сама себе удивилась. Моя рука потянулась к нему сама собой, будто я не могла контролировать свои конечности.
Я много раз просила маму избавиться от альбома, но она отказывалась и каждый раз, когда мы переезжали, брала его с собой. Обложка была плетеной, из коричневой соломки; она была такой старой, что стебли стали распускаться по краям. Для меня это было намеком на неприличное содержимое. Я подозревала, что у других детей дома нет таких постыдных вещей.
Мы с ним сели рядышком на цветочном диване.
– Хочу вам кое-что показать, – сказала я. – Наши с мамой фотографии.
Я уложила альбом на колени так, чтобы ему было видно. Мама, еще совсем молодая, лежала на кровати, длинные волосы собрались вокруг лица, словно темная вода в пруду. Это были фотографии моего рождения, черно-белые, с закругленными углами. На маме было нечто, походящее на мужскую рубашку, застегнутую на груди; ниже пояса она была голой. Ее согнутые и раздвинутые ноги – на переднем плане. Я перевернула страницу: вот и я – появилась между ее белых – пересвеченных – разведенных бедер, как черепаха, вынырнувшая из глубины озера.
На следующих фотографиях я уже вышла наружу, и можно было разглядеть мое сморщенное тело, восково-бледное лицо, асимметричное, сплюснутое.
Я чувствовала отвращение, отторжение, но продолжала переворачивать страницы. Я не знала, как это объяснить: мне хотелось, чтобы он почувствовал такое же отвращение, хотелось его отпугнуть. Показать ему, какие мы на самом деле, чтобы он не стал ждать и ушел сейчас.
– А вот еще, – сказала я нежнейшим голоском.
– Да, – ответил он. – Вижу.
Он даже не попытался подняться и сбежать, не шевельнулся. Вместо этого он сидел, поглядывая на снимки, а потом, словно в рассеянности, отвел глаза. Когда мама вышла из ванной и увидела нас, она выхватила альбом у меня из рук и поставила обратно на полку, наградив меня недобрым взглядом.
Повеселимся
♦
Одно из первых моих воспоминаний об отце связано с вечеринкой в честь дня его рождения, которую кто-то закатил в доме на Русской горке. Ему было тридцать с небольшим.
Свет в городе – если мы говорили «город», мы имели в виду Сан-Франциско – был другим: косым, желтым и более влажным, нежели в Пало-Алто. Дом был очень красивым: высоким, с мягкими шерстяными коврами, упиравшимися в стены, и самым большим телевизором, который я когда-либо видела. Почти всю лужайку на заднем дворе занимал батут, огромный, круглый, на высоких металлических ножках.
На батуте, в джинсах и фланелевой рубашке, стоял отец.
– Эй! Хочешь попрыгать? – спросил он меня.
Я подошла, и кто-то, не мама, поднял меня достаточно высоко, чтобы я дотянулась ногой до обтянутого тканью края батута и схватилась за него пальцами ног, как коала. Батут был размером с небольшой бассейн, свет отражался от его поверхности, словно она была масляной. Я думала, что мы с отцом будем прыгать, как меня учили на уроках физкультуры, но оказалось, что когда на батуте два человека, все по-другому: толкотня и рваный ритм. Несмотря на все мои усилия двигаться по своей собственной траектории, учитывающей траекторию отца, мы чуть не врезались друг в друга в воздухе. Его координация хромала, он не чувствовал, как нужно подпрыгивать и падать. А у батута не было сетчатых стенок: мы могли вылететь на траву, где стояли люди, или вообще перелететь через забор. Я была легче, поэтому, если кто и вылетел бы, то я. Или того хуже, я могла приземлиться на него. Мои желтые шорты раздувались при прыжках, и я боялась, что он и все стоящие внизу увидят мои трусы. Но если бы я стала придерживать шорты, я бы потеряла всякий контроль над своими движениями.
Я не чувствовала, как достигаю высшей точки, потому что внутри меня было тянущее ощущение, мне казалось, я все время падаю.
Дважды мы приземлились почти одновременно. Я молилась, чтобы мы не соприкоснулись: это была бы слишком большая степень близости. Я осознавала, что всякое случайное прикосновение казалось мне неловким на глазах незнакомцев. Отец посмотрел на меня в воздухе, улыбнулся.
Я – вниз, он – вверх; я – вверх, он – вниз. Кто-то из гостей сфотографировал нас с лужайки. Мы все прыгали, пока он не сказал:
– Ну, хватит, малыш. Закругляемся?
Я никогда раньше не слышала этого слова – «закругляться».
♦
История отца, какой мне рассказывала ее мама, была примерно такой.
Отца усыновили, и когда ему было двадцать с лишним, он занялся вдруг поисками настоящих родителей. Сперва его попытки не приносили результатов, пока наконец он не нашел доктора, принимавшего роды. Все это длилось так долго, что он решил: это будет последней потугой. Ничего не выйдет – так тому и быть. Значит, найти родителей ему не суждено.
Он встретился с доктором и спросил, как зовут его мать. Доктор ответил, что не знает, а если бы и знал, то не смог ему рассказать, потому что так нарушил бы врачебную тайну.
Выйдя из кабинета доктора, отец принял решение прекратить поиски. В тот же самый момент доктор вернулся в свое кресло и записал на листе бумаги: «После моей смерти, пожалуйста, сообщите Стиву Джобсу, что я действительно знаю его мать, ее зовут Джоан». Там же он упомянул, как с ней связаться.
Четыре часа спустя доктор умер от обширного инфаркта миокарда. Отец получил послание, нашел свою мать и узнал, что у него есть младшая сестра Мона.
Такую историю легко было рассказывать с нужными интонациями: сделать паузу, поведав, что отец решил бросить поиски, и понизить голос, когда обреченный доктор сел писать ту судьбоносную записку.
В районе моего восьмого дня рождения мы снова переехали, и отец стал заглядывать к нам раз или два в месяц. Его тогда выгнали из его же компании, Apple, и он тяжело это переносил – об этом я узнала позже, но уже в то время чувствовала в нем необъятную печаль, из-за которой его походка стала нелепой, а он сам держался замкнуто. Он создал новую компанию NeXT, производившую компьютерные комплектующие и программное обеспечение. Я знала, что он владеет также киностудией Pixar, работающей в жанре компьютерной анимации, и там создали короткий мультфильм о двух лампах, ребенке и родителе, но по сравнению с Apple и NeXT это казалось чем-то незначительным.
Позже мама говорила, что именно черная полоса в карьере побудила его повернуться к нам. Она разглядела закономерность: когда дела на работе шли неважно, когда отец терпел поражения в публичной сфере, он вспоминал обо мне, навещал и пытался построить со мной отношения. Как будто в вихре работы он забывал меня, а вспоминал только тогда, когда вихрь стихал.
Когда он приезжал, все вместе мы ходили кататься на роликах. Мама была с нами, потому что я едва его знала, и мне было бы неуютно с ним наедине. Его приход каждый раз был неожиданностью, и заурядный день превращался в особенный: шум мотора приближался, эхом отражаясь от деревянного забора и стен дома, по мере того как его автомобиль на медленном ходу крался по подъездной дорожке, и замолкал, когда отец останавливался у кустов рядом с калиткой, а воздух сгущался от предвкушения. Он ездил в черном кабриолете «Порше». Когда он глушил двигатель, жужжание переходило в тонкий писк, после чего автомобиль стихал, уступая место еще более глубокой тишине, прерываемой лишь птичьими вскриками.
– Привет, Стив! – говорила я.
– Привет, – откликался он.
Мне нравилась его походка, то, как он опирался всем весом на носки и кренился вперед, как будто падая и подставляя под себя ноги. Его силуэт был четким, резким.
Я с нетерпением ждала его приезда и никогда не знала, когда это случится в следующий раз, а после долго вспоминала о нем. Но все время – примерно час, – что мы проводили вместе, в моей голове царила пустота, как в воздухе после остановки мотора. Говорил он мало. Они с мамой разговаривали немного, но иногда надолго повисала длинная пауза, которую нарушал стук колес по асфальту, птицы, редкие автомобили, машины для уборки листьев.
Мы катались по улицам неподалеку от дома. Проходя через кроны деревьев над головой, свет падал на дорогу ажурными пятнами. Во дворах на кустах фуксий висели крупные цветы, тычинки под колоколами лепестков, будто дамы в бальных платьях и фиолетовых туфлях. Некоторые дороги изгибались вокруг столетних дубов. Кое-где на асфальте змеились трещины от корней и землетрясений, заполненные гудроном – блестящей черной смолой.
– Смотрите, в гудроне отражается небо, – сказала нам мама. И правда, трещины походили на голубые реки.
Когда мы катались на роликах с отцом, я чувствовала себя не так непринужденно, как когда мы были вдвоем с мамой.
У Стива были такие же роликовые коньки, как у мамы: бежевые, из нубука, с красными шнурками, перекрещивающимися между двумя рядами металлических креплений. Я ехала позади них или впереди. Мама рассказывала о колледже в Сан-Франциско, куда хотела поступить; отец спотыкался о трещины на тротуарах и проезжей части. Мне кататься было легко, как бегать или плавать. Задний тормоз на маминых коньках уже никуда не годился, а передний, похожий на ластик, совсем стерся. Чтобы остановиться, она делал несколько мелких шагов, лодыжка к лодыжке, а после катилась по прямой, медленно замедляясь, как Фред Астер. Тормоза отца казались совсем новыми.
– Ты умеешь пользоваться тормозами? – спросила я, когда мы подъезжали к знаку «стоп».
– Мне не нужны тормоза, – ответил отец. Чтобы остановиться, он поехал прямо на столб, ударился о него грудью, обхватил обеими руками и неуклюже завертелся вокруг него, переступая и спотыкаясь, пока наконец не остановился.
Когда мы проезжали мимо кустов в чужих дворах, он срывал пучки листьев, чтобы после бросить их на дорогу, по которой мы проезжали: за ним тянулся зеленый след, как в сказке о Гензель и Гретель.
Иногда я чувствовала на себе его взгляд, но когда смотрела на него в ответ, он отводил глаза.
После его ухода мы говорили о нем.
– Почему у него джинсы дырявые? – спрашивала я. Он мог бы их зашить. Я знала, что у него должны быть миллионы долларов. В разговоре мы называли его не просто миллионером, а мультимиллионером, потому что так было точнее и потому что знание таких тонкостей делало нас причастными.
– В школе у него иногда дырок на джинсах было больше, чем ткани, – отвечала мама. – Такой у него стиль. На нашем первом свидании мой отец спросил его, когда он за мной заехал: «Молодой человек, кем вы собираетесь стать, когда вырастете?» И знаешь, что он ответил?
– Что?
– Бомжом. Дедушке это совсем не понравилось. Он-то надеялся, что его дочь поведет на свидание подающий надежды молодой человек, а вместо этого получил патлатого хиппи, который заявляет, что хочет быть бомжом.
Она сказала, что отец шепелявит.
– Это как-то связано с его зубами, – сказала она. По ее словам, у большинства людей либо верхние зубы нависали над нижними, либо, наоборот, нижние находили на верхние.
– Но у него зубы сходятся ровно посередине, и за годы от ударов друг о друга на них остались трещины и щербинки, поэтому теперь они так плотно примыкают друг к другу, что между ними совсем нет пространства, как молния.
Еще в старшей школе, когда родители начали встречаться, еще до того как отец стал продавать голубые коробки, с помощью которых можно было бесплатно звонить по всему миру, он предсказал, что станет знаменитым.
– Откуда он знал?
– Просто знал. Еще он предсказал, что умрет молодым, когда ему будет немного за сорок.
Я не сомневалась, что раз первое предсказание сбылось, то и второе сбудется. Он стал казаться мне пророком, окруженным одиночеством и трагедией. (Лишь мы знали, как одинок был его путь, как трагичен!) Только свет и тьма, никаких полутонов.
– И у него странные, плоские ладони, – сказала она.
Каждая черта, отличающая его от других людей, казалась мне приметой чего-то божественного. Я придавала сверхъестественное значение его неуклюжей падающей походке, зубам-молнии, драным джинсам и плоским ладоням, как если бы этим они не только отличали его от других отцов, но и указывали на его превосходство. И теперь он снова присутствовал в моей жизни, пускай раз в месяц, а значит, я ждала не напрасно: мне повезло больше, чем детям, чьи отцы всегда были рядом.
– Он продолжал расти, когда ему было за двадцать, хотя большинство людей в этом возрасте уже не растут, – сказала мама. – Сама видела.
Конечно, некоторые детали плохо соотносились друг с другом. Он был богат, но носил дырявые джинсы; успешен, но мало говорил; знаменит, но казался замкнутым и обделенным; его фигура была грациозна, но сам он – неуклюж; он изобрел компьютер и назвал его моим именем, но как будто совсем меня не замечал и никогда не говорил об этом. И все же я видела, как все эти противоречивые черты, повернутые под определенным углом, могут быть частью одного целого.
– Я слышала, как только на нем появляется царапина, он тут же покупает новый, – как-то сказала мама Рону при мне.
– Что новый? – спросила я.
– «Порше».
– Разве нельзя просто закрасить царапину? – спросила я.
– С машиной так не получится, – ответил Рон. – Нельзя просто положить черную краску поверх черного, все равно будет заметно. Существуют тысячи оттенков черного. Нужно перекрашивать всю машину целиком.
Когда в следующий раз приехал отец, я задумалась, та ли это машина, на которой он был в прошлый раз, или новая, точно такая же.
♦
Однажды он приехал не один. С ним была хорошенькая миниатюрная девушка в джинсах, с рыжими волосами, спускающимися чуть ниже подбородка, большими синими глазами и большим ртом; когда она улыбалась, рот занимал половину лица – это была приятная улыбка.
– Это моя сестра, – представил ее отец. Она оказалась писательницей Моной Симпсон. Биологические родители отца поженились, до того отдав сына на усыновление, и несколько лет спустя у них родилась дочь, которую они решили оставить. Отец с сестрой быстро и легко сошлись, стали не разлей вода, хотя они совсем недавно узнали друг о друге. Только что вышла ее первая книга «Где угодно, только не здесь», несколько недель не покидавшая список бестселлеров, и впоследствии по ней даже сняли фильм со Сьюзан Сарандон и Натали Портман. Я прочла ее, когда мне было двенадцать, – это прекрасная книга. Стив с Моной были совсем не похожи: высокий и миниатюрная, темный и светлая, мужчина и женщина, – и невозможно было определить, что это брат и сестра, пока они не улыбнутся: их лица одинаково открывались и складывались. И губы были похожи, и широкие зубы.
То, что сестру отца звали Моной, показалось мне поразительным совпадением. Ну каковы были шансы, что ее имя будет так хорошо сочетаться с моим, что вместе из них получится название самой знаменитой картины в мире?
Они оба стали по-своему успешны, не зная о существовании друг друга. Оба они были наделены чувством прекрасного: отец покупал дорогие лампы, ковры и книги, а Мона обходила блошиные рынки в поисках старинных ртутных лампочек, деревянных фигурок, тарелок с узором из цветов магнолии, стаканов с посеребренным краем.
Впоследствии именно Мона настояла, чтобы отец снял нам дом получше, чем тот крошечный на Мелвилл-авеню, где мы жили; это она заставила его сменить ковры и перекрасить стены в комнатах в его доме в Вудсайде, где спал он и спала я, когда оставалась у него, и позаботилась о том, чтобы моей спальней была не та с красным мохнатым ковром, откуда можно было попасть в ванную только через его спальню, а комната рядом с ванной. Она купила мне кровать, а впоследствии пыталась уговорить его купить нам с мамой дом. Она поддерживала мамины творческие начинания и с таким пристальным вниманием относилась к подробностям моей жизни, что они казались значительнее. Когда нас навещала Мона, она вносила оживление по части еды, одежды, украшений. Находила хорошие рестораны, места, где подавали лучшие пироги. Она носила одни и те же серьги, всегда; они походили на тягучую золотую каплю – слева и справа – и опускались ниже линии челюсти.
Мону тоже в одиночку вырастила мать, потому что отец ушел из семьи. Из историй, которые по моему настоянию она рассказывала, выходило, что ее мать была не совсем здоровой: однажды она купила подарки на Рождество детям своего бойфренда, а Моне – нет, как-то раз заставила Мону заказать в ресторане стейк, хотя у них не было на это денег. Ее рассказы вызывали у меня трепет, подобный тому, который испытываешь, глядя вниз с отвесной скалы: опасность близка, но в то же самое время ты в безопасности. Мона приняла во мне участие: она подмечала то, что мне нравится, рассуждала об этом и считала меня мудрой, подарила мне первый подарок – «Книгу тысячи и одной ночи».
Она приглядывалась ко мне, будто мое лицо казалось ей особенно интересным; иногда она не спускала с меня глаз, даже когда была занята разговором с другими взрослыми. Однажды в ресторане я разрисовала салфетку, уложенную под мои тарелку и приборы, и она объявила мои каракули шедевром, забрала с собой, поместила в рамку и повесила в своей квартире в Нью-Йорке.
Я стала такой же миниатюрной, как Мона, такого же роста; так же, как и она, я изучала в университете английскую литературу и сочиняла.
Как-то она целый год раз в неделю писала мне длинные письма на толстой бумаге коричневатыми чернилами. Дарила взрослые подарки: длинные и тонкие серебряные сережки, томик рассказов Чехова в обложке пастельных тонов, золотое кольцо с аметистом от «Тиффани».
Эти подарки были окном в более утонченный мир, в котором, как я надеялась, я когда-нибудь займу свое место. Мона пережила, перетерпела свое детство и стала успешной: подарки были тому доказательством.
Когда я оканчивала школу, вышла ее вторая книга. Перед публикацией Мона прислала мне переплетенные гранки и спросила мое мнение о романе, что бы я в нем изменила. Я была польщена, но когда приступила к чтению, с удивлением обнаружила на страницах персонажей, как две капли воды похожих на моего отца, мать, меня. Моего персонажа звали Джейн. Я понятия не имела, что она пишет о нас. Мона собрала детали моей жизни и поместила в книгу: например, старинную китайскую эмалированную коробочку для пилюль, которую она мне подарила, с хризантемами и пестрыми птицами на голубом поле. Некоторые места она выдумала, и комбинация правды и вымысла сбивала с толку. Поначалу мне неприятно было видеть свои вещи на страницах книги: от ощущения, что она таким образом забирала подарки назад. И все же когда я читала романы Моны, меня охватывало желание сочинять самой.
– О настоящих семьях пишут в романах, – сказала она. – Писатели используют детали из реальной жизни.
Мы были в кафе «Верона», куда пришли поговорить об этом. Узнав, что я расстроилась, прочитав гранки, она на следующий же день прилетела в Пало-Алто из Лос-Анжелеса, чтобы все обсудить лично.
– Так делают все писатели. Я не хотела тебя расстроить. Никоим образом.
Читая ее книгу, я чувствовала, что теперь мне не о чем будет писать. Чувствовала себя опустошенной. Джейн не нравились суши из-за ощущения, что у нее на языке еще один язык. Описания моего героя привели меня в мрачное настроение: мне казалось, что теперь, когда она так хорошо обо всем рассказала, они принадлежат ей, а не мне.
– Почему ты не сказала мне сразу, как прочла? – спросила она. – Я бы изменила детали, или подождала, или вообще бы не стала публиковать текст.
Но в мои восемнадцать я и представить не решалась, что могу указывать ей, что делать с ее романом.
И вот книга была уже почти на полках.
К тому же я бросила читать на середине. И даже не знала, что случится с моим персонажем в конце.
– Ты не закончила? – спросила она. – Тебе понравится то, что случится с Джейн.
– Может быть, – ответила я.
– Возможно, когда-нибудь ты упомянешь о моей книге в своей собственной, – сказала она, поразив меня идеей, что в одной книге может быть отсылка к другой, как в матрешке, и что об одних и тех же людях в одно и то же время можно написать сколько угодно книг.
В конце романа Джейн, одетая в школьную форму, вбегает в класс вместе с другими детьми. Она наконец-то нашла свое место.
♦
Рон считал мою частною школу элитарной, с невысокими академическими стандартами, и ему удалось убедить в этом мою мать, поэтому мы переехали, чтобы я могла ходить в государственную школу в Объединенном школьном округе Пало-Алто.
Наша новая квартира, прячущаяся позади чужого дома, была вполовину меньше нашего прежнего домика, но в ней было столько же комнат. Она была похожа на игрушечную. Заново отполированный и покрытый лаком к нашему прибытию деревянный пол, желтый, как солома, блестел, будто его только что вымыли. Все наши прежние жилища были от стены до стены застелены коврами, и радость мамы по поводу пола удивила меня. Она собрала и установила в моей новой спальне кровать из трубок.
Однажды вечером, вскоре после переезда, она взяла в кинопрокате «Отчаянно ищу Сьюзен», чтобы посмотреть на нашем новом телевизоре. Мне смотреть не разрешалось. Раньше у нас не было телевизора. После того как она уложила меня спать, я осторожно, чтобы не потревожить скрипучие пружины, перевернулась головой туда, где обычно лежали ноги. В таком положении я смогла приоткрыть дверь и стала смотреть сквозь щелку, из-за спинки маминого дивана на экран.
В фильме была женщина в висящей лоскутами черной одежде, со связкой бус на шее и волосами, торчащими в разные стороны, как шипы. Чем дольше я смотрела, тем увереннее была в том, что хочу быть такой же, как она.
Мама резко обернулась и увидела, что я подглядываю.
– Так и знала, – сказала она. – Быстро спать.
Она подошла и захлопнула дверь.
Несколько дней спустя я нашла картинку в журнале – возможно, рекламу джинсов Guess или Jordache. Она изображала женщину в прыжке, у нее были короткие взъерошенные, возможно, мокрые волосы. Она взлетела высоко над темным асфальтом, грациозно вытянув носки ног: идеальный шпагат в воздухе. На ней были протертые джинсы и футболка. Мне захотелось быть и этой девушкой тоже.
* * *
Мы с мамой были на кухне, когда в гости зашел Рон. Кухонный уголок был как раз напротив входной двери; едва ступив на порог, он вынул фотоаппарат и прицелился.
– Не шевелитесь, – сказал он, спуская затвор. – Вот так хорошо.
У нас фотоаппарата не было.
Сначала снимки были живыми, но потом он заставил нас позировать. Щелк, щелк, щелк… Я чувствовала, как на моем лице стынет улыбка.
В общении со мной и мамой Рон часто бывал слишком настойчив – как говорила мама, «заходил слишком далеко», – как будто только многократно повторяя одно и то же, мог добиться, чтобы его заметили.
Я знала, что Рон добрый. Он подарил нам с мамой золотые украшения на цепочке, ее – шире и толще моего: два ряда сочлененных звеньев, встречающиеся посередине в виде елочки. Только из-за того, что он не умел вовремя остановиться и не слушал, когда мы просили его перестать, мы раздражались и отталкивали его. И тогда на кухне мы с мамой объединились против его суетливой настойчивости. Наградили его надменным взглядом. Он включил вспышку.
– Рон, перестань, – сказала мама. – Хватит, хорошо?
Она убежала в ванную, я нырнула за стену.
– Девчонки, ну вернитесь, – позвал он. – Еще пара снимков.
Когда Рон не оставался на ночь, я спала с мамой в ее кровати, это нравилось мне больше, чем спать одной.
– Почему ты его не бросишь? – спросила я на следующий день.
– Может быть, и брошу, – ответила она.
Рон принес отпечатанные фото в бумажном конверте. Едва он вошел, мама выхватила у него конверт, уселась на диван и принялась за фотографии. Я тоже пыталась взглянуть, пытался и Рон, но она согнулась над стопкой снимков и не подпускала нас, пока перебирала, выдергивала те, что ей не нравились, и прятала их под ногу.
Она была уверена, что фотографии отражают взгляд фотографа: если на фото она выглядела хорошо, интересно, это означало, что Рон видит ее красоту и даже ее душу, и напротив, неудачные снимки доказывали, что он не видит, не ценит и не любит ее.
– Дай посмотреть, – попросила я, протягивая руку, пытаясь вытащить фотографии из-под ее ноги, но было поздно: она разорвала их пополам.
Мама повернулась, пожала плечами, склонила голову и подняла брови, как бы признавая, что мы имеем право сердиться, но в то же время глядя надменно, как бывало всегда, когда она рвала свои фотографии.
Я злилась, когда она так делала. Я начинала судить ее строже. Замечала, что она ходит, выворачивая ноги носками внутрь, обращала внимание на шероховатые, даже острые, будто лезвия, желтые мозоли на мизинцах, появившиеся из-за тесных туфель. Она добавляла в салаты хлопья пивных дрожжей, и они пахли пыльными комнатами. Корочки ее пирогов всегда проваливались, потому что она торопилась вынуть их из духовки. Когда-то мне нравилось, как подпрыгивает кончик ее носа, когда она жует; я сидела у нее на коленях, слушала звук, который она при этом издает, и он напоминал мне звук косы, сбривающей траву. Но теперь и движение кончика носа, и этот звук казались неправильными и странными. Из-за всего этого, думала я, она и встречается только с такими, как Рон, а не с моим отцом. Я стала считать, что в этом была ее вина: она была недостаточно красивой и оттого нелюбимой, недостойной любви – и это могло передаться мне.
♦
Все корпуса моей новой школы были одноэтажными, в испанском стиле, с оштукатуренными грязными стенами, с дворами и арками. Из класса в класс вели крытые галереи, вымощенные сверкающей плиткой и открытые всем ветрам. В дождливые дни вода заливала дворы и огороженное забором поле позади школы. Наша учительница, мисс Джонсон, была совсем молодой, преподавала первый год. Ровно подстриженные белокурые волосы обрамляли ее лицо, челка выгибалась ко лбу аккуратной дугой. Когда она улыбалась, на щеках внизу появлялись круглые подушечки, как будто она держала во рту что-то вкусное.
Я не знала наизусть клятву верности американскому флагу; когда в первый раз весь класс встал, чтобы ее произнести, я только шевелила губами. Одна девочка осталась на месте. Было похоже, что она осталась сидеть намеренно, не просто забыла встать.
– Я свидетельница Иеговы, – сказала она.
В следующий раз я тоже осталась сидеть.
– Почему ты не встаешь, чтобы прочитать клятву? – спросила мисс Джонсон.
– Я буддистка, – ответила я. По словам мамы, они с отцом исповедовали эту религию.
– О, – только и сказала мисс Джонсон и больше меня не спрашивала.
– Не только родители выбирают детей, – сказала мама. Я была уверена, что она почерпнула это из буддизма. – Говорят, дети тоже выбирают родителей. До рождения.
Я попыталась критически оценить свой выбор: отец – поблескивает издали, словно осколок зеркала, мать – рядом и всегда готова прийти на помощь. Я подумала, что если действительно сама выбрала родителей, то, пожалуй, выбрала бы их и во второй раз.
В школе мне нельзя было говорить об отце.
– Тебя могут похитить, – сказал Рон.
Когда мама сама была в моем возрасте, девочку из ее школы схватили и увезли в белом фургоне без окон, связанную по рукам и ногам. Но за городом похитители остановились на заправке, девочке удалось открыть дверь и сбежать. Я смутно понимала, что из-за отца меня могут похитить, но поскольку он никак не участвовал в моей повседневной жизни, этот сценарий казался слишком надуманным и киношным.
По настоянию Рона мы с мамой пошли в полицейский участок, где у меня сняли отпечатки пальцев. Какой-то человек окунул мой палец в густую черную жидкость и прижал к бумаге целиком, от одного края ногтя до другого; было немного больно, когда он хватал мои маленькие детские пальцы и перекатывал их, оставляя на бумаге уникальный, по словам мамы, узор из завитков. «Они называются папиллярными линиями», – сказала она. И показала, что ее завиваются строго по окружности, как топографическая карта холмов.
– У меня есть секрет, – сказала я новым друзьям в школе. Сказала вполголоса, чтобы произвести впечатление, будто не хочу рассказывать. Я чувствовала, что главный секрет в том, что нужно преуменьшить значимость. – Мой отец – Стив Джобс.
– А кто это? – спросили они.
– Он знаменитость, – ответила я. – Он изобрел персональный компьютер. Живет в особняке, ездит в кабриолете «Порше». И покупает новый каждый раз, как старый поцарапается.
Даже для моих собственных ушей эта история прозвучала неправдоподобно. Мы не так часто виделись, всего несколько раз покатались на роликах. У меня не было ни хорошей одежды, ни велосипеда, которые могли бы быть у ребенка с таким отцом. И фамилия у меня была другая.
– Он даже назвал в честь меня компьютер, – сказала я им.
– Какой компьютер? – спросила девочка по имени Элизабет.
– «Лиза», – ответила я.
– Компьютер с названием «Лиза»? – переспросила она. – Никогда о таком не слышала.
– Он опередил свое время, – я использовала мамины слова, хотя не совсем понимала, почему он его опередил. – А персональный компьютер он изобрел позже. Но вам нельзя об этом рассказывать, потому что, если кто-нибудь узнает, меня могут похитить.
Я упоминала об этом каждый раз, когда чувствовала потребность, оттягивала момент сколько могла, а потом позволяла признанию выплеснуться из меня. Не припомню, чтобы я чувствовала себя ущербной по сравнению с друзьями, у которых отцы были, просто на кончиках пальцев у меня таилось магическое альтер эго, нечто неявное, скрытое, и когда я чувствовала себя незначительной, оно начинало зудеть и покалывать, внутри словно нарастало напряжение, и тогда я искала повод поговорить об этом.
Еще я как-то услышала, что журнал Playboy назвал его самым сексуальным мужчиной года. Этим я хвалилась выборочно, потому что не знала, правда ли это и что именно это означает. Насколько мне было известно, есть Playboy, а есть Playgirl, и я точно не знала, говорилось ли о нем в журнале с обнаженными женщинами для мужчин или его фотография появилась на страницах журнала с обнаженными мужчинами для женщин. Я решила, что отец мог появиться обнаженным в Playboy, и от этой мысли у меня были мурашки по коже; мне казалось, если я смогу просто принять этот факт, это будет значить, что я взрослею.
Одна девочка в школе, Кирстен, стала ходить за мной по пятам, припевая:
– Твой папа – Стив Джобс, твой папа – Стив Джобс.
– Перестань, – сказала я.
Но она не перестала. Иногда она повторяла это насмешливо, а иногда монотонно, как робот. Меня это раздражало, но ее приставания играли мне на руку, ведь она объявляла во всеуслышание именно то, о чем мне хотелось рассказать всем. Она привлекала ко мне внимание, а я при этом выглядела невинной, даже жертвой.
– Что не так с этой девочкой? – спросила мама, когда я ей рассказала. – Наверняка, это ее родители, уж им-то есть дело. Интересно, как она узнала?
Я объяснила, что, возможно, сама сказала ей – случайно.
– Это ты ей сказала?
– С языка соскочило, – я сжалась, ожидая гнева, но она не рассердилась, а только пришла в замешательство.
– В таком случае это еще более глупо, – сказала она. – Ты сама рассказала ей, а теперь она ходит за тобой и сообщает тебе об этом? Скажи, пусть перестанет. Какая странная девочка.
* * *
Как-то раз отец приехал покататься на роликах и привез с собой шесть наклеек с логотипом его компании NeXT. Они были прекрасны: большие, плотные, из прозрачного пластика. На них были напечатаны черный куб и яркие разноцветные буквы.
– Можешь подарить друзьям в школе, – сказал он.
Я была в нетерпении: когда я их раздам, все поймут, что я его не выдумала.
Примерно тогда же я угадала количество кукурузных зернышек в банке, когда мы играли в игру, которую мисс Джонсон звала «контрольным угадыванием». Уже второй раз подряд я угадала правильное количество, ошибившись всего на несколько зернышек, хотя я просто писала числа, которые не могла назвать словами, потому что не понимала принципа, согласно которому они организованы. Когда мама приехала за мной, они с мисс Джонсон посмотрели на меня с любопытством, как будто я была нераспознанным гением. Спустя неделю написанное мной стихотворение выбрали для публикации в еженедельной школьной газете.
Пилигримы такие важные, Пилигримы такие отважные. Приплыли сюда на большом корабле, И стали гостями на этой земле.Судьба наконец-то улыбалась мне: я превращалась в ту девочку, какой хотела быть – знаменитую, как отец, и успешную.
Вскоре после того отец привез нам компьютер «Макинтош». Он достал коробку с заднего сидения, отнес в мою комнату и поставил на пол.
– Посмотрим, – сказал он. – Как же она открывается?
Как будто не знал. Я усомнилась, действительно ли он его изобрел.
В комнате была только моя кровать-чердак на ярком деревянном полу. Окна отбрасывали на него параллелограммы света, в воздухе искрилась пыль.
Отец вытащил компьютер из коробки за ручку и поставил на пол рядом с розеткой.
– Думаю, сначала нужно включить его в сеть, – он держал провод так, будто видел его в первый раз.
Потом отец уселся на пол, скрестив ноги. Я опустилась на колени рядом с ним. Он поискал кнопку включения, нашел, и на экране ожившей машины появился улыбающийся компьютер, точь-в-точь такой же, как включенный в розетку прототип. Отец показал мне, как рисовать на нем и сохранять картинки на рабочем столе, а потом ушел.
Он ничего не сказал о другом своем компьютере, «Лизе». Я беспокоилась, что на самом деле он не называл его в мою честь, что это была ошибка.
– Хочешь понравиться одноклассникам? Скажи, что была в НАСА и играла на авиасимуляторах. Они обзавидуются, – сказал Рон.
Он работал инженером в Исследовательском центре Эймса при НАСА, поэтому мог провести нас внутрь. Он говорил об этом несколько месяцев, и в конце концов мы все-таки поехали туда одним знойным днем: солнце палило нещадно и белые камни у тонированных стеклянных дверей излучали жар. Рон сфотографировал меня под табличкой «НАСА», потом еще раз в холле возле стойки и еще раз возле двери в помещение с симуляторами. Мне недавно сделали новую стрижку – карэ точно до подбородка – в «Суперкатс», где у нас была скидка, потому что тетя Линда работала там управляющей.
Симуляторы не работали.
– Черт, – сказал Рон. – Именно в тот день, когда мы пришли. Ну что за глупое совпадение, а?
Изнутри симулятор больше походил на офис, чем на самолет. Там были желтые и синие рычаги рядом с приборной панелью. Экраны были выключены.
– Эти симуляторы просто потрясающие, ты как будто летишь, – сказал он. Когда он говорил об этом, я гадала: действительно ли это похоже на полет, с ветром? и если я врежусь во что-нибудь на авиасимуляторе, почувствую ли я, что падаю?
– Смотри на экран и притворись, что сосредоточена, – сказал он, поднимая фотоаппарат, делая фотографию за фотографией. – И потяни вниз рычаг. Да, вот так. Можешь сказать друзьям в школе, что экраны кажутся черными из-за вспышки.
Он повел меня обедать в заведение, где были белые скатерти и воду наливали из серебряных графинов в винные бокалы. Извинился за то, что не работали симуляторы и что пришлось огорчить меня. Я сказала, что все в порядке.
Тем вечером я написала в дневнике, что люблю своего папу.
Потом пояснила: не Рона. Стива Джобса.
Под именем Стива Джобса я подписала: «Люблю его! Люблю его! Люблю его!» Мне казалось, сердце вот-вот разорвется у меня в груди.
♦
Мама поступила на бакалавриат в Калифорнийский колледж искусств и ремесел в Сан-Франциско. Отец предложил забирать меня к себе по средам – только в эти дни у нее были вечерние занятия. Мне предстояло впервые провести время наедине с ним. Мы должны были остаться на ночь в его особняке с сияющим белым фасадом на 283 сотках земли.
В первую среду во время уроков я трепетала от воодушевления и ощущения нереальности происходящего. Моя новая учительница в четвертом классе, миссис Китсман, сидела за учительским столом и, когда была расстроена нашим поведением, без конца крутила золотое кольцо на пальце, такое тесное, что кожа закручивалась вместе с кольцом. После занятий, едва прозвенел звонок, я выбежала из школы, оглядываясь в поисках белой «Хонды Цивик», на которой, как мне сказали, за мной должна заехать Барбара, секретарь отца.
Ее машина стояла перед школой. Она наклонилась и опустила окно.
– Лиза?
– Барбара?
– Это я, – ответила она, отпирая переднюю дверь со стороны пассажирского сиденья.
Она отвезла меня в офис отца. Я обратила внимание на ее руку, лежавшую на рычаге переключения передач: на ногтях был красный лак. Она была в длинной юбке и блузке с воротником-бантом. Ее прямые каштановые волосы, длиной почти до плеч, падали блестящей волной. Барбара носила очки. Мне нравилось находиться рядом с ней; позже я поняла, что это относится ко всем людям, что работали с отцом в те годы, когда я росла. Они были мягкими и добрыми, с ними я зачастую чувствовала себя свободнее, чем с отцом. Они казались скромными и душевными; мне кажется, он восхищался этими качествами, потому и выбирал их, хотя сам далеко не всегда был таким. В Барбаре ощущалось что-то материнское, спокойное и зрелое, хотя, судя по внешности, она не могла быть намного старше моей матери.
Я сидела на покрытом ковролином полу посреди огромной комнаты с приземистыми диванами, большими бетонными колоннами, крашеными в белый, каким-то растением. Вдоль внешней стены тянулись кабинеты с окнами от пола до потолка. Пахло новыми тканями и свежей краской. Барбара принесла мне бумагу и цветные ручки. Через распахнутое перед моим взглядом пространство я смотрела на кабинет отца – такой же по размерам, как остальные, дверь открыта настежь. Я слышала, как он говорит по телефону. Люди заходили к нему, обменивались с ним репликами, выходили, останавливались возле меня, здоровались и разглядывали мои рисунки. Отца за столом не было видно, потому что стену из стекла, обращенную ко мне, закрывали жалюзи. Зато его было слышно. Иногда он выходил из кабинета, улыбался и махал мне. Я думала, что мы собираемся домой, но он каждый раз возвращался обратно. Во всех кабинетах были белые доски, на которых пишут маркерами. Беседуя с кем-то, он говорил громко и быстро. С наступлением темноты его кабинет и несколько других на той же линии стали светиться ярче.
– Хочу тебе кое-что показать, – сказал он как-то, подходя ко мне. – Оставь рюкзак здесь.
Мы спустились по лестнице: он впереди, я сзади. Прошли мимо доски с именами, фотографиями и числами рядом с ними.
– Другие компании скрывают, кто сколько зарабатывает, это большой секрет, – сказал он. – А мы пишем здесь, у всех на виду. Так мы избегаем глупых сплетен.
Я зашла за ним в кабинет на подвальном этаже с низким потолком, множеством столов и компьютеров, среди которых находилось всего несколько человек. Большинство, наверное, уже ушли домой. Он представил меня как свою дочь, потом они стали быстро разговаривать друг с другом, и я не могла понять, о чем была речь.
– Посмотри на это, – сказал он мне, показывая на компьютер с большим экраном. – И здесь то же, и здесь. У них на конвейере, похоже, работает слепой карлик, – он показывал на логотипы Sun Microsystems на больших мониторах, все они размещались в разных местах на панели под экраном.
Его голос звучал очень сердито, и я поинтересовалась, зачем они вообще их купили.
– Они нужны нам, чтобы делать наши компьютеры, – ответил он. Значит, компьютеры делают компьютеры, подумала я.
После этого мы попрощались и поднялись обратно.
Я подумала, что теперь-то мы уж поедем домой, но он снова оставил меня там, где лежал мой школьный рюкзак, и вернулся в свой кабинет. Вскоре он вновь заговорил по телефону.
– Ну что, дружище, готова?
Уже наступила ночь. Барбара ушла; перед тем как попрощаться, она присела рядом со мной, прижав сумочку к коленям, чтобы расспросить о моих рисунках. У меня слегка кружилась голова от фанты: в холодильнике ее было сколько угодно.
Предстоящая ночная поездка с отцом наедине к его большому дому меня беспокоила. До этого мне не приходило в голову, что с наступлением темноты мы можем оказаться не дома, а далеко от него.
Городок Вудсайд в 20 минутах езды от Пало-Алто был окружен лесами и населен людьми, которые держали лошадей. Отец жил в особняке, стоявшем на огромном участке земли – в семь акров.
Само словосочетание – семь акров – было просторным и величественным, гораздо более величественным, чем все, что я знала.
Это был дом в испанском стиле с оштукатуренными и выкрашенными в белый стенами, старыми металлическими воротами – переброшенный наружу цепной замок приходилось открывать вручную – и флагштоком без флага. Комнаты большие, темные и пустые с огромными окнами по обеим сторонам, которые тем не менее пропускали мало света. Все это запомнилось мне с того раза, как мы приезжали сюда с мамой днем, несколько лет назад, когда отец только купил его.
В этот раз он велел взять с собой купальник, на всякий случай, но воспоминание о темном бассейне посреди заросшего поля пугало меня. Он и сейчас полон мертвых букашек и лягушек?
Вместе со страхом я чувствовала и нечто иное, некое восторженное предвкушение того, что сегодня (когда именно, предугадать было сложно) он скажет: «А теперь время повеселиться», – и мы спустимся по широкой лестнице, вдыхая химический запах новых ковров, выйдем на сладко пахнущий ночной воздух, сядем в машину, она затарахтит, загрохочет по дороге, и мы поедем, впервые в жизни оставшись только вдвоем, в его особняк на семи акрах земли.
Мы ехали с опущенным верхом, горячий воздух обдувал нас через решетки на передней панели. Когда мы тронулись в путь, я подумала: «Вот я здесь, с отцом, и все только начинается. Меня зовут Лиза, у меня есть отец, и мы едем между темными холмами, под порывами ветра, доносящими аромат сухой травы». Я рассказывала себе свою историю. Я не знала, какой будет она, но знала, что впереди меня что-то ждет. Возможно, что-то значительное.
Я была слишком напугана, чтобы говорить. В мире и внутри автомобиля легла кромешная тьма, светилась только приборная панель: круглые датчики со стрелками были симпатичнее, чем в других машинах, в которых мне доводилось ездить. Их движения были четкими, они выглядели ярче, белее тех, что я видела раньше. Езда ощущалась тяжело и легко одновременно: я чувствовала тяжесть под собой, сцепление с дорогой, но в то же время мы неслись вперед, набирая скорость, и машина ничуть не сопротивлялась.
Он включил музыку, громко, и заиграла A Hard Day’s Night. Снаружи проносились потоки прохладного воздуха, смешиваясь с теплом из обогревателя. С помощью бокового рычага я подняла спинку вертикально и придвинула сиденье как можно ближе к приборной панели. Снизу я чувствовала жар. На кожаной обивке были крошечные дырочки – наверное, он шел оттуда.
Мы ехали по шоссе 280, по Санд-Хилл-роуд, потом среди темных холмов, и вокруг был только запах трав, вдали – полоса деревьев, соприкасающаяся с ярким ночным небом. Отец не разговаривал со мной и не смотрел на меня. Мне сложно было придумать, что сказать. Хотелось, чтобы мы с ним сразу же стали близки, чтобы я почувствовала себя рядом с ним так, как другие дети, по моим представлениям, чувствуют себя с отцами; хотелось оживленных разговоров, вопросов, внимания. Я так долго ждала, а теперь, когда мы наконец-то были вместе, казалось, что уже слишком поздно.
Сосредоточенный и молчаливый, отец сидел рядом, и мне казалось, я растворяюсь. Я постепенно исчезала. Легко подмечала все его черты, но определить свое место в пространстве становилось все сложнее.
Я смотрела на его руки, лежавшие на руле: на первой фаланге изящных пальцев, сразу за костяшками росли тонкие черные волоски. Ногти на больших пальцах были широкими. Как и я, он грыз ногти и кожу вокруг них. Отец то и дело сжимал и разжимал зубы, отчего по коже пробегала рябь, как на поверхности воды от проплывающей под ней рыбы.
Я втянула ртом воздух и сглотнула, беспокоясь, что мой голос прозвучит пискляво, если я надумаю заговорить, или что он не ответит – и это было вполне возможно. Меня переполняло то, что я могла бы рассказать, спроси он меня: как я назвалась буддисткой, чтобы не читать клятву верности флагу; как миссис Китсман крутит кольцо; как мама разрешила мне порулить на крутых холмах в Портола-Вэлли, когда мне было шесть лет; как я угадала количество кукурузных зернышек в банке; как я училась прыгать, словно та девушка из журнала; как, будучи помладше, делала стойку на голове прямо на земле, пока мама ждала своей очереди в банке или разглядывала картины в музее, а потом легко, одним движением принимала вертикальное положение. Момент был слишком хрупким для таких историй. Я боялась его разрушить.
– Как прошел твой день? – наконец спросила я. Мои руки тряслись, из самой глубины к горлу подкатывала тошнота. (Что будет на ужин? Что он ел на обед?)
– Хорошо, спасибо, – ответил он. И даже не взглянул на меня. Снова погрузился в молчание и не поворачивался ко мне до самого конца поездки.
Этого было недостаточно.
Этого было недостаточно!
На мгновение луч от фар высветил крону узловатых дубовых ветвей над дорогой, которые снова погрузились во мрак, когда мы миновали их.
По встречной вниз, с холма, катилась одинокая машина. Отец передвинул рычажок возле руля, тот щелкнул, и свет фар потускнел. Когда мы разъехались, он снова щелкнул переключателем, и лес осветился вновь. Я никогда раньше не замечала, чтобы кто-нибудь отключал дальний свет ради встречной машины, и почувствовала вспышку нежности к нему, потрясенная его утонченностью. (На следующий день, когда я рассказала об этом маме, та ответила, что все так делают: все оставляют только ближний свет, если в темноте навстречу кто-то едет.)
Мы повернули на Маунтин-Хоум-роуд, потом на дорогу с белыми столбиками по обеим сторонам, потрескавшимися и покосившимися, серебрившимися в темноте. И вот наконец показался дом: сначала флагшток, потом ворота, а потом и белеющий фасад.
Во дворе стояли теперь две деревянные кадки, каждая размером с небольшой автомобиль, из них торчали гигантские деревья, формой напоминавшие бонсай – росший под углом ствол венчало облачко листвы, похожее на губку. Я прошла за ним к главному входу под высокой аркой, над которой располагались комнаты и еще комнаты, соединявшиеся с другими помещениями на другой стороне. Дверь была больше и тяжелее, чем мне запомнилось с прошлого раза. Она была сделана из грубого дерева, и проведи я по ней рукой, наверняка занозила бы ее.
Войдя внутрь, он щелкнул выключателем, и звук эхом отразился от выложенного плиткой пола. В полумраке я разглядела громадную лестницу с изогнутой балюстрадой, а в просторной прихожей – прислоненный к стене мотоцикл, черная кожа и сверкающий хром, два зеркала и две фары по сторонам, делавшие его похожим на осу.
– Это твой? – спросила я. Мотоцикл символизировал другую жизнь.
– Да, – ответил он. – Но я на нем больше не езжу. Хочешь посидеть в джакузи позже?
Так вот для чего был купальник. Я попросила показать мне, где туалет. Никогда раньше я не видела таких, и в будущем эта комната станет воплощением моих представлений о роскоши: бачок был закреплен высоко над унитазом, с потолка опускался светильник в виде трехмерной звезды, вокруг раковины была мавританская плитка с цветными геометрическими узорами, бронзовые вентили напоминали крылья. В комнате царил полумрак и звенело эхо, потолок был так высоко, что нужно было задрать голову, чтобы его разглядеть. Я огляделась в поисках кнопки слива, заметила цепочку с белой керамической шишкой, потянула за нее, и в унитаз хлынула вода.
Я прошла за ним в зал: потолок, словно ребра, поддерживали темные балки. В центре стояли блестящий черный рояль с поднятой крышкой, торшер и черный кожаный диван. Массивная мебель казалась здесь маленькой. В следующей комнате находился камин с высокой аркой, под которой я могла пройти, выпрямившись во весь рост; дальше – кладовая с пустыми белыми полками до самого потолка. Сквозь распашные двери мы попали в огромную белую кухню. Я помнила эту вереницу комнат, запах плесени и заброшенности еще со своего первого посещения, но в тот раз не было мотоцикла и рояля.
Отец открыл холодильник, достал две большие деревянные плошки с салатом и бутылку сока, мутного из-за осадка. Больше на чистых белых полках ничего не было. Он налил нам по стакану до самого края, гораздо больше, чем я могла выпить, потом выложил на гигантские тарелки две горки салата: один – мелко потертая морковь с изюмом, второй – булгур с петрушкой.
– Я положу тебе понемногу каждого, хорошо? – спросил он. Я кивнула. Никто никогда не ставил передо мной столько еды. Он рассчитывал, что я все съем?
– А вот это, – сказал он, поднимая прямоугольную бутылку из зеленого стекла, – лучшее оливковое масло в мире.
Вообще мне не нравилось оливковое масло, но я дала ему начертить зеленую линию на салатах.
Потом он вручил мне исполинскую вилку. Салаты были холодные и безвкусные, я ощущала только твердость или мягкость ингридиентов. Мы сидели рядом на табуретах за кухонным столом лицом к плите, отец ел и читал газету. Через какое-то время он спросил, закончила ли я, получил утвердительный ответ, взял мои тарелку и стакан, почти полные, и отнес в раковину. Никак не комментируя то, что я так мало съела.
– Давай переоденемся, а после пойдем купаться, – объявил он.
Мы вышли через вторую дверь в коридор, ведущий к другим комнатам. Там была крашенная в белый лестница – краска на ступенях кое-где вытерлась.
– Придется пробежаться, – сказал отец. Сверху нельзя было выключить свет на первом этаже, поэтому он коснулся выключателя, и мы погрузились в темноту. Ступеньки скрипели. Я обняла стену, поднимаясь на ощупь.
– Бу, – произнес отец. А потом завыл, как привидение. – У-у-у-у-у…
Поднявшись, я подошла вслед за ним к двери, за которой скрывался хлипкий деревянный балкон под навесом – он выходил во двор, где стояли деревья в кадках. Балкон дрожал под нашими ногами.
– Совсем разваливается, – сказал отец. Мы прошли по нему к раздвижной двери, и та заскрипела, открываясь.
– Вот и гостевая комната, – сказал он.
– Почему гостевая? – спросила я.
– Потому что в такие селят людей, которых хочется упрятать подальше.
Это была целая квартира внутри дома.
Пахло в ней как и в остальных комнатах: старым ковром, и плесенью, и деревом, и краской. Я поднялась за ним по ступенькам, потом по маленькому коридору мы прошли в большую пустую комнату, его комнату. Там был матрас на полу и телевизор на металлическом кронштейне.
– А здесь твоя постель, – сказал он, указывая на комнату по соседству. На полу лежал красный ковер, матрас с туго натянутой простыней, а на нем – подушка.
Это маленькое, почти без мебели пространство в недрах громадного и пустынного дома, по которому гуляло эхо, походило на поставленную среди леса палатку.
Отец вышел, чтобы я могла переодеться. Когда я вернулась в его комнату, он ждал – в шортах и футболке, босиком. Протянул мне большое черное полотенце – гораздо больше и пушистее других полотенец. Все, что ему принадлежало, было большим: деревья в кадках, входная дверь, камин, вилки, холодильник, телевизор.
Рядом с лестницей я заметила лифт, на котором каталась в прошлый раз. Он скрывался под видом обычной двери, вот только сбоку были две черные кнопки. Я спросила, можем ли мы спуститься на нем; отец не возражал. Лифт трогался с места, только когда захлопывались внешние двери и задвигалась щеколда на внутренней складной решетчатой двери; решетка ромбами ехала вместе с нами, и откуда-то из глубины клетки доносилось жужжание. Стена скользила мимо, будто двигалась она, а не мы. Легко было представить себе, что нас на время посадили в маленькую тюрьму, чтобы выпустить совсем в другом месте. Когда лифт остановился и отец потянулся отодвинуть металлическую щеколду, его рука случайно задела мою. Я толкнула внешнюю дверь и выскочила в коридор.
По асфальтированной площадке, потом вниз с холма, к воде. Пока мы шли, жесткие и колючие завитки сухих дубовых листьев ударялись о мои ноги. Ветер ерошил кроны огромных деревьев вокруг. Тропинка полого сбегала по лужайке к бассейну, рядом с которым было устроено джакузи. В лунном свете мне было видно, что в джакузи вода чистая, а в бассейне полно листьев.
Отец снял футболку и опустился в горячую воду.
– Ах, – сказал он, закрывая глаза.
Я залезла в воду и тоже сказала: «Ах». Села на скамейку напротив. Откинула голову: все необъятное небо надо мной было усыпано звездами. Они разрывали мне сердце. Ветер холодил мне лицо, я слушала пение сверчков, скрип деревьев. Это было то же, что ехать в машине с опущенным верхом и включенным подогревом: холодный воздух, горячая вода – два состояния одновременно.
Мы сидели в тишине, по поверхности воды плясали пузырьки и стелился пар. Я с головой погрузилась под воду. Хотела сделать стойку на голове, но, вспомнив о струях воды, с силой бьющих из дна, бетонные скамейки и вероятность ударить его по ногам, передумала.
– Ну что, дружище? – спросил он – Довольно? Вылезаем?
– Хорошо, – ответила я. Мои пальцы сморщились, кожа стала бугристой. Мы завернулись в полотенца и отправились по колючей земле обратно. Мне казалось, что я с ним и в то же время одна. Когда мы добрались до площадки, где стояла машина, он показал на угол второго этажа.
– Нам надо построить горку, чтобы можно было скатиться из спальни прямо к бассейну. Что думаешь?
– Да. Обязательно надо, – ответила я. Была ли это просто шутка? Я надеялась, что нет.
Дом начинал осыпаться, где-то меньше, где-то больше, и в моей голове не умещалось такое соседство небрежности и внимательности. В унитазах были ржавые разводы, в дальнем крыле протекала крыша, зато вся малина в саду была аккуратно подвязана. Отца нисколько не беспокоило, что дом пустует, как будто он был не хозяином, а гостем или незаконным жильцом. Когда я спросила, сколько в доме комнат, он ответил, что не знает, что никогда не заходил в большинство из них.
Позже я отправилась на разведку. Комнаты и пыльные двери, за которыми скрывались другие пыльные пустые комнаты, много выложенных плиткой душевых и раковин. На дальней стороне участка стояло огромное здание, напоминавшее мне церковь. Когда-то оно было водонапорной башней, но теперь там остались только круглые деревянные опоры, по одной на каждом этаже, а в середине – там, где должен находиться бак, – зияла пустота. Деревянные балки укрывали листья, птичий помет и паутина, они поседели от старости, словно забытые кости какого-то гигантского животного. Кажется, за все время, что отец жил там, мне так и не довелось заглянуть во все комнаты, и в этом было что-то волшебное – в ощущении неизведанного, незавоеванного пространства, за гранью привычного мира. Позади бассейна я обнаружила теннисный корт с оградой, густо увитой плющом. Сквозь зеленую поверхность корта пробивались корни, в некоторых местах покрытие совсем выцвело или износилось. Грязная сетка провисла между столбиками почти до самой земли.
– Это твой теннисный корт? – спросила я отца.
– Не знаю, – ответил он.
– А играть ты умеешь? – спросила я.
– Не-а.
– Я тоже нет, – сказала я.
♦
После джакузи мы посмотрели «Красный шар», а потом «Гарольд и Мод». Каждый из нас занимал свою половину его кровати, он – ближе к экрану. «Красный шар» мне не понравился, показался слишком детским. К тому же у меня возникло ощущение, что от меня ждали, что фильм мне понравится, оттого и показали первым делом, и от этого мне было неловко. От «Гарольда и Мода» я пришла в восторг. Отец нажал на «паузу», когда мне нужно было отойти пописать.
– Это церковь в Пало-Алто, – сказал он про церковь, где встретились герои.
Оба фильма были на лазерных дисках, выглядевших точь-в-точь как серебряные пластинки. Отец держал диск между двумя пальцами, расставленными между центром и краем, не касаясь середины. Когда проигрыватель втянул его, прозвучала серия механических щелчков: четыре ноты.
Звук, с которым диск входил в проигрыватель, приглушенный звук закрывающихся дверей машины, щелчки переключателя фар – все звуки, окружавшие отца, казались другими. У него была прикроватная лампа с абажуром из ткани и золотистым основанием. Нужно было лишь коснуться основания, чтобы включить или выключить ее. Я проделала это несколько раз. Гениально. Почему все остальные не пользовались такими лампами? Почему мы возились с выключателями?
– Пора спать, – сказал он, когда фильм закончился.
Было поздно? Я не могла определить. Мы существовали вне времени. И утра, проведенные у него, тоже казались вневременными: пустые пространства, тишина и белый свет. В отличие от утр с мамой: мы суматошно одевались перед обогревателями и ели тосты в машине по дороге в школу – за белым лобовым стеклом, которое не успело еще отогреться. Здесь не было никакой суеты, никакой заполошности.
По ночам звенели сверчки – я замечала это, только когда ложилась спать. Звук надвигался на меня из темных недр, через темную лужайку, через большой темный дом и давил на мембрану в ушах, но именно в тот момент, когда мне казалось, что он вот-вот поглотит меня, наступала тишина. И тогда я чувствовала себя ужасно одинокой в этом гигантском доме с человеком, которого едва знала.
Мама хранила привезенную из Индии ленту с колокольчиками размером с зерно фасоли – такие обвязывали вокруг лодыжек индийские танцовщицы, – и сверчки звучали в точности, как колокольчики, словно кружились тысячи танцовщиц. Колокольчики звенели почти в унисон, все быстрее и быстрее, пока одновременно не замирали.
– Почему ты не носишь часы? – спросила я на следующее утро. Я уже оделась в школу. Все богачи носили часы.
– Не хочу быть связанным временем, – ответил он.
– Что это?
Я смотрела в окно на кухне, показывая на высокое сооружение, походившее на будку билетного контролера с окошком впереди, куда можно заглянуть, и минаретом сверху.
– Это для птиц.
– Там внутри птицы?
– Нет. Однажды друг подарил мне павлина, но тот сбежал.
– Ты посадишь туда птиц?
– Нет.
Я видела, что его начинают раздражать мои вопросы. Интересно, задумалась я, семь акров – это очень много? Если встать посреди гигантской лужайки спиной к теннисному корту и бассейну и смотреть в сторону холмов – мимо птичника, мимо исполинского медного бука, зарослей малины, еще дубов, бывшей водонапорной башни, то, может быть, там закончится его земля – где вздымаются холмы и начинается лес.
– Там, – сказал он как-то раз, указывая в неопределенном направлении. Но я не совсем поняла, что он имел в виду.
Отец положил в бумажный пакет – для покупок, а не для обедов – два яблока и горсть миндаля и закрутил его сверху.
– Твой обед, – сказал он, протягивая мне пакет. Миндаль шуршал на дне.
Я пошла впереди него, через кладовую, столовую и огромную залу с роялем. На маленьком столике перед диваном лежала книжка под названием «Красный диван». Внутри были фотографии потрепанного дивана из красной замши, на котором сидели разные знаменитости в разных точках земного шара. Я перелистнула страницу и нашла отца. На фотографии он казался мечтательным – глаза загадочные, как древняя рукопись. В отличие от остальных знаменитостей в книге, он соединил кончики пальцев – указательный к указательному, средний к среднему и так далее, – отчего его руки напоминали ребра какого-то мелкого животного. В последующие месяцы я пыталась воспроизвести эту манеру складывать руки: на парте во время уроков, на столе перед ужином с мамой, на коленях в обеденный перерыв, когда мы с друзьями сидели на улице. У меня никак не получалось добиться того, чтобы поза выглядела естественной: в таком положении мои руки казались огромными и неуклюжими.
Мы вышли за дверь.
– Ты не будешь запирать? – спросила я.
– Там нечего красть, – ответил он.
– Ты мог бы купить больше мебели, – сказала я. Представила, каким грандиозным стал бы дом, если бы в нем была обстановка. Мне хотелось, чтобы отец привязался к дому, захотел украшать его, удержать при себе. В школе мы играли в игру под названием ДОСК: дом, особняк, сарай, квартира – записывали варианты машин, мужей, жилищных условий, а потом просчитывали наше будущее, основываясь на том, что выпадет. Я имела самое живое представление обо всех четырех категориях, вплоть до сарая, если считать таковым нашу квартирку на Оак-Гроув. Мой отец жил в особняке. Я больше не знала никого, кто еще мог бы таким похвастаться. Все хотели особняк и лучшие машины: «Порше», «Феррари», «Ламборгини».
На повороте, ведущем к шоссе 280, отец произнес:
– Если наметить цель взглядом, руки сами направляют машину, куда нужно. Это удивительно.
Он понятия не имел, что я тоже водила, сидя у мамы на коленях, когда мне было шесть. Возможно, ему казалось, что у меня нет прошлого, что я просто существую здесь и сейчас рядом с ним.
Он указал на вершину холма, по которому бежала Санд-Хилл-роуд: над крышами домов торчала Гуверская башня.
– Смотри, – сказал он. – Это пенис.
Я не совсем поняла, что он имеет в виду.
– Это пенис Пало-Алто, – повторил он. – Ты посмотри на эту красную головку.
Башня светилась в лучах утреннего солнца, и ее купол был того же цвета, что и крыши университетских зданий – цвета красного кирпича. Мы поднимались с мамой туда, на самый верх: там были колокола, голуби и ветер. Колокола окружала сетка, чтобы голуби не гнездились под ними.
– А, – ответила я, посмеиваясь и пытаясь соотнести здание с теми весьма немногочисленными пенисами, что мне довелось видеть – смотрящими вниз дряблыми колбасками телесного цвета.
– Похоже на пенис, – упрямо повторил он.
♦
– Когда мне будет сорок с небольшим, я умру, – примерно в это же время сказал мне отец.
Он впервые забрал меня от подружки. Его слова прозвучали драматично, как будто он пытался вызвать определенную реакцию. Но я не понимала, как мне реагировать. С точки зрения восьмилетнего ребенка сорок лет казались старостью. Втайне я была счастлива, что он поделился со мной, и рада тому, что у нас еще оставалось время побыть вместе – от четырех до девяти лет! Я уже знала, что он еще в молодости предсказал свою славу и раннюю смерть. Мама мне рассказала. Он что, думал, что мы не говорим о нем в его отсутствие? То, с какой серьезностью он это произнес, наводило как раз на эту мысль: казалось, он считал, будто все те годы, что его не было рядом, мы не вспоминали о нем. Будто когда он выходил из комнаты, комната переставала существовать.
В любом случае его утверждение казалось не трагическим, а наоборот, подающим надежду. По мне, несколько лет – это лучше, чем ничего.
Он был великим, а великие люди, вроде Леннона или Джона Кеннеди, умирали молодыми. Я этого не знала, но он знал.
Тем вечером по дороге к нему домой он сказал:
– Когда-то везде здесь были сады.
Теперь землю покрывали дороги и невысокие, тесно стоящие домики, которые смотрели так, будто стояли здесь вечность.
– Когда я умру, похорони меня под яблоней, – сказал он.
Я заметила себе, что нужно не забыть об этом позже.
Он часто повторял это, когда мы были одни, и я решила, что ответственность за похороны несу я. Он хотел, чтобы его закопали в землю так, без гроба. Чтобы напоить собой дерево.
Следующие две среды были похожи на первую: поездка на машине с поднятым верхом и включенным подогревом, холодные салаты с соком на ужин, джакузи, просмотр фильма на диске: «На север через северо-запад», «Новые времена», «Огни большого города». Прежде чем поставить диск, отец спрашивал, видела ли я уже этот фильм. Если мой ответ был отрицательным, он молча, серьезно качал головой, как будто это было большим упущением. Каждый раз, когда мне нужно было отойти в туалет, он останавливал фильм. На третью ночь я описалась во сне и, проснувшись, пришла в ужас: боялась, что люди, которые будут застилать постель, ему расскажут. В маленьком домике в стороне от большого дома жили муж и жена, которые готовили салаты, мыли посуду и меняли постельное белье. Мне было почти девять, я не писала под себя уже много лет. Но на следующей неделе на кровати были свежие простыни, и он ничего не сказал по этому поводу.
Перед ужином мы играли на рояле песню Heart and Soul, сменяя друг друга. Мне кажется, это была единственная песня, которую мы – любой из нас – умел играть. Музыка звенела в огромной пустой зале.
После фильма я отправилась в свою комнату. Я выждала, сколько смогла, набираясь смелости в наполненной пением сверчков темноте, потом подошла к его постели, притворяясь, что плачу. Возможно, я позаимствовала эту идею из фильма «Энни», где маленькая девочка по сюжету растопила сердце грубоватого мужчины. Стоя над постелью отца в своей спальной футболке и глядя на него сверху вниз, я осознавала, что я маленькая и пользуюсь тем, что у меня есть, – тем, что я девочка. Любовь по какой-то причине вызывают те, кто беззащитен, подумала я. И чтобы мы с ним стали близки, как другие отцы с дочерьми, нужно, чтобы он меня полюбил. К тому же его кровать была гораздо удобнее моей.
Он снял наушники и поднял на меня взгляд. После того как я ушла спать, он продолжил смотреть кино в больших наушниках.
– Мне приснился кошмар, – сказала я. – Можно я посплю с тобой?
– Да, наверное, – ответил он и указал на половину кровати дальше от телевизора. Я запрыгнула туда, и подушка растворилась под весом моей головы, словно была сделана из пустоты.
Казалось, моя просьба только подействовала ему на нервы, вместо того чтобы очаровать. Он был не таким отцом, какого я представляла себе на основании известных мне фактов. Да, у него были лифт, рояль и орган, он был богат, знаменит и хорош собой, но ничто из этого не приносило мне полного удовлетворения, потому что не искупало того вакуума, который я чувствовала рядом с ним, бесконечного одиночества – темной лестницы за кухней, ветра, задувающего на расшатанный балкон. Предполагалось, что именно этого мне и хотелось, но я не чувствовала той радости, на какую надеялась, будто оказалась на роскошном пиру, который застыл, замер по взмаху чьей-то руки.
Наутро отец разбудил меня, тряхнув за плечо резким, словно толчки пульса, движением.
– Проснись и пой, – сказал он.
Я оделась и, пока он собирался, провела разведку: открыла дверь и заглянула в комнату, оказавшуюся гардеробной, где висели костюмы на плечиках – идеально ровный горизонтальный ряд рукавов. В отличие от всего остального в доме, эти костюмы были тщательно подобраны. Видно было, что они новые и дорогие. Все рукава были в точности одной длины. Я провела ладонью по сгибам ткани там, где кончались рукава, – таким мягким и легким, как рябь на поверхности ручья.
– Ингрид Бергман фантастически красивая, – сказал отец на следующей неделе, когда мы смотрели «Касабланку». – Ты знаешь, что она совсем не пользовалась косметикой? Вот какая была красавица.
Мне нравились ее губы: полные и плоские, они выступали под тем местом, где начинались щеки. Еще мне нравился ее акцент и то, как она мягко покачивалась при ходьбе. Казалось, что в представлении отца красота не требует никаких уловок, она просто есть. Хотя, оглядываясь назад, мне кажется, что Ингрид Бергман все же пользовалась тушью для ресниц, и это по меньшей мере.
А мне нравились женщины в стильной одежде, с длинными накрашенными ногтями, помадой на губах, макияжем и лаком для волос; для меня красивыми были они.
Когда он рассуждал о красоте других женщин, у меня возникало странное ощущение: он говорил о светлых волосах и показывал сложенными лодочкой ладонями, какого размера должна быть грудь, и в его голосе было желание. Он рассуждал о статичных деталях, неподвластных повседневному беспорядку, в этих словах не было движения и жизни.
Позже я пришла к выводу, что по-настоящему отец полюбит меня, только если я стану высокой пышногрудой блондинкой. От предчувствия, что такое и вправду может случиться, захватывало дух, хотя все вводные данные и свидетельствовали об обратном.
– Знаешь, я как-то слышал потрясающую историю об Ингрид Бергман, – сказал он. – Но это как бы секрет, поэтому никому не рассказывай.
Мы как раз досмотрели фильм, и он убирал диск в коробку.
– Обещаю, никому не скажу, – ответила я.
– У меня есть друг, – начал он. – Его отец был продюсером, и как-то раз, когда мой друг был ребенком, Ингрид Бергман приехала к ним погостить. У них был бассейн, и она лежала возле него в шезлонге.
Отец сидел на краю кровати у телевизора. Рассказывая секреты или сплетни, он говорил быстрее, дикция становилась лучше.
– И вот, – продолжал он, – оказалось, что Ингрид Бергман любит загорать голышом, и мой друг, он тогда был еще мальчишкой, смотрел на нее из своего окна, которое как раз выходило на бассейн. И тогда она, ну…
Он замялся. Я понятия не имела, о чем он говорит.
– Ну и вот, – продолжал он, – это случилось, в решающий момент она подняла глаза и посмотрела на него. Прямо на него!
– О-о, – издала я.
Что она делала? На что он смотрел? Почему она была голой?
– Этот друг – мой ровесник, – сказал отец, как будто это что-то проясняло. – Но тогда это, наверно, его потрясло, – добавил он, качая головой и улыбаясь про себя, опустив глаза.
Он повторял этот рассказ несколько раз в течение многих лет и каждый раз предварял его теми же словами – что слышал потрясающую историю и что это большой секрет, – забыв о том, что уже говорил об этом.
Как-то раз, примерно в то же время, на карманные деньги (пять долларов в неделю), которые стала получать от отца, я купила темно-синий карандаш для глаз и взяла с собой в следующую среду. Утром, перед тем как ехать в школу, я зашла в ванную и, пока он ждал меня, попыталась подвести глаза: перевесилась через раковину, чтобы лучше рассмотреть себя в зеркале.
– Давай уже, – сказал он, стоя на балконе и придерживая раздвижную дверь.
– Минутку, – ответила я. Карандаш был мягкий и ложился совсем не так, как обычный карандаш на бумагу. Я боялась, что получится слишком жирно, поэтому провела совсем тонкую, почти неразличимую линию. Мама говорила, что макияж хорош, если не бросается в глаза. Я уже предвкушала момент, когда отец узнает, какая я утонченная, и от этого у меня кружилась голова, руки тряслись. У балконной двери я спросила, замечает ли он что-нибудь у меня на веках.
Он наклонился ближе.
– Не-а.
– Хорошо, – сказала я. – Ты и не должен ничего видеть.
– Что видеть?
– Карандаш, – ответила я. – Я немного подвела глаза.
– Иди смой, – сердито велел он. – Живо.
♦
– Посмотри на небо, – сказала мама. Мы ехали домой. – По-моему, оно невероятное.
Краешком глаза мне было видно, что над телефонными проводами тянется полоса сияющих розовых облаков, а на обочине сверкают золотом листья сикоморов.
– Наверное, – ответила я.
Мама очень тонко чувствовала цвет; и так мы общались тоже – она возила нас по городу, указывая на разные цвета. Она успела расстаться с Роном, и если поначалу я обрадовалась тому, что мы избавились от него и снова остались вдвоем, то теперь была уже не так уверена, хорошо ли это. Рон меня раздражал, но когда он исчез из нашей жизни, я заскучала. Он вносил разнообразие, разбавлял наш с мамой дуэт. Входя в дом, он разгонял застоявшийся воздух. Мужчины приносили жизнь. Но этого не понять, пока они не уйдут, пока будни не станут пресными, без вдохновения и сюрпризов. Мы не могли позволить себе поужинать в ресторане или съездить в музей в Сан-Франциско.
А сейчас, в машине, она хотела, чтобы я посмотрела на небо.
– Ну, посмотри же, – повторила она. – Что с тобой?
Я ссутулилась на сиденье, как будто всполохи цвета были самой скучной вещью на свете. Потребовалось бы слишком много энергии, чтобы оценить все то, на что она указывала. Это был всего лишь закат. Мы таких видели много; жизнь заходила на второй круг.
Кирстен пригласила меня в гости с ночевкой. Это была та девочка, что ходила за мной повсюду, провозглашая имя моего отца. Она уже бросила эту глупую привычку, и мы были теперь в одной школьной компании. Нам разрешили дойти пешком от школы до дома ее отца, к северу от Юниверсити-авеню, в противоположной части города. Идти пешком, одним, так далеко и без сопровождения взрослого – это была привилегия.
Дом Кирстен был в викторианском стиле, к входной двери вела зацементированная дорожка, которая упиралась в деревянные ступеньки. Корни деревьев змеились через утоптанный двор, как жилы на шее. Ее спальня располагалась на самом верху, под крышей, и потолок в ней смыкался с полом. У нее был собственный маленький телевизор. Я села на кровать, и та зашевелилась подо мной, как желе, что меня удивило.
– Это водяной матрас, – сказала Кирстен, вытягиваясь.
Было в ней нечто экзотическое и неуловимое, отчего я сама себе казалась заурядной и консервативной. А еще рядом с ней меня клонило в сон, как рядом со всеми, кому было дело до того, что у меня знаменитый отец. Мы спустились, и я прошла за ней на кухню.
Она вытащила из холодильника большую морковку.
– Ты знаешь, что некоторые женщины с ними делают? – спросила она. – Засовывают внутрь! Вместо секса.
– Фу, гадость, – сказала я. В мире были мерзкие, отвратительные явления, вроде секса; я знала о его существовании, но мне все равно была неприятна мысль, что люди могут этим заниматься, а после как ни в чем ни бывало переходить к обыденным делам. Как если бы под чистой белой стеной таилась колония тараканов.
– Гляди, – сказала она, вытягивая из ящика комода что-то черное и воздушное. Это был эластичный кружевной лифчик: два треугольника, соединенные черными полосками лайкры. Он был сексуален, совсем как лифчик взрослой женщины, только маленький, на девочку. А я и понятия не имела, что в мире существует что-то настолько совершенное и при этом таких маленьких пропорций. Эта миниатюрная копия подействовала на меня чарующе, как прежде мебель для кукольного домика, кукольная еда и посуда. Мне хотелось иметь все то, что было у Кирстен: телевизор, пульт, водяной матрас, кружевной лифчик.
– Хочешь посмотреть «Техасскую резню бензопилой»?
– Давай, – ответила я. Я понятия не имела, что это за фильм. Кирстен вытащила кассету из потрепанной картонной коробки и запихнула в магнитофон под телевизором. Изображение было зернистым, как свитер, который вязали из пряжи разного цвета. Я могла различить только фигуру человека, идущего к дому по тропинке в сухой траве.
– Я каждый день это смотрю, – сказала Кирстен. – Перед тем как лечь спать.
Незадолго до того, как мы выключили свет, ее отец зашел нас проведать.
– Папа? – позвала Кирстен.
Он сел на краешек кровати и повернулся к ней.
– Я чувствую себя незащищенной, – произнесла она капризным тоном. – Ты велел мне сказать, если я буду так себя чувствовать, вот я и говорю.
– О, солнышко, – ответил он и обнял ее.
А я и не знала, что Кирстен чувствует себя незащищенной. Меня впечатлило, что она знает и использует такое слово, и стало завидно: она может высказать такое своему отцу. Это было взрослое слово. Мне бы никогда не пришло в голову его употребить.
– Прости, милая, – сказал он, потом поднялся и посмотрел на нас обеих. – Спокойной ночи, девочки. Спите крепко.
Ступеньки заскрипели, когда он стал спускаться.
Утром, как раз перед приездом мамы, когда Кирстен вышла на кухню, я нашла в ворохе смятого хлопкового белья в верхнем ящике комода тот лифчик и сунула его в рюкзак.
Я готовилась отправиться к отцу уже в пятый раз, и меня снедало нетерпение. Я долго надеялась, что если буду играть свою роль, он начнет мне подыгрывать. Я – любимая дочь, он – во всем потакающий мне отец. Я решила, что если вести себя, как другие дочери, он примет эту игру. Мы станем притворяться вместе, и в конце концов притворство станет реальностью. Но если бы я внимательнее наблюдала за ним и призналась себе в том, что видела, то поняла бы, что он ни за что не станет этого делать и что актерство такого рода только вызовет в нем отвращение.
И вот мы снова ехали в темноте на его машине к дому в Вудсайде. Сегодня он был в кожаной куртке с манжетами из черной ткани, которая сочеталась с цветом его волос. В ней он выглядел лихо и щегольски. Он все так же молчал. Но я чувствовала в себе больше смелости.
– Можно, ты отдашь ее мне, когда она будет тебе не нужна? – спросила я, когда мы свернули налево, на узкую ухабистую дорогу с покосившимися и потрескавшимися белыми столбиками, что заканчивалась у его ворот. Я уже давно об этом думала, но только сейчас набралась мужества и сказала об этом вслух.
– Что отдам? – ответил он.
– Твою машину. «Порше», – я задумалась, где же он хранит старые. Воображение нарисовало ряд блестящих черных машин на краю его участка.
– Разумеется, нет, – ответил он так резко и раздражительно, что я сразу поняла, что допустила ошибку. Может быть, миф о царапине не соответствовал действительности, может быть, он не покупал каждый раз новый автомобиль и версия о его расточительности была ложной. Он скупился на деньги, еду, слова, и только «Порше» казались славным исключением.
Мне хотелось взять свои слова обратно. Мы подъехали к дому, и отец заглушил мотор. По обеим сторонам от ворот вздымались кусты гортензии: пышные голубые соцветия были больше моей головы.
(Много лет спустя он спросил меня:
– Как думаешь, какие гортензии лучшие?
– Голубые. Такие яркие голубые.
– Я тоже так думал в молодости, – ответил он. – Но оказывается, белые в форме конусов гораздо симпатичнее.)
Не успела я пошевельнуться, чтобы вылезти из машины, как он повернулся ко мне.
– Ты ничего не получишь, – сказал он. – Поняла? Ничего. Ничего не получишь.
Говорил ли он о машине или о чем-то еще, больше? Я не знала. Его голос ранил, отдавался болью в груди.
Машину озарял холодный свет белой лампочки на потолке, которая зажглась, когда заглох мотор. Вокруг было темно. Я совершила ужасную оплошность, и отец отстранился от меня.
К тому времени мысль о том, что он назвал неудавшийся компьютер в мою честь, туго была сплетена с моим ощущением себя. Хотя он не подтвердил этого, я возвращалась к ней, чтобы подбодрить себя, когда чувствовала собственное ничтожество, находясь рядом с ним. Компьютеры меня не волновали: это были всего лишь железки и поблескивающие микросхемы в пластиковых коробах. Когда сидишь перед монитором, оказываешься под гипнозом, но в целом смотреть на них скучно, они некрасивые. Однако мне нравилось думать, что я связана с отцом через компьютер. Это означало, что я была избранной и у меня было место, хотя он держался со мной холодно и отстраненно. Это означало, что я привязана к земле и ее машинам. Отец был знаменитостью, ездил на «Порше», и если «Лиза» действительно получила мое имя, я была частью этой жизни.
Теперь я понимаю, что у нас были противоположные цели. Для него я была неряшливым пятном на его блистательном восходящем пути к славе, наша история не вписывалась в легенду о его величии и достоинствах, о которой он грезил. Мое существование разрушало его образ. Для меня все было наоборот: чем ближе я подбиралась к нему, тем меньше стыдилась себя; он был частью большого мира и подталкивал меня к свету.
Возможно, все это было лишь большим недопониманием, упущением: он просто забыл сказать, что назвал компьютер в честь меня. Я сгорала от нетерпения – так мне хотелось расставить все по своим местам, как на домашнем празднике: когда ждешь появления именинника, чтобы включить свет и выплеснуть в поздравительном вопле все, что удерживалось внутри. Как только он признается – «да, Лиза, я назвал компьютер в твою честь», – все сразу станет так, как должно быть. Он залатает дыры на джинсах, купит мебель, скажет, что думал обо мне все это время, но не мог со мной увидеться. Однако я чувствовала, что если слишком сильно буду стараться навести порядок, могу нарушить хрупкое равновесие, и он снова исчезнет. Поэтому я ждала, терпела это подвешенное состояние, чтобы не потерять его.
Я вылезла из машины и пошла за ним к дому. Сегодня мы не сидели в джакузи. Мы поужинали салатами, пока он читал газету, потом посмотрели «Танец-вспышку». Я не просилась спать в его кровати. Ночью я проснулась, потому что захотелось писать; темнота давила на глаза, ничего не было видно. Было тихо, сверчки смолкли. Я не могла выбраться из комнаты в кромешной тьме, не понимала даже, в какую сторону повернута и в каком положении нахожусь – вертикальном или горизонтальном. Я затаилась, но так ничего и не увидела: как будто в ответ на мои потуги разглядеть что-то темнота сгущалась.
Чтобы попасть в туалет, нужно было пройти через комнату отца, потом несколько шагов по коридору, который вел в другую пустую комнату, где была дверь в ванную.
Я вылезла из кровати и отыскала дверь, едва белевшую в темноте. Теперь я уже различала очертания предметов и заметила, что в постели отца лежит кто-то с яркими светлыми волосами.
Это был человек, который пришел убить отца, – он уже убил его и теперь спит на его месте! Я догадывалась, каков из себя этот незнакомец с белокурой шевелюрой – глупый, но умеющий льстить, уговаривать и уворачиваться. Он скажет, что он мой новый отец, но будет совсем не похож на него. Лица самозванца не было видно, но он и без того приводил меня в ужас. Его волосы светились в темноте. Я слышала собственное дыхание. Боялась за своего настоящего отца. Я тихонько сходила в ванную и на цыпочках прокралась обратно к себе – блондин все так же лежал в отцовской постели. Заворочавшись во сне, он нырнул под одеяло, как под воду. Я вернулась к себе и, как казалось, много часов не могла уснуть, гадая что делать, страшась утра, когда станет ясно, что моя жизнь бесповоротно изменилась и отца больше нет. Я была слишком напугана, чтобы снова встать и потребовать от блондина объяснений. Поэтому решила подождать до утра и в какой-то момент, должно быть, заснула.
На утро никакого блондина не было, отец оказался жив. Я подумала, что мне, наверное, почудилось и не стала спрашивать. Мне было неловко за свой ужас и нелепый протест.
В следующую среду у мамы неожиданно отменились занятия, и она приехала в гости. Мы не знали, что она приедет. Мама застала нас за ужином: она постучала и позвала, а потом открыла незапертую дверь, прошла сквозь темный дом в ярко освещенную холодную кухню, где мы ели салаты. Она присела за стол. Отец дразнил меня в своей обычной манере.
– А не хочешь себе вот такого парня? – спросил он, тыкая в фото старика в газете, которую он читал, пока мы ели. Я посмотрела, потом чихнула, и на фото оказался салат, который я разжевала, но не успела проглотить. – Мальчикам это нравится. Такой согреет тебе кровать в два счета, – отец говорил о новой кровати, которую хотела купить мне Мона. – Кого собираешься позвать?
Его шутки были ужасно неуклюжими. Такой утонченный во всем, он, казалось, понятия не имел, как разговаривать с детьми. Я хотела, чтобы мы были близки, но его слова порой приводили меня в замешательство. Я не знала, что ответить. Возможно, именно это мама и увидела у меня на лице.
Позже она сказала, что его шутки в тот вечер, развязность и то, что мне было явно не по себе с ним на кухне, ее удивили. У меня был потерянный вид, сказала она, а не уверенный, как обычно. Она договорилась, чтобы по вечерам в среду я оставалась у подруги, и сообщила мне, что вместо этого он будет приходить в гости и кататься со мной на роликах. Я решила, что меня это устраивает.
Мелкая рыбка
♦
В следующем доме – классическом одноэтажном калифорнийском бунгало – за время моего детства мы прожили дольше всего – целых семь лет. Он находился на Ринконада-авеню в Пало-Алто – единственный дом на небольшом участке, с тремя спальнями, двумя ванными и гаражом, который мама позже превратила в мастерскую. Это был настоящий дом, желтого цвета с лазурным кантом и синей дверью. Спереди он был симметричным, заасфальтированная дорожка делила лужайку надвое. На фасаде было два окна, а под ними – полоска голой земли, где мама позже посадила разноцветные недотроги. С одной стороны от подъездной дорожки росло земляничное дерево с шершавой, чешуйчатой корой и яркими плодами. Поначалу мы совсем не подозревали о том, но во время осенних дождей они стали падать на лужайку и лопаться, оставляя вязкую оранжевую слизь, которую мы стирали с обуви целую вечность. За задней дверью была беседка, вся заросшая глицинией; когда та цвела, там пахло мылом и конфетами, и на запах прилетали пчелы.
Перед нашим переездом человек, отвечавший за состояние помещений отцовской NeXT, помог нам сделать ремонт. Он был добрым, худым и высоким, как каланча. Он наклонялся, когда говорил со мной, и разрешил мне выбрать раковину в ванную и линолеум на пол. У него был пронзительный смех и большой острый кадык, тревожно подпрыгивавший и опускавшийся. Под его руководством в доме перекрасили стены, заново отполировали и осветлили деревянные полы, положили линолеум на кухне и в ванных комнатах, на окна повесили металлические жалюзи. Раковина, что я выбрала, расширялась кверху и выглядела по-царски.
Мама купила набор энциклопедий с изображением чертополоха на корешках, и когда возникал какой-нибудь вопрос, она подбегала к книжной полке, доставала одну и, разделяя позолоченные края страниц, читала вслух нужную статью.
У нее была гардеробная. Небольшая – возможно, даже слишком маленькая, чтобы называться гардеробной, но туда можно было зайти и повернуться вокруг себя, поэтому мы ее так называли. Там были перекладины для плечиков и сетчатые полки для одежды. Еще у мамы была своя маленькая ванная со слуховым окошком под потолком.
Однажды, стоя в ванной, она показала мне свой новый кошелек.
– Из «Нейман Маркус», – сказала она. Я внимательно осмотрела его, подставив под падающий сверху из окна свет: сшитые вместе вертикальные полоски кожи серовато-коричневого цвета, светлее по краям, и каждая наморщена в середине, будто через нее продели нитку. Это была самая мягкая кожа, какую мне доводилось трогать, восковая на ощупь.
– Кожа угря, – пояснила мама. – Ужасно, правда? Угри!
– Как шелк, – ответила я. – Или масло.
– Знаю. Ты посмотри сюда, – она показала мне металлическую застежку размером с монетку. Я почувствовала, что это магнит: половинки сами собой нашли друг друга и защелкнулись.
Насколько я знала, у мамы никогда раньше не было кошелька. Вся эта роскошь: кошелек, гардеробная, слуховое окошко, беспроводной телефон, микроволновая печь, внутри которой медленно поворачивалась еда, – сулила великие перемены, наступление новой, более изысканной жизни. Оказалось, отец увеличил алименты, чтобы мы могли снимать более дорогое жилье. В скором времени он согласился также оплачивать мамины терапевтические сеансы раз в неделю. Она не могла позволить себе сменить диван, но сменила обивку на другую, с цветами приглушенных оттенков.
Отец заезжал несколько раз, когда ремонт был окончен. Казалось, они с мамой легко находили общий язык: они шутили и восхищались домом, им обоим понравился цвет краски на стенах, понравились новые современные светильники – две белые металлические перекладины над граненым абажуром из матового стекла. Светильники предназначались для улицы, но хорошо смотрелись и в доме. Когда родители были вместе, мне казалось, будто внутри меня что-то встает на свое место, щелкнув, как магнитная застежка.
В первый год нашей жизни там, когда все вокруг нас еще было новым и безупречным, мама, бывало, замирала, зайдя в дом: схватившись рукой за сердце, она ахала от красоты – на стене над решеткой калорифера в закатные часы горел параллелограмм золотого света.
В те годы, что мы провели в этом доме, мама рассказывала мне истории об отце и о ее семье – когда они приходили ей на ум или когда я об этом просила. Она поведала, что в школе отец был неуклюжим и застенчивым, поэтому, когда он пытался вставить реплику или пошутить, его никто не слушал. Он смастерил маме сандалии и воздушного змея. Тем летом, когда они жили вместе в доме с козами в конце Стивенс-Каньон-роуд, они спали под стегаными одеялами, сшитыми маминой бабушкой из Огайо, и лакомились дешевыми мини-сосисками из банки.
Тем летом, рассказывала мама, у них как-то раз осталось всего три доллара. Тогда они поехали на пляж, и отец выбросил деньги в океан.
– Я пришла в ужас, – рассказывала она. – Но потом он продал еще несколько голубых коробок, и у нас снова появились деньги.
История моих родителей была бы неполной без истории о распадающейся маминой семье, о психическом расстройстве ее матери. Все началось, когда они поселились в Калифорнии – маме было двенадцать лет. Сначала ее родители, Джим и Вирджиния, переехали на запад: Министерство обороны США, на которое работал дедушка, перевело его из Дейтона, штат Огайо, где родилась мама и где жили обе ее бабушки, сначала в Колорадо-Спрингс, потом в Омаху, штат Небраска, и наконец в Калифорнию. Здесь у Вирджинии диагностировали параноидную шизофрению, и мамины родители развелись.
В ее рассказах Огайо представал потерянным раем: бабушки, не чаявшие в ней души, шили одеяла и разрешали ей оттягивать кожу на тыльной стороне ладони. У одной из них была ферма и курятник, куда мама бегала по утрам собирать яйца. В те времена ее мать была еще в здравом рассудке. Каждый раз, когда мама замечала нечто красивое, что казалось ей величественным и незыблемым – вроде золотого света, устилавшего, когда начинало смеркаться, фасад кирпичного здания с колоннами, вроде вековых деревьев, – она вспоминала Огайо.
В Калифорнии Вирджиния завела новую привычку: дожидаясь дочерей из школы, она много пила, а после сидела с сигаретой в руках в темной гостиной, и тлеющий кончик ее сигареты был единственным, что виднелось в темноте. Мама была не намного старше меня в те годы, когда Вирджиния сделала ее мишенью для злобы и презрения. Может быть, потому что мама – яркая, артистичная и чувствительная – больше всего напоминала ей ее саму. Когда маме было двенадцать, Вирджиния обвинила ее в том, что она слушает пластинки только потому, что те вызывают у нее мысли о пенисе, и сказала соседям, что ее дочь занимается сексом с собаками.
Когда мама познакомилась с моим отцом в старшей школе, наибольшее впечатление на нее произвели его добрые глаза: они были совсем не похожи на глаза ее матери – темные огоньки, полные ненависти.
– Когда я в третий раз пришла к Стиву в гости, его мать отвела меня в сторону. Она рассказала, как первые полгода его жизни опасалась, что его биологическая мать передумает и захочет вернуть его. Она боялась потерять его, поэтому не позволяла себе к нему привязываться.
– В тот момент я понятия не имела, зачем она мне это рассказывает. Я была всего лишь школьницей. И не думала вовсе, что мы с ним будем долго общаться.
Она рассказывала эту историю так, будто та что-то значила. Вот только я не совсем понимала, что именно.
Они влюбились друг в друга. Отец писал Вирджинии длинные письма и просовывал их под входную дверь. В них он называл Вирджинию бессердечной и умолял ее перестать так жестоко обращаться с мамой. В те дни отец стал маминым спасителем: он заметил ее талант, красоту и чувствительность, заботился о ней, в то время как ее мать все больше сходила с ума.
– Ты самый творческий человек, которого я когда-либо встречал, – сказал он ей.
Родители вместе попробовали ЛСД. В первый раз для него, не для нее.
– Нужно время, чтобы наркотики подействовали, – рассказывала она. – Поэтому сначала ты ждешь, а потом вдруг понимаешь, что мир перестал быть нормальным и полет начался. При мысли о том, что мама принимала наркотики, мне стало неспокойно.
– Не волнуйся, Лиза. Это было другое время, другая жизнь, – успокоила она.
По ее словам, отец так боялся, что под воздействием наркотиков выставит себя на посмешище, что заставил ее пообещать привести его в чувства, если он начнет вести себя странно. Примерно в то же время отец сказал маме, что однажды станет богатым и знаменитым и потеряет себя в суете мира.
– Что значит «потеряет себя»? – спросила я. В моем воображении он заблудился среди толпы.
– Потеряет моральный компас, – ответила мама. – Продаст душу, сущность за власть, деньги, мирские блага. Исковеркает себя. Потеряет связь со своим «я».
Рядом с домом, где они провели вместе лето перед тем, как отец уехал в колледж, стоял еще один одноэтажный дом. В нем жила молодая пара – дети богатых родителей, обоим немного за двадцать. Они часто принимали наркотики, целыми днями бездельничали и ждали только одного – что их родители наконец умрут и оставят им наследство. И отца, и маму поразило, что свою жизнь можно потратить впустую.
Несколько лет спустя она рассказала эту историю, когда хотела объяснить, почему отец не помогал мне деньгами: он просто не хотел, чтобы я стала такой же, как те потерявшиеся, ленивые дети, которых он встретил в юности.
– Когда твои родители развелись? – спрашивали меня другие дети.
– Они никогда не были женаты, – отвечала я. Мне нравилось об этом рассказывать: это всегда удивляло и обезоруживало того, кто спрашивал. Отличало меня от других. Мой отец не ушел, как у других, а совсем наоборот: сейчас родители проводили вместе больше времени, чем когда я родилась.
♦
Теперь отец приезжал по выходным, когда был незанят, и мы вдвоем шли кататься на роликах, а мама оставалась дома рисовать и махала нам вслед, когда мы отправлялись в путь. Он называл меня Мелкой Рыбкой.
– Эй, Мелкая Рыбка, давай-ка наперегонки. Время не ждет.
Я предположила, что он ссылается на уличную еду, забытую на дне упаковки, холодную и покрытую коркой. Думала, он зовет меня недоростком, неудачницей. Но позже узнала, что он и впрямь имел в виду мальков, которых иногда отпускают в море, чтобы те немного подросли.
– Хорошо, Толстая Рыбина, поехали, – отвечала я, надевая ролики. Иногда он беспокоился, что слишком исхудал.
– Говорят, мне надо набрать вес, – замечал он.
– Кто? – спрашивала я.
– Люди с работы, – отвечал он, стоя с роликами на ногах посреди комнаты. – А вы что думаете?
Иногда он переживал, что наел брюшко, и тоже нас об этом спрашивал.
Обычно мы направлялись к Стэнфордскому университету. В тот день асфальт был мокрым после дождя.
На газоне между дорогой и тротуаром росли пальмы, давшие улице Палм-драйв ее название. Их корни вились под асфальтом, отчего он покрылся буграми; его пытались выровнять, укладывая новые неровные слои, но все они не могли сдержать корней, и дорога по-прежнему была неровной. Мы сгибали в коленях ноги, чтобы отдача была не такой сильной. Пальмовые ветви падали на дорогу, иногда преграждая ее, и нам приходилось обходить их по земле. Когда ветви отрывались от ствола, из-за торчащих в разные стороны черешков он становился похожим на скирду рыбьих тушек.
– Мне бы хотелось быть индейцем, – сказал отец, глядя на холмы за университетом: издалека они казались безупречно гладкими и зелеными. Сочные лезвия травинок прорезали комья земли через два – три дня после первого сильного дождя и не исчезали всю зиму.
– Знаешь, они ходили босиком, – продолжал он. – По тем холмам. Еще до того, как все это появилось.
Я знала со школы, что их следы остались там, где перемалывали желуди в муку на каменных плитах.
– Обожаю зеленые холмы, – сказал отец. – Но больше всего они мне нравятся желтыми, сухими.
– А мне – зелеными, – ответила я, не понимая, как они могут кому-то нравиться мертвыми.
Мы доехали до овальной площади перед университетом, а потом и до самого университетского двора – плитка под ногами была из ромбиков чередующихся земляных оттенков, словно выцветший костюм арлекина.
– Хочешь ко мне на плечи?
Он нагнулся, подхватил меня под мышками – мне было девять, и я была маленькой для своего возраста – и поднял в воздух. Он пошатнулся и неуклюже присел. Мы кружили по двору, под арками, мимо золотых номеров на стеклянных дверях. Отец держал меня за ноги, но отпустил, когда стал терять равновесие. Он споткнулся, споткнулся еще раз, закачался, пытаясь удержаться в вертикальном положении, и я закачалась вместе с ним – на страшной высоте. А потом он упал. Летя вниз, я переживала за себя, за свои лицо и коленки – те части тела, которые ударятся об асфальт. Со временем я поняла, что он всегда падал. И все равно я разрешала ему сажать себя на плечи: мне казалось, что для него это важно. Я чувствовала это как перемену ветра: так он понимал взаимоотношения отца и дочери. Если бы я отказала, он бы отдалился.
Мы поднялись, отряхнулись – у него из повреждений были синяк пониже спины и ссадина на руке, я ободрала коленку – и направились к питьевому фонтанчику на краю двора. Он бил прямо из стены, уложенной ажурной плиткой. Оттуда виднелся следующий двор, поменьше, усыпанный зелеными листьями, словно осколками витражного стекла. Мне нравилось смотреть на солнечный свет из тени: так он не омывал все вокруг, не ослеплял, а сиял обособленно, сам по себе.
Мы поехали дальше по территории университета. Асфальт был грубым, зернистым – он отдавался щекоткой у меня в горле и в бедрах, мелодией в моих костях. Мы карабкались на роликах вверх по склону холма мимо фонтанчика и часов к металлическим столам на веранде кафе «Тресиддер», где передохнули и выпили яблочного сока. Я болтала в воздухе ногами, ощущая приятную тяжесть роликовых коньков, и засовывала пальцы в прохладную металлическую решетку сидений. Нас укрывали ветви дуба – он рос на возвышении внутри двора, от земли кверху по серебристой коре вились глубокие черные борозды.
На обратном пути мы катились вниз со склона холма по неровному асфальту, я неслась впереди отца и изображала дорожный камертон:
– А-а-а-а! – пела я, и мой голос вздрагивал на каждом остром камне.
– А ты шустрая, – сказал он. – Только не слишком задавайся.
– Хорошо, – ответила я. «Задаваться» – ни от кого раньше я такого слова не слышала.
Он указывал мне на витражи и золотую плитку, на то, как каменщики работали с местным песчаником, из которого было сделано все: от колонн до внешних стен – для них использовались целые глыбы. В камне были крупные зерна песка, свет придавал ему объем, он казался неотшлифованным, грубым. Некоторые места украшала резьба, как каменная вышивка.
– Думаешь, каменщики приехали из других стран, чтобы все это построить? – спросил отец, касаясь большого, похожего на подушку прямоугольника, выпирающего из стены.
Я видела здание его глазами: груда камней, вырезанных и расставленных по местам человеческими руками. Я начинала понимать, что в отце уживаются две противоборствующие черты: одна тонкая и чувствительная, как зубной нерв, а вторая черствая, прямолинейная и слепая ко всему. По тому, с каким вниманием он относился к деталям, что думал о каменщиках, которые построили здание, обточили и уложили каменные блоки, я догадалась, что он способен внимательно относиться и к людям тоже. Ко мне.
– Знаешь, я не учился в университете, – сказал он. – Может, и ты не будешь. Лучше сразу отправиться в большой мир.
Если бы я не пошла в университет, то была бы совсем как он. В тот момент я чувствовала, будто мы были центром Вселенной. Он всегда носил его в себе, это ощущение центра.
– Там в самые продуктивные годы тебя учат думать, как остальные, – сказал он. – Это убивает творческое начало. Превращает людей в болванов.
Его слова казались мне логичными. И все же мне было любопытно, почему во время наших прогулок его тянуло в Стэнфорд, за что он как будто любил это место, хотя и не верил в него.
– Он просто затаил обиду, – заявила мама, когда я сказала ей, что мы с отцом думаем, что университет – пустая трата времени.
Когда мы переезжали через дорогу, отец взял меня за руку.
– Знаешь, почему мы держимся за руки? – спросил он.
– Потому что так надо?
Я надеялась, что он ответит: «Потому что я твой отец». За руки мы держались, только когда переходили дорогу, и я с нетерпением ждала этих моментов.
– Нет, – ответил он. – Потому что если вдруг появится машина, я смогу оттащить тебя с проезжей части.
На Юниверсити-авеню он показал мне на бездомного, сидевшего в подворотне с картонной табличкой в руках.
– Это я через два года, – сказал он.
Несколько минут спустя, когда мы углубились в спальный район, удаляясь от главной улицы и приближаясь к нашему дому, он выпустил газы – тишину нарушил громкий звук, как будто лопнул шарик. Отец покатился дальше, как ни в чем не бывало. Когда он снова это сделал, я отвернулась. После третьего раза он пробормотал:
– Извини.
– Все в порядке, – ответила я, сгорая от стыда за него.
Мы с отцом добрались до нашего квартала: во дворах и на тротуарах играли дети. Прямо напротив нашего дома жила Джен, высокая женщина с короткой стрижкой, чей муж работал в NeXT. Дальше по дороге, по соседству с Джен стоял темный деревянный дом женщины, которая встречалась с отцом, когда мама была беременна мной, – с тех пор она успела выйти замуж и родить сына. Казалось странным совпадением, что мы переехали именно туда, где жили еще двое людей, связанных с отцом, но мама сказала, что он непостижимым образом притягивает совпадения.
Мы остановились на тротуаре на противоположной стороне от дома, и отца тут же окружили жившие по соседству мужчины – три отца с тремя младенцами на руках. Они хотели услышать его мнение, узнать, что он думает о том или об этом. Матери отогнали малышей постарше, чтобы дать отцам возможность поговорить. Я стояла рядом, и меня брала гордость: все они хотели посоветоваться с моим отцом. Они обсуждали людей и компании, о которых я никогда не слышала.
Вскоре младенцы на руках раскапризничались, стали пищать и вырываться.
Отец продолжал рассуждать о компьютерных комплектующих и программном обеспечении – к этим темам он возвращался снова и снова в разговорах со всеми мужчинами, что встречались нам в те дни в Пало-Алто. Все три младенца заливались слезами. Отец вел себя так, будто ничего не происходило, его собеседники пытались слушать, укачивая младенцев, но те ревели все сильнее. Отец говорил все быстрее и громче, чтобы слова пробились сквозь шум. Его голос звучал высоко, пронзительно и немного гнусаво, некоторые фразы были будто заостренными на конце и резали мне уши, вонзались в грудь. И я спросила себя: не потому ли дети так голосят? Отцам пришлось попрощаться и унести их.
Вернувшись в дом, мы сняли ролики, держась за батарею. К нам присоединилась мама. Было заметно, что родители нравятся друг другу. Нагнувшись, я стала подворачивать джинсы: собирала ткань внизу и закатывала. Так нога выглядела тоньше. Если штаны были подвернуты, мои пропорции становились такими, как надо: я предпочитала большие мешковатые футболки, из-под которых торчали тонкие ноги-спички.
– Что ты делаешь? – спросил отец.
– Подворачиваю джинсы, – ответила я.
– Думаешь, это круто? – спросил он.
– Да.
– О, – ответил он. А потом стал дразнить. – О, Бифф! О, Блейн! Надеюсь, вам нравятся мои джинсы!
– Стив, – сказала мама. Она улыбалась, но я видела, что ей это не нравится.
– Может быть, она выйдет замуж за Тэээда, – протянул отец.
Дирк, Блейн, Трент, Трэв – так звали моих воображаемых будущих мужей и бойфрендов. Мне было девять, замужество для меня было чем-то несущественным. Я смеялась, показывая, что знаю, что это всего лишь шутка, но в глубине души гадала, не потому ли он выбирал такие уродливые и обрубленные имена и так беспокоился по поводу моего замужества, что считал меня страшной и лишенной перспектив.
– Или, может быть, ты выйдешь замуж за Кристиана, – сказал он.
Кристиан жил через дорогу и был примерно моего возраста. У него были светлые волосы и очки в золотой оправе, а еще легкий акцент, выдававший, что он родом из Джорджии. Он был тощим, носил футболки и шорты в клетку и писал в школьных тетрадках механическим карандашом, мельчайшим почерком. Он тоже жил с матерью. Мне он нравился, но я знала, что не хочу, чтобы он был моим бойфрендом. Примерно раз в месяц другой мальчик – по имени Кай – с темными волосами, светлой, как лепестки, кожей и красными губами, навещал своего отца, который жил в соседнем доме. Как-то раз он неожиданно выглянул в окно, которое смотрело в окно моей спальни. Он был застенчивым и не хотел играть, но его присутствие приводило меня в такой трепет, что я выбрала бы его, если бы от меня потребовали срочно найти себе мужа. Но отцу я этого не сказала.
– Дай посмотреть на твои зубы, – попросила я, чтобы сменить тему. – Покажи, как они сходятся вместе, как молния.
– Ни за что, – ответил он, как будто я хотела поиздеваться над ним, тогда как я всего лишь чувствовала любопытство и восхищение.
– Пожалуйста, – попросила я.
Он нагнулся и открыл рот. Оба ряда зубов смыкались точно посередине, без зазоров: горный хребет и небо над ним.
– Удивительно, – сказала мама. – Как они так сходятся.
Отец закрыл рот.
– Теперь покажи свои, Лиз, – сказал он. Я показала.
– Интересно. А твои?
Он заглянул в рот маме. Ее нижние зубы были хорошими, но слишком теснились, словно гости, набившиеся в маленькую комнату.
– Выглядят не очень. Возможно, тебе стоит сходить к стоматологу, – сказал он, хотя еще мгновение назад был милым. Мама поморщилась и закрыла рот. Как будто внезапно сменился полюс магнита, и теперь они отталкивали друг друга. Нельзя было заранее предугадать, когда это случится.
– Может быть, она будет похожа на Брук Шилдс, – сказал отец обо мне.
– Кто такая Брук Шилдс? – спросила я.
– Модель, – ответила мама.
– С потрясающими бровями, – сказал отец.
После этого он ушел, бросив нам на прощанье через лужайку что-то вроде: «А может быть, ты будешь…» Растягивая слова. Вышел в одних носках, перебросив ролики через плечо. Когда он уходил, у меня появлялось ощущение, будто я с яркого солнечного света зашла в темную комнату. Все вокруг казалось унылым и однообразным, блеклым в сравнении с воспоминанием о свете. Я играла на флейте, мама заказывала мне новое постельное белье с узором из тропических рыбок, через несколько месяцев должна была приехать в гости моя двоюродная сестра Сара. До его приезда эти события казались волнующими, но как только он исчезал, все на несколько дней утрачивало значение. Требовалось время, чтобы снова вернуться в прежнюю колею.
Теперь я жила с мыслью, что мои брови обещают мне что-то.
Позже мама сказала, что в то время отец влюбился в меня.
– Он дорожил тобой, – сказала она. Хотя я такого не помню. Я заметила, что он чаще приезжал, что хватал меня и пытался поднять, даже когда мне не хотелось, чтобы меня поднимали. Он обсуждал мою одежду и постоянно дразнил, придумывая, за кого я выйду замуж.
– Хотел бы я, чтобы ты была моей матерью, – заявил он однажды маме ни с того ни с сего, когда она готовила обед, а я играла. В другой раз он сказал:
– Знаешь, в ней больше половины меня, больше половины моих генов.
Это заявление застало маму врасплох. Она не знала, как ответить. Может быть, он сказал это, потому что проникся ко мне и хотел большей близости.
Я помню потоки бодрящего солнечного света и колышущиеся в нем, будто кляксы, тени: казалось, в те дни солнечный свет был ярче, чем теперь.
Катаясь, мы с отцом высматривали дома, в которых хотели бы жить. Ему нравились те, что с темной деревянной кровлей, с лозой, оплетающей темно-коричневые или серые фасады. Нравилась отделка из дерева, старого и оттого посеребренного. Стрельчатые окна, витражи. Сады, засаженные растениями, которые выглядели так, будто ветер сдул их в кучи. Когда заглядываешь в окна таких домов, видно, что внутри темно. Мне нравились белые симметричные дома с колоннами и аккуратными лужайками, тяжеловесные и крепко стоящие на земле, как министерства или банки.
– Остановись-ка. И понюхай розы, – сказал отец. Он произнес это настойчиво, потом сам остановился, уткнулся носом в цветок и втянул воздух. Мне не хватило духа сказать ему, что так говорят, когда просят расслабиться, сделать перерыв. Но вскоре я и сама увлеклась, и мы стали ездить по улицам, переезжая с одной стороны на другую, в поисках лучших розовых кустов в округе. Во дворах было полно роз. Иногда я замечала за заборами хорошие, которые он пропустил, и тогда мы на мысках роликовых коньков заходили на чужие лужайки, чтобы подобраться к цветам.
♦
Когда Рон исчез из нашей жизни и мы с мамой снова остались вдвоем, я решила, что теперь нам обеим ясно: нам не нужны новые мужчины. Никаких новых отношений. У нас и так все прекрасно: новый дом, отец заезжает в гости. Тем сильнее были мои удивление и негодование, когда мама рассказала мне о своем новом ухажере по имени Илан. Он задержался рядом с нами дольше всех – семь лет – и изменил мою жизнь к лучшему. Но первые полгода я отказывалась разговаривать с ним и только презрительно усмехалась, пытаясь от него избавиться.
У Илана были черные волосы – шевелюра из густых кудряшек, – вытянутое лицо, большой нос и карие глаза. Он был кандидатом химических наук и управлял созданной им маленькой компанией по производству умных игрушек.
Мне нравилось слушать его истории: о том, как в детстве он объездил весь мир, потому что его отец был знаменитым венгерским тенором, о том, какие хитрые проделки он вытворял в школе. Однако каждый раз я с пренебрежением замечала, каким он был ботаником, каким непривлекательным казался по сравнению с моим отцом. Он ездил на старом белом «Фольксвагене Рэббите» и в шутку любил притворяться, что в его машине есть телефон, – он передразнивал обитателей Кремниевой долины, которые взяли моду покупать в машины телефоны размером с кирпич. Он беззвучно жестикулировал перед знаком «стоп», как будто готовился принять важный звонок.
У него было двое детей: сын помладше и дочь примерно моего возраста, Аллегра, с которой мы однажды танцевали у нее дома под Lucky Star Мадонны. Тогда я еще думала, что мама с Иланом просто друзья.
Он был в свободном браке, но нарушил правила, влюбившись в маму, и ушел от жены. Мне все это не нравилось. Я постоянно язвила, но если мама была влюблена, никакие мои слова особенно не задевали ее.
– Он женат, – напоминала я ей.
– О, милая, – отвечала она так, будто я была дурочкой.
Когда мы были втроем – я, мама и Илан, – меня охватывала злость, я без конца ворчала. То же я чувствовала и после, когда она начала встречаться с двумя другими мужчинами.
– Все в порядке, милая? – спрашивала она. Влюбляясь, мама отдалялась, и мне казалось, будто она смотрит на меня вниз с большой высоты. С ее губ не сходила улыбка.
В компании прочих людей я не сомневалась – мы с мамой были командой, и мы обе постоим друг за друга. С Иланом я чувствовала, что если ей придется выбирать, она может отказаться от меня, но не от него, а я собиралась заставить ее выбирать. Я приготовилась к затяжному бою.
Однажды утром выходного дня, через несколько месяцев после того, как они стали встречаться, мы втроем отправились позавтракать в кафе.
Я закапризничала, но таки пошла с ними. Мы перебежали оживленную Альма-стрит, пролезли в дыру в заборе, пробрались через кусты и поднялись на насыпь из белых камней, по которой бежали железнодорожные пути. Оттуда мы двадцать минут шли прямо на север, глядя под ноги, балансируя на рельсах и шагая между шпалами.
Мы следили, не появится ли поезд.
– Смотрите, – сказал Илан, когда впереди таки показался один. Он положил на рельс монетку, мы отбежали в сторону и поезд прогрохотал мимо. Когда промчался последний вагон, монетка была горячей: она превратилась в сияющий медный диск, неровный овал. Такую штуковину я была бы не прочь оставить себе.
– Подумаешь, – пробормотала я, когда он показал мне.
Слишком много энергии уходило на то, чтобы презирать маму с Иланом непрерывно, и я трудилась месяцами. Рядом с ними я вела себя апатично, усмехалась, смотрела свысока и демонстративно молчала, когда они шутили. Я заметила, что если за ужином присутствовали другие люди, Илан всегда находил способ подвести разговор к своему отцу, толком не упоминая о нем, – чтобы кто-нибудь, преисполнившись любопытства, спросил: «Так кем был твой отец?» Необходимость постоянно вести себя жестоко и чувствовать недовольство давила на меня. Я очень устала, но так и не смогла добиться их разрыва, хотя они оба стали осторожны в моем присутствии. Я знала, что если хоть на секунду выйду из образа и чему-то обрадуюсь, мама воспримет это как разрешение. Я отказывалась его выдать. Она будто забыла, через что мы проходили после каждого разрыва, и меня раздражали ее мечтательный взгляд и глупое поведение.
Модный ресторан «Парк Макартура» находился в здании, некогда служившим амбаром. Там подавали королевский бранч в форме шведского стола: здесь были полные миски клубники, взбитые сливки, запеченные с яйцами вафли под круглыми блестящими колпаками и свежевыжатый сок. Обычно мы ходили в места попроще.
В то утро что-то изменилось: я стояла у шведского стола и оглянулась на маму с Иланом – они сидели лицом ко мне за круглым столиком и улыбались. Глядя на них через горы фруктов и облака взбитых сливок, я почувствовала себя слишком измотанной, слишком довольной, чтобы злиться и дальше. И они были похожи на родителей. Я сдалась. Я чувствовала себя в безопасности там, под сводчатым потолком, под бряцанье посеребренных приборов – ложек, щипцов и лопаток. Какой бы ужасной я ни была, они даже сейчас готовы были принять меня, и я могла им это позволить, если бы только захотела. И было еще не поздно – не поздно стать семьей.
Много лет спустя, когда я была уже взрослой, мы разговаривали с Иланом, и он рассказал, что несколько раз, когда ему доводилось встречаться с моим отцом в доме на Ринконада-авеню, оставшись с ним наедине во время прогулки, он убеждал его проводить со мной больше времени. Он представлял родительскую заботу и проведенное вместе время как выгодное приобретение: «Это нужно тебе, Стив, – внушал он. – Думай об этом именно так». Илан заметил, что отец – спонтанный человек. Легко увлекался и забывал обо мне, когда появлялось что-то новое. Илан поощрял его, хвалил за самое незначительное проявление отцовской заботы. Например, за то, что отец катался со мной на роликовых коньках. Илан и сам был бизнесменом, его работа тоже отнимала много времени, но, по словам мамы, он обладал способностью легко и быстро переключаться с работы на семью, поэтому, когда он был с нами или только со мной, когда ужинал в нашем доме – а так обычно бывало, если после ужина он собирался вернуться в офис, – он всегда слушал внимательно, а не вполуха, как большинство деловых людей.
Именно Илан оставался по вечерам, чтобы помочь мне с математикой и естествознанием: он садился рядом со мной на диване и терпеливо объяснял, хотя после планировал заняться делами своей компании, которая переживала непростые времена. Он дал мне почувствовать, каково это – приходить на урок подготовленной, с выполненным домашним заданием и понимать, о чем говорит учитель. После нескольких таких вечеров мне и самой не хотелось быть отстающей: мне были приятны спокойствие и уверенность, заслуженное внимание. Илан впоследствии и подтолкнул меня к тому, чтобы я начала хорошо учиться.
Тем летом мы с дочерью Илана, Аллегрой, поехали в дом отца в Вудсайде, чтобы искупаться. После купания мы занялись исследованием дома. Аллегра нашла рядом с входной дверью комнату, которую я раньше не замечала – с полками от пола до потолка, где лежало всего несколько книг и журналов. В центре комнаты стояла грубая модель участка: землю изображал рыхлый зеленый материал, какой используют для поддержания стеблей в цветочных композициях.
– Думаешь, он когда-нибудь сюда заходил? – спросила Аллегра.
– Скорее всего, нет, – ответила я.
Мы стали перебирать вещи – казалось, будто их оставили люди, жившие в доме прежде. Высоко на полке я нашла несколько журналов Playboy.
– Смотри.
Мы стали листать их, сидя на полу. Возможно, слухи о том, что отец появлялся на страницах Playboy, не соответствовали истине – но перевернув страницу, я увидела его лицо. Черно-белую фотографию размером с почтовую марку над каким-то текстом. В белой рубашке с галстуком-бабочкой он выглядел невинным. Он был полностью одет.
– Я так и знала! – воскликнула я. – Я об этом слышала.
Я испытала огромное облегчение оттого, что он был неголым, его выражение лица было непошлым. Мне захотелось, чтобы Аллегра тоже обратила на это внимание.
Я чувствовала, как мне повезло с отцом. Мы перевернули страницу. На следующем развороте распласталась обнаженная женщина – брюнетка с пышными волосами, красной губной помадой и томным взглядом.
♦
Во время одной из наших прогулок на роликах в том году мы с отцом остановились у низкого здания, прячущегося среди деревьев, недалеко от центра города. У нас обоих были слегка ободраны коленки после очередного падения.
– Я знаю людей, которые здесь работают, – сказал отец. – Это дизайнерская компания.
Мы не стали снимать ролики: внутри были ковры, поэтому мы могли ходить почти нормально.
Мы прошли по коридору в комнату с большим столом, освещенным люминесцентными лампами. Весь он был завален бумагами, целым ворохом.
– Знаешь, что такое серифы? – спросил отец.
– Нет, – ответила я. Мне нужен был какой-нибудь контекст – мне хотелось произвести на него впечатление. Может быть, отец тоже хотел произвести впечатление на меня, научив чему-то? Он ткнул в страницу с черными буквами.
– Смотри, – сказал он.
– На «С»?
– Нет, – ответил он. Показал на «Т», на правый кончик верхней перекладины, где та загибалась книзу.
– Видишь штрихи на концах буквы? – спросил он. – Такая короткая линия на конце длинной – это сериф, или засечка. Некоторые думают, что с ними легче читать.
Его голос звучал серьезно. Я сделала вывод, что засечки – это очень важно.
– Смотри, вот здесь, – сказал он, показывая на другие буквы. – И здесь, и здесь, и здесь.
Серифы стали видимыми, отделились от букв. Шляпки и хвостики, загогулины, какие иногда остаются на конце слова, когда не отрываешь ручку от бумаги. Они были всегда, но теперь я знала их название. Ступни – это засечки на ногах, представляла я впоследствии. Пальцы – засечки на ступнях.
Из всех явлений мира отец захотел показать мне это.
Он стал указывать на другие шрифты. В разных шрифтах и серифы были разными: короче, длиннее, толще, тоньше. Они напоминали мне новые веточки по весне, отростки, которые потом могут вырасти в буквы.
– Bauer Bodoni, – стал перечислять отец. – Times New Roman, Garamond.
Потом он показал на шрифт с тупыми концами и спросил, как тот называется.
– Без… засечек?
– От латинского слова, которое значит «без», – сказал он. Он замолк и подождал. Он что, думал, я знаю латынь?
– Sans, – наконец сказал он.
– Они называются Sans? – спросила я.
– Sans serif, то есть без засечек. Как вот этот, – он указал на другую «С», только это уже была «С». Буквы без засечек теперь казались голыми.
Маме нравились простые изящные буквы. Ей нравилось, когда они тонкие, отцу – когда толстые. Будучи взрослой, я работала в научной лаборатории, банке, программе обучения за рубежом, ресторане, косметической компании, дизайнерском бюро. В каждом месте были свои коды и опознавательные знаки, красота и значимость описывались разным языком. Я не могла быть полноправным членом всех групп одновременно, приходилось выбирать.
– Так ты уже с кем-нибудь целовалась? – спросил отец, когда мы катились домой. Он имел в виду с языком.
– Нет. Фу! Когда ты в первый раз поцеловался?
– Примерно в твоем возрасте, – ответил он.
– С кем?
– Ее звали Дирдре Лупалетти.
Как лупа, спагетти, конфетти. Слишком идеально.
– У нее были каштановые волосы вот досюда, – сказал он, показывая рукой на свою поясницу. – Мы целовались в подвале ее дома. Вообще-то это она меня поцеловала.
Мне хотелось, чтобы его история была моей и чтобы у меня была его уверенность. История с подобным именем. Я уже отставала – если он целовался в моем возрасте, мне нужно было сделать то же самое.
* * *
К нам в гости приехала моя двоюродная сестра Сара. Она была дочерью маминой старшей сестры Кэти и единственным родственником моего возраста. Когда я родилась, мы несколько месяцев жили с ней и ее родителями в Идилвилде, штат Калифорния.
Теперь Сара была высокой, но все время сутулилась; ее резкий голос иногда звучал слишком громко и пронзительно для закрытых помещений. Она была единственным циничным ребенком из всех, кого я знала, будто она успела устать от жизни. Было в ней и еще что-то, быть может, живой ум или ирония – несмотря на порывистые движения и слишком резкий голос, несмотря на то, что она, казалось, не осознавала происходившего рядом с ней. Было некое зрелое восприятие, означавшее, что она одновременно и ребенок, и смотрит со стороны.
Я несколько месяцев с нетерпением ждала ее приезда. Сара никогда не видела моего отца, и сегодня мы должны были все вместе ужинать в «Браво Фоно» в торговом центре на территории Стэнфордского университета. Мы с ней вместе играли детьми в те времена, когда ни у одной из нас не было отца. Теперь у меня был отец, и мне хотелось, чтобы она узнала, каково это.
Он выбрал ресторан. И опоздал. Он всегда опаздывал. Когда он вошел, я сразу поняла, что он не в радужном настроении: возможно, работа в тот день не задалась. Весь его вид указывал на это. Он не хотел здесь находиться. Его угрюмое присутствие черной копотью повисло в воздухе.
Мама заказала салат из латука, я – лингуине с креветками. При нем мы всегда с осторожностью выбирали блюда: он не одобрял мяса. При этом ограничения в его рационе были связаны не с заботой о животных, а с эстетическими воззрениями и представлением о телесной чистоте. Позже я поняла, отчего он смотрит на людей с особым презрением: в его глазах глупо выглядел тот, кто совершенно не осознавал своей невежественности в тот момент, когда пытался насадить на вилку кусок мертвечины.
Грань между жестокостью и любезностью – между тем, что вызывало или не вызывало его гнева, – была тонкой. Я знала, что ему не слишком понравятся мои креветки, но знала также, что они сгодятся. Но мы забыли предупредить Сару.
– Я буду гамбургер, – сказала она чересчур громко. Мне захотелось зажать ей рот, чтобы защитить ее и защитить себя. Фокус был в том, как я поняла позже, чтобы сузить площадь для его удара, и тогда он ударит кого-нибудь другого. Если не я, то кто-нибудь всегда попадал ему под руку.
Принесли еду. Я надеялась, что Сара не почувствует искрившееся в воздухе напряжение и не заметит, что отец до сих пор не сказал ей ни слова и с омерзением глянул в ее тарелку. Она говорила слишком громко для полупустого ресторана, и эхо отражалось от каменного пола и стен – из стекла и стеклянных блоков. Я не знала, как попросить ее говорить тише.
Через какое-то время после того, как мы начали есть, его лицо исказилось, на нем застыло неприязненное выражение.
– Что с тобой не так? – спросил он Сару.
– Что? – переспросила она. Она как раз пережевывала кусок мяса.
– Нет, – сказал он. – Серьезно.
Поначалу казалось, будто он действительно ждет ответа. Что с ней не так? Почему она не замечает социальных сигналов? Почему у нее такой высокий, режущий слух голос, вечно требующий внимания, словно плач младенца?
Его собственный голос зазвучал пронзительно.
– Ты не можешь даже говорить нормально, – заявил он. – Нормально есть. Ты ешь дерьмо.
Она посмотрела на него: я видела, что она пытается сдержать слезы.
– Ты когда-нибудь задумывалась, какой у тебя ужасный голос? – продолжал он. – Пожалуйста, перестань говорить таким ужасным голосом.
Я не могла поверить, что все это действительно происходит.
– Стив, прекрати сейчас же, – сказала мама.
Я видела его глазами Сары, или по крайней мере мне казалось, что вижу: если таково это – иметь отца, то, возможно, это не так уж и здорово.
– Мне неприятно быть здесь рядом с тобой, – сказал он. – Не хочу и секунды лишней провести в твоем обществе. Соберись. Возьми себя в руки.
Он говорил так громко, что его было слышно за другими столами. Сара сгорбилась на стуле, уставилась в тарелку и заплакала.
– Стив, – сказала мама. – Перестань.
– Тебе стоит подумать, что с тобой не так, и постараться это исправить, – сказал отец. Потом он поднялся и пошел по направлению к уборной.
Мы склонились над Сарой с обеих сторон, чтобы скрыть от посторонних взглядов. Я чувствовала присутствие людей за столиками рядом, знала, что они могли слышать. Что они подумали? Каково это – наблюдать за насилием со стороны, не иметь к нему отношения? Сара рыдала, размазывая слезы, вытирая нос рукавом, и повторяла, что с ней все в порядке. Я была меньше ее, ниже, тоньше. Но она тоже была маленькой.
– Он просто жестокий человек, – сказала я ей на парковке по дороге к машине. – К тебе это не имеет никакого отношения.
Последнюю фразу я слышала от мамы, когда он обижал меня.
– Знаю, – ответила Сара. Я не понимала, действительно ли она знает или говорит так, чтобы я перестала ее успокаивать. Но она посмотрела на меня и повторила:
– Знаю.
♦
У девушки отца, Тины, были длинные и очень светлые волосы – цвета кончика пламени, где оно горячее всего. Те же волосы, тот же человек – я поняла это потом, – что я видела в постели отца той ночью, когда подумала, что его похитил и убил кровожадный незнакомец.
Не помню, как я познакомилась с Тиной, но, возможно, это было на кухне вудсайдского дома отца в тот день, когда мы с мамой пришли к нему на обед. Люди, заправлявшие в доме кровати и нарезавшие салаты, приготовили пасту из цельнозерновой муки – машинка для ее изготовления все еще была закреплена на столешнице, на подносе лежали длинные, обсыпанные мукой ленты.
Отец и несколько гостей катали по кухонному столу игрушку. Это был маленький пластмассовый робот, покрытый серебристой краской, в красном шлеме. Внизу – там, где смыкались его цельнолитые стопы, – было колесико, и когда он катился, из темной круглой дырки в его грудной полости, где могло бы быть сердце, вырывались искры. Мне тоже хотелось поиграть.
Тина заметила, как я смотрю на робота, и окликнула их:
– Почему бы вам не дать Лизе попробовать?
Она филировала густую челку. У нее было доброе лицо и мягкий низкий голос.
Отец продолжал катать робота, качая пальцем перед искрами. Но потом он вручил его мне и сказал церемонно:
– Подарок. Забирай.
Отец познакомился с Тиной несколько лет назад, когда она работала в благотворительном фонде Apple, а он все еще жил в доме в Монте-Серено, откуда мы с мамой забрали диван. Она была разработчиком программного обеспечения, интровертом и душевным человеком. Она не гордилась своей красотой, не лелеяла ее, не выставляла напоказ с помощью кокетства, макияжа, модной одежды – как будто не желала ее или относилась к ней с равнодушием. Поэтому я долго, даже годы спустя, не замечала, какая она красивая. Она была просто Тиной.
Тину всегда окружали хорошие люди, ее семья и друзья, ученые и художники, и они стали проявлять интерес к нам с мамой. Поэтому в те годы, что они с отцом встречались, я чувствовала дополнительный слой защиты вокруг мамы, отца и меня.
Много лет спустя она рассказала мне, что в начале их отношений отец настойчиво убеждал ее, что я не его ребенок. Увидев меня, она сразу поняла, что это не так. Но когда она заговорила об этом, он отказался это обсуждать.
Отец пригласил меня поехать с ними в отпуск на Гавайи. Мне было почти десять, я училась в четвертом классе. Мы с мамой никогда не ездили в отпуск, поэтому я не знала, чего ожидать. Когда самолет приземлился и остановился на перроне, небо было ослепительно-белым, здания аэропорта с широкими коричневыми крышами не соединялись с самолетом коридорами, а стояли в отдалении, от влажности размывалась грань между воздухом и кожей. Человек в рубашке-поло надел каждому на шею гирлянду из сладко пахнущих цветов с ярко-розовыми лепестками и желтой серединкой и повел к белому фургону. Поначалу дорога тянулась через многие километры обугленной черной земли, и я боялась, что он везет нас туда, где все вокруг будет похоже на поверхность Луны, которая только ему кажется красивой. Но наконец мы свернули к океану и островку зелени.
Трава в том курортном местечке была коротко пострижена и оттого напоминала ворс ковра. Ее пятнали тени от пальм с длинными, тонкими, будто лески, стволами. За завтраком коричневые птички размером с мой кулак чирикали на высоких стропилах и слетались на едва освободившиеся столики – к хаосу салфеток, сиропа и недоеденных тостов. Они скакали между тарелок и дрались из-за крошек, а когда подходил официант убрать со стола, они синхронно взмывали на высоту крыши и принимались ждать, когда окончит трапезу следующий постоялец. Возле бассейна я видела, как мелко подрагивая и кудахча, распустил хвост павлин. Он немного постоял на месте, а потом побрел прочь медленным, методичным шагом, покачивая на ходу нарядным полукруглым плюмажем.
В ту неделю я ходила босиком по песчаным дорожкам, и тепло поднималось по икрам до самых коленей. Через несколько дней темные волоски на моих руках совсем выцвели. Сквозь лупу океанской воды ярко и отчетливо видны были песчинки и плещущиеся на мелководье желтые рыбки – и те, и другие казались больше. До этого путешествия я никогда не слышала, что пина колада бывает безалкогольной; теперь я пила этот коктейль по меньшей мере трижды в день.
Я подружилась с девочкой по имени Лорен, моей ровестницей, которая тоже жила в Калифорнии. Вместе мы бегали по лужайкам и пляжам, у бассейна, в перерывах между завтраком и обедом, обедом и ужином. Мы видели рыбок с черными губами, одного черного лебедя, гекконов и птичек. В сувенирном магазине продавались браслеты в виде дуги шириной в несколько сантиметров, каждый из цельного куска отполированной до блеска акации.
– Давай купим по одному маме и Тине, – предложил отец. Браслеты звонко и мягко звучали, ударяясь друг о друга на кронштейне, где висели.
Я тоже хотела браслет, но мои руки и запястья были слишком маленькими.
Отец купил мне раздельный купальник из красного хлопка с цветочным узором. Я никогда раньше не носила таких. У моей подруги Лорен был похожий, тоже из сувенирного магазина, только голубой.
Тина ходила в джинсах, футболках и туфлях без каблуков. У нее были широкие запястья, большая грудь, и, разговаривая со мной, она приседала, чтобы мы были одного роста. Она заливисто смеялась, отчего все ее лицо хорошело. Ее нос был похож на мамин – маленький и прямой, со слегка скошенным, заостренным кончиком. Она сама подстригала себе челку.
Тина была веселой и одновременно грустной, склонной к самоиронии. Я видела, что нравлюсь ей, что ее забавляю. Мне казалось, что она женщина и вместе с тем маленькая девочка. Или же она так хорошо помнила, каково быть ребенком моего возраста, что расстояния между нами я почти не чувствовала. Дома, в Пало-Алто, когда мы все вместе ехали куда-нибудь в отцовском «Порше», она втискивала свое длинное тело на заднее сидение, чтобы я могла сидеть рядом с отцом на переднем. Уже тогда я понимала, что они с отцом были странной парой: нередко он со своим самомнением становился невыносим, и тогда исчезала та его сторона, что была наиболее близка ей.
Однажды я слышала, как он сказал:
– Она могла бы ходить в мешковине, простой мешковине.
Будто красота измерялась трудностью препятствий, которые могла преодолеть. Таким же тоном он говорил и об Ингрид Бергман. Я пыталась разглядеть это в Тине, потому что не считала ее особенной красавицей. Ее ресницы были такими же светлыми, как и волосы. Она не старалась казаться красивой, а тогда для меня красота была именно в старании. Но иногда она отбрасывала с лица челку, ее глаза загорались в солнечном свете – такие же голубые, как вода в бассейне, – и тогда ее лицо открывалось, открывалась его красота. Но после она опускала взгляд, поправляла волосы и снова становилась привычной Тиной.
Когда мы шли на ужин по белой песчаной дорожке, что вилась через лес, – мы с Тиной по левую и правую руку от отца – он обнял нас. Его ладонь оказалась у меня на ребрах, под мышкой.
– Женщины моей жизни, – провозгласил он медленно, немного в нос, проговаривая каждое слово, как будто объявлял новый акт представления. Произнося это, он смотрел вперед и вверх, словно обращался к лесу.
Я была одной из его женщин! Это наполнило меня такой радостью, что мне пришлось отвернуться, потупить взгляд и уставиться на песок, на свои босые ступни, чтобы он не заметил, как я улыбаюсь.
Он нагнулся поцеловать Тину, и рука, которой он держал меня, скользнула вверх, пальцы впились мне под мышку и дергались с каждым шагом. Мне не хотелось прерывать объятие, хотелось остаться одной из его женщин.
– Разве она не красавица? – спросил он за ужином, когда Тина отошла помыть руки. Когда мы с ним хоть на минуту оставались вдвоем, он начинал расписывать ее красоту, вздыхая, как если бы она была далеко, а ее красота – недосягаема для него.
Когда Тина вернулась, он склонил голову и поцеловал ее, что-то бормоча и шепча ей на ухо. Она запротестовала, он схватил ее за затылок, балансируя на ножке стула. Пока они целовались, он прижал ладонь к ее груди, наморщив футболку.
– М-м-м, – протянул он.
Одновременно я чувствовала отвращение и была заинтригована. Я предположила, что моя роль – смотреть и отмечать, насколько он без ума от нее, хотя я чувствовала себя странно, находясь рядом, когда они вели себя так. Его поведение казалось неестественным, картинным, будто все происходило на сцене.
Почему она его не остановила? Может быть, потому что была юной и была влюблена.
– Почему вы тискались прямо при мне? – спросила я Тину как-то раз, много позже.
– Он так делал, когда чувствовал себя неуютно, – ответила она. – А ему было неуютно рядом с тобой, он не знал, как себя вести, как к тебе относиться. Приемы, которые он использовал, чтобы расположить к себе взрослых, не действовали на тебя, ребенка. Ты видела его насквозь. Поэтому он использовал меня как средство от неловкости.
Предположение, что именно из-за моего присутствия он вел себя так, будто не замечает моего существования, было выше моего понимания – в те моменты я чувствовала себя ничтожеством, песчинкой, недостойной и одного взгляда. По словам Тины, напряжение было таким сильным, что, когда мы вернулись с Гавайских островов, она решила больше не приезжать к отцу, если с ним была я, чтобы он научился общаться со мной наедине.
Мама и Мона тоже обратили внимание, что отец на людях проявлял к Тине чрезмерную нежность. Иногда это продолжалось минутами, и он при этом постанывал – не только при мне, но и при взрослых тоже. Но я была ребенком, и такое поведение в моем присутствии было неподобающим. Их беспокоили его шутки и откровенное поведение, и отчасти по этой причине Мона стала настаивать – вскоре после того как мы вернулись с Гавайев, – что мне, как ребенку, взрослеющему рядом с матерью и лишенному постоянного отцовского внимания, нужно ходить к психотерапевту-мужчине, чтобы понять, как выстраивать близкие взаимоотношения с хорошим, надежным человеком.
Мама согласилась, что это стоящая идея, отец согласился платить. Она стала раз в неделю возить меня к доктору Лейку, которого рекомендовала нам Мона и к которому я ходила потом много лет. С тех пор как я начала терапию, то есть с девяти лет, мои воспоминания стали отчетливее – возможно, оттого что я стала старше или потому что раз в неделю в ходе наших сеансов я пыталась облечь свою жизнь в слова.
Закончив целовать Тину, отец поправил стул, вздохнул и принялся за еду.
– Знаешь, – сказал он. – Когда-то Тину показывали по телевизору. В рекламе. Когда она была еще ребенком. Младше тебя.
На меня это произвело большое впечатление. Позже отец показал мне эту рекламу: в магазинчике на пляже белокурая девочка стоит рядом с мальчиком, мальчик разжимает кулак и высыпает на прилавок горсть мелочи и стеклянный шарик, чтобы расплатиться за коробку сладостей.
После десерта отец взял Тину за руку и посмотрел на ее ладонь.
– Не знаю, что значат эти линии, – сказал он.
– Я тоже, – ответила Тина. – Если бы только мы могли предсказывать будущее.
– Я знаю, как гадать по руке, – сказала я отцу. – Дай сюда правую руку.
– Может, левую? – спросил он, потому что левая была ближе.
– Нет. На левой судьба, которая тебе дана. Я хочу посмотреть на правую – на то, как ты ею распорядишься.
– Хорошо, – ответил он и протянул мне руку – наискосок, так, что локоть оказался на уровне живота.
У него были плоские ладони, без холмиков над суставами – особенность, которую мы с мамой обсуждали наравне с остальными, вроде зубов-молнии. Кожа на ладонях отливала бледно-желтым, линии были насыщенно оранжевыми: он ел морковный салат и пил морковный сок цвета мокрой глины в таких количествах, что они покрасили его изнутри.
– Это линия твоей жизни, – сказала я. – Это линия твоего ума. Это линия брака, а это линия сердца. Видишь?
– Хорошо, и что все это значит? – спросил он.
Изгиб линии начинался под указательным пальцем и тянулся до самого запястья.
– У тебя будет довольно долгая жизнь, – сказала я. – Но линия твоего ума не такая длинная. Видишь, вот здесь? Она расщепляется.
Я обратила внимание на то, что, как я знала, меньше всего ему понравится: долгую, но не особенно выдающуюся в интеллектуальном отношении жизнь. Мне хотелось уколоть его, уязвить его самолюбие, лишить основания держаться великодушно, но отстраненно, упиваясь своим трагическим величием так, что на окружающих уже не оставалось энергии. Я знала, он и не подозревал, что уже тогда это было мне известно – ведь когда он рассказывал о себе и своих стремлениях, он никогда не помнил, что рассказывал это раньше. Он не догадывался, что я чувствовала, как грустно ему от мысли о ранней смерти и как в то же время он находил такую перспективу эффектной.
– Ладно, – сказал он и отнял руку.
Тина неподвижно сидела у бассейна, а мы с моей подружкой Лорен заплетали ее волосы в колосок. Лорен показала, что нужно захватывать пряди потоньше, чтобы волос хватило до самого низа, до первого позвонка.
Когда мы закончили, отец притянул меня себе на колени. Он сидел в шезлонге, Тина занимала соседний. Отец сказал Лорен, что хочет побыть с нами наедине, поэтому она убежала искать родителей. Мне хотелось играть, но он не отпускал.
– Смотри, у нас обоих брови сходятся посередине, – сказал он. – И у нас одинаковый нос.
Он прошелся указательным пальцем по моей переносице.
– Неправда, – ответила я. – Мой меньше. И не свисает, как твой.
– А ты подожди, – сказал он, – еще вырастет. Как будто он видел будущее. Потом он схватил меня за лодыжку и стал изучать мою ногу.
– Гляди, твой второй палец может вырасти длиннее большого, – сказал он. – Это признак ума. Если тебе повезет, то вырастет.
– Ха, – ответила я, будто мне было плевать.
– Ага… – произнесла Тина, разглядывая собственную ногу. Я поняла, что она шутит.
– Ты знала, что у меня узкие стопы? – спросил он. – У тебя, похоже, тоже. И взгляни на свои пальцы: они совсем как мои. Ногти такой же формы.
Мы выставили вперед наши руки. Я ничего не могла сказать по поводу ногтей: мои были настолько меньше, что их невозможно было сравнивать. Мое сердце билось легко и часто, как у птицы: именно этого я и хотела – чтобы все его внимание целиком было сосредоточено на мне.
– Ты мой ребенок, знаешь, – сказал он, все еще удерживая меня, хотя и перестав разглядывать.
– Знаю, – ответила я.
Я не совсем поняла, к чему он это сказал. Он замолчал, но не отпустил меня. Я надеялась, что этот тягучий момент скоро закончится – тяжелое, давящее ощущение того, что тебе не дают пошевелиться.
– Давай просто посидим вот так, – сказал он. – Давай просто тихо посидим минутку.
Я чувствовала на себе его руку и вспомнила о ремне безопасности.
– Лиз, ты запомнишь этот момент, – с чувством произнес он. Я сидела неподвижно, едва дыша, надеясь, что этого достаточно и что он меня выпустит. В ресторане при гостинице накрывали к обеду: подносы со свежими салатами и рыбой, авокадо, грейпфрутами, клешнями краба на льду, отдельный стол с пирожными.
Наконец отец сказал:
– Пойдемте обедать, – и убрал руку. Я перевела дыхание, соскочила и побежала вперед. Они медленно побрели за мной в сторону ресторана.
Тем вечером после ужина мы шли по белой песчаной тропе обратно к номеру – крытой соломой хижине, которую на Гавайях называют хале. Вдоль дороги были расставлены фонари на бамбуковых опорах, с плетеным основанием – их пламя мерцало, отсветы плясали на земле, кислый запах керосина обжигал ноздри. Словно металлические птицы, разговаривали гекконы: они ползали по черным бамбуковым шестам и убегали, когда я пыталась до них дотронуться. Лес был опутан густой паутиной лиан с восковыми листьями: одни оборачивались вокруг других, обернувших другие лианы. В прохладном ночном воздухе сладкий аромат ощущался сильнее, будто в это время цветы выдыхали. Пахло солью, цветами и сыростью.
♦
– Стив ведет нас позавтракать в «Опоздал на поезд», – анонсировала мама. Мой четвертый год в школе подходил к концу.
– Мы идем втроем? – теперь, когда появились Тина с Иланом, это было необычно.
– Да.
Ресторан разместился у самых железнодорожных путей, возле вокзала в Менло-Парке. Каждые полчаса мимо проходил поезд, и в этот момент сложно было расслышать даже тех, кто сидит с тобой за одним столом, и этот оглушающий грохот и создавал особый антураж. Рестораном владела семейная пара. Внутри висели кружевные занавески и пахло булочками из цельнозерновой муки, которые они подавали с маслом в корзинках, застеленных узорчатыми салфетками.
Нам принесли стаканы со свежевыжатым апельсиновым соком, но еще не принесли еду, и отец поднял стакан.
– Тост, – провозгласил он. – За твой переход в новую школу. Ты поступила.
Мама улыбнулась, и я поняла, что она тоже участница заговора. Я разрыдалась. Опять придется распрощаться с друзьями?
«Нуэва» – частная школа, расположенная в старом поместье Крокера на тринадцати гектарах земли в Хиллсборо, несколькими месяцами ранее я провела там три дня. Школа была создана для юных музыкантов, и в ней разрешалось пропускать занятия ради частных уроков музыки. Она задумывалась как школа для одаренных детей. Пока была там, я посещала занятия учительницы по имени Брайна. Она играла на гитаре и заканчивала день совместным исполнением песни о каком-то Чарли, который никак не мог выйти из метро и так и не вернулся домой.
Это было здание из серого камня, с балюстрадами и вековыми деревьями. Каждое утро в те три дня я ходила на обязательный для всех учеников получасовой урок пения, который проходил в комнате, именовавшейся бальной залой, с высокими стрельчатыми окнами, выходившими на лужайку и лес. Я не знала ни одной из песен, включая длинную, из нескольких частей, под названием «Русский пикник», поэтому особенно не вслушивалась. Дети из всех классов, старших и младших, сидели на полу и пели.
Позже я узнала, что Илан был против частной школы. Как и Рон, он считал частные школы элитарными и советовал маме не посылать меня туда. Но мама его не послушала. За несколько месяцев до этого отец сердито спросил у нее:
– Что с ней случилось?
Он заметил, что я не могла делать домашние задания по предмету, называвшемуся «текущие события». Мама ответила:
– Видишь? А я тебе говорила.
Сказала, что у меня в глазах скука. До этого она просила его оплачивать частную школу, но он отказался, потому что не хотел, чтобы я в очередной раз переходила в новый класс. Теперь он заставил ее пообещать, что если он заплатит за обучение и они переведут меня в «Нуэву», я останусь там.
За месяц или два до этого мама отказалась от моих занятий с логопедом.
– Зачем ей вообще логопед? – спросила она, когда мне предложили ходить на эти занятия в начале четвертого класса.
– Она шепелявит. Это может раздражать других людей, – был ответ.
Маме такая формулировка не пришлась по душе: ей нравилась моя шепелявость. Но она подумала, что мне могут понравиться индивидуальные уроки.
Однажды, забирая меня, она заглянула в учебники, объясняющие разницу между звуками [s] и [th]. По ее словам, они были некорректными и унылыми.
– Лиза поступает в «Нуэву», – сообщила она логопеду, женщине, которая мне, кажется, нравилась. – Быть может, вы напишете ей рекомендацию?
– Она недостаточно умная, – ответила логопед.
В школе я поняла, что когда проверяют, положили ли мы в корзину готовую домашнюю работу, и спрашивают всех по списку, нужно всего лишь отвечать «да», даже если я ничего не сделала и не сдала, и тогда никто не будет меня беспокоить.
Мы подали документы в «Нуэву» в середине учебного года, и сначала, как я поняла, меня не приняли, потому что не было мест. Позже я узнала, что дело было не только в свободных местах, но и в коэффициенте моего интеллекта, который оказался значительно ниже, чем когда меня тестировали в детском саду. Мама сказала, что директор школы долго читал ей и отцу нотации, спрашивая, в каких школах я училась и почему они так часто меня переводили. Мона написала рекомендательное письмо. Отец даже спросил – что так было не похоже на него, – не может ли он сделать денежное пожертвование, чтобы меня взяли. В то время я об этом не знала. В любом случае директор отказал. Но согласно школьной политике всем поступающим без исключения разрешали провести там три дня.
Мама рассказывала, что Брайна, одна из самых уважаемых учителей в школе, после того как я походила к ней на занятия, написала мне рекомендательное письмо на пяти страницах. К тому же другая девочка передумала поступать, и меня приняли. Не знаю, как я умудрилась произвести на нее такое впечатление, я никогда не видела того письма. В «Нуэве» хотели, чтобы я приступила к учебе сразу же, не откладывая, в конце четвертого класса.
Дорога до «Нуэвы» была неблизкой, и отец купил нам новую машину, «Ауди Кватро». Мы с мамой выбрали бордовую со светло-серым кожаным салоном. Основание ручного тормоза скрывалось под юбкой из кожи, которая напоминала слоновью. Приборная доска со стороны пассажира была укрыта деревянной панелью.
– Теперь я могу постучать по дереву, даже когда я за рулем, – сказала мама. Она стучала, чтобы не сглазить. Стучала, когда видела нечетное число ворон или когда дорогу переходила черная кошка. Она обращала внимание на суеверия, и порой неправильное число птиц приводило ее в мрачное настроение, которое рассеивалось, когда она замечала еще одну птицу.
По утрам мы ехали по шоссе 280 на север, мимо водохранилища. Дорога до «Нуэвы» занимала около сорока минут. Над взъерошенными холмами вокруг шоссе кружили птицы, в основном грифы-индейки, но иногда и орлы с ястребами.
– Как думаешь, с какой скоростью мы едем? – спросила мама, прикрывая рукой спидометр.
– Пятьдесят?
В старой «Хонде» приходилось орать, чтобы расслышать друг друга; в новой «Ауди» казалось, что мы вообще не движемся. Ничто не дребезжало и не вибрировало.
Мама убрала руку.
– Восемьдесят! – воскликнула она, а потом добавила, – Боже, – и нажала на тормоз.
Мама узнала, что появились новые брекеты из полимера, который цветом походил на кость – чтобы не так выделаться на зубах. Она попросила отца оплатить их, и тот согласился. Но кофе, который она пила каждый день, окрашивал прозрачные ободки вокруг кремовых замочков: после нескольких глотков ободки коричневели, и зубы казались желтыми.
– Придется бросить кофе, – сказала она. На следующий день изо рта у нее снова пахло эспрессо, ободки были коричневыми, и ужин она готовила в подавленном настроении.
– Бросать тяжелее, чем кажется, – призналась она, когда я спросила ее об этом.
Когда она улыбалась, ее губы цеплялись за брекеты и приподнимались. Женщина в магазине сказала ей:
– Поверить не могу, что вы решились носить брекеты в вашем возрасте.
Вернувшись домой сердитой, она стала ходить по комнатам: шаги были резкими, она разбросала по столу бумаги.
Вскоре она научилась сама менять ободки. Заказала упаковку новых и меняла их каждый день: она усаживалась на крышку унитаза, сгибала одно колено и срезала их своим серебристым ножиком – она вставила новое острое лезвие. «Чик-чик-чик», – старые ободки рвались и летели на пол. Она расправляла новые указательными пальцами и надевала на каждый зуб.
Как-то раз к нам заехала Мона, и они с мамой разговаривали, стоя у микроволновки на кухне. Мама беспокоилась, что дом слишком маленький, чтобы устраивать в нем мастерскую.
– Просто рисуй, – сказала Мона. – К черту спальню. Переделай ее в мастерскую и спи там.
Мона только что вернулась из колонии художников имени Карла Джерасси, в Вудсайде.
После этого разговора мама развесила на стенах в спальне черно-белые репродукции Пикассо, Кирхнера, Сезанна, Шагала и Кандинского 1920-х и 1930-х годов – все стены были полностью покрыты наползающими друг на друга листами. Они крепились к стене на скотч сверху и оттого напоминали чешую или черепицу. Нижний край бумаги поднимался и опадал, когда налетал ветерок. Вскоре она еще и гараж переделала в мастерскую, зашпаклевав стены.
Пошел последний семестр в колледже, и вдобавок к литографиям мама начала делать трафареты. Она вырезала их вручную из веленевой бумаги, но собиралась потом запустить в массовое производство, чтобы их вырезали для нее лазером, и продавать как часть набора.
– У меня получится, – говорила она. – Почему нет? – она недавно видела у кого-то в гостиной трафаретные цветы, которые поразили ее своей слащавостью. – Если люди делают деньги на такой ерунде, то я уж точно смогу заработать на чем-то гораздо более красивом.
Она придумала оформление для детских: взяла за образец анатомически верные рисунки птиц Одюбона и создала послойный рисунок при помощи нескольких трафаретов.
Примерно в то же время мы подружились с семьей, которая переехала в дом через дорогу. Мать семейства звали Лизой, ее муж работал врачом-подиатром, и я играла с их дочерью.
Когда мне исполнилось десять, Лиза настояла, чтобы мы провели у себя в гостиной церемонию с хула-хупом. Мама присутствовала на церемонии, и моя подружка со своим младшим братом тоже – мы все сидели на ковре рядом с диваном. Лиза хотела, чтобы я разделась, стоя у лежащего на полу хула-хупа, потом шагнула в круг и надела платье, которое подарила мне на день рождения мама.
Я отнеслась к идее скептически. Мне не хотелось раздеваться у всех на глазах.
– Отнесись к этому как к символическому жесту, – сказала Лиза. – Двузначное число, новая эпоха! Ты становишься собой, превращаешься в новую, полноценную, прекрасную Лизу.
– А хула-хуп – это ноль в десятке, – добавила она.
Все это напомнило мне о хиппи.
Я сняла одежду и в одном белье перешагнула через хула-хуп. Мама опустила жалюзи на окне. Все смотрели на меня, включая младшего брата, которого мы звали Лапшой, или Голой Лапшой, если он был голым. Стоя внутри хула-хупа, я надела новое бархатное платье, повернулась и присела, чтобы мама его застегнула.
Тем временем Лиза заговорила обо мне в третьем лице:
– Лиза переходит из детства на новую ступень зрелости. Она вступает в круг своей жизни и становится собой по-настоящему. Все эти восхитительные перемены происходят в жизни Лизы, потому что ей исполняется десять лет.
Я вынуждена была признать, что мне приятно оказаться в центре всеобщего внимания, участвовать в церемонии, сосредоточенной исключительно на мне. Когда Лиза окончила речь, я поверила ей: моя жизнь была особенной, и впереди меня ждало нечто новое.
Вечером того дня, когда мне исполнилось десять, мы ужинали за большим столом в ресторане под названием «Гринс» в Сан-Франциско: я, мать, отец, Мона, Тина, брат Тины и ее кузен Финн. После ужина мы все вместе вышли в ночь. Я шла между родителей, держа их за руки. Это было блаженство. Мои руки словно были дефисом, что впоследствии добавился к моей фамилии, соединив две стороны.
– Завтра мы филоним, – сказал отец, когда в следующий раз заехал к нам.
– Что значит филонить? – спросила я маму, когда он ушел.
– Он прогуляет работу, ты пропустишь школу, и вы проведете день вместе.
Во вторник утром мы поехали в город и первым делом остановились в ателье, выходившим на Юнион-сквер. Стол был устелен отрезами тканей.
– Всего на секунду, малыш, – сказал он.
– У Версаче действительно лучшие ткани, – сказал отец портному, пробегая большим пальцем по серой в клетку. – Лучше, чем у Армани, – он произнес это скорбным тоном, будто в том, насколько хороши ткани Версаче, было что-то печальное. В слове «Версаче» он прошепелявил дважды. Каждый образец ткани, который он щупал, он предлагал мне, чтобы я пощупала тоже.
Потом мы направились к мосту «Золотые ворота» и оставили рядом машину, чтобы пройти по нему пешком, как он и запланировал. В городе, разглядывая ткани, он казался уверенным в себе и непринужденным, но теперь, когда рядом никого не было, с рюкзаком за плечами, отец выглядел уже не таким уверенным, но куда моложе.
– Люди прыгают отсюда вниз, – сказал он, глядя в сторону округа Марин. – Поэтому здесь сетки.
– Правда? – а я-то думала, что они для рабочих, которые ремонтируют и красят мост. Вода в бухте под нами была восковато-зеленой, непрозрачной, как в диораме, и с такой высоты казалась застывшей, будто резиновой, с белыми неподвижными краями.
– Если спрыгнуть отсюда, расшибешься о воду, как о кирпичную стену, – он хлопнул одной ладонью по другой.
На мосту было ветрено, мы шли долго и почти не разговаривали. Мы забыли взять с собой воду, и поэтому, когда дошли до Саусалито – по узкому тротуару, через холм, где мимо нас проносились машины и автобусы, – мы умирали от жажды и усталости. Обратно к машине мы поехали на такси.
Я думала, у нас впереди еще много таких дней, но мы никогда больше не прогуливали вместе.
Через несколько недель маме нужно было представить итоговый художественный проект в колледже, и вечером накануне она была в панике, потому что до сих пор ничего не придумала. Поздно ночью, когда я уже заснула, она обратилась за помощью к соседу, тоже художнику. Тот сказал, что у него есть отличная идея: принес к нам в дом мусорное ведро и перевернул его, вытряхнув содержимое на пол. Скомканная бумага, спутанные каштановые волосы с расчески, коробки, пластиковые пакеты. Она-то думала, что у него хорошая идея, но он предложил только это. Но потом она стала собирать мусор в мешок – тонкий, из полупрозрачного темного пластика – и добавила к нему елочную гирлянду с маленькими белыми огоньками, хранившуюся у нас в комоде, как какой-то талисман. Огоньки мерцали в глубине мешка, сияя сквозь зеленовато-черный пластик, словно рыбье брюхо в мутной воде. Мама опустила объект на пол, тот осел и принял грушевидную форму – шире внизу, уже наверху.
– Это Мусорный Будда! – объявила она мне наутро. Тот стоял на полу у стены в гостиной, поблескивая, покрытый складками. Высотой он был побольше полуметра, приземистый, похожий на бродягу. Внутри сияли включенные в розетку лампочки. Потоки воздуха шевелили его пластиковую кожу. Казалось, будто он дышит. Мне было неуютно при мысли, что мама возьмет его с собой на занятие и покажет остальным, как будто это обнажит нас перед ними. Что они подумают? Может быть, Мусорный Будда воплощал ее представление о себе, о нас – святые парии.
Его очертания менялись каждый раз, когда она переносила его на другое место, но он сохранял одно стабильное свойство – был не совсем мусором.
На следующий день заехал отец.
– Заходи! – позвала мама. – Смотри, – сказала она, подводя его к стене, у которой воскресила Мусорного Будду. – Что думаешь?
Мама рассказала, что в колледже она погасила верхний свет и объект стал казаться живым.
Отец взглянул, но ничего не сказал. По его позе и походке видно было, что он страдает. Еще когда он приближался к дому, я заметила, что он шагал сгорбившись, что еще похудел. На нем не было лица.
– Мы с Тиной расстались. Все кончено, – заявил он и рухнул на стул в цветочек, стоявший у окна. Или он сел к нам за стол и сидел молча, опрокинувшись назад и балансируя на задних ножках стула почти в горизонтальном положении, и я не могла уже сосредоточиться ни на чем другом. За следующие полгода они расставались и сходились по меньшей мере раз десять. Когда они с Тиной расставались, он едва мог ходить и говорить от горя, ему трудно было поднимать при ходьбе ноги, он худел и желтел, оттого что питался одной морковью. Когда они были вместе, он ходил вприпрыжку, ликовал и как будто совершенно забывал, через что прошел. Каждый раз, когда они расставались, нам предлагалось поверить, что на сей раз окончательно.
Казалось, мы нужны ему, и это льстило. Даже несмотря на то, что в своей печали он держался замкнуто и почти не разговаривал, именно у нас он искал утешения, когда жизнь становилась невыносимой – когда в ней больше не было Тины. Иногда он приезжал и засыпал у нас на диване. Именно этого ощущения, что во мне нуждаются, мне больше всего недоставало неделю или две после разрыва, когда они снова были вместе.
Он не хотел быть нашим защитником, но невольно прикоснулся к этой роли. Чем ближе он подходил, прежде чем отстраниться, тем сильнее мне хотелось, чтобы он окутал нас тонкой паутиной.
Не помню, чтобы я часто виделась с Тиной в тот период. Становилось все труднее радоваться их воссоединению, ведь я знала, что вскоре последует новый разлад. Как-то раз я слышала разговор мамы и Илана: они обсуждали слухи о том, что дела в NeXT идут не слишком гладко. Я знала, что если NeXT развалится и они с Тиной навсегда расстанутся, он буквально погибнет от горя. Я тревожилась за отца.
– Я написал песню для Тины, – рассказал мне отец однажды вечером, когда мама ушла на свидание с Иланом, а я поехала к нему в Вудсайд с ночевкой. – Хочешь послушать?
Я слушала, сидя на диване. Он не стал включать лампу, но в окно проникал лунный свет. Я и не знала, что он умел играть что-то, помимо Heart and Soul.
Он сидел за роялем в полумраке огромной залы. Я плохо помню саму песню – только то, что его голос и аккорды звучали громко и четко, что они разносились по зале. Я поверить не могла, что он так хорошо играет, так хорошо поет. После он пожелал узнать мое мнение, и я с трудом убедила его – он не верил правде и продолжал переспрашивать – в том, что песня была прекрасной и печальной. Позже он подарил Тине кассету с записью, но потом забрал назад.
* * *
Неделю спустя, когда мы с отцом ехали в машине, он рассуждал вслух:
– Не понимаю, что со мной не так. Любой другой очаровал бы ее за секунду.
Не только он, но и другие взрослые иногда разговаривали со мной так, будто я тоже была взрослой: спрашивали совета, рассказывали о своих чувствах и желаниях, посвящали в детали своих отношений, хотя должны были знать, что я ничего в этом не понимаю. Личная жизнь – так они это называли. Никто из них еще не состоял в браке: ни отец, ни мама, ни Мона, ни Тина – и зачастую я была единственной, кто находился рядом, поэтому естественно, что они иногда обращались ко мне. Я слушала и думала: если бы я была на их месте, я бы прожила жизнь по-другому, избежала всех этих ошибок, этой драмы. Я слушала внимательно и раздавала советы, рассчитывая, что потом, когда я стану старше, у меня будет преимущество.
– Может быть, тебе стоит задуматься о том, нравится ли она тебе, – сказала я отцу.
Несколько недель спустя Стив с Тиной снова были вместе. Как-то субботним днем мы шли втроем по Юниверсити-авеню, направляясь в ресторанчик здоровой еды; мы с Тиной – по сторонам от отца. Едва мы зашли туда, на нас пахнуло фирменной чайной смесью: корица, гвоздика, апельсин, имбирь. Столы, стулья, лавки, форма официантов – все было в унылых оттенках коричневого, должного навевать мысли о здоровом питании. Вдоль барной стойки тянулся ряд стульев, обитых искусственной кожей.
– Лиз, ты запомнишь этот момент, – сказал отец громко и торжественно, как если бы я была его хроникером. Дела в NeXT шли неплохо, Тина была рядом, я тоже. Солнце светило так ярко, что его лучи стирали предметы, на которые падали. Он часто произносил эту фразу, когда они с Тиной снова сходились, принимая бушующие в нем чувства за мои. Я задумалась: а вспомню ли я это потом?
В те дни мое отношение к нему колебалось: на место жалости заступала рабская преданность. То он казался мне крошечным и слабым, то – неизмеримо огромным, непроницаемым, недоступным. Эти два образа постоянно сменяли друг друга в моем сознании, не соприкасаясь.
По тротуару навстречу нам шел попрошайка. Его лицо обрамляли длинные пряди полуседых каштановых волос, на макушке была лысина. Большой круглый живот обтягивала красная футболка. Рот открывался и захлопывался при ходьбе, как у рыбы. В нем осталось всего несколько зубов.
– Это я через два года, – прошептал нам отец.
Он часто это повторял, показывая на старых бродяг, что сидели на обочине с грязными волосами и грязными обветренными лицами. Некоторые из них выглядели так, будто носили подгузники. Даже изрядно постаравшись, он не смог бы через два года превратиться в них. Как будто этой фразой он желал подчеркнуть разницу между ними: «Смотрите, как мне далеко до него». Или: «А вот и нет!»
Или же, наоборот, пытался напомнить себе, что ничем не отличается от всех остальных, что ничуть не лучше.
– Точно, – отвечала я, чтобы его посмешить.
♦
Мы с мамой отправились на несколько дней в место под названием «Тассаджара». Это был центр дзэн-буддизма с природными горячими источниками, где она должна была стать временной послушницей и выполнять разную работу в обмен на место в более скромном домике по сравнению с теми, где останавливались другие гости. К нашему домику нужно было подниматься по длинной лестнице с маленькими деревянными ступеньками, устроенными прямо в склоне холма. Однажды пошел дождь, земля и ступеньки стали скользкими, держаться было не за что, и мы с трудом карабкались наверх, жалуясь и смеясь.
Целыми днями, пока мама подметала полы и чистила на кухне овощи, я бродила вокруг, заводила друзей, плавала и ставила эксперименты в уличном баре, который устанавливали после обеда, – смешивала в стеклянных кружках бесплатный кофе со льдом и молоком. На бетонный бортик бассейна усаживались измученные жаждой пчелы: они приникали к лужицам, которые оставляли выходившие из воды купальщики. Я старалась не наступить на них.
– У тебя аллергия? – спросила какая-то женщина.
– Нога раздуется, и я не смогу ходить.
– А где твоя мама? – спросила она.
– Работает, – я сгорала от желания сообщить, что я не какая-то там девочка, которая живет в самом дальнем и неприметном домике, а что-то значу.
– А твой папа?
– Его здесь нет. Он… он управляет компанией.
– Какой компанией? – спросила она.
– Она называется NeXT.
Женщина посмотрела на меня внимательно, изучающим взглядом, и я поняла: она догадалась, что я не просто девочка у бассейна, которая боится пчел, а переодетая принцесса.
– Я знаю, кто твой папа, – сказала она. – Но я слышала, что его компания развалилась.
– Когда вы это слышали?
– Читала в газете несколько дней назад, – ответила женщина. – О том, что NeXT на грани банкротства.
Мы покинули его, его компания потерпела крах. Он этого не переживет.
До нашего отъезда он говорил, что где-то через месяц состоится презентация NeXT и что выставочный образец не работал. «Если он не заработает, все полетит к чертям», – говорил он.
– Мне нужно идти, – сказала я женщине. Нужно было немедленно ехать домой. Я должна была убедить маму вернуться, причем так, чтобы она не догадалась, что я рассказала кому-то, кто мой отец. Если бы она знала, что я первому и каждому встречному объявляю, чья дочь, то волновалась бы, пока работала, – она считала это небезопасным.
Я побежала по грунтовой дорожке, обсаженной деревьями, к зданию, где находилась кухня, – там мама велела искать ее в случае необходимости.
– Нам нужно уехать, – заявила я, когда нашла ее. – Я хочу домой, я переживаю за Стива.
– Почему, солнышко?
– Я слышала, что NeXT развалилась.
– От кого?
– Женщина сказала, что прочитала в газете.
– Какая женщина?
– Одна женщина здесь.
Мое воображение рисовало его сломленным. Он нуждался в нас, пока мы в блаженном неведении проводим дни там, где он не мог нас найти. У него были только мы – только я, – и я его покинула. От угрызений совести у меня тянуло в животе. Я надеялась, что мама не спросит, как разговор зашел о NeXT.
– Давай сначала позвоним, – сказала она.
Телефон-автомат висел на стене здания. Мама опустила туда четвертак и отыскала рабочий номер отца. Я жала на кнопки, сердце рвалось у меня из груди, и я переживала, что на линии сбой.
Отец поднял трубку.
– Алло, – сказала я. – У тебя все в порядке?
– Ага, – ответил он.
– И на работе тоже?
– Да, – ответил он. – А что?
– Ничего, – сказала я.
Потом он сказал, что занят, мы попрощались, но мое горло все еще саднило от того, что казалось отчаянной любовью.
Несколько месяцев спустя мы отправились на презентацию NeXT в концертном зале Дэвис-Симфони-Холл. Отец готовился к ней несколько месяцев, и я знала, что он нервничает, особенно по поводу демонстрации возможностей нового компьютера в режиме реального времени.
По настоянию мамы и Моны я надела синее вельветовое платье, перевязанное на поясе красной лентой, хотя мне самой хотелось пойти в чем-то не настолько консервативном. В Сан-Франциско холодный утренний ветер бил мне в лицо, розовый свет полыхал на стеклянных стенах зданий.
Нам показали, как свернуть в изогнутый проезд, куда не пускали другие машины. Женщина в черных чулках выдала нам ламинированные бейджи на зажимах и провела к нашим местам в первых рядах огромного зала. По обеим сторонам от сцены колыхались и переливались на свету гигантские растяжки, в центре каждой – логотип NeXT. Посередине огромной сцены стояли стол, стул, бутылка воды и компьютер. Когда я представила, что почувствует отец, если презентация провалится на глазах у всех этих людей, мне показалось, будто в желудке плещется кислота. Люди заполняли места позади меня, они предвкушали то, что должно было случиться. Звуки шагов и голосов были приглушенными, не такими, как в большом мире: тысячи плотных бархатных сидений смягчали акустику просторного зала.
К нам подошла Барбара с планшетом в руках.
– Хочешь заглянуть к папе за кулисы?
Мама кивнула. У меня было ощущение, будто взрослые готовились посвятить меня в огромную тайну. Люди в зале наверняка заметили, как я в одиночестве зашагала к сцене. Я чувствовала спиной их взгляды и оттого держалась прямо, ступала осторожно.
Барбара приподняла толстый бархатный занавес, и мне открылось темное пространство, разделенное на бархатные комнаты. Внутри одной из них в окружении других людей стоял отец. Он был в костюме и оттого выглядел солидней обычного. Было не похоже, что он нервничал. Заметив меня, он улыбнулся.
– Удачи, Стив, – сказала я.
– Спасибо, дружище, – ответил он, а потом скрылся в бархатном мраке. Вслед за Барбарой я вернулась в зал. Я переживала, что компьютер откажется работать, и хотела, чтобы он знал, что я все равно его люблю, даже если ничего не получится. В зале загремел «Гимн простому человеку» Аарона Копленда. От неровного ритма духовых инструментов мои нервы оказались на пределе. На своих местах у сцены меня ждали мама, Тина, Мона, отец отца Пол и сестра отца Пэтти. Это был единственный раз, когда я видела Тину в платье и с макияжем на лице. Казалось, она чувствует себя неуютно – слишком высокая, шелестящая, красивая. Я села рядом с мамой.
Наша часть зала потемнела, его зажглась. Он вышел на сцену и выглядел куда более свободным и непринужденным, чем мгновение назад, словно находиться на сцене ему было легче, чем жить. Он сел за стол; изображение с маленького экрана его компьютера проецировалось на экран за его спиной, и я знала, что наступил момент, когда все может пойти прахом, компьютер может зависнуть и опозорить его.
Отец объявил, что в каждом компьютере есть словарь и полное собрание сочинений Шекспира. Он нашел цитату о ручье текучем и книге из «Как вам это понравится». Я никогда раньше не слышала, чтобы он говорил о словарях или Шекспире. Потом он создал в окне на экране какую-то трехмерную форму, цилиндр или трубку, в которой прыгала молекула. Под цилиндром он смоделировал виртуальную кнопку, та сжала контейнер, и молекула запрыгала быстрее. Потом он создал другую кнопку, которая добавила тепла. Молекула запрыгала еще быстрее. Все изображения двигались гладко, не дергались, как на моем компьютере, когда я пыталась перетащить их с одного края экрана на другой. Они состояли из куда более мелких пикселей, чем я когда-либо видела на компьютерном экране, и при движении не становились зернистыми. А потом – неожиданно – отец создал еще одну кнопку. Она включала звук: он кликнул по ней, и ритм танцующей молекулы чудесным образом стал слышен в зале, отражался от стен.
– Видите? Вот что мы можем делать с его помощью, – сказал он с нарочитой небрежностью, двигая по рабочему столу окно, в котором был цилиндр – в котором находилась молекула, которая продолжала прыгать. Его голос потонул в громовых овациях. Люди аплодировали стоя. Я тоже с облегчением захлопала. Сработало. Вскоре мы все поднялись с мест.
Отец улыбался, стоя перед нами на сцене, словно ожидал одновременно противоположных вещей: чтобы аплодисменты прекратились и чтобы они продолжались. И в этот миг он принадлежал всем.
♦
В начале пятого класса в своей новой школе я решила, что стану популярной. В старой школе я обращала внимание на популярных девочек, в новой – хотела быть одной из них. Летом перед началом учебного года я нашла в галантерейной лавке большие пластмассовые кольца. К ним можно было прикрепить металлические крючки и получить дешевые сексуальные сережки, что впоследствии станут предметом ожесточенных ссор с мамой, которая сочтет сережки слишком провокационными.
По утрам перед уроками мы с моими новыми подружками собирались в женском туалете в холле и, перегнувшись через раковину желтоватого цвета, делились тушью, лаком для волос, блеском для губ. С помощью лака для волос и воды я превращала свою челку в блестящую волну.
Потом я натягивала мини-юбку – изначально это был шарф-хомут из магазина «Юнитс», но как-то раз в раздевалке я по счастливой случайности нашла ему новое применение – и, наконец, надевала висячие сережки, которые мне не разрешалось носить. Свет отражался от гладкой пластмассы, когда они покачивались в неровном ритме, удлиняя мое круглое лицо и делая его более женственным. Я тихонько запаковывала их в рюкзак вместе со всем остальным, что носить запрещалось.
Та часть меня, что заставляла носить вещи, которые не одобряли взрослые и запрещала мама, пахла губной помадой, лаком для волос и блестела, как дрожащие на ходу сережки. Она была связана с сексом, но не с самим действом, а с возбуждением, которое вызывало осознание и предвкушение чего-то нового – я чувствовала это, будто некую силу. Как будто внутри меня в другое положение неожиданно перевели мощный переключатель.
Взрослые, кажется, считали, что учеба важнее всего, но я решила, что они просто не понимали, какое удовлетворение приносит популярность, возможно, потому что сами были слишком старыми или уродливыми, чтобы быть популярными, и потому завидовали. Я считала, что мама такая же, поэтому я воспринимала все ее правила относительно одежды и сережек как отчаянное желание не дать мне получить то, что уже недоступно ей.
Я намеренно одевалась вызывающе, но, когда была со взрослыми, которыми восхищалась, и видела, что им не нравился мой внешний вид, мне казалось, будто они смотрели мне прямо в душу, а там возникло нечто ветреное и распутное, что уже невозможно искоренить. Какая-то порочность, какой не было в моих друзьях. Однажды я гостила с ночевкой у тети Линды в ее квартире во Фремонте.
– У тебя есть бойфренд? – спросила она.
– Мне бы хотелось, – ответила я. Она дала мне послушать свою любимую песню, Get Outta My Dreams, Get into My Car.
– А твоя любимая? – спросила она.
– Не знаю, можно ли тебе сказать, – ответила я. – Это песня Джорджа Майкла.
– Которая?
– I Want Your Sex, – ответила я. Она, нахмурившись, отвернулась.
В «Нуэве» мы иногда занимались в библиотеке. Это была открытая комната в конце двух параллельных коридоров, по обеим сторонам в ней тянулись ряды книг на низких полках. Посередине стояли стул и три дивана вокруг – мы сидели на них, когда Дебби, библиотекарь, читала нам вслух о том, из чего делают зубную пасту. Оказалось, что в основном из мела, а сам мел – из костей морских обитателей, которые жили тысячи лет назад, умерли, осели на дно океана, их кости спрессовались, а потом были измельчены. Дебби была высокой и красивой, с коротко стриженными каштановыми волосами, в очках с толстыми стеклами в позолоченной оправе. Она носила длинные юбки из плотной ткани в рубчик. Ее кожа как будто состояла из двух слоев: восковый белый поверх красного – и когда она сердилась, красный просвечивал сквозь белый.
Когда она заканчивала читать вслух, мы должны были тихонько читать сами. Меня книги не интересовали, мне хотелось болтать с Кейти, Кейт и Еленой, которые были послушны и не отвлекались, если только рядом не было меня. Я была безразлична к учебе и тормошила друзей, подбивала их бездельничать вместе со мной. По этой причине Дебби следила за мной пристальнее, чем за остальными.
Для отвода глаз я положила книгу на колени и стала перешептываться с Кейти и Кейт. Мы сидели дальше всех от Дебби, спиной к полкам, вытянув ноги, прижавшись друг к другу локтями, и шептали на выдохе – согласные слегка клекотали.
Казалось невозможным, что Дебби может услышать нас с такого расстояния. Но она была тут как тут: она сердито смотрела с высоты своего роста, лицо полыхало красным.
– Лиза, – сказала она и показала на другой участок ковра, слишком далеко, чтобы болтать. – Сядь там.
Оказавшись в изоляции, я достала с полки случайную книгу и, открыв, обнаружила картинки с голыми женщинами, изображенными в мельчайших деталях – вплоть до волос на теле и комочков на сосках.
Я отодвинулась подальше, в самый дальний угол, и прижимала книгу к себе так, чтобы если Дебби поднимет глаза, ей был бы виден только профиль. Усевшись на пол, я снова открыла ее и склонилась над страницами, чтобы разглядеть получше. Мое сердце забилось чаще: в середине книги на развороте было пять изображений одной и той же женщины, проходящей пять стадий физического развития.
От картинки к картинке груди набухали и соски увеличивались. Волос на теле становилось больше, а курчавые волосы на голове, наоборот, из длинных стали короткими. Вначале она была без очков, но на четвертой картинке они появились и остались на пятой. Одна нога была одинаково повернута вправо на всех картинках. Она улыбалась как ни в чем не бывало, не помня себя и будто не подозревая, что голая. Словно она была бумажной куклой, должной принять участие в деловом совещании, но ее одежду еще не успели вырезать.
Последовательность напоминала виденные мною схемы эволюции человека, от шимпанзе до финальной стадии, где изображенный в профиль Homo sapiens устремлялся за пределы страницы навстречу цивилизации. В начале он был косматым, а заканчивал путь почти безволосым; с женщиной же происходило наоборот. В конце у нее появлялись волосы, а вначале – гладкое тело нежно-розового цвета, почти однотонное, если не считать сосков и волос на голове, как у меня. И если прямоходящий человек, казалось, стремился к новым возможностям за пределами страницы, то женщина стояла неподвижно, развернувшись к смотрящему широкими бедрами, и улыбалась так, будто хотела остаться именно там, где была.
Я знала, что у взрослых женщин есть грудь, бедра и лобковые волосы. Но я не знала о промежуточных стадиях, и именно это становление больше, чем первая и последняя стадии, волновало и вызывало отвращение. Мне хотелось посмеяться над картинками, но вместе с тем я не могла отвести от них взгляда.
– Елена, смотри! – прошептала я, когда та проходила мимо.
– Ого! – сказала она, садясь рядом.
– Т-с-с, – прошептала я и посмотрела поверх полки на Дебби, которая разговаривала с кем-то из учителей.
– Я как вот эта, – сказала Елена, показывая на лобковые волосы на второй картинке. Тонкие волоски, сквозь которые проглядывала кожа.
Меня удивила ее откровенность. Мне-то казалось, что мы просто дурачимся, смотрим на картинки с другого края Вселенной, поэтому ее тон застал меня врасплох. До этого момента я была своей, потому что нашла книгу, а теперь превратилась в изгоя, потому что у меня еще не было ни волос, ни груди.
– Я тоже, – соврала я. Эта книга вызывала во мне тот же трепет, тот же страх и тепло в животе, что и фотографии голых женщин на страницах Playboy.
– Но грудью я больше похожа на эту, – призналась Елена, показывая на третью картинку, где груди были еще маленькие, но уже отбрасывали тень. До этого я думала, что все части тела эволюционируют синхронно от фазы к фазе. Неужели существовали смешанные варианты?
– А у меня как на первой, – сказала я.
Она перевернула страницу: там оказались изображения покрытых волосами лобков крупным планом. «Лобковые волосы, – говорилось в книге, – у разных женщин занимают разную площадь». На одной картинке они выдавались полукругом в сторону живота, на другой граница была ровной, отчего получился треугольник, на третьей волосы образовывали V-образный выступ, похожий на вдовий мыс на лбу, только наоборот. «У некоторых женщин лобковые волосы растут в форме сердца», – говорилось в книге, стрелка указывала на третью картинку. Я и понятия не имела, что такое возможно. И страстно возжелала, чтобы мои волосы были в форме сердца.
Я не замечала Дебби, пока она не подошла так близко, что ее юбка загородила свет. Книга служила доказательством, что она была права на мой счет.
Она без улыбки нагнулась над нами. Я подумала, что она сейчас разразится гневной речью о порочности моей натуры или снова изолирует меня от остальных. Но вместо этого она протянула еще одну книгу о половых отношениях и половом созревании с картинками голых людей. Когда мы ее почти закончили, Дебби подошла и, улыбаясь, дала следующую. Ее улыбка была доброй, но глаза поблескивали, как будто здесь таился какой-то подвох. Она продолжала снабжать нас книгами: в библиотеке было по меньшей мере еще шесть таких томов, хотя я никогда их раньше не замечала. Следующие несколько дней мы с ее дозволения внимательно их изучали, как будто это был вполне обычный нужный предмет, вроде истории или математики.
В «Нуэве» не ставили оценок. Вместо этого учителя писали от руки длинные характеристики, которые обсуждались на встречах с родителями. Когда я перешла в новую школу, все мое внимание сосредоточилось на социальной сфере, поэтому мои характеристики не блистали.
Я с ужасом ждала этих встреч – солидарности мамы и учительницы, двух женщин, порицающих мой идеальный внешний вид и недостаточную прилежность. Мама всегда хорошо одевалась для таких посещений, внимательно слушала и вела себя сдержанно, как будто дома мы тоже были сдержанны и почтительны друг с другом, хотя на самом деле она все чаще на меня сердилась.
Моя учительница Ли сказала маме, что мне нужно обзавестись хобби.
– Если у нее появится какое-то увлечение помимо школы, то и учиться она станет лучше.
– Все, что тебе интересно, – сказала Ли, глядя на меня. – Что-нибудь, что хотелось бы попробовать. Не связанное со школой.
И это, по их мнению, наказание?! Больше похоже на подарок! Месяц назад мама сводила меня на отчетный концерт в студию танцев «Зоар» за книжным магазином на Калифорния-авеню, и там я смотрела, как женщины в трико прыгают под музыку среди разноцветных огней в белых палатках. С раскинутыми руками, растопыренными пальцами, они мелко и быстро покачивались, как отряхивают с себя пыль купающиеся в лужах птички.
– Мне бы хотелось ходить на танцы, – ответила я. – Джаз.
– Отлично, – сказала Ли. – У нас есть план.
Я стала дважды в неделю ходить на танцы, но мы с мамой все равно ссорились из-за моих нарядов и недостаточной усидчивости. Каждая деталь, необходимая мне для создания образа, попадала в список запрещенных ею, поэтому я постоянно врала и носила запретную одежду тайком, пребывая в постоянном страхе, что однажды она без предупреждения нагрянет в школу или что позвонит учительница, и она узнает.
И вот это случилось. Обычно я ездила домой на автобусе и до своей остановки успевала переодеться и стереть макияж, но как-то раз мама спонтанно решила за мной заехать и увидела накрашенной, с висячими сережками и в короткой юбке поверх драных чулок. К машине мы шли в молчании.
– Это всего лишь сережки, – сказала я в машине. – Почему ты так из-за них злишься?
Сережки были центральным элементом моего образа. Они намекали на секс.
– Они неприличные, – заявила мама. – Сними их.
– Но другие дети их носят, – ответила я, осознавая, что, с одной стороны, сказала правду и сережки были всего лишь сережками, а с другой – что они были чем-то еще и мама тоже в чем-то права, хотя я не совсем понимала, в чем.
– Мне плевать на других детей, – она потянулась ко мне, будто хотела вырвать их из моих ушей. Я увернулась.
– Я запрещаю тебе гулять месяц, – заявила она. До этого она уже запретила мне гулять два месяца за то, что я протащила в школу мини-юбку и черные нейлоновые колготки в рюкзаке. – А еще тебе запрещается пользоваться телефоном, юная леди, – добавила она, стиснув зубы. – Ты врешь и ты юлишь.
Это была правда. Я тайно носила запрещенную одежду. Тайком пробиралась в ее ванную, когда ее не было дома, и брила ноги, пока икры не начинали отражать свет. А потом врала, что не трогала бритву.
– И месяц без карманных денег.
Мне выдавали пять долларов в неделю, но так часто наказывали за мою одежду, отрицательные характеристики в школе, за то, что я не делала домашнее задание, когда обещала, что сделаю, что я провела без карманных денег по меньшей мере месяца три. Единственные средства, которыми я располагала, я получала от отца Кейт Уилленборг, который выдавал нам по двадцатидолларовой купюре и высаживал у торгового центра. Мне казалось, что деньги нужно как можно скорее потратить, превратить в предметы, пока они не исчезли.
Когда мы вернулись домой, мама стала кричать. Я беспокоилась, что соседи услышат. По ее венам будто бежала какая-то неведомая мощь, напряжение было слишком высоко для ее небольшого тела. Она затрясла указательным пальцем прямо у меня перед носом, ее щеки порозовели.
– Ты впустую тратишь свою жизнь, – сказала она. – Если ты сейчас не будешь учиться, то потом не сможешь заниматься делом, которое любишь, не сможешь работать с умными людьми.
– Но я только в пятом классе, – ответила я.
– Ты не понимаешь, – сказала она и заплакала. – Работа, которую ты делаешь сейчас, приведет тебя к работе, которой ты будешь заниматься в будущем. Она определяет людей, с которыми ты проведешь свою жизнь, насколько они будут интересными. Твоих коллег.
– Да плевать на коллег, – ответила я. Я представляла себе людей в душной комнате, которые воображали, что здорово проводят время, но в действительности лгали себе. Мне казалось, мама меня обманывает, потому что хочет, чтобы я стала такой, как она. В этом не было смысла – у нее не было никаких коллег. Но из-за того, с какой настойчивостью она заставляла меня отказаться от собственного мировосприятия и перенять ее, я предположила, что, если сделаю это, в конце концов превращусь в нее. Я была уверена, что если откажусь от всякой радости в пользу учебы, сулящей мне награду в отдаленной перспективе, то в результате получу такую же пресную и бесцветную жизнь, какой была жизнь в школе. И только годы спустя я поняла, что она говорила о собственной потере – о том, что, так рано родив ребенка, не смогла продолжать учиться, найти интересную работу. О том, что теперь она работала одна, а ведь ей, может быть, понравилось бы работать в команде. И то, как отчаянно она заставляла меня учиться, чтобы потом у меня была хорошая жизнь, ярче всего выражало то неимоверное чувство утраты, что она испытывала.
– Потом тебе не будет плевать, маленькая дрянь, – ответила она, с такой силой пнув дверь моей спальни, что на белой краске остался след, похожий на удивленно открытый рот.
Несколько дней спустя я застала маму в ванной: склонившись на раковиной, она острогубцами сдирала брекеты.
– Что ты делаешь?
– Ортодонт сказал, еще год, – ответила она, – но я не хочу.
Что-то громко треснуло.
– Мам, сходи к врачу. Пусть он это сделает.
– Не могу ждать. Не могу так больше жить.
Я заметила, что в последнее время она жалуется на них чаще обычного: больно, еда застревает, надоело менять ободки. Ей хотелось как можно скорее от них избавиться. По ее словам, из-за того что она так часто меняла ободки, зубы смещались быстрее и теперь были достаточно ровными.
– Пожалуйста, не надо, – попросила я. Я стояла рядом с ней в маленькой ванной. Проволока торчала наружу, как серебристые усы.
– Я не перестану, – ответила она. – Иди отсюда. Займись чем-нибудь другим.
♦
Иногда по вечерам звонил Тоби. Он был уже в шестом классе и пользовался популярностью в школе. У него были светлые волосы, длинная шея и торчащие в стороны уши, словно нежные раковины. Его голос был густым и низким, с хрипотцой, в нем иногда все еще звучали высокие нотки. Я флиртовала с ним в школе: поглядывала и быстро отводила глаза, а потом мы с подружками заливались смехом.
– Хочешь встречаться? – как-то раз спросил он.
– Конечно, – ответила я. Я заранее решила, что если он спросит, отвечу: «Конечно», – это означало согласие, но звучало сдержанно.
Мы запланировали французский поцелуй. В обеденный перерыв Кейт с Крэйгом должны были сопроводить нас к Дровам. Дровами мы называли местность на самом краю школьного участка – там, в изгибе пожарного проезда, тянущегося вдоль пересохшего русла ручья, находилась вырубка и лежали распиленные стволы. Обеденный перерыв длился всего сорок минут, и с учетом дороги оставалось не так много времени на поцелуй.
Мы пошли по тропинке от школы, потом пересекли по мостику ручей в тени деревьев, напомнивший мне «Мост в Терабитию» – книгу, заставившую меня прочувствовать всю значимость любви и жизни. В теплом сухом воздухе трепетали ленточки свежего ветра. Листья шуршали под ногами, деревья над головой отбрасывали на тропинку прохладные тени, солнечные блики сияли по всему лесу, словно белая краска.
– So kiss a little longer, longer with Big Red, – пропела Кейт.
После моста тропинка стала более крутой и заросшей, и я чуть было не упала, поскользнувшись, но удержалась, хватаясь за ветки и стараясь не потерять сережки.
Когда мы дошли до места, Тоби сказал:
– Теперь вам, наверное, лучше уйти.
– Да, – подхватила я. – Спасибо, что привели нас.
В школе я врала: говорила, что уже целовалась, потому что стыдилась того, что отец начал раньше меня, и думала, что буду выглядеть привлекательнее, если пройдет слух о том, что я это уже делала. У меня закружилась голова. Я встала на пенек, чтобы наши лица оказались на одном уровне.
– Ну… – произнес он.
От него пахло мылом и стиральным порошком. У меня по спине побежали мурашки, из живота поднималось тепло. Я не совсем представляла, как долго все должно длиться, насколько лихорадочно нужно шевелить языком. Поцелуй был теплым, приятным и электрическим, температура у Тоби во рту была на градус-два ниже, рот казался не таким соленым. Я спрашивала себя, правильно ли двигаю языком? Сколько внимания уделять его языку и сколько – своему собственному?
Мое сердце трепетало. Его язык казался алчным, ищущим, заостренным на конце, Тоби с силой проталкивал его в мой рот. Подбородок намок от слюны, и в какой-то момент я забеспокоилась, как мне ее стереть, когда все закончится. Он провел языком позади моих верхних передних зубов, по бугоркам на моем небе.
У меня затекла шея, поэтому я рискнула прерваться и склонить голову на другую сторону, перебросив и волосы тоже. В попытке возобновить поцелуй мы столкнулись зубами. Мы оба нервно хихикнули, потом продолжили. Впоследствии я научилась поворачивать язык в обе стороны так, чтобы открыть мягкую нижнюю часть.
Мы не совсем представляли, когда пора закончить, но нам нужно было вернуться в класс. К тому же мы уже поцеловались, склонив головы и в ту сторону, и в другую.
– Пора идти, – сказала я. На ватных ногах я соскочила с пенька. Его губы покраснели по краям. Он вытер рот тыльной стороной ладони.
Когда он отвернулся, я сделала то же самое.
Следующим летом, когда мы целовались в кинотеатрах, на пляже, в заповеднике «Бейлендс» и в фургоне его матери, когда мы обменялись не одним десятком писем, Тоби позвонил, чтобы со всем покончить. Я говорила с ним по новому беспроводному телефону в брызгах краски, который мама купила, когда мы въехали в дом на Ринконада-авеню. Как и микроволновка, телефон был символом того, что наша жизнь пошла в гору.
– Думаю, нам нужно расстаться, – сказал он.
Я почувствовала укол вины, которую не могла объяснить.
– Прости, если я что-то сделала не так, – ответила я, задыхаясь.
– Чего? Да все в порядке, – ответил он.
Я повесила трубку, отправилась в мамину ванную и стала рыться в маминой красной кожаной косметичке, где она хранила драгоценности и где я однажды нашла свои детские зубы. Рядом с ней на выложенной плиткой полке лежал кулон и два индийских браслета, на которые я давно положила глаз, но которые мне не разрешалось носить. Я надела их. Было утро воскресенья, мама ушла по делам на несколько часов. Подняв руку, чтобы не слетели браслеты, я прошла в ее гардеробную и, покопавшись в одежде, достала из корзины с грязным бельем шелковую персиковую блузку с короткими рукавами, пуговицами спереди и воротником. Надевать ее мне тоже было нельзя. Я натянула блузку через голову, чтобы не расстегивать. И вот я уже чувствовала себя по-другому – сильнее.
Я снова взяла телефон и села на ее кровати. Собралась позвонить ему, чтобы показать мою уверенность, мой новый независимый дух.
– Алло?
– Привет, это снова я. Я только хотела сказать, чтобы ты не переживал. Я в порядке, – едва я произнесла эти слова, как мне стала очевидной вся глупость этой затеи: он и не думал переживать.
– Знаешь, я просто хотела, чтобы ты знал, что у меня все хорошо. Просто я так быстро повесила трубку и все такое.
– Спасибо, – повисло долгое молчание.
Дрожа, я нажала на кнопку, и разговор наконец окончился. По крайней мере все произошло быстро. Я схватила мамину расческу и отправилась в свою комнату в ее браслетах, блузке и своих пижамных штанах.
По дороге я расчесалась и несколько раз взмахнула волосами, чтобы они были пушистее. Вытянула джинсы из кучи грязного белья у себя в комнате, надела их, схватила с полки дневник и опустила скрежещущие жалюзи выходившего на дорогу окна.
Открыла шкаф, чтобы видно было зеркало на внутренней стороне дверцы, но не стала смотреть. Села на полу против зеркала и принялась писать. Периферийным зрением мне был виден мой расплывчатый силуэт в зеркале, и я писала косым взрослым почерком, словно боль от первого разрыва уже сделала меня старше, более зрелой. Я сидела на коленках, склонившись вперед, мои волосы падали на одну сторону, будто я позировала для фотографа или просто для кого-то, кто мог меня увидеть, – все это было важно, потому что отражало мою суть.
Я передвинула руку, браслеты звонко ударились друг о друга. Посмотрела на блузку, на то, как персиковый цвет сочетался с кремовыми браслетами, а те – с деревом. Взрослые говорили, что некоторые моменты из детства запоминаются навсегда, а некоторые стираются из памяти, но мне не было ясно, какие моменты оставят воспоминания, а какие нет: сами моменты никак на это не указывали.
Я записала, что рассталась с Тоби – то есть что он со мной расстался. И записала, что мне грустно. Но у меня все будет в порядке – это следующая строка. В деталях описала, что на мне надето – на случай если много лет спустя я захочу представить, какой была в этот момент. Мои слова создавали впечатление, будто блузка и браслеты мои, а не мамины.
Я откинула волосы и подняла взгляд. В зеркале мои волосы не падали гладкой волной, а пушились, тонкие и глупые. Наряд, который я описала, выглядел не так, как я его себе представляла: блузка сидела криво, из-за того что смялась, пока лежала в корзине, короткие рукава спускались ниже локтя, у меня не было груди, чтобы приподнять ее, поэтому спереди она болталась, как пустой мешок. Цвет был слишком тусклый, почти сливался с кожей. Браслеты были не изящными, а просто большими и нелепыми.
Побег
♦
Я проснулась в темноте с колотящимся сердцем. Ужас ощущался камнем в груди, привкусом жести во рту. Только что воздух колыхнулся от отдаленного гула, и твердая опора, земля все еще дрожала под моей постелью. Это был конец: ядерная бомба уже на пути к НАСА.
Я знала, что делать – заранее спланировала, как использую короткий промежуток времени между секундой, когда пойму, что это бомба, и моментом взрыва. Я побегу через темный дом в мамину спальню, разбужу маму, расскажу ей о бомбе и о том, что у нас осталось всего несколько минут. Мы обнимемся и будем плакать, пока не растворимся в свете и беспредельной радиации.
Я успела вскочить, прежде чем поняла, что это был всего лишь поезд. Грузовые поезда ходили по ночам, они были длиннее, чем пассажирские. Раньше они меня никогда не будили.
Незадолго до моего одиннадцатого дня рождения у меня начались мигрени. Я понимала, что очередная на подходе, если опускала взгляд на руку и часть ее пропадала или если смотрела в зеркало и вместо половины лица видела серое облако с мерцающим швом. В течение 20 минут после этого первая серебристая электропила проходила сквозь мой лоб, глаза и проникала прямо в мозг.
Мигрень стала неотделима от страха перед надвигающейся ядерной войной. Женщина в передаче на радио NPR объяснила, что, если бомба запущена, ее невозможно остановить. Наши снаряды были направлены на Россию, их снаряды – на нас. Русские будут целиться в НАСА, подумала я, потому что это стратегически важный объект. НАСА находилось всего в нескольких километрах от нас.
Той осенью я уверилась, что ядерная атака случится на Рождество. Еще я чувствовала, что именно мне предстояло ее предотвратить, заставить взрослых поверить мне, хотя мне было всего одиннадцать. Однажды, когда у меня началась очередная мигрень, мама позвонила Рону, который все еще работал в НАСА. Он не показывался уже несколько лет. Я опустила жалюзи и легла на кровать, со страхом ожидая прихода боли. Мои нервные окончания, казалось, касались каждой болевой точки планеты – всякого страдания, реального или потенциального.
– Как дела, малыш? – спросил Рон, заходя в мою комнату с завешенными окнами, где я лежала пластом.
– Я беспокоюсь из-за бомбы, – ответила я. – Они будут целиться в НАСА, правда?
– Может быть, – ответил он. – Но если это случится – а этого не случится, поэтому я и говорю «если», – ты ничего не почувствуешь. Вообще ничего. Просто хлопок. И все.
– Но в Хиросиме…
– Бомбы сейчас в тысячу раз мощнее, – ответил он.
– То есть быстрее? – спросила я. – Или дальше летят?
– И то и другое, – ответил он.
– А прямо перед взрывом? Те минуты, когда мы знаем, что она летит, но еще не долетела?
– Ты исчезнешь прежде, чем успеешь что-то понять. Вот так, – он щелкнул пальцами, – и ты покойница.
– Спасибо, что зашел, – вяло ответила я. Я не поверила его словам. Будет по крайней мере секунда, когда я буду знать о приближении бомбы, когда мир все еще будет существовать, а я буду иметь форму и плотность. Я застану этот момент, если буду бдительна.
Несколько дней спустя заглянул отец. Он откусывал треугольники от огромного батончика Toblerone. Обычно он не ел шоколад. Подарок женщины, с которой он начал встречаться, объяснил он.
– Это мой, – ответил он, когда я попросила кусочек. – Знаешь, она такая умная, – сказал он. – И красивая. Она похожа на модель, на Клаудию Шиффер.
Кто такая Клаудия Шиффер?
Прошла всего пара месяцев с последнего расставания с Тиной. Я подумала, что новое увлечение долго не продлится, поэтому не особенно заинтересовалась. Слишком много информации, чтобы все запоминать. Но я никогда раньше не слышала, чтобы он хвалил кого-то за ум. Я и не знала, что нужно обладать и тем и другим: быть и красивой, и умной. И чувствовала себя обманутой – мне внушили, что нужно стремиться к красоте, тогда как красоты было недостаточно.
– Знаешь, в конце всегда забываешь, как легко и здорово что-то начинать, – сказал он.
Взрыва не случилось на Рождество, и я решила, что бомба прилетит в Новый год, сразу после полуночи. Меня продолжали мучить мигрени. Отец и Мона забронировали на новогоднюю ночь длинный стол на втором этаже ресторана Chez Panisse в Беркли и позвали нас с мамой. По крайней мере мы с ней превратимся в пар одновременно.
Отец пригласил и свою новую девушку Лорен, которая приехала отдельно от него и привезла подругу. После праздника отец должен был развести по домам Мону и нас с мамой. Я тогда не заметила ни Лорен, ни ее подруги, и не помню, чтобы отец нас знакомил. Там было много людей, которых я не знала, и это не имело значения. Мы все вот-вот должны были погибнуть.
С нами праздновали и друзья Моны, включая невысокую женщину с короткой стрижкой.
– Привет, милая, – сказала она, наклоняясь, чтобы заглянуть мне в глаза. – Как тебя зовут?
– Лиза. Я племянница Моны.
– А, – сказала она. – Точно. Я так рада с тобой познакомиться. Сколько тебе лет?
– Одиннадцать.
– И в каком ты уже классе?
– В шестом.
– Чудесно, – сказала она. – Тебе здесь весело?
Я вздрагивала от каждого звука. Стала искать маму, чтобы уговорить ее поехать домой. Но она обожала вечеринки, а мы не так часто на них ходили. Когда она наконец согласилась уехать, ей нужно было попрощаться со всеми, с кем она разговаривала, и при этом завязывался новый разговор, поэтому прощание вышло более долгим, чем собственно вечеринка.
Когда я пробивалась через толпу взрослых, ко мне подошла та же самая миниатюрная женщина и задала те же самые вопросы. Раньше я никогда не встречала пьяных взрослых и не поняла, почему она так скоро меня забыла. Но это могло быть доказательством того, что ткань мироздания начала распадаться из-за приближения атомной бомбы.
Наступила полночь, и мир потонул в какофонии звуков: гудели рожки, разворачивались и скручивались снова языки из бумаги – и мое сердце в панике затрепыхалось в груди. Однако когда шум стих, темный мир остался таким же, каким и был – нетронутым. Я вся дрожала, но чувствовала благодарность за наше избавление и гордость – будто бы мои переживания не дали миру рухнуть.
По дороге домой отец орал на нас. Заявил, что мы не уделяли внимания его новой девушке. Шел сильный дождь. Отец включил дворник на полную мощность: в его машине был всего один толстый дворник, который сгибался и хлестал вправо-влево, словно тростинка на ветру.
– Я ее не видела, – смиренно ответила я. Ему говорили, что я боюсь ядерной бомбы и жду конца света. Он слышал о моих мигренях, но был не из тех, кто вдавался в подробности или стал бы успокаивать. Он остался безучастным, и теперь, когда мир не взорвался, я чувствовала облегчение, но вместе с ним пришла неловкость.
– Мы разговаривали со всеми остальными, Стив, – ответила Мона. – У нас там тоже были друзья, знаешь ли.
– Бога ради, – сказал он. – Вы такие эгоисты. Представьте, как мне было неловко. Я сказал ей, что у меня замечательная семья. Но с чего бы ей хотеть иметь со мной дело, когда моя семья так себя ведет?
Мы не были похожи на семью. Я никогда не думала о нас в таком ключе, кроме нескольких случаев, когда была вместе с обоими родителями, а потому меня удивило, что он это признал. Приятно было это слышать, пускай он и произнес эти слова в гневе. Казалось, он считал себя непривлекательным, словно не замечал собственной притягательности, не замечал, что люди тянулись к нему.
Как будто женщина могла его бросить только потому, что мы не заметили ее на вечеринке!
Ту ночь я провела у него, как изначально и планировалось. Несколько раз он будил меня: присаживался на корточки в темноте возле моей постели и тряс меня за плечо. Я тогда уже спала в другой комнате, в кровати с плетеным каркасом, которую купила мне Мона, когда он покрасил в комнатах стены и постелил ковры.
– Не могу ей дозвониться, – говорил он. – Может быть, она сердится. Может быть, все кончено.
Он чуть не плакал. Поначалу он был холодным и раздраженным, будто намекая, что это я виновата, хотя в то же самое время хотел, чтобы я его утешила. Потом сел на край кровати и схватился за голову.
– Она, наверное, у подруги, – сказала я. – Уверена, все в порядке. Поговоришь с ней утром.
– Я так боюсь, что все кончено. Что она не вернется.
Мы не видели ее всего несколько часов. Ночь постепенно переходила в утро, небо начинало светлеть.
– Она позвонит завтра. Тебе надо поспать.
– Постараюсь, – ответил он и ушел обратно в свою комнату.
♦
На мой двенадцатый день рождения Мона подарила мне диск Пэтси Клайн с грустной песней о плакучей иве и одинокой ночной прогулке. Чуть позже она заехала к нам в гости, они о чем-то поговорили с мамой, и когда она собралась уходить, я вышла вслед за ней на улицу. Мы стояли на лужайке. Вечерело, свет был желтым, в воздухе царила тишина, ее не нарушали газонокосилки и садовые пылесосы. Над верхушками травинок подпрыгивала, словно пузырьки в минеральной воде, мошкара.
Маленькая Мона, ростом лишь 157 сантиметром, держалась так, будто всегда была на своем месте, будто клочок земли, на который она становилась, был ее собственностью. Ее живот немного выгибался вперед, как у девочки. Я воспринимала ее одновременно и как женщину, и как ребенка. Мне казалось, она меня понимает, и я верила, что она поможет мне в будущем. Я знала, что она тоже росла без отца, что им с мамой вечно не хватало денег. В отличие от моих родителей она окончила университет. При ходьбе она покачивала бедрами вперед-назад. Она преподавала в Бард-колледже и в разговоре использовала слова вроде «амортизировать» и «комплиментарный», которые мне приходилось искать в словаре. При этом она не повторяла удачные слова, а каждый раз использовала новые: она обертывала их в предложения и не поясняла, будто ожидала, что я знаю их значение.
И вот мы стояли вдвоем у нашего дома, и кончики травы, встав на пути у наискось падавшего света, казались прозрачными, будто подсвеченная сзади соломинка.
– Если Стив не станет оплачивать твою учебу в университете, я оплачу, – ни с того ни с сего сказала Мона. Университет был еще далеко впереди, но я уже волновалась из-за него, хотя не могла сформулировать причины волнения и потому удивилась, что она об этом знала. В разговоре отец часто отзывался об университетах с презрением: если в них не нуждался он, то к чему они мне? К тому же иногда он передумывал платить в самый последний момент: выходил из ресторана, не рассчитавшись, не покупал то, чем другие обзаводились, не раздумывая, например мебель. Всем его близким приходилось терпеть его причуды, связанные с деньгами: он то предлагал за что-нибудь заплатить, то брал свои слова обратно.
Однажды мы с отцом и Моной зашли в магазин винтажной одежды в Пало-Алто. Мона и я отыскали симпатичные куртки и шапки, и отец смотрел, как мы примеряли их.
– Они не так хороши, как вам кажется. Когда вы приходите в такой магазин, вы воображаете, что все в нем прекрасно, а на самом деле это не так, – сказал он громко и вышел на улицу, хотя мгновение назад казалось, что он готов купить нам, по крайней мере, по шапке.
– Спасибо, – ответила я Моне.
Она направилась к машине, которую оставила под магнолией, и помахала мне, когда отъезжала от дома. Я побежала в дом рассказать маме о том, что сказала Мона.
– Правда? – сказала мама таким тоном, будто глубоко задумалась над значением этих слов или не верила им.
♦
В конце шестого класса моя классная руководительница Джоан подозвала меня к своему столу. Я подошла к ней и сжалась изнутри, готовясь к критике. Меня часто отчитывали за манеру одеваться.
– Вот это, – сказала Джоан, взяв в руку листки с моим сочинением о Гарриет Табмен, – очень хорошая работа.
Ее очки увеличивали глаза, и без того большие и водянистые. Ее голос звучал искренне, губы слипались.
Я ощутила прилив радости. Меня впервые выделили за хорошо выполненное задание. Я вспомнила, как писала сочинение предыдущим вечером, как легко и даже приятно было подбирать слова: они скользили и становились друг рядом с другом, будто смазанные, и мне оставалось только записывать их.
Оказалось, я тоже могла стать умной. И писать сочинение было не скучно. Удовлетворение от похвалы Джоан было больше удовольствия, которое, как мне казалось, приносило ношение мини-юбок и драных джинсов, где я написала имена всех мальчиков, с кем целовалась. Все они по чистой случайности начинались на «Т»: Тоби, Том, Трип, Тейлор.
Летом, перед началом седьмого класса мама с Иланом сводили меня на постановку «Зимней сказки» в Калифорнийском университете в Беркли, актеры там играли в современных костюмах. Мне понравилась Гермиона – тем, что одурачила короля, притворившись статуей. Король ходил вокруг нее, говорил с ней, раскаивался, что плохо с ней обошелся. Она даже не шелохнулась, пока не услышала все, что хотела.
Впервые в жизни мне захотелось носить вещи, против которых мама не стала бы возражать: простую повседневную одежду, которую легко подбирать по утрам, как форму. Я преисполнилась решимости полностью измениться в седьмом классе и превратиться из той девочки, какой была, в новую – прилежную и умную – девочку. Мне нужен был гардероб, который не будет мучить меня необходимостью выбирать. Джинсы и рубашки на пуговицах.
Средние классы занимались в отдельном здании, рядом с полем высоко на холме, над главным домом поместья. Главными учителями были Стив Смуин и Ли Шульт, которая преподавала у меня и в пятом классе. По слухам, они были очень строгими руководителями.
В седьмом классе добавились уроки географии, на них мы должны были выучить каждую страну, океан, море и все объекты на карте мира. Итогом домашней работы должно было стать полное описание планеты, до единого островка. Мы переходили от континента к континенту и как раз добрались до Европы. Я десять часов потратила на создание собственной карты, хотя за нее не ставили оценку, – она была всего лишь средством выучить расположения стран, о которых должен был после спросить учитель. Я просиживала за ней часами, потому что знала: если карта выйдет отличной, меня похвалят, а ее повесят на стену. Меня не волновало потраченное время, мною двигало предвкушение похвалы.
Я раскрашивала Ионические острова цветом морской волны, который звался «империей». Подошла мама. На ней были сморщенные на носках теннисные туфли, мешковатые хлопковые штаны с пятнами краски и свитер наизнанку. Она посмотрела на меня, склонив голову набок.
– Тебе нужен свет, – заявила мама и несколько минут спустя принесла лампу из мастерской, в которую превратила гараж, зашпаклевав там стены. Она включила лампу в розетку и поставила рядом со мной.
Я закончила карту в тот вечер, на следующий день сдала, и Ли повесила ее на стену в классе – единственную из всех.
По вечерам в дополнение к домашней работе я переписывала свои заметки с уроков в большую тетрадь на спирали. Иногда я вырывала листы и начинала писать заново, если находила почерк недостаточно аккуратным. Я перестала ставить кружочки вместо точек над i и начала писать с изысканным наклоном, чтобы казалось, будто мои слова летят к краю страницы.
По утрам нам устраивали короткий опрос, чтобы проверить, как мы усвоили информацию, полученную накануне, а потом в присутствии всего класса мы по очереди называли свои результаты, и Стив, не поднимая головы, заносил их в компьютер, и только если кто-нибудь набирал совсем низкий балл, он удостаивал неудачника саркастичным взглядом. Класс в эти минуты погружался в молчание. Казалось, что низкий балл был показателем не только плохой успеваемости, но и морального несовершенства, словно свидетельствовал о нежелании ученика участвовать в великом школьном эксперименте. Почти каждый день кто-нибудь плакал.
Я боялась Стива и оттого трудилась еще усерднее. Каша во рту и эгоизм во всех его проявлениях – вот что выводило его из себя. У него были тонкие губы и маленький рот, частично скрытый бородкой. Вспышки презрения, мелькнувшей на этих тонких губах внутри бороды, было достаточно, чтобы лишить меня уверенности в себе, порой на целый день. Если за пределами школы мне на глаза попадалась машина, похожая на голубую «Хонду» Стива, сердце выпрыгивало из груди, я терялась и становилась осторожной: выпрямляла спину и старалась отчетливо произносить слова на случай, если он меня заметит. Этот рефлекс сохранялся у меня долгие годы, даже после того как я окончила школу.
Я так старалась в школе не только ради оценок, или чтобы стать умной, или чтобы в восьмом классе меня взяли в долгожданную поездку на месяц в Японию, но и чтобы избежать его презрения, чтобы почувствовать хотя бы возможность его благосклонности. Однажды утром у нас был опрос по компонентам культуры, и мы с подругой выучили их с помощью техники запоминания, которую изобрели предыдущим вечером. Впервые я набрала десять из десяти – до этого у меня были не слишком хорошие баллы, – и Стив, вместо того чтобы недоверчиво хмыкнуть, одобрительно кивнул.
На первую в новом учебном году встречу с учителем родители прибыли по отдельности. При виде входящего в класс отца, молодого и энергичного, пружинящего на ходу, у меня приятно зазвенело в голове. Встречи проводились дважды в год. Тогда я еще не задумывалась о схожести двух Стивов – о том эффекте, который они производили на меня.
Мы сели впятером: Стив, Ли, мама, отец и я. Ли заговорила, и ее треугольные глаза искрились, когда она мигала:
– Лиза – молодец. Она бросила вызов самой себе.
Они со Стивом упомянули мою карту. Упомянули, что мне понравилась книга «Лесные люди», что я готовилась к опросам и утренней гимнастике тайцзицюань. Поговорили о резком отходе от прошлогодних мини-юбок и броского макияжа. Ли переводила взгляд с меня на отца, с отца на маму. Чаще всего он останавливался на отце: его присутствие, казалось, нагнетало давление в воздухе, и оба учителя чувствовали легкое головокружение рядом с ним. Меня беспокоило, что они слишком часто на него смотрят, игнорируя маму. Как будто мы с ним были звездами, а мама – всего лишь тенью.
– Мы ожидали увидеть ту же ученицу, что и в шестом классе – которая думала только о нарядах и мальчиках, – но мы ошиблись.
– Здорово, – ответил отец. – В целом я считаю, что средняя школа ужасна и детей лучше было бы сразу выпускать в большой мир. Просто сажать в лодку и отправлять в плавание. Но это место – исключение.
– Да, – сказал Стив. – Мы очень довольны результатами Лизы, – я постаралась скрыть улыбку. – Особенно нам понравится, если она будет продолжать в том же духе, – добавил он, прежде чем выйти из образа.
– На нас произвела большое впечатление ее самоотдача, – продолжила Ли.
Она сказала, что я поеду в Японию, если буду и дальше работать на том же уровне.
– Мне сложно заставить ее мыть посуду, – сказала мама, глубже усаживаясь в кресле. – Если она хорошо учится, это еще не значит, что ей можно игнорировать домашние обязанности.
– Согласна, – ответила Ли. – У нас дома девочки моют посуду, иногда даже обед готовят. Также они занимаются стиркой и легкой уборкой.
Ли посмотрела на меня.
– Лиза, если мама составит расписание работы по дому, ты постараешься ему следовать?
– Хорошо, – ответила я. Я видела, что маме это принесло облегчение. Но мне хотелось рассказать Ли, что настоящей причиной наших ссор были не домашние обязанности, а то, что маме не хватало моральной и эмоциональной поддержки. Даже в присутствии отца она обращалась со своими заботами к Ли.
Мама уже просила отца о помощи: ей нужны были не деньги, а его время и энергия. Она сказала, что умоляла его. Она никогда раньше не просила его о такого рода помощи, разрешала приходить и уходить, заботиться обо мне или не заботиться – как ему вздумается. Но теперь я готовилась стать подростком, училась в средней школе, которая находилась в часе езды на машине от дома, уроки начинались в семь, а это значило, что ей нужно было вставать в пять. Она недосыпала. Были и другие проблемы. Как-то раз ей позвонил отцовский бухгалтер, чтобы известить, что отец передумал платить за ее лечение (хотя оплачивал его на протяжении года), они с Иланом ссорились, ее усилия помогли мне заслужить похвалу учителей, а она между тем чувствовала, что в школе ее ставят ниже моего отца, считают второстепенным родителем.
Отец отказался помогать и заявил, что если она хочет больше поддержки, я должна переехать к нему. Впоследствии он рассказал, что предложил это по настоянию школьных учителей. По их мнению, было бы лучше, если бы я жила с ним, потому что мама все чаще срывалась на меня и мы постоянно ссорились. Мама же считала, что до этого бы не дошло, если бы отец проявлял больше участия.
Я надеялась, что родители разойдутся не сразу после собрания. Я замешкалась на минуту в классе, собирая бумаги в рюкзак, а они вышли в крытую галерею: мама – в длинной юбке, ботинках и блузке, отец – в накрахмаленной белой рубашке и шерстяных брюках от костюмной пары. Это был один из тех дней, когда в воздухе висит туман, пришедший с океана. Мамины волосы вились кольцами, отец недавно постригся, и его голова будто была покрыта черным лаком. Я смотрела на них через стеклянную дверь: они стояли лицом друг к другу и разговаривали. Мне было все равно, о чем была между ними речь – на душе становилось спокойно уже оттого, что они разговаривали друг с другом. Я подошла, чтобы побыть рядом с ними, но они объявили, что им нужно вернуться на работу, и разошлись в разные стороны – туда, где оставили машины. Они уехали порознь, как и появились.
Когда мы с мамой вернулись из магазина, уже сгущались сумерки, заходящее солнце прочертило на дороге широкую золотую полосу. Мы вышли из машины, и к нам приблизилась наша престарелая соседка Маргарет, которая иногда присматривала за мной после школы.
Примерно тогда отец предложил купить дом, где мы жили, но владелец отказался его продавать. Я считала, что мы должны были переубедить владельца или найти другой дом по той же цене, пока отец не передумал, но мама, видимо, не видела никакой срочности. Наверное, она рассказала Маргарет, что мы подумываем о покупке дома.
– Есть дом на продажу, – сказала соседка. – Тот, кирпичный, как будто сказочный, на углу Уэверли-стрит и Санта-Рита-авеню.
Это было всего в четырех кварталах от нас.
– Я знаю этот дом, – сказала мама. – Напротив пирожного дома Нэнси?
Женщина по имени Нэнси Мэллер скопила деньги на огромный дом в итальянском стиле, продавая замороженные слоеные пироги, которые мы иногда ели.
– Да, тот самый. Он еще не выставлен на продажу. Я подумала, нужно вам сказать, вдруг вы захотите взглянуть, – она подмигнула.
Мама решила съездить к тому дому, пока не стемнело: до конца нашей улицы, поворот, еще один квартал, снова поворот и еще квартал до перекрестка – и перед нами предстал кирпичный дом, выстроенный в затейливой манере, с черепичной крышей. В окнах были витражи, на крыше закручивался, точно штопор или поросячий хвостик, маленький шпиль. С одного бока дом ограждала высокая стена из того же старого, поросшего мхом и покрытого щербинками кирпича, что и сам дом.
Она изгибалась и окружала двор. В той части стены, что была дальше всего от дома, помещалась стрельчатая деревянная калитка с железным засовом, как в сказке.
Мы просунули головы в ворота.
– Вот это да, – сказала мама. Ее лицо осветилось, глаза засияли, как будто она позволила себе поверить, что он уже наш, как она позволяла себе захмелеть после нескольких глотков вина.
– Он его нам не купит, – сказала я, чтобы унять ее восторженные чувства. – Слишком хорош.
– Может, и купит, – ответила она. – Тогда бы он сделал что-то по-настоящему хорошее, по-настоящему щедрое. Как бы мне хотелось, чтобы он просто взял и сделал это. Взял и купил его для нас.
Мне понравилось чувство, которое я испытала, когда он купил нам «Ауди», – чудо, дар, ниспосланный нам будто бы из ниоткуда.
– Он не станет, – ответила я. И все же надеялась. Каково было бы чувствовать, что дом уже мой? Здесь мама была бы счастлива. – В любом случае, на что мы купим мебель?
– Что-нибудь придумаем, – ответила она.
Мы заглядывали в чужие окна, и это напомнило мне историю девочки со спичками: она стояла в снегу, зажигала спички, и в огне ей являлись видения, а наутро, когда догорела последняя спичка, ее нашли мертвой. Я чувствовала сентиментальную привязанность к этой истории с тех самых пор, как услышала ее в детстве.
Несколько дней спустя заехал отец. Мама была на кухне, готовила тыквенный суп-пюре. Она уже рассказала ему о доме по телефону и сказала, что хочет его. Он ответил, что взглянет на дом вместе с риелтором.
– Знаешь, что я сказал Лорен? – спросил отец.
– Что? – откликнулась мама.
– Я сказал ей, что иду в комплекте с прицепом, – под прицепом он имел в виду нас: меня и маму.
– Она такая умная, – сказал он мне, в очередной раз. – Я говорил, что она похожа на Клаудию Шиффер? – он снова повторялся. Это раздражало, но не столько потому, что история, рассказанная дважды, становится скучной, сколько потому, что рассказанная впервые, эмоционально, с воодушевлением в голосе, она казалась предназначенной именно мне. Иногда он рассказывал мне что-то по секрету и заставлял поклясться, что я никому больше не расскажу, а потом я узнавала, что он говорил то же самое остальным.
Он опустил в суп металлическую ложку и шумно хлебнул.
– М-м-м, – протянул он, закрывая глаза. А потом спросил с полным ртом. – Тут есть масло?
– Немножко, – рассеянно ответила мама.
Издав такой звук, будто подавился, он выплюнул суп в руку и побежал к раковине, чтобы прополоскать рот.
В итоге отец купил дом на Уэверли-стрит для себя. Перед тем как въехать, он сделал ремонт. Когда он показывал мне, что хочет поменять: пол, высокий треугольник желтого стекла, загораживающие свет заросли глицинии, – мне становилось неловко оттого, что мы с мамой сами хотели жить здесь. Отец купил его за три миллиона долларов, сбив цену. Как он рассказывал маме после покупки, бывшую владелицу дома, вдову, его медлительность привела в такое отчаяние, что она готова была продать дом по цене ниже той, на которую рассчитывала. Отец оставил дом в Вудсайде, который купил только ради земли и деревьев и все собирался снести. Маме не понравилось то, как он торговался с владелицей, и ее обидело, что он купил себе то, чего так хотелось ей самой. Это было печально, но, возможно, этого и стоило ожидать. К тому же это был своего рода комплимент: у нее был хороший вкус, все лучшее она замечала первой.
♦
Лорен переехала в дом на Уэверли-стрит. Как-то на выходных, несколько недель спустя, я зашла к ним в гости и обнаружила ее наверху, когда она переодевалась для тренировки. У нее на пальце было кольцо.
– Мы обручились, – сказала она, выставив вперед руку. На кольце был розовый бриллиант изумрудной огранки.
– Мне уже дважды делали предложение, – сказала она.
Отец уехал за покупками; когда он вернулся, я выбежала ему навстречу.
– Я видела кольцо, – сказала я, когда он появился во дворе. – Поздравляю.
– Она могла бы обменять его на целый дом, – сказал он, – но не говори ей.
Он как будто боялся, что она уйдет, если узнает, сколько стоило кольцо. Он прошел мимо меня на кухню, чтобы убрать сок в холодильник.
После этого я стала иногда заходить в дом на Уэверли-стрит после обеда, когда Стива с Лорен не было. Они никогда не запирали дом на ключ. Закрыв за собой дверь, я оказывалась в маленькой прихожей, из которой можно было попасть на кухню. На стенах лежали солнечные блики в форме континентов. Здесь царило спокойствие. Плачущая горлица ворковала то высоко, то низко, и казалось, что от низкого звука дрожали пятна света.
На кухне стояла коробка королевских фиников. Рядом помещался деревянный ящик с черешней с близлежащей фермы. Ее, похоже, тоже посылали королям, шахам и шейхам: ягоды лежали в ящике идеально ровными рядами под вощеной бумагой, черенки были заправлены под ягоду, черную и блестящую, как спинки жуков.
Там было блюдо со спелыми, сочными на вид манго. Если мы с мамой и покупали манго, то только одно, потому что они дорогие. Здесь же запасы этих фруктов были неистощимы.
Я слонялась по дому. Вдова, что владела им раньше, оставила в кладовке жестянки с краской и упаковки кистей, пустые банки от гвоздей, бутылки машинного масла и инструкции, написанные тонким косым почерком на обрывках бумаги в линейку.
Дом казался мне живым. Я вернулась в прихожую, которая смотрела на двор. Ведь это мой дом, говорила я себе. Это дом моего отца, а я его дочь. Я была уверена, что мне можно там находиться, но все же не хотела, чтобы меня заметили.
Дом на Ринконада-авеню несколько раз в час наполнялся дребезжанием из-за маленьких землетрясений и тяжелых грузовых поездов, в окнах пели стекла. Здесь же было тихо. Дом стоял в нескольких кварталах от шумной Альма-стрит и железнодорожных путей. Стены были толстыми, коридоры и дверные проемы – широкими и круглыми, как в зданиях испанской миссии.
Держась за тонкие железные поручни, я поднималась на второй этаж по каменной лестнице под длинным бумажным светильником, слегка покачивающимся на легком сквозняке. Что-то тянуло меня – будто за нить, выходящую из самого нутра, – в гардеробную Лорен, к ее шкафу. Внутреннее напряжение нарастало, я сгорала от желания понять ее, попробовать стать такой же, как она.
Несколько недель назад я спросила ее:
– Если нужно было выбирать, ты бы выбрала одежду или белье?
Эту идею я почерпнула в стихотворении Шела Сильверстайна: нужно спрашивать людей, чтобы определить их предрасположенность к внутреннему или внешнему, к душе или коже.
– Не знаю, – ответила она. – Ты имеешь в виду, выбрать красивую одежду или красивое белье?
– Да, – ответила я, начиная сомневаться, что ее ответ скажет что-то о ее характере.
– Одежду, – ответила она.
Она показала, что до сих пор умеет садиться на шпагат, полностью касаясь пола. Я внимательно наблюдала за ней, подмечала, что и как она говорит. Она использовала слова, которые я никогда не слышала в речи других людей: тешить, закрома, провидение, мародеры. Она вставляла их в предложения, будто жемчужины. Произнося длинные существительные, она растягивала гласные, отчего слово казалось взрослым и самодостаточным. У нее были голубые, как лед, глаза, маленькие, глядевшие без интереса. Иногда мне было больно смотреть в них, и я не знала почему. Она сказала, что не видит без очков или контактных линз: мир расплывался, от предметов оставались размытые силуэты.
Ее подруга Кэт – им обеим еще не было тридцати – жила неподалеку и иногда заходила в гости, когда я была у них. Когда они с Кэт говорили о неудачниках – а о неудачниках, «лузерах», они иногда говорили, – Лорен показывала большим и указательным пальцами букву «Л». Когда она, с ее четкой дикцией, произносила это слово, я понимала, что готова быть кем угодно, только не неудачником. Лорен была родом из Нью-Джерси, и у меня возникло представление, что в Нью-Джерси живут более нормальные люди. Они не носят биркенштоков, не рассуждают о гуру и реинкарнациях. Примерно тогда же Лорен рассказала, как ее в местном супермаркете преследовал какой-то мужчина, который утверждал, что он был новым воплощением пчелы.
И теперь в тишине спальни я пыталась разгадать секрет Лорен.
Я зашла в ее гардеробную, где было зеркало в полный рост, комод и кронштейн для плечиков. Они приглашали плотника, который устроил полки и отделал все светлым деревом. На комоде лежали два тюбика губной помады: одна розовато-лиловая, вторая светло-розовая и блестящая, и обе от постоянного использования так заострились, что их кончики, казалось, вот-вот должны были отломиться. Я накрасила губы розовато-лиловой. Она была влажной, пахла воском и будто бы духами.
Я открыла ящик с нижним бельем. Хлопковые комплекты разных цветов: белые, черные, бежевые – лежали вперемешку, совсем как у меня. В правом дальнем углу ящика была какая-то петля цвета слоновой кости. Я вытащила петлю, и передо мной развернулась паутина резинок и кружева. Пояс для чулок. Я знала, что это такое, возможно, видела в Playboy, но никогда – вживую.
В другом ящике были шерстяные шорты угольного оттенка, я знала их по фотографии, на которой она стояла во дворе Стэнфордского университета: белокурые волосы обрамляли лицо, поза выражала уверенность: ступни, как стрелки часов, указывали на десять и два, одна позади другой. Отец держал эту фотографию у себя на столе. Маме нравились честные фотографии, когда люди не подозревают, что их фотографируют, а мне – когда они позировали, как на обложке журнала. Я хотела стать Лорен, если не сразу, то позже.
Я стянула штаны и надела шорты. Они повисли на мне мешком, и мне пришлось придерживать их одной рукой, чтобы они не соскользнули. Надела одну из ее блузок – кремовую, без рукавов, с черной простежкой вокруг ворота и выемок. Небрежно заправив блузку в мешковатые шорты, я повернулась к зеркалу спиной и боком в надежде, что под другим углом и при другом освещении мое отражение улучшится. Развернула ноги, отставила одну, как она, и спрятала за спиной руки с обкусанными ногтями.
Я поджала губы. Мое отражение было совсем не похоже на девушку с фотографии.
Я сняла все с себя, поправила тюбики помады на комоде. Сунула пояс для чулок в карман, спустилась по лестнице, прошла по коридору с окнами во двор, мимо кладовки, через кухню и вышла за дверь.
♦
Той весной отец пригласил меня поехать в Нью-Йорк вместе с ним и Лорен.
– Она потрясающе танцует, – сказал он в самолете. Мы с Лорен сидели на кожаных сидениях по обе стороны от него в первых рядах бизнес-класса. Он посмотрел на нее и провел рукой по волосам, словно она была спящим ребенком.
– Я нормально танцую, – поправила она, но я была уверена, что лучше меня, потому что отец видел мое выступление на концерте, однако не сказал, что я тоже танцую.
Как-то раз Лорен повезла меня обедать, когда у нее не было занятий в Стэнфордской школе бизнеса – до ее выпуска оставался один семестр. Мы поехали на ее «Фольксвагене Рэббите» с откидным верхом. Казалось, Лорен была в спешке: она не разговаривала со мной за рулем и не поворачивала ко мне голову, а смотрела только вперед, словно не знала, как вести себя с ребенком. Она держала рычаг коробки передач не так крепко, как мама, и слегка толкала его основанием ладони. Она была красивой, но ее красота была другого рода – не такая, как красота Тины, которая не пользовалась косметикой и как будто не интересовалась тем, как выглядела.
Мы зашли в Стэнфордский торговый центр. Лорен шла быстро, ставя ноги в замшевых туфлях, украшенных металлической пряжкой, носками врозь.
– Пойдем в кафе «Опера», – предложила она. – У них отличный салат «Цезарь», не слишком калорийный.
Этот разговор о калориях был в новинку и интриговал меня, словно открывал дверь в более утонченный мир, частью которого я хотела стать – где женщины следили за тем, что ели. Я не задумывалась, худая я или толстая. Мне нечасто доводилось есть в ресторанах, и я мечтала попробовать один из тех сверхъестественно высоких тортов – гигантов, что казались ненастоящими, похожими на скульптуры Класа Олденбурга. Я надеялась, что мы закажем не только салат.
Но нам пришлось есть быстро, на десерт не осталось времени. Светлая челка, изгибаясь дугой, покрывала лоб Лорен. Ее прикосновения к предметам были четкими и твердыми, будто она точно знала, что ей нужно, если собиралась дотронуться до чего-то. Мне нравилось, как она держала меню, руль, помаду.
Нью-Йорк встретил меня запахом дрожжей. Теплыми кренделями, паром, усталостью.
Лорен повела нас на Уолл-стрит и показала биржу, где работала, когда только окончила колледж.
– Они в шутку путали телефоны, – сказала она, показывая на барабан с белыми аппаратами, каждый со вьющимся белым шнуром. – Вешали трубку от одного на другой, перекрещивали шнуры. И когда кому-нибудь нужно было сделать срочный звонок, он снимал трубку, набирал номер и только потом понимал, что держит трубку от другого телефона.
В отеле «Карлайл» нас навестила подруга Лорен по имени Шелл, крупная брюнетка с красной помадой на губах, звучным голосом и нью-йоркским акцентом. Она стояла у пианино и нажимала на клавиши. Они говорили о незнакомых мне людях, которых называли «конченными неудачниками».
В тот день после обеда отец сказал:
– Я хочу кое-что вам показать.
Мы подъехали на такси к высокому зданию и поднялись на самый верх на грузовом лифте, до самого потолка обитого одеялами. У меня заложило уши. Лифт открылся, мы оказались в пыльном, продуваемом ветром пространстве, полном рассеянного света.
Это была квартира на верхнем этаже здания под названием «Сан-Ремо». Там еще шел ремонт, и только спустя несколько минут я поняла, что это квартира отца. Потолок был по меньшей мере в два раза выше обычных потолков. На полу лежал картон; отец приподнял одну картонку и показал блестящий черный мрамор внизу – такой же, как и на стенах. Он сказал, что квартиру спроектировал архитектор Бэй Юймин в 1982 году, и когда карьер, где добывали черный мрамор, закрыли, пришлось найти другой и заменить уже положенный мрамор новым. Иначе бы они не сочетались. Строительство шло уже шесть лет, и до тех пор не было окончено.
– Это невероятно, – сказала Лорен, оглядываясь.
Все пространство в квартире покрывал черный мрамор; было только две прогалины – окна по обеим сторонам. Я прочертила пальцем линию на пыльной черной поверхности, и она заблестела. Мы стояли в гостиной, где были только высоченный потолок и окна, зев камина, черные стены и пол. Лестница казалась мокрой, она будто стекала со второго этажа, словно патока из банки – каждая ступенька шире предыдущей. Отец сказал, что за основу ее конструкции взяли лестницу Микеланджело.
Сложно было представить, чтобы кому-то могло быть уютно в таком пространстве. Оно выглядело абстрактным, как квартиры богатых людей в кино. Все было показным, призванным производить впечатление, – полная противоположность его идеалам, его противоборству с общепринятыми ценностями. Да, у него были дорогие костюмы и «Порше», но мне казалось, самыми лучшими он считал простые вещи, а поэтому вид этой квартиры поверг меня в шок. Может быть, свои идеалы он применял только ко мне – как удобный предлог не проявлять щедрости. Или, может, он придерживался двойных стандартов, не мог побороть искушение пустить пыль в глаза, как другие богачи. Хотя его драные джинсы, странная диета, заброшенный дом и упор на простоту, как мне казалось, указывали на то, что его не волнует чужое мнение.
– Я думал, это будет исключительно холостяцкая берлога, – печально заметил он. – Эх.
Мы вышли на балкон – повисшую в воздухе каменную балюстраду с балясинами, похожими на подсвечники. С такой высоты Нью-Йорк ничем не пах. Ветер рвался сквозь пространство с хлопками, какие издают сохнущие на улице простыни. Центральный парк под нами казался отверстием в плите из бетона.
– Классный вид, правда? – спросил отец.
– Да, – ответила я.
– Здесь чудесно, Стив, – сказала Лорен с легкостью в голосе, какую мне тоже хотелось бы чувствовать. Отец потянулся к ней, и я отвернулась. Я чувствовала себя бессловесной, неспособной шевельнуться, мои ноги прилипли к полу.
♦
Вскоре после моего возвращения мы с мамой купили в торговом центре диван, кресло и пуф для ног.
В витрине детского магазина были выставлены крылья из белых перьев.
– В детстве мама говорила мне, что все дети рождаются с крыльями, но доктора отрезают их сразу после рождения. Остаются только лопатки. Странно, правда?
Мы прошли мимо магазина Woolworth, где я видела тюбики блеска для губ со вкусом дыни и упаковки накладных ногтей, мимо ресторана «Браво Фоно», куда мы все еще иногда ходили с отцом, и зашли в Ralph Lauren. Часть ассортимента была выставлена на улице. Бетонные вазоны доходили мне до пояса, в них росли недотроги с раздутыми зелеными стручками, которые разрывались, стоило на них надавить, рассыпая крошечные желтые семена и после завиваясь.
– Эй, как тебе этот диван? Нравится? – спросила мама. Он был шириной в две подушки. Я села: подушки не пружинили, а медленно прогибались под моим весом.
– Мне нравится, – ответила я. – Дорогой?
Она посмотрела на ценник сбоку и резко вздохнула.
Я знала, что она ненавидит наш диван, который мы забрали у Стива много лет назад: сама она такой бы не выбрала. Мне казалось, он заставлял ее чувствовать, будто ее жизнь состояла из ненужных остатков чужих жизней.
Она купила диван в комплекте с креслом и пуфиком и расплатилась новой карточкой. На тот момент это была самая дорогая наша покупка. Чтобы немного сэкономить, она не стала покупать новый чехол и взяла его в той хлопковой обивке песочного цвета, в которой он продавался. После у нас обеих немного кружилась голова, и торговый центр казался совсем другим – он будто только открылся нам.
Я предположила, что у нас появились деньги. Иначе с чего бы она стала делать такие крупные покупки? Она уже давно хотела новый диван. Но откуда вдруг взялись деньги? Я не знала. Она всегда говорила нет. А в этот раз – да. Спроси я ее, это могло бы испортить радостное настроение. Она казалась уверенной и счастливой, и я подумала, что такими и должны были быть для нас походы по магазинам с самого начала и что, возможно, в будущем они всегда будут такими.
В Banana Republic мы примерили одинаковые джинсовые куртки разных размеров. Они хорошо сидели, у них был славный вельветовый воротник цвета асфальта. Я постаралась сдержать воодушевление: знала, что не стоит давить. Но она купила обе. Обе! По сравнению с диваном куртки ничего не стоили. Мы вышли из магазина с увесистыми бумажными пакетами.
– Смотри, – я показала на комплект из юбки и свитера в витрине. В том маленьком минималистичном магазине продавали дорогую одежду из Швейцарии. Юбка была из темно-серого кашемира, свитер – бордовый, из ангорской шерсти с аппликацией в виде плюшевых мишек. – Вот так тебе нужно одеваться, – но подумала, что мишки, возможно, были лишними.
– И куда я в этом пойду? – спросила мама.
– Куда угодно, – ответила я. – На родительское собрание. В кафе или ресторан, – я представила для нее иную жизнь.
– Мне не очень нравится, – ответила она.
– Просто примерь. Пока одежда на вешалке, нельзя судить – я слышала, как кто-то произнес эту фразу в другом магазине. Когда она, все еще сомневаясь, вышла из примерочной, я увидела ее такой, какой она должна была быть. Я настаивала, консультант настаивала, и мама купила комплект.
Мы уже почти доехали до дома, когда нам пришлось остановиться на перекрестке перед поворотом в наш квартал. Мама стала поворачивать, но как будто по случайности продолжила вертеть руль, когда машина уже готова была вильнуть на нашу улицу.
– Ой, – сказала она, выкрутив руль до предела.
Она сделала полный круг, мы вернулись в исходную позицию у светофора. Когда нужно было поворачивать, она опять проехала мимо.
– Еще раз ой! – воскликнула она, смеясь.
Она все крутилась и крутилась, будто мы попали в водоворот: тротуар – лужайка – дерево – дом, тротуар – лужайка – дерево – дом.
– Поворачивай! – кричала я каждый раз, когда мы приближались к нашей улице.
– Я… кажется… не могу… повернуть! – отвечала она. Стены домов до половины заросли кустами, отчего походили на бородатые лица, которые смотрели, как мы ездим кругами. Мама все не останавливалась, пока у нас обеих не закружилась голова, а потом – наконец-то! – повернула, и мы поехали домой.
Дома в тот вечер мы разогрели в микроволновке пироги с курицей и стали смотреть «Театр шедевров», сидя на полу перед телевизором. Когда я собралась спать, она захотела почитать мне на ночь дневники Энди Уорхола, и хотя я была уже слишком большой, чтобы читать мне вслух, я ей позволила.
– Ты – простачка, – сказала я в шутку несколько дней спустя, когда мы заехали на заправку, и мама сказала, что ей нравится запах бензина. Я никогда ее так раньше не называла. Возможно, я позаимствовала это слово из повести Черепахи Квази из «Алисы в стране чудес», отрывки из которой ей также нравилось мне читать. Когда я назвала ее простачкой, мне захотелось, чтобы она стала это отрицать, чтобы она рассердилась: да как посмела я ее так назвать – это неправда. Но она только рассмеялась.
Через несколько месяцев прибыли новые диван, кресло и пуф в песочной обивке с набитыми пухом подушками. Старые мама отдала. Она надела новые юбку со свитером несколько раз – ради меня, а потом, наверное, тоже отдала кому-то. Я звала ее простачкой, когда она совершала ошибки: забывала, в какую сторону ехать, или утверждала, что итальянское мороженое такое же, как американское, и ничуть не лучше. В ответ она только смеялась. Я все больше времени проводила с отцом и Лорен, впитывая их идеи, их искушенность. Я уже побывала в Нью-Йорке, познала важность низкокалорийных продуктов, видела, как осторожно Лорен добавляет масло в салат. Я знала наверняка, что итальянское «джелато» отличается от обычного мороженого, что оно лучше.
Однажды, когда мы куда-то ехали, я обратила внимание на пятнышко краски на маминых джинсах, которое та не заметила, и снова сказала:
– Ты – простачка.
На этот раз из ее глаз брызнули слезы, она остановилась у обочины и разрыдалась, уткнувшись в руль, чем удивила нас обеих. Я никогда больше ее так не называла.
♦
Свадьба отца прошла в национальном парке «Йосемити», в отеле «Авани».
Руководил церемонией буддийский монах по имени Кобун, знакомый родителей. Стив и Лорен стояли перед тремя большими окнами, за которыми виднелись горы, лес и падавший на них снег.
Лорен была в шелковом платье цвета слоновой кости, отец – в пиджаке, галстуке-бабочке и джинсах, как будто был собран из трафаретных бумажных деталей и разные части тела были одеты по-разному.
Утром я встретила Лорен внизу, в фойе отеля: она была в черных леггинсах с цветочным узором и очках в черной оправе. В моем представлении о свадьбе невесты должны были прятаться от жениха и гостей перед церемонией, беспокоиться за свою красоту, и мне понравилось, что Лорен, веселая и в игривом настроении, была с нами.
Кобун попросил нескольких человек подготовить короткую речь, и я была одной из них.
На свадьбе было всего 40 гостей, и после нам предстояло отправиться на прогулку по снежному лесу в куртках из флиса, которые выдали нам в подарок. Ужин должен был проходить в комнате с прямоугольными столами, установленными буквой П, в окружении букетов из пшеничных колосьев. Были приглашены музыканты, игравшие на классической гитаре.
Мама не входила в число приглашенных, но на следующий за церемонией день отец позвонил ей, о чем она рассказала мне только годы спустя. Когда она поведала мне о звонке, я удивилась, потому что не знала, что они общались: они то были близки, то отдалялись друг от друга, и я не понимала узора их взаимоотношений.
Отец произнес речь: он заявил, что людей сводит вместе не любовь, а общие взгляды. Он говорил напряженно, словно наставлял гостей и Лорен, словно читал нотацию. Прозвучало еще несколько речей, а потом Кобун назвал мое имя, я встала и направилась к отцу и Лорен. Они стояли возле окон, за которыми медленно и густо падал снег – как внутри стеклянного шара из тех, какие дарят к Рождеству. В руках я держала лист бумаги, где написала что-то о том, как редко доводится присутствовать на свадьбе родителя (идею подкинула подружка), но пока я шла к ним, проговаривая про себя речь, я расплакалась. Отец жестом подозвал меня подойти ближе, и я обняла их, и мы стояли так, пока Лорен не зашептала:
– Ну все, Лиз. Ну же.
Я с нетерпением ждала свадьбы: вкусной еды, торта (он был в форме скалы Хаф-Доум, символа парка «Йосемити», и с банановым вкусом) и танцев (их не было). Я была готова к тому, что составляет внешнюю часть церемонии. Но совсем не предполагала, что почувствую, оказавшись наедине с назойливым и неудовлетворимым желанием, которое, как проволока под напряжением, станет жужжать в шаге от меня. Я надеялась быть в центре происходящего – как девочка со спичками, которой так живо представилось то, что она углядела в маленьком пламени. Эта свадьба была для меня. Я должна была сыграть дочь супружеской пары, хотя Лорен и не была мне матерью.
Однако когда церемония завершилась, я чувствовала себя опустошенной. Я не была в центре происходящего. Меня не пригласили на большинство свадебных фотографий. Отец был поглощен Лорен и всеми остальными. За ужином после церемонии я заплетала Лорен волосы, стоя позади ее стула.
Позже я спустилась в фойе и стала разглядывать сувениры в магазине. Там я увидела маленький альбом для фотографий в тканой обложке, похожей на гобелен с деревьями из пикселей.
– Вы оплатите наличными или мне следует включить это в счет за комнату?
К тому моменту я уже знала, что в отелях можно покупать вещи и записывать их стоимость на комнату. Женщина спрашивала серьезно, как будто и не подозревала о моем мошенническом замысле.
– На комнату, – ответила я. От воодушевления и волнения мои ладони вспотели – мне не терпелось получить альбом. Но отец мог заметить эту покупку в счете. Я надеялась, что он будет слишком занят, чтобы разглядывать цифры, или что у него слишком много денег, чтобы обращать на них внимание.
Я жила в одной комнате с его сестрой Пэтти – той, с которой он вырос в приемной семье. Ее тоже удочерили. Отец и Пэтти не были близки, Мона стала ему куда ближе, с тех пор как они встретились, будучи уже взрослыми людьми. Я расстроилась, когда меня поселили с ней, ведь это могло означать, что мы принадлежали к одной категории.
Большинство гостей разъехались в воскресенье после свадьбы. Остались только Мона и ее бойфренд Ричи: они собирались остаться в заповеднике еще на неделю, чтобы провести с отцом и Лорен их медовый месяц. Ричи и Мона поженились через год, церемония проходила в Бард-колледже. Стив и Лорен тоже провели с ними их медовый месяц. Но тогда мне казалось, что раз Мона остается, то и мне нет никакой причины уезжать. Кобун с его подружкой Стефани тоже еще не уехали, но собирались после обеда.
– Если ты остаешься, я тоже хочу остаться, – сказала я отцу.
– Может быть, – ответил он. – Дай подумать.
Казалось, его терзали сомнения, что редко случалось, когда он мне отказывал.
Но через несколько часов он велел мне ехать домой с Кобуном и Стефани.
Перед моим отъездом он попросил у администратора счет за нашу с Пэтти комнату. Я стояла рядом с ним. Мне не хотелось ни на секунду с ним расставаться.
Он изучил счет и нахмурился.
– Это твое? – спросил он, показывая на цену за альбом.
– Это Пэтти, – соврала я. Мне было грустно оттого, что приходилось уезжать, и я боялась, что он рассердится, если узнает. – Я сказала ей не покупать, но она не послушалась.
Вскоре после свадьбы отца между родителями разразился большой скандал, назревавший больше года. До этого я и не подозревала, что они ссорились – заметила только, что отношения между нашим домом и отцовским стали натянутыми. Я списала это на тяжелый период в жизни мамы. Несколько лет назад отец нанял садовника в вудсайдский дом. Тот же человек начал помогать с садом и на Уэверли-стрит, и об этом узнала мама. Она слышала от знакомых, что дети этого человека обвиняли его в сексуальных домогательствах, и его присутствие вблизи от меня стало катализатором серьезной ссоры. Снова став друзьями, родители не говорили о тех годах, когда отец не участвовал в нашей жизни, не заботился обо мне. И то, что он нанял садовника, не подумав обо мне, и снова пренебрег родительскими обязанностями, должно быть, напомнило маме о том времени и привело в бешенство. Я слышала, как они говорили об этом: мама вышла из себя и едва могла говорить от гнева. Она уже несколько раз просила его уволить этого человека, но он отказывался.
Ссора, расставившая все точки над i, случилась в тот вечер, когда я отправилась поужинать в дом на Уэверли-стрит. Мама постучала в дверь, белая от ярости. Для меня это было громом среди ясного неба. Я смотрела, как они ругаются, стоя на тротуаре возле ее машины на Санта-Рита-авеню. Я знала, что они спорят из-за садовника, но все равно не понимала, отчего она так расстроилась, отчего так кричала, от гнева забывая себя, ведь, на мой взгляд, это было такой ерундой. Помню, как мне хотелось, чтобы она ушла и перестала позорить себя.
– Да как ты смеешь. Как смеешь, – повторяла мама со слезами на глазах. – Обещай, что ты его уволишь.
– Нет, – отвечал отец. Он стоял перед ней, высокий и бесстрастный. Ему шли новые черная футболка и джинсы, на которых еще не успели появиться дырки. На ней были шорты и теннисные туфли.
Рядом с ним она казалась потрепанной, одетой в лохмотья. Когда она говорила, ее слова едва можно было разобрать из-за слез. Мне стыдно вспоминать, что в тот момент я просто хотела, чтобы она вела себя тихо и сдержанно, сохраняла видимость дружелюбных отношений, которые установились между ними. Мне не хотелось, чтобы отец подумал, что я такая же, как она. Иначе – вдруг он не захотел бы иметь со мной дела? Она устроила слишком шумную сцену, будто безумная. Мне хотелось, чтобы она была спокойнее, выражала меньше эмоций. Мне было стыдно за то, как она топала ногами и как исказилось ее лицо.
В какой-то момент она села в машину, хлопнула дверью и уехала. Отец пожал плечами и пошел обратно в дом. Я пошла за ним и до конца вчера, как и отец, притворялась, будто ничего не произошло.
После этого эпизода отец больше не заезжал к нам в гости на Ринконада-авеню, и маму больше не приглашали на ужин в дом на Уэверли-стрит. Садовник все так же работал у отца, и родители перестали общаться.
♦
Новость о том, что Лорен беременна, была как пощечина. Я думала, что они подождут с детьми, по крайней мере несколько лет. Мне казалось, что я была тем, что им нужно, хотя и не могла произнести этого вслух или внятно подумать об этом. Дом, жена, муж, дочь – теперь, когда свадьба наконец осталась позади, мы все вместе могли жить полной жизнью.
Они пригласили меня на ужин. Мы ели ту же еду, что и обычно – веганскую. В тот вечер – суши с овощами и бурым рисом. Войдя, он поцеловал ее в губы, как сделал бы мистер Страсть, и ей пришлось неуклюже запрокинуть голову и опереться о кухонный стол, чтобы не упасть. Выглядело так, будто у нее свело шею. Позже я сказала это вслух, и отец рассмеялся.
Он сказал, что хорошо целуется, ему об этом говорили многие женщины.
– Больше похоже, что ты не целуешь, а всасываешь, – сказала я.
Лорен подняла брови и кивнула мне за его спиной, соглашаясь. После ужина мы перешли в другую комнату, и они посерьезнели. Я забеспокоилась, не натворила ли чего.
Я села в кресло, Лорен – на пуф для ног, отец – на пол.
– У нас будет ребенок, – сказал он. Я посмотрела на Лорен, проверяя, правда ли это. Она кивнула.
В комнате в этот час царил полумрак: горели только его настольная лампа и еще одна тусклая над головой, небо за окном залилось благородным синим светом.
– Здорово, – ответила я. Казалось, будто все мышцы у меня на лице расплавились и стали подергиваться, и я уже не знала, как придать лицу нормальное выражение и каким оно вообще должно быть.
– Мы очень счастливы, – сказал отец, обняв Лорен.
Я отправилась домой пешком. В окнах горел свет – два желтых глаза. Теперь дом казался маленьким и далеким. Он ничего не значил, и мама ничего не значила. Она не была членом семьи, не имела отношения к будущему ребенку и ничего не могла с этим поделать.
– У них будет ребенок, – сказала я на следующий день в машине, когда мы обе смотрели вперед, на дорогу, и она не могла видеть моего лица. Прошлым вечером я удержала это в себе, заплакала, уткнувшись в подушку, едва она закрыла дверь, пожелав мне спокойной ночи. Сейчас, когда я была с ней, мне казалось, что мы слишком похожи, что мы вместе остались за бортом.
– Ну и отлично, – ответила она.
– Но я не думала, что они хотят… Они никогда не говорили о ребенке, – сказала я.
– Для этого люди и женятся, – ответила она. – Чтобы завести детей.
У этого ребенка с самого начала был мой отец и правильная мать. Ему повезло. Ребенок был не виноват, но мне все равно было тошно. Я мечтала, чтобы я была этим ребенком, а Лорен была моей мамой. Вскоре ее живот стал круглым и натянулся, как барабан. Ее пупок выступал и походил на кукольное ухо.
Как-то я пришла к ним в гости, заглянула в кабинет отца и увидела, что он набирал на компьютере имя – Рид Пол Джобс, три слова, три слога – разными шрифтами, разными размерами, заполнявшими весь экран. Garamond, Caslon, Bauer Bodoni. Он хотел убедиться, что имя подходит, что его можно будет использовать всю жизнь.
Мой брат родился с длинными пальцами, ладошками, похожими на свернувшиеся листья папоротника, которыми он хватался за мой палец, и крошечными ноготками с белыми кончиками. Как же я его любила! Это было непроизвольно, я ничего не могла с этим поделать. Его запах, его пропорции, милые ступни и пятки, складочки на коленках. Я приходила к нему после школы и на выходных, меняла ему подгузники. Гадала, каким он вырастет. Когда он, свернувшись, лежал на боку, я замечала пушок на его спине. Под ребрами была впадина живота, и я вспоминала о жареной куриной тушке. Прямые темные волосы окружали родничок, мягкий, как серединка пирога. Губы были розовыми, из кожи другого сорта; он сжимал и разжимал их, и это движение наводило меня на мысль о розовом червяке, только чистом. Из-за размера подгузника он казался еще меньше: из пухлой белой обертки выглядывали маленькие согнутые ножки, крошечные стопы. Его серые глаза смотрели мудро и мечтательно, словно он явился из другого, ловчее устроенного мира.
♦
Иногда по вечерам звонили кредиторы.
– Как вас зовут? – спрашивала мама, хмурясь в трубку. – Назовите свое имя. Нельзя же звонить в такой час. Я буду жаловаться.
– Кто это? – спрашивала я, когда она вешала трубку. Тогда я думала, что нам звонят, чтобы продать что-нибудь. Время спустя я узнала, что покупка дивана, кресла и пуфа в тот день привела к долгам, которые мама не могла погасить. Те были причиной действующих на нервы звонков кредиторов, а позже, когда я оканчивала школу, еще и маминого банкротства – она так и не сумела выплатить кредит.
Я слышала, как она жалуется на то, что Илан дарит ей гвоздики – мог бы выбрать цветы и получше. После она рассказала мне, что однажды, когда он предупредил, что задержится на работе допоздна, она купила билет на оперу в Стэнфорде, отправилась туда одна и увидела его там с другой женщиной. Следующие несколько лет они постоянно ругались, то расходились, то снова сходились, пока не расстались окончательно – перед тем как я пошла в старшую школу. Когда они ссорились, наши с ней отношения тоже портились.
– Ты видела, какие у Илана мизинцы? Они сгибаются вовнутрь, – сказала она мне как-то в машине. Последняя фаланга его мизинца сгибалась на 30 градусов. – Это признак того, что человек изменяет.
Тогда мне казалось, что я выше работы по дому, которую мама заставляла меня делать. Унизительно и скучно было выносить мусор, мыть посуду, поэтому я делала все спустя рукава и будто в полусне, при первой же возможности бежала обратно в свою комнату, чтобы заниматься – кроме успехов и похвалы в школе меня ничто больше не интересовало. Однажды вечером, когда я возвращалась домой от мусорных баков снаружи и зашла на кухню, я застала там маму – она поджидала меня.
– Посмотри на столешницу, – сказала она.
Я поискала взглядом губку, но она уже схватила ее и, отжав, стала яростно сметать ею крошки в подставленную ладонь.
– Все, что я прошу, – сказала она, – это мыть посуду и вытирать стол. Посуда и стол. Ясно?
– Прости, – ответила я. – В следующий раз вытру.
– Нет, ты вытрешь в этот раз, – сказала она.
– Но ты же уже все вытерла, – ответила я.
– Я хочу, чтобы ты изменила свое поведение.
– Изменю, – ответила я. – Обещаю. Прости.
– Прости, – передразнила она высоким детским голосом. – Тоже мне принцесса, – она сплюнула.
Когда мы начинали ссориться, я пыталась урезонить ее, успокоить. Но потом становилось очевидно, что она не собирается успокаиваться, что она будет кричать бесконечно, и тогда я замирала, переставала отвечать.
Иногда в самом начале ссоры звонил телефон, прерывая ее, и мама шла разговаривать в свою комнату, откуда до меня доносились приглушенные звуки. Звонил ее друг Майкл или, может, Терри. После, когда она приходила пожелать спокойной ночи, она снова была в хорошем настроении. Я ни в чем не виновата – так я думала, – и мама была несчастна не из-за меня, а из-за одиночества. Я верила в это, говорила это себе, когда она принималась кричать, и использовала как отговорку, чтобы кое-как мыть посуду, не помогать по дому и смотреть на нее свысока.
– Думаешь, я твоя горничная? – рычала она сквозь зубы.
– Мам, позвони другу, – просила я. – Пожалуйста.
Когда мы ссорились, помимо меня, мама поносила еще Джеффа Хаусона, отцовского бухгалтера, переводившего нам алименты – что, как я твердо знала, было жизненно важным для нас тогда, – а также, все чаще и чаще, Кобуна. (По сравнению с тем, как часто она кляла этих двоих, отец, можно сказать, почти не упоминался.)
– Кобун сказал, что позаботится о нас, а потом оставил нас подыхать, – причитала она севшим голосом. – Подлец.
Я не понимала, о чем она. Насколько я знала, Кобун не имел к нам почти никакого отношения. Он был всего лишь буддийским монахом, с которым когда-то общались родители, который проводил свадебную церемонию и который почти не разговаривал.
Только спустя время я узнала, что мама – чья собственная мать была психически больна и чей отец не принимал участия в жизни дочери, – именно к Кобуну обратилась за советом, когда забеременела.
– Рожай, – посоветовал Кобун. – Если понадобится помощь, я помогу.
Но в последовавшие годы он не предлагал никакой помощи. Никто не давал маме таких щедрых обещаний, как Кобун, и не казался таким надежным. В то время отец тоже прислушивался к Кобуну, и тот предрек ему, что если родится мальчик, то он станет его духовным наследником, и тогда он должен будет признать его и помогать ему. Но я оказалась девочкой, и Кобун сказал отцу – как узнала мама от других членов общины, – что отец совсем не обязан заботиться о нас.
Следующим вечером мы снова разругались.
– Ох, бедняжка я, бедняжка, – передразнила она писклявым голосом. А потом заорала. – Ты понятия не имеешь, сколько я для тебе сделала!
– Обещаю, я буду лучше стараться, – ответила я. – Буду мыть посуду и перестану жаловаться. И буду правильно вытирать столы, – она хотела, чтобы я терла сильнее и подставляла руку под крошки.
– Дело не в столах, глупая маленькая дрянь. Дело в гребаной жизни, – она разрыдалась, судорожно и глубоко вздыхая, глотая воздух.
Я стояла неподвижно, с каменным выражением лица. Ничего не чувствовала ниже головы. Стояла, как дом, который видела в Баррон-парке: его снесли, оставили только фасад, поэтому домом он казался, только если смотреть спереди. Внутри же ничего не было. Ни комнат, ни стен, ничего.
– Мне очень жаль, – повторила я. – Правда жаль.
– Извинения ничего не значат! – завопила она. – Нужно доказать делом. Ты должна перестать себя так вести сейчас же.
Она хлопнула ладонью по шкафчику, потом по столу – два громких удара. Снова глубоко втянула воздух ртом, как будто у нее была астма и она едва могла дышать.
– Знаешь, кто я такая? – выкрикнула она. – Я козел отпущения. Я та, кто все для тебя делал. Но все плевать на это хотели! – она прокричала слово «плевать» во весь голос – охрипший, – протянув гласные, и я была уверена, что ее слышали все соседи, вся наша тихая улица.
– Я – ничто! – кричала она, начиная плакать. – Сначала для своей семьи, теперь для тебя со Стивом. Вот что я такое. Ничто.
Она зажгла свет на кухне, и этот обыденный жест посреди всего остального казался диким. По вечерам, когда мы не ссорились, мы включали свет и в других комнатах, и наши окна светились на темной улице рядом с другими желтыми окнами.
– Неправда, – сказала я безжизненным голосом. Мне больно было стоять.
– Иди к черту, Вселенная. Иди к черту, мир, – она выставила средние пальцы на обеих руках и показала их потолку.
Потом подошла к двери, прислонилась к ней, соскользнула на пол и, сидя на корточках, обхватила руками голову, как делала обычно, когда ссора подходила к концу.
– Я не хочу так жить дальше, – сказала она, тихо плача.
Она произнесла это так, будто бы жизнь могла вот так оборваться, как если бы это было простым падением оттого, что на бегу вдруг подвернулась лодыжка.
Без нее я перестану существовать, останется только пустота.
Я присела рядом с ней и положила ладонь ей на руку.
– Что значит, не хочешь жить дальше? – спросила я.
– Жизнь, – она всхлипнула. – Я так больше не могу. Ты понятия не имеешь, через что я прошла. Понятия не имеешь, каково это было, растить тебя одной, безо всякой помощи. Я так стараюсь, но мне не хватает поддержки. Это слишком тяжело.
Развязка каждой ссоры напоминала конец долгого и утомительного путешествия, когда ощущаешь невесомость, не ориентируешься в пространстве. Вернулись звуки. Запахи. К тому моменту я уже не чувствовала очертаний своего тела.
Она осталась на полу возле двери. Ссора закончилась. Она больше не сердилась, ей было просто грустно. И теперь, когда буря отгремела, опустошив ее и отняв у нее силы, я не могла уже представить, как смела желать ей что-то, помимо добра.
Мама все глубже погружалась в черную тоску, а я фантазировала, что живу у отца: брожу по чистым белым комнатам (в них все еще не хватало мебели) и пробую фрукты, запас которых на расставленных по дому блюдах никогда не иссякает. Лорен и ее знакомый из школы бизнеса, низкорослый и хрупкий молодой человек, открыли кафе Terra Vera, где подавали веганские роллы в лаваше из цельнозерновой муки. Перед ужином она возвращалась, веселая и энергичная, в облаке светлых волос, с кожаным портфелем и бумагами в руках, а я спрашивала, как прошел день. Ее джинсы были обрезаны на разной высоте на левой и правой ногах: из-под неровного края, будто языки колоколов, высовывались лодыжки.
Я тоже стала ходить носками врозь. Сами по себе мои ступни смотрели прямо. Когда я иначе ставила ноги, я становилась другой – более целеустремленной, во мне было больше потенциала, я несла больше ответственности.
Мы ссорились уже много месяцев подряд, все чаще и чаще, пока ссоры не стали происходить каждый вечер и длиться по нескольку часов. Когда мы были вместе и не ругались, я следила за маминым лицом, чтобы не упустить тот момент, когда у нее испортится настроение.
Об особенно мучительных ссорах я рассказывала учителям, Ли и Стиву. Это беспокоило маму: она чувствовала себя раздавленной, если окружающие плохо отзывались о ней, и потому стала поминать Ли в наших ссорах – винила меня в том, что я, чуть что, бежала к ней жаловаться.
Она стучала в стену, разбивая руки, кричала так, что кровь приливала к лицу, на шее раздувались жилы. Хлопала дверями; у нее под глазами давно были темные круги. Насколько раз она хватала меня за плечо и с силой трясла.
– Не надо было тебя оставлять, – сказала она как-то в субботу в конце ссоры. – Ошибкой было заводить ребенка.
Не глядя на меня, она плакала, потом поднялась, направилась в свою комнату и хлопнула дверью.
Я знала, что другие родители не говорят такого детям. Если я разрушаю ее жизнь, думала я, почему она ходит за мной из комнаты в комнату, будто мы скованы одной цепью?
Я на цыпочках вышла в прихожую, потом – на улицу, спустилась по ступенькам с крыльца, пересекла лужайку и пошла по Ринконада-авеню в сторону школы «Эмерсон».
На улице в тот тихий час никого не было, из-за темных окон на лицах домов не было никакого выражения, меня не обгоняли машины, а те, что мне встретились, стояли припаркованными на подъездных дорожках. Я быстро дошла до перекрестка и все это время видела себя со стороны: вот я иду в юбке и балетках, озираясь – нет ли позади мамы? Она, наверное, все еще у себя в комнате и не заметила, что я ушла.
Я повернула на восток, потом на юг, потом снова на восток, в сторону «Эмбаркадеро», в сторону шоссе 101. Миновав перекресток, на котором можно было либо свернуть, либо идти прямо, я знала, что теперь маме не так-то легко будет меня найти. И я начала дышать. Я чувствовала неожиданную свободу и подъем, дрожь в коленках – от восторга и ожидания. Не просто побег – избавление.
Груз будто свалился с плеч, я вернулась в тело, ощущала его границы – черту между мной и воздухом.
Я глядела на свои ладони. Левая и вправду походила на непроходимые заросли – ни одной четкой линии. На правой ладони линии тоже были не совсем отчетливыми, но линия жизни выглядела аккуратнее. Я знала, что развилки и утолщения на ней – это плохо, но откуда я могла знать, когда именно случится несчастье, как далеко я уже продвинулась по этому начерченному на руке пути? Даже сбежав от мамы, я смотрела на будущее ее глазами.
В какой-то момент мне понадобилось в туалет. На лужайке перед домом в испанском стиле, отделанном штукатуркой розоватого цвета, я заметила розовые кусты возле круглого окна в рост взрослого человека. Я огляделась – рядом никого не было. Я спряталась за кустами и быстро пописала.
Я шаталась по округе до самых сумерек. Казалось, будто прошло уже несколько часов, и мне ничего не оставалось, кроме как вернуться домой.
Я была в квартале от нашего дома, когда заметила на лужайке людей, услышала щелчки раций, похожие на стрекот насекомых. В наших окнах и на крыльце горел свет, напротив стояла полицейская машина.
Одна из женщин в форме увидела меня издалека и пошла мне навстречу. На лужайке, расставив ноги и скрестив руки, стояла мама.
– Ты вернулась, – сказала она.
– Да, – ответила я.
Она опасливо приблизилась.
Женщина в форме заговорила с ней. Еще один полицейский стоял в стороне, разговаривая по рации, отвернувшись.
– Спасибо, – сказала мама, кивнув женщине, которая кивнула в ответ и пошла к машине.
– Не надо было этого делать, – сказала она, когда полицейские уехали. – Нельзя просто убегать.
– Не надо было на меня кричать, – я стояла твердо, расставив ноги, как она. Чувствовала в себе новую силу, о которой до этого не подозревала.
– Прости, что кричала, – ответила она.
* * *
Тем вечером, когда я укладывалась спать, мама зашла ко мне в комнату. Она уже успела умыться. Наклонившись надо мной, она сказала:
– Прости, – она пахла мылом. – Хочешь есть?
– Немножко, – ответила я.
Она порезала на кухне яблоки и сыр, принесла мне в постель на тарелке, и мы съели их вместе, упершись локтями в подушки и прикрыв ноги одеялом.
– Ты всем расскажешь, – сказала мама. – Выставишь меня ведьмой. Расскажешь Ли.
– Нет, – с нажимом ответила я.
Следующим утром я нашла Ли – за перегородкой в большой классной комнате.
– Смотрите, – сказала я, показывая синяк на плече, похожий на грязное пятно. – И еще она сказала, что меня не нужно было рожать.
– Она не должна была так говорить, – сказала Ли. – Но она так не думает.
– Скандалы длятся часами, – жаловалась я. – Когда это кончается, уже поздно, я не могу сосредоточиться на домашнем задании. Я сбежала из дома. А потом вернулась.
Недавно мама стала выпивать за ужином бокал вина.
– И она пьет! – добавила я.
– Правда? Много?
– Бокал вина иногда по вечерам, – ответила я мрачно.
Выражение лица Ли изменилось, и я догадалась, что эта информация произвела не такое сильное впечатление, как все остальное.
– Бокал вина – это немного, – сказала Ли. – Но мы советуем тебе подумать, где пожить во время экзаменов: поездка в Японию не за горами.
Следующую неделю я провела у Кейт в Берлингейме. В понедельник мама отвезла меня с дорожной сумкой в школу: она признала, что ей тоже нужно отдохнуть. После уроков нас забрала мама Кейт. Она была высокой и крупной, очки висели у нее на шее на длинном, унизанном бусинами шнурке, и бусины приятно постукивали на ходу.
– Хорошего понемногу, – сказала она, когда привезла нас домой. Она окинула меня взглядом сверху вниз, когда мы втроем оказались на кухне, выложенной белой плиткой.
– Спасибо, – ответила я, мгновенно почувствовав, какой небольшой была по сравнению с ними.
♦
Прибыв в Киото, мы остановились в комнатах при храме, окруженном оградой: девочки – в одной, мальчики – в другой, учителя – в третьей. Мы спали на тонких матрасах, которые стелили на татами, а по утрам сворачивали и убирали в шкафчик за перегородкой-седзи, чтобы вечером достать снова.
Мы завтракали, сидя на коленях за низким столом во дворе, в окружении деревьев. На третий день мы обнаружили в нашем утреннем рисе микроскопических серебряных рыбок.
Предполагалось, что мы станем отмечать свои расходы в том же дневнике, куда записывали впечатления. Пометки о моих тратах были рассыпаны по страницам – я заносила их в тетрадь бессистемно, как только прощалась с деньгами. Там были и 300 иен за то, чтобы загадать желание в храме на вершине горы Хиэй в первый день. К концу поездки, когда пришло время делать подсчеты, я с трудом могла отыскать разбросанные по дневнику цифры.
В храмах к нам подходили японские девочки и, хихикая, спрашивали, можно ли с нами сфотографироваться. Они прикрывали рот ладонью, когда смеялись. Фотографируясь, ставили друг другу рожки. Я заплатила за возможность записать свои желания на бумажках, которые после протолкнула в отверстие в гранитной плите; позже во время молитвы их сожгли монахи.
Мы съездили в Икеду, где провели неделю. Как-то вечером мы отправились в баню. Мы принесли с собой полотенца, чтобы соблюсти приличия, но я совсем не почувствовала неловкости. Нагота здесь совсем не смущала.
В большой комнате с тремя разными купелями и сауной в дальнем конце жарко пахло паром и сандаловым деревом. Там был горячий бассейн, холодный бассейн и темная сауна, которую наполнял звон электрического нагревателя. Нас окружали молодые женщины и женщины в возрасте, очень худые – их кожа обвисла, сквозь нее проглядывали очертания костей. Женщины в полотенцах, обернутых вокруг груди, лежали в горячих бассейнах, закрыв глаза.
Несколько часов спустя мы вышли через металлический турникет в ночь, жар от воды еще обволакивал меня, не давая ужалить холодному ночному воздуху. От нас всех шел пар.
Одним из последних остановочных пунктов нашей поездки была Хиросима.
В темном музейном холле стояли освещенные стенды с ногтями и волосами в коробочках, обгоревшими кусочками кимоно, черно-белыми фотографиями брошенных и плачущих детей. Некоторые дети погибли мгновенно, другие выжили, но в последующие недели у них пучками выпадали волосы, они теряли ногти и даже пальцы. От взрыва образовались торнадо. Ветер неравномерно разносил радиацию.
В школе я читала книгу о матери и дочери на мосту. После взрыва от дочери осталось только черное пятно, горстка золы на земле, а мать нашли голой, и темные цветы с ее кимоно были выжжены у нее на коже. Меня долго преследовал этот образ.
Потом некоторые из нас пошли посмотреть на эпицентр взрыва – огороженную забором территорию с одним уцелевшим старым зданием. Посмотреть на это место можно было с бетонных скамеек: их окружали вазоны и сикоморы с пятнистыми стволами, их листья падали на асфальт под скамейками и сворачивались, будто цепляющиеся за них руки.
В магазинчике неподалеку я купила унаги с рисом и села на скамейку. За забором был покрытый чахлой травой участок. Участок земли вокруг здания был больше любого, что я видела в Японии до сих пор, не считая храмовых территорий. Это напомнило мне о ничем не занятых прогалах между домами вокруг Пало-Алто, вдоль дороги Эль-Камино-Реаль: точно так же здесь торчали из земли сорняки.
Посередине стоял остов старого здания с куполом из стальных пластин, похожим на леса или на проволочный манекен. Это здание стояло тут в утро взрыва; покрывавшие его краска и штукатурка исчезли без следа, уцелел только скелет – будто искрошившийся сухой лист, от которого остались лишь коричневые вены. Здание устояло, потому что по законам физики место в эпицентре ядерного взрыва остается нетронутым.
После Хиросимы мы поехали в городок в сельской местности и остановились в низком, плоском здании с общей комнатой посередине. Мы уже посетили много храмов в зеленых горах, где пахло дождем и торфом. Уже ездили на скоростном поезде, который шел так мягко, что нам казалось, будто мы почти не двигаемся.
Я вспоминала о маме и наших ссорах. Облегчением было находиться вдали от нее. Я знала, что, когда вернусь, ссоры продолжатся.
На второй день в городке, уже в самом конце нашего путешествия, в дверь общей комнаты зашел человек. И только мгновение спустя я поняла, что это – отец. На нем не было обуви, привычным жестом он отбросил с лица волосы.
– Стив?! – воскликнула я.
– Привет, Лиз, – сказал он, улыбаясь. На нас уставился весь класс. – Я здесь по делам. Подумал навестить тебя.
– Но откуда ты узнал, где я? – мы были далеко от Токио и Киото, куда он обычно ездил по делам.
– У меня свои дорожки, – ответил он.
Я посмотрела на Ли, и та подмигнула.
Каким же он был молодым и красивым. Я почувствовала тот же трепет, что испытывала, когда видела его лицо на обложке журнала.
В тот день меня освободили от занятий. Нас с отцом оставили наедине в комнате с ширмой из рисовой бумаги, окном и подушками на покрытом татами полу. Я водила руками по плетеному из тростника мату с узором-елочкой и окантовкой из ткани. Находиться рядом с ним поначалу всегда было неловко, как с мальчиками: вы явно нравитесь друг другу, но в то же время не знаете, что сказать.
– Я так рада, что ты пришел, – сказала я.
– Я тоже рад, Лиз. Хотел провести с тобой время.
Я сидела у него на коленях. Я была уже слишком взрослой, чтобы сажать меня на коленки – четырнадцать лет, – но маленькой для своего возраста, и иногда забиралась на колени мамы тоже. При этом мои кости впивались ей в бедро, и мне не хотелось, чтобы это случилось с ним, ведь я не так хорошо его знала. Поэтому изо всех сил я старалась сидеть аккуратно, и для этого пришлось изогнуть спину.
Я немного дрожала. От страха? Восторга? Я не знала. Я боялась его и в то же время чувствовала электрическую, пронизывающую любовь. Надеялась, что он не заметит, как пылают мои щеки: у меня наконец был отец, и мы были близки тогда, чего я так долго ждала. Для меня иметь отца было не чем-то обыденным, а наоборот, чем-то экстраординарным. Время, что мы провели вместе, текло не плавно, а рывками – как сменяют друг друга кадры мультфильма, нарисованные на уголках страниц в блокноте.
Насколько близкими должны быть отношения с отцом? Мне хотелось погрузиться в него, стать неотделимой. В его присутствии я не знала, куда деть руки и ноги. Другие дочери знали бы.
В тишине и прохладе храмов у меня появлялось ощущение, будто я больше, чем просто я, – часть какой-то великой и благой системы, благого плана. Я задумалась, что будет, когда путешествие подойдет к концу и я вернусь домой к маме. Скажет ли отец, что я могу жить с ним?
– Ты веришь в Бога? – спросила я, чтобы узнать, испытывал ли он когда-нибудь то же, что и я в храмах. Я очень боялась говорить о переезде напрямую, потому что он мог ответить отказом. Вместо этого я собралась произвести на него впечатление и увлечь своей любознательностью, которой не ожидаешь от девочки-подростка.
– Да, но не в общепринятом смысле, – ответил отец. – Я верю в то, что существует нечто. Дух. Сознание. Что-то вроде колеса.
Он стал подниматься, и я слезла с его колен. Присев на корточки, он стал рисовать пальцем круг на татами, а внутри круга – еще один, поменьше. С колотящимся сердцем я присела рядом. Вот она, близость! Мне хотелось больше! Чтобы он говорил со мной так, будто ему интересно, чтобы рассказывал, о чем думает, зная, что я пойму, потому что я его дочь.
– В некоторых местах находятся точки, где внешнее и внутреннее колеса соединяются; на внешней стороне такие точки крупнее, – он нарисовал между кругами две спицы. – Не знаю, понятно ли объясняю.
Казалось, он и сам запутался.
– В общем, это просто, – сказал он.
Тем вечером я записала в дневнике: «То, что я ему рассказываю, оживает. А того, чего не рассказываю, не существует».
«У меня внутри все прыгает», – написала я.
После он поехал с нами на велосипедах в сонный городок, который составляли дома и магазинчики из темного дерева в окружении рисовых полей и холмов, будто вырезанных ступеньками. Мы сели за столик в лапшичной. Я заказала кицунэ-удон – похлебку с капельками жира и полоской жареного тофу на поверхности; толстая, едва различимая на дне лапша напоминала белые камни в глубине мутного пруда. Отец заказал холодную собу, которую нужно обмакивать в соус.
– Можешь одолжить мне несколько иен, Лиз? – спросил он. У него с собой были только доллары.
– Хорошо, – ответила я. Я выделила ему немного из той суммы, что мне выдала мама, следуя инструкции учителей: они рассчитали, сколько нам нужно на еду в те дни, когда мы покупали ее себе сами, на проезд и на желания в храмах.
– Я тебе верну перед отъездом, – сказал он.
После обеда мы поехали в банк, а потом он должен был сесть на поезд, чтобы вернуться в Токио. Помещения в Японии были маленькими, но пахли открытым пространством, еда блестела в лакированных плошках, в залах звенели игровые автоматы патинко, двери открывались прямо на улицу – все это так отличалось от того, к чему я привыкла, казалось таким экзотичным. Но банк выглядел, как и всякий большой банк в Калифорнии: ковры на полу, ограждения из красного толстого шнура, подвешенного между стоек с латунными навершиями, очередь в кассу.
– Вот, – сказал отец, когда служащий за стеклом отсчитал ему стопку банкнот.
Он выдал мне одну, но такую, какой я никогда здесь не видела, – в 10 000 иен. А это была почти половина всех моих карманных денег на поездку. Другие банкноты были потрепанными, его же – новенькой и хрустящей.
– Мельче нет, дружище. Прости.
– Ого. Спасибо.
Мы попрощались. Теперь, когда в моем кармане оказалось столько денег, день заиграл всеми красками.
На них я купила сувениры для отца и Лорен, в том числе четыре маленькие чашки из тончайшего фарфора разных пастельных цветов, упакованные в деревянный ящичек с четырьмя отделениями. И еще благовония в продолговатой бумажной упаковке, которые пахли лесом и смолой.
– Кедр, – прокомментировала женщина за прилавком. Она взяла купюры, которые я выложила перед ней, поклонилась и вернула мне более мелкие на сдачу. Маме я купила хлопковую юкату размера S, цвета индиго, с узором из раскрывающихся белых вееров и пояс из такой же материи. Она была упакована в пластиковый пакет и стоила дешевле, чем подарки отцу и Лорен.
– Им ты привезла подарки лучше, чем мне? – спросила мама.
Мы были в ее спальне, я вынула ее подарок прямо из чемодана – он все еще был в оригинальной прозрачной упаковке.
– Нет, они просто разные, не хуже и не лучше.
– Но на них ты потратила больше, – не сдавалась она. Откуда она знала? Мне следовало купить ей самые лучшие подарки, потому что у нее было меньше денег и она не могла поволить их себе сама.
– Мне нравится юката. Тебе идет, – ответила я. Она надела ее поверх одежды, а я смотрела с кровати.
– Мне не нравится, как она завязывается, – сказала она. – Слишком большая. В любом случае я твоя мать, и ты должна относиться ко мне с большим уважением.
– Это самый маленький размер, – ответила я. – И я отношусь с уважением…
– Так что ты купила им? – перебила она.
Как было объяснить ей, что я купила для них более дорогие подарки, потому что боялась, что безразлична им, потому что хотела им нравиться, завоевать их любовь? В их компании я не так была уверена, что меня любят, что я часть их семьи; это чувство было поверхностным, непрочным, мое положение в их доме – шатким, я – заменимой. Они не расспрашивали меня о моих делах, не интересовались моей жизнью так, как мама, и от этого мне еще сильнее хотелось произвести на них впечатление.
Мама уже меня любила. Я знала это, даже когда она кричала на меня. Об их чувствах я не могла судить так определенно.
♦
Риду уже исполнилось шесть месяцев. Через несколько дней после возвращения из Японии я отправилась к ним в гости, и отец попросил меня сменить брату подгузник.
– Это твои семейные обязанности, Лиз, – сказал он. – Ты уже давно ими не занималась.
Я прижала брата к бедру, прошла мимо французского окна в прихожей и стала подниматься по изогнутой каменной лестнице, держась за перила. Отец сменил пол в комнатах второго этажа: теперь его устилали широкие доски дугласовой пихты – дерева с мягкой, шелковистой текстурой. Для детской он заказал полки из того же дерева, соединенные с высоким пеленальным столиком.
Я положила Рида на стол, расстегнула липучки на подгузнике, вытерла брата салфеткой и повернулась, чтобы взять чистый подгузник – как я делала обычно.
Но за те три недели, что я провела в Японии, он научился переворачиваться. Никто меня не предупредил. Я услышала шлепок: его голова ударилась о пол. Посмотрела вниз и увидела его лежащим кверху лицом. Одно мгновение было тихо, и я подумала, что, может быть, он не заплачет, может быть, они не заметят и все само собой образуется. Секунду спустя он заревел. Я подхватила его на руки и услышала топот босых ног: это отец и Лорен бежали с кухни.
По дороге в больницу Лорен кормила Рида грудью. Я сидела рядом с ней на заднем сидении, надеясь, что мне представится возможность помочь. Мне хотелось обратить время вспять и вернуться в те часы и минуты, когда ничего еще не случилось.
За рулем был отец. Он молчал. Наконец произнес тихим ядовитым голосом:
– Лиз, тебе нужно научиться понимать, как твои поступки отразятся на окружающих.
Это случилось, и ничего нельзя было поделать. Я должна была защищать Рида, а эта ошибка грязным пятном легла на мою сестринскую преданность – как если бы ни до, ни после я не совершила ничего хорошего.
Но на пеленальном столике не было ни бортиков, ни углубления. Матрас был плоским – коврики из вспененного материала с прогибом посередине еще не изобрели. И подгузники лежали совсем не под рукой.
– Простите, – сказала я. – Пожалуйста, простите меня.
♦
– Подумай, пожалуйста, о том, чтобы переехать к нам, – сказал отец пару месяцев спустя. Мы сидели в его «Мерседесе», возвращались домой из магазина органических продуктов, где купили яблочный сок Odwalla. Мы с мамой уже обсуждали, что нам нужно отдохнуть друг от друга, – во время затишья, когда понимали, что нельзя постоянно ссориться и дальше. Ей нужен был перерыв – она так сказала.
Отец произнес эти слова резко, как будто считал меня виноватой в чем-то. Я боялась, что после случая с братом они не захотят, чтобы я жила с ними, хотя с тех пор часто просили меня сменить подгузник и даже посидеть с ним вечером – у меня как раз были летние каникулы после средней школы.
Я так долго на это надеялась. И вот это случилось. Он попросил меня жить с ним. Но в его голосе не было ни радости, ни воодушевления.
– Да, – ответила я. – Мне бы хотелось пожить с тобой. Если ты тоже этого хочешь.
Я воображала, что если перееду к нему, мы станем лихорадочно, словно в ночь перед экзаменом, пересматривать вместе старые фотографии, чтобы наверстать все, что упустили. И все это будет мне в новинку: большой дом, образцовая семья. Я была его дочерью, которую он потерял на время – как Пердита из «Зимней сказки», – а теперь я готовилась вернуться. У меня было множество достоинств (так мне рисовалось), я заслужила это, и – под определенным углом, возможно – была красива. Все это он заметит и признает. Жизнь будет полна удовольствий. Меня ждут платья и горы фруктов.
Позже мне рассказали, что в восьмом классе, когда наши с мамой ссоры стали особенно суровыми и частыми, отцу позвонили из школы и предупредили, что если он не заберет меня к себе, придется обратиться в социальные службы. Я не знаю наверняка, правда это или преувеличение, но в любом случае – спустя столько времени – я посмотрела на него как на спасителя.
– Не пожить, – запротивился отец. – Если ты собираешься жить с нами, тебе придется выбирать. Она или мы. Я хочу, чтобы ты дала нашей семье шанс. Если ты живешь с нами, ты должна пообещать, что не будешь видеться с матерью полгода. Я жду от тебя решительных действий, – сказал он.
Если я буду бегать туда-сюда, ничего не получится, я не приживусь. Отец решил, что резкий разрыв будет правильным решением; мама была не согласна, но таковы были его условия. Приближалось лето, а это значило, что с мамой я не увижусь до самого декабря.
– Иначе, – сказал он, – сделка отменяется.
– Я правда хочу жить с тобой, – ответила я с твердостью, которой не чувствовала.
– Ты приняла очень важное решение, – торжественно сказал он. – Сделала важный шаг. Это и значит – быть взрослой.
Я уйду от мамы – я произнесла это вслух. У меня кружилась голова, я полностью оцепенела и чувствовала себя преступницей. Возможно, именно в тот момент во мне и поселилось то чувство вины, которое буквально парализовывало меня порой, когда я переехала к ним: вины за то, что украла мамину молодость и энергию, за то, что она стала тревожной и нервной, потому что не имела ни поддержки, ни средств. За то, что добившись успеха в школе и став любимицей учителей, отказалась от нее и выбрала его – того, кого не было рядом. Выбрала красивую жизнь, хотя именно она читала мне книги со старыми сказками о том, что внешность обманчива.
Мы свернули с Уэверли-стрит на Санта-Рита-авеню и остановились у дома. Шикарная машина, молодой и привлекательный отец, самый красивый дом в Пало-Алто. Я понимала, что была частью этой идеальной картинки, но каждый раз будто видела себя со стороны. Ни на одной из граней их жизни не было ничего несовершенного, постыдного. И за этим идеальным фасадом можно было наконец расслабиться: не нужно беспокоиться о том, что подумают люди, не нужно склонять их на свою сторону или извиняться. Отец взял бутылку с яблочным соком за ручку и сквозь ворота направился к дому.
– Я горжусь тобой, – сказал он.
Маленькое государство
♦
Несколько недель спустя, в июне, утром буднего дня мы с мамой упаковали мои вещи, и она отвезла меня к отцу. Четыре квартала, два перекрестка, всего два поворота.
Мама поставила машину в тени на Санта-Рита-авеню. Мы прошли сквозь металлические ворота с металлическим кольцом наверху, кольцо звякнуло, и эхо разнесло этот звук по двору. Я знала, что нам обеим здесь не место, хотя никто никогда не произносил этого вслух. Задняя дверь дома была не заперта.
– Эй! – окликнула я. Никто не отозвался. Отец был в NeXT, Лорен – в Terra Vera. Брата, наверное, повезла гулять Кармен, няня, которая сидела с ним по будням с девяти до пяти.
Мы зашли в дом. Внутри было прохладно и свежо, как под ветвями раскидистого дерева в жаркий и солнечный день.
– Иди за мной, – сказала я. Налево через арку и низкий коридор, потом снова налево – через дверь в мою новую спальню.
Комната была квадратной, с кирпичными стенами, крашеными в белый, и окнами, выходящими на сад с розовыми кустами и дорогу. Потянувшись, я могла достать до свисавшего с толстой деревянной балки светильника из рисовой бумаги, формой напоминавшего коробку. Там были матрас на каркасе, стол и комод; к комнате примыкала ванная, выложенная зеленым кафелем. Эта комната не казалась мне моей. Мне не хотелось дотрагиваться до поверхностей, спать на кровати, принимать душ в ванной. Я выбрала ее, потому что она находилась рядом с кухней, а именно там они проводили время вместе, кормили брата. Я хотела находиться настолько близко к отцу, Лорен и брату, насколько возможно.
Впервые увидев дом, еще до того как они поженились, я сказала отцу, что хочу себе комнату рядом с их спальней: я лежала на полу и представляла, что она уже моя – окна по обеим сторонам, камин с изогнутой, убранной внутрь кирпичной кладки трубой. Мне нравилось, что она полна света и что отец с Лорен рядом.
– Мы не можем отдать ее тебе, – ответил отец. – Возможно, у нас будет пополнение.
Мне тогда не пришло в голову, что он имел в виду под «пополнением» – что Лорен могла быть беременна. Когда я спросила, отец ответил только:
– Прости, дружище.
И только потом, незадолго до моего переезда, когда брат уже родился и поселился в понравившейся мне комнате, отец сказал, что я могу выбрать себе спальню из тех двух, что остались. Обе находились далеко от их комнаты. Одна была над гаражом в конце длинного темного коридора, пахнувшего плесенью. Вторая – внизу, рядом с кухней.
– Маленькая, – сказала мама, – но мне нравится вид. И ты знаешь, что я обожаю такую плитку, – она уже несколько лет говорила, что хочет положить на пол терракотовую плитку.
Она перешла в другую комнатку в конце коридора. Я начинала беспокоиться, что нас поймают – что дверь распахнется и либо отец, либо Лорен застанет нас здесь вместе. Мне хотелось, чтобы мама поскорее ушла. И в то же время я не хотела, чтобы она уходила. Я хотела, чтобы она была рядом и защищала меня.
– Здесь все еще нет мебели, – сказала мама, и ее голос эхом разнесся по коридору.
– Знаю, – ответила я. – Хотелось бы мне, чтобы они купили диван или еще что.
Большинство комнат пустовали. Звук разносился по ним беспрепятственно и отражался от стеклянных, глиняных и кирпичных поверхностей: ничто не останавливало его, не приглушало, не поглощало. Все те годы, что я жила там, я мечтала, чтобы они поставили больше мебели, и эти мечты превратились в горячечную тоску по обставленным мебелью комнатам, как в других домах.
– Ну, все, – сказала мама. Она стояла в дверях моей спальни – глаза на мокром месте. – Я буду по тебе скучать. Надеюсь, это к лучшему, – мы обнялись. – За меня не волнуйся, со мной все будет хорошо.
– Ты поедешь в Грецию, – сказала я.
– Да. Я уже не могу дождаться, – ответила она. Когда она грустила, ее кожа испускала сияние, как будто подсвечивалась изнутри.
– Будет здорово, – сказала я.
В октябре она на три недели улетела в Европу – в Италию и Грецию: отец обещал ей это путешествие в качестве компенсации за то, что я переехала к нему. Он дал ей 10 000 долларов.
Она полетела одна, сначала в Венецию, потом в центр йоги в Греции. Впервые мама занялась йогой после того, как я съехала.
Впоследствии она рассказывала мне, как ей было одиноко, как плакала она в тот вечер, когда приехала в Венецию – все вокруг такое абсурдное, глупое, вся эта вода вместо улиц! Но на следующее утро раздвинула шторы, и перед ней предстал Гранд-канал, сверкавший в лучах утреннего солнца.
В последующие несколько месяцев, когда мы не разговаривали друг с другом – впервые в жизни – и я не знала, как она там, вина давила мне на грудь, будто бы там устроилось крупное животное. Я знала, что совершила преступление, но не могла точно вспомнить какое. Бросила маму? Уронила Рида? Иногда я не могла говорить из страха, что скажу что-нибудь не то или допущу ошибку, которая ранит окружающих.
Я вышла за мамой из дома и встала у двери. В воротах она повернулась и помахала – хлопанье птичьего крыла в режущем белом свете.
Мы с мамой согласились на его условия. Мне казалось, что они были слишком суровыми для людей, которые за тринадцать лет и дня не провели врозь, и что создание новой семьи необязательно должно подразумевать уничтожение старой. Но втайне я чувствовала еще и облегчение. У меня появилось превосходное оправдание: мне полгода не нужно было видеться с мамой, которая вечно на меня сердилась, но формально я была здесь ни при чем, потому что этого потребовал отец. Хотя позднее я и стала страдать от угрызений совести и считать себя соучастницей.
К тому же я посчитала, что если продемонстрирую отцу верность и преданность, то произведу на него впечатление, и он сильнее меня полюбит. Я была так уверена, что он осознает всю суровость жертвы, которой от меня потребовал, что спустя время оказалась в полном замешательстве: он не только не осознавал, но и упрекал меня в том, что я недостаточно усилий прилагала, чтобы стать частью семьи. Мне же казалось очевидным: ради него я отказалась от всего.
В то первое лето, проведенное в разлуке с мамой, я продолжала волонтерствовать в Литтон-Гарденс, доме престарелых, куда устроилась в прошлом году и где работала пару дней в неделю. Я возила старушек на прогулку, толкая кресло-каталку по зеленым улочкам рядом с Юниверсити-авеню. Обычно я брала либо Люсиль, либо старушку, звавшую себя Дза Дза, – она часто распевала Tiny Bubbles, когда мы гуляли. Казалось, старушкам нравится проводить со мной время, но в перерывах между моими визитами они обо мне забывали.
Несколько раз я случайно встречала маму в той части Пало-Алто, однажды это случилось на Гамильтон-авеню, когда я возвращалась из дома престарелых, а она садилась в машину после йоги. Она окликнула меня, и мы немного поболтали о разных мелочах. Я старалась не задерживаться. Во время этих встреч меня наполняли одновременно тоска по ней и ужас. Я старалась окончить разговор как можно быстрее, чтобы меня не поймали, не осудили. Боялась, что кто-нибудь увидит нас вместе и доложит отцу, боялась и нарушить правила, и вызвать ее гнев.
Мне не хотелось признавать, что все это было ошибкой, что мне было ужасно одиноко и что я нуждалась в ней. Выхода из этой ситуации я не видела.
Отец не запрещал звонки, и осенью, когда снова начались занятия в школе, мы с мамой стали разговаривать по телефону по вечерам, после того как вся семья засыпала.
Я уносила домашний телефон настолько далеко, насколько позволял провод, протягивала витой шнур за сушилкой для тарелок и зажимала трубку между ухом и плечом. Мы разговаривали, пока я мыла посуду. Я боялась, что она скажет, что я предала ее, но она этого не говорила. Ее тепло и интерес во время тех вечерних звонков ободряли меня. Мы не говорили о том, что нам нельзя видеться. Не ссорились. Тогда она этого не показывала, но позже призналась, что беспокоилась обо мне и стала по вечерам оставаться дома, чтобы подойти к телефону, если я позвоню.
♦
Отец нанял людей, чтобы обнести лужайку перед домом со стороны двух пересекавшихся улиц низким забором из длинных продольных досок. Всю траву вырвали, осталась только земля. Со стороны Уэверли-стрит решено было посадить дерево.
– Мне нравятся дубы на Восточном побережье, – сказала Лорен в машине, когда мы обсуждали, какое именно дерево посадить.
– Ты знаешь дубы с Восточного побережья, Лиз? – спросил отец, глянув на заднее сидение, где сидела я. Словосочетание «Восточное побережье» он обычно употреблял как синоним слова «второсортный».
– Как они выглядят?
– А вон, – ответил отец, показывая на растущее между тротуаром и дорогой дерево. Оно было совсем не похоже на калифорнийский дуб. Его листья были больше и с неровным краем, как будто в нем понаделали дырок с помощью огромного дырокола.
В конце концов они решили пересадить взрослый медный бук. С помощью крана дерево опустили в глубокую яму. Толстенный ствол и клубок корней. Оно было высотой с двухэтажное здание и поднималось над крышей дома. Его голые ветви, на которых задержались только несколько мертвых листьев, торчали вверх и в стороны, будто прутья метлы.
Уходя по утрам и возвращаясь по вечерам из школы, я искала на нем следы жизни: листья, почки – хоть что-нибудь, что указывало бы на то, что дерево собирается расти и цвести. Но и через месяц бук не изменился. На нем не появилось новых листьев, он не распрямился, чтобы стать симметричным, как другие деревья, а так и остался покосившимся и бесплодным. Однажды приехали люди, распилили на части ветви и ствол и увезли.
Как-то раз к нам на обед пришла подруга отца Джоанна. Она работала в Apple почти со дня основания, и у нее был девятимесячный сын, ровесник Рида. Стив устроил ей экскурсию по дому.
– А вот это, – сказал он, показывая на серебрящиеся от времени деревянные балки под потолком небольшой ниши, – использовалось при строительстве моста «Золотые ворота».
Я подумала, что они были частью самого моста, но после поняла, что он имел в виду строительные леса.
– А ты не беспокоишься насчет белков, Стив? – спросила Джоанна за обедом. У нее был приятный акцент. Она сказала, что в веганской еде может быть недостаточно белка и жиров для развивающегося детского мозга. По ней было видно, что она из тех, кто часто беспокоится.
– Не-а, – со спокойной уверенностью ответил отец. – Ты ведь знаешь, что в наиболее важный для развития период дети питаются грудным молоком?
Он всегда приводил этот аргумент, когда его спрашивали о веганской диете.
– Да. И? – осторожно ответила Джоанна.
– И знаешь, что? Грудное молоко только на шесть процентов состоит из белка, – заявил он. – А значит, белок не так уж и важен.
Он высказывал свои выводы так убедительно, что я много лет не подвергала их сомнению. Он верил, что молочные продукты состоят из слизи, а слизь забивает духовное зрение, совсем как нос. Именно посредством диеты он обособлял себя от окружающих. Когда я была маленькой, он относился к своему рациону чуть проще и иногда даже позволял себе мороженое из магазинчика Häagen-Dazs на территории Стэнфорда. Но теперь он сделался несгибаемым и требовал, чтобы никакие продукты животного происхождения не касались губ ни одного из членов его семьи, в особенности Рида.
Я подмечала, какой уверенной в себе кажется Лорен, как симметрично и безмятежно ее лицо, тогда как мое лицо, казалось, составлено из двух неровных половин: бровь, глаз и ухо с одной стороны были выше, чем с другой. Без моего разрешения и моего ведома лицо отражало все мои мысли и чувства: так хмурится и светлеет небо. Я сталась подражать той марене, в которой Лорен отбрасывала длинные волосы. Она не была хиппи, не вела богемную жизнь. Отклонила два предложения руки и сердца, а потом заарканила моего отца. А потому я верила, что она способна на великие дела. Отец говорил о ней в третьем лице, когда притягивал к себе, чтобы поцеловать:
– Знаешь, что она была чирлидером?
На обед отец приготовил пасту, а я разложила на тарелке буррито из Terra Vera – черные бобы, соус сальса и авокадо в лаваше, – порезав на кусочки, как японские роллы. В тот момент мне нравились чистота и умеренность нашей диеты, не перегруженный мебелью интерьер, обнажавший красоту скелета дома – балки, словно ребра, – и то, что дверь никогда не запиралась и кто угодно мог войти. Садовник посадил ромашки между камнями мощеной дорожки, и когда я шла по ней, от нее поднимался тонкий аромат. Мы ели всю эту здоровую еду за круглым деревянным столом на кухне, с краю стоял высокий детский стульчик брата. В такие моменты – когда в доме были гости, брат хлопал по пластиковому столику, отец напевал, накладывая пасту с кубиками авокадо, щедро политую его роскошным оливковым маслом, – я чувствовала, будто я часть семьи.
Единственной проблемой были руки. С тех пор как я переехала, они вели себя так, будто существовали сами по себе, и это бросалось в глаза. Они то неловко порхали и жестикулировали, то безжизненно свисали самым неестественным образом, чего, как мне казалось, нельзя было не заметить. Я все время их стыдилась. Когда мы садились за стол, я про себя молила их не предавать меня. Но все же почти каждый вечер за ужином я разбивала стакан.
Меня приводила в ужас мысль, что отец с Лорен однажды скажут, что я ничтожество, что они разочаровались во мне, что я неряшлива и отвратительна и только и делаю, что ломаю все вокруг, как младенец. А ведь у них уже был младенец. Как плохо я вписывалась в их семейный портрет! Я это видела и чувствовала. Они совершили ошибку, когда позволили мне жить с ними; я не понимала, какое место занимаю среди них. И эта непреходящая тревога – вкупе с безмерной благодарностью, разрывавшей меня изнутри, – побуждала меня слишком много говорить, расточать комплименты, отвечать согласием на любую их просьбу в надежде, что, угождая, я смогу вызвать их сочувствие и любовь. Они забрали меня из тусклой жизни в свой прекрасный дом, она была сильной и умной, он – гением с идеальным вкусом.
Я всячески обхаживала Лорен, срывала цветы лантаны в саду и осыпала ее ими, когда она возвращалась с работы. Я пыталась – безуспешно – выразить свою благодарность и доказать, что достойна быть здесь – я, когда-то утраченная дочь, которой им со Стивом, возможно, не хватало. Но мои руки продолжали вести себя так, будто хотели сорваться и улететь, и я по-прежнему била стаканы.
Как-то раз, вернувшись из школы, я подбежала к отцу и Лорен; они стояли во дворе под французским балконом, и толстые деревянные балки, удерживавшие его, оплетали зеленые побеги глицинии. Они обсуждали садовую архитектуру.
– Сколько калифорнийцев нужно, чтобы пожарить картошку? – спросила я. Я редко рассказывала шутки, но эту услышала в тот день в школе и подумала, что она может произвести на них впечатление. Мне она не показалась особенно забавной, но остальные ученики смеялись.
Отец с Лорен выжидающе посмотрели на меня.
– Ну и сколько? – спросил отец.
– Они не жарят картошку, – ответила я. – Они жарят друг друга, – и в тот момент, когда я произнесла эти слова, я впервые поняла двойной смысл слова «жарить», и это против моей воли отразилось у меня на лице.
Они не смеялись.
– Мне кажется, она не понимает, – сказал отец.
– А я думаю, что понимает, – ответила Лорен, внимательно меня разглядывая. – Я в этом уверена.
Тем вечером я разбила за ужином очередной стакан и убежала в свою комнату.
Спряталась в гардеробной, сжавшись в темноте на полу. Отец пошел за мной и нашел меня там, на что я и надеялась.
– Эй, Лиз, – сказал он. Он присел рядом со мной на корточки, посидел немного, потом поднял меня на ноги. – Прости, что меня не было рядом. Когда ты была маленькой.
– Ничего, – ответила я слишком быстро.
– Я буду любить тебя до конца времен, – сказал он.
– Эй, Лиз, – спросил он как-то раз, когда мы пересеклись в коридоре. – Ты не хочешь сменить имя?
Он был босиком, в одной черной футболке и белых хлопковых трусах – его домашней форме. Он очень гордился своими стройными ногами и ходил так по дому, даже когда приезжали гости, и я часто дразнила его за это.
– На что сменить? – спросила я. Свет струился сквозь витражное стекло, занимавшее всю стену в коридоре, и яркими прямоугольниками ложился на пол, согревая плитку.
– На мое имя, – ответил отец.
На мгновение я подумала, что он имеет в виду имя Стив.
– Ты имеешь в виду… на Джобс? – уточнила я.
– Да.
Я замялась. Мне не хотелось его обижать. Когда он обижался, он отдалялся и не обращал на меня внимания, порой по нескольку дней. Всю свою жизнь я была Лизой Бреннан. Это было бы уже слишком – не только бросить маму, но и сменить ее фамилию; он как будто предлагал мне совершить кражу.
– Может быть, – ответила я. – Но мама… Мне нужно подумать.
– Скажешь тогда, – бросил он и ушел.
Я думала об этом всю ночь, а на следующий вечер отыскала его в кабинете и сказала, что хочу взять его имя, но оставить и ее тоже, соединив оба дефисом.
Несколько недель спустя приехал адвокат отца. Мы все, включая брата, собрались за кофейным столиком в гостиной. Брат стоял у окна и колотил ладошками по стеклу. В комнате были дизайнерские кресла Eames, лампа Tiffany со стрекозиными крыльями, большой узорчатый ковер, но не было дивана. Мы сидели на полу.
Мы подписали свидетельство – сначала он, потом я, – и моя новая двойная фамилия стала официальной. Адвокат положил бумаги в портфель. Позже он заменил мое старое свидетельство о рождении, на котором мама нарисовала звездочки, на более серьезное, желто-голубое с водяными знаками и без звезд. Это был тот же адвокат, который много лет назад доказывал в калифорнийском суде, что отец не мог иметь детей, но в то время я об этом не знала.
К тому моменту я уже пошла в старшую школу и значилась во всех документах под старой фамилией, но стала подписывать свои работы новой.
– Ты хочешь, чтобы мы повесили это на стену? – спросил отец, поднимаясь. – Можно прямо здесь, – он указал на пустое пространство на стене, где коридор переходил в гостиную. В нем кипел энтузиазм; я чувствовала себя значимой, и от счастья у меня немного кружилась голова. И весь этот сыр-бор из-за пяти букв и черточки. Даже адвоката позвали!
– Так что думаешь, милая? – спросил отец Лорен.
– Это немного странно, – тактично ответила она. – Вешать на стену свидетельство о рождении.
Лорен чувствовала грань между странным и нормальным, и для нее она проходила не там, где для нас с отцом. У нее было преимущество перед нами. Мы в этом отношении были совершенно неотесанными. Отца усыновили, он так и не получил высшего образования. Поэтому не имел представления о том, что люди делают и чего не делают, а я была такой же. Но в отличие от меня, его – по его же словам – это не волновало. К этикету, цивилизованности он всегда относился небрежно, даже презрительно. (Но его поведение нельзя было предугадать. Однажды, когда я надела кардиган, он сказал мне строго: «Нужно оставлять нижнюю пуговицу расстегнутой», – и меня удивило, что он не только знал это правило, но и следовал ему.) Маму тоже не заботили условности, поэтому, когда я была маленькой, она разрешала мне одеваться самой. А если я писала с ошибками, она умилялась этому, вместо того чтобы поправить. Она не пыталась разъяснить мне все запутанные правила, а старалась маневрировать между ними, и за это я ненавидела ее теперь – теперь, когда мне так хотелось знать точные значения, точные коды.
Как удобно было иметь под рукой Лорен, которая знала все ритуалы и протокол. Она точно могла сказать, что люди не помещают свидетельства о рождении в рамки и не вешают их на стены.
* * *
Тем вечером я накрывала на стол к ужину, а Лорен кормила моего брата. У них были полотняные салфетки с узором из сине-зеленых полос и французские стаканы из толстого стекла (те самые, что я била) с цветочным орнаментом по краю, который преломлял свет.
– Куда класть ножи и вилки? – спросила я, держа в руке букет из столовых приборов. Я была полна решимости научиться у нее, что и как положено делать. Мать Лорен была учительницей английского, поэтому Лорен должна была знать все правила, и ей легко было ответить: «Делай это вот так, а не вот так».
– Вилки слева, – ответила Лорен, – ножи и ложки справа.
– Что ближе к тарелке? – я хотела знать наверняка.
– Ножи, – ответила она.
Брат, сидя на высоком стульчике, пережевывал еду беззубым ртом и разбрасывал ее повсюду ручонками. Кормление проходило так: в открытый буквой О рот закладывали ложку каши, попутно собирая с губ и щек все, что не поместилось, чтобы отправить в рот следом, – словно заделывали дырку. И так пока он не наедался и не срыгивал излишки с рокочущим гортанным звуком без предупреждения.
– А куда салфетки?
– Под вилки.
Годы спустя я жила в Италии, стране идеальных манер, и выучила там все правила, что смогла запомнить… А потом оказалось, что мне это не так уж и важно. Возможно, это отец и подразумевал, на это и надеялся, когда дразнил меня: «Лиз, когда-нибудь ты станешь хиппи». А я ненавидела, когда он так говорил.
На следующий день мы с отцом поехали в магазин органических продуктов за авокадо.
– Я отлично умею их выбирать, – сказал отец, бережно покачивая в ладони каждый плод по нескольку секунд, с закрытыми глазами.
Продавец – мужчина с забранными в хвост длинными темными волосами – посмотрел на него.
– Вам кто-нибудь когда-нибудь говорил, что вы похожи на Стива Джобса? – спросил он. Я постаралась сдержать улыбку.
Отец опустил глаза, доставая из кошелька мелочь.
– Да, несколько раз, – ответил он, передавая деньги.
Мы отправились обратно к машине. Как здорово было, что он не признался. Даже в обычном походе за продуктами с отцом был какой-то шарм.
По дороге домой я наконец-то набралась смелости спросить, действительно ли он назвал компьютер «Лизой» в мою честь. Я ждала, когда останусь с ним наедине: если он ответит отрицательно, это будет не так унизительно, как на глазах у остальных, кто мог о том догадываться.
– Ты помнишь тот компьютер, «Лизу»?
– Да. А что? – отозвался он.
– Ты назвал его в честь меня? – спросила я. Мы оба смотрели вперед. Спрашивая, я не повернулась к нему: мне хотелось, чтобы в моем голосе звучало только любопытство, ничего больше.
Если бы только он мог уступить мне этот пустяк.
– Нет, – отрывисто, с пренебрежением ответил он. Словно я напрашивалась на комплимент. – Прости, дружище.
– А я думала, в честь меня, – сказала я. Я была рада, что он не видел моего лица.
♦
Я стала одержима идеей поступить в университет, и мне казалось, что ключ к поступлению – изобилие внеклассных занятий. Я ходила в частную старшую школу в Сан-Франциско под названием «Лик-Уилмердинг», примерно в часе езды, вместе с четырьмя подружками из «Нуэвы». Школьное здание было современным, из бетона и стекла. Утром его обволакивал белый туман, а днем, когда туман рассеивался, сквозь стекло лились солнечные лучи и падали на ковролин и доски, на которых нужно было писать цветными маркерами. Вместе с родителями других учеников из «Нуэвы» отец договорился, чтобы нас одного за другим вдоль берега залива подбирала машина. После уроков та же машина отвозила нас обратно, но, если я хотела участвовать во внеклассных занятиях, мне приходилось ее пропускать.
На следующей неделе мы с Лорен поехали по магазинам за одеждой.
– У нас мало времени, – сказала она. – Всего на один магазин.
У нас был час. С мамой у нас было время, но не было денег, с Лорен – все наоборот. Я решила, это значит, что я могу набрать себе всего, что успею, как в передаче, о которой рассказывала мама: участники лихорадочно срывали с вешалок все, что видели, и забрасывали в тележку, пока не прозвенит звонок.
Мы выехали на белом «БМВ» с откидным верхом, который Лорен подарил отец, и она надела маленькие прямоугольные очки в коричневой каучуковой оправе и с зеленоватыми стеклами.
– Мне нравятся твои очки, – сказала я.
– Да ну, они дурацкие, – ответила она, и меня поразило, что можно так пренебрежительно относиться к собственной эффектности, будучи эффектной.
Когда мы подъехали к торговому центру, какая-то машина пятилась с парковочного места прямо перед Gap Kids.
– Это судьба! – воскликнула Лорен. Мы вошли, и я стала снимать с круглых стоек понравившуюся одежду и относить в примерочную. Я примерила желтую рубашку, тугую на груди, и черные широкие брюки из хлопка.
– Отлично смотрятся на тебе, – сказала Лорен. – Берем.
Потом я нашла желтые носки под цвет рубашки, серую рубашку, синюю футболку, джинсы. Лорен понравилось все, что нравилось мне. Поначалу я стеснялась, но она как будто не возражала против облегающих и относительно откровенных вещей.
Когда я закончила, в примерочной царил хаос: рубашки на крючках, штаны на полу. Я собиралась все так и оставить, воспользоваться нашим с Лорен привилегированным положением. Мы с ней были здесь королевами: одежду подберут и развесят другие. В любом случае мы спешили.
Когда я отдернула занавеску, Лорен нахмурилась.
– Что за бардак, – сказала она. – Ты не можешь это так оставить.
Она зашла внутрь и стала натягивать рубашки на плечики и втискивать края штанов в металлические зажимы. Ее движения были быстрыми и отточенными. Я поторопилась помочь ей.
Мне не досталось роли в осенней постановке «Парней и куколок», вместо этого меня сделали помощником сценографа. Сценографом была моя подруга Тэсс. Мы носили с собой черные папки с бумагами – списками реквизита для каждой сцены, указаниями для осветителя и актеров.
– Ты можешь подвозить меня домой? – спросила я отца, рассчитав, что он мог бы забирать меня на обратном пути из Pixar, где работал по пятницам, вместо NeXT. Живя с мамой, я не ценила и не отдавала себе отчета в том, как легко было перемещаться из одного места в другое: я оказывалась там, где нужно, будто по волшебству. Несмотря на все наши ссоры, само собой разумелось, что она отвезет меня в школу, к врачу, подружке, на урок танцев.
– Нет, – ответил он. – Придется тебе самой решить этот вопрос.
Премьера должна была состояться несколько недель спустя. С ее приближением я стала задерживаться в школе допоздна раз в неделю, хотя с радостью делала бы это чаще, но мне нельзя было пропускать машину. Ведь иначе было не попасть домой. В дни репетиций я ночевала у подруг. Иногда, когда я была дома, отец не разговаривал со мной за ужином и не смотрел на меня. Лорен тоже казалась недовольной и держалась холодно. Они ничего не объясняли, поэтому я думала, что, возможно, их раздосадовало что-то другое, не связанное со мной. Но потом отец стал жаловаться, что я редко бываю дома.
В день премьеры я собиралась переночевать у Тэсс. Лорен разрешила мне надеть ее черные кожаные туфли – от Joan&David, с застежкой на лодыжке. Мы обе носили 37-й размер.
Девочка, игравшая мисс Аделаиду, говорила немного в нос, у нее были длинная шея, черные волосы, блестевшие в свете прожекторов, и стрижка, как у Луизы Брукс. Я в то время отчаянно влюбилась в главную звезду постановки, Дэвида; у него был британский акцент, он играл Ская Мастерсона и не замечал меня, когда я носилась мимо с бумагами и реквизитом.
После спектакля несколько актеров и работников сцены, включая меня, выбежали на улицу. Трава на темной лужайке была мокрой от росы и тумана. Мы играли в захват флага, и флагами служили два свитера. Впервые в новой школе я чувствовал себя счастливой и расслабленной. Совсем не думала, что хожу по мокрой траве в чужих туфлях. Утром я обнаружила на перетянутых кожей каблуках вертикальные царапины, будто оставленные ножом; туфли раздулись от воды. Неужели травинки были такими острыми, что порезали их? Вернувшись домой, я вернула туфли в гардеробную Лорен, надеясь, что она не заметит. Подумала, что, если и заметит, у нее достаточно денег, чтобы купить себе новые. Лорен заметила царапины несколько дней спустя, с расстроенным видом спросила, что случилось, но больше об этом не вспоминала.
Я оставляла охапки вещей и горки мусора по всему дому, как когда жила с мамой: обувь, толстовки, кожуру манго на разделочной доске, бумагу и свернутые комками носки. Может быть, я рассчитывала, что они найдут это милым или что так получу хотя бы часть внимания, что они уделяли брату. Вскоре после того как я испортила туфли Лорен, она, зайдя в гостиную и увидев на ковре мои носки и толстовку, сказала:
– Лиз, я хочу, чтобы отныне ты убирала за собой вещи, – она произнесла это прохладным тоном.
– Хорошо, – ответила я. Это было разумной просьбой.
– У меня и так забот по горло – у меня маленький ребенок и новая компания, – сказала она. – Я не могу еще и убирать за тобой.
Ее слова ранили. Возможно, я разбрасывала вещи, бессознательно пытаясь вызвать определенную реакцию – просила ее признать меня ее ребенком, а она отказалась. Я чувствовала себя разоблаченной и униженной. Я была неряхой, она – нет.
Отец называл мою школу «Тик-у-Мерина». Я смеялась и закатывала глаза.
– Знаешь, я написал тебе отличное рекомендательное письмо для «Мерина», – сказал он как-то утром.
– Правда? Можно посмотреть?
– Я думала, ты хотел сохранить его и показать Лизе, когда она вырастет, – сказала Лорен.
Она не хотела – я была уверена, – чтобы я оказалась в центре внимания и возомнила о себе. Однако проблема в том, что, когда что-то откладываешь на потом, не успев распробовать, оно забывается или теряет смысл.
– Нет. Я хочу сейчас, – ответил отец. Он отправился в кабинет, вернулся оттуда с листком бумаги и, стоя босиком посреди кухни, зачитал письмо вслух.
Не помню большую его часть, в памяти осталась только последняя строчка: «На вашем месте, я бы ее с руками оторвал».
♦
Я решила баллотироваться в президенты девятого класса и стала развешивать листовки на школьных досках объявлений. У меня уже появились новые друзья, я учредила оперный клуб и стала организовывать групповые поездки в оперный театр Сан-Франциско – билеты для организованных групп школьников стоили дешевле. Это была авантюра. Я ничего не знала об опере. И ни разу там не бывала до этого.
Когда мы собирались в театр в первый раз, отец попросил взять билет и ему, заехал за мной в школу и отвез в Сан-Франциско.
– Я так горжусь тем, что ты делаешь, – шепнул он мне, когда занавес пополз вверх. Я надеялась, он оценит и мою победу на школьных президентских выборах.
Выборы прошли через несколько недель, и каждый из четырех кандидатов должен был произнести короткую речь. Из-за ларингита у меня почти пропал голос. Я была в вельветовых штанах, которые считала счастливыми, и свитере крупной вязки. Вокруг меня сгрудились одноклассники, и я почувствовала волну доброжелательности, что случалось, когда я болела и, будучи не в силах держаться формально, позволяла окружающим поддержать меня.
Тем вечером я пропустила машину и осталась на ночь у подруги в Потреро-Хилл. Позвонила отцу, чтобы предупредить. Я ненавидела эти звонки и боялась их. Последнее время, когда я звонила сказать, что остаюсь в Сан-Франциско у подруги, он отвечал коротко и прохладно, тяжело вздыхал. Новая компания требовала от Лорен немалых усилий, отец тоже много работал. До пяти вечера с братом сидела Кармен. Отец не желал видеть в доме посторонних после своего возвращения с работы, а брат плохо спал по ночам. Возможно, мое отсутствие было той искрой, из-за которой между ними разгорались ссоры.
– Я пропустила машину, – сказала я, когда он взял трубку. – Из-за выборов.
– Ты слишком мало времени проводишь дома, Лиз, – ответил он. – Ведешь себя так, будто ты не член нашей семьи.
– Я вернусь завтра, – ответила я. – Выборы…
– Меня не волнует. Мне пора, – и он повесил трубку.
Поздно вечером мне позвонили.
– Угадай, зачем я звоню, – это была Тэсс.
– Что? – после разговора с отцом я обо всем забыла.
– Ну давай, угадай.
– Понятия не имею.
– Ты победила, дурочка, – сказала она. – Ты теперь президент девятого класса.
Это значило, что раз в неделю мне придется посещать заседания совета учащихся после занятий и оставаться на ночь у подруги или напрашиваться в попутчики к одноклассникам, которых забирают родители.
– Ничего не получается, Лиз, – сказал отец на следующий день, когда я сообщила ему, что победила. – Ты не слишком стараешься быть членом этой семьи. Не выполняешь своих домашних обязанностей. Тебя никогда нет. А тебе нужно вкладывать больше времени.
Меня удивило, что он так настаивал на моем постоянном присутствии, хотя сам так долго отсутствовал в моей жизни. Теперь вечерами, за ужином, когда я была дома, отец и Лорен держались сухо. Я предположила, что дело во мне, хотя, конечно, не исключено, что всему виной были трудности, с которыми сталкиваются все молодые семейные пары, наличие маленького ребенка, недостаток сна. Отец готовил пасту, с авокадо или без, и ел морковный салат. Я резала буррито с черными бобами и помогала готовить брокколи на пару, пока Лорен кормила брата. Сразу после ужина они поднимались наверх и пытались его уложить. Я чувствовала, что они разочаровались во мне – на плечи давила тяжесть, которая прибивала меня к земле. Самая незначительная ошибка склоняла чашу весов не в мою сторону, и я мучилась от ощущения, что никогда не смогу ступить внутрь семьи. А этого мне больше всего хотелось.
Каково это – быть любимой дочерью, сестрой? Мне это казалось чем-то заурядным и прилипчивым: едва став таковой, нельзя повернуть назад. Я была бы незаменимой, жизненно важной, если бы только отвоевала место для себя.
Отец хотел, чтобы я была рядом, но в другой комнате – на его орбите, не слишком близко. Он был центром, а я должна была вращаться вокруг него по собственной траектории.
В тот период, когда меня все чаще не бывало дома, а отец все чаще на меня сердился, я призналась ему, что уроки в школе не такие сложные, как были в «Нуэве», что иногда мне становилось скучно, и я принималась рисовать на полях.
– Рисовать на полях? – переспросил он. – Это не очень-то хорошо. Это совсем нехорошо.
– По истории мы проходим эпоху Возрождения. Но я это уже проходила.
То, что случилось после, напоминало порыв ветра: мы с ним поехали в школу, встретились с директором, главой приемной комиссии и несколькими учителями, и он велел мне повторить для них, что я рисую в классе, потому что мне скучно. В моем воображении я превратилась в исключительную по своим способностям ученицу, которая «переросла» некоторые частные школы. Отец потакал мне в этой лжи, возмущался – возможно, поверив мне, а возможно, увидев в этом тщеславном предположении выход из затруднительной ситуации с возвращением домой после уроков. Поддержка отца ободрила меня, я уверовала в эту историю: одна из лучших школ в округе не могла дать мне качественного образования.
Я слишком боялась признаться – даже самой себе, – что проблема не в школе, а в том, что я не могла участвовать в школьных событиях, не могла встречаться с друзьями, не могла никуда отлучиться, не почувствовав себя предательницей, нарушившей жизненно важное соглашение.
После очередного разговора со школьным начальством отец по дороге домой предложил заехать в старшую школу Пало-Алто – «Пали», как ее называли, – и просто осмотреться. День клонился к вечеру, уроки закончились. Несколько минут мы бродили по пустому двору. Большинство зданий были похожи на бункеры. Мне было неуютно – будто мы были разведчиками на чужой территории. Но потом откуда-то донеслась музыка, мы пошли на звук и увидели высокого мальчика у двери, из-за которой лилась мелодия. Я слишком стеснялась заговорить с ним, но отец спросил:
– Что здесь происходит?
Мальчик ответил:
– Это газета.
И мы заглянули внутрь. В комнате было полно народу: кто-то сидел за компьютером, кто-то растянулся на креслах-мешках, и я решила, что, если все-таки переведусь в эту школу, тоже стану работать в газете.
– Знаешь, что хорошо, когда школа рядом с домом? – спросил отец, когда мы ушли. – Ты можешь ходить туда пешком, как ходил я. А если много ходишь пешком, видишь, как меняются времена года.
Он произнес это с той же интонацией и в том же темпе – медленно, – какие сопутствовали его рассуждениям о красивых женщинах. Ходить в школу пешком не казалось мне особенно романтичным. Но я все же решила перевестись: мне казалось, что только так дела дома пойдут на лад.
♦
Когда я решила перейти в «Пали», была середина учебного года, и отец отвез меня туда, чтобы я записалась на занятия. Кабинеты школьной администрации располагались по обеим сторонам длинного сверкающего коридора, где пахло тем же чистящим средством, что и в городской библиотеке, и приглушенные звуки точно так же соседствовали с резкими эхо. Мне было жарко от того, что отец так близко, что я нахожусь в лучах его внимания. Шагая рядом с ним по коридору, я чувствовала себя защищенной: в этой школе он был уверен.
Мы задержались в кабинете секретаря, и та помогла мне составить расписание, иногда записывая в классы, которые уже были полными.
– У вас есть совет учащихся? – спросила я ее.
– Да, – ответила она. – Ты можешь баллотироваться в представители, если хочешь. Обычно их два от каждого класса, и совсем скоро выборы.
Понижение, подумала я. Буду баллотироваться в президенты.
Прибыли рождественские венки от Smith&Hawken. Три из них были размером с небольшие птичьи гнезда. Отец пронес один венок через кухню и повесил в коридоре между французскими окнами. Он не хотел, чтобы кто-нибудь из нас, включая меня, касался венков или других заказанных им украшений. Даже запретил нам трогать гирлянду с огоньками и развесил ее сам, обмотав ветви дугласовой пихты, на что потратил целый день. Особенно долго он возился с маленьким круглым венком: повесил на гвоздь, отступил, поправил, снова отступил.
Наблюдая за ним, я смеялась.
– Тебе ведь хочется повесить его идеально ровно, так? – спросила я.
– Если он не будет висеть идеально ровно, – ответил он фальцетом, грассируя «р», – я пропаду.
В хорошем настроении он дурачился, с охотой смеялся над собой и своей привередливостью.
Иногда отец сочинял песенки обо мне, рифмуя все слова подряд, как делал, по его словам, Боб Дилан в своей звукозаписывающей студии. Про школу и колу, танцы и сланцы, страны и планы – как буду женой под луной.
Он последний раз поправил венок и бросился ко мне, хватая за ребра растопыренными пальцами. В ответ я попыталась добраться до его подмышки и защекотать первой. Он поймал мою руку, и я засмеялась пронзительным, будто бы чужим, смехом. Потом он отбежал в сторону, чтобы я не могла до него дотянуться, перебирая смешными, утончающимися книзу, как у лягушки, ногами.
Недавно он купил диск с записью последнего кастрата, который часто ставил для меня. Его голос не казался ни мужским, ни женским – это было что-то среднее, неестественно высокий звук, словно он пел, проглотив гелий из воздушного шарика.
– Пропаду, просто пропаду, – снова пропел отец таким же высоким голосом и ушел в кабинет, чтобы сделать несколько звонков по работе в свете согнувшейся над столом лампы, немного напоминавшей богомола.
На Рождество он подарил Лорен вечернее платье от Giorgio Armani и туфли, оказавшиеся слишком узкими. Мне он подарил только туфли, такие же, как ей – черные узкие лоферы, тоже от Armani. Мне они пришлись как раз в пору. Заметив, что Лорен подаренные туфли не подходят, отец стал холоден с ней, как будто своими широкими ступнями она нанесла ему оскорбление. Я завидовала вечернему платью – длинному и воздушному, – которое Лорен подняла из квадратной коробки. Но при этом чувствовала собственное превосходство, словно мои узкие ступни свидетельствовали о чем-то чистом и благородном.
Я не видела маму уже больше пяти месяцев. Сердилась на нее и скучала. Ненавидела, жалела, мечтала стереть все ее следы в себе и тосковала по ее прикосновениям. Она больше не знала, чем я занимаюсь каждый день, как я сижу с братом, как он плачет иногда, а я не знаю, что сделать, чтобы его успокоить.
В те месяцы, что мы не виделись, маме стал сниться один и тот же сон: во время ядерной атаки она, набросив на голову простыню, бежит меня спасать.
Наконец, на Рождество, отец разрешил нам встретиться.
Как только я поняла, что можно уйти, я пошла к дому на Ринконада-авеню, открыла парадную дверь. Внутри стоял особый запах теплого дерева, земли и краски, который я не замечала, пока жила там. Я запрыгнула маме на колени – я все еще была достаточно мала, чтобы на них уместиться, – и она, обхватив меня, стала ощупывать плечи и голову, руки, ноги и пальцы, вдыхать запах волос. Через годы она рассказала, что в момент, когда обняла меня, она почувствовала облегчение и потрясение одновременно. Из-за того, что мы не виделись так долго, какой-то части ее стало казаться, будто я умерла. Я помню, что она долго не выпускала меня из объятий.
После каникул я перешла в «Пали» под новой фамилией.
Трава в школьном дворе была вытоптана – кое-где на голой земле остались торчать редкие короткие травинки. Я ходила на занятия по расписанию, составленному секретарем, и училась по учебникам в ветхих обложках – сквозь цветную бумагу и пленку сверху проглядывал коричневый картон – и надписями на полях, оставленными прежними учениками.
Раньше я с легкостью заводила друзей, но теперь вдруг стала жутко застенчивой, каждый раз сомневалась, прежде чем поднять руку в классе. У меня не было ни одной подруги.
Алгебра в новой школе была сложнее, чем в «Лик-Уилмердинге», мы решали уравнения и пользовались формулами, которых я не знала. Первые несколько месяцев я почти каждый вечер просила Лорен о помощи, и она, вздохнув, поднималась, шла со мной вниз, деловито объясняла суть математического явления и рассказывала, что нужно сделать, чтобы получить верное решение.
По ночам, когда они уходили наверх, мне было так одиноко, что я засыпала в слезах. Еще мне было холодно. Я обнаружила, что в моей части дома не работает отопление.
Я могла бы попросить переселить меня в другую комнату, ту, что наверху, над гаражом, с косыми окнами под самой крышей. Поначалу отец предложил мне именно ее, решил, что мне больше понравится, потому что она была просторной, с камином, и окнами в пол, и балконом, с которого можно было спуститься во двор по лесенке. Тогда он сказал, что я всегда смогу ускользнуть поздно вечером, и подмигнул. Но потом из этой комнаты сделали спальню для гостей, и когда я все-таки попросила переселить меня, он ответил «нет».
– Мне холодно, – следующим утром сказала я отцу на кухне. – Вы же почините отопление?
Отец достал из холодильника яблочный сок.
– Нет. Только когда сделаем ремонт на кухне, – ответил он. – А этого мы в ближайшее время не планируем.
♦
В следующие выходные я решила заглянуть в Roxy и оставила велосипед недалеко от входа. Это был магазин в виде белого куба, где в полдень гремел английский панк-рок и где одежда висела так высоко, что задевала щеки: короткие балахонистые куртки с подплечниками, брюки со стрелками, футболки ярких пастельных тонов. Я уже бывала здесь с мамой – мы бродили среди брюк из шелковистой ткани и узорчатых футболок под музыку – и вернулась, поддавшись ностальгии. Когда я вышла из магазина, велосипеда на парковке не было.
Я решила, что отец купит мне новый, раз ему не нужно больше платить за частную школу и доставку меня туда. К тому же у меня было ощущение – хотя я и не могла облечь это в слова, – что он мне должен. Я подумала, что они с Лорен поймут это и попытаются как-то возместить то, что он задолжал, что он в конце концов пожалеет меня и что ему станет стыдно за себя.
Ожидание того, что отец станет платить по счетам, было подобно облаку, из-за присутствия которого воздух вокруг меня чернел: когда он был со мной добр, оно рассеивалось, но потом сгущалось снова. И я никак не могла избавиться от него.
В любом случае мне нужен был велосипед, чтобы передвигаться по городу.
– Лиз, – сказал отец, когда я рассказала о краже. – Ты плохо следишь за своими вещами.
Было утро, и мы – отец, Лорен, Рид и я – сидели за столом на кухне.
– Я стараюсь, – я надеялась, что Лорен придет мне на помощь.
– Ты совершенно не ценишь того, что имеешь, – продолжал он.
– Это произошло случайно.
– Ладно, у меня идея. Я куплю тебе новый велосипед, если ты будешь мыть посуду. Каждый вечер. И сидеть с Ридом каждый раз, когда мы попросим.
– Хорошо, – тут же согласилась я.
Это была невыгодная сделка, я об этом знала. Нужно было поторговаться. Я была уверена, что и ему было известно, какие невыгодные условия он предлагал. Однако я решила, что они будут великодушнее со мной, если увидят, что я согласна на все. Это сгладит мою вину за прошлые долгие отлучки и даст возможность доказать преданность семье.
Отец купил дом вместе с кухонным гарнитуром, в который была встроена посудомоечная машина. Но она не работала, и отец не планировал ее менять, поэтому я мыла посуду вручную – губкой цвета фруктового мороженого. Я стояла на холодной терракотовой плитке, поглядывая на свое отражение в окне – ночь превратила стекло в зеркало, – и ставила чистые тарелки на деревянную сушилку. Те же обязанности, на которых настаивала мама и которые угнетали меня, казались непосильными, я теперь выполняла почти без понуканий: застилала кровать, накрывала на стол и вытирала его по окончании семейных трапез, оставляла записки со словом «спасибо» поперек.
Закончив мыть посуду, я разглядывала фотографии, которые хранились в коробке из-под обуви в кухонном шкафчике. Как много было там фотографий брата и как мало моих. Перекладывая снимки, я убирала из стопки те свои карточки, что мне не нравились. Может быть, они заметят, что меня в семейном архиве слишком мало, осознают свою ошибку и станут фотографировать меня чаще.
Они укладывали брата, и отец спускался в кабинет, чтобы еще несколько часов поработать. Я сидела за столом в своей комнате и слышала, как он выходил из кабинета и поднимался наверх спать. Я прислушивалась к звуку его шагов – босые ноги шлепали по плитке: он поворачивал налево к лестнице и шел по ступенькам. Ему ничего не стоило сделать несколько шагов, просунуть голову в мою комнату и пожелать спокойной ночи. Но мне было уже четырнадцать – я была слишком взрослой для таких сантиментов. Хотя мама всегда поступала так. Этот ежевечерний ритуал казался мне слишком детским, я считала, что вполне могла без него обойтись. Теперь же ни в чем я не нуждалась больше.
Чего я хотела? Чего ждала? Он не зависел от меня так, как я от него. На меня накатывало темное и пугающее чувство одиночества, которое острой болью отдавалось под ребрами. Я плакала, пока наконец не засыпала. Слезы остывали и скатывались по щекам на подушку.
* * *
Но даже под гнетом доведенной до предела жалости к себе, я осознавала, что в моей комнате было не так уж холодно – все-таки мы жили в Калифорнии, – что пусть домработница и не стирала мое грязное белье, она раз в две недели стирала мои простыни, и что на некоторых фотографиях я все-таки присутствовала.
После школы Кармен иногда заплетала мне на кухне волосы, пока брат спал. Она относилась ко мне с теплотой. Она умела плести самые разные косы, в том числе колоски вокруг головы, которые немного напоминали корону. Они держались несколько дней – не разваливались и не пушились, несмотря на то что мои волосы были тонкими и шелковистыми. Я не трогала их, пока голова не приобретала неопрятный вид – когда выбившиеся волоски нимбом окружали лицо. Я сидела на кухонном стуле, и если, забирая прядь волос, она задевала ногтем кожу, по телу пробегали мурашки. Я закрывала глаза. Мне нравилось, когда меня трогают. В такие моменты я думала, как нам – ей и мне – повезло находиться в этом доме – в этих стенах из старого кирпича, за сверкающими окнами, с цветущим у двери жасмином, прохладным ароматом которого, казалось, можно утолить жажду.
Однажды в выходной день, когда брат спал, отец, Лорен и я сидели за столом во дворе. Лорен разрезала дыню и вынесла дольки на блюде. Прежде чем съесть кусочек, она каждый раз потирала им губы, смазывая соком, как блеском.
Отец наблюдал за ней, а потом ухватил за плечо и, подавшись вперед, притянул к себе. Я хотела уйти, но мои ноги вдруг стали тяжелыми, я не могла оторвать ступни от земли – словно на меня давила невидимая сила, понуждая остаться. Отец и Лорен словно разыгрывали сцену: он притягивал ее для поцелуя, придвинул руку сначала к ее груди, а потом к той части ноги, где заканчивалась юбка, и театрально постанывал, будто для зрителей. То же самое он проделывал и с Тиной. Меня удивляло, что они не отталкивали его. Там, во дворе, я резко ощутила свое одиночество: рядом не было никого, кто сказал бы ему: «Прекрати!»
Их эмоции во время поцелуя казались ненастоящими, постановочными. Как будто Кэри Грант целовал Еву Мари Сэйнт в поезде в фильме «На север через северо-запад».
Из-под джинсовой юбки Лорен, между ног виднелась белая полоска хлопкового белья. Мама учила меня сдвигать колени, если на мне была юбка. Неужели ее мама не научила ее тому же? Меня злило, что она ведет себя одновременно и как взрослая, и как ребенок: позволяет отцу целовать себя у меня на глазах и забывает – или не хочет – сжать колен.
Наконец я поднялась и направилась к дому. Они отстранились друг от друга.
– Эй, Лиз, – сказал отец. – Останься. Мы семья, и мы проводим время вместе. И ты должна стараться быть частью этой семьи.
Я вернулась на свое место и застыла, отведя в сторону взгляд; он продолжал постанывать и покачиваться на периферии моего зрения. Непонятно было, как долго мне так сидеть. Я смотрела на траву во дворе, на дикую яблоню, что цвела у изгибающейся кирпичной дорожки, – облако крошечных бело-розовых цветов.
Я надеялась, хотя тогда не отдавала себе в том отчета, что Лорен исправит наши отношения: проникнет в душу моего отца, потребует для меня его сердце и внимание, заставит его осознать, что он упустил.
И если я злилась на нее за то, что она вела себя как обычный человек с достоинствами и недостатками – не сдвигала колени, не отталкивала его при мне, – то только потому, что в мыслях взвалила на нее непосильную ношу. Она была последним прибежищем, никто другой не смог помочь мне. Но ее детские оплошности были сигналом того, что она не пожелает или попросту не сможет взять на себя роль, которую я отвела для нее. И что она совсем не планировала исправлять моего отца ради меня.
♦
В субботу мы с мамой запланировали встретиться в ресторане за бранчем. После того рождественского воссоединения мы виделись уже дважды, но обе встречи закончились ссорой. Я выбрала «Иль Форнайо», потому что это место было недалеко от дома и я могла добраться до него самостоятельно – всего 20 минут пешком. У меня еще не было велосипеда. Я рассчитала, что если она снова вспылит, я могла просто встать и уйти. Когда я появилась, она уже ждала меня. Мы обнялись. На ней было новое платье. Метрдотель с седыми усами сказал: «Следуйте за мной», – и повел нас через двор, мимо фонтана, к круглому металлическому столику рядом с деревом, усеянным пурпурными цветами, которое занимало внушительных размеров горшок. Он не узнал меня, хотя мы много раз заходили сюда с отцом, чтобы забрать пиццу «Маринара» с луком, оливками и орегано.
Мы с мамой сели: я – лицом туда, где заканчивался внутренний двор и больше не было столов. Расстелили на коленях салфетки. Связи между нами теперь не было, каждая была сама по себе. Я не знала, как дать ей понять, что я все еще ее дочь. Если она станет ругать меня, я готовилась встать и уйти. Когда я представляла себе это – эту дерзость, – у меня кружилась голова, накатывало чувство вины.
– Как твои дела? – спросила мама.
– Хорошо, – ответила я. – А у тебя?
– В порядке. Скучаю по тебе. Как тебе «Пали»?
– Нормально, – а мне там совсем не нравилось. – То есть, я надеюсь, будет лучше, – ответила я жизнерадостным тоном.
Мы не могли и дальше вести диалог в таком формальном тоне. Я знала, что мама нарушит его.
– Звучит так, будто все просто чудесно, – отозвалась она с ноткой сарказма в голосе.
Подошел официант и добродушно спросил, готовы ли мы сделать заказ, – будто каждое утро беседовал с матерями и дочками. Я заказала блинчики с томлеными персиками и взбитыми сливками.
– Ты какая-то чужая, закрытая, – сказала мама, когда официант удалился. – Совсем другая. Как будто после переезда перестала быть мне дочерью.
В ее голосе звучало любопытство, которое ранило меня: будто бы она заметила перемену, но она была ей безразлична. Я задумалась, правда ли это: в самом ли деле я безвозвратно изменилась, стала хуже, чем мне казалось? Рядом с ней я будто покрывалась непроницаемой броней, которую и сама не могла нарушить.
– Я переехала, потому что мы ругались, – сказала я. – Мне не хотелось.
– Ой, да ладно, – ответила она. – Ты просто беспокоилась о себе. О своей идеальной жизни. Дела пошли плохо, и Лиза предпочла кого побогаче. Пф!
Мне совсем не казалось, что я живу богато. Но, возможно, со стороны и было похоже. Во всяком случае моя жизнь стала более обеспеченной, чем до того. Я лучше одевалась, это правда. У меня было не так уж много одежды, но она была новая и качественная. Когда мы ездили в торговый центр за индийской едой, отец иногда вел меня в Armani Exchange, где покупал брюки или футболку. Раньше, когда у меня появлялась новая вещь, я носила ее так часто, что она быстро истиралась и становилась такой же, как все другие в моем шкафу. С отцом и Лорен было иначе: незначительные, но частые обновки, хорошая ткань. Поскольку в один поход мы бывали только в одном магазине, новые вещи хорошо сочетались друг с другом. Белые, синие, темно-серые. Впервые в жизни, заглядывая в гардероб, я находила что-то новое и подходящее, что сочеталось с другим новым и подходящим. Я знала, что мама была бы счастлива иметь такую возможность, и я чувствовала себя виноватой оттого, что получила ее раньше.
– У тебя большая проблема, Лиза, – продолжала она сквозь зубы. – Знаешь, что с тобой не так? Ты так сильно хочешь быть похожей на них, что не понимаешь больше, что действительно важно в жизни.
Мне и вправду хотелось стать в точности такой, как они, но у меня ничего не выходило, как бы я ни старалась. Я отличалась. Никак не могла смешаться с ними, нуждалась в большем, чем мне предлагали, и пыталась это скрыть.
Мама заговорила пронзительным высоким голосом, передразнивая меня:
– Я вся такая утонченная, настоящая принцесса, – сказала она. – Ты такая же, как они, – ее голос зазвучал громче, сердито. – Холодная, бессердечная пустышка. Поэтому вы так прекрасно поладили.
Я оглянулась на другие столики: за ближайшими никого не было, но люди поодаль все равно оглядывались на нас.
– Так не пойдет, – сказала я, поднимаясь со стула. – Ты не можешь больше на меня кричать. Я ухожу.
Мама посмотрела на меня ошеломленным взглядом. Я прошла через двор, через чрево ресторана, мимо ряда поваров за перегородкой, сквозь тепло, и шум, и суматоху. Пока я шла, я думала о том, как выглядят мои ноги, моя спина – все, что она могла видеть, когда смотрела мне вслед. И моя походка, одежда, манера двигаться подтверждали то, что она только что сказала обо мне. Я старалась шагать так, как шагала раньше, когда была с ней, чтобы она увидела и поняла – я та же, что и прежде. Выйдя за дверь, я ускорила шаг – на случай если она последует за мной, чтобы еще раз обругать. Я хотела, чтобы она пошла за мной; я боялась, что она пойдет.
Я брела к дому, у меня тряслись руки. Я только что бросила маму. Оставила ее совсем одну. Улица была пустой и безмятежной. Я чувствовала странное спокойствие, была слишком спокойна: я была и той девочкой, что шла по тротуару, и девочкой, что смотрела, как та девочка идет. Я была той, кем она меня назвала – той, кто бросает людей, которых любит.
Я то и дело оглядывалась. А когда не оглядывалась, то смотрела под ноги, стараясь не наступить на твердые плоды амбрового дерева. Над головой полыхали оранжевым и красным листья в форме звездочек, после вчерашнего дождя они же устлали землю – неестественно яркие пятна на сером асфальте. Плоды были размером с вишни, коричневые, с коричневыми колючками. От них на тротуаре оставались рыжеватые пятна. Те же плоды с глухим звуком падали на крыльцо с дерева на заднем дворе дома на Ринконада-авеню. Их было так много, что невозможно было пройти по ним, не потеряв равновесия, и мама в конце концов сметала их в траву.
♦
Через пару месяцев с начала семестра, когда приближались школьные выборы, я стала раздавать листовки, решив стать президентом класса. За этим занятием я поняла, что столкнулась с проблемой: я не знала других учеников, которые были знакомы друг с другом, но не знакомы со мной. Я носила черные юбки до середины голени, они ходили мимо в джинсах, по двое-трое, и натянуто улыбались. Некоторые брали мои листовки, другие усмехались и отказывались: «Нет, спасибо».
– Прости, а кто ты? – спросила одна девочка.
– Новенькая, – ответила я. – Только что перевелась.
– И ты баллотируешься в президенты?
– Да, – ответила я, впервые осознав, как глупо это должно звучать.
Она взяла листовку и отошла.
В «Лик-Уилмердинг» учились дети из разных школ, здесь же большинство учеников знали друг друга с детского сада. Прошел слух, что я дочь Стива Джобса. Наверное, это сделало мою кандидатуру еще менее привлекательной, но в тот момент я об этом не подозревала. Мне было только неловко и немного стыдно за свое упрямство – как будто одной силы воли было достаточно, чтобы повторить успех предвыборной кампании в прежней школе.
Когда подсчитали голоса, выяснилось, что победил мальчик по имени Кайл. Он носил штаны цвета хаки и клетчатые рубашки, у него был решительный, звучный голос, большой кадык и длинная шея.
Тем вечером отец с Лорен были приглашены на ужин, и я осталась присматривать за братом. Они очень часто оставляли его на меня, хотя предупреждали о своих планах в последнюю минуту. Я любила брата и была не против понянчиться с ним, но чувствовала себя невидимкой, когда они, не глядя в мою сторону, передавали его мне и уходили. Отец оставил меня, когда я была маленькой, а теперь поручал мне заботу о следующем ребенке и в очередной раз направлялся к двери.
Я покормила брата – он извивался и дурачился. Почитала ему книжки, которые он норовил порвать, и попыталась уложить спать, напевая колыбельную. Но спать он не стал. Вместо этого он заплакал, и подогретое молоко, которое я приложила к запястью, перед тем как дать ему, не помогло его успокоить. Он ревел, ревел несколько часов – его лицо побагровело, щеки были мокрыми от слез, рот широко открыт.
Я позвонила по номеру, который они оставили мне. Никто не взял трубку. Я ходила по дому, укачивая его, – мимо окон, возвращавших мне мое отражение с младенцем на руках. Я гадала, так ли чувствовала себя мама, оставшись одна с ребенком.
Спустя неделю после встречи в «Иль Форнайо» состоялся мой телефонный разговор с мамой. Она извинилась: сказала, что не должна была кричать, что она не сердится и понимает, почему я переехала. Ей предложили хорошую оплату за трафаретные картинки и навигацию в большой больнице для женщин и детей в Лос-Анжелесе, а это означало, что около месяца она ездила туда постоянно и мы не могли видеться, хотя по вечерам мы все так же разговаривали по телефону.
Вернувшись, она стала делать полотняные наклейки для стен детских – в виде животных. Соседняя больница заказала ей трафаретную роспись на стенах нескольких палат, и еще одна – наняла рисовать деревья с плодами, на которые нужно было нанести имена благотворителей. Мама нашла себе ассистентку для крупных заказов, и они вместе работали в гараже-мастерской – под песни The Cranberries, Talking Heads, Пола Саймона и Ladysmith Black Mambazo.
Иногда родители пересекались где-нибудь в магазине здоровой еды. Я узнавала об этих случайных встречах от мамы, которая была не слишком им рада, но говорила, что они с отцом держались дружелюбно, здоровались, рассказывали друг другу обо мне, а иногда он просил ее передать привет Тине.
Тина и мама все еще дружили, время от времени они завтракали вдвоем в кафе «У Джоани» на Калифорния-авеню. Когда я спросила, как у Тины дела, мама ответила, что отец звонил ей по 10–20 раз на дню и оставлял сообщения на автоответчике – просил вернуться к нему.
Однажды утром отец читал газету, а потом стал петь брату This Old Man: в той части, где старичок, потрепав пса по голове, выдает ему косточку, отец взял брата за пухлые ручонки, а тот пытался вырваться.
Лорен вышла из кухни, чтобы переодеться для занятия по аэробике, отец на минуту отвлекся от игры с Ридом и посмотрел на меня.
– Эй, – сказал он, – как думаешь, как поживает Тина?
Он начал спрашивать о Тине, когда мы оставались с ним вдвоем или вместе с Ридом – каждый раз будто впервые, будто этот вопрос только что пришел ему в голову. Вскоре это стало единственной темой, на которую он говорил со мной напрямую, и я почувствовала, что имею значение. Это мне нравилось, хотя в то же время мне казалось, что я участвую в тайном заговоре.
– Думаю, у нее все хорошо, – ответила я.
Я не рассказала, что знаю о телефонных звонках и понимаю, что его вопрос был скорее не о Тине, а о себе самом. Я слишком много знала, но не хотела слишком много доверять ему, иначе он мог перестать спрашивать. Я обладала странной и в то же время упоительной властью над ним: я знала о Тине и потому была полезна ему, хотя не была ни вероломной, ни скрытной.
– Я очень по ней скучаю, – признался он.
Когда Лорен вернулась, мы стали играть с Ридом на кухне и готовить обед. Отец вышел и вернулся с фотоаппаратом, до которого никому больше не позволял дотрагиваться, – дорогим, с большим объективом. Мне так хотелось, чтобы он фотографировал и меня тоже. Мне так отчаянно этого хотелось.
Еще мне хотелось быть моим братом, а не мной. И неважно, что в таком случае мне пришлось бы пожертвовать своей жизнью до сего момента, потому что она ничего не стоила. Это была бы не смерть, как я воображала себе, а просто я, счастливица, по щелчку пальцев стала бы им, наконец родилась правильно. Как я была бы рада. Это было самое заветное желание из всех, что у меня когда-либо были. Я мечтала об этом с такой неведомой силой, с такой настойчивостью… Из-за того, что этот выдуманный сценарий так отличался от реальной жизни, меня не покидало ощущение, что он и вправду может осуществиться. Я разглядывала свои ладони, пытаясь выяснить, когда и как.
– Лиза, в сторону, – деловито произнес отец, поднимая фотоаппарат.
Он смотрел через видоискатель, я смотрела на линзу объектива – стекло было похоже на гладь спокойного озера.
Я отскочила к раковине, чтобы не мешаться в кадре. Из-за спины отца я продолжала смешить брата – мне не хотелось, чтобы он заметил, как меня это задело.
– Лиз тоже может присоединиться, Стив, – сказала Лорен и протянула мне руку. – Иди сюда, Лиз.
Я подошла и встала рядом с ней. Я была так благодарна, что немного дрожала.
Как-то Лорен позвала меня в поход, который устраивало экологическое Одюбоновское общество. Рано утром мы вышли из дома, чтобы погрузиться в битком набитый людьми фургон, направлявшийся в заповедник. Мы ехали по песчаной дороге, по обеим сторонам которой стояли высокие тонкие деревца, и с ветки на ветку перескакивали птицы.
Несколько дней спустя ко мне в комнату зашел отец. Он был явно расстроен, стал ходить взад-вперед.
– В чем дело? – спросила я. – Что случилось?
– В жизни важно только то, – сказал он, – что ты делаешь собственными руками.
– Я не понимаю, – ответила я.
– Этот орнитологический поход, – сказал он. – И все в таком роде.
Что он имел в виду? Поход казался невинным: мы шли крадучись, задрав головы, с биноклями в руках, пытаясь распознать, откуда доносились трели.
– Все это ничего не значит. Оно ненастоящее.
– Знаю, – весомо ответила я, хотя ничего такого не знала. Впоследствии я поняла, что нас пригласили в поход в надежде, что отец или Лорен сделают пожертвование Одюбоновскому обществу, и это не давало отцу покоя.
Мне не хотелось быть его совестью – той, кому он поверяет свои тревоги, когда все идет не так, на кого примеряет более строгую систему ценностей. Я была чем-то вроде старой зернистой фотографии, сделанной еще до того, как он, выражаясь словами мамы, «потерял себя». Снимок покрылся пылью, но иногда он вынимал его, стирал пыль и вглядывался – а потом убирал и забывал о нем.
– Людям, которые не родились здесь, – он имел в виду Калифорнию, – не понять этого.
Время от времени, когда я готовилась выйти из дома, Лорен тайком от него передавала мне двадцатидолларовую купюру. И говорила, какая я сегодня красивая.
Однажды я спросила отца, жертвовал ли он на благотворительность. В ответ он огрызнулся, сказав, что это «не мое дело». Лорен как-то купила племяннице бархатное платье, расплатившись его карточкой, и из этого вышел скандал – он громко зачитывал цифры из чека на кухне. Я предполагала, что его прижимистость отчасти была виной тому, что в доме не хватало мебели, что у Рида не было няни, которая постоянно помогала бы с ним, что домработница приходила изредка. Возможно, я была неправа. В продуктовых магазинах, когда мы бывали в Gap и в ресторанах он громко подсчитывал, что сколько стоит и что может позволить себе обычная семья. Если цены были слишком высокими, он приходил в негодование и отказывался платить. А мне хотелось, чтобы он признал, что не такой, как все, и тратил без оглядки. Я слышала и о его щедрости: он купил Тине «Альфа Ромео», а Лорен – «БМВ». Он также погасил ссуду за ее обучение. Мне казалось, что жадничал он, только когда речь заходила обо мне, и отказывался купить мне еще пару джинсов, или мебель, или починить отопление. Со всеми остальными он был щедр. Сложно было понять, почему человек, у которого столько денег, создает вокруг себя атмосферу скудности, почему не осыпает нас ими.
Помимо «Порше» у отца был большой серебристый «Мерседес». Я прозвала его Маленьким Государством.
– Почему Маленькое Государство? – спросил отец.
– Потому что он размером с маленькое государство, достаточно тяжелый, чтобы раздавить его, и достаточно дорогой, чтобы целый год кормить его население, – ответила я.
Это была шутка, но мне также хотелось задеть его – указать, как много он тратит на себя, заставить покопаться к себе, быть с собой честным.
– Маленькое Государство, – сказал он, посмеиваясь. – И правда смешно, Лиз.
Как-то раз, проходя мимо меня в коридоре, отец сказал:
– Знаешь, у каждой моей новой девушки были более сложные отношения с отцом, чем у предыдущей.
Я не знала, зачем он это сказал и какой я должна была сделать вывод.
Большинство знакомых мне женщин, как и я, росли без отца: отцы бросали их, умирали, разводились с их матерями. Отсутствие отца не было чем-то уникальным или значимым. Значимость моего отца была в другом. Вместо того чтобы растить меня, он изобретал машины, которые изменили мир; он был богатым, знаменитым, вращался в обществе, курил травку и после катался по югу Франции с миллиардером по фамилии Пигоцци, крутил роман с Джоан Баэз. Никто бы не подумал: «Этот парень должен был вместо всего этого заниматься воспитанием дочери». Какой абсурд. Как бы мне ни было горько оттого, что его так долго не было рядом, и как бы остро я ни чувствовала эту горечь, я подавляла ее в себе, не давала полностью осознать ее: я неправа, я эгоистка, я пустое место. Я так привыкла считать чем-то неважным мое отношение к нему, его отношение ко мне и вообще отношения отцов и детей в целом, что не отдавала себе в том отчета, эта позиция стала для меня такой же естественной, как воздух.
И только недавно, когда мне позвонил один друг – старше меня, отец взрослой дочки – и рассказал о ее помолвке, я кое-что поняла. Его дочь и ее жених пришли сообщить ему эту новость, и он, к собственному удивлению, разрыдался.
– Почему ты заплакал? – спросила я.
– Просто с тех пор как она родилась, я – мы с женой – должны были оберегать ее и заботиться о ней, – ответил он. – И я понял, что теперь это долг кого-то другого. Я больше не на передовой, не главный человек в ее жизни.
После этого разговора я стала подозревать, что недооценила то, что упустила, что упустил мой отец. Живя с ним, я пыталась высказать это на бытовом языке – языке посудомоечных машин, диванов и велосипедов, сводя цену его отсутствия к цене вещей. Я чувствовала, что мне не додали каких-то пустяков, и это чувство не уходило, от него больно было в груди. На самом же деле это было нечто большее, целая Вселенная, и я нутром почувствовала это во время того телефонного разговора: между нами не было той любви, той потребности заботиться друг о друге, какие бывают только между отцом и ребенком.
Когда я читала, я не чувствовала себя одинокой и не пыталась посмотреть на себя со стороны. Меня полностью поглощал сюжет. Я читала несколько книг одновременно, попеременно, чтобы закончить их все разом – чтобы несколько развязок сразу прогремели для меня, как удар тарелок в конце музыкальной композиции. Но отложив книгу, я снова чувствовала одиночество, как будто распахивалось настежь окно.
Тот же столяр, что сделал пеленальный столик для брата, установил и книжные полки в отцовском кабинете – каждый отполированный брусок плотно прилегал к стене из беленого кирпича, со всеми ее неровностями и выемками. Иногда по ночам, когда отец уходил спать, я забиралась в кабинет и сидела за его книгами, включая биографию Исаму Ногути, «Взлет и падение Третьего рейха» и «Автобиографию йога». На столе рядом с компьютером NeXT стояла коробка, а в ней 12 новых черных ручек Uni-ball. Он всегда пользовался только этими ручками, одну он носил в кармане. Я взяла три. Пока все в доме спали, я сидела на ковре в его кабинете и читала с ручкой в руке. В такие моменты меня охватывало ощущение свободы и изобилия: любые книги, какие захочу, ручки, никто не придирался ко мне и не ходил за мной по пятам.
Примерно тогда я прочла «Фрэнни и Зуи» Сэлинджера. Книга была в мягком матово-белом переплете, заголовок был набран черным, переднюю обложку украшали две цветные полоски. Я зачитала ее буквально до дыр: она истрепалась, к обложке пристала грязь от моих рук и из рюкзака. Поезда, холодные перроны, пальто, студенческие общежития, забегаловки, выпивка – действие происходило на Восточном побережье, в Гарварде из Лиги плюща – это была другая планета, другой уровень. Неужто это все и вправду существовало? Я сомневалась в этом. Персонажи использовали незнакомые мне слова, короткие и гладкие. И все равно мне хотелось быть Фрэнни. Она была почти как живая. Сыпала словечками вроде «именно», «дивно», «обожаю». Поезда скрывались под номерами: 10:52. Они прибывали к холодным платформам, где ждали пассажиры, выдыхавшие белые облака пара. Чтобы не замерзнуть, люди наряжались в пальто, непромокаемые плащи на теплых подкладках, шубы из енота.
Я решила, что буду учиться в Гарварде, потому что именно об этом университете говорилось в книге. Я уеду, сбегу из этого города, из мира моих родителей. Но то, насколько тверды мои намерения, буду держать в секрете, а иначе они попытаются меня остановить.
Ни один из них никогда не делал ничего подобного, но все равно это могло произвести на них впечатление. Мне казалось, что я нашла ответ – безукоризненный план побега. Я не знала, что хочу изучать и каким должен быть университет, чтобы мне понравиться, но решила, что, как только попаду в Гарвард, все встанет на свои места.
Бессознательно я стала коллекционировать пальто и просила дарить их мне на Рождество и дни рождения, хотя в Северной Калифорнии слишком тепло, чтобы носить те пальто, что мне дарили. Выпускной класс и выпускной вечер был уже не за горами, и я поняла вдруг, что с таким рвением собираю одежду для университета. (Впоследствии оказалось, что слишком теплые для Калифорнии пальто недостаточно теплы для Восточного побережья.)
Отцу я не рассказала о своей решимости, потому что план был все еще непродуманным, слишком хрупким, чтобы спорить о нем. Я чувствовала, что мой отъезд ему не понравится и что он не понимает, как скоро это может случиться. Хотя он все также шутил, что я выйду замуж за Биффа, Тэда и остальных. Нужно было улизнуть незаметно. Пускай он и не верил в то, что можно вырастить ребенка, который крутился бы рядом и никогда не покинул бы его, живя за его счет и пользуясь его положением, он мог бы, вопреки себе, попытаться воспитать такого ребенка.
♦
Иногда отец в шутку поворачивался спиной, скрещивал на груди руки и водил ими по своей спине, постанывая. Они в какой-то момент начинали казаться оторванными от тела, чужими.
Когда мы прямо говорили о любви и сексе, он проявлял любопытство, казался заинтересованным. Мы разговаривали на равных, словно были в одной команде.
Я не чувствовала такого же отвращения, как когда говорила о сексе с мамой. Возможно, потому что не росла с ним.
– Давай еще раз пройдемся по базам, – говорил он мягко, но настойчиво.
Он использовал терминологию бейсбола – игры, в которой ни один из нас не разбирался, к которой мы оба были равнодушны.
– Ты имеешь в виду отношения? – спрашивала я.
– Да. Итак, первая база – поцелуй… – подсказывал он.
Я знала, что это нелепо, но мне это нравилось. Он тестировал меня примерно раз в неделю, а в перерывах будто забывал, что мы говорили об этом. Это упражнение повторялось от раза к разу. У меня не было друга, и было непохоже, что он скоро должен был появиться, но я послушно повторяла то, что выучила. Он продолжал подсказывать. Смущала меня только третья, «нижняя», база, которая, возможно, подразумевала оральный секс. Я о ней не распространялась и надеялась, что он не будет расспрашивать о деталях.
– Так на какой ты базе? – спрашивал он.
– Второй, – отвечала я. – Еще с «Нуэвы».
– А, – откликался он. – Здорово.
Однажды вечером, когда Лорен возвращалась домой, я вышла встретить ее к воротам, где росли розовые кусты.
– Знаешь тот компьютер, «Лизу»? – спросила она, закрывая ворота под звяканье кольца. Ее волосы переливались на солнце, на плече был кожаный портфель. – Он ведь был назван в честь тебя, да?
Мы никогда об этом раньше не говорили, и я не знала, почему она спрашивает сейчас. Может быть, ее кто-то спросил.
– Не знаю. Наверное, – соврала я. Понадеялась, что она закроет тему.
– Должно быть, в честь тебя, – сказала она. – Давай спросим, когда он вернется.
– Да это неважно, – ответила я. Мне не хотелось, чтобы отец снова произнес свое «нет». Хотя, может быть, если спросит Лорен, он ответит утвердительно?
Несколько минут спустя он появился у ворот, и Лорен подошла к нему. Я последовала за ней.
– Милый, – сказала она, – тот компьютер ведь назвали в честь Лизы, да?
– Нет, – ответил он.
– Правда?
– Да. Правда.
– Да ладно, – она посмотрела ему в глаза. Я чувствовала восхищение и благодарность за то, что она продолжала настаивать, когда я бы уже сдалась. Они смотрели друг другу в глаза, стоя на дорожке, ведущей к двери.
– Он назван не в честь Лизы, – ответил отец.
В этот миг я пожалела, что она спросила. Мне было неловко: теперь Лорен знала, что я не настолько важна для отца, как она, наверное, подумала.
– Тогда в честь кого ты назвал его?
– Моей давней подружки, – сказал он, глядя вдаль, будто вспоминая. С тоской. Именно из-за грустной мечтательности во взгляде я и поверила, что он говорит правду. В остальном это было больше похоже на притворство. У меня в животе возникло странное ощущение – оно появлялось, когда я сталкивалась с фальшью или глупостью, а в последнее время оно почти не покидало меня. Да и зачем ему было врать? Его настоящие чувства явно принадлежали другой Лизе. Я никогда не слышала, чтобы в молодости он встречался с девушкой Лизой, и позже рассказала об этом маме. «Чепуха!» – был ее ответ. Но, может быть, она просто не знала, может быть, он хранил первую Лизу в тайне от нас обеих.
– Прости, дружище, – сказал он, похлопав меня по спине, и вошел в дом.
♦
Отец вскрыл большой конверт из плотной бумаги – приглашение на свадьбу в Напе.
– Эй, Лиз, хочешь поехать?
Когда отец и Лорен посещали события и мероприятия, я обычно оставалась с братом. Но в этот раз и я поеду, появлюсь с ними на людях, как часть семьи! Как дочь, сестра. В мыслях я уже выбирала платье и сообразила, что придется купить нейлоновые чулки – нужно было принять столько решений, что голова шла кругом. Прошли несколько недель, и настал день торжества.
По дороге мы остановились купить сэндвичей в дорогом супемаркете, а после, уже в пути, отец затряс бутылкой с водой, когда я сказала, что хочу в туалет. Брат сидел рядом со мной в своем высоком детском кресле.
Незадолго до того, как мы приехали, отец с театральным видом прочитал нам наставление о рисках и последствиях.
– Лиз, ты знаешь о рисках и последствиях? – спросил он. – Это вроде логарифмической линейки, которая позволяет оценить, стоит ли идти на что-то. Например, если риск небольшой, но последствия слишком серьезны, ты, возможно, откажешься от задуманного.
– Так, – ответила я.
– Даже законы, – продолжал он. – Они не про то, что можно, а чего нельзя. Нужно исходить из того, поймают тебя или нет. Например, автомобиль может ехать со скоростью 200 километров в час, что намного превышает все скоростные ограничения в этой стране. Ты можешь ехать так быстро, как хочешь. Главное, чтобы тебя не поймали.
Я вспомнила, что мама рассказывала об отце еще до того, как мы с ним познакомились. По дороге домой в Вудсайд он мчался с бешеной скоростью без номеров, и полицейские почти год не могли поймать его. Он был крутым, он был лихачем, и он учил меня нарушать правила. Его ум давал ему свободу, легкость ногам.
Свадебная церемония должна была состояться в курортном отеле «Медоувуд Напа Вэлли», вход в который был оформлен в виде внушительной стрельчатой арки. Рядом были поле для гольфа, бассейны и роскошные номера внутри деревянных домиков.
Прибыв в отель и поднявшись в номер, мы все стали наряжаться. Лорен надела на брата светло-голубые хлопковые панталончики на лямках. Сама она была в платье, сшитом из нескольких винтажных японских кимоно; отец – в черном пиджаке, белой рубашке и джинсах.
– Ну все, мы пошли, – сказал он почти у самой двери.
Подразумевалось, что я тоже приглашена на церемонию, хотя никто и не произносил этого вслух.
– Стойте. Я еще не готова, – сказала я. Я только и успела натянуть чулки – кожа была влажной, и они застревали на полпути и морщились.
– Все в порядке, – ответила Лорен. – Не торопись. Вот, держи – и она вручила мне Рида.
Стало ясно, что ей предстоит идти, а мне уготовано остаться.
По ее тону и виду я поняла. Они собрались быстро, будто сбегали. Даже не успели распорядиться, чем нам обоим поужинать. Когда я осознала свою ошибку, мне стало стыдно – в основном за то, что я понадеялась. Но они могли бы сказать мне, когда я повесила платье в машине – сказать, что мне не понадобится платье.
– Почему бы вам не прогуляться, например, к бассейну? – предложила Лорен, когда они выходили за дверь.
Я переоделась в джинсы. За дверью каждого номера стояла красная тележка. Я посадила туда Рида, оставив на нем его нарядный костюмчик. Ему хотелось, чтобы его везли, потом несли на руках, потом снова везли. Было сыро и прохладно, слишком прохладно, чтобы купаться.
– Ки, – говорил Рид, показывая пальцем.
Букашка, дерево, бассейн. Свет под тонким слоем облаков, будто под белой оберточной бумагой, был приглушенным, рассеянным, везде и нигде.
Когда мы дошли до места, где заканчивалась мостовая и начиналось поле, я высадила Рида из тележки, и он побежал вперед к краю бассейна, спотыкаясь о комья земли в траве, но удерживая равновесие. Он все время норовил упасть, но будто ниточки под мышками удерживали его, как марионетку. Я побежала за ним, поймала и помогла лечь на живот на бетонном краю бассейна, чтобы он мог дотронуться до воды. Присела рядом на корточки, придерживая его за ногу. Он стал шлепать руками по поверхности воды.
– Шлеп, шлеп, шлеп, – сказала я.
– Леп, леп, леп, – повторил он.
Позади послышались звук мотора и смех. Подняв глаза, я увидела, как мимо проезжает старая спортивная машина блестящего кремового цвета с открытым верхом; какие-то подростки высовывали из окон руки. Машина с треском пролетела по длинной дороге, ведущей с территории отеля – под высоким сводом ветвей деревьев, высаженных в два ряда. Они меняли ощущение пространства, превращали дорогу в огромную, но укромную комнату – сквозь ярко-зеленую листву пробивался свет.
Я не хочу быть здесь, сидеть с ребенком, подумала я. Я хочу быть там, в той машине, вместе с ними.
♦
Однажды вечером, когда Стива и Лорен не было дома, я уложила брата спать и стала исследовать комнаты на втором этаже. Обыскала гардеробную Лорен, где надеялась найти какую-нибудь безделушку, или предмет одежды, или старую фотографию. Какой-то секрет – что-то, что было у нее и чего не было у меня. Я обнаружила баночку белого крема с ямкой на поверхности – там, где его коснулся палец, флакон духов – высокий и тонкий треугольник с круглым стеклянным колпачком, фотографии моего брата. Зеркало в полный рост выгибалось, наделяя меня крутыми бедрами. Гардеробная Лорен разочаровала меня: здесь не было ничего, что говорило бы о ее владелице больше, чем я уже знала.
Через ванную я прошла в гардеробную отца. У него на полках лежали носки, галстуки, сложенные свитера, внутри которых похрустывала тонкая оберточная бумага. В ящичке слева я заметила край маленького конверта из волокнистой бумаги.
Я заглянула внутрь: там была стопка стодолларовых купюр толщиной несколько сантиметров! Никогда в жизни я не видела столько наличных. Зрелище потрясло меня. Такое же удивление я испытала, когда заметила многочисленный выводок божьих коровок, сотни или даже тысячи копошащихся на ветке жучков, тогда как до этого за раз мне попадались только одна-две.
С колотящимся сердцем я провела пальцем по боку увесистой пачки – купюры зашелестели. Они были новенькие и хрустящие, от них пахло спиртным и холстом. От моего прикосновения край стал неровным, пачка расслоилась.
Я взяла одну банкноту, сложила и положила в карман. Потом закрыла ящик и спустилась вниз. Мои ладони вспотели, я вытерла их о джинсы.
Что, если там были камеры? Остались ли мои отпечатки? Я вздрагивала от каждого шороха, словно кто-нибудь мог выпрыгнуть на меня из-за двери в любой момент; ноги стали будто резиновые; по рукам, приятно покалывая, будто пробежал электрический разряд.
Я была воровкой. Но больше я никогда ни одной не возьму. Не стану искушать судьбу. И точка. Ведь если пропажу обнаружит отец, у него появится верное доказательство того, что я порочна до глубины души, что он справедливо отмерил дистанцию, отделявшую его от меня. Помня о своем преступлении, я еще сильнее, чем прежде, старалась им угодить. Срезала цветы во дворе и расставляла в вазах по дому.
С того вечера, когда бы отец ни произнес: «Лиз, нам нужно поговорить» или просто «Лиз», – я сжималась, готовясь предстать перед его судом.
На манекене в витрине торгового центра я увидела оловянно-серый плащ от Benetton – того же серебристого оттенка, что и оборотная сторона древесного листа. Он стоил 79 долларов. Без подкладки, из ткани, чаще идущей на легкие походные куртки. Он симпатично завязывался на поясе, и его взрослый, женственный силуэт напомнил мне о Кэндис Берген – она могла бы надеть что-то подобное на важное совещание в дождливый день.
В следующий раз, когда отец с Лорен ушли, я, содрогаясь от страха и предвкушения, прокралась в отцовскую гардеробную. Непонятно было, уменьшилось ли количество банкнот с моего прошлого визита.
В тот раз, на случай если больше не вернусь, я взяла две.
Самым сложным было разменять сотенные купюры. Их не везде принимали: первую не приняли в кафе напротив школы. Я боялась, что владельцы магазинов заинтересуются, откуда у меня взялась такая большая сумма денег, и в конце концов об этом узнает отец. Поэтому я пыталась действовать украдкой: не заходила в один и тот же магазин дважды, держалась у кассы одновременно уверенно и небрежно.
Зайдя в Benetton, я приготовилась, что кассир не примет банкноту. Но она взяла ее, даже не взглянув. Свернула плащ, опустила его безо всякой упаковки в бумажный пакет и выдала мне вместе со сдачей. Я вышла на улицу – казалось, что плащ был ничуть не тяжелее бумажного пакета. Я будто парила в воздухе – от волнения, что возникает, когда деньги превращаются в вещи.
Вернувшись, я спрятала плащ на дне самого глубоко ящика. Нельзя было его надевать: отец и Лорен могли заметить. Он был частью моей коллекции для университета.
Я не откладывала деньги, потому что не понимала, зачем это. Вместо того я искала вещи, которые хотела бы иметь, и сразу же все тратила. Кроме одежды для себя, я покупала подарки на Рождество и дни рождения, в основном для родителей, Лорен и брата. От людей я слышала, что деньги откладывают, чтобы в будущем купить то, что хочется. Но мне это казалось бессмысленным: ведь могло найтись что-то, что мне необходимо было иметь прямо сейчас. И тогда какой толк от сбережений, если они служат той же цели, только отложенной? Еще я слышала, что люди откладывают деньги на «черный день» или просто ради того, чтобы откладывать. Я решила, что в «черный день» как-нибудь выкручусь, прибегнув к мошенничеству и собственному шарму. И перехитрю всех бережливых.
Тем вечером за ужином отец сообщил, что скоро к нам придет фотограф, чтобы сделать несколько семейных фото. Мои руки затрепетали. Я разбила очередной стакан.
Фотограф явился однажды утром. Вместе с ассистентом они прикрепили к стропилам в гостиной рулон белой бумаги: он опускался до самого пола и должен был служить фоном. Сначала он сделал несколько фотографий брата: одетый в джинсовый комбинезон, он сидел на маленьком стульчике. Потом он снял нас четверых – я стояла позади всех; потом – Лорен с Ридом на руках, оба они смотрели прямо в объектив. На ней был длинный узорчатый жилет с бахромой и туфли на платформе.
– Эй, Лиз, для следующего снимка тебе нужно будет выйти из кадра, – скомандовал отец.
Я отступила и стала наблюдать со стороны, делая вид, что мне все равно. После нескольких снимков отца с братом на руках Рид расплакался, и Лорен понесла его наверх, чтобы заменить подгузник. Отец исчез, как он часто делал в перерывах – проскользнул в кабинет поработать.
Это был один из тех дней, когда дневной свет водянистый и рассеянный, а солнце – всего лишь желтое пятно за облаками. Фотограф посмотрел на меня – я стояла рядом с ним.
– Можно я тебя сфотографирую? – спросил он.
– Конечно, я с радостью, – ответила я, хотя чувствовала, что этого бы мне не разрешили.
На мне были джинсы, которые велел надеть отец.
– Подождите! – сказала я и помчалась по коридору в свою комнату, чтобы надеть висевшее в моем шкафу мамино платье 1970-х годов. Свободного кроя, как национальное гавайское муу-муу, с узором из золотистых и кремовых цветов на черном фоне, с длинными рукавами, застегивающимися на запястьях, и золотым кантом на рукавах и шее. Подол начинался от планки на груди и опускался до самых лодыжек.
Уже несколько лет я мечтала о профессиональном фотопортрете: я видела такие в рамках на стенах у друзей, а теперь это происходило и со мной, но без мамы. Но благодаря платью она тоже как будто присутствовала в кадре. И плевать, что оно было старым и немодным.
Босиком я помчалась обратно и встала, задыхаясь, там, где он велел: возле кресла и пуфа для ног от Eames. Я знала, что тайком делаю нечто непозволительное, перетягиваю на себя внимание; и фотограф тоже, возможно, это почувствовал. Быстро защелкал затвор фотоаппарата: чем быстрее он жал на спуск, тем больше фотографий получится. Я улыбалась во весь рот, глаза сияли.
Из кабинета вернулся отец.
– Что это такое? – спросил он, оглядев меня с ног до головы.
– Он сказал, что хочет…
– Прекратите, – сказал отец фотографу. – Прекратите сейчас же.
♦
Однажды вечером, пока мыла посуду, я говорила с мамой по телефону и упомянула между делом, что записалась к стоматологу. Она предложила меня отвезти. Я приняла ее помощь, но чувствовала себя виноватой и опасалась, что отец и Лорен не одобрят ее общества. Ведь так я окажусь под ее влиянием, хотя это они должны были влиять на меня. Я могла бы доехать на велосипеде, как они рекомендовали, но мне категорически лень было 45 минут крутить педали, ехать через весь город, чтобы попасть к стоматологу, психотерапевту, другим врачам. Тем более что мама сама предложила подвезти. Разве не из-за обязанностей такого рода она не в состоянии была больше обо мне заботиться? И теперь я снова ее обременяла, но в то же время это было шагом вперед для нас обеих.
Мама уверяла, что это не проблема.
– Я хочу помочь, – сказала она. – Но не опаздывай. Не хочу дожидаться перед этим домом, когда ты выйдешь.
По субботам мы все собирались на кухне, окна которой выходили на Санта-Рита-авеню, и я должна была выбежать на улицу, как только она подъедет. Я не рассказала о нашем уговоре ни отцу, ни Лорен.
Тем утром на кухне мы больше, чем обычно, походили на дружную семью.
Отец пел Риду This Old Man, тот сидел у него на коленях, шлепая по ним ладошками. Отец взял ручонки Рида в свои руки и стал крутить одну вокруг другой. У Рида недавно прорезался еще один зуб. «Почему?» – все время спрашивал он, о чем бы мы ни говорили. Почемупочемупочему? Он был непоседлив, ерзал на месте, демонстрируя маленькие коленки и локти, его светлые волосы имели яркий оттенок, губы были красным, на подбородке – ямочка, на плечах заметно напрягались миниатюрные мышцы. Я обожала, как он смеялся: запрокидывал голову, раскрывал беззубый рот, выворачивался из объятий, поводя тонкими ручками, которые напоминали мне макароны. Ему было три года, но он так и не научился спать по ночам. Рано утром он будил меня – вбегал в комнату и щекотал под мышками, пока я не проснусь.
Мы с Лорен делали брускетту по ее рецепту.
– Молодец, Лиз, – похвалила она, когда я добавила чеснок и полила хлеб маслом с чесноком. Меня переполняла радость от того, что мы вот так собрались на кухне, как настоящая семья. Казалось, что лучше и не могло быть.
Я знала, что должна быть на улице: мама уже, наверное, ждала меня перед домом. Я пожалела, что договорилась с ней, что не могу как-нибудь ее отослать. Понадеялась, что, может быть, она терпеливо подождет, может быть, поймет, что ничего не может быть для меня важнее происходившего в тот момент на кухне.
Она надавила на руль, и автомобильный гудок завыл, как гудок корабля. Неужели ее не волновало, что подумают соседи? Неужели ей не было стыдно? Теперь, когда она переполошила всю округу, мне пришлось со всех ног мчаться на улицу. И почему именно в те минуты, когда я чувствовала то, что называют близостью, всегда являлась моя мама, чтобы забрать меня и доставить в другое место?
Когда я подошла к машине, в ней уже закипала ярость.
– Ты обещала, – сказала она сквозь зубы.
– Да, но…
– Не желаю ждать перед этим домом, будто я твоя прислуга.
Мама не только стала помогать мне с перемещениями по городу: каждую третью неделю я стала проводить у нее. Опаснее всего были отрезки между переездами – шаги до ее машины, путь в четыре квартала, первые несколько дней притирки. Будто мои родители (которые разделяли систему ценностей, отношение к еде, мистические воззрения) были не просто разными людьми, но даже двигались по перпендикулярным траекториям. Их дома находились рядом, но атмосфера в них так разительно отличалась, что каждый раз я вспоминала о том, что где-то прочла о Луне: если положить ладонь на линию, где встречаются свет и тень, одна ее половина сгорит, а другая – покроется льдом.
Вскоре я стала переезжать куда реже – оставалась у мамы не на одну неделю, а на две, потом на месяц, потом два месяца.
* * *
– Я бы хотела дольше оставаться у мамы, – сказала я отцу в конце летних каникул, перед началом второго года в старшей школе. – Может быть, половину времени.
Из-за того, что родители никогда не были женаты и потому не разводились, официального договора о том, с кем я должна жить, не существовало. И теперь, когда прошли полгода нашей разлуки, я сочла, что могу сама решать, у кого оставаться. Отец этому не слишком обрадовался, но и возражать не стал. Однако он отказался перевозить меня и вещи из дома в дом и несколько дней до и после переезда был со мной подчеркнуто холоден.
В первые два дня мама дарила мне столько теплоты, что она лилась через край, доходила до приторности: она ходила за мной по пятам, во всем потакала, готовила для меня, поливая все непомерным, как я недавно выяснила, количеством растительного масла, намазывала тосты щедрым слоем сливочного. Я чувствовала собственное превосходство. Я знала то, чего она не знала. Была более утонченной, больше понимала в эстетике, чем она. Она касалась моих волос и приходила сказать спокойной ночи, хотя я давно научилась обходиться без этого. Меня раздражала ее уязвимость, ее потребность во мне, в моем присутствии, даже если я говорила, что хотела побыть одна. Меня раздражало, что я связана с ней родством, что из-за нее я не могу стать своей в другом доме. Ее любовь казалась мне спонтанной, хаотичной. Я чувствовала, что она пыталась мне угодить, и из-за того меньше заботилась о ней.
Мне хотелось быть кем-то другим – высокой блондинкой, красивой, достойной. Но она, казалось, любила меня такой, какой я была. Я нравилась ей такой, какая была. Я засомневалась, что у нее был вкус.
Я надеялась, она не заметит, что я ее осуждаю. Я прикусывала язык и говорила раздраженно и снисходительно, жалея ее за странности и обожание.
А потом мы ссорились: она плакала и говорила, как ей больно, как плохо я с ней обращаюсь, и я снова видела в ней человека, моя броня опадала, я смотрела на нее другими глазами и снова чувствовала, как мы были близки. Каждый раз все повторялось по одному и тому же сценарию, и мы ничего не могли с этим поделать.
– Стив меня не любит, – сказала я ей. – Я родилась слишком рано.
Мы сидели на ступеньках у двери, что вела в сад, и ели ложками половинку дыни.
– Он тебя любит, – ответила она. – Он просто этого не знает. Ты… ты – то, что для него важно.
От ее слов у меня внутри все расцвело.
– Он знает, – сказала она, – всегда знал, он просто не в ладу с самим собой. Не знает своего сердца, потому что забыл его.
Я не была ничем, я была чем-то. Вспомнила, как он спрашивал меня о Тине: он не знал, чем владеет, пока этого не стало, – то же было и здесь. Он использовал меня, чтобы разузнать о ней, а после отыщет кого-то еще, чтобы разузнать обо мне. И так далее, и так далее. Его трагедия была в том, что он не мог провести прямую между двумя точками.
– Лучше делать плохо свою работу, чем хорошо – чужую, – рассуждала она.
Это было из индуизма.
– Есть у матери, есть у отца, но благослови, Боже, ребенка, у кого есть что-то свое, – а вот это было не из индуизма, а из старой песни.
На ее столе лежала пачка бумаг – документы о банкротстве. Я почти ничего об этом не знала. На заднем сидении ее машины я заметила мужскую толстовку.
– Просто друг, – сообщила она.
Она отодвигала свою личную жизнь в сторону, когда я ее навещала. Позже я узнала, что она встречалась и затем рассталась с математиком, а потом ей стал нравиться специалист по программному обеспечению из Бронкса, с которым она вместе ходила на йогу и у которого был черный пояс по карате. Но она сомневалась, что он вообще ее замечал. По четвергам после занятий посетители курсов ходили есть пиццу и салаты в «Виколо» на Юниверсити-авеню.
Каждый раз, когда приходила пора уезжать от мамы, я чувствовала, будто какая-то часть меня – может быть, душа – поднимается, стряхивает защитную оболочку; я снова ощущала вокруг себя ее присутствие – спокойствие, уверенность и тепло. Когда маме нужно было съездить по делам, не имеющим отношения ко мне – в магазин для художников или за продуктами, – я ехала с ней, просто чтобы быть рядом.
♦
Когда я жила у отца, я сидела еще и с трехлетним сынишкой соседей. Они жили в квартале от нас, на Уэверли-стрит – в светло-голубом двухэтажном доме, крытом кровельной дранкой. На заднем дворе за белым забором повсюду были разбросаны роботы и машинки. И муж, и жена – Кевин и Дороти – были юристами. Я каждый раз с нетерпением ждала, когда буду есть крекеры, печенье и соевый сыр – продукты, которых в отцовском доме не держали, – и читать в кресле под лампой.
Мы познакомились как-то в выходной, когда гуляли по округе с отцом и спящим братом. Отец окликнул с тротуара Кевина, который возился с машиной в открытом гараже, как делал когда-то и отец отца, Пол. Кевин был похож на представителя иной породы людей – честных и прямолинейных. Отец и Кевин подружились, стали вместе прогуливаться в нашем районе. Иногда мы заходили к ним в гости и вместе сидели во дворе. Кевин ездил на «Моргане» – черном, отполированном до блеска, с длинным передом, увенчанным полукруглой решеткой радиатора, блестящей, хромированной выхлопной трубой и тонкой красной полоской сбоку.
Кевин с Дороти как будто прониклись ко мне и переплачивали за мои услуги. Как-то раз в субботу они пригласили меня поехать с ними к океану, и мы отправились вверх по извилистой дороге, устланной солнечными бликами, мимо просвета, откуда открывался вид на город, мимо ресторанчика «У Элис», где остановился поесть целый кортеж мотоциклистов. И дальше, к пляжу – по дороге, петлявшей между холмов.
Дороти одолжила мне шарф, чтобы я прикрыла голову, а Кевин – ветровку.
– Как там у вас дела? – Кевин силился перекричать рев мотора и шум ветра.
Он имел в виду дела в доме отца.
– Все хорошо, – ответила я. – Может быть, только немножко холодно.
– Холодно? – крикнул он.
– Внизу нет отопления, – заорала я, перекрикивая ветер.
– Что?
– Он отказывается его чинить, – мы остановились у дорожного знака на вершине холма. – Мне каждый вечер приходится мыть посуду, а у них нет отопления внизу. И посудомоечной машины. То есть она сломана.
– Почему они не купят новую?
– Не знаю.
Перемены произошли, когда я была в выпускном классе. Устав мыть посуду руками, я решила вызвать мастера, чтобы тот починил старую посудомоечную машину. Он взял с меня 40 долларов, работа заняла 10 минут: всего лишь пришла в негодность резиновая прокладка. Когда я рассказала отцу, что старая коричневая машина снова работала, он нахмурился. Через неделю – к тому моменту я провела у раковины на кухне не меньше сотни вечеров – у нас появилась новая посудомоечная машина Miele.
– Совсем как Золушка, – сказал Кевин.
Подобного сочувствия я и добивалась, ведь я и сама иногда, разглядывая по ночам фотографии, верила, что я Золушка.
– И они постоянно заставляют меня сидеть с ребенком, – пожаловалась я.
– О, – откликнулся Кевин.
Ему как будто было жаль меня и из-за этого, но уже не так жаль: этот проступок явно показался ему менее серьезным и немного смягчил его.
– И еще они не хотят купить диван, – сказала я.
Впоследствии я осознала, какие жалобы работают, а какие совсем не действуют на окружающих, как бы горько мне ни было по тому или иному поводу.
Он даже не хочет купить диван – твердила я каждому, кто меня слушал.
В действительности нам и так было где присесть: кресла с пуфами для ног от Eames, большой восточный ковер, стулья за кухонным столом, стул у моего рабочего стола. А потому меня и саму приводил в замешательство тот факт, что я так настаивала на диване и так переживала из-за его отсутствия. Но я была непреклонна. Все, что мы упустили, вернется нам, мы нагоним потерянное время – если только он купит диван.
– Хуже всего то, – сказала я, – что мне очень одиноко по ночам. Если бы только отец иногда заходил пожелать спокойной ночи. Хотя бы раз в неделю.
Кевин покачал головой и улыбнулся. Позже я поняла, что он вот так улыбался, молча и качая головой, когда его что-то сердило. У него были длинные ресницы, блестящие глаза, двойной подбородок: в моих глазах Кевин был настоящим взрослым мужчиной, совсем непохожим на отца. В отце сохранялось много мальчишеского, хотя они и были ровесниками.
Гораздо позже, когда история нашего знакомства стала довольно длинной и я даже какое-то время пожила у них, Кевин и Дороти пошли против воли отца и оплатили мою учебу в университете, чтобы я могла его окончить. Думаю, у них на то были свои причины: то могли быть присущее им чувство справедливости и воспоминания о собственной юности. Их разозлило, что отец перестал платить за мое обучение, не моргнув и глазом – потому что у него было больше власти.
– Хотелось бы мне, чтобы хоть кто-нибудь в этом доме подумал о тебе, – сказала Дороти. – Чтобы хоть кто-нибудь подумал: «А что нужно Лизе?»
Жалобы на отсутствие отопления, нежелание отца покупать диван, желать мне спокойной ночи приносили облегчение. При этом я выступала сразу в двух амплуа: я не только была всеми обиженной, но и наблюдала со стороны, не только страдала, но и рассказывала о страданиях. Желая, чтобы кто-нибудь заставил отца дать мне то, чего я сама не могла от него получить, я была жертвой. Рассказывая об этом окружающим, требуя их сочувствия, я обретала силу, которой не знала в себе.
Продрогнув на ветру, мы вернулись домой, и они заварили чай.
♦
– Мне так одиноко, – жаловалась я Моне по телефону. – Он не заходит пожелать спокойной ночи.
Я доверила Моне роль посредника, и она продолжила играть ее даже после того, как я окончила школу и стала взрослой – все так же передавала нам обоим обрывки информации друг о друге. Ее присутствие между нами было даром небес: отец мог прислушаться к своей сестре.
– Правда? – сказала Мона. – А ты его просила?
– Нет.
– Почему бы тебе не сделать этого?
Я не просила, потому что видела что-то неправильное в этом своем желании. Я хотела слишком многого. Между тем, что я должна была чувствовать, и тем, что чувствовала на самом деле, была большая разница.
– Дело в том… – начала я, глядя из окна на изумрудный сад, на розовые чаши, полные лепестков и похожие на размокшие книги с волнящимися страницами. – Дело в том, что я не понимаю…
– Что?
– Этот дом выглядит таким благополучным, – сказала я.
– Это славный дом, – ответила она.
Заглядывая в окна других красивых домов и видя там людей, окруженных светом, представляешь, что они счастливы. Теперь и я жила в таком доме.
– Как можно находиться в таком красивом месте и чувствовать себя так плохо? – спросила я.
Наверное, это со мной что-то было не так, подумала я. Со мной, не с домом.
– Для чего еще нужны деньги, – ответила Мона, – как не для того, чтобы создать видимость благополучия.
– Слушай, не могли бы вы иногда заглядывать ко мне и желать спокойной ночи? – спросила я отца, стоя на кухне.
После разговора с Моной я набралась смелости.
– Что? – переспросил он.
– Всего пару раз в неделю, – сказала я. – Потому что мне одиноко.
– Не-а, извини, – ответил он, не раздумывая.
Он покачивал брата на коленях, сидя в кресле-качалке.
Несколько дней спустя я попросила об этом Лорен.
– Конечно, – ответила она.
Меня с головой накрыло приливом облегчения и благодарности. Те же чувства я испытывала, когда она звала меня фотографироваться с ними; они же побуждали осыпать ее розовыми лепестками и цветами лантаны, когда она, возвращаясь с работы, шла от ворот к дому. От благодарности я вся покрылась мурашками, как от холода.
Тем вечером она спустилась ко мне первой, села на кровать и вытянула ноги. Когда она тянула носки, ее стопы по форме становились похожими на стопы манекенов, которые надлежало обуть в туфли на высоком каблуке. Я тоже вытянула ноги, как Лорен.
– Он спустится через минуту, – сказала Лорен.
– Как прошел твой день? – спросила я. Я включила верхний свет, хотя обычно в этот час гасила его. Мне хотелось создать как можно более приятную обстановку, чтобы необходимость спускаться ко мне была не тяжким бременем, а удовольствием. Я бы не возражала, если бы они просто заглядывали в комнату – мне важен был сам факт, а не длительность ритуала.
– Отлично, Лиз. Расскажи, что ты читаешь, – она глянула на стопку недочитанных книг у кровати. Она тоже любила книги. Я перечитывала «Фрэнни и Зуи», начала заключительную книгу «Каирской трилогии» и попутно читала «Когда Ницше плакал». Последняя книга была романом о психологических проблемах, и в том числе там я нашла историю о толстой девочке, которая ходила к психотерапевту, пока пыталась похудеть: с каждым сброшенным килограммом она освобождалась еще и ото всех тех сложностей и переживаний, что испытывала в прежнем весе. Меня поразила мысль о клеточной памяти: наше тело помнит все, что нам довелось перенести, даже если наше сознание эти воспоминания утратило.
В комнату зашел отец и сел на кровать рядом с Лорен. От радости мне было тяжело расслабиться, как тяжело бывает дышать на сильном ветру.
– Ну… спокойной ночи, Лиз, – величественно сказал отец, поднимаясь, будто чтобы подчеркнуть свои слова. Мы обнялись.
Они больше никогда не приходили. Я попросила еще раз, отец отказался, и больше я об этом не заговаривала.
Востребованные навыки
♦
Я вступила в дискуссионный клуб. Это внеклассное занятие тоже могло пригодиться для поступления в университет, но, в отличие от остальных, на которые я подписалась по той же причине, оно настолько меня поглотило, что изначальная причина забылась. Я выбрала формат дебатов «Линкольн – Дуглас» – так его назвали в честь знаменитых дебатов Авраама Линкольна со Стивеном Дугласом. На длинном тонком листке значилась тема: «Правление большинства против прав меньшинства». Что именно это означало? И как задавать вопросы к этому утверждению? Я не знала.
Мы подготовили аргументы для обеих точек зрения, провели несколько тренировочных раундов и поучаствовали в маленьком состязании в Стэнфорде – которое я проиграла. В составе небольшой группы мы поехали на другие дебаты в школу под названием «Линкольн», в часе езды от нас. Дебаты проходили в пустых классах под руководством волонтеров, родителей, учителей. После каждого раунда на стену вывешивали лист бумаги с указанием темы следующего поединка и номера класса. В перерывах между раундами мы – из нашей школы было всего четыре ученика – находили друг друга, покупали орешки или сладости, усаживались на край бетонных вазонов у дверей той школы – что была больше нашей, а в классах висели таблицы, что казались мудренее наших таблиц, – и вполголоса рассказывали друг другу о том, какую чушь несли наши оппоненты.
Когда я спорила, кровь приливала к моим щекам. Когда это случалось, я чувствовала, будто парю в воздухе и переливаюсь. Идеи сами собой возникали в голове, слова выстаивались в верной последовательности, укладывались точно в отведенное время. Пока говорил оппонент, я соображала, как нанести ему риторический удар. Вопросы прав меньшинства и правления большинства, казалось, имели значение для меня лично. Я была уверена, что проиграла только одному мальчику в первом раунде.
Вечером мы вернулись домой. Следующий день, воскресенье, был вторым и заключительным днем турнира. Мы уехали рано, в том же самом фургоне.
– Мы поедем назад сразу же, как вылетит последний. Но если кто-то останется, мы его дождемся, – объяснил тренер.
Я сообщила отцу, что уезжаю еще на день. Тот выслушал новость настороженно, как будто я выдумала эти дебаты.
– К ужину должна вернуться, – сказала я.
Но я продолжала выигрывать. Когда я приводила контраргументы, мои щеки полыхали так жарко, что приходилось класть на них руку – то на левую щеку, то на правую, – чтобы остудить.
В перерыве между раундами я позвонила домой и сообщила Лорен, что вернусь позднее, чем ожидала. По ее прохладному голосу я сразу поняла, что отец недоволен.
– Если хочешь, можешь поговорить с тренером, – предложила я. – Он подтвердит.
– Нет, спасибо, – ответила она. – Увидимся, когда ты вернешься. Возможно, мы уже будем спать.
Если бы я победила, я смогла бы показать ему мою награду. Я никогда раньше не выигрывала наград, и мне стало казаться, что это сделать необходимо.
День перешел в вечер, список имен участников на листке, который прикалывали к стене после каждого раунда, укоротился – теперь в нем было всего несколько человек. Когда я зашла в класс, где должен был, как я слышала (было неясно), проходить полуфинал, вместо одного судьи меня ждали три.
Я не помню лиц своих оппонентов, кроме первого, но помню ощущение, охватившее меня во время финального раунда. Я поняла, что выигрываю. Это не заняло много времени. К тому моменту мне было уже все равно, какую точку зрения отстаивать; мои шпаргалки с аргументами измялись и растрепались. Любой довод можно было опровергнуть – я все их знала. В конце мы пожали друг другу руки. Меня объяла великодушная любовь к моему оппоненту и к тем, что уступили до него.
20 минут спустя мы собрались на церемонию награждения.
– В категории «Линкольн – Дуглас» у нас два победителя, – сказал ведущий.
В руке у него был один кубок. Я стала подниматься с места.
– К сожалению, у нас только одна награда, поэтому придется отдать ее тому, кто первый доберется до сцены.
Я уже поднималась по ступенькам, стараясь выглядеть грациозной и безразличной. Вторым победителем, как я теперь поняла, был мальчик, с которым мы сражались в первом раунде и который, скорее всего, победил. А значит, после меня его оппоненты были сильнее. Но он оказался недостаточно проворным. Когда я приблизилась к трибуне, ведущий протянул мне кубок. Я схватила его и после переложила в левую руку. Как раз тогда позади меня появился тот мальчик – мы пожали друг другу руки и улыбнулись.
На следующий день я заговорила о турнире, когда ехала с отцом в машине.
– Я всех победила! – приукрасила я.
Я уже показала ему кубок утром, но он не произвел на отца должного впечатления, поэтому я заговорила об этом снова.
– Знаю, Лиз. Может быть, это все, что тебе нужно, – ответил он.
– Что?
– Ты это сделала. Доказала.
– Но это был всего лишь один турнир. Будут и другие. Может быть, это поможет мне поступить.
– Лучше спорить в реальной жизни, – ответил он. – Лучше приберечь этот навык для той ситуации, когда он действительно может пригодиться. Бестолковый клуб.
♦
На шоссе 101, под углом от дороги, стояло приземистое здание. На вывеске, рядом с изображением соприкасающихся краями бокалов мартини, значилось: «У Руби».
– Вот здесь Лиз будет работать, – сказал отец, указав на заведение, когда наша машина неслась мимо.
В машине нас было четверо: отец и Лорен, мы с братом – на заднем сиденье. Он и раньше так шутил. Теперь я поняла, что заведение было стриптиз-клубом. Я вообразила голых женщин, извивающихся на барной стойке, – таких я видела в кино. На парковке почти не было машин.
– Ха, – ответила я, чтобы подыграть.
Когда мы приехали домой, он направился к проигрывателю в гостиной и вставил в него компакт-диск. Он давно говорил, что хочет дать мне кое-что послушать.
– Слушай, – сказал он, посмеиваясь. – Это для тебя, Лиз.
Это была песня о коротышках композитора Рэнди Ньюмана, который писал музыку для «Истории игрушек» студии Pixar.
«История игрушек» станет первой полнометражной картиной, полностью созданной на компьютере, – так он говорил. Каждую неделю он приносил домой кассеты – по мере того как продвигалась работа над мультфильмом. На кассетах были рисованные куски вперемешку с компьютерной анимацией и белыми пятнами. Персонажи говорили разными голосами: некоторые были обработаны, некоторые – нет, некоторые принадлежали известным актерам, а некоторые – людям, которые временно заменяли известных актеров. Те черновики были скроены из разных лоскутов.
Слова песни против воли заставили меня смеяться: во мне было 158 с половиной сантиметров, и я все никак не росла. Отец поднимался и опускался на носках под музыку, поглядывал на меня и пытался подпевать, так как успел запомнить некоторые слова. Он ухватил меня за руки, чтобы я потанцевала вместе с ним. Его рост был 183 сантиметра, Лорен – 174. Они измерили брата и умножили его рост на два – фокус, которому научила Лорен. Выяснилось, что он тоже, скорее всего, будет высоким. Казалось, большой рост очень важен для них: он был гарантией будущего успеха.
* * *
Однажды по возвращении из школы я нашла на своем столе компьютер. В корпусе из черного матового пластика, с изгибающейся вентиляционной решеткой сбоку и огромным экраном.
– Я решил, что тебе понравится, – сказал отец, заходя в комнату.
Я просила у него компьютер NeXT с тех самых пор, как переехала к нему: и у него, и у Лорен такие были. Но он отказывал. Слишком дорогой, слишком роскошный подарок для ребенка.
– Ого, – сказала я. – Спасибо.
С чего вдруг он решил подарить его сейчас, безо всякого повода? Я щелкнула переключателем на задней панели – компьютер не отреагировал.
– Как его включить? – спросила я.
– Вот так, – ответил он и, протянув руку, щелкнул тем же переключателем. Никакой реакции. Я надавила на клавишу на клавиатуре, подергала мышку. Ничего. Отец взялся за угол дисплея и, нагнув его над столом, еще раз нажал на кнопку. Я заползла под стол, выдернула вилку из розетки и снова вставила. Отец включил настольную лампу, чтобы проверить, работает ли розетка. Работала.
– Не знаю, Лиз, – сказал он.
На следующий день, когда я вернулась из школы, компьютер исчез, а новый так и не появился.
Когда мне исполнилось шестнадцать, отец до следующего моего дня рождения, завидев меня, напевал песню из фильма «Звуки музыки» – о девушке, которой тоже было «шестнадцать, почти семнадцать». Он поднимался по лестнице в своей домашней униформе – черной рубашке, белых трусах, босиком, – театрально разводил руки, прислонившись к перилам, как будто выступал на Бродвее, и тянул: «Невинна, как ро-о-оза». Я закатывала глаза, стоя у подножия лестницы в середине дня. Но мне это было приятно.
Как-то в субботу мы с отцом отправились на прогулку – он вез брата в коляске. В воздухе пахло розмарином, доживавшим свое в окрестных садах, и асфальтом, горячим и растрескавшимся.
– Правда, ужасно быть насаженным на шпиль? – спросил отец, когда мы проходили мимо церкви, которая тянулась к небу заостренным навершием. Он надул щеки и шумно выпустил воздух – острие прошло сквозь тело.
Свет и воздух были наполнены чем-то золотистым – золото двигалось и переливалось множеством крошечных частиц. Пыльцой, может быть. Мы прошли мимо парка, где росли сосны и магнолии с замшевыми листьями.
– Знаешь, Лиз, – сказал отец, – выходцы с Восточного побережья не могут по-настоящему понять жителей Западного. Они пытаются, но не могут. В них этого нет.
На Восточном побережье, сказал он, люди надевают штаны цвета хаки, чтобы выглядеть неформально. Они совсем другие – поверхностные и чересчур много значения придают формальностям. Они не могут безвольно, в порыве чувств поддаться очарованию душистых холмов, запаху перца и эвкалипта, рассеянному водянистому свету. На нас с ним были дырявые джинсы и биркенштоки.
Я разрывалась между разными образами: по утрам в выходные я была поверенной отца, такой же, как он, подлинной, как пара стертых джинсов, как стэнфордские холмы и Боб Дилан.
На его щеке, в верхней части, иногда появлялась ямочка; я могла сложить щеку так же. Я не ела мяса, масла, сливок – того, что не ел он. Я стала подобострастно копировать его походку – кренилась вперед при каждом шаге. Вслед за ним я вставляла в свою речь «как бы» и «вроде того» – эти слова казались мне признаком искушенности. В моем представлении воедино слились те черты, которые выделяли нас как калифорнийцев, и те, что делали похожими нас двоих.
Мы дошли до угла Коупер-стрит и Норт-Калифорния-авеню и остановились у дома за оградой из длинных горизонтальных жердей. У самого края лужайки рос пышный розовый куст, и из-за его ветвей дом было не разглядеть с тротуара. Ярко-зеленые упругие молодые стебли с ярко-зелеными шипами расходились в разные стороны. Розы были небольшими, зато всех цветов мороженого и заката: белые, оранжевые, нежно-розовые, цвета фуксии, пурпурные, красные. В каждом бутоне соединялись разноцветные лепестки, и не было двух похожих бутонов. То ли из-за игры света, то ли из-за сочетания оттенков казалось, будто цветки светятся изнутри.
– Как красиво, – сказал отец.
– Знаю, – ответила я.
Мы оба замерли, глядя на розы. Брат спал в прогулочной коляске. Я подумала, что мы смотрим на вещи одинаково, он и я. Видим их одними глазами. Какое облегчение: есть на свете кто-то, кроме мамы – и отличный от нее, – кто видит мир таким же, каким вижу его я.
Несколько минут спустя из парадной двери дома вышел человек.
– Как называется этот сорт? – спросил отец.
– «Плащ Иосифа», – ответил хозяин дома. – Наверное, потому что они все разных оттенков.
Когда мы вернулись домой и оказались за столом, я предложила отцу поменяться очками. На мне были те, что он подарил мне: в темной оправе, от Oliver Peoples. Они были большими и выглядели дерзко на моем лице; их украшали закорючки из металла с разводами. Его были без оправы: две тонкие металлические дужки от линз к ушам.
Он медленно, обеими руками снял очки.
– Осторожно, – предупредил он. – Если тронешь винты, испортишь линзы.
Его очки в моих руках казались живыми и хрупкими, как насекомые. Они все еще хранили тепло его лица.
Мы надели очки, посмотрели друг на друга и одновременно хихикнули. У нас были почти одинаковые диагнозы: близорукость и схожий астигматизм левого глаза.
– Никогда не выщипывай брови, особенно на переносице, – велел отец.
Мои брови росли неровной волной: с одной стороны был ее гребень, а с другой, противоположной, она опадала. Обе стороны соединялись посередине.
– Будешь выщипывать – волосы перестанут расти, и тогда тебе придется рисовать их карандашом, – его лицо скривилось, такие фокусы он осуждал и презирал. – Увидишь, – сказал он, касаясь моей переносицы. – Брови – твоя лучшая черта.
– Эй, я наполнил для тебя ванну, – сказал он как-то вечером, несколько дней спустя.
Я заглянула внутрь и увидела, что он зажег свечи и расставил их на бортике и на полке над раковиной. Лепестки роз плавали на поверхности воды – она светилась золотисто-желтым от пламени свечей. Должно быть, он оборвал лепестки с цветов в саду.
Как-то утром я зашла на кухню. Отец читал газету, Лорен разбирала почту. Когда я переступила через порог, он опустил газету и посмотрел на меня.
– Лиз?
– Да?
– Ты мастурбируешь?
Вопрос повис в воздухе. Нет, я не мастурбировала. И никогда не пробовала. Знала, что означает это слово, но не понимала, как это следует делать. Однажды во время урока танцев, несколько лет назад, когда мы разучивали какие-то движения, сквозь мое тело пронесся неожиданный вихрь удовольствия, и я выбежала из класса, спряталась в раздевалке, раскрасневшаяся и растерянная.
Я ничего не сказала и не пошевелилась.
– А следовало бы, – сказал он и снова уткнулся в газету.
♦
Осенью, когда до окончания школы оставалось два года и на меня особенно давила необходимость зарабатывать оценки для поступления, отец попросил меня поехать с семьей на Гавайи. Мона тоже собиралась присоединиться.
– Вряд ли я смогу отпроситься с уроков, – ответила я.
Мы сидели в коридоре на темной деревянной скамье из широких досок – одном из немногих предметов мебели в этой части дома.
– Если ты не сможешь поехать, – сказал отец, – не стоит считать себя частью этой семьи. Лиз… – он сделал паузу, будто собираясь сказать что-то еще, потом поджал губы и покачал головой.
– Хорошо, я поеду, – выпалила я, избавив его от нужды подбирать слова.
На следующий день я соврала учителям – сказала, что еду выбирать университет, чтобы они подписали специальную форму, разрешающую мое отсутствие. Учительница химии, миссис Лоуренс, покачала головой, но подписала. Миссис Уоррен, которая преподавала историю, посмотрела на меня с удивлением, но тоже поставила подпись. Интересно, каково это будет – совершить настоящую экскурсию по колледжам, когда все думают, что я уже везде побывала? Что отвечать на вопросы о городах, которых никогда не видела? Как спрятать загар и веснушки?
Придется как-то выкручиваться, когда вернусь. Может быть, все время буду просиживать в помещении, решила я.
В тот же день, что мы прилетели на Гавайи, я побрела вслед за отцом на пляж: песок был перемешан с крупицами лавы и обжигал босые ноги. В тени нескольких пальм стояла хижина под тростниковой крышей, и там можно было взять напрокат снаряжение или записаться на уроки по подводному плаванию и дайвингу, прогулку на катамаране и прочее.
Песок здесь был прохладным. В тени за хижиной на перекладине меж двух шестов сидел ярко-зеленый ара с черным языком. У отца был при себе недоеденный кусок ролла, оставшийся от обеда, и он протянул его попугаю. Ара подался вперед, вытягивая шею, напрягая грудь, цепляясь черными когтями за перекладину. Он качнулся, как на шарнире, переступая и сжимая когти, и раскрыл черный клюв – в птичьем зеве замер маленький язык, культя, напоминавшая последний сустав мизинца. Язык приподнялся в предвкушении, и – отец убрал лепешку. Попугай качнулся назад, выпрямился и закрыл клюв.
– Ну же, – сказала я. – Отдай ему еду.
– Подожди секунду, – ответил отец.
Он снова вытянул руку с лепешкой, не поднося ее однако слишком близко. Попугай наклонился и медленно раскрыл клюв: его черный рот был размером с коробочку для пилюль, открывался и закрывался, будто на петлях. Отец снова отдернул руку до того, как попугай успел ухватить хлеб.
– Скучно, – сказала я.
Отец продолжил свою забаву и теперь выдерживал определенные интервалы. Попугай наклонялся, отец убирал лепешку, попугай принимал прежнее положение и ерошил зеленые перья. Каждый раз я переживала, что птица опрокинется и упадет с жерди: у нее были подрезаны крылья.
– Так нехорошо. Ты его мучаешь.
– Это эксперимент, – ответил отец. – Посмотрим, научится ли он.
Я подождала: может, отец послушает меня и перестанет, или устанет от игры, или попугай поумнеет. Ничего такого не произошло, и я ушла.
Когда я увидела отца позже, он улыбался и выглядел посвежевшим.
– Правда, здесь здорово? – спросил он.
Вокруг нас без умолку свиристели птицы – каждая на свой лад, – и их трели перебивали одна другую.
Ужин накрывали в том же зале, что и завтрак. Мы обычно занимали один из круглых столов недалеко от входа, перед большими окнами, в которых отражались, когда снаружи темнело. С улицы доносилась гавайская мелодия, радостная и печальная одновременно: трое играли на губной гармонике. Официантка, невысокая женщина с длинными, темными с проседью волосами, подошла принять заказ. Я уже видела ее: она шла за руку с маленьким мальчиком, и я подумала, что это ее сын.
Отец заказал морковный салат.
– Пожалуйста, морковь натрите вот такими кусочками, – между его большим и указательным пальцами была пара сантиметров, – и принесите с ней половинку лимона. И еще, пожалуйста, стакан свежевыжатого апельсинового сока. Только не маленький стакан, как все эти стаканы. Большой, – он показал, какой он должен был быть высоты.
Он немного шепелявил, когда медленно и отчетливо выговаривал слова.
– Сделаем все, что в наших силах, сэр, – официантка сказала это по-доброму, опустив глаза в блокнот, куда записывала пожелания. Однако по ее тону было понятно, что она не придала словам отца большого значения.
Отец раскачивался на стуле – его подбородок оказался почти вровень с коленями. Я почуяла опасность.
Официантка, готовая принять следующий заказ, посмотрела на Мону.
– Я буду белую рыбу, – сказала Мона. – Что-нибудь посоветуете? – она говорила вежливо, приятным тихим голосом.
– Есть рыба ваху, белая рыба, похожая по вкусу на золотистого окуня, – сказала официантка. – Или рыба ахи, тоже свежая, но у нее более плотная мякоть.
– Ваху, пожалуйста. Могу я попросить, чтобы ее припустили, без сливочного масла, с капелькой оливкого? На гарнир – овощи на пару.
Рыба и овощи, без масла? Она словно отдалилась от меня и перешла на их сторону – на сторону взрослых, словно в этой поездке она была скорее их другом, чем моим. Лорен тоже ничего не изобретала и заказала салат. Я заказала фетучини «Альфредо».
– Я провел маленький эксперимент с попугаем, – сказал отец. – Тем, что на пляже. Оказалось, они жутко тупые.
– Он его мучил, – вставила я.
– Не способны к обучению, – продолжал он. – Следуют заложенной модели. Это потрясающе.
Официантка вернулась с едой. Перед отцом она поставила тарелку – для гарнира, меньшего размера – с горкой морковной соломки, изготовленной кухонным комбайном. Ломтики заветрелись, побелели по краям. Срез лимона – долек, не половины – был подсохшим; он треснул бы, если бы лимон сжали. Официантка расставила перед нами остальные блюда. Я усердно старалась показать, как довольна своим заказом – усерднее, чем могла бы, если бы не почувствовала, что над нашим столом повисла туча.
Отец посмотрел на свой салат. Коснулся одного ломтика и с отвращением отдернул руку.
– Подождите, – сказал он официантке, уже повернувшейся, чтобы уйти. – Это не то, что я заказывал.
– Но вы сказали…
Эта женщина с добрым лицом и усталыми глазами… ей не нужно было ему возражать. Она не понимала разницы между тем, чего он хотел, и тем, что она принесла. Видно было, что его требования показались ей экстравагантными и избыточными. Я понимала, что ей следовало бы – чтобы избежать грозы – проявить больше заинтересованности, попытаться ему угодить. Уходи, женщина, подумала я.
– Я попробую заменить, сэр, – сказала она дежурным тоном.
Она взяла его тарелку. Не успела она сделать и нескольких шагов прочь, как отец произнес – так, что ей наверняка было слышно:
– Как жаль, что ужин – дерьмо. Все остальное здесь прекрасно. И вот случается эта дрянь.
– Стив, попробуй рыбу, – сказала Мона. – Без сливочного масла.
Мона подвинула к нему тарелку. Он посмотрел, но пробовать не стал. По его натянутой улыбке я поняла, что он готовится к нападению.
Когда он набрасывался на кого-то, безопаснее всего было оставаться рядом с ним.
Мне хотелось навсегда пересечь незримую черту, перейти из опасной в безопасную зону – с его внешней орбиты на внутреннюю. Расплатой за безопасность была необходимость наблюдать, как он унижает эту женщину. Мои страдания не ослабевали и не усиливались: они адресованы были то одному, то другому человеку. Если бы я встала на защиту официантки, он бы набросился на меня. Когда он выбирал жертву, все остальные вокруг выдыхали с облегчением – будто отрывались от земли и смотрели на происходившее сверху вниз. И я не чувствовала под собой ног тогда: мне ничто не угрожало, но я была в эпицентре бури.
Когда мы впервые отправились на Гавайи с Лорен, отец показал на мой купальник и, сравнивая нас, спросил:
– Почему ты не купишь себе такой же?
Я против воли почувствовала себя лучшим человеком на свете, потому что у меня была правильная вещь.
Позже мне пришло в голову, что все мы, кто сидел за тем столом, в детстве лишились отца. Стив был нашим покровителем, он заплатил за то, чтобы все мы там оказались. В воздухе повисло напряжение.
Официантка вернулась с глубокой тарелкой, где было больше морковного салата: старые и новые ломтики вперемешку. Еще она принесла свежий ломтик лимона и апельсиновый сок.
– Это то, что вы хотели? – спросила она.
Казалось, она была уверена, что на этот раз принесла то, что нужно.
– Вообще-то, нет, – ответил отец. – Это совсем не то, что я хотел. Кто-нибудь здесь знает, как выполнять свою работу? – сказал он. – Серьезно. Вы явно не знаете. Я просил свежую морковь.
– Сэр, я попросила поваров натереть мор…
– Нет. Нет. Вы явно не просили. Это то же дерьмо, что вы принесли мне в прошлый раз.
– Простите, – сказала она дрожащим голосом. – Я это заберу.
– Это хорошая идея, – ответил он. – Вам стоит подумать, почему вы здесь и справляетесь ли вы с работой. Пока что вы справляетесь чертовски плохо. Все, что вы сделали до сих пор, было дерьмом. Вы приносите мне одно и то же дерьмо снова и снова. Я хочу тертую морковь и лимон в глубокой тарелке, – он показал размер тарелки.
– Да, понимаю, но…
– Я не прошу ничего сложного. У вас есть морковь?
– Да, но…
– У вас есть лимон?
– Да, – она будто оцепенела.
– У вас на кухне есть терка? – он откинулся на стуле и посмотрел через зал, застеленный ковролином, в направлении кухни.
– Да.
– Хорошо. Я хочу, чтобы вы велели им взять три морковки и потереть их вот так, – он показал, как следует тереть морковь на металлической терке. Окончания его слов были хлесткими, как удары кнута. – А потом разрежьте лимон и принесите и то, и другое.
– Морковь трут заранее, – официантка плакала, но старалась спрятать слезы. – Я спрошу, что можно сделать, – она повернулась, чтобы идти обратно.
Отец медленно повернул голову и перевел взгляд на стол перед собой. Он смотрел с горечью, будто пережил трагедию.
– Знаете что, – крикнул он ей через ковер. – Забудьте про морковь. Могу я еще раз взглянуть на меню?
Официантка принесла ему меню и встала рядом.
– Я буду это, – он ткнул в жареную на сковороде рыбу. – Только я хочу не жареную, а на пару. И не добавляйте ни сливочного масла, ни сливок. Вообще ничего. Просто рыбу.
Официантка все записала, не проронив ни слова. Рыба тоже не могла удовлетворить отца, ведь он отказался от ингредиентов, которые придали бы ей вкус. Я это знала. Отец любил сливочное масло; сама идея масла – вот, что ему не нравилось. Ему нужно было заказать то же, что и Мона. Кухня при отеле курортного местечка никак не могла угодить ему, особенно если он на ходу изобретал блюда и устанавливал столько правил.
Мы все почти закончили есть, когда официантка принесла рыбу – белую на белой тарелке, с лужицей мутной воды, сочащейся изнутри. На этот раз вместе с ней подошел менеджер, приземистый мужчина с усами, и встал рядом.
Зубчиком вилки отец отделил кусочек белой плоти размером со спичку и положил в рот. Поморщился.
– Ничего хорошего, но все равно спасибо, – он уронил вилку. На лице было обиженное выражение.
– Нам очень жаль, что это не то, что Вы хотели, Стив, – ответил менеджер. – Что мы можем сделать, чтобы вы остались довольны ужином?
– Ничего. Вы ничего не можете сделать. Жаль, что ужин у вас никуда не годится, – он качнулся на стуле и натянуто улыбнулся. – Но, знаете, в остальном место просто отличное. Похоже, придется смириться.
– Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы этого не повторилось, – сказал менеджер.
Когда мы возвращались в номер, вокруг стрекотали гекконы, обвивавшие шесты с факелами, что тянулись вдоль белой песчаной дорожки. На Лорен было белое платье, светившееся в полумраке. Когда мы шли по песку тем вечером, мне казалось, будто все мы – герои фильма «Гражданин Кейн». Несколько раз, когда я была еще маленькой, отец, заезжая к нам, обращался ко мне тихим рычащим голосом: «Розовый бутон»[2]. Это было еще до того, как мы наконец сходили на этот фильм в только открывшийся Стэнфордский кинотеатр. Сюжет оставил меня равнодушной, но место действия: пальмовые листья и длинные тени, белеющая в темноте одежда, факелы – все было похоже, и мне казалось, будто меня уносит в какой-то фантастический мир.
На следующий день мы узнали, что в том же отеле остановился друг отца, Ларри Элиссон. Он ходил в соломенной шляпе. После обеда мы с отцом и Ларри сидели за столом, устроенном на скалах из застывшей лавы, вдававшихся в океан. Ларри рассказывал о книге, которую читал: об эволюции, которая была не плавной, а скачкообразной. Если мы взглянем на палеонтологическую летопись, утверждал он, то поймем, что развитие было нелинейным: животные не смогли бы так хорошо приспособиться к среде, если бы речь шла о череде постепенных и случайных изменений.
Они много шутили о бизнесе, и этих шуток я не понимала. У Ларри был низкий голос, но смеялся он высоко и часто, будто сделав глоток гелия. Внутри него слово жили двое: один говорил, а второй смеялся. Он приехал на Гавайи с женщиной, которая в тот день как раз летела домой на самолете United Airlines. А завтра, по его словам, к нему должна была прилететь другая женщина. Она тоже ходила на высоких каблуках, хотя ничего не знала о предшественнице.
Отец схватил меня и крепко обнял. То, как существовало в нем теплое чувство ко мне, удивляло: оно то наполняло его, то исчезало, то возникало вновь, как сменяли друг друга равнины и горы на каком-нибудь острове.
– Как думаешь, милая, – на следующий день я нечаянно подслушала разговор отца и Лорен, – что лучше – каждый год отправлять ребенка на Гавайи или отправить учиться в университет?
– Даже не знаю, – ответила Лорен. – Здесь здорово.
– Вот и я думаю: может быть, просто возить сюда каждый год? Может быть, это лучше университета, если все взвесить.
Шутили ли они? Отца не смущали собственные отличия от прочих родителей, его странности. В ресторанах он сморкался прямо в полотняные салфетки. Надо было спросить об университете до поездки, но мне и в голову не пришло, что, соглашаясь на одно, я, возможно, отказывалась от другого. Я та, кто проводит каникулы на Гавайях, и та, кто будет учиться в университете. Так я рассуждала тогда. Мне дозволялось так думать, я это знала – и мне это нравилось. Нравилось и то и другое. Теперь, когда я выпила столько безалкогольной «пины колады», поездка подошла к концу. Сколько денег ушло на мой отдых? Наверное, меньше, чем требовалось на учебу. Я не знала. Жалела о каждой проведенной здесь минуте. Меня тошнило от запахов, деревьев и птиц.
– Да, думаю, это того стоит, – сказала Лорен, – в общем и целом.
Она сказала это шутливым тоном. Может быть, думала, что он никогда так не поступит. А мне хотелось, чтобы она ответила: «Что за глупости».
– Что ты сказала учителям? – спросила мама, когда я позвонила по телефону в отеле – белого цвета, одному из двух в комнатке рядом со стойкой администратора.
– Что поеду выбирать университет, – ответила я. – Если бы я сказала правду, меня бы не отпустили.
– Я поговорю с ними, – сказала она.
До этого разговора я не представляла, что есть другой выход из положения: я планировала продолжить врать. Я старалась поменьше бывать на солнце, чтобы не загореть.
Я назвала ей фамилии учителей, номера классов, и на следующее утро она съездила в школу и поговорила с ними, сказав, что я не видела другого выхода и соврала, потому что мне было стыдно. Первое время после моего возвращения в школу учителя посматривали на меня вопросительно, а миссис Лоуренс открыто дразнила меня, но вскоре об этом все забыли.
В один из последних вечеров на Гавайях я стояла на лавовой скале, нависающей над океаном; она была недалеко от отеля. Подо мной плескали крошечные волны, освещенные тусклым фонарем под выступом. Закружил теплый ветер, и в свете фонаря я увидела, как рыба устремилась от света в черную глубину, а над ней, высоко в небе, висела яркая звезда. И в тот момент я увидела – почувствовала, – что между рыбой и звездой протянута связующая их нить. Она была серебристой и крепкой, как веревка; яркой и отчетливой, будто бы существовала в действительности.
И тогда я ощутила, что нет ничего, никого незначительного, ничтожного, ведь даже что-то столь малое и, казалось бы, несущественное, как рыбка в неспокойном океане, соединяется с необъятной Вселенной.
Я рассказала отцу и Лорен о звезде и рыбе вскоре после того, как мы вернулись в Пало-Алто. Мы еще сидели в машине, припарковавшись у музыкального магазина Tower Records в Редвуд-Сити, куда приехали за дисками. Отец заглушил мотор. Брат спал в детском кресле возле меня. К моему удивлению, они оставались на своих местах и дослушали до конца, как я рассказываю эту историю с заднего сиденья. Обычно они торопились. А в тот раз они замерли, глядя в лобовое стекло, слушая.
♦
Я наделась, что Лорен спасет меня, но в то же время сама хотела ее спасти, воображала себя ее могущественной и великодушной покровительницей. Однажды она повернулась ко мне на кухне и сказала:
– Я была слишком молода.
– Для чего?
– Для брака, – ответила она сухо.
Она срезала в саду цветную капусту и варила ее на пару – в той самой кастрюле Alessi, которую недавно купил отец и которой восторгался, которую не уставал демонстрировать нам: ее выпуклые, а не прямые стенки притом, что она была из тех же материалов и по той же цене, что и обычные кастрюли. Но сразу заметен был эффект более утонченного дизайна.
– Так просто и так красиво, – говорил отец, поворачивая кастрюлю в свете лампы на кухне.
Лорен ушла наверх и забыла про цветную капусту, вода выкипела, и кастрюля была испорчена. Мысль о том, чтобы купить новую не пришла мне в голову, да я и не знала, где их продают и сколько они стоят, в любом случае у нас не было времени на то, чтобы отыскать такую же до того, как отец вернется домой. Кухню заволокло дымом.
– О, черт. Черт! – приговаривала Лорен, открывая все окна и дверь, яростно размахивая при этом газетой. Я никогда раньше не видела, чтобы она паниковала: обычно она держалась спокойно. Я тоже взялась за газету. В доме пахло жженым сахаром, гарью и горелым металлом. Мы обе, как безумные, выгоняли из кухни дым и вонь.
Иногда отец припоминал Лорен, что она из Нью-Джерси, что у нее слишком широкие стопы и что ей нравятся неправильные деревья. Возможно, для него эта кастрюля с изогнутыми стенками символизировала превосходство его эстетического чутья над ее. («У нее нет вкуса», – говорил он гостям за ужином, когда она выходила). Увидев испорченную кастрюлю, он мог повести себя с ней жестоко, будто бы это происшествие было очередным доказательством того, что она ставит под сомнение его утонченность.
Она могла бы найти себе кого-нибудь и получше, чем он, думала я. Я спасу ее, мы спасем друг друга, уедем на ее белом «БМВ», как Тельма и Луиза. Меня переполняла нежность к ней, восхищение тем, что, несмотря ни на что, она не теряла оптимизма, много трудилась ради успеха ее компании. Она понимала, что в жизни приходится быть жесткой, и двигалась вперед, несмотря на упреки отца. И в этом я хотела брать с нее пример. Если она не решалась сбежать, потому что думала, что никто не замечает, или сомневалась в справедливости своих чувств, то она была неправа: я замечала, я видела. Я желала для нее радости и удовлетворения от жизни, верила в ее способности и думала, что, возможно, для побега ей нужны только моя уверенность в ней и поддержка.
Это чувство близости между нами было недолговечным. Едва сблизившись, мы расходились вновь, наше общение становилось формальным. Сгоревшая кастрюля отца не обрадовала, и он был подчеркнуто молчалив на протяжении нескольких дней.
Я по-прежнему ходила к психотерапевту, доктору Лейку. Мы встречались раз в неделю с тех пор, как мне было девять; отец платил за сеансы. Его кабинет находился на Уэлч-роуд, рядом со Стэнфордской больницей. Это был высокий человек с темными волосами и добрым лицом. Когда мы только познакомились, он не стал ругать меня за то, что я испортила куклу, разрисовав ее лаком для ногтей и обрезав ее длинное платье. Он не стал отчитывать меня, когда я остригла кукольные волосы, отчего ее прическа стала походить на гнездо. Теперь я сидела на кушетке у стены, а он на стуле Eames напротив. Иногда мы играли в шахматы или шашки. У него была банка с печеньями Oreo, и отчасти из-за нее я ходила к нему все эти годы: я получала неограниченный доступ к печенью и могла съесть столько, сколько влезет. Когда-то его кабинет располагался по другому адресу, и до переезда на Уэлч-роуд мы иногда ходили в закусочную Fosters Freeze и разговаривали, пока шли. Теперь мы порой заглядывали в Häagen-Dazs на территории Стэнфорда, и он покупал нам мороженое.
– Фрейд бы в гробу перевернулся, – шутил он.
Уговоры заняли несколько месяцев, но я наконец убедила отца и Лорен принять участие в сеансе групповой терапии. Мне не давала покоя безумная идея, что доктор Лейк мог сказать им что-нибудь или, наоборот, многозначительно помолчать, чтобы они что-нибудь сказали – и сразу поняли все. Тогда они согласятся с моими требованиями (разумными, как мне казалось): купить диван, желать мне спокойной ночи, починить отопление. В его присутствии они не смогут отрицать справедливость моих обид.
И отец и Лорен оделись подчеркнуто аккуратно. Какой чинной парой они казались, когда вошли! От Лорен пахло мылом и свежевыглаженным бельем, она была в кипенно-белой блузке и маленьких очках в золоченой оправе, подаренных отцом. Он надел новую черную рубашку и джинсы без дыр. И как будто только что постригся.
Доктор Лейк расставил вокруг деревянного стола четыре деревянных кресла с мягкими черными подлокотниками. Отец с Лорен сели, держа спину прямо. В общении с доктором Лейком я давно отбросила всякую формальность и надеялась, что его вельветовые штаны, плюшевые манеры и его кабинет, обстановка которого, несмотря на беспорядок, была тщательно продумана, подействуют на них расслабляюще.
– Мы собрались, чтобы поговорить о Лизе, – объявил доктор Лейк.
Молчание. Я знала, что доктор Лейк спокойно относится к долгому молчанию, и бывало, мне приходилось долго ждать, пока он заговорит, – неловкая пауза тянулась дольше всех разумных пределов.
Я откашлялась.
– Я чувствую себя очень одинокой, – сказала я. – Я надеялась, что вы… что мы сможем как-нибудь с этим разобраться, – я замолчала и посмотрела на Лорен – ее лицо было совершенно неподвижно, словно было ненастоящим лицом, а маской.
– Мне ужасно одиноко, – я предприняла новую попытку.
Они все так же молчали.
Я посмотрела на доктора Лейка: тот тоже молчал.
Мы ждали. Мне захотелось, чтобы у меня было меньше желаний, меньше потребностей, чтобы я была одним из тех растений с клубком сухих корней и копной мятных листьев, что могут выжить при самом малом количестве влаги и воздуха.
Эта пауза стала казаться мне вечностью, и я разрыдалась. Я надеялась, что это смягчит их, что моя несдержанность, мои слезы, сутулость, неопрятность помогут им перестать сдерживать себя. Я не была идеальной, и от них мне это было не нужно.
Наконец Лорен заговорила.
– Мы просто холодные люди, – сказала она.
Она произнесла это сухо, будто давала официальное разъяснение.
Разве так можно говорить? Первое, что мне пришло тогда в голову. Куда позже я удивилась тому, что она осмелилась это сказать. Как хорошо было бы знать о собственных недостатках и без тени смущения сообщать о них остальным. Ее голос прозвучал невозмутимо. А я-то надеялась пристыдить их за то, что не подпускали меня к себе. Но теперь мне самой было стыдно: я все это время закрывала глаза на простую истину.
Как очевидно – они просто холодные люди! Слезы высохли сами собой: так это было прозрачно, ясно. Я посмотрела на отца – тот молчал. Но он не холодный, подумала я; он просто сдерживает свою любовь, и я не могу предсказывать или контролировать ее проявления. Но, возможно, в конечном счете это и называлось холодностью.
Отведенное нам время истекло. Мы друг за другом вышли из кабинета. Доктор Лейк удивил самого себя – об этом он рассказал мне впоследствии, – сказав им по пути из кабинета в приемную:
– Вы в точности такие, какими я вас представлял.
♦
– Тебе нужно довериться жизни, – сказал отец тем вечером, заходя ко мне в комнату.
Я сидела за столом и делала карточки для запоминания: мелким почерком переписывала на них свои школьные заметки.
– Если ты станешь доверять интуиции, прислушаешься к ней, она заговорит громче. Ты когда-нибудь слышала о принципе «здесь и сейчас»?
О чем он говорил? Вроде бы о том, чтобы жить настоящим. Но мне нужно было делать домашнюю работу. По большей части она была скучной, но меня мотивировала мысль о поступлении в Гарвард. Быть здесь и сейчас означало быть несчастной.
– Лиз, – сказал он.
– Что?
– Тебе нужно покурить травы, – ответил он.
Я была чересчур серьезна – на это он намекал. Но я не доверяла ему. Я училась в предпоследнем классе, оценки были важны.
– Я покурю с тобой, – сказал он. – Если хочешь.
– Нет, спасибо, – ответила я. Он хотел, чтобы в этом дурмане я забыла о своих целях (так мне казалось). А потом он сказал бы: «Видишь, оно того не стоило».
– Когда-нибудь ты станешь хиппи, – он подвел итог. – Поверь мне.
– Нет, не стану, – ответила я.
Я знала, что он подразумевал умиротворение и умение расслабиться. Но с хиппи я познакомилась раньше, чем с ним: эти люди носили коричневые одежды и не стриглись. При воспоминании о них я чувствовала привкус пыли во рту.
– Как знаешь, – сказал он и пружинящим шагом вышел из комнаты.
На ногах у него была пара «биркенштоков»; он насвистывал, будто демонстрируя, как сам он был счастлив и умировтворен.
Ночью мне снилось, что мой одноклассник по имени Джош, которого я едва знала, вместе со мной парит над холмами – складками, уходящими за западный горизонт. С Джошем мы встречались на уроках английского и в редакции школьной газеты, но очень редко разговаривали друг с другом. Во сне у нас были специальные рюкзаки, державшие нас в воздухе. Мы лениво покачивались над землей, глядя вдаль, на Сан-Франциско – на шпили сверкающих на солнце небоскребов, косые арки викторианских домов пастельных оттенков и Тихий океан, ясный и мирный, далеко позади них, набегавший волнами на берег. Город казался ярче, чем в жизни; он был далеким и близким одновременно, будто бы мы смотрели на него через видоискатель. Так бывает при некоторых погодных условиях: предметы на расстоянии кажутся далекими и в то же время близкими.
Во сне я посмотрела на Джоша, и у меня из груди, точно воздушный шарик, стала подниматься радость. Я была так взбудоражена, что пришлось потрудиться, чтобы выговорить, а не выпалить:
– Полетели.
И мы медленно, петляя в воздухе, поплыли к гигантскому мегаполису – самому удивительному из всех городов, что я знала.
Следующим утром, перед тем как в класс вошла миссис По, я перегнулась через парту и тронула Джоша за плечо.
– Эй, ты мне сегодня снился.
Он повернулся ко мне.
– Ого-го, – произнес он, улыбаясь. – И о чем был сон?
– Мы летели в Сан-Франциско. Парили в воздухе. У нас были специальные рюкзаки, чтобы не упасть.
– Надо заняться этим, – сказал он. – Надо… – но тут зашла миссис По, Джош отвернулся, и урок начался.
♦
Когда я жила с мамой, я смутно осознавала, что в какой-то момент – возможно, после того как я уеду учиться – Джефф Хаусон перестанет присылать ей алименты. У мамы не было других надежных источников дохода. Должно быть, она тоже это понимала и к тому же хотела независимости от отца.
Каждый раз, как у нее рождался новый коммерческий план, она с жаром и оптимизмом приступала к его осуществлению. Она восхищалась миссис Филдс, которая пекла печенье и покрывала его глазурью, и Нэнси, которая сколотила состояние на изготовлении мясных пирогов. Но она никак не могла взять в толк, что одно лишь качество товара не превратит идею в деньги, что нужно еще уметь вести бизнес, выстраивать стратегию и изучать рынок.
Однажды мама решила устроить гаражную распродажу, но повесила объявления только накануне мероприятия. Естественно, об этом узнали единицы: почти никто не пришел, хотя у нас были славные вещицы, куда лучше, чем на многих других гаражных распродажах. Не могла она и наладить продажу своих картин. Ее трафареты не пользовались большим спросом в «Нейман Маркус» и «Смит энд Хокен», не слишком хорошо расходились и через сарафанное радио, и тогда она пала духом. Мама возложила новые надежды на другой проект – расписные полотняные коврики. Это были прямоугольные холсты, на которые наносилось изображение акриловыми красками разных цветов: глубокий сливовый, насыщенный оранжевый, все оттенки зеленого. Узоры из цветов, листьев, спелых плодов, нарисованные от руки или с помощью трафарета. Она покрывала их дорогим лаком, чтобы те не трескались, как старый фарфор. Мама делала их вместе с подругой, но у подруги не было художественного образования, поэтому мамины смотрелись куда выигрышней.
По стенам ее мастерской были развешаны холсты разной степени готовности, там же сушились использованные трафареты. Мне нравилось сидеть с ней в гараже, когда она рисовала. Мама уходила глубоко в себя и будто забывала о других людях. Звук от ударов трафаретной кисти о холст напоминал отдаленный стук дятла.
Я разглядывала кляксы на доске, служившей ей палитрой: белые, карминовые, индиго, гуммигут. Гуммигут казался слишком коричневым и скучным, пока в него не добавляли воду: тогда он приобретал золотисто-желтый оттенок, как белое вино. Капли краски застывали, но стоило на них надавить, как из-под твердой корочки выступала жидкость. Чтобы очистить кисти, мама стучала ими по стенкам металлической емкости, наполненной скипидаром.
Услышав голос отца, мы вышли из гаража и вернулись в дом – там он искал нас. Он не заходил в гости уже несколько лет, и я не знала, почему он вдруг решил заглянуть в тот день. Он стоял посреди кухни, высокий и худой; на нем была серая толстовка с капюшоном, через который был пропущен красный шнурок. Он оглядывался по сторонам, будто бы немного разочаровавшись.
– Стив, – сказала мама. – Как поживаешь?
– Отлично, – ответил он. – Над чем работаешь?
Он повел острым плечом, описав в воздухе полукруг.
– Над картинами для пола, – ответила она.
– Что это? – спросил он.
– Обычные картины на холсте, которые нужно класть на пол, – ответила она, тыча ногой в гранат, нарисованный на холсте под раковиной. – Коврики для кухни или еще куда, но с защитным покрытием. Я делаю их с подругой, и мы думаем, они будут пользоваться спросом. Мы сможем продавать их в «Мэйсиз» или в «Нейман Маркус».
Я чувствовала: ей хотелось его одобрения и признания; нам обеим этого хотелось. Он знал мир и деньги, знал, как вести бизнес, достиг успеха. Она говорила много, но неуверенно, особенно когда он готовился обидеть ее, – словно предчувствовала жестокость с его стороны и старалась заранее смягчить, приглушить его заносчивость.
Я наблюдала, как они занимали свои места на сцене для знакомого танцевального номера: она говорила, что хочет освободиться от него, он говорил, что хочет быть свободным от нее, но и спустя много лет они были спутаны одной паутиной. Они как будто бились в сетях, как рыбы, и все безнадежнее застревали в них.
– Еще я делаю трафареты, – сказала она.
– Покажи, – попросил он.
Она открыла заднюю дверь и повела его через сад, мимо фиолетовых цветов глицинии и под жадное жужжание пчел, в прохладную мастрескую. Я пошла за ними. Он молча осмотрелся и стал разглядывать картины, вплотную придвигая к ним лицо, как будто искал что-то определенное. Мы с мамой стояли у двери, куда доходил жар с улицы, в ожидании вердикта.
– Знаешь, Крис, – наконец сказал он дружелюбным тоном, – ты с таким же успехом можешь родить еще детей.
Выходя из гаража, он казался легче, свободнее. Помахал нам рукой, сел в машину и уехал. Оглушенные, мы с мамой стояли у подъездной дорожки.
♦
Когда я вернулась в дом отца, на выходные приехала Мона с мужем Ричи. Отец простудился, был мрачно настроен. Я сторонилась его: выскальзывала из комнаты, когда он входил, старалась держаться ближе к Моне и Ричи – веселым и радушным. Меня охватывала паника, если ни уходили гулять и оставляли меня одну с ним в доме.
Как-то, проголодавшись, я пошла на кухню и застала там отца: он стоял у стола и ел миндаль из пакета.
– Как твоя домашняя работа? – спросил он.
Я заметила, что его что-то беспокоит.
– Хорошо, – ответила я, приготовившись к тому, что могло последовать.
– Дело в том, Лиз, – начал он медленно, тоном, который предвещал колкости и унижение, – что у тебя нет востребованных навыков. Ни одного.
Он забросил в рот еще одно ядро миндаля. Откуда взялись эти мысли? С чего вдруг он заговорил о востребованных навыках в субботу утром?
– Но я участвую во всех внеклассных занятиях, – возразила я, – и учусь на отлично!
Договорив и перебрав в голове все, в чем принимала участие – школьную газету, дебаты, летнюю работу в лаборатории, уроки японского, на которые стала ходить, – я сникла. Он совсем не то имел в виду. Вереница внеклассных занятий ради ощущения собственной важности – я предпринимала все это в горячке, из-за своей розовой мечты о колледже. Но никого не нанимают на работу за участие в школьных дебатах. Мои достижения не произвели на отца впечатления и не сбили его с толку. Он знал, что все это ничего не стоит, и беспокоился о моем будущем.
Мир виделся мне таким: одни занятия вели к другим занятиям и проектам, и так далее вверх по лестнице во взрослую жизнь. Я и не должна была готовиться ко взрослой работе. Другие, казалось, думали так же. Но его слова вынимали из меня душу, потому что он говорил так уверенно, потому что я так надеялась произвести на него впечатление, потому что он был так знаменит, успешен, так много знал о мире.
– Я бы не стала на твоем месте из-за этого переживать, – сказала Мона. – Глупости.
Я хотела, чтобы она сказала мне, что его слова – чушь и неправда, чтобы заставила его взять их назад. Я боялась, что он окажется прав – если не сейчас, то потом, – и что я никогда не добьюсь успеха, никогда не смогу найти достойной работы.
Мы прощали ему эксцентричные выходки и выпады, потому что он был гением, который бывал порой и добр, и прозорлив. Теперь я чувствовала, что, если дам слабину, он уничтожит меня. Будет говорить, как мало я значу, до тех пор, пока я в это не поверю. Какая мне была польза от его гениальности?
Я устала переезжать из дома в дом, от отца к маме и обратно. Поэтому решила разделить оставшееся до университета надвое – по шесть месяцев там и здесь. Я знала, что эта идея отцу не понравится. Признаться, я бы переехала к маме насовсем, но опасалась, что это приведет его в ярость. К тому же я не хотела покидать Рида.
Я поняла: чтобы переговоры были успешными, нужно быть готовой полностью отказаться от того, что хочется, в пользу чего-то другого. Нужно научиться быть отчаянно безразличной. Когда отец сказал, что у меня нет востребованных навыков, во мне что-то дрогнуло и обмякло. Я поняла, что никогда не добьюсь того, на что надеялась, переезжая к нему.
В те выходные я ждала у двери, когда он покончит с обедом и выйдет в коридор.
– Можно с тобой поговорить?
– Ага, – ответил он и сел на темную деревянную скамью рядом со мной.
– Ты, наверное, знаешь, как тяжело мне постоянно мотаться из дома в дом, – начала я. – Ваши дома – абсолютные противоположности. Мне бы хотелось поделить год надвое между вами.
Меня пробила дрожь. Нужно было – во что бы то ни стало – озвучить просьбу до того, как он нащупает слабое место, как разглядит опорные части, смычки, перекладины.
– Но ведь ты и так проводишь у матери два месяца кряду, – ответил он. – Вообще-то мне бы хотелось, чтобы ты чаще бывала дома. Мне не нравится, как ты себя ведешь. Если хочешь быть частью семьи, нужно уделять нам больше времени. Знаешь что? Нет, так не пойдет.
Другие искали компромисс, но его наличие разногласий вполне устраивало.
Он поднялся и пошел прочь.
– Если ты не разрешишь мне поделить это время, – сказала я, как будто между делом. – Я перееду к маме на весь год.
Я следила за ним краем глаза. Он как будто сдулся, весь разом. Никогда раньше я не выходила победителем из споров с ним.
– Я… – он повернулся ко мне. – Ну, хорошо. Ладно.
От этой победы мне стало неуютно, как будто я его ранила. Я почувствовала, что должна быть милосердной.
– Дай знать, какую половину тебе бы хотелось, – сказала я.
– Я подумаю об этом, – ответил он, уходя.
Я выиграла. Это было небольшое достижение, всего лишь шаг. Но я выберусь отсюда. Буду двигаться вперед, к свободе – и однажды проеду в автомобиле под высоким сводом ветвей, и стекло с моей стороны будет опущено, и я вальяжно положу локоть на дверь.
Полет
♦
В самом начале последнего учебного года в «Пали» меня избрали главным редактором школьной газеты. Теперь я вместе с троими другими учениками редактировала все материалы и поздно вечером отправляла газету в печать. Все предыдущие годы сменявшие друг друга главные редакторы казались мне такими взрослыми и авторитетными. Теперь я занимала ту же должность.
В том году мы выпускали статьи о том, что школьный совет массово сокращает сотрудников и вместе с тем раздает оставшимся кредитные карты, а те не жалеют заемных денег, помимо прочего, на дорогие обеды в ресторане «Макартур Парк». После ряда подобных статей глава школьного совета подал прошение об отставке.
Как-то раз среди недели в редакции возникли технические неполадки.
Слетела система на всех компьютерах, экраны погасли, принтер перестал работать. Нужно было незамедлительно что-то предпринять, перезагрузить компьютеры, потому что иначе несколько дней работы пропали бы даром – весь наш тщательно подготовленный материал. Джош – его густые волосы были серовато-песочного цвета, он забирал их в хвост – улегся на пол, чтобы поправить провода. Остальные застыли в отчаянии и ужасе. Джошу всегда удавалось все починить: компьютеры возвращались к жизни, принтер принимался с шипением выплевывать бумагу.
– Поедешь со мной? – спросил Джош.
Он предлагал поехать к нему за недостающим проводом. Я впервые рассмотрела его: ямочки на щеках, когда он улыбался, широкие плечи под фланелевой рубашкой. Он был застенчивым и дружелюбным, писал размашистым неразборчивым почерком – будто хвост воздушного змея вился по строке из конца в конец.
– Конечно, – ответила я, еще не зная, что он жил в Портола-Вэлли, в 20 минутах езды от школы. Его мать и отчим были юристами, каким-то замысловатым образом им удалось перевести его в школьный округ Пало-Алто – им пришлось поручиться, что они будут подвозить его по дороге на работу.
Он был неряшливым. Точнее, таким он казался мне. Слишком расслабленным, неорганизованным. Да, он умел чинить компьютеры, но в остальном был неопрятен: забывал делать домашние задания по английскому, что задавала миссис По, тогда как я усердно работала, чтобы получить высокий балл. Он всегда опаздывал, путал дни и пытался доделать домашнюю работу на коленке за несколько минут до урока. (Позднее я узнала, что он ходил на курсы по прикладной математике и дифференциальным уравнениям в Стэнфорде, а потом поступил в Стэнфорд и Массачусетский технологический институт).
Он ездил на подержанной «Тойоте Супре» 1983 года ослепительно яркого сине-зеленого цвета с двумя волнистыми розовыми полосками на бортах.
– Извини за эти полоски, – сказал он, когда мы уселись в машину. Он купил ее у женщины-физика из Ливермора. Мне нравилось, как смотрелись на руле его руки.
В его комнате были матрас на полу и окно, выходящее на двор и лес. Там стоял музыкальный центр и лежали наушники, повсюду были разбросаны бумаги и книги. Комната была достаточно большой, поэтому казалась одновременно и пустой, и захламленной. Джош нашел провод, и мы вышли.
На обратном пути он свернул на Астрадеро-роуд, двухполосную дорогу, неровную, с небрежными заплатками на асфальте, что бежала вдоль заповедника.
– Я покажу тебе один секрет, – сказал он. – Погоди-ка.
Скорость на том отрезке была ограничена 25 милями в час, но он все сильнее давил на газ. Мы приближались к слепому повороту: дорога перед ним шла вверх и исчезала за склоном холма, с другой стороны был обрыв. Она огибала холм, но отсюда этого было не разглядеть. Если бы навстречу ехала машина, мы бы столкнулись с ней на повороте; мы бы разбились, если бы дорогу переходило семейство оленей.
Джош ехал все быстрее, переключая передачи: третья, четвертая, пятая. Мотор ревел и визжал.
– Ты уверен, что стоит…
– Не волнуйся! – он пытался перекричать шум. – Я так уже делал.
Мама иногда говорила, что есть специальные ангелы-хранители – только для подростков.
Помоги мне, бог подростков, взмолилась я про себя. О, бог подростков.
– Держись! – крикнул Джош.
Машина скрежетала, мотор завывал. Я вцепилась одной рукой в ремень безопасности, второй – в ручку на двери. Джош снова переключил передачу, свернул за угол, и…
Мы полетели.
Дорога в том месте была неровной: за подъемом следовал резкий спуск. Если достаточно разогнаться, можно было оторваться от земли в самой верхней точке и лететь над нырнувшей вниз дорогой, над подрагивающими тенями от изумрудных деревьев и кустарников вдоль обочины.
Тогда я взглянула на город с другой стороны.
В нем были потайные места, где царила свобода, и Джош знал о них.
Несколько месяцев спустя, вечером того дня, когда мы сдали очередной номер газеты, мы с тремя другими главными редакторами – Ребеккой, Николь и Томом – стояли на парковке перед школой, возле машины Николь. Машины в основном уже разъехались, и медные лучи фонарей косо ложились на асфальт, проходя сквозь ветви сосен. В отдалении я заметила пару: мальчик и девочка направлялись к нам, держась за руки.
Это был Джош. На нем была мешковатая белая рубашка и штаны, как у арлекина. Позже я узнала, что он сшил их сам из лоскутов старой одежды: сначала скроил пояс и штанины в районе лодыжек, потом – все остальное. Он широко шагал и сгибал в коленях ноги, когда ступни касались земли. Девочка была мне незнакома. Стройная и хорошенькая, с волнистыми волосами цвета меда. Они отпустили руки друг друга, когда подошли ближе.
– Эй, Джош, – сказал Том. – Мы только что сдали номер в печать.
Я почувствовала, как мышцы моего лица ослабли. Раньше я жалела его, считала никому не нужным; а теперь он был с другой девчонкой, и я робела, смущалась и самой себе казалась маленькой рядом с ними.
Я поехала на велосипеде домой, а там расплакалась, когда жаловалась Кармен – она мягко гладила меня по голове. Часом позже звякнули ворота. Я глянула поверх розовых кустов. Джош никогда раньше не заходил ко мне, но у нас были общие друзья, и он знал, где я живу. Он шел к двери пружинящим шагом, его рубашка развевалась над лоскутными штанами.
Я впустила его, он прошел за мной в комнату. Все это было странно: я так отчаянно надеялась, что он придет, хотя не приходил никогда раньше, и вот он был здесь.
– Что случилось? – спросила я, стоя посреди комнаты, прямо под квадратным плафоном потолочного светильника.
– Мне показалось, ты была расстроена, – он стоял рядом, расставив ноги, выпятив грудь.
– Ты был с той другой девочкой, – сказала я.
– Она старше, – ответил он. – Учится в Стэнфорде.
– Просто… просто я не осознавала, что ты мне нравишься, а теперь слишком поздно.
– Мы просто друзья. Я не так уж хорошо ее знаю. Если честно…
– Что?
– Ты мне очень нравишься с самого первого года. С урока по жизненно важным навыкам, – признался он.
А я и забыла, что нас поставили в пару, когда учили оказывать первую помощь. Как могло случиться, что кто-то тайно вздыхал по мне все эти годы – с тех самых пор, как я только переехала к отцу, перешла в новую школу и страдала от одиночества?
Он подался вперед, стоя на одной ноге, и мы поцеловались. Все затрепетало. Лучше и не могло быть.
– Пока, – сказал он и улыбнулся.
Он вышел из дома – рубашка надулась от ветра у него на спине, – а я побежала на кухню рассказывать Кармен.
♦
– Кем ты станешь, когда повзрослеешь? – спросил Джоша отец, когда они познакомились. Мы сидели на полу рядом с книжными полками в комнате брата, я впервые осталась наедине с ними обоими.
– Пока не знаю, – ответил Джош.
– Я знаю, – сказал отец. – Ты будешь бомжом.
Джош опустил глаза.
Когда я рассказала об этом маме, та напомнила мне, что отец, будучи школьником, и себя называл бомжом, когда она познакомила его со своим отцом, и что иногда он принимал истории из собственной жизни за идеал.
Это был комплимент, хотя и не очень было похоже на то.
Иногда, когда темнело, мы с Джошем ездили в дом отца в Вудсайде. Вокруг не было фонарей, но и в ночи видны были белый дом и молочный туман над серебристой от росы лужайкой, полого спускающейся к огромным деревьям.
– Он говорил, что построит горку оттуда сюда. Прямо к бассейну, – сказала я, указывая на него рукой. – Но так и не построил.
Ни спальня, ни постель ничуть не изменились с последней среды, когда я оставалась ночевать у отца. Матрас все так же лежал на полу у телевизора. На комоде стояла в рамке фотография отца и Тины – с какой-то вечеринки. Тина была в длинном черном платье. Вспоминая о ней, отец говорил с ностальгией, что она никогда не носила платьев. Но фотография говорила об обратном. Из шкафа исчезли костюмы.
– Иди за мной, – велела я Джошу.
Я сняла обувь и с гиканьем побежала вниз по росистому склону – к необъятным дубам. Вокруг не было ни души. Пахло стручками кардамона, почками эвкалипта, древесной корой, водой и перцем. Низко над головой висело тяжелое от звезд небо. Некоторые звезды были тусклыми и расплывчатыми, другие – яркими и отчетливыми.
– Он купил этот дом из-за деревьев, – произнесла я медленно, с британским акцентом, подражая Лоренсу Оливье.
– Я бы купил его из-за самого дома, – сказал Джош.
Мы оглянулись и смотрели теперь на белые арки, залитые белым, как соль, лунным светом. Одинокие и суровые – от их вида пробирала дрожь.
– Я тоже, – ответила я. – Но он говорит, что дом – гадость.
Дубовые листья устилали батут. Мы влезли на него и стали прыгать. У батута не было стенок. Мы сталкивались в воздухе.
– А что там?
Там был дом поменьше, тоже принадлежавший отцу и пустой. С батута видны были его белые очертания и холмы за ним.
– Семь акров, – сказала я с британским акцентом.
Если мы не ехали в Вудсайд, Джош в сумерках приезжал к дому на Уэверли-стрит и осторожно, чтобы не звякнула калитка, заходил во двор. Прокравшись через розовые кусты к дому, он влезал в окно моей комнаты, потом в мою постель. Его руки были ледяными, потому что он ехал с опущенными окнами. Он оставался со мной до раннего утра, а потом тайком выскальзывал через окно или раздвижную стеклянную дверь и ехал домой.
– А что если мы обнаружим, что Джош приезжает каждую ночь? – спросил как-то отец за завтраком. – И забирается в окно.
Я сглотнула, но ничего не сказала, и он больше об этом не упоминал. Я убедила себя, что он мог ничего и не знать.
– Вы с Джошем устраиваете свидания в доме в Вудсайде? – спросил он несколько дней спустя.
Нас разоблачил недавно нанятый садовник из Австралии. Я не знала того, а он жил в доме и как-то ночью, услышав музыку, обнаружил нас в пустой комнате на втором этаже. Никто не сказал мне, что дом был обитаем. Я раздумывала, стоит ли соврать или, может быть, сказать, что это было всего один раз. Но если бы отец не стал противиться нашим свиданиям, я получила бы огромную свободу, и ради нее стоило рискнуть.
– Да, – ответила я. – Ты не возражаешь?
– Наверное, не возражаю, – ответил он.
– Это случилось, – сообщила я. Мы с отцом сидели рядом на краю моей кровати. – Я на последней базе.
Мне было семнадцать, и я была в выпускном классе.
– Все прошло хорошо? – спросил он.
– Да.
Я не стала рассказывать ему, что сначала неправильным был угол, и оттого мы решили, что близость между нами невозможна, что наши тела несовместимы, что их части не соединяются так, как должны.
Иногда после уроков, среди свободной недели, что выдавалась между двумя номерами газеты, мы с Джошем ездили в заповедник «Винди-Хилл». Он поднимался над смотровой площадкой, откуда открывался вид на город, – среди холмов, с одной стороны широких желтых и мягких, словно верблюжьи горбы, а с другой – похожих на расстеленное по ветру одеяло, до самого Тихого океана. Под нами лежал игрушечный город, тишину вокруг нарушало лишь пение ветра, клонящего к земле высокую траву. Ясный день, красота, которая не умещалась в груди, стеклянный воздух, ощущение великой свободы и благодати: мир открывался перед нами. Я смотрела на север и видела, как вдалеке сверкает Сан-Франциско, видела так отчетливо, будто он был совсем рядом. Как в том сне, где мы вдвоем летали над землей: он был одновременно близко и далеко. Наверное, так преломлялся свет на своем пути от наших холмов к тем, что окружали большой город.
Также теперь, когда у меня был Джош, я видела своих родителей. Хотя нельзя было сказать, будто меня совсем не беспокоило то, где мама будет брать деньги, что отец насмехается надо мной, что случится, когда он поймет, что я и вправду собираюсь уехать, поступив в колледж. Но я парила надо всем этим, не чувствовала, как все это давит и колет. Теперь Джош отвозил меня к врачу, помогал переезжать из дома в дом. Он путал дни, забывал о домашних работах, о том, что записан к стоматологу, и о том, что договорился о встрече – только если это не встреча со мной. Когда мы ехали куда-то в его сине-зеленой машине с розовой полосой, я чувствовала, что я в безопасности.
После весенних дождей, когда сквозь комья земли под дубами и эвкалиптами вокруг Стэндфордского университета стала пробиваться трава – длинные изумрудные стрелки, похожие на кошачьи усы, позолоченные весенним солнцем, – в голове вертелась мысль: «Это мой город». Я шла из школы домой и видела, как сменяют друг друга времена года. Раньше это был город отца, город мамы, город, куда я попала случайно и с тех пор постоянно переезжала с места на место. Теперь я была влюблена, и земля вокруг казалась многомерной, сложной, полновесной – она принадлежала мне.
♦
В обеденный перерыв я ходила в кабинет миссис Даас, женщины с короткими седыми волосами. Она возглавляла школьный отдел, который контролировал поступление учеников в университеты, и у нее можно было полистать папку со списками принятых. Меня интересовали списки Гарварда. Страшного, огромного, далекого и ускользающего. Это была самая весомая организация из всех, что приходили на ум. К тому же я приняла решение, а значит, неуверенности не могло быть места. Выбор сделан – не за чем искать что-то еще и сомневаться. Поступление в Гарвард казалось правильным шагом, но не для меня – я не знала, что правильно именно для меня, не пыталась загадывать так далеко, – а в некоем глобальном смысле. Ежегодно туда поступало несколько человек. Под своими именами ученики вписывали названия университетов, где учились их родители, и я прочла их все в поисках хоть одного имени, одного ребенка, чьи родители не учились бы нигде.
Я оплатила занятия по подготовке к тестированию академических способностей, необходимому для приема в вуз. Я ездила туда на велосипеде по утрам в субботу. Родителям я ни о чем не рассказывала, хотя они знали, что я поступаю в университет. Похоже, они не знали, что нужно предпринять для это, и не задавали вопросов.
Я подала заявку на раннее поступление. К бумагам нужно было приложить открытку с маркой и своим адресом. Я тайком пробралась в кабинет Лорен и стащила симпатичную открытку из набора черно-белых фотографий Картье-Брессона. Мне нравились эти открытки – хотелось, чтобы заявка демонстрировала мой хороший вкус. Меня разоблачил почтальон: украденная открытка пришла по почте домой. Но меня больше беспокоило впечатление приемной комиссии, чем опасность быть пойманной.
Отец уехал по делам, поэтому я подделала его подпись на заявке.
Когда выдалось несколько праздников и выходных кряду, я полетела в Нью-Йорк, чтобы посмотреть на колледжи, и остановилась у Моны. Мама не смогла бы позволить себе такое путешествие, у отца не было времени. В любом случае в университетах Мона разбиралась лучше их обоих.
Она жила в Верхнем Вест-Сайде, в квартире с рядом круглых окон, обрамленных панелями из грубого дерева и выходивших на Риверсайд-парк. Внутри радиаторов что-то позвякивало.
Мона показала мне Колумбийский университет, где училась сама. Потом мы съездили в Принстон – она хотела, чтобы я поступила туда, – и в Гарвард. Я устроила все так, чтобы пройти собеседование в приемной комиссии тогда, на месте, а не с представителем университета дома, в Калифорнии. Решила, что близость к заветному университету повысит мои шансы на поступление.
Двое моих знакомых, которые учились в Гарварде, предупредили, что это, возможно, не лучший выбор. Доктор Ботштейн из генетической лаборатории при Стэнфорде, где я проработала два лета, рассказал, что его не приняли в неофициальные студенческие клубы из-за того, что он еврей.
– Я не отговариваю тебя туда поступать, – предупредил он, – просто предлагаю еще раз подумать.
Я тогда не могла представить ни того, что меня примут, ни уж тем более того, что передумаю.
Второй знакомый, доктор Лейк, сказал, что Гарвард показался ему излишне строгим, похожим на серьезное государственное учреждение. Ему было одиноко, и только поступив в медицинскую школу при Чикагском университете, он почувствовал себя счастливым.
Я не поверила ни одному из них: оба учились там очень давно. Я знала, что было для меня лучше – так мне казалось, – хотя почти ничего не знала о Гарварде. Мне нужно было не счастье, а то, чего они, может быть, не поняли бы: одобрение, повод для побега. Гарвард, думала я, сделает меня достойной чего-то. Существования. Казалось, никто не в силах был осознать, как сильно мне нужно было попасть в то место, о котором я так мало знала.
Мы с Моной приехали в Гарвард ясным осенним днем, холодный воздух обжигал щеки. Тот день, впрочем, был ничуть не более холодным и ничуть не более прекрасным, чем те, когда мы осматривали Принстон или Колумбийский университет. Мысль о Гарварде, его имя, благополучие и успех, которые в моем уме прочно были связаны с ним, – все это придавало благородства его зданиям, газонам, деревьям. Он сиял, он был безупречен.
В приемной администрации университета – стены цвета топленого молока, голубой ковер – было слишком натоплено и пахло краской. На стульях рядом со мной сидели другие потенциальные студенты. На мне были черная юбка и черные колготы.
Я нервничала. Да, в старших классах у меня не было ни одной оценки ниже, чем «отлично», но они доставались мне ценой тяжкого труда. Я получила высокий балл за тестирование академических способностей – высокий, но не заоблачный. Поэтому от собеседования многое зависело.
– Лиза?
Услышав свое имя, я встала.
– Следуйте за мной, – произнесла высокая темноволосая женщина и повела по коридору в маленький, тускло освещенный кабинет. У нее был скучающий вид. Было не похоже, что я очаровала ее: наоборот, мое присутствие, казалось, ее раздражало.
– Пожалуйста, расскажите немного о ваших интересах помимо школьных предметов, – сказала женщина.
Она никак не сослалась на мое мотивационное письмо, как будто вовсе его не читала.
– Надо подумать, – ответила я. – Я много в чем участвую, наверное, как и большинство абитуриентов.
Я хотела показать, что понимаю – несмотря на великие достижения я обычный человек; что нисколько не горжусь ими; что меня даже немного смущает длинный перечень моих внеклассных занятий, который я заготовила единственно для этой минуты.
– Я прокурор школьного дискуссионного клуба и главный редактор школьной газеты, в создании которой участвуют 80 человек, – продолжила я, опустив тот факт, что, помимо меня, в редакции было еще три главных редактора. – Я учу японский с тех пор, как побывала в Японии с классом, потом с отцом. У него там были дела. Он же устроил меня в лабораторию при Стэнфорде, где я проявляла снимки клеток дрожжей с электронного микроскопа и участвовала в масштабных экспериментах по добавлению в клетки векторов ДНК.
Я рассказывала об этом так, будто руководила экспериментами, а не исполняла указания, будто действительно была увлечена хоть одним из этих занятий, кроме газеты, будто живо интересовалась дрожжами и японским, будто рассматривала их всерьез, а не как очки в свою пользу там и тогда, будто не собиралась бросить их, как только попаду в Гарвард.
Я выпрямилась в кресле, положила ногу на ногу. Отца я упомянула как будто невзначай.
Я собиралась воспользоваться им. Он было моим единственным преимуществом, помимо оценок и внеклассных занятий.
– И чем занимается ваш отец? – вежливо спросила она.
Я изобразила сомнения и метания, приподняла брови, как будто в намерении сказать: «А, он?» Перевела дыхание, как будто не ожидала, что разговор примет такой поворот.
– Он создал компьютерную компанию, – ответила я. – Изобрел компьютер, который называется «Макинтош», – объяснила я, будто бы та женщина никогда не слышала о таком.
В следующую минуту женщина встала, на ее лице отразилась тревога.
– Извините меня, – сказала она. – Я на минутку.
Она схватилась за ручку и выскочила из комнаты, закрыв за собой дверь, как будто неожиданно вспомнила, что у нее срочное дело.
Это было слишком предсказуемо. Неужели все действительно случается вот так? Она убежала, чтобы остановить тех, кто собирался отклонить мою заявку? В другой комнате сидели другие члены приемной комиссии и листали анкеты тех, кто проходит собеседование?
Несколько минут спустя она вернулась. Не объяснила, где была и почему убежала, но голос звучал добрее, и слушать меня она стала внимательнее. Задала еще несколько вопросов, которые я не запомнила, и на том наш диалог завершился.
Когда я вышла, у меня пылали щеки.
Дома, дожидаясь вердикта приемной комиссии, я каждый день надевала вельветовое – на удачу. Наряжалась с головы до ног: вельветовые штаны, вельветовая рубашка. Штаны были глубокого зеленого цвета, в широкий рубчик; рубашка – цвета индиго, с карманами и на пуговицах, рубчик на ней был тоньше. И то и другое было бархатистым на ощупь. Обычно я носила эти вещи по отдельности, когда сдавала важный тест или ждала его результатов.
На той неделе мы готовили новый номер, трое из четверых главных редакторов подали ранние заявки на поступление в Гарвард. Мы пообещали друг другу, что не будем звонить и узнавать, приняли ли нас, пока не отправим в печать номер. В Гарварде была горячая линия: можно позвонить и узнать, принят ли ты. Об этом нам рассказала Ребекка, и спустя несколько дней сама нарушила обещание: позвонила, узнала о своем поступлении, рассказала Николь. После этого я тоже стала звонить со школьного телефона, но там все время было занято.
Была еще вероятность, что письмо о зачислении или отказе придет по почте. Поэтому мои вельветовые одежды не только должны были помочь мне дозвониться, но были одновременно и мерой предосторожности: в любой день я могла прийти домой и обнаружить на кухне почту из университета, и важно было быть одетой в счастливый комплект. В результате я четыре дня подряд проходила в одном и том же.
В четверг я решила, что позвоню в ту же минуту, как заработает горячая линия. Поставила будильник на 4:30. Телефон приемной комиссии начинал работать в 7:30 по бостонскому времени.
Голос женщины на том конце провода звучал сдержанно и официально. Она спросила мою фамилию и велела подождать.
– Поздравляю, – сказала она, снова заговорив.
На этот раз ее голос прозвучал тепло и даже с облегчением, как будто она тоже боялась, что придется ответить нет.
Я не сразу поняла, что она имеет в виду.
– Погодите, – сказала я.
Она засмеялась.
– Вы зачислены в Гарвард, выпуск 2000 года, – фраза была протокольной, но звучала так, словно женщина по ту сторону провода произнесла ее от чистого сердца.
– Спасибо, – ответила я. – Спасибо большое.
Я встала с постели, обулась, схватила свитер и вышла в пижаме под рассветное небо, в голубую вуаль, укрывшую город. Свет падал на дома, лужайки, машины, но они казались неживыми, застывшими, как декорации. Ничто не двигалось, только я. Мое ликование растворилось во влажном воздухе, как поглощает звук шагов мокрая трава. Округа затихла и затаилась – я скоро покину все это. От этой мысли все сделалось плоским, как рисунок в книге. Я прошла мимо дома Кевина и Дороти. Все спали. Пока я шла, на крыльце некоторых домов потух свет – наверное, сработал таймер, – зашипели разбрызгиватели на лужайках.
Я вернулась в дом, вбежала в свою комнату и вырвала несколько листов из тетради в линейку. МЕНЯ ВЗЯЛИ МЕНЯ ВЗЯЛИ МЕНЯ ВЗЯЛИ МЕНЯ ВЗЯЛИ, написала я. Я приклеила листки на окна в коридоре.
Спустя какое-то время я услышала, как отец с Лорен зашевелились наверху. Я ждала, все еще в пижаме, расхаживала по коридору. Они стали спускаться – сначала отец, потом Лорен. Я затаила дыхание.
– О! – воскликнула Лорен.
– Что такое? – спросил отец. – Куда взяли?
– Динь-динь, – ответила Лорен. – Она поступила в Гарвард.
– А, – произнес он. – Точно.
Вскоре мне предстояло переехать к маме.
Подойдя к лестнице на второй этаж, я позвала брата. На четырехлетие я подарила ему синий атласный плащ с серебряными звездами и гофрированным воротником. К нему прилагались остроконечная шляпа волшебника и деревянная волшебная палочка.
– Рид? – позвала я.
Ответа не последовало. Мне показалось, что сверху донеслось тихое шебуршание.
– Глинда? – позвала я тогда.
Это было одно из имен Рида, наряженного в костюм волшебника.
– Эсмеральда? Валенсия?
– Да? – донесся сверху тоненький голосок. – Я Валенсия.
Я поднялась к нему и увидела, что он затеял какую-то выдуманную на ходу игру.
– Мне нужно с тобой поговорить, – сказала я, усаживаясь рядом с ним на пол. – Скоро я стану все время жить у моей мамы.
Рид не слушал: он повернулся ко мне, но смотрел в другую сторону.
Мама предложила мне превратить тот серьезный разговор в сказку.
– Жили-были принц и лягушонок, – начала я. – Я не знала, почему сделала себя лягушонком. – Принц любил лягушонка, а лягушонок любил принца больше, чем любого другого принца. Они были лучшими друзьями. Но однажды лягушонку пришлось вернуться в свое королевство.
Рид завороженно прислушался.
– Почему ему надо было уйти? – спросил Рид.
– Там были другие лягушки. Страна лягушек. И он очень давно там не бывал. Но, понимаешь, лягушонок любил принца. Он уходил не потому, что разлюбил, просто у него были свои причины.
Сказка получилась корявой, бессюжетной, но Рид, казалось, не возражал и требовал продолжения.
– Но ему надо было уйти?
– Да, – ответила я. – Потому что ему нужно было домой, к другим лягушкам.
В тот же год, позднее, когда я уже переехала к маме, родилась моя сестра Эрин. У нее были большие и глубокие глаза, темные волосы, линия которых под острым углом изгибалась на лбу. Если она не спала, когда я заходила в гости, я брала ее на руки и гладила ее лоб – от бровей к волосам. Стоило один раз провести пальцами, как она чудесным образом засыпала. Несколько месяцев до ее рождения отец провел в поездках по Европе по делам своей компании Pixar, которая готовилась стать публичной. Он вернулся домой с ворохом детских платьиц из дорогих магазинов, и когда Эрин появилась на свет, шкаф уже был заполнен платьями самых разных цветов: белыми, пурпурными, золотыми.
Из Гарварда прислали форму, ее нужно было заполнить, чтобы университет мог распределить новых студентов по комнатам. Я хотела произвести впечатление общительной и легкой девчонки, чтобы меня поселили с такими же людьми. Краткую автобиографию я заключила словами: «А иногда я беру гитару и играю какую-нибудь песню». Эта фраза совсем не отражала моей скованной натуры. Когда-то я знала пару песен, но давно их забыла, и даже если я все еще могла исполнить их, то умерла бы от смущения при одной мысли, что это пришлось бы делать в присутствии других людей.
В то лето перед отъездом в Гарвард, когда я жила у мамы, отец отвез меня в Сан-Франциско, чтобы купить теплое пальто. Это была его идея, и, возможно, если бы я знала, что он сам это предложит, я не стала бы тайком собирать коллекцию одежды. Мы зашли в магазин Emporio Armani. Он занимал этаж, где некогда размещался банк; там был высоченный потолок и кафе – столики стояли на балконе, выходившем во двор. Мы остановились у галстуков, и отец ощупал их, зажав между большим и указательным пальцем. Мне нравилось, как он держал вещи. Придирчиво осматривал их, но не считал нужным делать покупку. Я беспокоилась, как всегда, когда ходила по магазинам, что моего размера уже не осталось.
Пальто висели у дальней стены, рядом с балконом и кафе. Они были не для Калифорнии, а для другой жизни.
– Как тебе это? – спросил отец.
Черное, шерстяное, с воротником и двумя рядами пуговиц, бежавших от ворота до самого низа. Оно было расклешенным, как платье. Нам потом пришлось укоротить и подол, и рукава тоже.
– Оно неплохое, – сказал отец. – Очень даже ничего.
Я согласилась, хотя и задумалась: не слишком ли оно оригинальное? И во что будут одеты другие, когда я туда приеду? То пальто походило на костюм французского мима. Отец купил его.
В тот день, когда он потратился на пальто для меня, мы почти не разговаривали. Мы отдали пальто в ателье и поехали обратно в Пало-Алто по шоссе 101. Он не стал шутить о том, что я буду работать в стриптиз-клубе «У Руби», когда мы проезжали мимо. Мне не пришло в голову, что причиной его молчания могли быть мысли о моем скором отъезде и о том, как он будет по мне скучать. Или, быть может, он думал о работе, о NeXT или Pixar. В последующие годы молчание между нами сгущалось. Вскоре он перестал мне писать и перезванивать, и я не знала, в какой момент все изменилось и почему. В тот день он смотрел прямо вперед, положив на руль обе руки, поводя плечом, потирая руль большими пальцами и стискивая зубы. Он совершал эти мелкие движения в определенном ритме, не совсем ровном, но все же механическом.
– Сейчас я научу тебя чистить туалет, – объявила мама несколько недель спустя, когда мы были дома.
Я показала ей вернувшееся из ателье пальто, и такова была ее реакция на него: вот что она собиралась подарить мне перед отъездом в Гарвард.
– Я не буду чистить туалеты там, куда еду, – сказала я.
– Может быть, – ответила она. – Но когда-нибудь будешь.
И она была права.
Кода
«Если ты чего-то желаешь, значит, время для этого еще не пришло. Когда ты получишь желаемое, у тебя больше не будет страсти, но будет время. Слабые желания сберегут от разочарования. Но ничто не сбережет лучше, чем видимость того, что ты сломлен».
Фанни Хау, «Неделимый»Я поехала в Гарвард одна за неделю до начала учебы, чтобы принять участие в походе, который устраивали для первокурсников. Было жарко и влажно. Я стояла под белым навесом в очереди на регистрацию. Когда очередь подошла и я назвала свою фамилию, женщина отвела меня в сторону и сказала, что плата за мое обучение не поступила. Она как будто сомневалась в моем праве там находиться. Я ответила, что, должно быть, произошла ошибка, но очень смутилась и вновь почувствовала себя одинокой. Мое заселение в общежитие и зачисление откладывались. Я нашла телефон-автомат и позвонила Джеффу Хаусону, отцовскому бухгалтеру. Тот сказал, что постарается во всем разобраться. На следующей неделе, когда я вернулась из похода, оплата поступила, и я въехала в свою новую комнату.
В первые три месяца учебы, до того как отец перестал отвечать на звонки и электронные письма, я непрерывно жаловалась ему по телефону, что с тех пор, как переехала в Бостон, разучилась видеть. Все здесь было плоским и стояло слишком близко друг к другу, не было простора, видов, перед лицом теснились здания, и от этого болели глаза.
– Все, что я вижу вокруг, это бесконечные дома.
– Это хорошая метафора для образа мыслей жителя Восточного побережья, – сказал он.
Когда наступила осень, я замерзла в своем новом пальто. У меня с собой была только пара хлопковых носков. Я тогда еще не понимала, как важно иметь шерстяные вещи.
Я беспокоилась о маме. Как она будет платить ренту?
– Что-нибудь придумаю, – ответила она, когда я спросила. – Не волнуйся за меня. Я всегда найду выход из положения.
Весь первый курс именно с ней я часами каждый вечер говорила по телефону – мне нужны были совет и поддержка. Я обнаружила тогда, что культура, внутри которой я оказалась, куда более чуждая, чем я ожидала; мы расстались с Джошем, и я впервые испытала боль разлуки, к которой меня не подготовили ни новое шикарное пальто, ни навык чистки туалетов.
Меня поглотила печаль.
Независимо друг от друга родители дали мне один и тот же совет по поводу нашего разрыва с Джошем:
– Тебе придется перетерпеть все свои чувства. Только так новая любовь может быть такой же глубокой и значимой, как предыдущая.
– Первое расставание будит тоску о прошлом, – сказал отец. – Это первая большая потеря. Обуздай ее.
– Сильная боль – это когда опадает и откатывается в океан большая и прекрасная волна, – сказала мама.
Другие люди говорили «Забудь о нем» или «Развейся».
Я ходила только на те занятия, что были мне интересны: на антропологию, которая проходила в дальней комнате деревянного здания, заставленного стеллажами с костями; на литературу и киноискусство, на занятия по защите прав детей и на живопись, где мы рисовали одну руку другой. Я присоединилась к редакции газеты, литературного журнала и выполняла общественные работы в местной школе.
В том году отец один раз приехал в гости. Поднимаясь за мной по лестнице в мою комнату, он сказал:
– Тебе надо бы сбросить вес.
Моей новой соседке он заявил, что ее попкорн с ароматизаторами, который она готовила в микроволновке, «дерьмо». Несмотря на вздорность, он, казалось, пребывал в меланхоличном настроении и даже предложил купить мне кожаную куртку в славном магазинчике под названием Agnès B. Я отказалась, потому что такой подарок показался слишком дорогим, слишком весомым. Он как будто имел какое-то дополнительное значение, но я не понимала, какое. Я не знала, что сказать ему, ведь мне самой было грустно и одиноко – теперь уже без него – в этом странном месте, которое должно было мне нравиться.
Когда я вернулась домой на летние каникулы, отец вел себя со мной странно, почти не разговаривал, только презрительно огрызался. Я была слишком худой. Лорен сказала подруге, что у меня анорексия. Я хотела есть, но еда из магазина на вкус казалась картонной, а готовить я не умела. Лорен все покупала мне бутерброды.
Когда я снова пришла к доктору Лейку, оказалось, что отец решил больше не платить за психотерапевта.
– Никто не вправе лишать тебя медицинской помощи, – резюмировал доктор Лейк и снизил плату до 25 долларов за сеанс, которые я могла позволить себе сама.
Летом я работала на ферме «Потайная вилла», где когда-то, много лет назад, мама учила нас рисовать. Я занималась с детьми, которые приехали изучать жизнь животных и быт фермеров.
Когда я уехала учиться, мама перестала получать чеки от Джеффа Хаусона. Она больше не могла платить ренту, не могла позволить себе дом на Ринконада-авеню, поэтому ей пришлось съехать.
Теперь она встречалась со специалистом по программному обеспечению, у которого был черный пояс по карате и с которым она познакомилась на йоге. На какое-то время, пока искала жилье, она переехала к нему. Они жили в небольшом домике в той части Менло-Парка, что находилась за официальной городской чертой. Это означало, что там не было тротуаров, только придорожные канавы, деревья росли повсюду, как попало, а не стройными аллеями вдоль дорог. Мамин бойфренд готов был приютить ее на то время, что требовалось ей для поисков, но сказал, что его дом слишком мал для троих, то есть для меня.
Как-то субботним днем она позвала друзей, чтобы собрать вещи в старом доме и подготовить их к переезду. Я тоже должна была помогать. Мама руководила нами, бегала от гаража к дому по дорожке, у которой буйно разрослась глициния, ступая то на солнечные пятна, то на тени от побегов.
– Давай же, Лиза, – сказала она.
А я склонилась над коробками, стопками книг, посуды, одежды – всеми вещами, что составляли нашу с ней жизнь, наше прошлое, – и не могла шевельнуться.
– Собирайся, – взмолилась она. – Пожалуйста.
Но я перестала понимать, что нужно оставить, а что – выбросить, что в какую коробку класть. Мои ноги будто приросли к полу. Мама махнула на меня рукой.
Ближе к вечеру, когда с коробками и тюками было покончено, я сидела за маминым рабочим столом, пока она готовила для меня, и впервые за несколько дней почувствовала себя хорошо. Я знала, что скоро смогу поесть и наесться. Мне хотелось находиться там, где она заботилась обо мне.
Но отец купил билеты на представление «Цирк дю Солей» на тот вечер. Он почти не разговаривал со мной и даже не смотрел в мою сторону, с тех пор как я приехала на каникулы, но настаивал, чтобы я пошла с ними в цирк, и требовал, чтобы я присматривала за братом. Я была подавленной и тощей, неуверенной в себе, чувствовала себя тряпичной куклой; я старалась, но была неспособна ему угодить. Я решила, что не пойду.
– Я не могу сегодня пойти, – сказала я, набрав его номер на мамином телефоне. – Прости.
– Ты должна, – ответил он.
Я не понимала, почему для него это так важно. Возможно, он хотел, чтобы я следила за Ридом, гуляла с ним по цирковому шатру.
– Мне нужно остаться, мне нужно поесть. Мама мне готовит, – сказала я.
Мама с тревогой поглядывала на меня из кухни.
– Лиз, ты ведешь себя так, будто ты не член семьи, – заявил он. – Честно говоря, мы считаем, что это очень эгоистично с твоей стороны.
– Но я хочу быть вашей семьей, – ответила я.
– Если ты не придешь, тебе нужно будет от нас съехать.
– Отлично, – сказала я и повесила трубку.
От его слов меня переполнило, перелившись через край, нежданное чувство облегчения, будто я вышла из темной каморки в открытое, освещенное ярким солнцем поле.
Сразу после этого я позвонила Кевину, соседу.
– Он велел мне съехать, – сообщила я. – Сказал, что если я не пойду с ними сегодня в цирк, то больше не смогу у них жить.
Мне нравилось, что передо мной вдруг будто расступились границы, все было дозволено.
– Как думаете, что мне делать?
– Давай-ка мы перевезем тебя оттуда, – ответил Кевин.
– Когда?
– Сегодня. Пока они в цирке.
Много лет назад он точно так же увез Дороти из дома ее отца. Он спас ее от него и женился на ней, когда они были еще совсем молодыми.
– А потом?
Он знал, что мама переезжает и мне негде жить.
– Ты можешь пожить у нас.
Этого ответа я и ждала.
* * *
Тем вечером мы с Кевином встретились в сумерках возле его дома и проехали квартал до дома отца на машине, чтобы собрать мои вещи. Я взяла бóльшую часть одежды, обуви, туалетных принадлежностей, некоторые письма и оставила диски. Я твердо знала, что отец в цирке, до которого по меньшей мере полчаса езды, но все равно опасалась, что он может вернуться в любую секунду и поймать нас. Кевин, более серьезный, чем обычно, тоже был не в настроении тянуть кота за хвост. Я побросала вещи в сумку.
Что почувствует отец, когда вернется и обнаружит, что меня нет? При этой мысли на меня всем грузом упала грусть, какой я не испытывала, когда представляла, как все случится, положив телефонную трубку. Возможно, отец не хотел, чтобы я съезжала; возможно, он отталкивал именно тех, кого боялся потерять, и не способен был удерживать в своей жизни людей, которые могли бы указать ему на этот порочный круг. А если и был способен, то все равно не стал бы их слушать.
И только спустя много лет мне пришла в голову смелая мысль: он мог чувствовать себя брошенным, даже преданным, когда я на полгода перед Гарвардом перебралась к маме, а потом и вовсе уехала за сотни километров. Это было нечестно, но вполне могло быть правдой: он столько лет пренебрегал мной, но разозлился, когда пришла моя пора покинуть его. Если бы меня спросили тогда, я бы сказала, что он ненавидит меня, что и не заметил моего отсутствия. Я исключала всякую вероятность того, что он может скучать по мне и из-за этого так злится. Я не стоила его тоски. И только когда мне было уже за тридцать, я осознала, что, возможно, именно боль от потери – меня – приводила его в ярость. Большинство родителей проводят со своими детьми годы и постепенно примиряются с тем, что те покидают их. Но для него это было ново.
Когда мне было примерно двадцать пять, отец навещал меня в Лондоне. Мы гуляли в Грин-парке и присели рядом на лавку.
– Если бы я был стариком, я бы все время проводил здесь, на этих лавочках, – сказал он, озираясь.
В то утро в парке не было стариков, и все лавочки были свободны.
– Знаешь, – сказал он после, – те годы, что ты жила с нами, были лучшими в моей жизни.
Ни с того, ни с сего. Я не знала, что ответить: для меня это было тяжелое время, и я думала, что и для него это был один из худших периодов.
– Возьми только то, что тебе необходимо, – сказал Кевин, – и оставь записку.
Я написала: «Дорогой Стив, я съехала, как ты и велел мне сделать, если я не пойду с вами в цирк. Надеюсь, ты завтра позвонишь». «Напиши, где ты будешь», сказал Кевин. «Я поживу у Кевина с Дороти», – приписала я, а ниже – их номер, а под ним: «Люблю». В ту минуту происходящее казалось менее реальным, чем когда мы обсуждали это днем. Я все надеялась расслабиться, но не настолько, чтобы Кевин решил, будто я считаю его добрый жест будничным.
Почему соседи решили мне помочь? Они давно знали, как отец обращался со мной, и им это было глубоко неприятно. Отец Дороти, который тоже был выдающимся и харизматичным человеком, вел себя жестоко по отношению к ней. У них было достаточно денег – они могли позволить себе мое спасение. Им не нравилось, что отцу сходило с рук жестокое обращение с ребенком только потому, что у него было много денег и окружающие перед ним заискивали. В последующие несколько лет я много раз спрашивала, как могу отплатить им, а они отвечали, что я должна помочь кому-то еще, когда смогу. Помочь другому ребенку.
– Давай выдвигаться, – сказал Кевин.
На моей кровати в их доме тем вечером я обнаружила поднос с посыпанными сахаром пряниками в пластиковой упаковке, травяной чай в термосе и приветственную записку от Дороти. Утром, перед отъездом на ферму, я потянула мышцу на шее, и спазм не давал мне покоя весь день. Голова не поворачивалась, я промучилась до вечера.
Отец не звонил и не отвечал на мои звонки.
Остаток лета я провела у соседей, работала на ферме, навещала мать, размышляла об отце и гадала, что у него на уме. Дороти готовила для меня. Я решила не принимать антидепрессанты, как советовал мне в начале лета доктор Лейк. Я только старалась уравновешивать все грустные мысли, которые то и дело закрадывались мне в голову, оптимистичными. Поначалу такие мысли приходили часто, потом – реже, и к концу лета самые жестокие, жалящие голоса исчезли. Я больше не была ни подавленной, ни тощей.
♦
– Я попрошу Стива купить мне дом, – сказала мне по телефону мама.
Я была уже на втором курсе.
Она все еще жила у друга в Менло-Парке, и если я приезжала на каникулы и праздники, то останавливалась у соседей.
– Он никогда этого не сделает, – ответила я.
– Буду упрашивать, пока не согласится.
У нее никогда не было своего дома. За все мое детство он так и не купил нам дом, мы всегда снимали их. Значит, если такая покупка в теории была возможна, она бы уже состоялась. Почему она решила, что сможет выпросить для себя дом сейчас, когда я больше не жила с ней, когда он не разговаривал со мной? И почему, если она способна была его убедить, она не сделала этого раньше?
Мысль о том, что отец мог купить дом – мог и раньше, – приводила меня в ярость. Хотя я и хотела, чтобы у нее было свое жилье.
Несколько месяцев спустя он согласился. Мама нашла выставленный на продажу дом в Менло-Парке, который отвечал его требованиям: расстояние от его дома до этого не превышало заданной отметки, он был дешевле 400 000 долларов. Это был деревянный дом на оживленной Аламида-де-лас-Пулгас, с тонкими стенами, двумя спальнями и милым задним двориком. Отец потребовал, чтобы он был не слишком далеко, потому что намеревался осмотреть его перед покупкой, но в конце концов заплатил за него, так и не появившись.
Летом после второго курса я получила работу в генетической лаборатории при Стэнфорде, где подрабатывала в старшей школе. Это были мои последние каникулы в Пало-Алто.
Мама готовила для нас салат из свежих листьев эстрагона и латука. Шила занавески, настрачивая полотна ткани одно на другое. Выращивала в саду помидоры и забывала поливать их, отчего листья сохли и коричневели, но плоды от этой небрежности делались слаще.
Отец все так же отказывался со мной разговаривать, но настаивал, чтобы я проводила время с братом, который по мне скучал. Я согласилась: несколько раз приходила к ним в надежде, что мы наконец поговорим, но он делал вид, что не замечает меня. Тогда я объявила, что мне нужно объясниться с ним и что я не буду сидеть с братом, пока он меня не выслушает. Но слушать он не стал и обвинил меня в том, что я бросила брата.
Однажды Кевин и Дороти заглянули к нам с мамой, когда в нашем доме царила паника. Только что звонил отец, орал на меня и требовал, чтобы я оставалась с братом, а потом прислал маме гневное письмо по электронной почте. Он писал, что я ужасная эгоистка, уклоняюсь от обязанностей по отношению к Риду. Мы с мамой пали духом и не знали, что ответить. Я стала подозревать, что, возможно, в чем-то неправа. Я все время твердила отцу, по телефону и в письмах, что с радостью увижусь с братом, но сначала мне нужно поговорить с ним.
– Я не хочу ни говорить с тобой, ни видеть тебя, – заявил он мне по телефону. – Ты отказываешься видеться с Ридом, а я люблю сына и не хочу проводить время с людьми, которые отказываются проводить время с теми, кого я люблю, – сказал он.
Дороти из-за маминого плеча стала диктовать ответ. Письмо начиналось так: «Прекрати нести чушь и фарисействовать, Стив». Мама печатала. Дороти по буквам продиктовала слово «фарисействовать». Я пришла в восторг от ее ответа и от нового слова.
♦
Я решила, что буду специализироваться на английской литературе. На третьем курсе я записалась на семинар по «Троилу и Крессиде» Чосера: профессор-чосеровед был очаровательным англичанином с неровными зубами и пучками седых волос, торчащими из ушей. Однажды Крессида бросила Троила, но он так и не смог ее забыть.
– Троил жалок, – уверенно заявила я на занятии, – потому что не может о ней забыть.
– Нет, – ответил профессор, глядя на меня добрыми глазами. – Как раз в этом его сила.
Весной, сочинив довольно душераздирающую, как мне казалось, вилланель о своих бровях и отправив ее в университетский литературный журнал, я решила записаться на прием к бесплатному психотерапевту: вписала свое имя в ее расписание против удобного часа. Это была тонкая женщина с тонким голосом, тонкими волосами, тонким лицо и тонким носом, как женщина Модильяни. На ее лице было умиротворенное выражение, рядом с ней было спокойно.
Я ходила к ней несколько раз в течение следующих недель и в предпоследний раз, в конце учебного года, рассказала о своем сне: я сидела на скале, глядя на безграничный океан, а там, вдалеке, за столом сидел отец в конусе света. Стол был плотом, и его уносило все дальше, а отец сосредоточенно смотрел на экран монитора.
– Он уйдет, – сказала она, и в ее голосе прозвучала грустная нотка. – И, может быть, когда-нибудь поймет, что поступил с тобой так же, как поступили с ним.
Я удивилась, что она так быстро поставила диагноз, и решила, что такой скоропалительный вывод не может быть правильным. Но, задумавшись об этом позже, я решила, что она права. Я считала свою семью уникальной, но, конечно, она таковой не была. Очевидность этого факта поразила меня.
Примерно в это время отец снова стал работать в Apple. Я прочла об этом в газете. На четвертом курсе, перед отъездом на практику в Лондон, я заметила в городских автобусах рекламу новых ярких iMac.
Следующим летом я осталась в Кембридже и устроилась на работу в гарвардскую туристическую компанию Let’s Go – помощником редактора путеводителя по Юго-Восточной Азии. В середине лета я получила по почте уведомление из Гарварда: там говорилось, что плата за следующий год обучения не поступила.
После того вечера два года назад, когда я собрала вещи, пока они были в цирке, отец перестал оплачивать все, кроме обучения: мои перелеты между домом и университетом, книги, другие расходы. Я могла надеяться только на то, что зарабатывала сама, и что давали мне Кевин и Дороти.
На следующий день я петляла по темному коридору подвального этажа, чтобы увидеться с заведующим отделом финансовой помощи университета. Он сидел за столом лицом к двери. В дальнем углу комнаты, за его спиной, на потолке на хватало плитки, и изоляция под ней стала отходить.
Я объяснила, что отец не станет больше платить за мое обучение, хотя у него на это были деньги.
– Вам придется отчислиться и восстановиться, когда достигнете совершеннолетия, – сказал он.
– А это когда? – спросила я, надеясь, что в двадцать один.
– Двадцать пять, – ответил он.
Я сникла.
У меня было две работы: я готовила иностранцев к тесту по английскому и работала в Комитете по развитию университета. Под словом «развитие» подразумевался сбор денег на университетские нужды с помощью рекламы и мероприятий по привлечению спонсоров.
Я предполагала, что кабинет заведующего отделом финансовой помощи будет похож на кабинет Комитета развития – и здесь, и там имели дело с деньгами. Но и та комната, и сам заведующий выглядели запущенными, словно пытались донести, что у Гарварда не так много средств, как можно подумать. Меня разозлил этот человек, он говорил слишком формально. Ведь должен же быть хоть какой-то выход из ситуации. Университет точно захочет выручить меня, удержать меня – так я рассуждала. А на деле Гарвард нанял этого служащего, чтобы тот рассказал мне, что никому это вовсе не нужно.
– Чтобы получать финансовую помощь, нужно быть нуждающейся, – резюмировал он.
Финансовый статус отца лишил меня возможности притязать на помощь.
– То есть мне остается просто отчислиться? И Гарвард ничего не может сделать, чтобы я осталась?
– Совершенно верно, – ответил он. – Абсолютно ничего.
Когда Кевин приезжал в Бостон по делам, он водил меня поужинать. Я любила эти дни, потому что тогда чувствовала себя не такой одинокой, и мне казалось, что я такая же, как и те, кто иногда ужинает со своими отцами. Хотя Кевин и не был мне отцом. Но иногда он даже сравнивал себя с моим отцом, указывая на его недостатки.
– Может, он и ездит на хороших машинах, – говорил Кевин, – но водитель из него никудышный.
Хороший водитель, по словам Кевина, должен ехать так, чтобы пассажиру было комфортно, чтобы он не чувствовал ни скорости, ни переключения передач. Если это было правдой, то отец не обладал подобным навыком. От его манеры водить у меня в животе все скручивалось в тугой комок. Его заносило на поворотах. До успеха отца в Pixar и его возвращения в Apple Кевин повторял, что он плохой стратег, что дела в NeXT шли плохо – хуже, чем многим казалось. Об этом, по словам Кевина, можно судить по тому, что отец перестал покупать вещи. Я слушала и кивала. Но отец и так редко что-то покупал, особенно если сравнивать с другими богачами. Все его недостатки никак не преуменьшили его значимости в моих глазах, я все так же беспокоилась о нас. И пусть он был худшим руководителем и водителем в мире.
– Он тебя не любит, – сказал Кевин. – Любовь – это поступки.
– Может быть, ты и прав, – ответила я, задумавшись над его словами.
Это было как удар в грудь. Но в конечном счете мне стало легче: кто-то наконец назвал вещи своими именами.
– Как посмел Кевин такое сказать. Он тебя любит, – сердилась по телефону мама, когда я рассказала ей.
– Но любить – это глагол, – ответила я. – Разве это не имеет значения?
– Не имеет, – сказала она.
Я подумала, что, может быть, она просто не знает. Я пригляделась к этой мысли. Он не любит меня, поэтому так себя ведет.
Простая истина.
Кевин и Дороти оплатили последний год моего обучения.
Мама говорила, что хотела ради меня продать свой новый дом, но не смогла найти покупателя так быстро. Еще она рассказала, что видела во сне огромного, сверкающего золотом ангела – он стоял за спиной соседей. Я знала, что такое невозможно, но благодаря этому образу мне легче было принять подарок: я могла представлять, что деньги посылает мне ангел – через Кевина и Дороти. Перед ними обоими я была в неоплатном долгу, и это была уже не фигура речи.
Временами я мечтала, чтобы наши соседи, ответственные и надежные, были моей настоящей семьей: мне хотелось заслужить такую семью, а им приятно было бы служить мне примером, могло понравиться то, что я видела их в героическом свете. Они часто подшучивали надо мной и показывали мне, как живут нормальные люди, как общаются члены семьи, почему нельзя перебивать, какие вопросы считаются грубыми, как дать отпор хаму и что думать о тех, кто лебезил перед моим отцом и Лорен, но не замечал меня. Мне хотелось то быть в точности похожей на них, то быть самой собой – но чтобы они оставались моими родителями и не чаяли во мне души. Какое-то время все мы, я думаю, были одержимы мечтой стать настоящей семьей.
Мама позвонила другу и спросила, что он обо всем этом думает.
И друг ответил:
– Лиза поймет, что не может заменить одних родителей на других, а Кевин и Дороти осознают, что не могут купить себе дочь.
♦
Я давно решила, что на последнем курсе по обмену уеду учиться в Королевский колледж Лондона; Кевин и Дороти настаивали, что отказываться от этой идеи мне не стоит.
В том году окончили сборку Лондонского глаза на речных понтонах, и он поднялся над поверхностью воды. Это было совсем рядом с моим общежитием.
К концу моего обучения за границей я стала встречаться с британским юристом – у него были светлые волосы, которые он нарочно ерошил.
– Ты должна пригласить отца на выпускной, – сказал он.
– Ни за что, – ответила я.
Я рассказала ему, как отец со мной поступал.
– Но это же твой отец, – возразил он.
Мой юрист продолжал давить: доказывал, что неважно, как поступал отец, – он все равно оставался отцом, что некоторые отцы ведут себя еще хуже, но их все равно нужно приглашать на значимые события, и что если я не приглашу его, то потом пожалею, когда ничего исправить уже будет нельзя. Я колебалась, но в конце концов послала отцу и Лорен записку и два приглашения.
Кевина и Дороти, которых я тоже пригласила и которые собирались присутствовать, глубоко уязвило то, что я позвала отца после всего, что они для меня сделали и чего не сделал он. И они не пришли.
Мама беспокоилась, что не сможет позволить себе поездку, но в последнюю минуту ее пригласили консультантом в Hewlett-Packard. Она взяла себе билет на самолет, забронировала номер в отеле и купила ослепительное черное платье из хлопка, которое расширялось и усложнялось книзу, напоминая парашют.
Впоследствии, вспоминая тот день, отец несколько раз говорил:
– Твоя мать была так грациозна.
Он не знал того, что знала я: в разговоре с ним она тщательно взвешивала слова, не произносила больше 25 за раз. Она говорила с ним осторожно и аккуратно, чтобы не сбиться со счета и не превысить лимит.
Отец и Лорен проскользнули сквозь ворота дома Уинтропа – те, что были со стороны реки; я как раз шла по ковровой дорожке, чтобы получить диплом. С дипломом я подошла к маме, они стояли рядом с ней.
– Я не верю в генетику, – ни с того ни с сего произнес отец, когда мы обменялись приветствиями. Иногда он делал подобные заявления. А иногда, наоборот, говорил о том, какое значение имеют гены. Я не знала, что ответить.
– Что собираешься делать дальше? Нашла работу? – спросил он.
Мне было почти стыдно рассказывать: я знала, что он не уважал банковское дело, называл его «короткой прямой дорожкой». Да и сама я придерживалась того же мнения. Я сжалась, воображая, что он обрушится на меня.
– Скажи ему, – подтолкнула мама, и я пробормотала, что вскоре начну работу аналитиком в лондонском банке. Это было неподходящее занятие для филолога, и я чувствовала себя неловко, готовясь окунуться в житейскую суету. Я стану одной из тех, кого отец высмеивал. Но «Шредер Соломон Смит Барни» поможет мне получить визу, позволяющую жить и работать в Лондоне. Я смогу себя обеспечивать.
После выпускного я видела отца в лучшем случае раз в год. Пока я училась, родилась моя самая младшая сестра Ева, но в журнальных статьях, которые мне попадались, и в его биографии на сайте компании было сказано, что у него трое детей, а не четверо. Он бывал замечательным, а потом вдруг говорил что-то жестокое, поэтому его присутствие тяготило меня, и я не горела желанием видеться чаще.
Через несколько недель после выпускного мама попросила Кевина и Дороти составить полный список их трат на меня, включая перелеты, книги, каникулы, одежду. Почтой она послала его отцу, и он все им вернул.
♦
Когда мне было двадцать семь, я работала уже не в банке, а в лондонской студии графического дизайна. Отец пригласил меня в круиз на яхте по Средиземному морю – с ним, Лорен, братом, сестрами и их няней. Он позвал меня на выходные, но по прошествии этого времени уговорил остаться еще на несколько дней. Когда и они истекли, он снова попросил меня остаться. В конечном счете я пробыла с ним и семьей так долго, как только могла, – почти две недели. Когда мы шли вдоль побережья на юге Франции, отец объявил, что мы причалим в Приморских Альпах, чтобы пообедать с другом. Что это за друг, он не сказал. Мы доплыли до пристани на лодке. Там нас подобрал фургон, и мы поехали на виллу в Эз.
Как оказалось, это была вилла Боно. Он вышел нам навстречу: джинсы, футболка и те самые очки, в которых я видела его на фотографиях и обложках альбомов. Он был простым, и он был добрым – при общении с ним не возникало неловкости, как с другими знаменитостями.
Он показал нам дом – с восторгом, как будто не мог до конца поверить, что все это принадлежит ему. Окна выходили на море, по комнатам были разбросаны детские вещи. В пустой восьмиугольной комнате, полной света, по его словам, однажды ночевал Ганди.
Мы обедали на большом балконе с видом на море, под навесом, защищавшим от солнца. Я сидела далеко от отца, который занял место во главе стола рядом с Боно. Еду подавали официанты.
Боно спросил отца о том, как начиналась компания Apple. Горели ли глаза у его партнеров? Чувствовали ли все они, что создают нечто значительное, что изменит мир? Отец ответил, что действительно испытал все это, когда работал над компьютером «Макинтош». Боно признался, что и он, и его группа ощущали то же, и что это поразительно, как люди, занятые совершенно разными вещами, проходят через одно и то же. Потом Боно спросил:
– Так что, первый компьютер назвали «Лизой» в честь нее?
Повисла пауза. Я сжалась, готовясь в очередной раз услышать его «нет».
Отец долго смотрел в тарелку, колеблясь, потом поднял взгляд на Боно.
– Да, – ответил он.
Я выпрямилась на стуле.
– Так я и думал, – сказал Боно.
– Ага, – ответил отец.
Я пристально посмотрела на его лицо. Что изменилось? Почему он признал это сейчас, после всех этих лет? Конечно, он был назван в честь меня, подумала я тогда. Его ложь и оправдания стали казаться нелепыми. Я почувствовала, как наполняюсь новой силой: я расправила плечи и подняла голову.
– До этого он всегда это отрицал, – сказала я Боно. – Спасибо, что спросили.
Как будто для откровения одной знаменитости необходимо было присутствие другой.
♦
Несколько лет спустя я обосновалась в Нью-Йорке. Однажды, когда я приезжала в Пало-Алто навестить отца, мы пошли есть суши, вдвоем.
Я уже знала, что у него рак. Он был очень худым.
За прошедшие несколько месяцев в Нью-Йорке ко мне часто возвращалась мысль, что я должна сказать ему что-то хорошее, пока не поздно, хотя и не понимала еще, насколько тяжело он болен. Я верила, что он скоро поправится.
– Знаешь, хорошо, что ты говорил со мной о сексе, – сказала я.
Секс был самой легкой темой для беседы с ним. «Когда ты вставляешь вагинальный колпачок, – наставлял он меня в старшей школе, – у тебя есть время на себя. Время подумать еще раз, чего ты хочешь». Он не требовал, чтобы я принимала таблетки, и не беспокоился в открытую, что я могу забеременеть, а показывал, что доверяет мне, считает меня благоразумной, даже мудрой.
– Ты никогда не пытался меня пристыдить, – сказала я.
– Да. Да! – воскликнул он.
Он едва сдерживал себя: он сидел рядом со мной, и его тонкие ноги беспокойно двигались. Мотор в машине был заглушен – мы уже приехали к суши-бару в торговом центре.
– К этому я и стремился, – сказал он. – И знаешь что? Я был первым человеком, которому ты рассказала, что потеряла девственность! – воскликнул он. – Это было здорово. Так много для меня значило.
А я и не вспомнила, если бы он не сказал.
– Я знаю тебя лучше, чем девочек, – сказал он, когда мы вышли из машины и направились к ресторану. Я не знала, что ответить: меня ошеломило это утверждение, ведь я познакомилась с ним так поздно, а они знали его всю жизнь. Это не могло быть правдой, так я решила.
Вечером я зашла к нему в спальню наверху – он пересматривал старые серии «Закона и порядка». Он отрывисто спросил, не поднимаясь с постели:
– Собираешься обо мне написать?
– Нет, – ответила я.
– Хорошо, – произнес он и снова уставился в телевизор.
Мама заболела – синуситом, но мы не сразу распознали его. Она неважно чувствовала себя, поэтому не ходила на работу, и ей нечем было платить ренту. Дом на Аламида-да-лас-Пулгас она продала несколько лет назад, против моей воли, а на вырученные деньги жила и путешествовала, пока они наконец не закончились. В отчаянии я позвонила родителям подруги из «Нуэвы», и те разрешили маме несколько месяцев пожить в их пустующем доме в Сан-Франциско. Другие друзья ссудили денег, чтобы оплатить операцию – от нее мамина щека раздулась, будто ее ужалила пчела.
Несколько недель спустя я навестила отца в больнице в Мемфисе, ему только что пересадили печень. Он оказался там, потому что у них был донорский орган. Они с Лорен прилетели туда поздно вечером на частном самолете. Однажды, когда ему нужно было в туалет, медсестра попыталась выпроводить меня из палаты.
– Она может остаться, – сказал отец и при мне помочился в пластиковую утку под больничным халатом, не прекращая нашего разговора – будто и секунды не мог провести без меня. Его палата состояла из двух комнат: в одной стояла кровать, а другая была чем-то вроде маленькой приемной, там были диван и пластиковые стулья с металлическими ножками, как в начальной школе. Чтобы посидеть у кровати отца, нам приходилось постоянно передвигать стулья, с лязганьем отталкивая из прохода лишние. Когда мы все – я, мачеха, тетя – сидели в той комнатке со стульями, отец вдруг стал задыхаться, его лицо побагровело. Мы запаниковали, пытаясь разобраться, что случилось. Я нечаянно глянула вниз и с ужасом обнаружила, что ножка моего стула передавила его трубку с кислородом. Я дернула стул в сторону, и он снова задышал.
♦
Менее чем через год после трансплантации – отец уже был дома, на Уэверли-стрит – рак распространился на бедренную кость и внешнюю сторону кишечника.
– Как это называется? – спросила я медсестру по имени Элам.
– Поверхностная фасция, – ответила она.
В моем воображении возник полупрозрачный мешок, удерживающий все его внутренности. Отчего-то этот комок светился в темноте, как медуза или городские огни, на которые смотришь ночью из самолета. Внутри сияющего контура была темнота. В больничных документах отец значился как Джонни Эйт. Иногда он рассасывал леденцы с морфином. Когда лежал в постели и спал, то под определенным углом походил на груду желтых костей. Он больше не мог ходить.
– Ему не больно, – заверила меня Элам.
Если верить МРТ, рак не затронул его мозг.
Когда я приезжала в предыдущий раз, он все еще ел по чуть-чуть. (Он был по-прежнему привередлив: если манго разных видов соприкасались в тарелке, он отворачивался и отказывался есть). Теперь же он принимал только жидкую пищу – это называлось полным парентеральным питанием, оно вводилось ночью внутривенно. 150 калорий в час – слишком мало, чтобы набрать вес.
Через несколько месяцев после того визита, когда он сказал, что я пахну туалетом, я все еще, проходя через дом, клала в карман разные мелочи. Я позвонила маме, чтобы рассказать об этом. Хотела, чтобы она оправдала меня. Чтобы сделала для меня исключение, разрешила мне красть – только мне и только тогда. Чтобы она сказала: «Милая, ты можешь оставить себе все, что пожелаешь».
Но она сказала:
– Ты должна их вернуть. Это важно. Ты не должна воровать. Это как было с Персефоной, – это было вполне в ее духе, приплести какой-нибудь миф. – Помнишь, как она съела гранатовые зернышки?
Я помнила, что Персефона спускалась в мир мертвых и ей нельзя было ни к чему прикасаться. Но она не удержалась и поела гранатовых зернышек. И тогда в наказание ей пришлось проводить там часть года. Так у нас появилась зима. Я попыталась вспомнить, сколько зернышек она съела.
– Неважно сколько, – сказала мама. – Суть в том, что она съела зернышки и из-за этого не могла выбраться. Она украла нечто из мира мертвых, вкусила это и так связала себя с ним.
– И?
– Если ты не вернешь вещи, ты будешь связана с этим домом. Это не освободит тебя, а наоборот.
Конечно, история Персефоны была еще и историей о матери с дочерью, и о том, как земля лежала голой в те месяцы, что Персефона проводила в мире мертвых, – из-за тоски матери по ней.
Я стала возвращать украденные вещи партиями: их было слишком много, чтобы отнести все сразу. Чашки я завернула в наволочки, чтобы те не звенели на ходу. Блеск для губ положила на полку в ванной, крем – в шкафчик наверху, обувь – в шкаф. Оказалось, что возвращать украденное так, чтобы не попасться, не менее сложно, чем воровать.
Во время моих посещений отец, казалось, не интересовался мной, попросил выйти из комнаты, чтобы посмотреть с братом фильм. Он больше не мог ни ходить, ни есть, но я наивно верила, что он проживет еще долгое время. Он болел так давно, что я не заметила, когда болезнь превратилась в умирание. Я избегала его комнаты, только иногда заставляла себя заглянуть к нему, но и тогда надеялась, что он спит. Каждый раз, уезжая, я думала, что, может быть, больше не приеду, потому что все это казалось пустым, не приносило удовлетворения.
Но месяц спустя он прислал мне сообщение на телефон – обычно он этого не делал, – в котором просил приехать к нему на выходные, когда Лорен с детьми будут в отъезде. Из аэропорта Сан-Франциско я поехала в Пало-Алто на поезде.
Воздух на платформе был свежим, свет резал глаза. В Нью-Йорке воздух был пресным, он редко пах чем-нибудь, а если и пах, то чем-нибудь одним: дождем, мусором, духами или смогом. Здесь ветер был прохладным, он нес в себе воду. Туман клубился над холмами, и его клубы походили на другие, более мягкие холмы. Воздух пах травами и эвкалиптом, ментолом и пряными кексами. Влажной землей, сухой землей.
Я сомневалась, что эта поездка будет чем-то отличаться от остальных. Когда-то давно Мона назвала меня неверующим Фомой, и мама тоже так меня иногда называла, чтобы подразнить.
Я сошла на остановке «Калифорния-авеню». Город выглядел так, будто ничего не происходило в нем. Дорога тянулась вдаль, к зеленым холмам, прямая, как взлетная полоса. Я спустилась в подземный переход под Альма-стрит, чтобы выйти на другой стороне – в облако золотого света, и зашагала мимо соснового парка. Здесь дома жались к земле.
Полгода назад я стала принимать клоназепам, успокоительное средство, снижающее реакцию миндалевидного тела мозга на стресс – небольшими дозами, по 0,25 миллиграмма в день. Вопреки – или, быть может, благодаря – настояниям отца попробовать марихуану или ЛСД, меня никогда не привлекали наркотики, и я никогда не принимала ничего такого. Но из-за ежемесячных перелетов туда-обратно, учебы в магистратуре, болезни матери и ее безденежья мне стало трудно сосредоточиться. Я двигалась и говорила все быстрее и быстрее. Во мне появилось что-то лихорадочное: я словно пыталась отвлечь окружающих и не дать им разглядеть себя. Я стала нервной, настороженной, неуверенной в себе, все время боялась, что отец скажет что-нибудь ужасное, а потом умрет, и ничего нельзя будет исправить.
В кино всегда бывает сцена, в которой умирающий просит прощения. Но то была жизнь.
Я зашла в дом и остановилась на пороге отцовского кабинета, который был превращен в спальню. Там была фотография яблока Гарольда Эджертона: через него проходила пуля, и кожица на краю отверстия была рваной.
Я завернула за угол в комнату. Отец сидел, опершись на подушки. Ноги были худыми и тонкими, как вязальные спицы. Комод был заставлен фотографиями в рамках, все они были повернуты в сторону кровати. Ящики в комоде были одной ширины, и позже я увидела, что отец разложил в них фотографии и изображения произведений искусства. Он был один, не спал и, казалось, ждал меня. Он улыбнулся.
– Я так рад, что ты здесь, – сказал он. Его теплота обезоруживала. По его лицу катились слезы. До болезни я всего два раза видела, как он плакал: первый раз – на похоронах своего отца; второй – в кино, когда мы смотрели «Новый кинотеатр “Парадизо”», в самом конце фильма, мне тогда показалось, что он дрожит.
– Это наша последняя встреча, – сказал он. – Тебе придется меня отпустить.
– Хорошо, – ответила я.
Но я ему не поверила – и ни за что не поверила бы, что он умрет месяц спустя. Я очень смутно представляла себе, сколько еще он сможет прожить. Я села на кровать рядом с ним.
– Я недостаточно времени проводил с тобой, когда ты была маленькой, – сказал он. – Как бы я хотел, чтобы у нас было время.
– Все в порядке, – ответила я.
Он был таким слабым и хрупким. Я легла на кровать лицом к нему.
– Нет, не в порядке, – сказал он. – Я должен был провести с тобой это время. А теперь уже слишком поздно.
– Наверное, никто не станет его подсчитывать, – сказала я, хотя сама сомневалась в своих словах.
На самом же деле незадолго до этого я осознала, как мне повезло: мы познакомились до того, как он стал большой знаменитостью, когда он был еще достаточно здоров, чтобы кататься со мной на роликах. Раньше мне казалось, что со всеми остальными он проводил куда больше времени, чем со мной, но теперь я уже не была так уверена. Он посмотрел мне в глаза и заплакал.
– Я тебе должен.
Я не знала, как понимать эти слова. Он повторял их все выходные. «Я тебе должен, я тебе должен», – говорил он, плача, когда я заходила к нему – если он не спал. Чего мне хотелось, так это собственного места в иерархии тех, кого он любил. Этого он недодал мне.
Мы с отцом были одни в доме, не считая медсестер, которые сменяли друг друга на посту каждые шесть часов. Иногда заходили другие люди – коллеги, партнеры. Бывали и незнакомцы, желавшие его видеть, – они проходили через сад и останавливались у двери; эти люди приносили подарки или приходили с пустыми руками. Какой-то человек в сари умолял позволить ему поговорить с ним. Один раз в ворота зашел мужчина и сказал, что прилетел из Болгарии, чтобы увидеть отца. У задней двери собралась кучка людей: они переговаривались между собой, а потом разошлись.
– Ты помнишь свои сны?
Я лежала рядом с ним на кровати. Он то просыпался, то снова засыпал.
– Ага.
– Всегда?
– Чаще всего.
– Что тебе снится?
– Работа в основном, – ответил он. – Как я пытаюсь убедить людей в чем-то.
– В чем?
– В идеях.
– Которые ты придумываешь, пока спишь?
– Иногда. Но обычно во сне я не могу убедить их. Обычно они слишком бестолковые, чтобы понять.
– М много идей пришло к тебе таким образом? Во сне?
– Да, – ответил он, потом снова заснул.
На следующий день я поехала с ним в больницу на переливание крови. На это ушел почти весь день, потому что он был слишком слаб, чтобы ходить, и его приходилось перемещать из кресла в машину, снова в кресло, в больницу, в кресло, в машину, в кресло и, наконец, обратно в постель. Кровь в пакете была густой и темной. Она напоминала кровь из подкрашенного сиропа для фильмов о Дракуле. В больнице отцу выдали подогретые одеяла: их вынули из машины, похожей на холодильник. Ему было то холодно, то жарко, то снова холодно.
Я сидела с ним в комнате, в кресле, слушая, как посвистывает аппарат. Мне стало интересно, чью кровь он получает. Хотела спросить, но решила не привлекать внимания к пакету. Ему делали переливание примерно каждые десять дней. Это занимало несколько часов. После этого на его лицо возвращалась краска.
– Мне кажется, ему холодно, – сказала я медсестре, когда переливание подходило к концу.
– Все в порядке, – сказал он.
Я ждала, сидя в уголке.
– Мне кажется, ему может быть холодно, – повторила я несколько минут спустя. Я чувствовала, как дует холодным воздухом из вентиляции.
– Все в порядке, – повторил он.
После этого мне зачем-то пришлось выйти, и, когда меня снова позвали сидеть в уголке, медсестра принесла мне одеяло.
– Он сказал, что вам холодно, – пояснила она.
А я не заметила ничего такого.
– Прости, что проводил с тобой не так много времени. Мне очень жаль, – сказал он с кровати.
– Ты, наверное, много работал, поэтому не отвечал на мои сообщения и звонки?
Он редко звонил и писал, не поздравлял с днем рождения.
– Нет, – ответил он и, помолчав, добавил. – Я был не так уж и занят. Просто я злился, что ты не пригласила меня в Гарвард на те выходные.
– Какие выходные?
– На посвящение в студенты. Все, что я получил, это счет, – сказал он с обидой в голосе.
Церемония посвящения. Позже я вспомнила, что в восемнадцать лет я скрупулезно выбирала дни для посещений родителей, стараясь не сталкивать их: они не хотели навещать меня одновременно. Не без помощи своего психотерапевта и с их согласия я решила тогда, что мама приедет на посвящение, а отец – через несколько недель. Его такой сценарий вполне устроил.
– Почему ты мне не сказал?
– У меня не очень хорошо получается говорить с людьми.
– Мне хотелось бы, чтобы это можно было отменить. Или изменить, – ответила я.
Казалось невероятным, почти безумным, что единственные выходные стали решающими для наших отношений. В это сложно было поверить. До этого я приписывала ему вселенскую мудрость, но когда люди умирают и пытаются расставить все по местам, они не всегда проявляют рассудительность, не всегда прозревают. Я отказывалась принять то, что одно приглашение, одни выходные могли оправдать те десять лет, что мы почти не разговаривали друг с другом, или объяснить его отказ оплатить мой последний год обучения.
Все эти годы я разглядывала свои ладони. Я была рождена для хорошей жизни – вот что означали линии.
Я вспомнила, как десять лет назад мама приехала ко мне в гости в Нью-Йорк. Она только начала отходить от болезни, которая лишила ее изрядной доли жизненных сил, ее уши все время закладывало. Поздно вечером мы вышли пройтись.
Двухэтажный жилой дом из кирпича на пересечении Западной четвертой улицы и Чарлз-стрит был залит светом. Мы с мамой одновременно остановились, чтобы посмотреть на него. В те дни у нас появилось ощущение, что мы выжили, прорвались и теперь будем счастливы.
– А что с гаданием по руке? Ты вообще умеешь гадать по руке? – спросила я.
– Вроде того, – ответила она с едва заметной улыбкой, подсказывающей, что она врет.
– Я имею в виду, ты этому где-нибудь училась?
Я хотела, чтобы она рассказала, как познакомилась с кем-то в Индии или прочитала редкую книгу.
– Тебе нужны были правильные истории. Нам нужно было оказаться в месте, радикально непохожем на то, где мы находились. Я не знала другого пути туда – я знала только истории. В любом случае все, что я рассказывала, было правдой.
Тем вечером по возвращении домой отец позвал меня слабым голосом, каким обычно звал медсестер.
– Лиз.
Устройство, удерживавшее мешок с питательной смесью, щелкало, как игрушечный поезд, описывающий круги по игрушечным рельсам, – загоняя в вены молочно-белую жидкость. Он полусидел на кровати, опершись о подушки, задрав колени. Он был чудовищно худым, на него тяжело было смотреть, не думая при этом о его руках и ногах, о его изможденном лице.
– К тому, о чем мы говорили… – начал он.
Меня поразило, что он напоминает мне, что у нас был эмоциональный разговор, чего никогда раньше не делал.
– Я хочу кое-что сказать: ты не виновата, – он заплакал. – Если бы только у нас была инструкция. Если бы только я был мудрее. Но ты не виновата. Я хочу, чтобы ты знала: тебя не за что винить.
Он ждал подходящего для извинений момента до тех пор, пока от него почти совсем ничего не осталось. Этого я и ждала от него. Будто бы холодная вода пролилась на ожог.
– Мне так жаль, Лиз, – он плакал и качал головой из стороны в сторону.
Он обхватил голову руками. Он так усох, что его руки казались непропорционально большими, а шея слишком тонкой для его черепа, как у скульптуры Родена – одного из граждан Кале.
– Как бы я хотел вернуться назад. Все изменить. Но уже слишком поздно. Что теперь поделаешь? Уже слишком поздно, – он плакал, сотрясаясь всем телом. Его дыхание прерывалось, когда он всхлипывал, и мне хотелось, чтобы он перестал.
– Я тебе должен, – снова повторил он.
Я не знала, что ответить. Просто сидела рядом с ним на кровати. Даже тогда я не вполне ему доверяла: мне казалось, если бы он каким-то чудом исцелился, то снова стал бы таким, как прежде, забыл о том, что случилось, и начал вести себя со мной по-старому.
– Но сейчас я здесь, – ответила я. – Может быть, у нас будет еще один шанс, и в следующий раз мы сможем быть друзьями?
С одной стороны, в моих словах была насмешливость – просто друзья. Но в недели, что последовали за моим визитом и после его смерти, именно по утраченной возможности стать друзьями я горевала больше всего.
– Хорошо, – сказал он. – Но мне так жаль. Я тебе должен.
С тех пор как я вернула украденное, я больше ничего не брала, но все равно подмечала вещицы, которые мне хотелось бы иметь. Теперь это желание исчезло. Я больше никогда не чувствовала потребности взять чужое.
Семья вернулась, дом наполнился шумом и суматохой. Вечером после ужина мы с Лорен остались одни за столом на кухне. Раньше, когда бывала у них в гостях, я сразу вскакивала, чтобы вымыть посуду. В тот раз я осталась на своем месте.
– Он поговорил со мной, – сказала я. – Мы сказали друг другу важные вещи. Значимые. Я чувствую себя лучше.
Я думала, она станет расспрашивать, но вместо этого она поднялась, чтобы ополоснуть блюдо.
– Я не верю в предсмертные откровения, – сказала она.
* * *
У моей младшей сестры Евы был день рождения. В сумерках я вышла из дома и отправилась в сад, где пахло суккулентами, геранью и водой. На лужайке, под все еще светлым, как на картине Магритта, небом, стояли ее подружки.
Сестра натянула над поверхностью батута веревки: она играла с друзьями в лошадиные скачки, и все они перескакивали, перелезали и переползали через препятствия. На карниз дома садились птицы, возле ножек батута, похрюкивая, рыл землю мопс.
– Кто ты? – спросила меня одна девочка.
Она была на несколько сантиметров выше моей сестры, доходила мне почти до носа, и у нее были волосы соломенного цвета. Сестра слезла с батута и встала рядом.
– Я сестра именинницы, – ответила я.
На лице подружки отразилась замешательство, возможно, потому, что я была старше на двадцать один год.
– Я гораздо старше, потому что у нас разные матери, – объяснила я.
– О, – произнесла девочка. – Приятно познакомиться.
– Она – папина ошибка, – возвестила сестра.
Встав позади нее, я схватила ее за плечи, притянула к себе и простояла так с минуту, пытаясь успокоиться.
– Ты не должна так говорить, – прошептала я ей на ухо, а потом отправилась назад в дом.
На кухонном столе стояла банка с медом, и я нагнулась над ней, рассматривая этикетку. На ней было пять пчел с именами членов семьи под ними: Стив, Лорен, Рид, Эрин, Ева. А над ними надпись: «Семейная ферма Джобсов».
На следующий день я нашла в кухонном ящике под салфетками целый ворох этих этикеток – на тыльной стороне был клеевой слой. Для подарков и сувениров, догадалась я. Этикеток было так много, что они цеплялись друг за друга и покрывали собой дно ящика, как слежавшиеся осенние листья, которые сгребали в кучи в округе. Я все разглядывала этикетки, пытаясь найти свое имя под пчелкой, как будто оно могло вдруг где-то появиться. Одна девочка в университетской столовой как-то сказала, то ли в шутку, то ли всерьез: «Фокус в том, чтобы выйти замуж за богача. Как выйти замуж за богача?» И я почувствовала ту же тяжесть, оттого что была за пределами, за рамками общего веселья.
За прошедшую пару лет я переехала в Нью-Йорк, получила степень магистра изящных искусств в Беннингтонском колледже, устроилась на работу в студию графического дизайна, где отвечала за оформление и редактуру одного из разделов сайта нью-йоркского музея современного искусства MoMA, стала жить с человеком, которого любила и за которого хотела выйти замуж. Я повзрослела, не стояла на месте, и поэтому меня удивило, что, вернувшись навестить больного отца, я все еще чувствовала боль от того, что исключена из его жизни.
Этот дом напомнил, как мне хотелось быть кем-то другим, когда я жила здесь. Но примерно тогда – в один из моих приездов, в те странные годы, что я летала к отцу примерно раз в месяц, – мне было откровение, вернувшее мне легкость, будто пока я стояла под жасминовым кружевом у двери, с меня сняли громадное бремя, которое я носила на плечах все эти годы. Неважно, что пчелки с моим именем не оказалось на банке с медом. Я не была ошибкой. Не была бесполезной частью чего-то важного. Где-то я слышала, что наше дыхание не должно быть ровным, подчиняться строгому ритму. Люди – не метрономы. Оно бывает медленным и учащенным, глубоким и слабым – в зависимости от того, что нам нужно в данный момент, что мы можем получить, насколько сильные эмоции владеют нами. И я почувствовала тогда, что не променяла бы свою жизнь ни на чью другую, не отдала никому даже те моменты, когда мне не хотелось существовать. Не потому, что моя жизнь была правильной, идеальной или лучше других, а потому, что совокупность моих выборов и решений наметила мой путь – мой до последнего завитка. В тот момент я остро чувствовала его – рисунок, наслоения, структуру, – и он был знаком мне, как кожа, и этого мне было достаточно.
♦
На поминальной службе и несколько лет после нее разные люди поверяли мне, как близки они были с моим отцом.
– Он часто давал советы моему сыну, – признался кто-то. – Они были очень близки.
– У них были такие тесные отношения, – сказала еще одна женщина о своем сыне и моем отце.
– Он был мне как отец, – произнес, прослезившись, какой-то мужчина.
Это были разговоры особого рода: мне казалось, что в них я не участник, а свидетель. Эти люди не спрашивали о моем отце, а с жаром высказывали что-то мне, как будто жизнь в их истории должно было вдохнуть мое участие. Оно было недостающим ингредиентом, питательной средой. Они пересказывали случаи из его и их общей биографии – с пафосом, будто произносили небольшую речь, – и уходили.
Чего они хотели? Чтобы я сочувствовала им? Для них он тоже был отцом. Они делали это громкое заявление, и я должна была согласиться с его ролью общего прародителя. С его неизмеримым величием.
Когда люди говорят и пишут о вздорности отца, они часто связывают вздорный характер с гениальностью. Как будто одно приближает к другому. Но когда я наблюдала за тем, как он творил, создавал, я видела его с лучшей стороны: он был чувствительным, внимательным к другим, веселым. Людям, которые с ним работали, доводилось видеть его таким чаще, чем мне. Может быть, вздорность оберегала его гений, его творческое начало. А потому вести себя вздорно в надежде стать гением так же глупо, как подражать его походке или шепелявому выговору или, совсем как он, поворачиваться спиной, скрещивать на груди руки и водить ими под лопатками, постанывая, изображая страсть.
– Посмотри на облака, – сказал он, показывая в окно в один из солнечных дней, когда уже болел, но еще мог ходить и был в хорошем настроении. – Они примерно в трех километрах от нас. При желании мы с тобой, ты и я, сможем пройти – погоди-ка – километр за 15 минут. Через 45 минут мы могли бы быть там.
Ринпоче, бразильский монах, сказал маме, что если бы у него было еще два месяца – всего два месяца, – он смог бы их примирить.
Но кто знает?
Теперь, когда мы видимся с мамой, чем больше времени мы проводим вместе, тем сильнее я привязываюсь к ней. Если мне нужно отлучиться в туалет, я оставляю дверь открытой, чтобы мы могли продолжать разговор. Когда мы вместе, нас не оторвать друг от друга. Хотя иногда мы ссоримся. Когда мы порознь – она на своем побережье, я на своем, – я забываю, каково это – быть вместе, как это кружит голову, как перехватывает от этого дух. Когда она приезжает в Нью-Йорк, мы идем в художественный музей. На выставке Агнес Мартин в Музее Гуггенхайма мы начинаем сверху и движемся вниз по спирали, против потока людей, которые идут вверх, глядя на ее полосы. Для нас Агнес все молодеет. После мы выходим на солнечный свет. Пересекаем Пятую авеню, чтобы отправиться в Центральный парк.
– Смотри! – говорит она, показывая на толстые белые линии разметки на черном асфальте. – Еще одна!
На фотографии, сделанной еще до моего рождения, мои родители стоят на железнодорожной платформе тем утром, когда отец возвращался в Рид-колледж. У мамы круглые щеки, на ней джинсы. Отец бледен и миловиден. Они так молоды. Я думала, что это мама все и всегда теряет: дома, предметы, отца. Но эту фотографию она хранила много лет и отдала мне, а я оставила ее где-то, когда переезжала. Недавно она подарила мне картину, которую нарисовала в старшей школе и за которую получила приз.
– Он повсюду следует за тобой, твой отец, – сказала она.
Мама навестила меня уже после его смерти.
– Призрак?
– Он, сам. Не знаю, как объяснить. Я чувствую его присутствие. И знаешь что? Для него нет большей радости, чем быть с тобой. Не может отойти ни на шаг и ходит на цыпочках у тебя за спиной прямо сейчас. Он счастлив уже оттого, что смотрит, как ты намазываешь масло на хлеб.
Я ей не поверила, но такая мысль была мне приятна.
Благодарности
Спасибо издательству Grove Atlantic: моему превосходному редактору Элизабет Шмитц, а также Кэти Рейссиан, Деб Сигер, Джулии Бернер-Тобин, Сэлу Дестро, Джуди Хоттенсен и Моргану Энтрекину. Спасибо моему умному и честному агенту Дэвиду Маккормику, который не исключал, что я сдамся, а еще Сьюзен Хобсон и всем их коллегам из McCormick Literary.
Два плодотворных периода работы над текстом совпали с моим пребыванием в Art OMI: Writers. Также я благодарна за возможность получить степень магистра искусств в Беннингтонском колледже.
Спасибо Катерине Фейк, Брайану Бёрку, Клэр Сарти, Дэвиду Боаретто, Стефани Кубанек и Д.У. Гибсону за то, что побуждали меня писать. Спасибо Энн Годофф и Джинни Смит-Юнс из Penguin Press, спасибо Уши Вайсмюллер и моим читателям: Эллен Граф, Ханне Блюменталь и Моне Симпсон. Спасибо Финну Тайлору, Кристине Редсе, Линде Бреннан, Джейми Бреннан, Рону, Илану, Дебби и Дэвиду за рассказы и мысли о прошлом.
Спасибо Лоуренсу и Хиллари Леви за всестороннюю помощь на каждом этапе. Филиппу Лопэйту, Сьюзен Чивер, Каю Берри и моей маме за то, что поддерживали меня многие годы, в том числе те, которые ушли на написание этой книги. Я также глубоко благодарна Джейми Кватро за ее профессиональную и чуткую помощь в превращении очень длинного черновика в эту книгу и в поиске издателя для нее.
И наконец, спасибо Биллу за радость, оптимизм и заботу, спасибо замечательным Боди и Джули, спасибо малышу Томасу за то, что поторапливал и приносил еще больше радости.
Вклейка
«Мама была юной, чувствительной и сияющей, без мужа, дома, семьи… Вместо этого у нее была я».
«К дивану прилагались кремовые ситцевые подушки, усыпанные красными, оранжевыми и синими цветами, и несколько лет с того дня я давила на лепестки цветов пальцами, пытаясь погрузить их под нарисованные цветочные края».
«Я – вниз, он – вверх; я – вверх, он – вниз. Кто-то из гостей сфотографировал нас с лужайки».
«Мой отец не ушел, как у других, а совсем наоборот: сейчас родители проводили вместе больше времени, чем когда я родилась».
– А твой папа?
– Его здесь нет. Он… он управляет компанией.
– Какой компанией? – спросила она.
– Она называется NeXT.
– Будешь выщипывать – волосы перестанут расти, и тогда тебе придется рисовать их карандашом, – его лицо скривилось, такие фокусы он осуждал и презирал. – Увидишь, – сказал он, касаясь моей переносицы. – Брови – твоя лучшая черта.
Примечания
1
Перевод П. Козлова.
(обратно)2
Англ. Rosebud. У Кейна были детские санки с такой надписью. – Прим. ред.
(обратно)

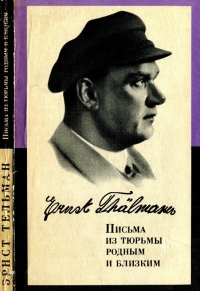

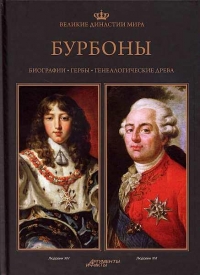

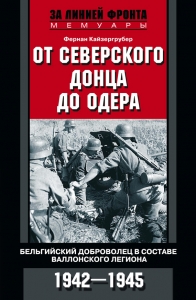
Комментарии к книге «Маленькая рыбка. История моей жизни», Лиза Бреннан-Джобс
Всего 0 комментариев