Эрик Метаксас Мартин Лютер. Человек, который заново открыл Бога и изменил мир
Eric Metaxas MARTIN LUTHER. THE MAN WHO REDISCOVERED GOD
AND CHANGED THE WORLD
Copyright © 2017 Eric Metaxas
© All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
© Холмогорова Н. Л., перевод с английского, 2019
© ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *
Хронология
1483 – Лютер рожден в Айслебене 10 ноября. На следующий день его крестят. Как считают историки, Мартин – старший из восьми детей, родившихся у Иоганна «Ганса» Людера и Маргариты Людер, урожденной Линдеманн.
1484 – Примерно через полгода после рождения Мартина семья переезжает в Мансфельд. Именно там Лютеры воспитают всех детей и останутся до конца дней своих.
1490 – Мартина отправляют в школу в Айзенахе.
1496–97 – Мартин в течение года посещает школу в Магдебурге.
1501 – Мартин поступает в Эрфуртский университет.
1505 – Мартин начинает изучение права в Эрфуртском университете.
1505 – Мартин дает обет стать монахом 2 июля в путешествии через деревню Штоттернхайм. Он поступает в монастырь августинцев в Эрфурте и принимает монашеские обеты.
1506 – Мартин встречает Иоанна фон Штаупица.
1507 – Мартин посвящен в духовный сан и служит первую мессу перед родителями и прихожанами.
1508 – Осенью Штаупиц отправляет Лютера на год в Виттенберг.
1509 – В Виттенберге Мартин получает степень бакалавра теологии.
1510–11 – Мартин предпринимает пешее паломничество в Рим.
1511 – Штаупиц переводит его в Виттенбергский монастырь, где он будет до конца дней.
1512 – Под грушевым деревом Штаупиц убеждает Лютера претендовать на докторскую степень.
1513–17 – Лютер читает лекции о книге Псалмов, а также о Посланиях к Римлянам, Галатам и Евреям, и этим закладывает экзегетический фундамент того, что последует в дальнейшем.
1517 – Лютер постулирует свои 95 тезисов (как принято считать, 31 октября) и посылает письмо и тезисы в Магдебург, архиепископу Альбрехту.
1518 – Лютер выступает на Гейдельберских диспутациях в апреле. В Виттенберг прибывает Меланхтон.
1518 – В октябре Лютер прибывает на Аугсбургский рейхстаг и предстает перед папским легатом, кардиналом Каэтаном.
1519 – Лейпцигский диспут с Иоганном Эком в июле.
1520 – Лютер пишет три значительные работы: «К христианскому дворянству немецкой нации», «О вавилонском пленении Церкви» и «О свободе христианина».
1521 – Лев X издает папскую буллу Exsurge Domine («Восстань, Господи!») и предоставляет Лютеру шестьдесят дней на то, чтобы появиться в Риме и ответить на обвинения в ереси.
1521 – Лютер появляется на Вормсском рейхстаге в апреле.
1521 – В мае, после того как империя осуждает Лютера как еретика и преступника, Фридрих Саксонский устраивает его «похищение» и увозит в замок Вартбург, где Лютер на протяжении десяти месяцев остается инкогнито.
1521 – В декабре Лютер инкогнито наносит краткий визит в Виттенберг. Лукас Кранах рисует его портрет в образе «юнкера Георга».
1522 – За одиннадцать недель в замке Вартбург Лютер переводит на немецкий язык Новый Завет. В марте он возвращается в Виттенберг и произносит восемь проповедей, отменяет все крайности, на которые пошли в его отсутствие Карлштадт и Цвиллинг, и возвращает себе роль предводителя виттенбергской Реформации.
1523 – В феврале опубликован немецкий перевод Нового Завета.
1525 – Крестьянская война в Германии. Мюнцер убит.
1525 – В июне Лютер женится на Катарине фон Бора. Семья Карлштадта прибывает в Виттенберг. Лютер пишет «О рабстве воли».
1526 – Рождается Иоганн «Ганс» Лютер.
1527 – В декабре в семье Лютеров рождается дочь, Элизабет.
1528 – В августе, прожив всего семь месяцев, Элизабет умирает.
1529 – В мае у Лютеров рождается вторая дочь, Магдалена (Ленхен); в октябре проходит Марбургский диспут.
1530 – Аугсбургский рейхстаг. Лютер все это время остается в замке Кобург.
1531 – В ноябре у Лютеров рождается сын, Мартин-младший.
1533 – В январе у Лютеров рождается сын, Пауль.
1542 – Заболевает тринадцатилетняя дочь Лютера, Ленхен. Она умирает на руках у отца 20 сентября.
1546 – Лютер вместе с тремя сыновьями отправляется в Айслебен. 14 или 15 февраля он произносит свою последнюю проповедь. Похоронен в Виттенберге.
Благодарности
Создание такой книги, как та, которую вы сейчас читаете[1], требует не одного только чтения и исследования – занятий, которым, слава богу, я более или менее способен предаваться и без посторонней помощи. Однако неоспоримо, что книга эта вовсе не появилась бы на свет без усилий и трудов издательской команды «Viking», под руководством capo di tutti capi[2] Брайана Тарта, которого я должен поблагодарить (и сейчас благодарю) за его неоценимую поддержку и полезнейшие редакторские советы, не говоря уж (хотя, однако, говорю!) о руководстве такими талантливыми и знающими сотрудниками, как Эми Сан, Райан Бойл, Колин Уэббер, Эми Хилл, Ребекка Марш и другие. Никогда еще я не признавал этого вслух, но знаю совершенно точно: случись Брайану Тарту и его команде работать в «Викинге» в начале семидесятых – «Радуга земного тяготения», вполне возможно, читалась бы куда легче да и продавалась бы до сих пор. Quelle dommage![3]
Тяжелейшую и непростительную ошибку совершил бы я (но совершать не буду), не упомянув команду собственных помощников под водительством великолепной Элизы Леберис. Труды ее на благо мое столь велики и обширны, что не поддаются никакому описанию; уверен, без нее я лишился бы не только счастья получить свеженький экземпляр своей новой книги, но и крова над головой, ботинок и зубов. Особенно благодарю Рути Тотеро и Брэндона Сантулли, которые помогли мне найти источники некоторых особо заковыристых цитат. Впрочем, из этого вытекает, что любые возможные ошибки в атрибуции цитат следует – увы – отнести на их счет[4].
Я бесконечно благодарен моей жене Сюзанне и нашей дочери Анне-Розе за их любовь и снисходительность и не в последнюю очередь – за то, что порой терпеливо переносят причуды и капризы автора, беременного новой рукописью. И, наконец, хочу поблагодарить дорогих моих друзей Маркуса Шпикера и Грега Торнбери, которым и посвящаю эту книгу (а также все побочные продукты, которые могут выйти из этого исследования). Первого – за то, что, позвонив мне из Берлина в 2012 году, днем после обеда (а я отдыхал в это время в отеле «Арктик-Клуб» в Сиэтле, и там еще даже не рассвело), настойчиво убеждал написать биографию Лютера. Второго – за то, что за ужином в ресторане «Орсэй» на Манхэттене не менее настойчиво рассказывал о том, как необычайна история Лютера и как важно в очередной раз поведать ее миру до октября 2017 года – знаменательного пятисотлетнего юбилея. Имея таких друзей и зная об этом, остается лишь покатываться со смеху над богатствами нищего Креза. Что я и делаю.
Введение Пастырь, мятежник, пророк, монах
В 1934 году афроамериканский пастор из Джорджии совершил путешествие, изменившее его жизнь: пересек Атлантический океан, через Гибралтар попал в Средиземное море и, переплыв и его, побывал в Святой Земле. После этого паломничества он отправился в Берлин, на международную конференцию баптистских священников. В Германии этот человек, получивший при рождении имя Майкл Кинг, был настолько потрясен тем, что узнал о реформаторе Мартине Лютере, что решился на необычный шаг. Он принес памяти этого человека величайшую возможную дань: изменил собственное имя и начал зваться Мартин Лютер Кинг. Его пятилетнего сына также звали Майклом – и для близких родственников он вплоть до смертного часа оставался Майком – однако отец сменил имя и ему, и Майкл Кинг-младший стал известен миру как Мартин Лютер Кинг-младший.
Смена имени отца и сына – лишь один из примеров силы и глубины того влияния, которое оказал и продолжает оказывать на мир Мартин Лютер. Его писания и действия изменили ландшафт современного мира до неузнаваемости: многое из того, что мы ныне воспринимаем как должное, восходит к нему – эксцентричному гению из Виттенберга.
Например, важнейшая для современности идея индивидуальности – и личной ответственности человека в первую очередь перед собой и Богом прежде всяких институций, церковных или государственных – до Лютера была так же немыслима, как цвет в черно-белом мире. Столь же современная идея «народа», вместе с вытекающим из нее демократическим импульсом, также была создана Лютером – или, по крайней мере, благодаря ему обрела голос. Да и более свежие идеи плюрализма, религиозной свободы, самоуправления – все они вошли в историю через дверь, открытую Лютером и ведущую в будущее, в котором живем мы сейчас.
Лютер известен в первую очередь по двум иконическим образам. Первый: в 1517 году он прибивает к огромным деревянным дверям виттенбергской Замковой церкви свои «Девяносто пять тезисов», в которых обличает широко распространенную тогда практику продажи индульгенций. Второй – его бесстрашное выступление в 1521 году на рейхстаге в Вормсе. Там, перед императором Священной Римской империи Карлом V и впечатляющей толпой немецких аристократов – и, что еще важнее, перед представителем папы Фомой Каэтаном – Лютер непоколебимо настаивал на своих убеждениях; там он сделал заявление, разом прочертившее границу между средневековым и современным миром. Когда он сказал, громко и ясно, что боится Божьего суда больше, чем суда знатных особ, собравшихся в этом зале – эти слова потрясли мир. Как посмел кто-то, тем более простой монах, заявить, что это не одно и то же?! С незапамятных времен сильные мира сего говорили и от имени государства, и от имени Бога. Однако Лютер бросил им вызов, смиренно, но бесстрашно – и тем начал новую эпоху в мировой истории. Эпоху, в которой живут страны Запада и по сей день.
То, что за этим последовало, почти до неузнаваемости изменило ландшафт западной культуры. Сам того не зная, Лютер открыл дверь в новый мир: плотина рухнула, четко установленные границы приемлемого разлетелись на мелкие осколки – окончательно и бесповоротно. У человека разом появились и свобода, и возможность жить своим умом, и серьезнейшая ответственность перед Богом за то, как он своей свободой распорядится.
Быть может, самое знаменательное в истории Лютера – то, что ее могло и не быть. Мартин Лютер вовсе не был прирожденным борцом с папскими ветряными мельницами. В сущности, бороться с ними он и не стремился. Вплоть до 1520 года он ревностно защищал Церковь. Он отчаянно стремился помочь Риму свернуть с неверного, на его взгляд, пути. По злой иронии судьбы, напоминающей историю Эдипа, Лютер сам принес в мир то, чего так старался избежать. Как показывает его история, сложное, порой парадоксальное взаимодействие церковных, идейных и политических сил породило ту прошедшую по Европе бурю, которую мы сейчас называем Реформацией и ее последствиями. Теперь мы в силах лишь гадать, чего могли бы избежать, прояви папа Лев X побольше внимания к своей исторической роли и прими предложения немецкого монаха ближе к сердцу. Именно упрямая несговорчивость Рима подталкивала Лютера ко все более и более смелым заявлениям – и в конечном итоге сделала невозможным примирение и заставила его выбрать путь, о котором верующие спорят по сей день: одни называют его невежественным и еретическим, другие – славным и правоверным. К добру или к худу, Мартин Лютер сделался «повитухой» того непоправимо расколотого мира, в котором обитаем мы сейчас.
Мифы и правда
На протяжении жизни Лютера слава о нем бежала по земле семимильными шагами, и бег этот не замедлила даже его смерть. Однако скоро кипящая магма его известности застыла, приняв жесткую агиографическую форму: в результате большая часть того, что «знает» мир о Лютере – выдумка.
Это можно увидеть на примере самых известных «фактов» из его жизни. Во-первых, родился он в бедной крестьянской семье, ребенком знал нужду и голод. Во-вторых, суровый и невежественный отец так жестоко избивал мальчика, что это искалечило его психику и заставило представлять Бога Отца таким же свирепым и жестоким существом, которое надо смягчать и умилостивлять бесконечными унизительными религиозными корчами – или вовсе от него бежать. В-третьих, легкомысленный молодой человек двадцати одного года от роду, никогда прежде не задумывавшийся о том, чтобы посвятить себя Богу, был до безумия напуган вполне буквальным огнем с небес – в ужасе произнес он клятву стать монахом, а затем постригся, ибо чувствовал себя обязанным эту случайную клятву исполнить. В-четвертых, во время поездки в Рим он был так поражен царящим там развратом и безбожием, что решил уничтожить развращенную, чересчур снисходительную к пороку итальянскую Церковь и воздвигнуть на ее месте бескомпромиссную, несгибаемую немецкую. В-пятых, этот проект длиною в жизнь начал он с того, что прибил на двери виттенбергской Замковой церкви свои гневные обличительные тезисы – и тем сообщил папе, к несомненному его ужасу, что дела его взвешены на весах и найдены очень легкими. В-шестых, после великого выступления на Вормсском рейхстаге – там, где сказал: «На том стою и не могу иначе» – он бежал в Вартбург, там в самом буквальном смысле боролся с дьяволом и однажды даже, разгневанный наглостью врага рода человеческого, запустил в него чернильницей. В самом деле, всякому, кто в этом усомнится, достаточно съездить в Вартбург – и даже теперь, пять столетий спустя, увидеть там запятнавшие стену брызги чернил. В-седьмых, монахиня, на которой он женился, бежала из монастыря, спрятавшись в бочке из-под селедки; точнее сказать, целая дюжина монахинь спряталась в грязных селедочных бочках, закрепленных на ломовой телеге, которая с лязгом и грохотом понесла их к свободе.
Все эти подробности мы слышали бессчетное множество раз. Об этом рассказывают на многих языках экскурсоводы в памятных местах, связанных с Лютером; об этом пишут во многих книгах о Лютере (в том числе глубоких и увлекательных книгах), в интернет-публикациях и в блогах. Но все эти семь «фактов» ложны. Все это – красочные, но сомнительные истолкования или дополнения к реальным фактам, со временем окостеневшие и окаменевшие в мраморе благочестивой легенды, передающейся из уст в уста уже полтысячелетия. Благочестивым преданиям «пастора» Уимса о Джордже Вашингтоне, рубившем вишни и бросавшем через широкий Потомак серебряные доллары, всего сто пятьдесят лет; мифы о Лютере существуют более чем втрое дольше. Следовательно, культурные корни их намного глубже. Надеюсь, моя книга внесет свой скромный вклад в отделение истины от мифов.
Безумие Мартина Лютера
Поразительна не только роль Мартина Лютера в истории. Экстраординарно и все, что привело к событиям, изменившим мир: его внешность, характер, поведение. Однако все эти необычные черты не сопровождали его с рождения: они начали проявляться постепенно уже после 1517 года. И потому стоит задаться вопросом, что вызвало изменения в личности и характере Лютера после публикации его тезисов. Как примирить сурового, мрачного, до крайности благочестивого монаха, каким был он в ранние годы, с «поздним» Лютером – шумным, задиристым, бесстрашным, всегда готовым сыпать солеными шутками и оскорблениями? Как тихий, серьезный, педантичный юноша превратился в завзятого шутника, порой доходящего до клоунады и непристойностей? Перемена в нем совершилась не с такой скоростью, как с Павлом на дороге в Дамаск – и все же перемена эта очевидна и важна. Что бы с ним ни произошло, Лютер как будто родился заново – и превратился в этакого веселого дудочника, шута, зачарованного открывшейся ему новизной, свободой и радостью настолько, что многие считали его одержимым – или попросту сумасшедшим.
Краткий ответ на этот вопрос – и причина того, почему история Лютера не похожа ни на какую иную – состоит в том, что после долгого и мучительного поиска он наконец Божьей милостью нашел то, чего жаждут все люди после того, как утратили Эдем. Он нашел герменевтический рычаг, которым можно поднять весь мир на высоту небес. Такова основная проблема человечества: как перекинуть мост через бездонную пропасть между несовершенным человечеством и совершенным Богом, землей и небесами, смертью и жизнью. И Лютер открыл, что проблема эта уже решена: пятнадцать столетий назад ее разрешил иудейский Мессия. Так что открытие его лучше назвать «повторным открытием». Все дело только в этом: в простой вере, с которой мы принимаем диагноз, поставленный Богом, и предложенное Им решение неразрешимой проблемы. Стоит принять это – и проблема решена. Много столетий народ Божий блуждал в пустыне, пока этот новый Моисей наконец не вывел его в землю Обетованную.
Далее Лютер пришел к мысли, что делать что-то иное, помимо простого принятия веры, значит ломиться в открытую дверь. Это означает, что мы пытаемся добавить нечто к уже совершенному деянию Божьему – и ни к чему, кроме неудачи, это привести не может. Вот почему, словно безумец – или, вернее сказать, словно человек, понимающий, что ему посчастливилось обрести великое знание – каждую следующую секунду своей жизни, каждую калорию своей энергии посвятил он распространению этой великой истины, изменившей мир. Он проповедовал бесстрашно – но не потому, что был бесстрашен от природы; скорее потому, что в своем открытии ясно прочувствовал ничтожность и бессилие самой смерти. Смерть побеждена навеки: такова главная мысль его проповеди. История Мартина Лютера поразительна и драматична – и не менее поразительны последствия его истории для мира, вплоть до наших дней. О том, как вышло, что Мартин Лютер заново открыл величайшую благую весть, и как далее он посвятил жизнь проповеди благовестия по всему миру – и рассказывает эта книга.
Глава первая За пределами мифов
У истории Мартина Лютера нет начала. Связано это с тем, что всякая попытка рассказать эту поистине неординарную историю поистине неординарного человека немедленно сталкивается с двумя парадоксами, делающими любое ясное и четкое начало невозможным. Один из этих парадоксов – календарный; второй же столь странен, что в нем трудно увидеть что-то помимо простого совпадения.
Первый, календарный парадокс состоит вот в чем: хотя о Мартине Лютере нам известно неизмеримо больше, чем практически о любом его современнике, ведь свидетельства о его жизни поистине неисчислимы – мы не в силах установить самый простой, основной факт: год, когда он родился. Дата рождения – 10 ноября – отлично нам известна; известен даже час – сразу после полуночи, если верить его матери. Но год, увы, от нас ускользает. Быть может, отчасти и по этой причине Лютер всю жизнь с большим подозрением относился к астрологическим прогнозам, страстным любителем которых был его будущий единочаятель Меланхтон. Сам Лютер всегда говорил, что родился, по всей видимости, в 1484 году; однако ни сам он, ни его мать не были вполне в этом уверены, а современные исследователи предпочитают брать за точку отсчета 1482-й или 1483 годы. Поскольку свидетельства склоняются в сторону последнего, эту дату мы и будем использовать в нашей книге.
Второй парадокс – совсем иного сорта. Известно, что 11 ноября – на следующий день после рождения – спеленутого младенца отнесли всего за сотню ярдов от дома, в овеянную благодатью церковь святых Петра и Павла и там крестили, дабы спасти от адского огня. 11 ноября Церковь праздновала память святого Мартина Турского, так что ребенок получил имя этого святого – обычная для того времени практика. Однако родители Лютера едва ли знали об одной подробности из жизни этого святого, которая в один прекрасный день проявится в жизни нареченного младенца зловещей, сверхъестественной и, как покажется, роковой параллелью.
Святой Мартин жил в IV столетии. Родился он там, где ныне Венгрия, рос там, где в наши дни Павия, а зрелые годы по большей части провел в области, которая ныне зовется Францией; в те времена все эти земли принадлежали Римской империи. Христианином Мартин стал в раннем возрасте, вопреки недовольству отца, а затем поступил на службу в римскую армию. Однажды в галльских провинциях, в городе Борбетомагус – в современной Центральной Германии – святому было приказано идти в бой. Однако Мартин, веруя, что кровопролитие несовместимо с христианскими убеждениями, смело отвечал: «Я воин Христов. Я не могу сражаться»[5]. За дерзкий отказ выполнять свои обязанности он был заключен под стражу и обвинен в трусости, однако это обвинение блистательно опроверг – вызвался выйти на поле боя безоружным, доказав тем самым, что страшится не потерять собственную жизнь, а отнять чужую. В конечном счете битвы не случилось, а Мартин вышел в отставку и вскоре стал монахом. Римский город Борбетомагус, где Мартин перед лицом смерти отстоял свою веру и встал на путь святости, впоследствии сделался немецким городом Вормсом. И здесь, на том же месте, где первый Мартин бросил вызов Риму – одиннадцать лет спустя бросил вызов Священной Римской империи и второй Мартин. Так на второй день жизни Мартина Лютера далекое прошлое соединилось в его судьбе с его собственным будущим.
Мир, в котором явился на свет маленький Лютер, уже много столетий оставался неизменным. Бесконечный океан отделял этот мир от огромных континентов, ныне известных как Северная и Южная Америка. Христофор Колумб исследовал в те годы берега Западной Африки, не ведая, что всего через какой-нибудь десяток лет отправится в отважное путешествие через Атлантику на трех каравеллах. Книгопечатание, изобретенное Иоганном Гутенбергом всего каких-то лет сорок назад, было еще в глубоком младенчестве. И хоть великий раскол 1054 года и отделил Восточную Церковь от Западной – мысль, что необъятная вселенная Святой Католической Церкви под водительством папы может быть потрясена до основания и разорвана надвое, не приходила в голову ровным счетом никому.
Мартин Лютер родился в последний год правления папы Сикста IV – одного из шести пап, столь комически и в то же время трагически несоответствующих своему месту и званию, что этот секстет как будто напрашивался на тумаки от какого-нибудь ревностного августинца[6]. Однако, несмотря на звучное имя, ни в детстве, ни в воспитании, ни даже в молодых годах Мартина Лютера ничто еще не предвещало необыкновенной судьбы.
Прежде чем выловить плетеную корзинку с младенцем Мартином из прибрежных камышей и идти дальше, добавим еще одно: изначально фамилия Лютера звучала не «Лютер», а «Людер». Изменил ее Лютер сам, когда и почему – неясно. Его отец и мать со временем с этим смирились и переменили и собственную фамилию: отчасти – из-за растущей славы сына, отчасти потому, что слово Luder несло с собой немало неприятных ассоциаций, от которых они рады были избавиться, оставив их в мире «подвалов», последних страниц и мелкого шрифта[7].
В попытке рассказать историю Мартина Лютера одна из самых сложных задач – отделить ее от бесчисленных сказок, мифов и легенд, которыми обросло его имя в последние пять столетий. И вот первый миф: Лютер будто бы родился в бедной семье. Отец его был якобы простым горняком, а мать и того хуже – банщицей сомнительной нравственности. Недавние археологические открытия позволяют покончить с этой сказкой раз и навсегда.
На самом деле отец Мартина – звали его Иоганн, или попросту Ганс – был человеком немалого ума и энергии. Его часто называют горняком, однако он определенно не был простым рабочим: это был амбициозный и, в конечном счете, весьма успешный предприниматель. Он владел несколькими плавильнями и в Айслебен приехал вместе с молодой женой, чтобы искать и разрабатывать там богатые залежи медной руды, залегающие глубоко в почве этого лесистого края. Молодая жена его Маргарита происходила из местной семьи Линдеманнов – видных, уважаемых, вполне зажиточных эйзенахских бюргеров. В 1497 году один из Линдеманнов даже стал городским мэром. Двое кузенов Мартина, сыновья старшего брата его матери, также стали известными людьми: один сделался доктором права и советником курфюрста в Саксонии, другой учился в Лейпциге, Франкфурте и Болонье, получил докторскую степень в медицине, стал личным врачом курфюрста Фридриха Мудрого, лечил иногда и самого Лютера. В последние годы жизни он также жил в одном городе с Лютером – в Виттенберге – и преподавал медицину в местном университете. Скромное происхождение, часто приписываемое родителям Лютера, особенно матери – часть агиографического нарратива, сложившегося уже после его смерти и нередко вводящего в заблуждение.
Можно предположить, что именно состоятельное семейство Линдеманнов одолжило Гансу Лютеру значительную сумму, необходимую, чтобы начать рискованное медеплавильное дело. И отец Лютера сумел разумно распорядиться этими инвестициями. Он трудился на износ – и, очевидно, полагал, что сын его Мартин, когда подрастет, станет активным участником семейного дела. Мартин с детства проявлял большие способности, поэтому Ганс решил пустить его по ученой части – и выучить на юриста.
Можно предположить также, что по своей религиозности Людеры не отличались от других людей той же эпохи и того же социального статуса – и, следовательно, к Богу и к Церкви относились очень серьезно. По всей видимости, в доме их имелась домашняя часовня, посвященная святой Анне – женщине, которую не Библия, но христианское предание называет матерью Марии и которая со временем стала считаться святой покровительницей горняков. Причина этого в том, что, как говорили благочестивые верующие, во чреве ее зародились два бесценных сокровища. Из чрева Анны вышла Мария, а из чрева Марии – Иисус. Кто же лучше подойдет на роль святого покровителя людей, чья работа – поиск сокровищ во чреве земли?[8]
Недавние археологические открытия
Мощный толчок лютероведению дали в последние годы археологические открытия в городе Мансфельде, где жил Лютер с шести месяцев и до поступления в школу в Магдебурге. Вот самое примечательное из них: раскопки, начатые в 2003 году, показали, что маленький скромный домик, в течение столетий демонстрировавшийся в Мансфельде как «дом Лютера», на деле представляет собой лишь треть настоящего дома, где жила его семья. Это еще раз подтвердило: когда сам Лютер, уже взрослый, называл своих родителей «поселянами» или «бедными горняками» – это была лишь типичная для него смесь смирения и преувеличения. Вопреки мифам, выросшим из такой самохарактеристики и продержавшимся добрых пять веков, Лютер рос во вполне зажиточном доме. Насколько зажиточном – можно судить по еще одному (2008 год) археологическому открытию во время раскопок на месте этого дома. В том году была обнаружена «прежде неизвестная комната с кирпичными стенами», относящаяся ко времени лютерова детства; а в ней – такое множество разного бытового мусора, что для археолога рядом с этой сокровищницей бледнеет и гробница Тутанхамона. Тщательное исследование этого мусора открыло для нас повседневную жизнь Лютеров в те годы. Явились на свет давно погребенные в толще веков вещи, которыми пользовались Мартин и его семья – и объем и широта находок оказались поистине разительны. Находки подтвердили: перед нами не дом бедных, скромных крестьян – напротив, это дом богатой и уважаемой семьи, одной из первых в городе.
Анализ не менее семи тысяч костей животных показал, что 60 процентов мясного рациона семьи Лютера составляла свинина. Фрагменты костей в основном принадлежат «молодым животным», мясо которых стоило дороже, чем жесткое мясо старых боровов. Тридцать процентов костей принадлежат овцам и козам, оставшиеся десять – крупному рогатому скоту. Также идентифицированы более двух тысяч костей домашней птицы, в основном гусей – а гусятина в то время тоже стоила дороже прочего. Также на столе у Лютеров регулярно бывали цыплята, «изредка попадались утки или голуби». В некоторых гусиных костях просверлены дырочки – кости превращены в манки для птиц: мелкие певчие птицы много столетий были в немецких домах обычной частью повседневного рациона. Наконец, внимательно изучили археологи и рыбьи кости – и идентифицировали такую пресноводную рыбу, как «карп, лещ, плотва, жерех, судак, окунь и угорь». Обнаружилось, однако, и значительное присутствие привезенной издалека морской рыбы – в том числе «сельди, трески и камбалы»; эта рыба, очевидно, попадала в дом Лютеров сушеной или соленой[9].
Еще больше информации принесло обнаруженное в том же 2008 году собрание кухонной утвари. Здесь нашлись Grapen, глиняные горшки о трех ногах – такие ставили прямо в огонь, – а также куда более редкие металлические Grapen, в ту эпоху столь ценные, что их даже упоминали в завещаниях. Найдены были и черепки от причудливых Igelgefässe (горшков-«ежиков»), и осколки стеклянных бокалов, кубков и рифленых винных чаш. Рукоятки ножей и все прочее также свидетельствуют, что семья Людеров принадлежала к верхушке среднего класса.
Археологи обнаружили и множество игрушек, которыми играли маленький Мартин и трое его братьев. Среди них – семь шариков, неровных и разного размера, возможно, сделанных вручную и обожженных в очаге фрау Людер. Говяжья кость с просверленной в ней дыркой: в дырку, скорее всего, заливался расплавленный свинец, и такие утяжеленные кости использовались как кегли. Игра в такие кегли изображена на заднем плане на знаменитой картине Брейгеля (Старшего) «Детские игры». Найден и Pfeifvogel (свисток) – «его можно было наполнять водой, и он начинал издавать трели». Найден даже любопытный предмет, который ученые считают миниатюрной копией «ореха» – части спускового механизма арбалета. Должно быть, он от игрушечного арбалета, с которым играли Мартин и его братья. Если так, к многочисленным образам Лютера в нашей культурной памяти можно прибавить еще один – маленький Мартин гоняется за братьями с игрушечным оружием: «Падай, ты убит!» Разумеется, у сыновей «бедных крестьян» таких сложных и дорогих игрушек не было и быть не могло[10].
Однако настоящая загадка этой огромной мусорной кучи – в том, что среди малоценных предметов в ней разбросаны и весьма ценные. Понятно, зачем выбрасывать рыбьи кости; но как оказались в груде мусора латунные пуговицы и наконечники шнурков, расшитый пояс с кошельком, даже несколько серебряных монет? Одна из современных теорий гласит, что около 1505 года, сразу после того, как Лютер вопреки отцовскому желанию постригся в монахи, в Мансфельд – как не раз случалось в те столетия – пришла чума. Считается, что она унесла жизни двоих братьев Мартина[11]. Согласно врачебным рекомендациям того времени всю одежду и белье человека, умершего от чумы, следовало сжечь. Из комнат мертвецов торопливо выносили все, что там было – и при этом ценные предметы могли смешаться с мусором и вместе с ним отправиться на помойку, чтобы много веков спустя загадать загадку археологам.
Отношения Лютера с отцом
Еще одна басня, репьем прилипшая к истории Лютера, гласит: отец его, мол, был невероятно суров, вечно сердился на сына, так что в конце концов Лютер взбунтовался не только против земного, но и против Небесного Отца. Не приходится сомневаться, что не раз, когда сын выводил отца из терпения (а какому мальчишке не случалось выводить родителей из терпения?), Ганс Людер награждал его затрещинами – такой способ воспитания был в то время, как и почти во все времена и во всех культурах мира, обычным делом. Придавать этому какое-то особое значение было бы анахронизмом. Если бы телесные наказания такого рода в самом деле производили на детей столь глубокое впечатление, наш мир был бы полон Лютеров. Но нет: судя по всему, что нам известно, воспитывали Лютера точно так же, как всех мальчишек в то время и в тех краях. Наоборот, если бы стало известно, что отец Лютера жалел розог для сына – это был бы примечательный факт, на который стоило бы обратить внимание. Известно, что однажды отец наказал Мартина очень сурово, так что некоторое время юный Мартин – от страха или от обиды, это нам неизвестно – прятался от отца. Но и в этом, по тогдашним нравам, ничего необычного нет; герр Людер был не единственным суровым отцом своего времени – и уж точно не самым суровым. Сам Лютер позднее вспоминал о том, как дорогая и любимая матушка однажды избила его «до крови» за страшное преступление: он стащил со стола орех.
Упорное стремление изображать отца Лютера суровым, безжалостным человеком восходит почти исключительно к «Молодому Лютеру» – известному биографическому сочинению психоаналитика Эрика Эриксона, полагавшего, что именно отождествление собственного отца с мрачным Богом-судией вызвало предсказуемый и бессознательный приступ Эдипова комплекса, разорвавший западный христианский мир надвое. Эта идея Эриксона на десятки лет затуманила разум биографов Лютера; однако нет никаких причин считать эти измышления венской психоаналитической школы чем-то большим, нежели исторический курьез, место которому – рядом с книгами доктора Спока. То, что книга Эриксона, вышедшая в 1958 году, получила восторженные отзывы Маргарет Мид и Рейнгольда Нибура, лишь свидетельствует о стойкости предубеждений, распространенных в середине прошлого века. Об интеллектуальной и душевной жизни Лютера нам известно намного больше, чем о ком-либо из его современников – от Васко да Гамы до Генриха VIII, – так что все попытки навязывать ей подобные дурацкие интерпретации пригодны лишь на то, чтобы оставаться памятником псевдоинтеллектуальному вздору.
Быть может, самое странное в теории Эриксона то, что она не только дает многим фактам неверное и натянутое истолкование, стремясь подогнать их под свой шаблон, но и игнорирует множество фактов об отношениях Лютера с отцом, во времена Эриксона вполне известных и доступных. Сколько произошло между ними за много лет! Но из всего этого массива фактов Эриксон придирчиво и предвзято выбирает лишь то, что может послужить модной фрейдистской теории. Существует масса свидетельств о том, что Лютер любил отца, а его отец любил сына. Когда школьный приятель Лютера Ганс Рейнеке сообщил ему о смерти отца, Лютер написал в ответ: «Едва ли когда-нибудь я более, чем сейчас, ненавидел смерть». Известие это, говорил он, «погрузило меня в глубокую скорбь – не только потому, что он мой отец, но и потому, что он очень меня любил». Писал он и нечто большее: «Через него Создатель дал мне все, что имею, и сделал меня тем, что я есть»[12].
Школьные годы
Воспоминания Лютера о детских годах относятся почти исключительно к намного более позднему периоду его жизни. С женитьбы в 1525 году и до смерти в 1546-м Лютер и его жена Кати жили в бывшем августинском монастыре, в так называемой Черной Обители: вместе с ними обитали там на полном пансионе студенты, там же они часто принимали гостей. В какой-то момент студенты и гости принялись записывать то, что говорил Лютер. Эти записи составили множество томов и впоследствии получили название «Tishreden», или «Застольные беседы»: нередко одно и то же утверждение или история повторяются в них много раз, в изложении различных собеседников, так что в этих записях бывает нелегко разобраться. Кроме того, необходимо понимать, что в записях этих содержится не простое и беспристрастное изложение событий – нет: в них пожилой человек, любитель красного словца, зачастую раздражительный и гневливый, вспоминает в разговорах о чем-то, что сильно его задело и надолго врезалось в память. Учитывая все это, можем, однако, сказать: о своем школьном обучении Лютер вспоминал без всякой теплоты. Например, он рассказывал, что однажды утром, еще в младшей школе, получил пятнадцать ударов розгой за то, что не смог проспрягать один латинский глагол. Лютер поясняет: этот глагол в классе еще не проходили, он его знать не мог – но за ошибку учителей ему пришлось расплачиваться своей шкурой. В тексте 1524 года он также замечает, что, «несмотря на беспрестанную порку, дрожь, боль и страдания, не выучился я там ровным счетом ничему». Можно вынести общее суждение: для чрезвычайно умного и чувствительного мальчика, каким был юный Мартин Лютер, школа стала бесконечной и невыносимой пыткой.
Lingua franca в образованных кругах того времени была латынь, и от школьников требовали все время говорить по-латыни. Для понимания социального статуса Ганса, отца Лютера, стоит отметить, что сам он по-латыни не понимал – следовательно, если и получил какое-то образование, то совсем не того калибра, что его сын. В первой школе Лютера каждый день с латинского гимна начинался и другим латинским гимном заканчивался. Каждое утро учитель назначал одного из учеников der Wolf («волком»), в чьи обязанности входило «стучать» на школьников, говорящих по-немецки или еще как-либо нарушающих школьный распорядок. Тот, кто вел себя хуже всех, объявлялся der Esel («ослом»): весь следующий день он должен был таскать на шее, на веревочке, деревянную фигурку осла и терпеть от всех вокруг позор и поношение. Другие воспоминания Лютера о школе тоже, как на подбор, невеселы. Однако можно предположить, что хотя бы отчасти он преувеличивал, если вспомнить школьную поговорку того времени, демонстрирующую самое уважительное отношение к образованию и к учащимся. Поговорка эта гласила: «Пренебречь учеником – такой же грех, как растлить девицу».
Позднее Лютер рассказывал, что общая атмосфера страха перед учителем, царившая в школе, осталась с ним на много лет – так что, даже когда кто-то желал ему добра, он с трудом мог это понять и поверить. С этим Лютер прямо связывал иррациональный невежественный страх перед благим Богом, царивший в церквях и в богословии того времени, – и в связи с этим рассказывал один случай из детства. В то время у него на родине, пояснял он, повелось, что дети просили продавцов на рынке угостить их колбасой. (Так поступали не только бедные дети, как можно прочесть в иных старых биографиях Лютера – еще одна басня, которую нужно отделить от истины. Это был обычай, общий для всех детей.) Однажды какой-то добрый человек побежал за Лютером и его друзьями с колбасой в руках. Он хотел их угостить – но Лютер и его друзья бежали в страхе, уверенные, что этот Hanswurst[13] намерен сделать им что-то дурное. На этом примере Лютер показывал: даже когда Бог простирает к нам Свою любовь и благодать, мы, исполненные представлениями о Боге-суровом судье, готовом нас карать и наказывать, нередко бежим от Его любящих объятий – и так, по трагической иронии, сами себе отказываем именно в том, чего желаем больше всего на свете.
Магдебург. Aetatis[14] 13
Осенью 1496-го или, возможно, весной 1497 года родители Мартина отправили его в школу в Магдебурге, в сорока милях к югу от Мансфельда. Было ему тогда тринадцать лет. В школу он уехал вместе с Гансом Рейнеке, сыном еще одного богатого и успешного горняка, с которым отец Лютера был приятелем[15]. Едва ли стоит сомневаться, что Ганс Лютер возлагал на сына большие надежды – и поздравлял себя с тем, что посылает его в школу, где Мартин как следует выучит латынь и заведет знакомства среди отпрысков богатых и влиятельных семей. Сам Ганс Лютер, судя по всему, напрягая все силы, карабкался вверх по социальной лестнице – или, по крайней мере, изо всех сил старался удержаться на той ступени, где ему повезло оказаться. Умный, даровитый, образованный сын, несомненно, должен был стать величайшим приобретением для всей семьи. Очень важным представлялось и то, чтобы сын завел связи среди «правильных» людей: поэтому, когда представилась возможность отправить его вместе с сыном Рейнеке в Магдебург, Ганс Лютер с радостью ей воспользовался. В Магдебургском архидиоцезе служил некий доктор Пауль Мосшауэр, родом из Мансфельда, состоящий в родстве с несколькими мансфельдскими горняками и рудоплавильщиками; благодаря его протекции и удалось устроить Лютера и Рейнеке в магдебургскую школу.
Магдебург оказал на Лютера глубокое влияние, в конечном счете сказавшееся в 1505 году, когда он сделался монахом. Здесь он поселился в Nullbrüder («Братстве Общинной Жизни»): это «братство» объединяло в себе благочестивых людей, не монахов, но ведущих практически монашескую жизнь. Они принимали к себе на пансион школьников и студентов. Жили довольно бедно, однако, в отличие от большинства настоящих монахов, не прибегали к попрошайничеству, а вместо этого зарабатывали себе на жизнь переписыванием книг, поскольку книгопечатание в те времена было распространено еще не слишком широко. Быть может, здесь Лютер впервые столкнулся с настоящим благочестием – и его готовность воспринимать Бога серьезнее, чем его сверстники, здесь впервые нашла себе подкрепление. Разумеется, знай отец, что сын его двинется в этом направлении, – ни за что не поселил бы его у Nullbrüder! Однако пока у него не было никаких причин видеть в Мартине что-либо иное, кроме почтительного сына, готового исполнять желания отца – а именно хорошо учиться, со временем стать доктором права и принести честь и славу своей семье.
За год, проведенный в Магдебурге, познакомился Лютер и с местной знаменитостью – принцем Вильгельмом Ангальтским, исхудалую фигуру которого можно было часто увидеть на улицах города. Вся семья его была очень религиозна: двое братьев стали священниками, сестра – монахиней. Но Вильгельм перещеголял их всех: он принял обеты францисканского ордена, поклялся жить в бедности и отринул всякие притязания на княжество своего отца. Как и основатель ордена, он оставил титул, презрел мирское богатство, чтобы следовать за Христом самым смиреннейшим из возможных путей, – прося милостыню на улицах.
Суровая фигура Вильгельма должна была производить на прохожих сильное впечатление. По обычаю странствующих францисканцев, он ходил повсюду с мешком за плечами. Известно было, что он у себя в монастыре он погружен в неустанные труды; а беспрерывные бдения и посты, вкупе с самобичеванием, превратили его в ходячий скелет. Умер он в 1504 году, не дожив и до пятидесяти. Позже Лютер писал: «Своими глазами видел я, как он, подобно ослу в упряжи, тащит свой мешок. Он так истощил себя бдениями и постами, что стал похож на череп – кожа да кости. Глядя на него, нельзя было не преисполниться стыда за собственную жизнь»[16]. Образ Вильгельма, презревшего все ловушки мира сего, отказавшегося даже от княжеского престола, не мог не пленить чувствительного молодого человека, чей дар самоанализа, столь ярко проявившийся впоследствии, несомненно, уже в эти годы пробуждался – и ставил под вопрос ту стезю мирского благополучия, которую уготовил для Мартина отец.
Айзенах. Aetatis 14
В Магдебурге Лютер провел всего год, а затем отправился за семьдесят пять миль к юго-западу от Мансфельда, в город Айзенах. Здесь ему предстояло провести следующие три или четыре года и пустить корни; впоследствии он с нежностью говорил об «Айзенахе, милом моем городе». Здесь у Лютера было много родственников как с отцовской, так и с материнской стороны. Одна из самых популярных лживых легенд, выросших вокруг Лютера – история о том, как бедный мальчик, оказавшийся в Айзенахе, за много миль от родного дома, совсем один, вынужден был петь на улицах, чтобы заработать себе на хлеб. Одна вдова, – рассказывает дальше легенда, – пожалела бедное дитя и была так очарована его голосом, что пригласила мальчика поселиться у нее. Все здесь неправда, к тому же основанная на ложной предпосылке. В самом деле, во времена детства Лютера существовал обычай молодым людям в определенные праздники ходить от двери к двери, распевая песни и выпрашивая подаяние – однако этот обычай не особенно отличался от американской традиции празднования Хэллоуина или от восточноевропейских колядок. Занимались этим все подростки, а не только бедняки: они именовались Partekenhengst, что означает «собиратель Parteken», то есть кусочков хлеба.
В то время Айзенах мог похвастаться тремя монастырями: доминиканским, картезианским и францисканским. Им соответствовали три прихода: святого Николая, святого Георгия и Девы Марии. Огромная церковь Девы Марии славилась двадцатью алтарями и бесчисленными реликвиями, в том числе обломком кости, будто бы принадлежавшей самой Марии. Паломники, посещавшие это святилище, верили, что взирают на освященную плоть руки, качавшей колыбель младенца Иисуса[17]. Лютер позднее называл этот город населением в четыре тысячи человек «гнездом священников и рынком клириков»[18].
В Айзенахе Лютер посещал приходскую школу при церкви святого Георгия; здесь он сблизился с одним из преподавателей, Вигандом Гюльденапфом, с которым сохранил связь на всю жизнь. Кроме того, здесь у него завязались отношения с двоюродным дедом Конрадом Хуттером, в прошлом попечителем церкви святого Николая.
В эти же годы подросток Лютер через общих друзей свел знакомство с видным местным семейством Шальбе – и несколько лет прожил в этой семье. Как раз в это время, в 1495-м и затем в 1499 году, Генрих Шальбе был в городе бургомистром. И снова мы убеждаемся, что Лютер отнюдь не бедствовал: уже в четырнадцать лет он был отлично устроен, вел жизнь состоятельного юноши с хорошими связями и блестящими перспективами. Семья Шальбе была не только влиятельна и богата, но и глубоко благочестива: Шальбе были основными покровителями местного францисканского монастыря. Именно жена Генриха Шальбе впервые заронила в сознание юного Лютера представление о том, что брак должен быть важным и необыкновенным событием. Порой она приводила на память стихотворную строку, которую Лютер вспоминал и много лет спустя: «Для тех, кому это дано, нет вещи на земле дороже, чем любовь женщины»[19].
В Айзенахе, где провел почти четыре года, Лютер подпал также под влияние отца Иоганна Брауна, в то время приходского священника в церкви Девы Марии. Браун был связан со школой святого Георгия и, по-видимому, нередко принимал школьников у себя дома: по всей видимости, там Лютер с ним и познакомился. Из их позднейшей переписки мы видим, что Браун, человек добрый и благочестивый, оказал на Лютера серьезное духовное влияние, и что он рано распознал в Лютере глубокий ум и чувствительную душу, на которую, несомненно, у Бога имеются какие-то особые планы и задачи, – от Лютера требуется лишь открыться для них.
Семья Шальбе не только научила Лютера тому, что Бог должен находиться в центре нашей жизни – и в гораздо более глубоком смысле, чем мог он усвоить это в Мансфельде, – но и впервые познакомила с мыслью, что у Церкви может быть темная сторона и что земные церковные институты, возможно, не вполне воплощают в себе Церковь, какой задумал ее Бог. Быть может, именно от отца семейства Генриха Шальбе Лютер впервые услышал о престарелом францисканском монахе Иоганне Хильтене, который в эти годы находился в Айзенахском монастыре в заточении за бесстрашную критику Церкви.
Как испытание святого Мартина в Вормсе (Борбетомагусе) в IV столетии выглядит неким странным предвестием событий жизни Лютера тысячу лет спустя – такое же странное пророчество можно усмотреть и в апокалиптических прорицаниях Хильтена. В своих писаниях Хильтен предсказывал, что в 1516 году восстанет вождь, который будет бороться за реформацию Церкви, победит и положит конец вековому владычеству монахов. Нам неизвестно, знал ли Лютер в то время о пророчествах Хильтена – но точно известно, что в последующие годы знал и относил эти пророчества к себе. Несомненно, это должно было поддерживать его в борьбе и укреплять величайшие его орудия – веру и мужество. Пророчествовал Хильтен и о том, что через сто лет христианскими землями овладеют мусульмане; так что в последующие десятилетия Лютер – учитывая точность предсказаний Хильтена относительно него самого – неминуемо должен был верить и этому и ощущать, что мы живем в последние дни, что антихрист уже на пороге и вот-вот в последней попытке победить устроит такой невообразимый хаос, который «даже избранных» введет в заблуждение.
Хильтен умер узником в монастыре в 1500 году, в возрасте семидесяти пяти лет, скорее всего от голода – трудно сказать, заморил ли себя голодом сам или ему в этом «помогли». Однако в его истории мы снова видим: мысль о святом, противостоящем Церкви, не была для того времени совершенно чуждой и невозможной. Не стоит поддаваться упрощенному взгляду на историю, согласно которому до пришествия Мартина Лютера Церковь была монолитна и лишена инакомыслия. То, что у Церкви много недостатков, что немалое число монахов, священников и иных клириков – гнусные алчные ханжи, едва ли могло никому не приходить в голову. Как это ни воспринимай, а миряне видели это своими глазами – и обсуждали, и выражали свои мысли по этому поводу как частным образом, так и публично. Им не хватало лишь «полководца», способного начать с Церковью бой – и победить.
В самом деле, серьезные проблемы Церкви стали притчей во языцех еще за много столетий до Лютера. Ко времени Лютера порча Церкви была широко известна. Не только разговоры о проблемах, но и громкие призывы к реформам слышались то тут, то там еще за века до виттенбергского монаха. Самый ранний пример, драматический и широко известный, относится к XIII веку, когда молодой дворянин по имени Франциск, впоследствии прославленный во святых, услышал глас Божий: «Мой дом лежит в руинах. Восстанови его!»[20]. И в период между Франциском и Лютером мы видим в Церкви немало фигур, пытавшихся изменить положение к лучшему – хоть и не всех из них восхваляли, как Франциска, а многих из-за их деятельности объявляли еретиками, отлучали от Церкви и даже сжигали на кострах.
В 1328 году в Англии родился Джон Уиклиф, во многих важных отношениях предшественник Лютера и будущих лютеровых реформ. Уиклиф агитировал за перевод Библии на английский язык, чтобы простые люди могли читать слово Божие, и сам перевел большую часть Нового Завета – хотя, разумеется, не на современный, а на среднеанглийский, язык времен Чосера[21]. Например, Ин. 3:16 в его переводе звучал так: «For God louede so the world, that he ȝaf his oon bigetun sone, that ech man that bileueth in him perische not, but haue euerlastynge lijf».
Вместе с другими трудился Уиклиф и над переводом Ветхого Завета: страстно, как и Лютер, стремился он к тому, чтобы каждый мог читать Благую Весть на своем родном языке. «Христос и апостолы Его, – говорил он, – учили народ на том языке, который их слушатели лучше всего знали. Почему бы не поступать так и сейчас?» Разумеется, печатный станок был изобретен лишь в 1450 году, и первой печатной книгой, вышедшей в 1455 году, – знаменитой Гутенберговой Библией, – стала латинская Вульгата. Несомненно, имевшаяся у Лютера возможность печатать и широко распространять в массах свой немецкий перевод Библии оказала ему огромную услугу в деле Реформации, к которой стремился и Уиклиф.
Как и Лютер в более поздние времена, Уиклиф выступал против монашества, священничества как особой касты и даже против пресуществления Тела и Крови Христовых – в основном по тем же причинам, что и Лютер 150 лет спустя. Высказывался он и против богатства Церкви, и даже – достаточно жестко – против папства. Когда в Англии произошло крестьянское восстание, парламент и английская Церковь обвинили Уиклифа в том, что это его учение воспламенило восставших – так же как впоследствии и Лютера обвиняли в разжигании Крестьянской войны. В 1384 году Уиклиф умер от удара, прямо во время богослужения; однако Констанцский Собор 1415 года посмертно объявил его еретиком, а в 1428 году кости его были извлечены из могилы и сожжены, а пепел развеян над рекой Свифт, протекающей через английскую деревушку Люттеруорт[22].
Еще одним реформатором до Лютера стал богемец Ян Гус, родившийся в 1369 году, богослов из Пражского университета. Гус, испытавший сильное влияние Уиклифа, резко выступал против индульгенций и папства, особенно критикуя папу за использование военной силы – ведь Церковь не должна носить меч. На Констанцском Соборе Гус был осужден как еретик и в 1415 году сожжен на костре. Однако последователи его, так называемые гуситы, продолжали существовать и после его смерти.
И в самом Ватикане многие ясно понимали, насколько испорчена и развращена Церковь и как нуждается она в реформировании. Сразу после смерти Пия II в 1464 году епископ Доменико де Доменичи выступил с резкой критикой папства: миряне, говорил он, называют Церковь «блудницей Вавилонской, матерью всех преступлений и прелюбодеяний земных». Он призывал «восстановить достоинство Церкви, воскресить ее авторитет, исправить нравы, вернуть порядок в папскую курию, защитить справедливость, умножить веру»[23]. Более того, христианскому миру угрожали дьявольские турецкие орды – и Доменико, как и многие другие, понимал: если ничего не исправить, скоро весь христианский мир подпадет под иго магометан. Однако эти мрачные пророчества не имели никакого действия – с тем же успехом можно было проповедовать Нерону или Калигуле о вырождении Рима и визиготской угрозе. После избрания папы Сикста IV в 1471 году Рим уже не шел – семимильными шагами бежал к катастрофе. Как и предшественники его, и преемники, в призывах к реформам Сикст IV слышал лишь надоедливую угрозу своей власти – и топтал их своими алыми бархатными туфлями. С теми, кто призывал реформировать Церковь, обходились как с назойливыми мухами: отмахивались или давили.
Нравственно зараженная среда Ватикана времен Медичи, казалось, существовала лишь для того, чтобы давать материал будущим сценаристам телесериалов. Например, флорентийская семья Пацци, испив полную чашу злодеяний Медичи, задумала убить разом и Джулиано, и Лоренцо – во время церковной службы. Решение было чисто практическое: именно в церкви их вернее всего можно было встретить без защиты. Сигналом для вооруженного кинжалом assassino стал колокол, возвещающий самую святую минуту мессы – вознесение Святых Даров. При этом священном сигнале убийца бросился на врагов – и Джулиано немедленно встретился со своим Создателем, а вот Лоренцо выжил и продолжил злодействовать дальше.
В те годы, когда юный Лютер учился в Айзенахе, папой в Риме был Александр VI Борджиа – быть может, самый порочный из всех порочных понтификов на дне той пропасти, в которой покоился институт папства. В то, что он вытворял, порою трудно поверить. Когда умер его предшественник Иннокентий VIII, Александр, метивший на папский престол, отказался от закулисных переговоров с кардиналами – обычной коррупционной практики того времени; вместо этого он попросту устранил соперников, заплатив им всем отступные. Рассказывают, что четыре мощных мула тащили на себе тяжеленные короба, доверху набитые серебром. С этой богатой поклажей отправились они от роскошного дворца Родриго Борджиа ко дворцу его главного соперника Асканио Сфорца – и там оставили свой драгоценный груз. Еще в бытность кардиналом будущий папа времени даром не терял – стал отцом семерых детей, предсказуемо признанных незаконнорожденными. Однако теперь, получив в руки огромную папскую власть, он запросто мог «узаконить» любого, кого считал нужным. Все, что для этого требовалось – поставить подпись на папской булле[24]. Так, одним росчерком священного пера святого Петра, bastardi чудесным образом превратились в добропорядочных граждан – и, более того, вступили в эксклюзивный клуб законных детей римских пап. Перед самым вступлением на папский престол пятидесятидевятилетний Александр завел себе новую любовницу: некую Джулию Фарнезе, сорока тремя годами его моложе, уже в шестнадцать лет прославленную сказочной красотой, особенно каскадом золотых волос, ниспадающих до самого мраморного пола Ватикана. Иные называли ее «папской шлюхой», но люди более остроумные – или осторожные – именовали «невестой Христовой».
Эрфурт. Aetatis 17
В 1501 году, в семнадцать лет, для Лютера настало время поступать в университет. Рудоплавильное дело давало его отцу достаточно денег, чтобы оплатить учебу сына. Должно быть, с неописуемой гордостью Ганс Лютер снаряжал своего старшенького в знаменитый Эрфуртский университет. «Дорогой мой отец, – вспоминал позднее Лютер, – поддерживал меня всеми силами, и только трудами рук его я смог поступить в университет». Во многих смыслах это была кульминация всех усилий отца: всего несколько лет – и Лютер получит степень по юриспруденции, открывающую дорогу к дальнейшим свершениям, затем вернется в Мансфельд, найдет себе подходящую жену из какого-нибудь респектабельного местного семейства и станет практикующим юристом, активно помогающим отцу в его деловых предприятиях…
Распорядок в университете был, по нашим стандартам, достаточно суровый: в четыре утра студенты поднимались на молитву, в восемь вечера отходили ко сну. Все они жили в общежитии, так называемой бурсе[25] – таких бурс в Эрфурте было шесть. В день полагалось две трапезы: первая – в десять утра, после четырех часов упражнений и лекций. После этого завтрака занятия продолжались до пяти вечера. Лютер, по-видимому, жил в бурсе под названием «Врата рая», где на утренних молитвах за каждые пятнадцать дней прочитывали всю Псалтирь – так что за четыре года пребывания в Эрфурте псалмы он должен был выучить наизусть. Также и за завтраком, и за обедом студентам читались вслух отрывки из Вульгаты, а иногда – «Postillae» Николая Лирского, экзегетические комментарии на Библию, о которых Лютер и много лет спустя отзывался очень высоко и активно ими пользовался, создавая свой перевод книги Бытия. Логично предположить, что уже в те юные годы священные слова, слышанные Лютером, оставляли глубокий след в его сердце. Очевидно, в этом была одна из причин, приведших к тому, что вопросы о Боге он воспринимал куда глубже и серьезнее среднего эрфуртского студента, и трудно сомневаться: даже если прежде Лютер об этом не задумывался, – в то время он начал подумывать о принятии монашеских обетов.
Гуманизм
Именно в Эрфурте, изучая философию, Лютер впервые познакомился с новым и модным интеллектуальным движением – гуманизмом[26], которому были преданы здесь многие профессора и студенты. Среди профессоров можно назвать Бартоломея Арнольди Узингена и Йодокуса Трутфеттера, с которыми Лютер поддерживал связь на протяжении многих лет. А среди студентов – молодого человека по имени Георг Буркхардт, сына дубильщика из баварской деревни Шпальт. Несколько лет спустя этот Георг последовал примеру большинства гуманистов того времени, бравших себе латинские или греческие имена. Буркхардт латинизировал название своей родной деревни – и приобрел известность как Спалатинус или, в немецком варианте, Спалатин: под этим именем и узнал его Лютер. В будущем Спалатин станет ближайшим другом Лютера и одним из важнейших героев нашей истории. Но пока до этого далеко – они просто знакомы.
Несколько столетий в средневековой Европе господствовала школа мысли, известная как схоластика. Главные схоласты – Дунс Скот, Уильям Оккам (создатель пресловутой «бритвы») и Фома Аквинский. В наше время большинство людей воспринимает схоластику как теоретизирование, безнадежно оторванное от практических жизненных проблем. Образ ученых, которые, запершись в башне из слоновой кости, пресерьезнейшим образом обсуждают ничтожные и смехотворные философские парадоксы – словно не замечая, что турки взяли Константинополь и угрожают всему христианскому миру, – запечатлен в классическом вопросе: «Сколько ангелов может уместиться на кончике иглы?» Это не шутка, не преувеличение – схоласты в самом деле серьезно об этом спорили. Кроме того, в схоластический период студентам предлагалось читать вместо самой Библии «Сентенции» Петра Ломбардского, комментарии на отдельные части Писания – или даже примечания Дунса Скота к «Сентенциям» Петра. Им, так сказать, предлагали играть с черепицей на крыше, и они играли, ничего не зная ни о доме, ни о фундаменте дома да и не обращая на него никакого внимания.
По иронии судьбы, именно падение Константинополя в 1453 году под ударами мусульманских агрессоров привело к тому, что схоластика в Европе встретилась с достойным противником. Бесчисленные византийские ученые бежали из своей порабощенной страны в Европу: результатом этого стало великое возрождение греческих и латинских исследований, приведшее к тому, что мы теперь называем возрожденческим гуманизмом. Девизом его было: ad fontes – назад к первоисточникам! Впервые за много столетий перед европейскими учеными открылись огромные, завораживающие возможности – и прежде всего возможность вернуться к корням христианской веры. Опираясь на первоисточники, можно было исследовать любые спорные вопросы или опровергать общепринятые учения. Само слово «Возрождение» указывает на то, что речь шла не просто о возвращении к древним оригинальным источникам – скорее уж о том, что эти источники получили новую жизнь, ибо знания, накопленные за много веков университетских штудий, ученые теперь прикладывали к этим древним текстам. Много столетий тексты эти пребывали в забвении, иные даже считались навсегда утраченными; но вдруг двери растворились, и на ошеломленных европейцев хлынул поток новых знаний. Кто знал, что можно найти в этой древней сокровищнице?
В центре всех этих новых открытий стояла, разумеется, Библия. Мир схоластики чрезвычайно отдалил Библию от верующих – даже от монахов; и даже те, кому позволялось читать отрывки из Библии, пользовались латинской Вульгатой, порой затемняющей смысл оригинального текста[27]. Однако изначально Ветхий Завет был написан на древнееврейском, а Новый – на греческом, и в латинском переводе было немало неточностей и смысловых ошибок, много веков передававшихся из поколения в поколение. В восстановлении греческого Нового Завета важнейшую роль сыграл Эразм Роттердамский: именно благодаря ему писания первых христиан – изначальные, без всяких прикрас – стали доступны новому поколению. Из тех, кто устремился на эти давно забытые пути, одной из самых заметных фигур был сам Лютер – и именно с восстановленным греческим Новым Заветом Эразма сверялся он много лет спустя, переводя Новый Завет на немецкий. Но пока все это было лишь волнующей возможностью. Несомненно, уже в университете Лютер задавался вопросом о том, какие еще неоткрытые сокровища прячутся в оригинальных текстах и сможет ли его беспокойная душа найти успокоение в первоисточниках.
В Эрфурте впервые ярко засияли дарования Лютера. До этого мы не слышим о нем ничего примечательного; если и были у него какие-то успехи в учебе, сведения о них до нас не дошли. Но после всего трех семестров в Эрфурте Лютер защищает бакалавриат: экзамены на степень бакалавра он прошел 29 сентября (в день святого Михаила) 1502 года. Теперь настало время более серьезных занятий – Лютеру предстояло стать магистром. Много лет спустя его будущий коллега Меланхтон сообщит, что, по рассказам многих студентов, учившихся вместе с Лютером, с этого времени талант его стал «чудом для всего университета». Экзамены на магистерское звание он был готов сдать уже в декабре 1504 года; однако для получения магистерской степени кандидат должен был достичь двадцати двух лет. Точного года своего рождения Лютер не знал, и, возможно, поэтому для него допустили послабление. Если он родился, как мы предполагаем, в 1483 году, значит, за месяц до того ему исполнился двадцать один год. Магистерские экзамены Лютер сдал в январе 1505 года, сразу после Богоявления[28].
Итак, Лютер получил степень магистра свободных искусств (magister artium), заняв на экзаменах второе место из семнадцати, получил магистерское кольцо и вожделенную бордовую биретту. Сделаться магистром – для сына горняка это было серьезное достижение! Получение ученой степени поставило Лютера в привилегированное положение даже в собственной семье – ведь ни отец его, ни предки с отцовской стороны в университете не учились. Подумать только – сын Ганса Людера получил ученое звание в одном из самых блестящих университетов мира! С этих пор отец Лютера обращался к сыну уже не на «ты» (du), а официально и с уважением – на «вы» (ihr).
«Что за торжественный, радостный миг, – вспоминал Лютер много лет спустя, – когда получаешь магистерскую степень, и перед тобой несут светильники, и воздают тебе почести! Думаю, никакая иная временная или мирская радость с этим не сравнится». Конная процессия, блеск факелов, общий торжественный и радостный настрой – все это произвело на него глубокое впечатление, сохранившееся до конца жизни. И через много лет, вспоминая это чествование, Лютер восклицал: «Вот так следует праздновать нам и сейчас!»[29]
Перед ударом молнии
Получив магистерскую степень, Лютер готов был начать изучение юриспруденции. Вплоть до этой жизненной вехи он точно выполнял отцовские ожидания – и теперь готовился преодолеть последнюю ступень и стать юристом. Но, может быть, именно в это время он начал задумываться о том, чего же хочет на самом деле. Быть может, его поразила окончательность, непоправимость предстоящего ему выбора. Нам неизвестно, задумывался ли Лютер до тех пор о монастыре – но, скорее всего, задумывался; и на этом этапе мысль о монастыре должна была перейти из разряда фантазий в категорию серьезных жизненных вопросов, требующих решать и выбирать. В любом случае, привычный нам рассказ о том, как, напуганный раскатами грома и ударами молний под Штоттернхаймом, Лютер внезапно решил уйти в монахи, – едва ли составляет всю историю. Как и большая часть романических, идеализированных сюжетов из жизни Лютера, это скорее народная легенда, чем строгий факт. Однажды, пораженный ужасом, Лютер опрометчиво дал обещание, которое из чувства долга волей-неволей пришлось выполнять… очень сомнительно, что так оно и было.
Итак, Лютер собирался изучать право и стать юристом – и наконец прошел через последнюю дверь на пути к своей цели. Он приобрел «Corpus Juris» – огромный и дорогой том, необходимый каждому будущему юристу – и, казалось, непоколебимо шел своим путем. Однако думается нам, что, помимо выбора карьеры, душу Лютера в то время волновало и многое другое. Современному человеку легко забыть о том, что во все времена, равно как и в наше, над каждым постоянно висит угроза безвременной смерти – и человек думающий или чувствительный (а Лютер обладал обеими этими добродетелями) едва ли в силах об этом забыть. Уже в Эрфурте начало поднимать голову Anfechtungen[30] – мрачное умонастроение, которое в будущем принесет столько печально известных страданий Лютеру-монаху. Уже тогда Лютер начал с тревогой спрашивать себя, какова будет его судьба в вечности: случись ему внезапно умереть – примет ли его Бог в любящие объятия или, что куда вероятнее, вонзят в него свои когти и потащат за собой в вечный огонь безобразные черти.
И снова повторю: стремясь представить себе, чем жили и как мыслили люди позднего Средневековья, необходимо отложить не только современные материалистические предрассудки, но и столь же анахронистическое представление, что в Боге можно видеть лишь неизменно любящую, доброжелательную фигуру. В дни Лютера Бога куда чаще представляли себе как вечного судию, чью святость мы почти беспрерывно оскорбляем своим поведением – и лишь при большом везении можем после смерти оказаться в чистилище, а не в аду. И даже в чистилище нам предстоят долгие болезненные испытания, в течение тысяч и даже миллионов лет – пока мы наконец не очистимся от греховности, пропитавшей нас насквозь. И кто знает, какие ему предстоят посмертные муки? Лютер был слишком умен, чтобы просто отмахиваться от этих вопросов – и слишком чувствителен, чтобы о них не тревожиться. Тревога эта не давала ему покоя, изнуряла и погружала в состояние, которое сам он называл Anfechtungen – в мрачное, парализующее уныние. У слова Anfechtung, в сущности, нет адекватного перевода. Корень у него тот же, что у глагола fechten, означающего «защищаться» или «вести поединок». Fecht, очевидно, родственен английскому «fight» – «сражаться». Итак, Anfechtungen Лютера – борьба с собственными мыслями и с дьяволом. Однако нам трудно в полной мере уразуметь, сколь ужасна была для него эта борьба.
Некое представление об этом могут иметь люди, страдающие депрессией. По описаниям самого Лютера, мы представляем себе какую-то черную дыру полнейшего отчаяния, расширяющуюся, поглощающую весь мир; все громче доносятся оттуда, перебивая друг друга, голоса злых духов, обвиняющих грешника в тысяче разных преступлений; все их обвинения справедливы – или, по крайней мере, похожи на правду; и выхода нет. Именно такие ощущения на протяжении веков толкали глубоко верующих людей к самоубийству. Это безнадежность, ставшая явью, или, по знаменитому выражению Мильтона, «видимая тьма»[31] – выражение, которое писатель Уильям Стайрон использовал как название пронзительного рассказа о собственной депрессии[32]. Можно вспомнить и слова, начертанные на вратах дантовского Ада: «Оставь надежду, всяк сюда входящий»[33]. Итак, Anfechtungen для Лютера представлял живую картину самого ада, кошмарного места, где ты полностью забыт Богом и безнадежности нет конца. Нет, быть может, все даже хуже! Быть может, это не живая картина ада, а сам ад, черное щупальце, которое тянется к Лютеру из-за края мира и рано или поздно обовьет его и утащит в шеол! Просто отмахнуться от такого Лютер не мог. Так или иначе, он должен был понять, что с ним происходит, и получить твердые, убедительные ответы. Брезжила ли уже эта идея на задворках его сознания или ей предстояло проклюнуться лишь через несколько лет – мы не знаем; но, несомненно, в какой-то момент его должна была поразить мысль, что, если эту загадку вообще возможно разгадать, ключи к ней следует искать в Библии. Однако изучать Библию у него не было возможности. Изучать приходилось юриспруденцию. Но едва ли можно сомневаться: Anfechtungen, эта глубокая и неутолимая душевная мука, после первых мучений и метаний должна была вызвать у него страстное, неутолимое желание разрешить эту проблему и раз и навсегда положить ей конец. Он верил, что это возможно. Возможно для того, кто верит. И если, читая следующие главы этой книги и изучая дальнейшую жизнь Лютера, мы спросим себя, что же давало ему силы пробовать снова и снова там, где прочие терпели неудачу, ответ будет: отчаяние. Лютер не признавал «успокоительных» ответов и не боялся погибнуть на костре. Костер был ему не так страшен, как Anfechtungen – несказанные мучения души, предвестие неизбежных адских мук. Он смело шел вперед, преисполненный решимости найти ответ на свой вопрос – или погибнуть в пути.
За год до начала юридических занятий, в 1504 году[34], когда Мартин отправился на Пасху домой в Мансфельд, с ним произошел несчастный случай: студенческая шпага (в те времена многие студенты ходили со шпагами) пропорола ногу, и очень неудачно, задев артерию. Началось кровотечение, явно угрожающее жизни, и спутник Лютера бросился в ближайший город за врачом. Лютер лежал один посреди поля, судорожно зажимая рану руками, чтобы остановить кровь, и гадал, доживет ли до вечера. Он прекрасно понимал, что может умереть прямо сейчас – и воззвал к Деве Марии, моля пощадить и сохранить ему жизнь. Наконец появился врач и зашил рану. Однако зашил, как выяснилось, плохо: той же ночью, когда Лютер лежал в постели, рана открылась, и он снова едва не истек кровью. И снова Лютер в страхе за свою жизнь воззвал к Деве Марии, моля о пощаде – и снова выжил; однако рана оказалась серьезной, и немало дней пришлось ему провести в постели, в размышлениях о том, какой опасности он едва избежал. Ранение позволило ему отдохнуть и хорошенько подумать о том, как дважды за одни сутки заглянул он в черный провал смерти[35].
Размышления Лютера о смерти в эти годы не могли не обостриться, когда умерли, один за другим, несколько человек, которых он знал. В апреле 1505 года, а затем несколько месяцев спустя чума – частая гостья в Германии того времени – унесла жизни двух молодых эрфуртских юристов. Двое молодых людей, выбравших тот же путь, что и сам Лютер, умерли скорой и безвременной смертью: глядя на это, нельзя было не задуматься о том, правильный ли он выбрал путь. Что, если и ему придется внезапно покинуть этот мир? Готов ли он к тому, что ждет впереди? Позднее Лютер рассказывал, что оба молодых юриста восклицали перед смертью: «Лучше бы я стал монахом!»[36] Выходит, они понимали, что на кону стоит вечное спасение – и в кошмарном свете разверзшейся перед ними огненной пропасти ясно видели, что напрасно выбрали в жизни мирскую дорогу, и горько об этом жалели! Несомненно, Лютер был на заупокойных службах по обоим умершим. Если же и этих смертей было недостаточно – от чумы погибли еще двое, и куда более ему близкие: смерть унесла двоих его товарищей-студентов. Один из них, Иероним Бунтц, принимал участие в магистерских экзаменах Лютера.
В таких-то сомнениях в июне 1505 года Лютер возвращался домой, в Мансфельд. О чем именно он думал и на что надеялся в эти дни, нам узнать неоткуда. Быть может, просто хотел отдохнуть от занятий и от тягостных мыслей, не дававших ему покоя. Может быть, надеялся собраться с храбростью и объявить отцу, что сомневается в правильном выборе своего жизненного пути. А может быть, инициатором поездки выступил отец – возможно, он вызвал сына домой по какой-то причине, которой мы уже никогда не узнаем. Некоторые предполагают даже, что теперь, когда учеба Лютера подходила к концу, отец вознамерился женить его на подходящей девушке из Мансфельда, возможно, дочери какого-нибудь его делового партнера. Всего этого мы не знаем – но точно знаем одно: на обратном пути из Мансфельда в Эрфурт, на этой дороге в пятьдесят три мили длиной, с Лютером произошло то, что навсегда изменило его жизнь.
Глава вторая Удар молнии
Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию[37].
Иисус из НазаретаНеподалеку от деревни Штоттернхайм, в поле возвышается скромный на вид красный монолит – памятник тому, что произошло на этом месте во второй день июля 1505 года. В этот жаркий и влажный летний день Мартин Лютер, утомленный долгим путешествием, всего в шести милях от Эрфурта был застигнут внезапной и страшной грозой. Ехал он верхом, но, видимо, на этом месте спешился. С неба низвергались потоки воды, выл ветер, оглушительно гремел гром, молнии сверкали над головой – и Лютер затрепетал при мысли, что в любой миг может, как и многие другие, застигнутые бурей, мгновенно лишиться жизни. Смерть и ад предстали перед ним, реальные и ощутимые, как никогда – и молодой человек (Мартину был двадцать один год от роду) был глубоко потрясен этой мрачной перспективой. Буйство природы повергло его в ужас, самые мрачные признаки проклятия и вечных мук предстали перед ним – реальные, как бушующая гроза, но во много раз более страшные. Тревога и страх сделались невыносимы. Когда молния ударила в землю совсем рядом с ним, Лютер в ужасе повергся наземь и вскричал: «Hilf du, Sankt Anna!» – «Помоги мне, святая Анна!» А затем выкрикнул в ветер и в дождь слова, которым предстояло изменить и его жизнь, и судьбы всего мира – слова, которых никто, кроме него самого, не услышал: «Ich will ein Mönch werden!» – «Я стану монахом!» Таков был его обет: если святая Анна поможет ему – поможет пережить этот ужас, – он отплатит за ее великую милость, приняв святые обеты, навеки покинув мир и посвятив остаток своих земных дней Богу.
Лютер не погиб в тот день под Штоттернхаймом. Гроза миновала; он поднялся, пошатываясь, с мокрой земли – и побрел в Эрфурт, к своим занятиям. Однако того, что произошло, он забыть не мог. Он был серьезным и благочестивым молодым человеком; и он поклялся святой матери святой Матери Божьей – а следовательно, самому Богу, – что станет монахом. Значит, он должен стать монахом. Иного пути теперь нет.
Что за мысли проносились в его уме в тот последний час путешествия – за шесть миль, отделяющих его от Эрфурта и от прежней жизни, которую он только что обещал навеки покинуть? Радовался ли он происшедшему? Или страшился того, что совершил, понимая, что данная им клятва нерушима и неотменима? Быть может, искал какие-то лазейки, чтобы отозвать свое обещание? Этого мы никогда не узнаем. Известно нам вот что: вернувшись в университет, он рассказал о случившемся товарищам-студентам, и все они старались его отговорить. Но юноша был непоколебим. Чтобы упрочить свое решение, он даже продал свой «Corpus juris».
Однако самой трудной частью его задачи, несомненно, оставалось объяснение с отцом. Не приходилось сомневаться: отец будет глубоко разочарован и придет в ярость. Потрясенный, чувствуя себя преданным, он будет рвать и метать и сделает все, что в его силах, чтобы заставить сына передумать. Вспомнить только, как рвал жилы Ганс Лютер, чтобы дать сыну образование! И вот, в шаге от заветной цели – цели, важной не только для Мартина, но и для всей семьи, цели, ради которой отец его тяжело трудился и шел на жертвы, – Мартин вдруг, словно рассудок потеряв, от всего отказывается, все выбрасывает в выгребную яму и идет в монахи. В монахи! Что станет с отцом при таком известии? Задача эта ужасала Мартина, и он решил обойти ее кружным путем: просто поступить в монастырь, а отцу сообщить об этом уже задним числом, «по факту».
16 июля, ровно через две недели после штоттернхеймской грозы, Лютер пригласил друзей на грандиозный прощальный ужин. Даже там друзья продолжали отговаривать его от рокового шага. Но он поклялся – и должен был исполнить обет. «Сегодня вы видите меня в последний раз! – восклицал он с драматичностью, вполне понятной для молодого человека в таких обстоятельствах. – Не увидеть вам меня больше!» На следующий день ему предстояло отправиться в дорогу, которая уведет очень далеко от мира, предназначенного ему отцом, – да и вообще от мира сего. Но мог ли Лютер вообразить в этот решающий миг, что путь этот заведет в такие дебри, о которых тогда он и помыслить был не в силах? Он пойдет туда, куда не хочет идти; путь его станет для многих возвышением и падением. Он породит войны и революции, перекроит очертания стран и империй, окрасит будущее в невообразимые цвета. Но все это впереди – а сейчас Лютеру предстояло стать монахом.
На следующее утро в сопровождении нескольких друзей (и друзья эти даже сейчас уговаривали его передумать!) молодой человек явился к дверям Эрфуртской обители августинцев и объявил о своем желании принять святые обеты. Почему он выбрал именно августинцев, а не доминиканцев, францисканцев или бенедиктинцев, мы не знаем. Говорят, что августинцы в Эрфурте были известны строгим уставом – возможно, это его привлекло. Кроме того, славились они своей любовью к богословию – быть может, привлекательным показалось и это. Но все это лишь предположения. Свидетельства из первых рук у нас нет. Однако нам легко представить, как монастырский привратник спрашивает Лютера, зачем он пришел в монастырь, услышав ответ, говорит, что должен сообщить об этом настоятелю, и просит подождать. Затем, должно быть, выходит сам настоятель, Винанд фон Диденхофен, вводит молодого человека в монастырский храм, подробно расспрашивает о его намерениях и выслушивает его полную исповедь. Убедившись, что Лютер в здравом уме и намерения его серьезны, настоятель приглашает его остаться в монастырском доме для гостей, который стоит в Эрфурте и поныне[38].
На этой стадии Лютер стал так называемым послушником. От принятия монашества его отделял довольно продолжительный период ожидания, включавший в себя, среди прочего, частую и подробную исповедь. Однако через некоторое время этот «испытательный срок» окончился – и настал великий день. Лютера снова ввели в монастырский храм: на этот раз здесь собрались все монахи, бывшие сейчас в монастыре. Настал великий миг. Юноша, стоящий перед ними, совершал тот же шаг, что совершили когда-то и они сами: иные – недавно, другие – много лет назад. В этот день Лютер официально отрекся от мира за стенами монастыря – навеки, необратимо; так он исполнил обет, принесенный в июле близ Штоттернхайма, во время грозы.
Во время пострижения послушник Лютер склонялся перед настоятелем и простирался ниц перед алтарем на каменном полу монастыря, сохранившемся и по сей день. В нескольких шагах от молодого Лютера покоились кости Андреаса Захариаса – самого известного из здешних монахов, останки коего пользовались в монастыре особым почитанием. За сто лет до того на Констанцском Соборе именно Захариас особенно рьяно нападал на учение богемца Яна Гуса – и, как говорят, именно с его подачи и по его настоянию Гус был вскоре сожжен на костре. Более всего беспокоил Гуса институт папства: он настаивал, что христиане должны следовать не за тем или другим человеком, а за одним лишь Христом. Говорил он и о том, что на Евхаристии мирянам необходимо предлагать и хлеб, и вино – так же, как делал Иисус в Евангелиях, – и что предложение хлеба и вина только священникам создает между мирянами и клиром некое ложное разделение. Гус решительно выступал против такого отделения клира от мирян, говоря, что в Новом Завете для него не находится никаких оснований. Со временем и Лютер пойдет по стопам этого прославленного мученика – будет фактически повторять его учение; и поистине странна ирония судьбы: свою монашескую жизнь он начал с простирания ниц перед почитаемыми костями того самого человека, что зажег под Гусом огонь.
Настоятель Диденхофен спрашивал послушника Лютера, готов ли он в самом деле возложить на себя тяжелые монашеские обеты, и красноречиво описывал те лишения и испытания, что ждут его впереди. Все это Лютер слышал – и отвечал серьезно и торжественно: да, готов. На случай, если бы Лютер верил, что одним вступлением в монастырь уже достиг спасения, Диденхофен с величайшей серьезностью предупредил, что это не так: «Не всякий, кто вступил на этот путь, но лишь претерпевший до конца спасется»[39]. Иными словами, двадцатидвухлетний монах стоял сейчас лишь у подножия великой семиярусной горы, которую ему теперь предстояло преодолеть[40].
Итак, теперь Лютеру предстояло всеми силами разума и души стремиться к спасению, неустанно исполнять все предписанные правила, не отступать от них ни на йоту… и потерпеть на этом пути поражение. В жажде прикоснуться к небесам будет он взбираться на Вавилонскую башню – и, великими трудами и усилиями достигнув вершины, убедится, что не приблизился к небу ни на шаг. Тогда он поймет: либо для человека вовсе нет пути к Богу – либо путь этот совсем не тот, какому научены он сам и тысячи его современников. Или спасение невозможно вовсе, или вся эта система – в том числе и грозный, пугающий Бог на ее вершине, – не что иное, как дьявольский обман. Все проще некуда. Но какие муки придется перенести Лютеру, чтобы прийти к этому простому выводу! В знаменитой биографии Лютера 1950 года «На том стою» Роланд Бейнтон пишет: «Значение монашества Лютера в том, что его великий мятеж против средневековой Церкви вырос из отчаянной попытки следовать предписанным ею путем»[41].
Год послушничества Мартин провел так же, как и все монахи в монастыре. Вместе с ними поднимался он по удару колокола в два часа ночи, осенял себя крестом и, торопливо накинув белую рясу и наплечник[42], спешил из кельи в часовню: там молился перед высоким алтарем и, заняв свое место на хорах, пел утреню – первый из семи «часов», которые служатся в монастырях по всему миру. Утреня состояла из антифонного (попеременного) воспевания гимнов и псалмов и длилась около сорока пяти минут. В конце утрени монахи возносили молитву «Salve, Regina» («Спаси нас, Владычица»), обращенную к Марии: «Спаси нас, Владычица, Мать милосердная, наша надежда, наше утешение. К тебе мы, изгнанные сыны Евы, возносим свои молитвы. К тебе обращаем воздыхания, влачась в этой долине слез. Будь нашей заступницей, сладчайшая Дева Мария, молись за нас, святая Матерь Божья». После «Salve Regina» монахи пели «Ave Maria» («Славься, Мария») и «Pater Noster» («Отче наш»), затем вставали и выходили из часовни[43].
Одна из проблем, с которой, возможно, столкнулся Лютер, пускаясь в путь по этой натоптанной дороге, состояла в том, что Бог Отец и Сын Его Иисус воспринимались прежде всего как суровые судьи. Роль «утешителя» перешла к Марии – человеку, понимающему нас и наши испытания, нежной любящей матери, готовой защищать свое любимое дитя от злых и жестоких людей. Хотя христианское учение ясно гласит, что сам Иисус обладал полной мерой человеческой природы и, следовательно, может понять наши беды, страдания и искушения и сострадать им, – в реальности церковной жизни в ту эпоху эта сторона Иисуса по большей части не замечалась; Его представляли себе таким же далеким, холодным и страшным, как и Бога Отца. Лишь за Марией, человеческой матерью Иисуса, признавалась способность и готовность утешать нас в несчастьях и давать надежду. Считалось, что она способна заступиться за нас перед своим суровым и, быть может, равнодушным Сыном, найдя для него такие слова, какие может найти только мать. По той же причине верующие часто и с великим усердием обращались к святым: они люди – кому же, как не им, понять наши трудности? Святые казались верующим куда ближе, чем Иисус, – формально тоже человек, но на самом-то деле прежде всего Бог. Святые – так казалось католикам – добрее и терпеливее, более готовы поспешить к нам на помощь; быть может, и времени у них больше, чем у Бога, который правит огромной вселенной, – где уж ему интересоваться нами и нашими мелкими неприятностями! Разумеется, такой ход мысли – ересь чистой воды, ничем не лучше, чем назвать Бога дьяволом; но в то время верующие так не думали. Эту глубочайшую, неизмеримую по своим последствиям ошибку никто не замечал – а если и замечали, то предпочитали помалкивать.
Лютер становится священником. Aetatis 23
Наконец настал день, когда Лютер окончил послушничество и стал полноценным монахом. В это время – в начале 1506 года – в монастыре проживали всего пятьдесят восемь монахов. Одиннадцать из них не имели священнического сана, остальные были священниками. Наставники Лютера, быстро разглядев и оценив его дарования, решили, что он должен стать священником, и чем скорее, тем лучше. Однако для этого требовалось одобрение генерального викария ордена. Генеральным викарием у августинцев был в то время высокообразованный и даровитый Иоганн фон Штаупиц. Свой пост он занял тремя годами ранее, а за год до того – в 1502 году – стал деканом богословского факультета вновь учрежденного университета в Виттенберге. В последующие годы этот Штаупиц сыграл в жизни Лютера очень важную роль: хоть он и не покинул церковь вслед за Лютером – без отношений с ним Лютер едва ли стал бы тем, кем стал. 3 апреля 1506 года Штаупиц, в то время сорока шести лет, приехал в Эрфуртский монастырь и провел там ночь: считается, что именно тогда он обстоятельно поговорил с Лютером и дал согласие на рукоположение брата Мартина в священники. Произошло это через год и один день после пострижения Лютера в монахи, 4 апреля 1507 года. Пройдя эту важную веху, Лютер получил право служить мессу.
Первая месса нового священника была событием праздничным – по-своему не менее важным, чем крещение, свадьба или похороны. Как и в других подобных событиях, перед «виновником торжества» открывалась дверь в некое иное состояние – дверь, пройдя в которую, уже нельзя было вернуться назад. Поэтому первая месса проходила очень торжественно. Новый священник приглашал на службу родных и друзей; кто-то из них, быть может, оставался в монастыре на день или два; после мессы устраивался праздничный ужин. Отношения с отцом у Лютера к этому времени наладились – по крайней мере, настолько, что отца он пригласил. В предыдущие два года они, по всей видимости, не общались. Не приходится сомневаться, что отец Лютера чувствовал себя преданным и был в ярости из-за внезапного решения сына, столь круто изменившего семейные планы и принятого заведомо против отцовской воли. Вообще нарушить волю отца было в то время делом почти немыслимым. Но что сделано, то сделано: и, должно быть, за эти два года Ганс Лютер успокоился – хотя бы настолько, чтобы, получив приглашение, действительно приехать. Однако он не мог прибыть в Эрфурт раньше 2 мая – и Лютер настоял на том, чтобы его первую мессу отложили до приезда отца. Как видно, отцовское присутствие было для него очень важно; можно предположить, что он видел возможность примирения – и на это надеялся. Итак, первая месса Лютера была назначена на 2 мая.
Назначив дату, Лютер мог теперь приглашать и остальных. Одно из первых дошедших до нас его писем – приглашение на первую мессу, обращенное к старому другу из Айзенаха Иоганну Брауну. Первый абзац полон такого необычайного смирения, что можно лишь гадать о том, с какими чувствами Браун читал это письмо:
Приветствую во Христе Иисусе, Господе нашем. Страшился бы я, достопочтенный мой господин, обеспокоить любовь вашу своими утомительными посланиями и желаниями, если бы не знал (по опыту благородного сердца вашего, столь великодушно дарящего мне благосклонность) искреннюю дружбу вашу, в каковой мне не раз представлялся случай убедиться. Посему, не колеблясь, посылаю вам это письмецо, веря, что обоюдная дружба наша преклонит ко мне ваш слух и побудит благосклонно отнестись к моей просьбе.
Что же это за просьба, которой предшествует такое предисловие? Может быть, Лютер попал в беду? Или ему деньги нужны? Да нет: к большому облегчению Брауна, это оказалось всего лишь приглашение на праздник. Но дальше парад смирения продолжался:
Бог, преславный и пресвятой во всех делах Своих, изволил чудесно возвысить меня, злосчастного и совершенно недостойного грешника, призвав меня, лишь по преизобилующему Своему милосердию, к высочайшему служению Себе. Итак, мне предстоит исполнить порученное мне служение, дабы получить доступ (насколько возможен доступ к Богу для персти земной) к великому сиянию Божественной благодати.
В сравнении с тоном многих позднейших писаний Лютера тон этого письма кажется почти невероятным. Верно, что Лютер всегда глубоко уважал власти и авторитеты; однако это послание проливает некоторый свет на его умонастроение в то время. В монастыре он провел уже больше года – и, как видно, был поглощен мыслями о собственной грешности и недостоинстве. В постскриптуме Лютер упоминает семью Шальбе, у которой жил в Айзенахе; вот что он говорит:
Не осмеливаюсь докучать достойнейшим лицам из дома Шальбе, коим я стольким обязан, или обременять их своими просьбами. Не сомневаюсь, что для их высокого положения в обществе и доброй славы несообразно прозвучат приглашение на столь смиренное и маловажное событие или же пожелания монаха, умершего для мира. Кроме того, я не уверен и пребываю в сомнениях – порадует ли их это приглашение или раздражит? Посему решаюсь промолчать; однако прошу вас, если будет возможность, передать им мою благодарность. Прощайте![44]
Чувство его полного недостоинства перед Богом, охватившее Лютера, казалось богословски оправданным, однако привело к серьезной проблеме на том самом торжественном мероприятии, куда он пригласил Брауна и множество других гостей. Дело в том, что в этот день Лютеру предстояло сделать нечто такое, чего он не делал никогда прежде: предстать лицом к лицу с Богом. Каждый священник знал: к возношению гостии и возлиянию вина нельзя относиться легко, как к простой подаче на стол хлеба и перебродившего виноградного сока. Священник совершает пресуществление: в его грешных, но освященных руках хлеб чудесным образом превращается в Тело самого воплощенного Бога, Тело Царя, жестоко ломимое за человечество. А вино при звуках человеческих слов становится истинной Кровью Того, Кто пролил эту кровь в страшном и мучительном жертвоприношении – и умер за нас, грешных. Свою ответственность Лютер понимал и принимал очень серьезно.
Лютер хорошо понимал, что во время мессы он первый раз в жизни обратится напрямую к неизъяснимому Всевышнему. Мысль эта, великая и пугающая, глубоко его поразила. Стоило вообразить себе неизмеримое расстояние между ним и Богом, к которому он дерзает обращаться! От этого кружилась голова. Что делать? Лютер острее большинства священников сознавал глубину и обилие своих грехов – и никогда не был уверен, что исповедал их все, хоть и очень старался ни одного не упустить. Помнил он и о том, что совершать святой обряд мессы, имея на себе хоть один неисповеданный грех, – кощунство, за которое Бог легко может поразить его смертью. Многие другие монахи относились к этому легкомысленно, так что их наставники никогда не упускали случая подробно на этом остановиться и описать такую перспективу в самых ярких и пугающих красках. Но Лютеру едва ли требовались красочные запугивания: чем ближе к великому дню, тем сильнее мучился он страхом и чувством своего недостоинства. Как посмеет он, грешный Мартин Лютер, приблизиться к святому, бесконечному, всемогущему Богу?
Если Лютер думал, что отец его не приедет или приедет лишь для проформы, то ошибся. Наступил великий день – и Ганс Лютер появился в монастыре во главе почти что королевской процессии: с ним приехали не меньше двадцати человек, и все верхом. Тащиться до Эрфурта на телегах Лютеру-старшему и его друзьям было не по чину. А на случай, если бы эта процессия недостаточно впечатлила сына и его новых товарищей – процветающий отец сделал монастырю значительный денежный дар в двадцать гульденов. Несомненно, во всем этом был силен элемент показухи – но чувствовалось и желание примириться с решением сына; насколько искреннее, другой вопрос.
Почему именно отец приехал сам, привез с собой два десятка друзей, да еще и сделал впечатляющий вклад в монастырь – точно мы не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем. Высказывались предположения, что недавняя смерть от чумы двух близких родственников заставила его больше прежнего бояться Бога[45]. Современные ученые полагают, что чума, поразившая Мансфельд в 1505 году – в год вступления Лютера в монастырь, – унесла двоих его младших сыновей, и, быть может, боль этой потери вызвала у Ганса Лютера нечто вроде раскаяния – а может быть, он просто начал больше ценить старшего сына, оставшегося в живых. По-видимому, в то время, пока отец с сыном не общались, Гансу пришло ложное известие, что Мартин тоже умер от чумы. Так что, быть может, этим путешествием и щедрым даром он благодарил Бога за то, что сын его жив, и показывал раскаяние в былом своем гневе на Мартина, пренебрегшего его планами и желаниями. Словом, мы не знаем точно, что было на уме у отца Лютера, – но Мартин, безусловно, был рад его приезду.
Однако первая месса юного священника едва не закончилась неудачей. Все эти гости из прошлой жизни, с гордостью на него взирающие, быть может, заставили молодого монаха особенно остро ощутить: вот-вот он совершит то, что навеки отделит его от остального человечества, он возьмет в руки Тело и Кровь Бога воплощенного, напрямую обратится к Святому, рядом с которым можно лишь пасть ниц в трепете или умереть. Он знал: делать то, что он делает, в состоянии нераскаянного греха – все равно что прыгнуть со скалы. Священники в средневековой Церкви в каком-то смысле выполняли роль Бога. Отделенные от всех прочих людей на земле, одни лишь они обладали правом совершать самое великое и священное в мире действо. Лютер ясно это понимал – и чувствовал себя недостойным такой чести.
Должно быть, Лютер был знаком с ритуалом, описанным в Ветхом Завете, когда в День Искупления (Йом-Киппур) первосвященник входил в так называемую Святая святых, священную центральную часть Храма, отгороженную от других помещений тяжелыми завесами. Там находился самый священный предмет на свете: резной Ковчег Завета, а в нем – скрижали, данные Моисею на горе Синай. Общая вера гласила, что в этом месте обитает сам Бог. Первосвященник входил туда в особом одеянии с нашитыми на него колокольчиками: пока колокольчики звенели – снаружи знали, что он жив. Некоторые предания рассказывают, что к ноге первосвященника привязывали веревку, – чтобы, если присутствие Бога живого убьет его на месте, другие священники могли вытащить его мертвое тело. Стоять перед Богом живым, взирать на Него – все это ощущалось как опасность, вызывало благоговейный трепет, переходящий в глубокий страх. Такой же благоговейный страх охватил сейчас Лютера.
Итак, на пороге священного жертвоприношения он заколебался. «Твоя от Твоих Тебе приносим, – воззвал он, – живому, истинному, вечному Богу!» О том, что произошло дальше, сам Лютер рассказывал годы спустя:
На этих словах я окаменел, пораженный ужасом. Я думал в себе: «Каким же языком обращусь я к Величию, в присутствии которого повергаются ниц и трепещут даже высокородные князья земные? Кто я такой, что смею поднимать глаза и простирать руки к этому божественному Величию? Ангелы окружают Его. От покивания главы Его содрогается земля. Неужели же я, жалкий карлик, обращусь к Нему со словами: “Хочу того, прошу этого”? Ведь я – пыль и прах, полон греха; и говорю сейчас с вечным, живым, истинным Богом!»
Когда настало время возносить гостию, он застыл как вкопанный, не в силах сделать именно то, к чему готовился два года и ради чего проделали долгий путь все его гости. Однако рядом с Лютером был другой священник, – так всегда делалось во время первой мессы: более опытный «страховал» новичка. Лютер, парализованный ужасом перед тем, что ему предстоит сделать, прошептал ему, что хочет бежать прочь от алтаря. Старший священник сам когда-то был на этом месте: он понял, какие чувства обуревают новичка, твердым голосом приказал ему продолжать – и Лютер повиновался.
Заметили ли заминку зрители, поняли ли ее причину – неизвестно. А зрителей было множество – на праздник собрались родные, друзья и знакомые из всех сфер жизни Лютера. Неизвестно, были ли здесь его мать, сестра и невестка – но надо полагать, что были: по таким торжественным случаям женщины допускались и в мужские монастыри. Были здесь его брат, зять, престарелый двоюродный дед Конрад Хуттер из Айзенаха, а также эйзенахский учитель Виганд Гюльденапф, с которым Лютер сблизился во время учебы. Был, разумеется, и Иоганн Браун.
Одним словом, так или иначе, мессу Лютер успешно завершил. А дальше, на праздничном ужине, в присутствии всех гостей, произошло еще одно знаменательное событие, о котором Лютер также вспоминал до конца жизни.
Именно на этом торжественном ужине, в присутствии множества гостей, Лютер осмелился спросить: «Дорогой отец, почему же вы так противились тому, чтобы я стал монахом?» Мы не знаем, каким тоном был задан этот вопрос – однако, судя по тому, с каким недовольством встретил отец это решение сына, вопрос был смелый, если не дерзкий. Что это было – Лютер добродушно поддразнивал отца или же бросал ему вызов? Мало того – дальше он добавил: «Быть может, вы и теперь недовольны – ведь жизнь [здесь, в монастыре] тихая, благочестивая».
Отец дал на это потрясающий по силе ответ. «Вы, сын мой, ученый, – отвечал он, – так неужто не читали в Библии, что следует почитать отца и мать? А сами бросили и меня, и матушку вашу, так что мы остались одни на старости лет».
Большая часть биографий Лютера описывает этот разговор как серьезный обмен ядовитыми упреками, еще более болезненными оттого, что дело происходит публично, при большом стечении народа – и, во фрейдистском духе, видит за этими репликами движение каких-то подсознательных тектонических плит. Именно сейчас, в миг, когда Лютер, ища утешения и примирения, ждал, что отец наконец благословит его решение, принятое во время грозы в Штоттернхайме – тут-то и поджидала его гроза отцовского гнева! Но так ли это?
Быть может, интонации и смысл этой перебранки были совсем иными? Быть может, на шумном празднике, с чувством облегчения от примирения после двухлетней ссоры, Лютер задал свой вопрос полушутя? И ответ отца был не жестоким упреком, да еще и брошенным перед всем честным народом, а такой же полушуткой, острым словцом? Мол, «ах, ты так – а я сейчас тебя срежу!» Нам известно, что позже любовь Лютера к шуткам и каламбурам не знала границ, да и весь тюрингско-саксонский мир славится страстью высмеивать и вышучивать друг друга; быть может, и этот диалог не стоит воспринимать совсем уж всерьез.
«Но, отец, – отвечал на это сын, – своими молитвами здесь я принесу вам больше пользы, чем если бы оставался в миру». А затем, чтобы на том и окончить спор, напомнил отцу: ведь сам Бог говорил с ним через раскаты грома, побуждая принять решение о монашестве! Не станет же добрый отец противиться решению Бога! Однако отец Лютера был не глупее сына: «Дай-то Господи, – отвечал он, – чтобы в тот день вам явился Бог, а не дьявол!»
И вот что нам известно точно: в каком бы настроении ни проходил этот разговор – последние слова отца поразили Лютера и преследовали его еще много лет спустя. Конечно, связано это и с тем, что позднее Лютер не раз задумывался о том, что произошло с ним тогда, в раскатах грома и блистании молний. Кто воззвал к нему – Бог или дьявол? От того, чтобы отвергнуть монашество, двадцатитрехлетнего Лютера отделяла целая эпоха; однако семя было уже посеяно и в должный срок выросло в бобовый стебель такой высоты, что он расколол монолит европейского христианского мира – в глазах тогдашних людей, почти что расколол небо.
Трудный путь на небеса
В 1507 году Лютер стал не только монахом, но и священником. Но принять монашество – лишь полдела. Теперь ему предстояло жить так, как живут монахи: непрестанно молиться, скрупулезно отслеживать свои мысли и постоянно исповедовать мельчайшие уклонения, ничтожнейшие проявления невнимания или небрежности в этих сферах. Ошибочно было бы полагать, что все прочие монахи относились к этому несерьезно – однако складывается впечатление, что Мартин Лютер воспринял свои обязанности с повышенной серьезностью, и именно поэтому остро, как мало кто еще, столкнулся с неизбежными проблемами такой жизни – а это, в свою очередь, заставило его задуматься обо всей религиозной системе так, как мало кто еще о ней думал.
Хотя богословие христианской религии всегда гласило, что от грехов спас нас Бог – Спаситель Иисус, а не мы сами, – и что в любви и милости Своей Бог спасает тех, кто сам спастись бы не смог, – с веками в практическую жизнь христиан тишком проползла другая мысль, совершенно противоположная первой. В средневековых христианских практиках ясно звучит идея, что спасение можно заработать своими силами, – если не полностью, то по крайней мере сделать большой шаг к своему спасению; так что лучше постараться и предпринять все, что в твоих силах. Разве нет вокруг людей, отличающихся святой жизнью? Разве святые – не живые доказательства того, что жить свято нам вполне по силам? Разве не говорил сам апостол Павел, что нам следует «со страхом и трепетом совершать свое спасение»?[46]. Итак, церковное богословие очень далеко отошло от простой мысли, что нас спасает Бог, – напротив, в нем появилось сильное тяготение к идее, что спасать себя мы должны сами.
Уклоняться от этой задачи Лютер не собирался – и, вступив в монастырь, где у него были и время, и возможность изучать Библию, начал искать путь к спасению так серьезно, с таким тщанием, как едва ли искали многие до него. Дело было серьезнее некуда: по всему выходило, что грешник в самом деле должен искупить себя сам, что это вполне достижимо, что другим – пусть и с помощью благодати Божьей – это удавалось, значит, вполне по силам и тебе. Циником Лютер никогда не был – напротив, бывал прямодушен до наивности: все это он понял вполне буквально и начал, так сказать, всеми силами воплощать эту программу в жизнь.
Однако именно оттого, что он был честен, внимателен и мыслил ясно, программа дала сбой. Мощный ум Лютера неустанно трудился, выискивая у себя прегрешения; но всякий раз, когда он исповедовался – и, казалось, исповедал, как и положено, все свои грехи – затем, помня, что даже один неисповеданный грех способен утащить тебя в ад, он напрягал ум в поисках новых грехов – и неизбежно их находил. Если честно исследовать свои мысли, грехам не будет конца – а Лютер был с собой честен. Что, если он ушел с исповеди, забыв признаться в одной нечистой мысли, посетившей его три дня назад? Кто умирает, не исповедовавшись перед самой кончиной – умирает «во грехах своих». Бесконечными исповедями Лютер доводил и себя, и исповедника до умопомрачения – но лучше ему не становилось; он продолжал истязать себя тревогой из-за того, что наверняка что-то упустил.
Система покаяний и наказаний, разработанная Церковью на протяжении веков, была довольно запутанной, но главное в ней было ясно: священник действует от имени Церкви, а Церковь – от имени Бога, ей дана власть прощать и отпускать грехи. Чтобы очиститься от грехов, прежде всего надо исповедоваться. Это не просто «желательно» – без этого никак не обойтись. Ведь это «таинство Церкви»! Итак, необходимо ходить на исповедь – и на каждой исповеди перечислять все свои грехи, какие только сможешь припомнить. Выслушав твою исповедь, священник назначает епитимью. Например, может предписать тебе прочесть двадцать раз «Богородице Дево» и сорок раз «Отче наш», или столько же раз читать молитвы по розарию. В наше время принято пренебрежительное отношение к епитимьям как к механическому повторению бессмысленных текстов. Но изначальный смысл их вовсе не в этом. Кающемуся предписывалось не просто сорок раз за определенное время повторить «Отче наш» – он должен был молиться всерьез, сосредоточенно, устремляясь душой к Богу. Если же многие и читали их механически, бессмысленно, спеша поскорее разделаться с этой тягостной обязанностью – уж точно не священник, назначивший епитимью, был в этом виноват.
В результате всего этого у верующих складывалось убеждение, что исповедью и епитимьями можно, так сказать, обнулить свои грехи и вернуться к исходному состоянию. Они покаялись, грехи их прощены и забыты – можно начинать сначала. Но за этой концепцией стояла еще одна – представление о том, что Церковь владеет «сокровищницей заслуг». Церковь учила, что некоторые особенные люди, как святые или сам Иисус, не просто обнулили все свои грехи; в своей жизни они так мало грешили и совершили так много добрых дел, что «приход» в их душевной бухгалтерии значительно превосходит «расход». Отправляясь на небеса, они, так сказать, кладут свои заслуги на сохранение в небесный банк. Таким образом, заслуги всех святых в истории Церкви копятся в огромной небесной сокровищнице. Можно ли представить себе ее объем? Кто скажет, каковы заслуги одного лишь Иисуса? А Девы Марии? А Петра, и Павла, и еще многих сотен святых? И кто может управлять этим небесным банком, если не Церковь? Он так и назывался – «сокровищница Церкви». Церковь верила, что Иисус вручил «ключи царствия» Петру – первому папе римскому; и на протяжении столетий Церковь и папа хранят эти ключи, дающие им доступ к сокровищнице заслуг и власть ею распоряжаться. А это, в свою очередь, приводит нас к нелегкой теме индульгенций.
Идея индульгенций связана с сокровищницей заслуг. Чтобы понять, как работают индульгенции, представим себе: вот верующий приходит на исповедь и рассказывает священнику, что сделал то и это. Тот назначает ему двадцать раз прочесть «Отче наш» и, возможно, сделать какое-нибудь доброе дело для Церкви. Но в какой-то момент Церковь пришла к новой мысли: можно купить индульгенцию, заплатив деньги в церковную казну – это ведь тоже будет своего рода епитимья! Помогать Церкви деньгами – дело несомненно доброе. Итак, если я решаю, например, сделать взнос на строительство собора – и для этого покупаю индульгенцию, – вполне разумно засчитать это мне как доброе дело, попадающее в категорию «заслуг». А если я дам в десять раз больше денег, то и «заслуг» у меня окажется больше в десять раз. Однако в небесную сокровищницу эти заслуги не отправляются. Они остаются при мне и я могу, так сказать, «тратить» их как хочу. Так, можно купить за свои деньги индульгенцию, дарующую мне прощение какого-то определенного греха. Если я согрешил и священник назначил мне епитимью из молитв и добрых дел, я могу вытащить свою индульгенцию в письменном виде и показать ему, что за этот грех уже «отбыл наказание».
Легко себе представить, к каким злоупотреблениям и бедам эта идея, укоренившись в Церкви, могла привести. Так оно и вышло. Появился новый рынок: духовный мир грехов и добрых дел оказался привязан к миру финансовому, к долгам и платежам. Едва ли стоит удивляться тому, что при выходе на финансовый рынок нового продукта рынок начинает лихорадить. Прежде всего, саму Церковь охватил необоримый соблазн продавать больше индульгенций, чтобы получить побольше денег. Ведь средневековая Церковь, по сути, представляла собой государство или огромную корпорацию – и деньги для постройки церковных зданий и выплаты жалований требовались ей постоянно. В этом самом по себе ничего удивительного нет. Однако если папа отличался расточительностью и денег не хватало – слишком легко было обратиться к индульгенциям как к решению проблемы. Разумеется, это и произошло. Индульгенции стали постоянной статьей дохода и со временем превратились в абсолютную необходимость. Они сделались настолько важны, что Церковь готова были закрыть глаза на любые злоупотребления.
Проблема индульгенций и искушение ими обрели новый размах в 1476 году, когда папа Сикст IV сообразил: необязательно ограничивать рынок миллионами живых грешников – можно распространить его и на те десятки и сотни миллионов, что уже покинули мир живых и томятся в чистилище. Можно лишь вообразить себе тот миг, когда до Сикста IV дошло: он может продавать заслуги из своей бесконечной «сокровищницы» не только тем, кто живет и грешит сейчас, но и всем, кто хочет облегчить страдания своих родных в чистилище. Сикст открыл золотую жилу длиной и шириной в Тибр! Обнаружился огромный и еще нетронутый сегмент рынка – страдания мертвых. Продажи индульгенций резко возросли. Теперь можно было покупать индульгенции не только для себя, но и для усопшего отца, деда, дяди, брата – да для кого угодно! И, разумеется, это означало не только то, что рынок вырос: поскольку предметом торга стали теперь страдания бедных душ в чистилище, проповедники-продавцы индульгенций принялись уделять этим страданиям особое внимание в своих проповедях и описывать их в самых ярких красках. Какой же сын не захочет избавить от таких мук своих отца и мать? Если с деньгами туго – можно еще сэкономить на себе; но кто откажется прямо сейчас, не сходя с места, всего за несколько монет облегчить страдания дорогого усопшего?
Система покаяния в средневековой Церкви привела людей к убеждению, что путь на небеса можно заработать, а значит, нужно стараться изо всех сил. Большинству это не особенно-то удавалось. Но Мартин Лютер стал монахом именно потому, что надеялся на успех. Как и положено монаху, каждое утро он поднимался раным-рано, вставал на молитву – и неустанно молился весь день. При каждой возможности ходил он на исповедь. Почему же он чувствовал, что прогресса нет? Он исповедовался снова и снова – и все же понимал: если быть честным с самим собой, всегда найдутся какие-то дурные мысли, которые ты исповедать забыл. Или, иначе: тщательно исповедовавшись, он испытывал греховную гордость от того, что на этот раз не забыл ни одного греха – и теперь должен был исповедовать и эту гордость. В целом Лютер ощущал, что топчется на месте – и это безмерно его угнетало. Он бросил мир, бросил все, разрушил планы отца – и ради чего? Никакого духовного прогресса, ни капли утешения! Он словно плывет против бурного потока: гребет изо всех сил, до изнеможения – но каждый гребок не только не приближает его к цели, но и уносит назад, в сторону смерти и вечной погибели. Неужели вся эта тяжелая борьба окончится поражением? Неужели он обречен на ад?
Лютер терпит неудачу
Исповедь стала для Лютера навязчивой идеей. Дошло до того, что исповедник его – в то время им был Штаупиц – начал впадать в отчаяние от этих беспрерывных и бесконечных исповедей. Однажды Лютер исповедовался шесть часов без передышки, залезая во все закоулки каждого мыслимого греха, а потом в закоулки закоулков, пока Штаупица пот не прошиб и голова не пошла кругом. Будет ли этому конец? Лютера это не смущало: он готов был исповедаться еще трижды по шесть часов, если это поможет докопаться до дна. Но докопаться до дна никак не удавалось. В то время он не понял еще, что дна нет, что человек греховен полностью, во всем своем существе. Все, что понимал Лютер: хоть он и охотится за грехами, словно терьер за крысами, но стоит ему окончить исповедь и повернуться, чтобы уйти – на память приходит еще какой-нибудь пропущенный грех. А ведь Церковь учит, что в грехе невозможно покаяться и получить прощение, пока не вспомнишь его и не назовешь на исповеди. Но разве не старается он изо всех сил найти и исповедать все свои грехи? Как же это получается у других? Неужто он грешнее прочих? Должно быть, так – и значит, надо еще больше стараться.
Штаупиц досадовал на усердного монаха. Случай Лютера выглядел для него каким-то моральным помешательством: с таким Штаупиц до сих пор не сталкивался. Вместо того чтобы смотреть вперед и вверх, на любящего Бога, этот безумец сосредоточился на себе и рьяно копался в своих мыслях. Не раз Штаупиц пытался резкими словами выдернуть Лютера из этой нисходящей спирали самокопания и самобичевания. «Это не Бог на тебя разгневан, – сказал он однажды, – а ты разгневан на Бога! Или не знаешь, что Бог заповедал нам надеяться?» А в другой раз сказал: «Вот что: если хочешь, чтобы Бог тебя простил, приходи с чем-то таким, что стоит прощать, – с прелюбодеянием, богохульством, отцеубийством, а не с этой ерундой!» Лютер исповедовался в дурных мыслях: рассердился на кого-то из братьев, разозлился на что-то, был невнимателен во время молитвы. А если и таких грехов не находилось – исповедовался в гордости за то, что у него нет таких грехов. Штаупиц был человек важный и занятой, у него попросту не было времени на такое духовное крохоборство. От своих духовных детей он ожидал больших сочных грехов – таких, про которые сразу понятно, что это грех, можно в нем покаяться и уйти с чистой совестью! Но Лютер приносил ему комара за комаром – и ни единого верблюда. Грехи его, похоже, никогда не вырастали до чего-то осязаемого, такого, за что Штаупиц мог бы ухватиться обеими руками. Он видел, что Лютер гоняется за собственным хвостом – и эта погоня им обоим приносила лишь изнурительное головокружение.
По-видимому, борения Лютера не были или почти не были связаны с плотскими искушениями. Позднее, подробно рассказывая о своей молодости, он замечал, что грех блуда не имел для него особого значения. Боролся он с сомнениями – собственными сомнениями в том, что способен на что-то доброе, что может заслужить вечное спасение, благодать и милость Божью. Он знал, что жизнь монаха должна освобождать от искушений: с утра до ночи монах занят молитвами, пением гимнов и иными монашескими трудами, а тем соблазнам, которые могли бы осаждать Лютера, стань он юристом, в монашеской жизни места нет. Однако чем больше старался Лютер стать святым, тем более убеждался, что это ему не по силам. Чем старательнее мыл, чистил и скреб – тем больше видел грязи. Беспокоиться о сексуальных искушениях ему не приходилось: в сравнении с тем, что Лютер называл «настоящими узлами», это были сущие пустяки.
Как распутать эти узлы, он не понимал – и страшно от этого мучился; однако не терял решимости и готов был бороться, пока не найдет ответ. Ответ, как мы знаем, ему предстояло найти лишь годы спустя. Пока же этот бесплодный поиск вел лишь к мучениям, известным нам как Anfechtungen.
Вот что писал Лютер о своем опыте несколькими годами позже, в 1518 году[47]:
Я знал одного человека, говорившего, что он часто испытывал эти кары, и всякий раз очень недолго. Однако были они столь велики и столь подобны аду, что этого не рассказать языком и не описать пером, и кто сам не испытает такого – никогда не поверит. Столь велики были эти муки, что случись им длиться хоть полчаса – да что там, хоть пять минут! – он погиб бы навеки, и все кости его обратились бы в пепел. В эти минуты чудится тебе, что Бог, а с Ним и вся тварь Божия, тебя ненавидит. В эти минуты некуда бежать, негде искать утешения – ни внутри, ни снаружи: все тебя обвиняет… В эти минуты – странно сказать, но душа не в силах верить своему искуплению[48].
Вот основная проблема позднесредневекового католического богословия: оно приводило верующих к пониманию их греховности и недостоинства перед Богом – но не объясняло, что же делать дальше: разве только простираться ниц в страхе и муке, чаще исповедоваться и сильнее стараться. В какой-то момент грешники – из них же первый есмь Лютер – приходили к мысли, что вполне заслужили гнев и ярость Бога. Для Штаупица, для того времени и той среды обладавшего на удивление здравым взглядом на Бога, очевидно было, что Бог любит нас и к нам милосерден; но для Лютера Бог оставался лишь суровым судьей, чья праведность безжалостно втаптывает нас в грязь и обрекает на гибель.
Портрет Иоганна фон Штаупица
Видя мучения Лютера, Штаупиц проникся к нему интересом и отеческой заботой. Роль этого человека в жизни Мартина трудно переоценить. Рано увидел он в Лютере талант и большой потенциал – и делал все возможное, чтобы помочь ему найти свой путь. Штаупиц – а также его связи и знакомства, прежде всего с курфюрстом Фридрихом и в Виттенбергском университете – сыграли в жизни Лютера столь значительную роль, что без всего этого Лютера и представить себе невозможно. Однако – вот еще одна любопытная деталь этой удивительной истории, – выведя Лютера на правильный путь, сам Штаупиц за ним не последовал.
Глава третья Великий перелом
Что, если это неправда?
Мартин ЛютерПуть Лютера – от преданного сына Церкви до вождя Реформации, порвавшего с Церковью – занял много лет и представлял собой постепенную трансформацию. Не было второго удара молнии, заставившего его перепрыгнуть из Средневековья прямиком в Новое время; не было какой-то четкой границы, разделяющей две эпохи. Однако в 1517 году произошло важное событие, поставившее Лютера на одну из сторон великого богословского раскола.
Отчасти процесс этот начался с того, что Лютер осознал себя искателем истины, – а такая жизненная позиция неизбежно вела к сомнению в расхожих «истинах», всеми принимаемых на веру. В какой момент любить Церковь стало означать для Лютера – задавать ей вопросы? Когда понял он, что его долг – прямо и смело, хоть и с любовью, указывать на ее ошибки? Если Церковь – хранительница всякой истины, что делать, когда замечаешь проблеск истины вне Церкви? А если в Церкви видишь проблески лжи? В какой момент признать, что и то, и другое возможно – и чем это объяснить? Вопросы не из легких.
Многие из этих вопросов предстали перед Лютером, когда он начал читать Аристотеля. Аристотель, греческий философ IV века до н. э., очевидно, христианином не был. Однако средневековые схоласты высоко ценили Аристотеля и его писания и считали необходимым включать их в богословие Церкви. Аристотель лежал в основе схоластики, вершиной которой стали труды Фомы Аквинского (XIII век). Однако где-то между чтением Аристотеля и блаженного Августина Лютер обнаружил некую зацепку – совсем крохотную, но важную; и решил за нее потянуть.
Проблемы с Аристотелем
В 1889–1890 годах в публичной библиотеке в Цвиккау, в семидесяти пяти милях к востоку от Эрфурта, кто-то набрел на собрание старинных книг в пятнадцати томах – как выяснилось, принадлежавшее Лютеру и сопровождавшее его в монастырских занятиях. Находка была знаменательная. Несколько томов составляли труды блаженного Августина. На полях нашлись заметки, сделанные почерком Лютера, так что у историков появилась возможность следить за ходом его мысли. Из книг, исчерканных и исписанных рукою молодого Лютера, стало очевидно, что очень рано – уже осенью 1509 года, в двадцать пять лет – заметил он между Августином и Аристотелем значительные и тревожные расхождения. В одном из примечаний на полях он пишет: «Августин при помощи разума доказывает, что вся философия ничего не стоит. Вообразите только, что это значит!» Рукописи Августиновых «О Троице» и «О Граде Божьем» Лютер сопроводил своими краткими аннотациями. В одной из них он пишет: «Более чем поразительным кажется мне смелое утверждение наших ученых, что Аристотель ни в чем не противоречит истине Католической Церкви»[49]. Итак, у нас есть рукописное доказательство, что именно великий Августин – один из отцов Церкви, глубоко почитаемый всеми христианами – первым помог Лютеру увидеть то, что в конце концов привело его к восстанию против современной ему Церкви. И одна из важных мыслей, почерпнутых Лютером у Августина, была в том, что человеческая истина имеет границы и своими силами никогда не достигнет небес.
Постепенно Лютер пришел к мысли: воображать, что простой человеческий рассудок может дотянуться небес – не просто заблуждение, но безумная и пагубная гордыня. Как могут человеческие слова и мысли перекинуть мост через бесконечную пропасть между землей и небом, человеком и Богом? Разве это не невозможно по определению? И сама попытка выстроить из костей умерших мудрецов лестницу к жемчужным вратам рая – не глупость ли, даже не дьявольская ли ловушка? Это же не что иное, как Вавилонская башня под другим именем! Верно: Аристотель, философия, разум могут возвести нас на вершину высокой горы. Но что дальше? Они не приделают нам крылья, чтобы преодолеть оставшийся путь и достичь Бога. Мы так и останемся на вершине горы, прикованные к земле. Можно сколько угодно тянуться, прыгать, вставать на цыпочки – все тщетно: синевы небес нам коснуться не дано. Только Бог способен низвести небо на землю; только откровение Божье перекидывает мост через эту пропасть, самую непреодолимую из всех пропастей.
Итак, Лютер столкнулся с загадкой. Почему все эти века Церковь ставила Аристотеля почти что наравне с Писанием? Зачем учила, будто человеческий разум способен на то, что ему явно не по силам? Ответ на этот важнейший вопрос занял у Лютера еще несколько лет.
Библия
В мире, где мы почти повсеместно ассоциируем Библию с Церковью, а Церковь с Библией, трудно вообразить себе эпоху, когда между тем и этим не было почти никакой связи. Столь резкая перемена – еще одно свидетельство неизмеримого влияния, оказанного Лютером на историю. Однако сам Лютер не раз повторял, что в ранние его монашеские годы изучение Библии как таковой было делом почти неслыханным. Разумеется, в тогдашней Церкви экземпляры Библии не лежали на скамьях, и средние миряне почти не представляли, о чем идет речь в этой книге – более того, едва ли четко понимали даже, что речь идет об одной книге. Во время церковных служб они слушали отрывки из Библии, читаемые по-латыни: но мысль, что где-то есть книга, в которой все эти тексты собраны вместе, оставалась чуждой для них даже через десятки лет после появления первых печатных Библий Гутенберга. Это не значит, что монахи были незнакомы с содержанием и учением Библии; однако и до них это содержание доходило, просеянное сквозь сито Церкви, клочками и обрывками, и редко случалось им задумываться о том, что все эти разнородные тексты составляют единое целое. Например, монахи и студенты-богословы читали комментарии Дунса Скота или «Сентенции» Петра Ломбардского, посвященные в основном библейским текстам. Однако представление о Библии как о целостном тексте эти комментарии, скорее, затемняли. Практически никому Церковь не доверяла читать Библию самостоятельно и целиком; и монахи, и священники, и даже ученые богословы, как правило, всегда оставались от нее в нескольких шагах. Однако новое интеллектуальное движение, гуманизм, подчеркивающее важность чтения оригиналов (латинских, греческих, древнееврейских) как Библии, так и иной древней литературы, уже поднимало голову и бросало вызов схоластике и ее взгляду на Библию, укоренившемуся в течение веков.
Учитывая атмосферу того времени, а также высокую цену книг, тем более таких огромных – легко догадаться, что доступных для чтения Библий было попросту очень мало. Однако в то время, когда Лютер поступил в монастырь, там действовало важное правило: одной из книг, которые разрешалось читать послушникам, была как раз Библия. Мы знаем, что, вступив в монастырь, Лютер немедленно получил на руки Библию в красном кожаном переплете – которую вспоминал и много лет спустя. К книге этой он, как видно, отнесся предельно серьезно – не просто читал ее, но изучил вдоль и поперек, почти что выучил наизусть. Он читал ее снова и снова, пока Библия не сделалась знакома ему как свои пять пальцев – занятие для того времени очень необычное. Разумеется, это оказало прямое влияние на будущие события его жизни, да и на будущее человечества. Что именно побудило его к столь интенсивному изучению Библии, мы не знаем; но, судя по всему, львиная доля ответственности за эту одержимость Библией лежит на Anfechtungen. В слове – и прежде всего, разумеется, в слове Божием – Лютер отчаянно искал ответа на мучающие его вопросы, на те проблемы, что, по сути, и привели его в монастырь. Уже в университете, изучая философию, он испытал на себе мощное влияние гуманизма – и был уверен, что, обратившись к первоисточнику, непременно найдет там ответы на свои вопросы, если их вообще можно найти. Охваченный отчаянием, стремился он к ответам, как жаждущий стремится к источнику вод. И, когда вожделенный первоисточник наконец попал к нему в руки – подобно ученому перед микроскопом, ищущему лекарство от смертельной болезни, угрожающей и ему самому, Лютер уже не мог оторвать от него глаз. То, что содержится в Библии, было для него неизмеримо важнее всего, что содержится вне ее.
В отличие от Лютера, читавшего Библию страстно, запоем, другие монахи – по его рассказам – читали Писание мало или пренебрегали им вовсе. Именно одержимость Лютера Библией и отличное знание ее привлекли к нему внимание Штаупица[50]. Как Лютер своей жаждой читать и понимать Библию выделялся среди монахов своего монастыря – почти так же выделялся и Штаупиц среди богословов своего времени.
Как ни странно, когда послушник становился монахом, Библию у него отбирали. Теперь он должен был ограничить свой круг чтения сочинениями схоластов – по крайней мере у себя в келье. По-видимому, после пострижения Лютеру позволено было читать Библию лишь во время занятий в монастырской библиотеке. Однако Лютер считал для себя необходимым читать именно Библию – именно в ней он надеялся найти ответы на свои вопросы; комментарии схоластов мало ему в этом помогали. Они не проясняли, а затемняли ситуацию и лишь ухудшали его состояние.
Во времена Лютера толкование Библии было безнадежно затемнено формальным и изощренно-искусственным схоластическим подходом, который для такого человека, как Лютер – живого ума, активно ищущего истину, – должен был казаться невыносимым. Однако таков был обычай того времени: любой библейский отрывок первым делом укладывали на прокрустово ложе схоластических толкований и рассекали на четыре части. Как говаривал Марк Твен, чтобы понять, как устроена шутка, надо ее убить – здесь так же «убивали» Библию. Схоласты знали четыре способа толкования текста: первый – буквальный его смысл, второй – топологический, третий – аллегорический, четвертый – анагогический. Например, для псалмов – которые Лютер читал и пел каждый день во время молитвы – буквальный смысл всегда понимался как христологический. Топологический – значение текста для человечества; под этим чаще всего понималось его нравственное истолкование. Аллегорический смысл относился к Церкви, а анагогический связывал текст с библейскими «последними временами». О том, как сложился этот странный способ читать Библию, мы сейчас рассказывать не будем; важно то, что из-за него студенты вынуждены были изобретать очевидно неверные толкования, что он был тяжел, утомителен и, главное, ничуть не помогал Лютеру – или кому-то еще – найти в словах или за словами Библии Бога. Однако именно так христиане читали Библию много лет, – и, конечно, не безвестному молодому монаху было опровергать эту сложившуюся традицию. Но можно представить себе раздражение и досаду Лютера, сыгравшие важную роль в его богословском пути.
Было и другое, заставлявшее Лютера задумываться о том, что, возможно, он – или Церковь – упускает что-то важное. Например, во время пребывания в Эрфуртском монастыре Лютер однажды наткнулся на проповеди Яна Гуса. Любопытно, что проповеди известного еретика монахам, как видно, никто читать не запрещал – но, так или иначе, Лютер их прочел. Мы знаем, что при этом он немало – и неприятно – удивлялся тому, что Гус был объявлен еретиком и сожжен. Однако пока он был не готов говорить об этом открыто или даже с кем-то обсуждать. Пока Лютер хотел только одного: быть смиренным послушным монахом, доверять суждению Церкви. А если его видение расходилось со взглядами Церкви, он говорил себе: должно быть, я чего-то не понимаю, но со временем пойму.
Свои занятия в монастыре Лютер начал летом 1507 года; однако уже осенью 1508 года Штаупиц отправил его в Виттенберг. Обычно монах проводил в своем монастыре всю жизнь – должно быть, того же ожидал и Лютер; но Штаупиц, генеральный викарий ордена, обладал правом посылать монахов туда, где они ему требовались – и сейчас Лютер потребовался ему в Виттенберге. Не предполагалось, что Лютер останется там надолго. И в самом деле, в тот раз он прожил там всего год. Мы знаем, что со временем он вернется в Виттенберг и уже никогда его не покинет; но в 1508 году, отправляясь туда впервые по приказу Штаупица, Лютер ничего подобного еще не предполагал. Возможно, Штаупиц послал его в другой город, видя, что борьба Лютера с грехом лишь изнуряет его, не принося успехов, и полагая, что смена обстановки пойдет ему на пользу. А может быть, имелся у него и далеко идущий план со временем перевести Лютера в Виттенберг насовсем. Штаупиц был там деканом богословского факультета – и, вполне возможно, полагал, что Лютер станет украшением его преподавательского состава.
За год в Виттенберге Лютер многого достиг. Уже 9 марта 1509 года он получил первую свою богословскую степень – бакалавра теологии; и той же осенью сдал экзамен на вторую богословскую степень – бакалавриат по «Сентенциям» Петра Ломбардского, важнейшему и общепризнанному учебнику богословия средневековой Европы. Разумеется, изучал Лютер и Дунса Скота, и Фому Аквинского, и последнего укорял за «чрезвычайную пространность рассуждений»[51]. Там же, в Виттенберге, Лютер впервые принял участие в академической дискуссии – диспутации, как это тогда называлось – о догматических принципах. Лютер выступал против широко распространенного убеждения, что богословские идеи нужно просто принимать на веру, без доказательств. В каком-то смысле этот диспут предвещал будущее. Лютер не спешил ниспровергать основы, однако задним числом можно заметить, как росло его недовольство всем, что его окружало. Он слишком высоко ценил истину, чтобы позволить запутать себя софистикой или просто отмахнуться от сомнений. Ему нужны были настоящие ответы – и Библию он хотел читать так, чтобы эти ответы в ней найти; и уже начал подозревать, что в официальных ответах, которые предлагает ему Церковь, не слишком много правды.
Прослышав об успехах собрата в Виттенберге, некоторые из монахов в Эрфуртской обители преисполнились завистью. Но, так или иначе, после года в Виттенберге Лютеру пришлось вернуться домой. Интересно, что в Эрфурте он не принес обычную присягу, в которой бакалавр обещал получать докторские степени там же, где получал и предыдущие. Почему так произошло – мы не знаем; но отсутствие такой присяги впоследствии создало ему проблемы. Так или иначе, в Эрфурт Лютер вернулся ненадолго; вскоре его занятия были прерваны приказом ехать в Рим.
Путешествие в Рим. Aetatis 27
Для поездки в Рим Лютера снова выбрал Штаупиц. Формальная причина, по которой Лютер отправился туда (по-видимому, вместе со своим эрфуртским собратом, занимавшим более высокое положение в ордене, по имени Натин), была в том, что в это время между августинцами возник спор, требовавший разрешения. Одна ветвь августинских монахов, так называемые «августинцы-каноники», очень строго соблюдала все требования устава, а другие монастыри допускали разные послабления. Монастырь в Эрфурте относился к «каноникам». Как генеральный викарий всего ордена, Штаупиц настаивал, чтобы Эрфуртский монастырь – вместе с еще восемнадцатью монастырями «каноников» – перешел под его прямое управление и утратил свою относительную независимость. Намерение Штаупица – и желание его римского начальства – состояло в том, чтобы привести все «канонические» монастыри под его юрисдикцию и помочь монастырям с более свободными нравами приблизиться к высоким стандартам «каноников». Однако эрфуртские братья решительно воспротивились потере независимости. Лютер участвовал в первой встрече по этому вопросу, состоявшейся в Нюрнберге, где монастыри «каноников» решительно отказались подчиниться желанию Штаупица. Эта идея привела их в такое негодование, что они обратились с апелляцией напрямую в Рим – на что имели полное право. Штаупиц на это согласился – и отправил в Рим с апелляцией Лютера, надеясь, что это пойдет ему на пользу.
Но и здесь приходится предположить, что у Штаупица были и другие причины отправить Лютера в это долгое и знаменательное путешествие. Во-первых, Штаупиц, несомненно, верил, что его подопечному будет полезно вырваться из монастырской рутины. Шестнадцать сотен миль до Рима и обратно, пройденные пешком, несомненно, помогут молодому Мартину отвлечься от изнурительного и бесплодного самокопания.
В ноябре 1510 года Лютер отправился в путь. Как ни удивительно, в первый и последний раз в жизни покинул он пределы своего тесного мирка; ведь после Вормсского рейхстага 1521 года, где Лютер был признан еретиком и объявлен вне закона, передвижения его были поневоле ограничены пределами Саксонии. Все путешествие Лютер и его спутник Натин, скорее всего, проделали пешим ходом.
Одну из первых остановок на этом долгом пути Лютер сделал в Нюрнберге, в 140 милях к югу от Эрфурта. Здесь он увидел недавно законченный Männleinlaufen – впечатляющие механические часы на башне «Фрауэнкирхе» [церкви Девы Марии] XIV века. Несомненно, это чудо часового искусства должно было его поразить. В центре циферблата восседал император Священной Римской империи: на его одеяния художник не пожалел позолоты. Каждый день, ровно в полдень, двое трубачей вздымали свои инструменты и трубили, а вслед за ними звонари звонили в колокола, барабанщики били в барабаны – и из дверцы в часах плавно выступали семеро курфюрстов, обходили императора кругом и скрывались за левой дверцей. Трижды совершали они свой круг, а затем чудо прекращалось, чтобы вновь свершиться через двадцать четыре часа[52].
Примерно через три дня Лютер и его спутник добрались до Ульма – и здесь, вытаращив глаза, любовались исполинским Ульмским собором, чей 530-футовый шпиль делал его высочайшей церковью в мире – как тогда, так и сейчас, пятьсот лет спустя. Внутренние помещения церкви составляют 400 футов в длину и 160 в ширину, а центральный неф достигает высоты в 136 футов – для тех времен пространство неописуемо огромное. До того, как там установили скамьи, в Ульмском соборе могли поместиться двадцать тысяч человек. Безусловно, ничего даже отдаленно похожего Лютер до сих пор не видывал. Однако позже он замечал: огромность этой церкви, как позднее и римского собора Святого Петра, скорее неприятно его поразила – ведь очевидно было, что такая гигантская церковь не годится для проповеди. Ему это, разумеется, казалось не просто ошибкой, но ошибкой роковой, каким-то трагическим абсурдом. Лютер чувствовал, что в жертву величию здания принесена духовная жизнь людей, которые в нем молятся. Цель Церкви – не поражать красотой и величием интерьеров, а нести пастве слово Божие: если этого не происходит – зачем тогда все?
Дальше путь Лютера пролегал через Швабию, Баварию и дальше, через заснеженные Альпы, величественные и молчаливые. Прибыв наконец в прославленный город Милан, Лютер обнаружил, что не может отслужить здесь мессу – но на сей раз по совсем иной причине, не имеющей ничего общего с его недостоинством. Дело в том, что более тысячи лет назад, в IV веке, епископом города был святой Амвросий Медиоланский. Он ввел особый, так называемый амвросианский обряд: в Милане так служили литургию на протяжении всех одиннадцати веков до Лютера и служат по сей день. Однако Лютер, как и большинство священников не из Милана и окрестностей, был знаком лишь с римским обрядом.
Из Милана монахи отправились в Болонью, на родину старейшего университета, основанного более четырехсот лет назад, в 1088 году; здесь их застигли суровые декабрьские морозы вкупе с тем, что в этом славном городе встречается нечасто – снегопадом.
Из засыпанной снегом Болоньи Лютер и его спутник отправились на юг, во Флоренцию. Здесь лишь двенадцатью годами ранее был осужден за ересь и сожжен на костре Савонарола. Несомненно, Лютер полюбовался здесь потрясающим «Давидом» Микеланджело, законченным всего семь лет назад. Исполинский шедевр высотой почти в восемнадцать футов стоял перед Дворцом Синьории[53]; однако о нем Лютер позднее не упоминал ни словом. Говорят иногда, что Лютер проехал через всю Италию в расцвете Возрождения, но самого Возрождения не заметил.
Из Флоренции Лютер со спутником отправились в Сиену. И наконец, где-то в конце декабря, на Кассиевой дороге взорам их наконец предстала вожделенная цель путешествия: великий сказочный город императоров и пап, Вечный город, город на семи холмах, а также – самое важное для Лютера – город, где были замучены и жестоко убиты за христианскую веру тысячи мучеников, самые известные из которых – Петр и Павел. И всего через пару дней глаза путника из далекой Саксонии узрят их святые мощи! Лютер пал на колени, распростерся ниц на холодной земле и воскликнул: «Благословен будь, святой Рим, истинно святой, ибо здесь пролило кровь свою несказанное множество святых мучеников!»[54]
В Риме Лютер провел около месяца: жил он либо в резиденции главы папских представителей, которому они подали свою апелляцию, либо неподалеку, в монастыре Санта-Мария дель Пополо. История этого не уточняет. Известно, однако, что единственной цели, ради которой монахи прошагали пешком тысячу шестьсот миль, достичь не удалось. Эджидио да Витербо, начальник Штаупица, отдавший приказ о слиянии монастырей, попросту отказался выслушать послов. Выходит, что Лютер с товарищем прошли своими ногами восемьсот миль совершенно напрасно. Так или иначе, об этой стороне своего путешествия Лютер не упоминает вовсе.
Совсем иное дело – духовные возможности, открывшиеся ему в Риме! Об этом Лютер готов был рассказывать всю оставшуюся жизнь. Нигде больше в мире не открывался смертным такой доступ к вечным сокровищам! Рим, престол веры, предоставлял паломникам почти безграничные возможности просвещения и духовного совершенствования – поэтому сюда спешили благочестивые странники со всех концов Европы. Оказавшись в Риме, чужестранец не знал, с чего начать, за что приняться. Почти обязательным условием для каждого уважающего себя пилигрима был однодневный марафон по семи главным римским соборам: не вкушая с утра ни кусочка пищи, требовалось посетить каждый, закончить собором Святого Петра и там отстоять мессу. Это богатство возможностей поразило и оглушило Лютера. Быть может, теперь, в Риме, Бог наконец-то откроет дверь, в которую Лютер неустанно стучал? Быть может, мучительные Anfechtungen, калечащие в этой жизни и отнимающие надежду на жизнь грядущую, наконец останутся позади?
Откровенно сказать, Рим 1510 года, в котором побывал Лютер, был лишь бледной тенью былого славного Рима цезарей. Двенадцать миль Аврелиановых стен, возведенных в III веке – двадцати футов высоты, почти с четырьмя сотнями башен – огораживали теперь изрытый ямами пустырь, прибежище коз, коров и бродячих собак; странным образом, даже проститутки и банды разбойников, наводнявшие город, обходили его стороной. Далеко было этому Риму и до величественного Рима времен расцвета Возрождения, каким обычно мы его себе представляем, – Рима Микеланджело и «нового» собора Святого Петра.
В сущности, «новый» собор Святого Петра, которому скоро предстояло стать архитектурным чудом света, пока был, так сказать, в зачатке – не в последнюю очередь потому, что на постройку его требовались огромные средства, а денег Риму вечно не хватало. Едва ли Лютер мог хотя бы подозревать, что этот архитектурный проект однажды тесно переплетется и с его судьбой, и с судьбой папства и Церкви, что ему суждено стать одним из факторов, изменивших мир. Молодой монах не подозревал, что ждет его впереди; еще неведомо было ему, что этот город и его пороки станут для него наваждением. Ему было лишь двадцать семь лет; он перешел пешком через Альпы и теперь в восторге гулял по легендарному городу, где встретили мученическую смерть Петр и Павел. Он пришел сюда как христианский пилигрим, чувствуя, что душа его нуждается в духовной помощи – дабы полной горстью зачерпнуть из раскрытой перед ним сокровищницы заслуг.
Еще один способ, помимо покупки индульгенций, которым смиренный христианин мог заработать себе отпущение грехов – поклонение священным реликвиям. За право узреть реликвию, разумеется, надо было сколько-то заплатить; зато в обмен паломник получал индульгенцию, и порой весьма значительную. Например, здесь, в Риме, находилась Каликстова гробница, в которой, по рассказам, покоились кости сорока пап и семидесяти шести тысяч мучеников![55] Пять раз пройдя вдоль и поперек одну из этих катакомб за то время, пока служится месса, паломник получал индульгенцию, позволяющую освободить из чистилища одну душу. Вспомним: в те времена католики верили, что души в чистилище страдают тысячи, даже миллионы лет, – и поймем, что перед соблазном такой сделки устоять было почти невозможно. Конечно, возникает вопрос: кто и как подсчитывал стоимость хождения взад-вперед по катакомбам? Но с другой стороны, какая разница? Перед верующими раскинулся необъятный шведский стол небесных благ – и только отпетый дуралей стал бы колебаться, когда перед ним распростерты такие богатства!
Здесь, в Риме, можно было полюбоваться на веточку от Неопалимой Купины – той самой, что три тысячи лет назад изумила и ужаснула Моисея в Синайской пустыне. Кто бы усомнился, что это та самая ветвь – сами видите, она же не сгорела! Все слыхали, что Иуда продал Иисуса за тридцать сребреников – и кому не хотелось взглянуть на них своими глазами? Так вот, смотрите: вот один из этих сребреников, то самое проклятое серебро. За созерцание этой мрачной реликвии полагалась индульгенция, сокращающая срок пребывания души в чистилище на четырнадцать веков, – почти столько же, сколько прошло со времен этой самой прискорбной сделки в мировой истории.
В Библии об этом не упоминается, однако предание гласит, что перед ссылкой на остров Патмос апостола Иоанна привезли в Рим, к императору Диоклетиану, который, желая унизить святого, приказал остричь ему волосы. Если кто-нибудь из паломников в этом сомневается – смотрите! Вот те самые ножницы, которыми – щелк-щелк-щелк! – орудовал палач-парикмахер. Здесь же, в Риме, покоились мощи святых Петра и Павла, каждое тело – разделенное надвое, чтобы вдвое больше церквей могли получить с них прибыток. Мало того: чтобы извлечь из мощей святых побольше дохода, головы их отделили от тел – и теперь головы эти покоились в архибазилике Латеранского собора святого Иоанна.
Однако благодать этих чтимых святынь осталась Лютеру недоступна – из-за огромных очередей. Не смог он и отслужить мессу в Латеранском соборе святого Иоанна – и очень жаль, ибо считалось, что священник, отслуживший там мессу, тем самым освобождает из чистилища душу своей матери. Мысль странная и неприятная: выходит, матушка Лютера обречена была страдать в чистилище, или и того хуже, только потому, что ему не удалось пробиться через толпу? Какой в этом смысл? Однако Церковь была полна таких загадок – и Мартину, простому грешному монаху, уж точно не приходилось ставить их под сомнение.
В Риме Лютер поднялся по знаменитым «Скала Санкта» (Святым ступеням) – как говорили, мраморным ступеням дворца Пилата в Иерусалиме, по которым поднимался сам Иисус, с которых выслушал Он от собравшейся черни свой приговор: «Распни Его!»[56]. Считалось, что святая Елена, мать императора Константина, в IV веке привезла их со Святой Земли – из того же путешествия за святынями, в котором ей каким-то образом удалось обрести и возвратить «Истинный Крест». Мрамор «Скала Санкта» – как утверждают, тирийский – теперь покрыт деревянным настилом; однако и сейчас паломники ползут по нему на коленях, неустанно читая молитвы, точь-в-точь как Лютер пятьсот лет назад. Во времена Лютера считалось, что, восходя по этим ступеням, необходимо на каждой прочесть Pater Noster («Отче наш»)[57]. Тем самым можно серьезно уменьшить страдания в чистилище для всех своих родственников – так что Лютер всерьез сокрушался, что его дорогие родители еще живы. Вообразите себе такое положение! Он отчаянно желал, чтобы его пребывание в Риме послужило родителям на пользу, чтобы спасло их от зияющей пасти чистилища, – однако, поскольку они еще дышали земным воздухом, все надежды его были тщетны! Впрочем, по счастью, дед Лютера по имени Гейн покинул этот мир вовремя – и получил выгоду от пламенного благочестия внука. Лютер честно прочитал Pater Noster двадцать восемь раз; однако, когда поднялся на вершину этого святого зиккурата, страшная мысль вдруг охватила его. Годы спустя он рассказывал об этом: еще стоя на коленях, чувствуя под ногами прохладу мрамора, он вдруг спросил себя: а точно ли все, им проделанное, будет иметь такое действие, как уверенно и авторитетно вещает Церковь? Учение о том, что Церкви дано решать, кто и как долго будет страдать в чистилище, звучало совершенно ясно. В конце концов, разве Иисус не вручил Петру ключи? И все же, прочтя Pater Noster двадцать восемь раз, коленопреклоненный Лютер усомнился. «Что, если это неправда?» – спросил он себя. Откуда пришла к нему эта мысль: от дьявола, соблазнившего Еву в райском саду усомниться в обетованиях Божьих – или же была вызвана искренним желанием знать истину, иначе говоря, явилась от Бога? Ответа Лютер не знал – и знать не мог; но скоро, уже скоро он начнет искать ответ.
Еще одно неприятно поразило Лютера в Риме – вопиющая некомпетентность и цинизм многих здешних священников. Ничего даже отдаленно похожего Лютер до сих пор не видывал. Одно дело – в чем-то сомневаться и задаваться вопросами; но что сказать о священниках, совершающих таинства с презрительным равнодушием, иной раз даже с откровенными богохульствами и насмешками над тем, что делают? Виделось в этом что-то дьявольское. Прежде всего, Лютер заметил, что мессы здесь служатся прямо-таки со сверхъестественной быстротой: даже он, прекрасно знающий текст службы, не мог разобрать в нем ни слова. Можно было подумать, священников в Риме тайно заменили рыночными торговцами, чей главный талант – умение говорить быстро и без умолку! Лютер привык приступать к мессе с благоговением, почти со страхом – и такое бесцеремонное отношение к ней наполняло его ужасом. Что же называть «мертвой верой» или «мертвыми делами», если не это искореженное, обессмысленное священнодействие во всем его фарисейском уродстве? Лютер ясно видел: в этих священниках нет ни капли уважения к тому, что они делают, – они лишь спешат сбросить с плеч эту надоевшую обязанность и устремиться к каким-нибудь более важным или приятным делам. Официально месса не могла занимать менее двенадцати минут; однако Лютер вспоминал, что в базилике святого Себастьяна служилось по семь месс в час – следовательно, каждая меньше девяти минут. И когда сам Лютер служил мессу, следующий в очереди священник, сгорая от нетерпения, буквально дышал ему в спину: «Быстрее, быстрее! – приговаривал он и саркастически добавлял: – Отпусти уже Мадонну к ее Сыну!» – шутка о пресуществлении Святых Даров. Там же, в Сан-Себастьяно, наблюдал Лютер и совсем безумную сцену: двое священников служили мессу одновременно, у одного и того же алтаря, отделенные друг от друга лишь живописным полотном.
От других монахов Лютер слыхал соблазнительные истории, смущавшие его невинную и благочестивую душу. Вспоминал он, например, как на одной трапезе монахи покатывались со смеху, рассказывая друг другу, что иногда на мессе вместо формулы пресуществления произносят богохульные слова: «Panis es et panis manebis, vinum es et vinum manebis» – «Хлеб ты и хлебом останешься, вино ты и вином останешься». Для Лютера пресуществление было великим, несказанным чудом, святыней, за которую он готов был жизнь отдать, – как отдали жизнь за веру многие христиане в минувшие века; слыша такое, он не знал, что и думать. Обмениваясь такими шутками, монахи, должно быть, даже не подозревали, что кто-то за столом не разделяет их вольнодумства. Куда ни падал взгляд Лютера – отовсюду отвращался в ужасе; везде видел он, говоря его собственными словами, «хаос, грязь и бесстыжих священников, что мочились на глазах у людей и открыто ходили к шлюхам».
Прежде чем спрашивать, неужели никто, кроме Лютера, этого не замечал – вспомним, что всего за пять лет до того Рим посетил Эразм Роттердамский и обнаружил в нем такие же ужасы. «Собственными ушами моими, – рассказывал Эразм, – я слышал самые отвратительные богохульства против Христа и Его апостолов. Многие мои знакомые слышали, как священники из курии провозглашали мерзости во всеуслышание, иной раз даже на мессах, где их слышали все вокруг»[58].
Любопытный случай Анны Ламинит
Наконец настало время для Лютера и его спутника отправиться домой – восемьсот миль пешим ходом до Эрфурта. Об их обратном пути мы знаем мало; но известно, что, вернувшись в пределы Германии, они остановились на пару дней в Аугсбурге, где Лютер посетил Анну (или Урсулу) Ламинит, женщину-аскета, прославленную своей невероятной историей. Слава об этой святой облетела всю Германию и сопредельные страны: уже четырнадцать лет подвижница почти не вкушала пищи! Говорили, что она поддерживает свои силы лишь Святым Причастием. К этому прибавляли и еще более поразительную подробность: будто бы все эти годы святая не нуждалась в естественном облегчении – не ходила ни «по-большому», ни даже «по-маленькому»! Прозвище «Ламинит» – это сокращение от Lass-mir-nicht («не оставь меня»); отчего подвижница получила такое прозвище, остается неясным. Лютер и сам был не чужд аскетизму – но, разумеется, от таких его крайностей был далек, как небо от земли. Отказаться не только от всех удовольствий жизни, но даже от еды и питья, вместе с теми телесными явлениями, что им сопутствуют – значило уже при жизни почти что переселиться на небеса; выходило, что заработать себе путь в рай «делами святости» все-таки возможно! Не есть, не пить, не мочиться и не испражняться – это ведь и значит, в самом буквальном смысле, победить мир, перейти в некое иное состояние, в котором теряют актуальность даже базовые физические потребности – стать, так сказать, равным ангелам. Такое достижение являло собой венец святой и монашеской жизни; и, разумеется, когда представилась возможность, Лютер не мог пройти мимо этой женщины, воплощающей в себе совершенство, к которому он стремился.
Лютер надеялся узнать от нее какую-то тайну, нечто такое, что осветит и направит его путь; и, когда они наконец встретились, молодой монах спросил, хочет ли она скорее умереть и попасть на небеса. Ведь, казалось, все, что она делает, направлено именно на это – можно сказать, она уже на полпути туда! Однако ответ Анны поразил Лютера. «О нет! – ответила она, а затем пояснила: – Здесь мне все знакомо, все понятно – а там кто знает, что может случиться!» Изумлению Лютера не было предела. Как может прославленная святая говорить такое?
Однако сейчас мы понимаем, почему она так ответила. Оказывается, так называемая Анна Ламинит, прославленная подвижница, на деле была отпетой мошенницей. Расскажем вкратце о ее жизни: это послужит хорошей иллюстрацией к тому, до каких нелепостей доходило в те времена превознесение «иномирного» аскетизма – того, к чему так стремился и сам Лютер, но в конце концов отверг.
Женщина, впоследствии принявшая имя Анна Ламинит, родилась в 1480 году в бедной аугсбургской семье. В этом городе она и выросла; однако еще в совсем юном возрасте за «беспутную жизнь» была бита кнутом у позорного столба и изгнана из Аугсбурга. Но в 1497 году она вернулась: ее приняли к себе некие христиане, содержавшие дом призрения. Здесь, по всей видимости, Анна заинтересовалась религией и нахваталась благочестивых словечек и манер. Вскоре она начала изображать из себя «голодающую мученицу» и рассказывать о своих видениях: тех, кто приходил к ней, встречала в мрачном черном одеянии и потчевала историями о том, как ей являются святая Анна и ангелы. Вскоре слава о «живой святой» начала распространяться: посетил ее даже император вместе со своей второй женой, наивной и ребячливой – и обоих супругов Анна положительно очаровала.
Разумеется, после этого слава Анны выросла до небес: богатые и знаменитые протоптали дорожку к ее двери, спрашивая у нее совета во всех делах, больших и малых. Влияние ее сделалось так велико, что не раз она возглавляла городские покаянные процессии, в которых участвовали все местные священники, монахи и монахини. А в июне 1503 года участие в такой процессии приняла супруга императора Максимилиана вместе со всеми своими придворными дамами! В черной власянице, со свечой в руках шла императрица посреди торжественного шествия. Богатые и влиятельные друзья Анны осыпали ее дарами, которые, вследствие их религиозного назначения, не облагались налогами – и богатство «бессребреницы» росло как на дрожжах.
Однако сестру императора Кунигунду, герцогиню Баварскую, было не так легко обмануть. Сама женщина глубокой веры и благочестия, она ощутила в этих «чудесах» какой-то подозрительный душок и решила разобраться. Ничего не говоря брату, она познакомилась с Анной и пригласила ее съездить вместе с ней в некий монастырь в Мюнхене – а там распорядилась, чтобы Анну поселили в особой комнате для гостей. В стене этой комнаты имелся глазок, через который герцогиня Кунигунда, ночующая в соседних покоях, могла наблюдать за всем, что делает Анна: так она надеялась ее разоблачить. Так и вышло: Анна приняла приглашение – и скоро попала в ловушку. Оказывается, оставшись в своих покоях одна, «голодающая» разворачивала свертки со всевозможными лакомствами и деликатесами – от сочных груш до густо наперченных пирожков – и наедалась до отвала. Что же до естественных испражнений – все, что выходило из ее тела, Анна заворачивала в тряпки и преспокойно выбрасывала за окно. Убедившись, что подозрения ее были справедливы, герцогиня вместе с еще несколькими видными людьми приступила к Анне, обвинила в обмане и, чтобы раз и навсегда положить конец притворству, заставила ее есть и пить перед всеми. После этого потребовала, чтобы Анна бросила свои фокусы и отныне жила честно – на что та нехотя согласилась, – и отпустила ее в Аугсбург. Однако, вернувшись домой, Анна тут же забыла о своем обещании и продолжила «голодать».
К этому времени широко распространились слухи, что она состоит в связи с несколькими видными мужчинами в городе, в том числе с викарием местной церкви, а также с очень богатым и влиятельным купцом по имени Антон Вельзер. В последнем сомневаться не приходилось, ибо от этого Вельзера Анна родила сына, на содержание которого тот выделил кругленькую сумму – тридцать гульденов в год. Ребенок вскоре умер, однако Анна много лет скрывала это от Вельзера, не желая терять ежегодный доход.
Когда герцогиня узнала, что в Аугсбурге Анна продолжает разыгрывать тот же спектакль, терпение ее лопнуло. Она рассказала обо всем императору, своему брату, и тот приказал изгнать Анну из Аугсбурга. Однако, поскольку она согласилась оставить свое состояние городу, ей разрешили покинуть Аугсбург с достоинством – в роскошной карете, купленной на деньги Вельзера.
Анна отправилась в женский монастырь в Кемптене, в шестидесяти милях к югу, и там продолжила практиковаться в актерском мастерстве; а затем, разоблаченная и там, бежала на север, в Кауфберген, и сошлась там с овдовевшим мастером-оружейником, изготовителем арбалетов, по имени Ганс Бахман. Пара вместе отправилась во Фрибур в Швейцарии и там в ноябре 1514 года обвенчалась. Однако несколькими годами позже, в 1518 году, Анну все-таки настигло возмездие за бесчестную жизнь. Вельзер решил отправить сына, которого никогда не видел, в школу – и написал Анне, прося прислать мальчика к нему. Однако сына Вельзера не было в живых уже много лет. В отчаянии Анна решила отправить вместо него своего пасынка, сына Бахмана: он был примерно того же возраста, что и сын Вельзера, останься тот в живых. Однако Вельзер каким-то образом раскрыл обман – и с гневом узнал, что уже много лет платит тридцать гульденов в год на содержание давно умершего ребенка. В ярости он потребовал правосудия; Анну арестовали во Фрибуре и судили. Без пыток призналась она во всем – и была приговорена судом к сожжению на костре, впрочем, затем «милостиво» замененному на утопление. Анну должны были зашить в мешок и опустить в воду в определенном месте реки Зане, «пока душа не покинет тело». Суровый приговор был приведен в исполнение в назначенный срок, 5 мая 1518 года.
Встреча Лютера с этой «прославленной святой», а на деле – наглой мошенницей без чести и совести служит ярким примером того, что в средневековой Церкви в самом деле что-то прогнило, и прогнило серьезно.
Глава четвертая Монах в Виттенберге
Когда Лютер вернулся из Рима, эрфуртская братия решила, что, несмотря на неутешительный ответ (точнее, нежелание отвечать) от начальника Штаупица, они все же не станут подчиняться его авторитету. Лютер оказался в затруднительном положении. Для него «начальником» был именно Штаупиц; ему принес он обет повиновения. Поэтому в эрфуртском мятеже против Штаупица Лютер участвовать отказался; однако это вызвало глубокую трещину между ним и большей частью монастырской братии – трещину, которая будет сказываться на его жизни и много лет спустя. Штаупиц, понимая трудное положение Лютера, снова перевел его в Виттенберг, вместе с его близким другом Иоганном Лангом, который в этом споре был с Лютером на одной стороне. Эрфуртские монахи только радовались, что избавились от них обоих. Виттенберг в сравнении с Эрфуртом был тихим, заштатным городишком. Что ж, говорили монахи, если эти двое так обожают Штаупица – пусть сами с ним и живут!
Что думал о своем переводе в Виттенберг сам Лютер, нам неведомо; впрочем, едва ли у него был выбор. Что же касается Штаупица – он, несомненно, радовался. Должность генерального викария ордена обязывала его часто путешествовать по подотчетным монастырям. В Виттенберге ему был необходим заместитель – и не приходилось сомневаться, что Лютер здесь наилучшая кандидатура. Однако, чтобы Лютер мог достойно замещать Штаупица в Виттенберге, ему требовалось получить докторскую степень – достижение, к которому сам Лютер никогда не стремился. Большое впечатление на Штаупица производил не только глубокий ум и способности Лютера, но и его отношение к Библии – по тем временам качество редкое, если не уникальное. Как часто повторял сам Лютер, в то время Библию никто не читал.
Позже, рассказывая о том, как характерно было для той эпохи полное незнакомство с Библией, Лютер не раз приводил в пример своего виттенбергского друга и коллегу Андреаса Боденштейна фон Карлштадта. Он вырос в городке Карлштадт в Баварии и, по примеру многих тогдашних гуманистов, стал называть себя просто Карлштадт, опуская фамилию Боденштейн. Преподавал он в Виттенберге на богословском факультете, пользовался там большим уважением, однако Библию почти не знал. Любопытно, что Карлштадт глубоко уважал Лютера за его знание Библии – однако, по-видимому, ни ему, ни кому другому не приходило в голову, что без этого знания богослову вообще не обойтись. Библии уделяли время лишь те, кто чувствовал к этому склонность – и в Виттенберге, помимо Лютера, таким был лишь один человек: сам Штаупиц. Штаупиц видел, что для Лютера Библия была не просто книгой, такой же, как «Никомахова этика» Аристотеля, томик Ливия или Цицерона. Это была ценность совершенно иного порядка, не сравнимая ни с одной книгой на свете – живое слово Божье, которое нельзя читать так, как читаем мы все прочие книги. Библия вдохновлена Богом; и, когда читаешь ее – следует читать с таким чувством, с таким трепетом, чтобы воистину обонять и ощущать дуновение небес. Если этого нет – все тщетно. Читать таким образом любую другую книгу, на взгляд Штаупица, было бы просто глупостью; но не испытывать такого почтения к Библии – глупость вдвойне. Из этого ясно, почему он так сблизился с Лютером и так надеялся на его помощь.
Под грушевым деревом. Aetatis 28
Выслушав бесчисленное множество исповедей Лютера, Штаупиц прекрасно знал, что Лютер прилежит Писаниям, в них ищет духовное утешение, Бога и ответы на свои вопросы, которые может дать только Бог. Именно такой человек, решил Штаупиц, лучше кого-либо иного сможет замещать его в Виттенберге; так что однажды, в октябре 1512 года, Штаупиц пригласил своего подопечного прогуляться по монастырскому саду и, присев под грушей, завел с ним серьезный разговор. В ходе этого разговора Штаупиц ясно дал понять: Лютеру следует готовиться к получению докторской степени.
Несколько десятков лет спустя, рассказывая об этом своим студентам, Лютер указывал на старое грушевое дерево и говорил: вот под этим самым деревом Штаупиц в тот день спорил с ним и его убеждал.
Разговор вышел долгим и нелегким. Молодой монах решительно заявил своему любимому и уважаемому наставнику, что становиться доктором не хочет – по нескольким причинам. Во-первых, он недостаточно силен и телом, и духом для бремени преподавания и проповедей. Он даже признался Штаупицу, что, по собственному ощущению, едва ли проживет долго: странное убеждение это было, как нам известно, совершенно ложным – но вполне искренним. Должно быть, Лютер ощущал на себе бремя шестилетнего поста и умерщвления плоти. Сейчас, в двадцать девять лет, он был далек от той мощной фигуры, какую мы видим на позднейших портретах Кранаха. Быть может, нам трудно вообразить себе Мартина Лютера худым и костлявым; однако на том жизненном этапе телосложением он явно больше походил на тощего козла, чем на быка. Через семь лет после этого разговора – во время Лейпцигского диспута 1519 года – он, по словам одного очевидца, был так худ и изможден, что сквозь кожу едва не просвечивали кости. Так что в беседе со Штаупицем Лютер не фантазировал, говоря, что здоровье его далеко от идеала. Однако что бы там ни имел в виду Лютер – Штаупиц слишком хорошо его знал. За годы бесконечных исповедей Штаупиц успел узнать, как этот монах склонен к самоуничижению и мрачному взгляду на жизнь, – и теперь, как и прежде, готов был развеять его сомнения шуткой. «Даже если ты скоро умрешь, – сказал он, – что с того? Господу на небесах тоже нужны мудрые советники. Уверен, что докторов Ему там не хватает!»[59]
Это возражение Лютер принял – быть может, с улыбкой; однако были у него и другие аргументы против. Для начала, не слишком ли он молод для докторского звания? Да и монашествует всего несколько лет. Как он будет проповедовать, чему учить? Более того, ясно было, что многие эрфуртские монахи смотрят на его быстрое возвышение с ревнивой завистью – а к таким вещам Лютер был чувствителен. Но Штаупиц ответил: если Лютер примет его предложение, то будет преподавать студентам Библию – перспектива, несомненно, для Лютера привлекательная. Не остановившись на этом, он еще подсластил пилюлю: ничего, кроме Библии, Лютеру преподавать не придется. Чтобы окончательно убедить Лютера, добавил: и никакого Аристотеля в учебной программе! К этому времени к Аристотелю Лютер испытывал настоящее отвращение – и то, что его не придется преподавать, разумеется, очень его порадовало.
Приняв наконец предложение Штаупица, Лютер начал занятия и сумел получить докторскую степень с примечательной быстротой. На церемонии ему вручили Библию, золотое докторское кольцо – три сплетенных вместе кольца, символизирующих Троицу – и особую докторскую биретту. Церемония проходила 18 и 19 октября 1513 года, и Лютер пригласил на нее множество друзей и знакомых, в том числе и эрфуртскую братию – благородный жест с его стороны. Однако многие эрфуртские монахи были сердиты на него еще со времени возвращения из Рима, за то, что он принял сторону Штаупица, а теперь к тому же рвали и метали из-за того, что он предпочел получить степень в Виттенберге, а не в Эрфурте. Поэтому на праздник они не явились, и, мало того, пытались добиться того, чтобы его лишили степени. С их точки зрения, став доктором в Виттенберге, Лютер предал присягу, приносимую всеми эрфуртскими монахами, в которой они клялись продолжать свои занятия в Эрфурте. Однако Лютер такой присяги не приносил, почему – не вполне ясно. Так или иначе, Лютер был глубоко задет тем, что былые друзья и наставники сделались теперь его врагами. Особенно яростно выступал против Лютера Натин: с этих пор он стал его врагом на всю жизнь.
Так или иначе, после этого Лютеру пришлось остаться в Виттенберге. Преподавать он начал с 1 августа 1513 года – за два месяца до официального получения степени. Начинались его лекции с шести утра, зимой – с семи утра. Первые два года в Виттенберге Лютер читал лекции о Псалтири, два года спустя начал преподавать Павлово Послание к Римлянам, а еще через два года – Послание к Галатам.
Так сбылась заветная мечта Лютера: теперь он мог – и даже обязан был – изучать Библию без всяких ограничений, сколько пожелает. Ничто не мешало ему теперь выяснить, что отвечает Писание на те или иные вопросы, которые до сих пор ставили его в тупик; быть может, ему предстояло даже найти сказочный золотой ключ – великую мысль, объясняющую все его сомнения, похороненную где-то в глубинах латинского текста. Лютер отчаянно искал истину – истину о том, кто есть Бог, кто суть мы сами, чего ждет от нас Бог, как нам преодолеть бесконечную пропасть между небом и землей, между Богом и человеком, между миром и неизмеримой мукой. К этой истине он стремился неустанно, ибо она лишь одна могла избавить его от тягостных сомнений, от душевной муки, преследовавшей его еще задолго до грозы в Штоттернхайме.
Виттенберг
В истории жизни Лютера немало важных персонажей; пожалуй, полноценным ее героем является и город Виттенберг. В сущности, невозможно отделить от Виттенберга некоторых героев этой истории, прежде всего Штаупица и Фридриха, герцога Саксонского. Фридрих известен также как курфюрст, впоследствии прозванный Фридрихом Мудрым: без него Виттенберг едва ли стал бы тем, чем стал. Еще одной важной виттенбергской фигурой, роль которой в жизни Лютера сложно переоценить, впоследствии станет великий живописец Лукас Кранах.
Современное наше представление о Виттенберге – одном из великих мест, где творилась история – резко отличается от того, что представлял он собой в те дни, когда туда переехал Лютер. В сущности, в сравнении со множеством крупных и славных немецких городов того времени Виттенберг выглядел попросту жалко. Множество городов в Германии – так называемых вольных имперских городов – были столь сильны, что могли пренебречь властью близлежащего князя и обрести подлинную независимость. К таким городам относились Аугсбург, Нюрнберг, Гамбург, Кельн, Страсбург и Базель. В 1512 году, когда сюда переехал Лютер, Виттенберг совсем на них не походил. Однако его ждала великая судьба – ему предстояло стать колыбелью Реформации; и произошло это, как ни странно, благодаря амбициям, выросшим из соперничества между братьями.
Все началось в 1485 году, когда земли бывшего Веттен-Саксонского герцогства оказались разделены между отцом Фридриха Эрнстом и дядей Альбертом. По саксонскому обычаю, младший, Альберт, мог выбирать, какая часть земель достанется ему – и, естественно, выбрал лучшую часть, вместе с главным городом Саксонии, Лейпцигом. Этот раздел Саксонии на так называемые «Саксонию Эрнестинскую» и «Саксонию Альбертинскую» положил начало соперничеству, которому в следующие десятилетия предстояло сыграть весьма важную роль в самых разных жизненных сферах.
Итак, лучшие земли достались брату – а Эрнсту остался жиденький, неприглядный огрызок, слишком длинный и узкий, без какого-либо ярко выраженного центра – и, что самое неприятное, без Лейпцига. В сущности, единственным городом здесь, о котором вообще стоило говорить, был Виттенберг – да и тот сущая глухомань. Однако вместе с этими скудными географическими дарами Эрнсту досталась ценность, из которой при желании можно было извлечь очень многое.
Священная Римская империя в то время представляла собой лоскутное одеяло из трехсот областей, семь из которых управлялись так называемыми курфюрстами. Одни лишь эти курфюрсты[60] обладали привилегией выбирать императора. Таким образом, семеро курфюрстов были сильнейшими фигурами в империи, не считая самого императора. И теперь, как бы в виде утешения за жалкий клочок территории, Эрнст стал одним из них. Политическая власть, связанная с этой ролью, открывала безбрежные возможности для приобретения еще большей власти. Кто знает, чего сможет добиться честолюбивый и деятельный человек на этом месте? Это истории предстояло скоро выяснить: однако этим честолюбивым и деятельным человеком оказался не сам Эрнст, а его сын Фридрих. В 1486 году, всего через год после утверждения на новом месте, Эрнст неудачно упал с коня и умер; было ему сорок пять лет. Новое и важное положение его, вместе со всеми его достоинствами и недостатками, перешло к сыну Фридриху.
Фридриху в то время было всего двадцать три – однако он, как видно, хорошо понимал, как делаются дела на этом свете, и к своей новой роли отнесся очень серьезно. Он исправно посещал все собрания властителей империи, так называемые имперские рейхстаги, и быстро разобрался во всех политических хитросплетениях. Эти усилия, как мы скоро увидим, окупились уже через несколько лет. Кроме того, он решил превратить заштатный Виттенберг в город, достойный гордого звания столицы курфюршества – и в этом тоже преуспел. Именно пламенное честолюбие Фридриха впоследствии сыграло большую роль в его историческом решении предоставить Лютеру защиту.
Итак, в 1490 году молодой Фридрих принялся всерьез вести Виттенберг к тем высотам, каких, по его мнению, этот город заслуживал. Для начала снес старую крепость Асканиев и начал строить на ее месте прекрасный современный дворец о двух крыльях – хоть строительство и заняло почти двадцать лет. Рядом с дворцом Фридриха была воздвигнута Замковая церковь[61] – разумеется, также великолепная. Прежде всего, она должна была быть достаточно велика, чтобы вмещать – а при необходимости и выставлять напоказ – огромную коллекцию реликвий, которую Фридрих вскоре начал собирать. А еще – пусть тогда об этом никто и не знал – именно к массивным деревянным дверям этой церкви Лютеру предстояло прибить свои «Девяносто пять тезисов», воспламенившие Реформацию. Церковная колокольня возвышалась почти на триста футов и была видна за много миль.
На дворец и на церковь Фридрих денег не жалел. Чем роскошнее, понимал он, тем лучше – и приглашал к себе в княжество художников, среди которых мы встречаем великие имена Альбрехта Дюрера и Лукаса Кранаха. Должно быть, особенно гордился Фридрих тем, что Кранах согласился переехать в Виттенберг. Дом его стал самым благоустроенным в городе, и дело процветало. Фридрих даже сделал его официальным придворным художником с титулом Pictor ducalis (художник герцога).
Альбрехт Дюрер. Портрет Фридриха Мудрого, курфюрста Саксонского
Понимал Фридрих и то, что столице курфюршества не обойтись без университета. Владения его дядюшки Альберта включали в себя Лейпциг, с прославленным университетом, основанным в 1409 году. В 1502 году Фридрих начал наверстывать упущенное – основал Виттенбергский университет и немедленно пригласил своего старого друга Иоганна фон Штаупица преподавать там богословие. Фридрих и Штаупиц знали друг друга много лет – познакомились они, возможно, в Гримме, где Штаупиц посещал школу при августинском монастыре. Как подсказывает приставка «фон» перед фамилией, Штаупиц тоже происходил из знатного дворянского рода. Докторскую степень по богословию он получил два года назад в Тюбингене, а через год после переезда в Виттенберг стал деканом тамошнего богословского факультета. В мае 1507 года он был также избран генеральным викарием «канонической» ветви августинского ордена. Именно из-за обязанностей генерального викария, надзирающего над несколькими монастырями, ему понадобился в Виттенбергском университете заместитель – и эту роль он возложил на молодого, но талантливого Мартина Лютера. Знакомство Фридриха со Штаупицем позволило ему привлечь в университет не только Лютера – чьи блестящие лекции привлекали множество студентов, – но и ученого филолога, в совершенстве владевшего греческим, по имени Филипп Шварцердт, позднее ставшего известным под именем Меланхтон, ибо, по обыкновению гуманистов, он перевел на греческий свою фамилию, состоявшую из слов Schwarz («черный») и Erde («почва») – вышло «Меланхтон». Сам университет, тоже в соответствии с гуманистическими традициями, получил имя Левкорея – от греческих слов «белый» и «гора». В первый же год в университет поступили четыреста шестнадцать студентов, на следующий год – еще двести пятьдесят восемь. Для городка всего в две тысячи жителей это был огромный рост – и не просто рост населения; следуя честолюбивым замыслам Фридриха, Виттенберг стремительно превращался в интеллектуальную и культурную столицу[62].
Однако университет пока что оставался скорее побочным проектом; основной и неустанный интерес Фридриха состоял в собирании реликвий. Этому увлечению он отдал десятилетия, хорошо понимая, как поднимут реликвии вес виттенбергской Замковой церкви, а следовательно, и самого Виттенберга. Увлечение реликвиями впервые посетило Фридриха в 1493 году, когда он совершил паломничество в Святую Землю – и был поражен тамошним изобилием древних святынь. Путь из Саксонии в Иерусалим по тем временам был, разумеется, долог и труден – и свидетельствовал об искреннем благочестии Фридриха. В пути его корабль бросил якорь на греческом острове Родос – и там-то, сойдя на берег, Фридрих обнаружил и приобрел ценнейшую реликвию, положившую начало его коллекции: большой палец святой Анны, прославленной бабушки Иисуса. За несколько лет до того этот палец совершил путешествие из Иерусалима на Родос, а теперь ему пришлось проделать еще один долгий путь к месту своего конечного пребывания – в Schlosskirche в Виттенберге.
Реликвии Фридриха Мудрого
Говоря о реликвиях – как мы уже отмечали, когда рассказывали о Риме, – необходимо понимать: далеко не все из них являлись тем, за что их принимали. Например, в гигантской коллекции, собранной Фридрихом, имелась, как говорят, еще одна веточка из Неопалимой Купины. А в центре собрания блистала редкость еще более сомнительная – шип из тернового венца, надетого на Иисуса; и не просто какой-то шип, а тот самый – это удостоверялось официальным документом с гербовой печатью, – что пронзил лоб Спасителя и окропился его кровью. Этот шип два века назад преподнес в дар саксонскому курфюрсту Рудольфу король Филипп VI Французский. Разумеется, почетное место среди этих сокровищ занимал и большой палец, принадлежавший той самой женщине, которой во время грозы в Штоттернхейме Лютер принес свой обет, – той, которую Спаситель называл бабушкой.
Благодаря амбициям Фридриха собрание реликвий в Виттенберге скоро начало соперничать по богатству и славе с самим Римом. Был здесь и зуб святого Иеронима, и части тел других святых: от блаженного Августина и Иоанна Златоуста по четыре части, от святого Бернарда целых шесть. Имелись экспонаты, якобы принадлежавшие самому Христу: обрывок Его младенческих пеленок, крупица того золота, что принесли Ему волхвы, и три драгоценных кусочка мирры, которой помазали Его тело при погребении. Были и тринадцать щепок от колыбели Иисуса, несомненно изготовленной руками святого Иосифа. А вот ни одной косточки самого Иосифа, увы, в Виттенберг не попало. Зато – смотрите-ка! – вот волосок из бороды Иисуса, а рядом четыре волоска с головы Его матери. Кроме этого, Деву Марию представляли здесь три лоскута от ее ризы и четыре – от пояса. Имелось и семь лоскутков покрывала, забрызганного кровью Иисуса. Помимо пищи духовной, воспламеняющей благочестивые аппетиты верующих, почетное место в коллекции занимала и пища самая что ни на есть физическая: кусочек того самого хлеба, что подавался полторы тысячи лет назад на Тайной Вечере, и сосуд с несколькими каплями грудного молока Девы Марии. О том, как и почему молоко это не попало по назначению и вместо желудка младенца Иисуса отправилось в сосуд – история умалчивает. Был здесь и лоскут от одеяний Иоанна Крестителя, и обломок того самого камня, на котором стоял Спаситель, когда оплакивал Иерусалим. Был целый скелет одного из младенцев, погубленных Иродом, и еще 204 разрозненные кости других безвинно пострадавших младенцев. И, наконец, венец коллекции – тридцать пять щепок от самого Животворящего Креста! Но нет, это еще не венец: вот поистине чудесный экспонат – перо ангела! Происхождение его осталось тайной.
С годами коллекция Фридриха росла и росла – и притягивала в Виттенберг бесчисленное множество паломников, а с ними и их деньги. Уже в 1509 году Лукас Кранах создал 124 гравюры, иллюстрирующие каталог реликвий, сверяясь с которым, пилигримы могли найти дорогу в этом бесконечном лабиринте сокровищ и диковинок. В Замковой церкви, где выставлялись все эти реликвии, постоянно служили мессы – тоже серьезный источник дохода. Церковные отчеты показывают, что во время этих месс было сожжено 40 932 свечи, то есть, в общей сложности, около 7 тысяч фунтов воска. К 1520 году в коллекции Фридриха находилось 19 013 экспонатов, и было подсчитано, что всякий, кто узрел эти святыни – и принес все сопутствующие пожертвования, – сокращает время мучений в чистилище для себя или для любого из своих близких почти на два миллиона лет. Точнее, на 1 902 202 года и 270 дней[63].
Виттенбергский профессор
Итак, Лютер поселился в Виттенберге. В 1513 году это был город из 384 домов, в сравнении с предыдущими местами жительства Лютера – Айслебеном, Мансфельдом, Айзенахом и Эрфуртом – очень скромный и малолюдный. Несмотря на амбициозные планы курфюрста, пока что он оставался «точкой на карте» посреди саксонской глухомани. Однако невзрачность Виттенберга и малочисленность его жителей в какой-то мере послужила Лютеру на пользу: впоследствии виттенбергские жители ассоциировали себя с ним и защищали его с такой готовностью, какой, быть может, не проявили бы жители более крупного и развитого города.
Итак, здесь, на задворках Саксонии, Лютер начал преподавать в университете – и скоро оказался занят по горло. Некоторые полагают даже, что Штаупиц специально загрузил его обязанностями, желая отвлечь таким способом от мучительных Anfechtungen. Высокообразованный, талантливый и яркий, Лютер был здесь нарасхват: обязанности его все росли. В 1514 году он сделался проповедником в городской церкви Виттенберга. Викарием Виттенбергского монастыря он уже был, но в 1515 году Штаупиц назначил его викарием еще одиннадцати монастырей, которые Лютеру следовало теперь регулярно посещать и надзирать за ними. В письме к другу Лангу осенью 1516 года Лютер так описывал свои труды:
Право, мне не помешал бы писец или секретарь, да не один, а двое. С утра до вечера я только и делаю, что пишу письма… Я проповедую в монастыре, читаю во время трапез, каждый день просят меня проповедовать в городской церкви, а еще я должен следить за учебной программой, а еще я викарий, то есть приор одиннадцати монастырей. И этого мало: я – смотритель рыбных прудов в Лайтцкау и в Торгау. Еще я вовлечен в диспут с жителями Херцберга… Читаю лекции о Павле, собираю материал для лекций о Псалтири… Едва остается время на ежедневные [монашеские] молитвы или на то, чтобы отслужить мессу. А кроме всего этого, есть ведь у меня и собственные борения с плотью, с миром сим, с дьяволом. Суди теперь, что я за бездельник![64]
Быть может, самым важным прозрением Лютера в эти два года, когда он читал лекции о Псалтири (1513–1515), стало то, что единственный способ читать слово Божье – смотреть на то, что скрывается за словами. Читая Писание поверхностно, формально, мы упускаем самое главное – Бога. Прочесть слова на странице – на это способен и дьявол; но лишь жаждущим истины Бог открывает то, что видит Сам – ту истину, что таится в этих словах и вокруг них. Именно этот сверхрациональный элемент придает словам их контекст и глубинный смысл. Фарисеи и прочие законники держались за букву закона; однако, чтобы читать не просто слова, сказанные Богом, а слово Божье, необходимо получить от Бога откровение – а это, в свою очередь, требует глубокого почтения, неослабного внимания и молитвы. Читая слово Божье любым иным способом, мы упускаем скрытую в нем духовную истину – а значит, чтение становится бессмысленным.
Делая эти наблюдения, Лютер, несомненно, задумывался о бесчисленных часах, что сам он и другие монахи проводили за ежедневным чтением и пением псалмов, иной раз повторяя их с чувством и осмысленностью канарейки или попугая. Лютер чувствовал: это не просто неверно – это ожесточает сердце и мешает ему воспринять глубинный смысл. В каком-то смысле это кощунство – так бездумно читать слово Божье. Его нужно воспринимать сердцем, всем своим существом. Даже сатана в пустыне безошибочно цитировал слова Бога, обращенные к Иисусу, – но что это было, если не изощренное богохульство? Читать Писание, не вступив в присутствие Бога, не испросив у Бога понимания этих слов, – значит поступать не лучше дьявола.
В это же время Лютер размышлял о том, что пребывание в Церкви Христовой неизбежно требует от верующего вступления в духовную битву. Он хорошо помнил: до IV века, когда император Константин официально объявил Римскую империю христианской, множество мужчин и женщин страдали и умирали за веру – и верил, что эти страдания и битвы продолжаются и теперь, и будут продолжаться до самого Христова пришествия. Сейчас, говорил он, борьба идет в стенах самой Церкви – борьба с теми, кто искажает учение о Боге и глубинный смысл слова Божьего. Прежде враги обитали вне Церкви, но теперь пробрались в Церковь, даже заняли высокие посты. Позднее Лютер называл таких «нечестивыми прелатами»[65]. В борьбе с ними тоже приходится страдать, но это страдание за правое дело. Всякий, кто желает следовать за Христом, не должен страшиться страданий во имя Его – в чем бы они ни состояли. Мысль, что можно стать добрым христианином, просто набив себе голову, как сундук, знаниями, не просто неверна – это дьявольский соблазн. Именно за это Христос клеймил фарисеев: они знали Тору вдоль и поперек, но не жили так, как сами учили. Христианская вера – дело не ума, но сердца и всего человека. Отводить ей лишь чердак учебы и знаний – значит ничего в ней не понимать. Сам Лютер ясно это понимал – и подчеркивал в своих лекциях.
Уже в 1513 году Лютер был убежден, что Церковь Христова испытывает предсказанный в Библии упадок, – процесс, который закончится явлением антихриста и битвой его со святыми Божьими. В этом вопросе на Лютера влиял в основном блаженный Августин, однако чувствовалось и влияние святого Бернарда Клервоского. Бернард, причисленный к лику святых всего через двадцать лет после своей смерти, в 1153 году, учил, что в истории Церкви сменят друг друга «три века». Первый – эпоха мучеников, когда христиан гнали и убивали за веру; второй – эпоха еретиков, когда сами христиане исказят церковное учение; а третья и самая ужасная эпоха начнется в последние дни, когда Церковь настолько падет и развратится, что из нее восстанет антихрист. Лютер считал, что сейчас Церковь входит в эту третью, последнюю стадию. Торговля индульгенциями глубоко его возмущала; не раз он говорил об этом своим студентам. Он был убежден, что такое злоупотребление церковной властью – ясный признак последних времен, о которых говорил Христос. «На мой взгляд, – говорил он, – продажа индульгенций – это одно из тех безумий и извращений, которые Евангелие от Матфея называет в числе признаков последних дней»[66].
Начиная с 1513 года, в своих библейских лекциях Лютер нередко критиковал принятые способы чтения Библии или деяния Церкви, не согласные с библейским учением; однако он не стремился привести свою критику в систему и вступить с Церковью в бой. Подобно Эразму и другим критикам Церкви, он высказывал свое мнение смиренно, в надежде помочь и другим увидеть то, что видит сам. Быть может, еще одна причина того, что огонь речей Лютера не разгорался до 1517 года, – в том, что до этого года у него, так сказать, не было богословского пороха для стрельбы. Порох этот нашелся в мистическом прозрении, которое сам Лютер позже назвал «опытом клоаки». Лишь тогда свет с небес озарил его и помог увидеть то, что прежде скрывалось во тьме.
Спалатин
В 1512 году в Виттенберг переехал еще один важный герой нашей истории. Это был Георг Буркхардт, более известный как Спалатин – один из кружка гуманистов Эрфуртского университета, оказавших на молодого Лютера большое влияние.
Спалатин отличался таким талантом и личным обаянием, что в 1509 году его рекомендовали Фридриху Мудрому в качестве наставника для его племянника. Брат Фридриха герцог Иоганн (известный также как Иоганн Твердый) много лет спустя, после смерти Фридриха, унаследовал его курфюршество, а за ним, после его смерти в 1532 году, стал править сын его Иоганн Фридрих I (он же Иоганн Великодушный); все три курфюрста сыграли важную роль в жизни Лютера. Что же касается Спалатина, он быстро завоевал и глубокое уважение, и высочайшее доверие Фридриха. В 1512 году Фридрих назначил его своим библиотекарем и поручил ему важнейшую задачу – создание библиотеки нового университета. Со временем Спалатин сделался личным капелланом и секретарем Фридриха, так что в конце концов все дела Фридриха начали проходить через его руки.
Быстро укрепилась и дружба Спалатина с Лютером. Лютер был всего на год или на два его старше, однако, как видно из их обширной переписки, Спалатин вполне доверял ему как своему духовному и богословскому руководителю. Спалатин сделался посредником между Лютером и Фридрихом – а без Фридриха история Лютера была бы совсем иной. Любопытно и даже странно, что Фридрих и Лютер так ни разу и не встретились лично; общались они всегда через посредство Спалатина.
Лукас Кранах
Лукас фон Кранах появился на свет в городке Кронахе, от которого, разумеется, и получил свое имя. Именно Кранах собственноручно сделал скромного монаха по имени Мартин Лютер известным всему свету, по всей Европе распространив его многочисленные портреты. Как и в случае со Штаупицем и многими другими героями, без которых этой истории просто не случилось бы, в Виттенберг Кранах попал благодаря Фридриху Мудрому.
На соперничество со своим дядей Альбертом Храбрым – а позже, после смерти дяди в 1500 году, с кузеном, герцогом Георгом Бородатым, впоследствии ставшим заклятым врагом Лютера, – Фридрих никаких денег не жалел. Он решил украсить Виттенберг так, как подобает столице курфюршества – а эта задача, разумеется, требовала и первоклассной живописи. В апреле 1496 года, будучи в Нюрнберге, Фридрих познакомился там со сказочно талантливым Альбрехтом Дюрером, к тому времени уже открывшим собственную мастерскую: слава этого художника стремительно распространялась по Европе. Тогда-то Дюрер написал портрет Фридриха – и Фридрих был настолько впечатлен, что немедленно предложил гению новую, куда более амбициозную задачу: расписать восемь алтарных панелей, впоследствии получивших название «Полиптих семи скорбей». Через несколько лет, решив учредить при своем дворе должность герцогского художника, Фридрих спросил совета у многих друзей и знакомых, в том числе, разумеется, и у Дюрера. Его заверили, что ближе всего к Дюреру по мастерству стоит Кранах – и выбор курфюрста остановился на нем. Итак, в 1505 году Кранах, тогда тридцатитрехлетний холостяк, переехал в Виттенберг. Здесь он получил не только щедрое жалованье, не только все необходимое для работы, но и коня, и богатые апартаменты в замке курфюрста.
Однако то, чем ему предстояло отрабатывать эти щедрые дары, требует особого описания. Быть официальным придворным художником означало нечто гораздо большее, чем время от времени писать маслом шедевры – хотя Кранах занимался и этим, и иные его картины превозносили даже больше, чем прославленные запрестольные образа Маттиаса Грюневальда. Работа эта требовала обширных и разносторонних дарований – которыми Кранах несомненно обладал. Это легко заметить, если сопоставить его возвышенные запрестольные образы с позднейшими сатирическими гравюрами, созданными в соавторстве с Мартином Лютером – шокирующе вульгарными, изображающими пап и кардиналов в самых грязных местах и в самых непристойных положениях. Помимо своих художественных дарований, отличался Кранах и деловой хваткой – успешно руководил огромной мастерской, где трудились другие художники и мастера-ремесленники.
В 1508 году на имперском рейхстаге, желая почтить своего придворного художника, Фридрих оказал Кранаху величайшую честь – даровал ему дворянский герб, созданный специально для него, хоть мы и не знаем, кем именно. Герб изображал пару крылатых змеев в золотых коронах, каждый – с рубиновым кольцом во рту. В тогдашнем немецком фольклоре и короны, и кольца указывали на магическую силу; очевидно, Фридрих имел в виду, что в своем искусстве Кранах – истинный волшебник. Крылья змеев поднимаются вверх и как будто трепещут на ветру, словно языки пламени или лепестки цветов. Один змей извивается на желтом поле щита, второй – над щитом. Их разделяет голубой с золотом рыцарский шлем и несколько зеленых терновых колючек. Согласно Стивену Озменту, исследователю жизни и творчества Кранаха, даже «в мире новоизобретенных гербов щит Кранаха смотрится странно и загадочно»[67].
Кранах прославился скоростью работы, из-за этого получил латинское прозвище pictor celerrimus (быстрейший из художников), так что, возможно, крылатый змей передавал также идею быстроты. Кроме того, Кранах, по примеру гуманистов, часто пользовался греческой версией своей фамилии – Кронос, что по-гречески означало «время»; очевидно, это также было связано с быстротой. Понравился ли Кранаху преподнесенный ему в подарок герб – мы никогда не узнаем. Разумеется, особого выбора у него не было, да и сама возможность получить герб несомненно перевешивала любые сомнения по поводу его эстетической ценности. Так или иначе, Кранаху не оставалось ничего иного, кроме как принять этот герб и пользоваться им до конца дней. Дюрер первым начал подписывать свои работы знаменитым значком, в котором зашифровал свои инициалы – и Кранах в первые годы при дворе Фридриха делал то же самое, но с течением времени перешел к использованию в качестве подписи своего змеиного герба, так что можно предположить, что змеи ему понравились – или, по крайней мере, со временем он к ним привык. Во всяком случае, уже в 1514 году он гордо ставил этих змей почти повсюду.
Богатство и славу Кранаха в Виттенберге превосходили, пожалуй, лишь богатство и слава самого Фридриха. В 1512 году, через год после приезда в Виттенберг Лютера, Кранах решил, что апартаменты в замке курфюрста стали для него тесноваты. Он хотел жениться, обзавестись семьей, а для этого требовалось больше места. В том же году он женился на Барбаре Бренгбир из Готы, и та за семь лет родила ему пятерых детей. Желая подготовиться к расширению семейства, а также найти место для большой мастерской, пригодной для всех его разнообразных занятий, Кранах приобрел два просторных дома на главной улице Виттенберга. Один из них уже был самым впечатляющим особняком в городе; но Кранах начал его перестраивать – и трудился над ним больше пяти лет. Сохранились документы, свидетельствующие, что только в 1512 году Кранах закупил 11 500 кирпичей и 6 000 черепиц для кровли. В те пять лет, пока Кранах строил свой особняк – дом номер один по Шлоссштрассе[68], жил он вместе с семьей во втором доме, всего в паре сотен футов вниз по улице, также перестроенном и расширенном. Особняк, законченный в 1518 году, мог похвастаться восьмьюдесятью четырьмя комнатами – все с отоплением, что по тем временам было редкостью – и шестнадцатью кухнями. В 1523 году король Дании, не сумев установить у себя в стране Реформацию, принужден был бежать – и, приехав в Виттенберг, поселился в доме у Кранаха. Имелось у Кранаха в Виттенберге немало и другой недвижимости: многие дома и квартиры он сдавал внаем, и состояние его, как и влияние в городе, росли год от года[69].
Любопытно, что, всеми силами прославляя Лютера и продвигая его идеи, Кранах при этом ухитрился остаться на дружеской ноге с архиепископом Альбрехтом Майнцским, на которого много работал, и с Римско-Католической Церковью в целом. Как видно, Кранах не просто знал, с какой стороны у бутерброда масло – в его случае, как гласит поговорка, масло было с двух сторон.
Реформа изнутри
Представление о Римско-Католической Церкви как о какой-то несокрушимой крепости из золота и мрамора, стоявшей твердо и нерушимо, пока 31 октября 1517 года Лютер не потряс ее здание ударами молота по дубовым дверям Schlosskirche, далеко от реальности – сразу в нескольких отношениях. Прежде всего неверна сама мысль, что Церковь была совершенно неспособна к переменам и противостояла любой критике. В ней было немало реформистских движений, каждое с собственной историей – однако ни один реформатор, разумеется, не закончил так, как Лютер, порвав с Церковью и основав собственную. Способы выражения критики или несогласия были различны. Конечно, при неудачном стечении обстоятельств неосторожная или чересчур смелая критика могла закончиться костром. Однако в Церкви времен Лютера существовали известные и влиятельные «диссиденты», близкие по взглядам к самому Лютеру, однако живущие вполне благополучно – например, Эразм Роттердамский или Рейхлин.
Рейхлин
Рейхлин был блестящим ученым-гуманистом, знатоком латыни, греческого и древнееврейского языков. Прославленный Меланхтон, о котором нам еще не раз придется вспомнить, приходился ему внучатым племянником. В 1478 году Рейхлин составил латинский словарь. Однако приверженность древнееврейским текстам однажды вовлекла его в жаркий спор и заставила даже предстать перед римской инквизицией.
Все началось с того, что некий Иоганн Пфефферкорн, иудей, обратившийся в христианство, обратился к императору Максимилиану с предложением конфисковать у евреев и сжечь все книги на древнееврейском. Он полагал, что существование этих книг – одна из главных причин, по которой евреи не обращаются, как он сам, в христианскую веру, и приводил в пример братьев-доминиканцев в Кельне, которые выискивали и уничтожали еврейские книги везде, где могли найти. Он даже попытался заручиться поддержкой Рейхлина. Поначалу тот вежливо отклонил его просьбу, предпочитая остаться в стороне от этого спора. Но затем, в 1510 году, сам император пригласил Рейхлина войти в комиссию для рассмотрения этого вопроса, и тут уж Рейхлину пришлось высказаться без обиняков. В конечном счете он оказался единственным членом комиссии, не согласившимся с тем, что еврейские книги следует изъять и предать огню. Пфефферкорн и кельнские богословы пришли в ярость и напали на Рейхлина за его взгляды.
Весь «казус Рейхлина» скоро приобрел черты борьбы нового гуманизма со старой схоластикой, и борьба вокруг вопроса о еврейских книгах стала делом чести для обеих сторон. Гуманисты, разумеется, ценили всякую литературу, особенно древнюю, так что мысль об уничтожении еврейских текстов была им отвратительна. А схоласты, как и Пфефферкорн, и доминиканцы, были вовсе не чужды антисемитизма. Однако позиция самого Рейхлина была отчасти сомнительной: он защищал не просто еврейские книги, а каббалу, в которой содержались не типично иудейские взгляды на Ветхий Завет, а своего рода иудейский мистицизм, граничащий с оккультными практиками, прямо запрещенными ветхозаветным Богом. Однако главное разногласие Рима и схоластов с Рейхлином состояло не в этом, да и сражение велось отнюдь не на чисто академическом уровне. Борьба сделалась «грязной» почти сразу, когда Пфефферкорн опубликовал памфлет, где прямо заявил, что Рейхлин подкуплен евреями. Рейхлин в ответ выпустил памфлет в свою защиту, а кельнские богословы сделали все, чтобы помешать его распространению. В конечном счете, они преуспели – памфлет Рейхлина был официально конфискован инквизицией.
В 1513 году конфликт дошел до того, что Рейхлина вызвали на суд инквизиции, где он отказался отречься от своего мнения. На этом дело не закончилось – в 1514 году дело Рейхлина рассматривалось уже в Риме. Лютер внимательно следил за ним с самого начала и явно занимал сторону Рейхлина. Услышав, что разбирательство перенесено в Рим, он обрадовался – и написал об этом Спалатину. Слишком уж очевидна была пристрастность кельнских богословов, особенно Ортуина Грация, высмеявшего Рейхлина в ядовито-саркастических стихах. Письмо Лютера к Спалатину датировано 5 августа – и полно энергии и юмора, столь характерных для писем Лютера к ближайшим друзьям:
Приветствую! До сих пор, ученейший Спалатин, я считал кельнского рифмоплета Ортуина просто ослом. Но теперь, как сам видишь, он сделался псом – да нет, волком в овечьей шкуре, если даже не свирепым крокодилом. Как взбеленился от того, что Рейхлин ткнул его носом в его ослиность (да позволено мне будет такое словоизобретение!). Думал Ортуин совлечь с себя ослиную шкуру и облачиться в величественную шкуру льва – а вместо этого претерпел невиданную метаморфозу: сделался то ли волком, то ли крокодилом. И поделом ему: не пытайся прыгнуть выше головы!
Дальше Лютер выражает свое удовлетворение тем, что дело наконец передали в Рим. Очевидно, пока он очень далек от тех взглядов на кардиналов и папу, которые начнет выражать всего несколько лет спустя:
Одно меня особенно радует – а именно то, что дело дошло до Рима и до Святого Престола, а не оставлено на усмотрение завистливых людишек из Кельна. В Риме – самые ученые кардиналы, и, несомненно, они отнесутся к делу Рейхлина более благосклонно, чем эти кельнские завистники, которые дальше грамматики не продвинулись[70].
Дело Рейхлина повлияло и на дело Лютера, когда в 1517 году он вступил в противостояние с Римом. Многие римские церковники увидели в Лютере просто «еще одного беспокойного немца с гуманистическими симпатиями». А в Германии из-за дела Рейхлина многие ощущали к Риму скепсис и даже враждебность. Сам Рейхлин не покинул Церковь, но нападения на него продолжались вплоть до конца 1517 года, когда Лютер прибил к дверям виттенбергской Замковой церкви свои «Девяносто пять тезисов». Свара вокруг Рейхлина поглотила весь кислород в европейском христианском мире на десятилетия вперед, и сам Рейхлин восклицал: «Слава богу, монахи нашли себе наконец кого-то еще и теперь оставят в покое меня!»[71]
Эразм Роттердамский
История Эразма, его критики Церкви и проблем с Церковью куда обширнее и сложнее, чем у Рейхлина – как и история его нелегких отношений с Лютером. Поэтому нам стоит рассказать о нем поподробнее.
Дезидерий Эразм – или Эразм Роттердамский (под этим именем он приобрел известность), родившийся в Голландии в 1466 году, был титанической фигурой своего времени. Прославленный как «князь гуманистов», а в более близкие к нам времена – как один из основателей христианского гуманизма, в своей деятельности он более кого-либо иного воплощал гуманистический призыв «ad fontes!» – то есть «назад к первоисточникам!»[72] Основным текстом Библии была в то время латинская Вульгата; и именно Эразм изменил это положение вещей, восстановив оригинальный греческий текст Нового Завета I века н. э. Открыл он для западного читателя и оригинальные труды грекоязычных отцов Церкви. Любовь его к оригинальным греческим текстам была неописуема:
Ибо где по-латыни у нас лишь ручейки и грязные лужицы, там по-гречески – чистые источники и реки, текущие золотом. Совершеннейшим безумием кажется мне хотя бы мизинцем касаться той ветви богословия, что трактует о Божественных тайнах, не овладев вначале греческим языком[73].
Эразм был независимым ученым, однако питал глубокую преданность Церкви. В двадцать пять лет он был поставлен в священники, и с 1510 до 1515 года преподавал в Куинз-колледже в Кембридже. Греческий он выучил самостоятельно – и в 1516 году опубликовал свое издание грекоязычного Нового Завета с посвящением папе Льву X, быть может, сделанным ради безопасности. Через несколько лет в Вартбурге Лютер будет пользоваться греческим Новым Заветом Эразма, работая над собственным переводом Нового Завета на немецкий. Однако сейчас Эразм особенно важен для нашей истории тем, что, тоже критикуя Церковь, он, однако, сумел удержаться на грани, которую перешагнул Лютер. Эразм был очень популярным писателем – но старался смягчать свою острую критику Церкви, в том числе используя юмор.
В 1504 году Эразм опубликовал книгу, посвященную суровой критике религиозного благочестия своего времени. Называлась она «Энхиридион, или Руководство для воина-христианина». Книга обрела огромную популярность и разошлась мгновенно. Критика Эразма била в основном по религиозному формализму и обрядоверию. Бездумно совершать положенные обряды, писал Эразм, не значит поклоняться Богу. Это фальшивая религиозность – еще хуже, чем никакой. В 1511 году Эразм выпустил еще более популярную «Похвалу глупости». Здесь он высмеивал многочисленные суеверия, присущие римско-католической практике – например преувеличенное почитание святых, доходившее до настоящего поклонения им. В своих писаниях Эразм указывал на многие пороки Церкви, на которые чуть позже будет негодовать Лютер – например аморальность клириков или законнический подход к религии, который он отмечал у многих монахов. Подобно Рейхлину, Эразм поднимал на щит гуманизм, с его желанием докопаться до сути вещей, и противопоставлял его схоластике. Однако при всем этом Эразму как-то удавалось сохранять позицию верного христианина, защищающего истинное церковное учение от искажений. В 1514 году он даже выпустил сатиру, мишенью которой стал сам папа, под заглавием «Изгнание Юлия с небес», – но и это ему каким-то образом сошло с рук. Эразм сурово критиковал бум вокруг реликвий, в том числе явно поддельных. Забавнее всего, на его взгляд, вышло с бесчисленными фрагментами «Истинного Креста»: «Если все эти щепки собрать вместе, – писал он, – ими можно было бы нагрузить целый корабль»[74].
Как видим, у Эразма и Лютера было много общего – однако со временем пути их резко разошлись. Прежде всего, дуализм духа и тела, столь привлекательный для Эразма, Лютер считал величайшей ошибкой в понимании благодати и корнем многих других ошибок. Другое различие состояло в том, что Лютер, ясно сознавая проблемы Церкви, не считал, однако, что их можно решить «напрямую». Даже в своих тезисах об индульгенциях он писал, что не только сами индульгенции нуждаются в отмене, но и богословские ошибки, лежащие в основе практики индульгенций – в исправлении. Большая часть «Девяноста пяти тезисов» посвящена именно богословским проблемам, вызывающим подобные извращения в церковной практике. Эразм никогда не обращался напрямую к богословию, не пытался вскрывать богословские проблемы, лежащие в основе подмеченных им заблуждений и пороков, – Лютер же, как ученый экзегет, всегда стремился докопаться до корней: стоит исправить фундамент, полагал он, и следом исправится выстроенное на нем здание.
Однако все они – Эразм, Рейхлин, а позднее и Лютер – искренне надеялись достучаться до Рима и обратить его внимание на те пороки и искажения, что ясно видели сами. Если бы их идеями заинтересовался папа!.. Беда в том, что папы того времени не просто не интересовались исправлением пороков – ярким воплощением и источником этих пороков были они сами. Поэтому, прежде чем перейти к битве Лютера со Святым Престолом, нам стоит не только вкратце описать других известных писателей того времени, споривших с Церковью, но и коснуться того, что представлял собой сам Святой Престол. Мы уже видели Рим с точки зрения Лютера, побывавшего там в 1510–1511 годах; однако взгляд молодого монаха, чужого в этом огромном городе, едва ли способен дать полное представление о том, что творилось в эти годы в цитадели папства.
Рим
В 1513 году, в тот же год, когда Лютер начал читать библейские лекции, на престол Святого Петра взошел бывший Джованни ди Лоренцо де Медичи. Само папство в эти годы было воплощением порока; сравнивать любого из печального известных шести пап того периода – долгий ряд убийц, развратников и растлителей, от Сикста IV до Льва X – с каким-либо из более поздних пап – все равно, что Медузу Горгону с деревенской старухой. Папы и папство в те времена представляли собой вполне светскую власть, духовное и церковное измерение которой оставалось лишь дополнением – и порой ненужным и утомительным дополнением – к фундаментальной земной реальности. Пап интересовала прежде всего земная власть; а историк Барбара Тачмен в своей книге «Марш глупости» верно отмечает, что «сам процесс получения власти включает в себя средства, унижающие и ожесточающие искателя, так что, достигнув желаемого, он обнаруживает, что получил власть ценой утраты добродетели или нравственной цели своих действий»[75]. В годы, когда Лютер опубликовал свои «Девяносто пять тезисов» – и далее, во время рейхстага в Вормсе, – папский престол занимал Лев X, чья история больше напоминает рассказы барона Мюнхгаузена, чем папские хроники.
Урожденный Джованни ди Лоренцо де Медичи, мальчик, которому в дальнейшем предстояло стать Львом X, еще в самом раннем возрасте был посвящен Церкви; однако в те времена это означало совсем не то, что мы могли бы представить сейчас. Маленького Джованни постригли в монахи[76] в семь лет – а год спустя, благодаря ловкости и настойчивости его отца, он уже стал архиепископом. Восьмилетний архиепископ – звучит, конечно, смешно; однако это показывает нам, до какой степени церковная власть в то время смешивалась со светской. Восьмилетний принц или герцог никого бы не удивил – а церковные титулы, как видим, воспринимались как полные аналоги титулов светских, аристократических. Дальше – больше: в тринадцать лет юный Джованни сделался кардиналом. В виде некоей уступки нормативному представлению о том, каким должен быть кардинал, эту должность он получил in pectore (буквально – «во чреве», то есть тайно). Лишь три года спустя, в зрелом и умудренном шестнадцатилетнем возрасте, тайное стало явным, и Джованни, юный принц Церкви, впервые появился на публике в красном кардинальском одеянии и широкополой шляпе.
А в нежном возрасте тридцати семи лет он стал папой. Услыхав о смерти своего предшественника Юлия II, Джованни незамедлительно отправился в Рим. Однако всю дорогу преследовал его мучительный и не слишком почетный недуг – свищ прямой кишки. Когда Джованни прибыл на конклав – собрание, эксклюзивность и секретность которого не знает себе равных в мире, – в виде исключения, ради его высокого положения и уважения, питаемого к нему всеми присутствующими, ему разрешили взять с собой на конклав личного врача. Уже в этом относительно молодом возрасте будущий Лев X был близорук, отличался огромным весом и едва ходил из-за подагры. Как мы уже знаем, именно его конклав решил обуть в легендарные «башмаки рыбака». Но тут всплыла неожиданная проблема: оказывается, избранный папа не был даже священником! В погоне за титулами поставить в священники малолетнего кардинала как-то позабыли. Так что, прежде чем надеть папскую мантию, Джованни пришлось пройти рукоположение, затем стать епископом – и лишь затем официально принять звание папы и имя «Лев X».
Изучая жизнь Льва X и других пап этого периода, не знаешь, с кем их сравнивать – с римскими императорами или азиатскими деспотами. От своих более порочных собратьев папа Лев X отличался относительной безобидностью; злодеяния его не привлекали – зато не было предела его любви к роскоши и шумным развлечениям. Одна яркая история поможет нам понять, с чем имел дело Лютер, когда боролся с Римом, – хотя сам Лютер, к счастью для него, об этой истории не слыхал. Произошла она в 1514 году. Лютер в этот период своей жизни поднимался в четыре часа утра, шел читать лекции о Псалтири, а затем трудился до вечера, бесчисленными способами стараясь приблизиться к Богу и к ближнему. А в восьмистах милях к югу от Виттенберга папу Льва X занимала совсем иная забота: тщательно, словно военную кампанию, планировал и продумывал он жестокую шутку над психически больным.
Жертвой его спектакля стал Джакомо Барабалло, папский приближенный, любитель шуток, каламбуров и остроумных стихов. Как многие по тогдашней флорентийской моде, носил он и церковный титул, ровным счетом ничего не значащий. В то время Барабалло был аббатом Гаэтанским; самого себя он объявил «архипоэтом» и немало развлекал своими стихами Льва, большого любителя и ценителя юмора, пока каким-то печальным случаем не свихнулся («он был хорошим царедворцем, пока не сошел с ума», пишет о нем современник) и не превратился из шутника в мишень насмешек и розыгрышей. Барабалло искренне уверовал, что его поэтический дар выше, чем у великого Петрарки; и Лев решил, что такое преувеличенное мнение его приближенного о себе – отличный повод позабавиться самому, позабавить своих друзей, а заодно и весь Рим.
Итак, однажды Лев объявил, что в день святых покровителей семьи Медичи в Риме пройдет невиданный праздник, именуемый «Космалии», и кульминацией этого празднества станет «бурлескная коронация» Барабалло как архипоэта[77]. Огромная и пышная триумфальная процессия начнет свой путь от Апостольского дворца на площади Святого Петра, где с 1450 года – с самой постройки этого дворца – обитали папы. Весь Рим с нетерпением ждал праздника: то, что предстоит жестокий розыгрыш, понимали все и в Риме, и, кажется, далеко за его пределами – все, кроме самого Барабалло. Напрасно родные умоляли его в этом не участвовать, старались убедить, что его поэтическому гению подобает более величественная церемония – он только отмахивался, уверенный, что все они просто ему завидуют. Лев X лично распланировал каждую мельчайшую деталь этого спектакля – с таким тщанием, словно в этом и состояла главная задача наместника Христова. Именно он предложил провезти Барабалло по Риму верхом на слоне – слоне по имени Ганно, экзотическом подарке от короля Португалии. Этого слона ребячливый понтифик обожал больше жизни – и пришел в восторг от мысли, что в розыгрыше примет участие его огромный толстокожий друг.
Согласно тайному плану, Ганно должен был пронести Барабалло на спине всю дорогу до Тибра, а затем собственно в Рим по дороге Понте Сант-Анджело; а тысячи зрителей, собравшись на обочинах, должны были приветствовать величайшего поэта всех времен и народов, издавая притворные крики восторга и покатываясь от непритворного хохота. Ma come buffa![78]
Любитель втягивать в свои шутовские предприятия всех вокруг, саму «коронацию» великого поэта Лев поручил кардиналу Маттеусу Лангу, суровому немцу, бывшему в то время епископом Гуркским. Чувством юмора Ланг не обладал – и явно считал участие в этом исполинском фарсе ниже своего достоинства; однако от предложения, исходящего из уст папы, трудно отказаться. Лангу предстояло торжественно увенчать бедного безумца шутовской высокой шапкой. В день церемонии римская знать, в веселом нетерпении собравшаяся на «праздник», с самого утра покатывалась со смеху – а Барабалло лучился гордостью: наконец-то его дар оценили по заслугам! В шутовском головном уборе, сияя дурацкой улыбкой, под торжественные звуки рогов и труб направился он к своему огромному «коню». Барабалло приблизился к слону, которого ему предстояло оседлать – и со всех сторон раздались восторженные крики. Немолодому и плотному человеку не так-то легко забраться на спину слону; но после нескольких неуклюжих попыток, сопровождаемых приглушенным хихиканьем зрителей, всадник сумел взгромоздиться в седло – точнее, на высокий резной трон, установленный у животного на спине. Ему вручили лавровую ветвь, и процессия двинулась в путь. Ганно и его седоку предстоял неблизкий путь к реке. Расстояние от дворца до моста составляло три тысячи ярдов, дорога была запружена людьми, что расступались при приближении слона; «и медленно, нетвердыми шагами»[79] Барабалло на слоне двигался к своей цели.
Однако у самого берега Тибра беднягу-поэта и его экзотического «коня» постигла нежданная беда. Шум и крики толпы, вместе с неудержимым громовым смехом, как видно, перепугали бедное животное. Пронзительный вой рожков, рев труб и грохот барабанов – все это оказалось для Ганно слишком. Подойдя к самому Адрианову мосту, он вдруг встал как вкопанный. Напрасно мавр-погонщик, сидевший у него на шее, колол слона острием своей палки и подгонял криками на чужом языке, к вящему удовольствию толпы. Восторгу зрителей не было предела; даже сам Лев, колыхаясь всем своим обширным корпусом, вышел из замка Сант-Анджело, откуда наблюдал за потехой в подзорную трубу. Ганно не желал идти вперед, погонщик орал, толпа уже выла и рыдала; и, наконец, должно быть, решив, что с него хватит, слон взбрыкнул – и сбросил в прибрежную грязь и золоченый трон, и седока. Барабалло перепугался и вымазался в грязи с головы до ног, но остался цел и невредим; дрожащий, грязный, поднялся он на ноги и бросился бежать как безумный – прочь от хохочущей толпы и от своего недолгого триумфа.
А что же стало с Ганно, самым экзотическим обитателем Рима с тех пор, как волчица на берегах Тибра выкармливала своим молоком Ромула и Рема? Увы, в начале лета 1516 года слон захворал, и папские медики не смогли ни определить природу болезни, ни найти лечение. Врачи делали для него все что могли, и сам Лев не отходил от стойла своего любимца. Но Ганно не вставал с одра болезни, и даже любимая забава – обливание посетителей водой – больше его не радовала. Один врач предложил: если уж все остальное не подействовало – попробуем дать мощное слабительное, вдруг да поможет? Мысль интересная; однако, пытаясь понять, как воплотить ее на практике, врачи только чесали в затылках – никогда им еще не приходилось промывать такой огромный желудок! Наконец решено было дать слону редкое, несравненное слабительное – смесь, в состав которой входила немалая доля чистого золота. В самом деле, сундуки Ватикана ломятся от золота верующих – и какое еще ему найти употребление, если не это? Но не помогло и сказочно дорогое лекарство: Ганно испустил дух и был погребен с великими почестями под Кортиле дель Бельведере. Лев X, пораженный потерей друга, сам написал ему длинную эпитафию в стихах и нанял не кого иного, как Рафаэля, чтобы тот – разумеется, тоже на деньги верующих – написал мемориальный портрет Ганно, увы, до нас не дошедший. Впрочем, еще один портрет папского слона дошел до наших дней и хранится сейчас в Оксфорде, в Музее Эшмола.
«Великий поэт» Барабалло едет через Рим на ручном слоне папы Льва. Слона по имени Ганно подарил папе португальский король. К несчастью, вскоре после этой церемонии Ганно умер, хоть его и лечили мощным слабительным, в состав которого входило чистое золото
Глава пятая Опыт «клоаки»
Если же Господь Бог в этой жизни – в этом Scheisshaus[80] – одарил нас столь богатыми дарами, что же ждет нас в жизни вечной, где все прекрасно и совершенно?
Мартин ЛютерВряд ли можно сомневаться в том, что переломной датой в истории Лютера стало 31 октября 1517 года. Проследить за хлебными крошками, ведущими нас к этой дате, не так-то легко; однако, по счастью, не все из них склевали птицы, и мы можем составить некоторое представление о том, каким путем Лютер пришел к «Девяноста пяти тезисам». В течение нескольких лет перед этой знаменательной датой Лютер не раз делал на лекциях многозначительные замечания, в которых, если смотреть в ретроспективе, видится предвестие великого мятежа. Например, в 1516 году, объясняя студентам Послание к Римлянам, он прямо высказался против самого Его Святейшества:
Папа и священники, столь щедро выдающие индульгенции ради поддержки церквей в мире сем, поистине жестоки превыше всякой жестокости, если не заботятся хотя бы так же – а лучше бы гораздо больше! – о Боге и о спасении душ[81].
В начале февраля 1517 года Лютер написал своему другу Иоганну Лангу, вложив в это письмо другое, которое попросил Ланга передать своему бывшему учителю Йодокусу Трутфеттеру. Оба письма касались темы, которая впоследствии станет для Лютера крайне важной – речь шла ни более ни менее как о том, чтобы перевернуть с ног на голову всю средневековую систему образования:
Нас приучают всему верить, все покорно выслушивать, не сметь даже вполголоса возразить чему-либо из Аристотеля или «Сентенций». И чему не поверят те, кто привык принимать как должное Аристотеля, этого шарлатана из шарлатанов, несущего такую неимоверную чушь, какой ни осел, ни камень молча не снесет!.. Ничего не желаю я так пламенно, как открыть людям истинное лицо этого актера, одурачившего Церковь своею греческой маской, и показать все его невежество и все нелепости. Ах, будь у меня только время!.. Я не знаю более хитроумного соблазнителя талантливых людей, так что, не будь Аристотель человеком из плоти и крови, я бы, не колеблясь, назвал его самим дьяволом![82]
Слова, как видите, сильные. Лютеров вулкан еще не готов к извержению – однако уже пробудился. Разрозненные вопросы и сомнения складываются в целостную картину: все яснее Лютер видит, что Церковь потеряла любовь к истине и разучилась искать истину, что на добрые, честные вопросы она отвечает лишь властным: «Молчи и делай что тебе говорят – а иначе пеняй на себя!» Инстинктивно Лютер понимает, что это неправильно, что это идет против самой сущности Бога и Библии; и в письмах его к Лангу и Трутфеттеру любой, у кого есть глаза, может различить, как разбегаются трещинки по прежде безупречному мраморному фасаду.
18 мая Лютер снова пишет Лангу:
Богословие и блаженный Августин у нас идут на поправку и, с Божьей помощью, скоро займут в нашем университете первое место. Аристотеля мы помаленьку спихиваем с трона, и окончательное падение его – лишь вопрос времени. Поразительно, как студенты ненавидят лекции по «Сентенциям». В сущности, не стоит и надеяться иметь учеников, если не хочешь учить их подлинному богословию, то есть читать лекции по Библии, или блаженному Августину, или другому видному учителю Церкви[83].
Итак, мы видим, что Лютер явно движется в определенном направлении – как в богословском, так и в прочих отношениях. Однако в том же 1517 году, еще задолго до публикации «Девяноста пяти тезисов», необходимо отметить один крайне важный, на мой взгляд, момент: момент, когда на все, о чем думал и что делал Лютер, пролился, так сказать, первый луч благодати Божьей, когда тучи разошлись и он вдруг ясно увидел то, что все эти годы так напряженно и усердно искал.
«Прорыв» к Реформации. Aetatis 33
Всего за год до смерти Лютер написал предисловие к собранию своих сочинений на латыни. В этом предисловии он рассказывает, как на пути к этому прорыву начал буквально ненавидеть Бога:
Хоть я и жил безупречной монашеской жизнью, но чувствовал себя грешником перед Богом, и совесть беспрерывно и жестоко меня упрекала. Я не мог поверить, что жизнь моя может удовлетворить Бога. Я не любил – да что там, ненавидел праведного Бога, карающего грешников, и втайне ворчал и гневался на Него, доходя почти до богохульства… Так жил я, снедаемый гневом и муками совести. Однако эти слова Павла [Рим. 1:17] не давали мне покоя, и я пламенно желал их понять[84].
Один из иконических моментов жизни Лютера носит название «опыта в башне». История гласит, что именно в 1517 году – году, изменившем мир, – борьба Лютера с непонятным и смущающим его библейским стихом Рим. 1:17 дошла до апогея. Однако, как случилось и со многим другим в истории Лютера, легенда эта – дошедшая до нас, как и другие легенды о Лютере, из его собственных позднейших рассказов о себе – затемняет действительные события его жизни.
Так или иначе, миг, когда Средние века схлопнулись под собственной тяжестью и уступили дорогу Реформации и будущему, по-видимому, начался с одного мощного прозрения, пришедшего к Лютеру в так называемой Башне Клоаки в Черной Обители в Виттенберге. В 1532-м и затем в 1545 году Лютер упоминал об этом событии, относя его к началу 1517 года.
В комментарии 1532 года об этой минуте, перевернувшей жизнь Лютера, говорится куда более кратко, чем в его собственном позднейшем рассказе. В сущности, это лишь одна фраза, записанная Иоганном Шлагинхауфеном и внесенная в «Застольные беседы». По-немецки она звучит так: «Diese Kunst hat mir der Spiritus Sanctus auf diss Cloaca eingeben»[85]. Эта знаменитая фраза означает: «Дух Святой даровал мне это искусство в [или: на] клоаке». Однако слово «клоака» здесь представляет трудность. Лютер, который никогда не мог удержаться от шутки и часто выражал в шутливой форме очень серьезные вещи, подразумевает здесь, что Бог даровал ему прозрение, когда он сидел на толчке. «Клоака» – латинское слово, обозначающее сточную канаву, которое во времена Лютера приобрело значение «отхожее место». Многие англоязычные авторы неверно переводят auf как «в», хотя на самом деле этот предлог значит «на» – что как нельзя лучше сочетается с «отхожим местом» или «туалетом». Однако сейчас нам известно, что комната с печью, предназначенная для занятий, в которой Лютер много лет занимался библейской экзегезой, располагалась в башне монастыря, именуемой «Клоака» – именно потому, что в подвале ее находился сортир. Возможно, многие монахи и заходили в эту башню, лишь когда их призывал сюда долг природы. Следовательно, даже если озарение настигло Лютера не прямо на толчке, а наверху, в теплом кабинете, все равно он мог по привычке сказать о «клоаке». Но в замечании 1532 года Лютер явно сознательно играет с двусмысленностью этого выражения – об этом говорит предлог auf. Если он и не сидел на толчке в буквальном смысле – явно имел в виду и такое понимание своих слов.
Более подробно сам Лютер писал об этом в 1545 году, за год до смерти; в этом комментарии он объясняет подробно, о каком «искусстве» (diese Kunst) говорил в 1532 году:
Наконец, размышляя над этим день и ночь, милостью Божьей я уловил контекст этих слов, а именно «В нем открывается правда Божия[86], как написано: праведный верою жив будет». Я начал понимать: правда Божия состоит в том, что праведный живет даром Божьим, а именно верою. Таков смысл этих слов: праведность Божия открывается нам в благовестии – и это праведность дается нам от Бога благодаря нашей вере, как написано: «Праведный верою жив будет». Тут ощутил я себя так, словно рождаюсь заново и вхожу в открытые врата рая. Все Писание открылось мне совершенно с иной стороны. Я начал пробегать Писание в уме, вспоминая аналогичные выражения: дела Божьи – то, что Бог совершает в нас, сила Божья – то, чем Бог делает нас сильными, премудрость Божья – то, чем Бог делает нас мудрыми, мощь Божья, спасение Божье, слава Божья.
И слова «праведность Божья», прежде наполнявшие меня великой ненавистью, теперь исполнили величайшей сладостью и любовью. Так этот стих из Павла стал для меня вратами в рай[87].
Это потрясающее прозрение дало Лютеру фундамент из Писания, прочнейший из возможных, на котором можно было основать величайшую революцию в истории человечества. Шуткой 1532 года о том, что это произошло в самом что ни на есть смиренном и унизительном месте – «на толчке» – Лютер безупречно проиллюстрировал богословские основания своей мысли. Как соответствует это всему, что знаем мы из Библии о Боге, принявшем плоть! Ведь бесконечный, всезнающий и всемогущий Бог, Творец неба и земли, сошел на землю вовсе не на золотом облаке. Он пришел к нам через вопли родовых мук, в крови и слизи, из чрева девственницы, в грязном хлеву, где наверняка воняло навозом. Так приходят в мир люди, и если Бог и вправду решил прийти в мир как человек, – то должен был прийти именно так. Это единственный способ встретиться с нами там, где мы есть – и с такими, какие мы есть; и, как бы ни казалось это трудно, унизительно или противно – любящий Бог от этого не отшатнулся.
В этом Лютер видел самую суть христианского богословия. Идя нам навстречу, Бог не остановился на полпути – Он прошел весь путь, до самых грязных помоев падшей человеческой природы. Решившись коснуться этой безжизненной гниющей субстанции, святой и любящий Бог подтвердил, что это и есть истина о нас. Мы – не больные, нуждающиеся в исцелении. Мы мертвы и нуждаемся в воскресении. Наша грязь – не наружная грязь, требующая лишь хорошей чистки; мы заражены изнутри, мы отравлены и смердим смертью – и нуждаемся в полном искуплении. Если мы не признаем, что нуждаемся в вечной жизни и можем получить ее лишь из рук Божьих – значит, остаемся в грехах своих и в вечной погибели. Поскольку Бог уважает нас, он может нас спасти, лишь если мы признаем правду о своем положении. Так что в мысль Лютера вполне укладывалось то, что Бог, решив ниспослать ему – недостойному грешнику Лютеру – такое божественное благословение, сделал это именно в тот миг, когда Лютер тужился, сидя на «клоаке». Что может ярче противостать блеску и сиянию папского Рима? Там повсюду позолота; здесь, в Виттенберге, повсюду Scheisse. Однако простое, честное дерьмо – настоящее золото в сравнении с претенциозным и искусственным золотом Рима; и все золото Рима – не лучше дерьма в сравнении с бесконечной благодатью Божьей. Дешевая римская благодать – не более чем сатанинская подделка.
Фолькер Леппин, исследователь Лютера, говорит, что у нас есть немало причин понимать «клоаку» именно в узком, специфическом смысле. Основной его аргумент связан с еще одним местом из «Застольных бесед», где Лютер беседует с друзьями о чуде музыки. Вот его слова по-немецки: «So unser Herr Gott in diesem Leben in das Scheisshaus solche edlen Gaben gegeben hat, was wird in jenem ewigen Leben geschehen». Леппин переводит это так: «Если в этой жизни Господь наш осыпал этот нужник такими благородными дарами, что же будет в жизни вечной [где все прекрасно и совершенно]?» Однако, отделив «эту жизнь» от «нужника», Леппин огрубил высказывание Лютера. Лучше перевести его так: «Если Господь наш в этой жизни – в этом нужнике – осыпал нас такими благородными дарами, что же будет в жизни вечной, где все прекрасно и совершенно?» «Эта жизнь» и «нужник» – одно и то же: ненавистная, пакостная, попросту дерьмовая жизнь!
В этом все дело. К. С. Льюис выразил ту же мысль более изящно, сказав, что в этом мире мы живем «в стране теней»; но Лютер, вполне предсказуемо, выразился куда прямее и жестче. Наша жизнь – «нужник» в сравнении со славой небес; и Лютер поражается немыслимой щедрости Бога, бросающего в нашу здешнюю грязь славные небесные дары, такие как музыка, – предвестие несравненно более щедрых даров в жизни будущей. Леппин показывает, что Лютер воспринимал нашу здешнюю жизнь как «клоаку» – и, следовательно, говоря о клоаке, говорил, как это у него часто случалось, шутливо и в то же время вполне серьезно. Клоака – это не только башня и даже то место в башне, где располагался нужник, но и сама суть этого мира, мира не просто слегка запачканного, но насквозь пропитанного грехом, дерьмом, болью и смертью. Снизойдя в этот грязнейший из миров, Бог уже проделал большую часть пути в ад. Наш мир – преддверие ада и вечной погибели, и пока мы не позволяем Богу жизни сюда войти – не позволяем Ему и искупить нас. То, что не безнадежно грязно и не мертво, ни искупить, ни воскресить невозможно.
Мощь этого прозрения – «прорыва к Реформации», «опыта в башне» или «опыта клоаки» – невозможно переоценить. Как будто все средневековые горы перевернулись корнями вверх, все потемкинские деревни рухнули и вверглись в море. Ханжество человеческих дел и человеческой праведности открылось раз и навсегда. Отдернулась завеса – и римский понтифик, словно волшебник страны Оз, предстал ловким мошенником, дергающим за церковные рычаги. Обратной дороги не было. Если искать миг рождения будущего, каким мы его знаем, – вот он, этот миг.
Этот «прорыв в Реформацию» гласил, что весь блеск Ватикана, все его золото и мрамор – не более чем памятник попыткам человека стать Богом, то есть, по сути, памятник самому дьяволу в аду. Все это – наши попытки стать «хорошими» без Бога, впечатлить Бога нашей добродетелью и уподобиться Ему без Его помощи. Все это – хуже любых испражнений, ибо выдает себя за нечто доброе, прекрасное, святое и истинное, хотя на деле всему этому полностью противоположно.
И сколь многое следует из этого одного-единственного прозрения! Например, когда мы обращаемся к Марии и другим святым прежде обращения к самому Иисусу, не значит ли это, что мы на деле отрицаем Воплощение? Выходит, мы говорим, что Бог на самом деле не принял плоть, не сошел в наш грязный мир, чтобы быть с нами, любить нас и за нас страдать? Для Лютера любое обращение к Марии и святым, заменяющее обращение к Иисусу, сделалось сатанинским извращением высочайшей и святейшей истины во вселенной. Теперь он понял: это сущее антихристианство, и нет на свете ничего важнее, чем всем открыть на это глаза. В конечном счете, он пришел к мысли, что Святой Церковью овладел дьявол – и именно он, смиренный монах из Виттенберга, каким-то неисповедимым путем призван объявить об этом миру.
Итак, в «опыте клоаки» Лютер получил угли с небесного Престола; но когда и как из этих углей возгорится пламя? Что станет топливом для небесного огня?
Долго задаваться этим вопросом нам не придется. Тут же, словно по заказу, въезжает на тележке в нашу историю сладкоречивый торговец индульгенциями по имени Иоганн Тетцель.
Спор об индульгенциях
Иоганн Тетцель принадлежал к доминиканскому ордену. Был он лет шестидесяти, полноват и лысоват, однако обладал необычайным даром красноречия и умел собирать вокруг себя толпы народа. Поэтому папа Лев X, все более нуждавшийся в звонкой монете, поставил Тетцеля на должность главного распространителя индульгенций в Германии, особенно в Магдебурге и Хальберштадте. Папа стремился заработать, в нынешнем эквиваленте, миллиарды долларов торговлей вразнос; и Тетцель был именно тем, кто ему нужен. Верно, зачастую он говорил – как бы помягче выразиться? – вещи, далекие от строгой богословской истины: но, пока его речи подогревали желание верующих расстаться с деньгами, церковные власти на это смотрели снисходительно. В конце концов, бизнес есть бизнес. Рим постоянно нуждался в деньгах – и стремился заработать их любыми возможными способами; чем больше выкачивал он из верующих, тем сильнее возрастали его аппетиты; так что, поистине, лишь необыкновенный человек мог встать на пути у этой безжалостной, неумолимой силы и сказать ей: «Стой!»
Доминиканский священник Иоганн Тетцель, чья красноречивая реклама индульгенций вызвала к жизни «Девяносто пять тезисов» Лютера
Итак, Тетцель приехал в Ютербог, всего в двадцати пяти милях от Виттенберга, и начал, с благословения папы, проводить там свои шарлатанские шоу. В сравнении с тем, чем торговал он, все чудодейственные снадобья из змеиного жира выглядели безобидными овощами и фруктами. Слава о нем разнеслась по Германии, и люди приходили и приезжали за много миль, чтобы послушать Тетцеля – и не только послушать, но и оставить у него в карманах свои денежки. Да и как иначе? – ведь он продавал места в раю! Кто откажется купить себе небесное блаженство такой недорогой ценой, если верит, что такая сделка действенна? А верили в это все поголовно. Ведь за этой торговлей стоит сам папа: вон папские инсигнии висят у Тетцеля за спиной, так что любой покупатель может их разглядеть и убедиться!
Посредником в торговле индульгенциями выступал Альбрехт, архиепископ Майнцский, чья церковная казна тоже нуждалась в пополнении. Как повелось, Рим уделял ему часть дохода. Основная причина, по которой Тетцель не поехал в Виттенберг, состояла в том, что Фридрих, курфюрст Саксонский, видел в торговле индульгенциями прямую конкуренцию собственному священному бизнесу – демонстрации реликвий. Индульгенции оказались угрозой для доходов Саксонии – и его личных доходов. Были и другие причины. Однако многие верующие из Виттенберга, услыхав о чудесной возможности смыть с себя все грехи за умеренную плату и о том, что Тетцель ведет свои торговые операции в Ютербоге и Цербсте – двух городках примерно на равном расстоянии от Виттенберга – устремились туда. Да и какой дурак останется дома, когда прямо тут, по соседству, продают билеты в рай?
Лютер, как местный священник и наставник верующих, слишком хорошо понимал, что происходит – и всерьез тревожился за души своей паствы. Он понимал, что вся торговля индульгенциями – не что иное, как игра на невежестве и наивности верующих, и уже много лет осуждал эту практику; однако ни разу еще это зло не подходило к нему так близко, ни разу его цинизм не представал в такой неприглядной, отталкивающей наготе. Чем дальше, тем больше: вот уже и собственные прихожане Лютера входят в исповедальню, сияя от простодушной гордости, и протягивают отцу Мартину письменную индульгенцию, ожидая, что теперь он назначит куда менее суровую епитимью, – ведь за те грехи, о которых сейчас расскажут, они уже расплатились! Кто не верит – пожалуйста, вот документ! Правда, сами они не слишком-то грамотны и плохо понимают, что там написано – но отец Мартин у нас ученый, он разберет!
Кардинал Альбрехт Бранденбургский. Желая прибавить к своим владениям еще одно архиепископство, Альбрехт сильно задолжал Ватикану и, чтобы расплатиться с долгами, пригласил Иоганна Тетцеля торговать индульгенциями в своих владениях, что и привело к Реформации
Так богословская теория встретилась с практикой. Положим, официально Церковь может вещать все что угодно: но вот она, реальность торговли индульгенциями, совсем рядом, во всем своем безобразии. Собственными глазами и ушами Лютер видел и слышал, какое действие оказывает она на простых людей, стремящихся жить христианской жизнью. Откуда им знать, что Церковь просто использует их ради своих целей, – для строительства роскошных соборов, которых они никогда не увидят, а то и для чего-то гораздо худшего? Лютера тревожило и то, что из бедняков высасывают последние деньги, и – еще более – то, что Церковь этой практикой индульгенций фактически уводит верующих от Христа. Это великий соблазн, о котором кто-то должен заговорить вслух.
Лютер не рассчитывал на скандал, который потрясет всю Европу, – в его намерения это не входило. Но он был священником, проповедовал с кафедры, и долг перед Богом требовал от него не молчать. Так что в феврале 1517-го, а затем в марте того же года Лютер произнес проповеди об индульгенциях. Несомненно, он был не первым священником, заговорившим на эту тему; и говорил он о том, что клочок бумаги, купленный верующим, останется клочком бумаги, если ему не сопутствует искреннее раскаяние в совершенных грехах. А если вы искренне раскаиваетесь, продолжал он, эта бумага вам и не нужна – Бог и так видит ваше раскаяние и прощает ваши грехи.
Однако самая циничная, поистине дьявольская сторона индульгенций была связана с обещаниями облегчить страдания в чистилище умерших родных. Кто же допустит, чтобы его близкие мучились страшными муками, если их очень легко прекратить – достаточно выкупить их деньгами? И разве любой не отдаст ради этого все, что у него есть? Поэтому Тетцель в своих рекламных проповедях особенно напирал на мучения умерших – и ни одним риторическим приемом не пренебрегал, чтобы выжать из потрясенных слушателей все до последнего пфеннига:
Слушайте же: Бог и святой Петр взывают к вам! Подумайте о спасении ваших душ и душ дорогих вам покойников. Священник, дворянин и купец, девица и мать семейства, юноша и старец – войдите ныне в церковь, в церковь Святого Петра. Склонитесь перед святым крестом, воздвигнутым пред вами и оплакивающим вас. Думали ли вы о том, что в мире сем вы подобны утлому челну, бросаемому бурей – бурей искушений и опасностей? И кто может знать, доберетесь ли вы до безопасной пристани – пристани не для смертного тела, но для бессмертной души? Подумайте: всякий, кто покаялся, исповедал свои грехи и принес достойный плод покаяния, получают полное отпущение всех грехов. Прислушайтесь к голосам дорогих своих родных и близких: они взывают к вам, они стонут: «Сжалься над нами, о, сжалься! Мы терпим страшную муку – а ты можешь за ничтожную цену нас освободить!» Неужели же вы останетесь глухи к этим мольбам? Вот отец взывает к сыну, мать к дочери: «Мы родили вас, вскормили, вырастили, оставили вам состояние: неужто же вы столь жестокосердны и такой малостью не хотите пожертвовать, чтобы нас освободить? Неужели оставите нас здесь, в огне? Не поможете нам скорее увидеть обетованную славу?»
Помните: в ваших силах их освободить. Ведь «едва монета зазвенит, душа на небеса взлетит»[88].
Итак, неужто не хотите вы за какую-то четверть флорина приобрести индульгенцию, которая укажет божественной и бессмертной душе путь в ее небесное отечество?[89]
На протяжении веков церковная бюрократия страшно раздулась и стала походить на правительство или огромную корпорацию, высшие чины которой находятся на недосягаемой для простого народа высоте. Она обретала все больше и больше власти – и правила и законы Церкви все меньше походили на правила христианской общины в начале ее истории. Случись Петру или Павлу увидеть Церковь, какой стала она к 1517 году – несомненно, они изумились бы и не узнали ее.
Практика продажи индульгенций, поначалу согласная с церковным учением, ко времени Лютера перешла всякие разумные пределы. И можно ли ждать иного, когда за дело берется «невидимая рука рынка», не стесненная этическими соображениями? В замечательной книге Brand Luther («Факел по имени Лютер») Эндрю Петтигри называет кардинала Раймона Пероди «великим импресарио торговли индульгенциями», который
…привнес в экономику спасения блестящую логистику и дух театра. Кампании по продаже индульгенций он планировал не менее тщательно, чем военные операции, которые они должны были финансировать. С городами, которые планировал посетить Пероди во время своих турне, заранее заключался контракт, и важное место в нем отводилось делению прибыли (как правило, одна треть – местной церкви, две трети – Пероди и его команде)[90].
Продажа индульгенций. 1521
Против индульгенций выступал не только Лютер; однако их популярность росла и топила в себе возгласы недовольства. В 1489 году один видный богослов из Вюрцбурга решительно выступил против индульгенций. В своих проповедях в местном кафедральном соборе доктор Дитрих Морунг клеймил суеверное представление о том, что кто бы то ни было, пусть даже сам папа, может купить себе сокращение срока в чистилище за деньги. Однако Церковь – в лице кардинала Пероди – явление этого священника-идеалиста не обрадовало. За свое упрямство Морунг был отлучен от Церкви и брошен в тюрьму, где томился целое десятилетие.
После смерти Пероди в 1505 году против индульгенций возвысили голос и другие. Даже Штаупиц в серии проповедей, произнесенных в 1516 году в Нюрнберге, осудил эту практику. В начале 1517 года эти его проповеди были напечатаны на латыни и на немецком. Невольно приходит мысль, что Лютера вдохновил пример его старшего друга и наставника. Надо сказать, что недовольство индульгенциями распространялось не только на Германию. Выступали против них и богословы из парижской Сорбонны. Многие были согласны, что это серьезная проблема, что с ней необходимо что-то делать – но кто их слушал?
Была и еще одна причина, по которой практика торговли индульгенциями пришлась не по душе многим германским князьям. За индульгенции платили звонкой монетой – и широкая их популярность вела к тому, что большое количество немецкого золота уходило из страны в Рим. Сам император Максимилиан спорил об этом с Пероди и в какой-то момент сумел настоять на том, чтобы значительная сумма, собранная на продаже индульгенций, осталась в Германии.
Современник Лютера по имени Миконий рассказывает, что с Тетцелем произошел однажды такой забавный случай:
После того как Тетцель получил значительную выручку в Лейпциге, подошел к нему некий дворянин и спросил, можно ли купить индульгенцию за будущий грех. Тетцель, не раздумывая, ответил: конечно, можно – только плату нужно внести прямо сейчас. Так дворянин и сделал – и получил от Тетцеля бумагу с печатью. Когда же Тетцель выехал из Лейпцига, этот дворянин напал на него, хорошенько побил, ограбил и отправил обратно в Лейпциг с пустыми руками, сказав при этом: вот о каком будущем грехе я говорил! Герцог Георг, услыхав об этом, поначалу пришел в ярость, однако, выслушав историю с начала до конца, не стал наказывать разбойника и отпустил его с миром.
Глава шестая «Девяносто пять тезисов»
Датой начала Реформации считается обычно 31 октября 1517 года. Причина этого, разумеется, в том, что в этот день монах-августинец по имени Мартин Лютер прибил к дверям Замковой церкви в Виттенберге свои «Девяносто пять тезисов». Этот иконический момент стоит в ряду других исторических моментов, окрашенных ощущением отваги и вызова – как образ Колумба, втыкающего испанский флаг в девственную почву неведомого прежде континента.
Проблема с этой красивой и волнующей душу картиной в том, что в действительности этого не было. Так часто случается с образами, запечатленными в коллективной культурной памяти: начав разбираться в том, что же произошло, понимаешь, что реальность была куда менее живописна.
Мартин Брехт в своем непревзойденном труде о Лютере, изданном в 1981 году, объясняет, что сами тезисы были написаны до прославленного дня, однако на дверях знаменитого собора, скорее всего, оказались примерно двумя неделями позже[91]. И дата, и сама сцена дошли до нас из воспоминаний Меланхтона, написанных несколько десятилетий спустя. Однако в 1517 году Меланхтона в Виттенберге не было, и свое утверждение он основывал на том, что слышал за эти годы. Почему же именно с этой даты мы отсчитываем начало Реформации? По нескольким причинам, но прежде всего потому, что в этот день Лютер действительно сделал нечто, имеющее значение для всей последующей истории: отправил письмо.
Отправить письмо – очевидно, действие слишком будничное, чтобы причислять его к великим моментам мировой истории». И, когда речь идет об отправке письма, вряд ли возможно ткнуть пальцем в какой-то конкретный момент – особенно если живешь, как Лютер, в мире без почтовых ящиков. Какой образ здесь подойдет? Лютер вручает письмо посыльному? Лютер задумчиво складывает исписанный лист? Эти скромные сценки никак не сравнить с громогласным ба-а-амс! – молотка, прибивающего к дверям, на всеобщее обозрение, исповедание истины. Удар молотка – отличная метафора: в нем есть сила, громкость, публичность. «Ба-а-амс!» – это то же, что: «Вот!», «Так!», «Есть!» и прочие междометия, чья односложность демонстрирует решительность и нежелание идти на компромисс.
Кроме того, мы еще не упомянули: Лютер вывесил свои тезисы на дверях Замковой церкви не для того, чтобы их прочел весь мир, а с куда более скромной целью – дать знать академическому сообществу Виттенберга, что он предлагает провести ученую дискуссию (диспутацию, как тогда говорили) на означенную тему. Декларация эта была обращена не к миру – большая часть которого все равно не читала по-латыни – и даже не к Риму и не к папе. Она обращалась к другим богословам, знающим латынь, и сообщала только одно: по мнению Лютера, это важный вопрос, достойный исследования и дискуссии.
Однако повесить этот разжигательный (в конечном счете) документ на дверях Замковой церкви в Виттенберге – разве не было в этом самом по себе вызова и смелости? В конце концов, Лютер посмел отвергать индульгенции на дверях той самой церкви, где его собственный князь, Фридрих Мудрый, хранил бесчисленное множество реликвий, якобы «действующих» точно так же, как и индульгенции! Поместить на дверях этой церкви такое объявление – не было ли это явным обличением той лжи, что творилась внутри? Можно ли понять это иначе?
Увы – для тех, кто склонен видеть в этом жесте драматическое величие – и можно, и нужно. Дело в том, что Замковая церковь находилась, так сказать, в самом центре общественной жизни Виттенберга, и огромные дубовые двери ее, через которые весь город входил в церковь и оттуда выходил, как нельзя лучше служили в этом небольшом городке «доской объявлений». Каждый день здесь вывешивались разные объявления и рекламные плакаты, которые история для нас не сохранила. Сообразив, что тезисы Лютера были всего лишь еще одним подобным объявлением, мы увидим их в совершенно ином свете. В том, что Лютер повесил их на дверях церкви, не было ровно ничего особенного. Вполне возможно даже – хоть это и совсем разрушает привычную картину, – что повесил их не сам Лютер, а церковный сторож, в чьи обязанности входило вешать на церковные двери объявления и их снимать[92]. Наконец, вполне возможно, что таких объявлений было напечатано несколько штук, и развешаны они были на дверях нескольких виттенбергских церквей – в то время их в городе было не менее шести, и во всех входные двери использовались для той же цели. Разумеется, все это переворачивает с ног на голову привычную картину, утвердившуюся в умах за предыдущие пять столетий; однако всегда лучше следовать фактам – а факты здесь неоспоримы.
Есть и еще одна деталь, которую стоит упомянуть в связи с этой драматической, но нереалистичной картиной. Даже если бы Лютер вешал свои тезисы сам и именно в тот день, как утверждает легенда (или на следующий) – скорее всего, он не прибил бы их к двери гвоздями, а приклеил. Кисть и ведерко с клеем – конечно, это совсем не так драматично, как гвозди и молоток; однако, судя по всему, куда более соответствует фактам.
А факты таковы: 31 октября 1517 года Мартин Лютер отправил Альбрехту, архиепископу Майнцскому, важное письмо. Мы уже упоминали, что именно именем Альбрехта санкционировалось распространение индульгенций в Германии – и Лютер сообщал об этом досточтимому архиепископу, прося позаботиться о том, чтобы верующих, вверенных его пастырским заботам, торговцы индульгенциями не отвращали от истинной веры. Лютер, разумеется, полагал, что вера паствы должна всерьез заботить архиепископа, если он архиепископ не только по имени. Однако в письме его к архиепископу пока нет ничего смелого или дерзкого. Очень смиренно Лютер указывает на происходящий непорядок, обращая на это внимание ответственного лица, способного исправить ситуацию. Нет в письме и никакой враждебности – напротив, оно преисполнено уважения и почтения. В сущности, даже более чем почтения – вступительные его строки, не обинуясь, можно назвать льстивыми:
Достопочтеннейший отец наш во Христе, сиятельнейший господин!
Простите меня, недостойного и худшего из людей, что осмеливаюсь беспокоить Вашу светлость этим письмом. Господь Иисус мне свидетель: я долго колебался, помышляя о своей незначительности и недостоинстве, которые ясно сознаю. Однако все же дерзаю обратиться к вам, движимый исключительно долгом верности, которой обязан Вам, достопочтеннейший отец наш во Христе. Молю Вашу светлость удостоить взглядом эту щепотку пыли и, по неизменной доброте Вашей, выслушать мою просьбу.
Выразив подобающее случаю почтение к церковному начальству, дальше Лютер переходит к тяжелой, болезненной теме:
По всей стране распространяются под Вашим сиятельным именем папские индульгенции, предназначенные для строительства собора Святого Петра. Не так беспокоит меня болтовня проповедников, которой я не слышу[93], как те жалости достойные заблуждения, которые, исходя от этих проповедников, широко распространяются среди простых людей. Очевидно, эти простые души верят, что, приобретя письменную индульгенцию, могут быть уверены в своем спасении. Также убеждены они, что, сделав взнос в сундук продавца индульгенций, можно спасти душу из чистилища.
Далее, убеждены они, что благодать, распространяемая чрез индульгенции, столь совершенна и действенна, что дарует прощение за любой, самый великий и страшный грех – так что, говорят они, даже если бы кто-нибудь изнасиловал Матерь Божью (будь такое возможно) и затем купил индульгенцию, то был бы прощен. И наконец, верят они, что индульгенция освобождает человека от необходимости покаяния и епитимьи.
Боже правый! Души, вверенные Вашему попечению, достопочтенный отец, направляются прямиком в геенну. За все эти души Вы несете величайшую ответственность. Поэтому я не могу более молчать. Никто из нас не может быть уверен в своем спасении потому лишь, что совершил некое действие на благо Церкви. Да что там – даже излияние благодати Божьей не дает уверенности в спасении, ибо апостол [Павел] приказывает нам постоянно трудиться над своим спасением «в страхе и трепете».
…Как могут они [продавцы индульгенций] завлекать людей ложными надеждами и лишать страха [за свое спасение] этими лживыми рассказами и обещаниями прощения? В конце концов, индульгенции ровно никакого отношения не имеют ни к спасению, ни к святости души: они – лишь замена внешнему наказанию, налагаемому на основе канонического закона[94].
Разумеется, запечатывая и отправляя это письмо, Лютер не представлял – как не представлял и его адресат, – что коснулся сейчас вопроса огромного и страшного, покачнул ладонью отросток гигантской системы, уходящей корнями в самые мрачные глубины ада. Такую опухоль невозможно было вырезать, так сказать, под местной анестезией. В конечном счете Лютеру и его последователям пришлось перевернуть вверх дном всю структуру европейской реальности, на которой эта система паразитировала и процветала много столетий. Но кто мог знать об этом сейчас, в самом начале пути?
Итак, образ Лютера, смело прибивающего свою истину к дверям, чтобы весь мир и сам дьявол могли ее прочесть – выдумка. За этим образом стоит мысль, что наш герой заранее предполагал, что его действия приведут к отлучению от Церкви и, возможно, к ужасной смерти на костре, что удар его молотка станет первым выстрелом в войне с дьявольской системой, глубоко пустившей свои корни и возвышающейся над Европой, словно горный хребет. Но это очень далеко от истины. Когда Лютер писал и публиковал свои тезисы, когда написал и отправил письмо Альбрехту Майнцскому, ничего подобного у него на уме и близко не было. Благородный образ Лютера, провозглашающего свою бунтарскую истину и тем открывающего новую страницу в мировой истории, возник лишь задним числом. В отрыве от будущего – следующих лет, десятилетий, веков – он не имеет смысла. В сущности, какой-то смысл начал появляться у него лишь несколько десятков лет спустя, когда об этом рассказал Меланхтон – хотя, как мы уже упоминали, Меланхтона в то время не было в Виттенберге, и ориентировался он лишь на воспоминания людей, которые там были. Эти воспоминания он сочетал и излагал так же, как делают многие из нас, когда хотят рассказать о каких-то важных событиях: не лгал – но стремился создать яркую картину, пусть не вполне точную, не буквально соответствующую тому, что произошло на самом деле, но исполненную глубокого смысла и передающую какую-то важную истину.
Разумеется, своими действиями Лютер хотел вызвать перемены – но надеялся, что церковные власти будут ему за это благодарны. А в первую очередь хотел он получить признание от Бога, делая то, что должен делать любой добросовестный учитель истины Божьей. В последующие годы Лютер много раз говорил: он ведь «доктор», он «присягнул» учить истине и только истине – так что иного пути для него попросту не было. Он чувствовал, что делает нечто доброе – и уверен был, что папа и другие расценят его старания так же. Они пока что не были ему противниками, а он – он был всего лишь смиренным монахом в единственной Церкви западного христианского мира. Представить себе, какую лавину вызовет он, сбросив вниз этот камень, Лютер не мог. И, отправив письмо и опубликовав тезисы, он не знал и не ведал, какие темные силы пробудит от сна.
Прежде всего Лютер понятия не имел, насколько лично важен для Альбрехта Майнцского успех торговой кампании Тетцеля. Как оказалось, у архиепископа был в этом деле свой корыстный интерес, хотя, кроме самого архиепископа и папы, почти никто об этом не знал. Но именно эта неприглядная деталь как нельзя лучше дополняет картину и показывает, как далеко зашла папская власть по пути бессовестной наживы. Поистине поразительная подробность, о которой Лютер не ведал, состояла в том, что архиепископ Альбрехт не просто надзирал за продажей индульгенций в Германии с целью финансировать строительство собора Святого Петра в Риме. Была у него и тайная, очень личная причина всей душой поддерживать торговлю индульгенциями на своей территории.
История эта началась в 1513 году, когда Альбрехт в возрасте двадцати трех лет стал архиепископом Магдебургским. Всего год спустя он сделался курфюрстом Майнцским – важная политическая должность. Этими приобретениями территориальные и церковные амбиции Альбрехта не насытились. Но увы, как раз когда он распробовал вкус власти и захотел большего, Ватикан издал указ, согласно которому соединение нескольких архиепископств в одних руках однозначно и строго запрещалось. Много лет эта практика вела к тяжелым злоупотреблениям, кому-то из ватиканских чиновников это надоело – и на пути у Альбрехта и его честолюбивых планов стеной встал новый запрет. Отменить его было невозможно: да и чего стоил бы запрет или правило, которые легко отменить? Нет, правила есть правила, с ними приходится считаться… если, конечно, ты не готов заплатить, и заплатить действительно большие деньги. В деньгах Ватикан нуждался остро и постоянно: ведь папа Лев X отличался таким расточительством, что все предыдущие папы в сравнении с ним выглядели жалкими скрягами. Так что, если бы кто-то явился к Матери-Церкви с богатым даром – впечатляющей суммой в звонкой монете для ватиканской сокровищницы, – ему простилось бы множество грехов.
А молодой Альбрехт так страстно желал майнцского архиепископства, что готов был заплатить сколько угодно и взять деньги откуда угодно, если потребуется. Наконец, хоть и с сильными сомнениями и опасениями, папа предложил ему выложить огромную сумму – двадцать три тысячи дукатов; тогда, сказал он, на нарушение неудобного правила можно будет посмотреть сквозь пальцы. Цифра немыслимая; откровенно говоря, таких денег у Альбрехта и близко не было. Но что ему оставалось? Лишь одно: занять их у Якоба Фуггера из знаменитого семейства Фуггеров, сказочно богатых немецких банкиров. Но как Альбрехту выплатить такой долг? Было бы желание, а способ найдется: и папа Лев X, оказавшись тут как тут, предложил ему изобретательное решение. Что, если Альбрехт организует у себя в Германии кампанию по продаже индульгенций, официально – ради постройки собора Святого Петра? И что, если папа официально разрешит ему оставить половину вырученной прибыли себе? Из этой прибыли Альбрехт сможет расплатиться с жадными Фуггерами! Подробностей этой сделки никому знать не надо; все будет шито-крыто. Так они и сделали.
Более грязный секрет, связанный с торговлей индульгенциями, трудно себе и представить. Неудивительно, что именно он стал последним перышком, сломавшим спину средневекового христианского мира. То, что смиренные верующие бросали в денежный ящик пожертвования на строительство собора, веруя, что за это им простятся грехи – уже очень и очень дурно. Но то, что половина этих денег на самом деле шла на покрытие огромного долга, сделанного архиепископом ради того, чтобы подкупить папу и нарушить церковные правила… да, это была уже не «вишенка на торте». Это был огромный зловонный торт из дерьма, брошенный всем честным верующим прямо в лицо.
Лютер обо всех этих подробностях не знал и не ведал. Однако знал достаточно, чтобы изложить свои тревоги архиепископу и провести на эту тему академические дебаты с виттенбергскими церковными богословами. Только для этого и разместил он на церковных дверях свои тезисы. Наше представление об их значимости искажено, поскольку сформировалось задним числом. Лютер всего лишь предлагал диспут своим собратьям-ученым. Вслед за публикацией тезисов назначен был день и час диспута – однако не пришло на него ни единой живой души. Почему не появились студенты, мы не знаем. Почему не пришли простые граждане Виттенберга, более понятно: тезисы были написаны по-латыни, а простые люди тех времен обычно латыни не знали, так что они оказались в невыгодном положении. И, если бы не ответные действия архиепископа Альбрехта и Тетцеля – вполне возможно, вся история не имела бы продолжения и благородный порыв Лютера угас бы, как гаснет случайная искра, упав на влажную землю.
Через несколько недель – в то время он уже торговал небесными сокровищами в окрестностях Берлина – Тетцель прочел тезисы Лютера и был, говорят, так разъярен, что вскричал: «И трех недель не пройдет, как я отправлю этого еретика на костер!» По обычаю, на еретика, всходящего на костер, напяливали нечто вроде высокого колпака – так что Тетцель добавил: «И пусть себе отправляется на небеса в колпаке!»[95]
Так или иначе, первым шагом к Революции Революций стали «Девяносто пять тезисов» Лютера. Приведем их полностью, вместе с кратким вступлением[96]:
Оригинальные «Девяносто пять тезисов» Лютера, напечатанные в 1517 году
Во имя любви к истине и стремления разъяснить ее, нижеследующее будет предложено на обсуждение в Виттенберге под председательством достопочтенного отца Мартина Лютера, магистра свободных искусств и святого богословия, а также ординарного профессора в этом городе. Посему он просит, дабы те, которые не могут присутствовать и лично вступить с нами в дискуссию, сделали это ввиду отсутствия, письменно. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
1. Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря: «Покайтесь…» (Мф. 4:17), заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием[97].
2. Это слово [ «покайтесь»] не может быть понято как относящееся к таинству покаяния (то есть к исповеди и отпущению грехов, что совершается служением священника)[98].
3. Однако относится оно не только к внутреннему покаянию; напротив, внутреннее покаяние – ничто, если во внешней жизни не влечет всецелого умерщвления плоти[99].
4. Поэтому наказание остается до тех пор, пока остается ненависть человека к нему (это и есть истинное внутреннее покаяние), иными словами – вплоть до вхождения в Царствие Небесное.
5. Папа не хочет и не может прощать какие-либо наказания, кроме тех, что он наложил либо своей властью, либо по церковному праву[100].
6. Папа не имеет власти отпустить ни одного греха, не объявляя и не подтверждая отпущение именем Господа; кроме того, он дает отпущение только в определенных ему случаях. Если он пренебрегает этим, то грех пребывает и далее[101].
7. Никому Бог не прощает греха, не заставив в то же время покориться во всем священнику, Своему наместнику[102].
8. Церковные правила покаяния налагались только на живых и, в соответствии с ними, не должны налагаться на умерших[103].
9. Посему во благо нам Святой Дух, действующий в папе, в декретах коего всегда исключен пункт о смерти и крайних обстоятельствах.
10. Невежественно и нечестиво поступают те священники, которые и в чистилище оставляют на умерших церковные наказания.
11. Плевелы этого учения – об изменении наказания церковного в наказание чистилищем – определенно посеяны тогда, когда спали епископы (Мф. 13:25).
12. Прежде церковные наказания налагались не после, но перед отпущением грехов, как испытания истинного покаяния.
13. Умершие все искупают смертью, и они, будучи уже мертвы согласно церковным канонам, по закону имеют от них освобождение.
14. Несовершенное сознание, или благодать умершего, неизбежно несет с собой большой страх; и он тем больше, чем меньше сама благодать.
15. Этот страх и ужас уже сами по себе достаточны (ибо о других вещах я умолчу), чтобы приуготовить к страданию в чистилище, ведь они – ближайшие к ужасу отчаяния.
16. Представляется что ад, чистилище и небеса – различны меж собой, как различны отчаяние, близость отчаяния и безмятежность.
17. Представляется, что как неизбежно в душах умаляется страх в чистилище, так прирастает благодать.
18. Представляется, что не доказано ни разумными основаниями, ни Священным Писанием, что они[104] пребывают вне состояния [приобретения] заслуг или причащения благодати.
19. Представляется также недоказанным и то, что все они уверенны и спокойны о своем блаженстве, хотя мы в этом совершенно убеждены[105].
20. Итак, папа, давая «полное прощение всех наказаний», не подразумевает исключительно все, но единственно им самим наложенные.
21. Поэтому ошибаются те проповедники индульгенций, которые объявляют, что посредством папских индульгенций человек избавляется от всякого наказания и спасается.
22. И даже души, пребывающие в чистилище, он не освобождает от того наказания, которое им надлежало, согласно церковному праву, искупить в земной жизни.
23. Если кому-либо может быть дано полное прощение всех наказаний, несомненно, что оно дается наиправеднейшим, то есть немногим.
24. Следовательно, большую часть народа обманывают этим равным для всех и напыщенным обещанием освобождения от наказания.
25. Какую власть папа имеет над чистилищем вообще, такую всякий епископ или священник имеет в своем диоцезе или приходе в частности.
26. Папа очень хорошо поступает, что не властью ключей (каковой он вовсе не имеет), но заступничеством дает душам [в чистилище] прощение[106].
27. Человеческие мысли проповедуют те, которые учат, что тотчас, как только монета зазвенит в ящике, душа вылетает из чистилища[107].
28. Воистину, звон золота в ящике способен увеличить лишь прибыль и корыстолюбие, церковное же заступничество – единственно в Божьем произволении.
29. Кто знает, все ли души, пребывающие в чистилище, желают быть выкупленными, как случилось, рассказывают, со св. Северином и Пасхалием.
30. Никто не может быть уверен в истинности своего раскаяния и – много меньше – в получении полного прощения.
31. Сколь редок истинно раскаявшийся, столь же редок по правилам покупающий индульгенции, иными словами – в высшей степени редок.
32. Навеки будут осуждены со своими учителями те, которые уверовали, что посредством отпустительных грамот они обрели спасение.
33. Особенно следует остерегаться тех, которые учат, что папские индульгенции – это бесценное Божие сокровище, посредством которого человек примиряется с Богом.
34. Ибо их простительная благодать обращена только на наказания церковного покаяния, установленные по-человечески[108].
35. Не по-христиански проповедуют те, которые учат, что для выкупа душ из чистилища или для получения исповедальной грамоты не требуется раскаяния.
36. Всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное освобождение от наказания и вины, уготованное ему даже без индульгенций.
37. Всякий истинный христианин, и живой, и мертвый, принимает участие во всех благах Христа и Церкви, дарованное ему Богом, даже без отпустительных грамот.
38. Папским прощением и участием не следует ни в коем случае пренебрегать, ибо оно (как я уже сказал [Тезис 6]) есть объявление Божьего прощения.
39. Непосильным трудом стало даже для наиболее ученых богословов одновременно восхвалять перед народом и щедрость индульгенций, и истинность раскаяния.
40. Истинное раскаяние ищет и любит наказания, щедрость же индульгенций ослабляет это стремление и внушает ненависть к ним или, по крайней мере, дает повод к этому[109].
41. Осмотрительно надлежит проповедовать папские отпущения, чтобы народ не понял ложно, будто они предпочтительнее всех прочих дел благодеяния.
42. Должно учить христиан: папа не считает покупку индульгенций даже в малой степени сопоставимой с делами милосердия.
43. Должно учить христиан: подающий нищему или одалживающий нуждающемуся поступает лучше, нежели покупающий индульгенции.
44. Ибо благодеяниями приумножается благодать и человек становится лучше; посредством же индульгенций он не становится лучше, но лишь свободнее от наказания.
45. Должно учить христиан: тот, кто, видя нищего и пренебрегая им, покупает индульгенции, не папское получит прощение, но гнев Божий навлечет на себя.
46. Должно учить христиан: если они не обладают достатком, им вменяется в обязанность оставлять необходимое в своем доме и ни в коем случае не тратить достояние на индульгенции.
47. Должно учить христиан: покупка индульгенций – дело добровольное, а не принудительное.
48. Должно учить христиан: папе как более нужна, так и более желанна, – при продаже отпущений – благочестивая за него молитва, нежели вырученные деньги.
49. Должно учить христиан: папские отпущения полезны, если они не возлагают на них упования, но весьма вредоносны, если через них они теряют страх перед Богом.
50. Должно учить христиан: если бы папа узнал о злоупотреблениях проповедников отпущений, он счел бы за лучшее сжечь дотла храм св. Петра, чем возводить его из кожи, мяса и костей своих овец.
51. Должно учить христиан: папа, как к тому обязывает его долг, так и на самом деле хочет, – даже если необходимо продать храм св. Петра, – отдать из своих денег многим из тех, у кого деньги выманили некоторые проповедники отпущений.
52. Тщетно упование спасения посредством отпустительных грамот, даже если комиссар, мало того, сам папа отдаст за них в заклад собственную душу.
53. Враги Христа и папы суть те, кто ради проповедования отпущений приказывает, чтобы слово Божие совершенно умолкло в других церквах.
54. Вред наносится слову Божию, если в одной проповеди одинаково или долее времени тратится на отпущение, нежели на Слово.
55. Мнение папы, безусловно, состоит в том, что если индульгенции – ничтожнейшее благо – славят с одним колоколом, одной процессией и молебствием, то Евангелие – высшее благо – надлежит проповедовать с сотней колоколов, сотней процессий и сотней молебствий.
56. Сокровища Церкви, откуда папа раздает индульгенции – и не названы достаточно, и неизвестны христианам.
57. Несомненно, что ценность их – и это очевидно – непреходяща, ибо многие проповедники не так щедро их раздают, сколь охотно собирают.
58. Также не являются они заслугами Христа и святых, ибо они постоянно – без содействия папы – даруют благодать внутреннему человеку и крест, смерть и ад внешнему человеку.
59. «Сокровища Церкви, – сказал св. Лаврентий – это бедняки Церкви»; но он употребил это слово по обыкновению своего времени.
60. Мы по опрометчивости заявляем, что ключи Церкви, дарованные служением Христа – вот то сокровище.
61. Ибо явствует, что для освобождения от наказаний и для прощения, в определенных ему случаях, достаточно власти папы.
62. Истинное сокровище Церкви – это Пресвятое Евангелие (Благовестие) о славе и благодати Бога.
63. Но оно заслуженно очень ненавистно, ибо первых делает последними (Мф. 20:16).
64. Сокровище же индульгенций заслуженно очень любимо, ибо последних делает первыми.
65. Итак, сокровища Евангелия – это сети, коими прежде улавливались люди от богатств.
66. Сокровища же индульгенций – это сети, коими ныне улавливаются богатства людей[110].
67. Индульгенции, которые, как возглашают проповедники, имеют «высшую благодать», истинно таковы, поскольку приносят прибыль.
68. В действительности же они в наименьшей степени могут быть сравнимы с Божией благодатью и милосердием Креста.
69. Епископам и священникам вменяется в обязанность принимать комиссаров папских отпущений со всяческим благоговением.
70. Но еще более им вменяется в обязанность смотреть во все глаза, слушать во все уши, дабы вместо папского поручения они не проповедовали собственные выдумки[111].
71. Кто говорит против истины папских отпущений – да будет тот предан анафеме и проклят[112].
72. Но кто стоит на страже против разнузданной и наглой речи проповедника – да будет тот благословен.
73. Как по справедливости папа поражает отлучением тех, кто во вред торговле отпущениями замышляет всяческие уловки.
74. Так гораздо страшнее он намерен поразить отлучением тех, кто под предлогом отпущений замышляет нанести урон святой благодати и истине.
75. Надеяться, что папские отпущения таковы, что могут простить грех человеку, даже если он – предполагая невозможное, – обесчестит Матерь Божию – значит лишиться разума.
76. Мы говорим против этого, что папские отпущения не могут устранить ни малейшего простительного греха, что касается вины.
77. Утверждать, что св. Петр, если бы был папой, не мог бы даровать больше благодеяний – есть хула на св. Петра и папу.
78. Мы говорим против этого, что этот и вообще всякий папа дарует больше благодеяний, а именно: Евангелие, силы чудодейственные, дары исцелений и прочее – как сказано в Первом послании к Коринфянам, глава 12 [ст. 28].
79. Утверждать, что пышно водруженный крест с папским гербом равномочен Кресту Христову, значит богохульствовать.
80. Епископы, священники и богословы, дозволяющие вести такие речи перед народом, ответят за это.
81. Это дерзкое проповедование отпущений приводит к тому, что почтение к папе даже ученым людям нелегко защищать от клевет и, более того, коварных вопросов мирян[113].
82. Например: Почему папа не освободит чистилище ради пресвятой любви к ближнему и крайне бедственного положения душ – то есть по причине наиглавнейшей, – если он в то же время неисчислимое количество душ спасает ради презренных денег на постройку храма – то есть по причине наиничтожнейшей?
83. Или: Почему панихиды и ежегодные поминовения умерших продолжают совершаться и почему папа не возвращает или не позволяет изъять пожертвованные на них средства, в то время как грешно молиться за уже искупленных из чистилища?
84. Или: В чем состоит эта новая благодать Бога и папы, что за деньги безбожнику и врагу Божию они позволяют приобрести душу благочестивую и Богу любезную, однако за страдание такую же благочестивую и любимую душу они не спасают бескорыстно, из милосердия?[114]
85. Или: Почему церковные правила покаяния, на самом деле уже давно от неупотребления себя отменившие и мертвые, до сих пор еще оплачиваются деньгами за предоставленные индульгенции, словно они еще в силе и живы?
86. Или: Почему папа, который ныне богаче, чем богатейший Крез, возводит этот единственный храм св. Петра охотнее не на свои деньги, но на деньги нищих верующих?[115]
87. Или: Что папа прощает или отпускает тем, кто посредством истинного покаяния имеет право на полное прощение и отпущение?
88. Или: Что могло добавить Церкви больше блага, чем если бы папа то, что он делает теперь единожды, совершал сто раз в день, наделяя всякого верующего этим прощением и отпущением?
89. Если папа стремится спасти души скорее отпущениями, нежели деньгами, почему он отменяет дарованные прежде буллы и отпущения, меж тем как они одинаково действенны?
90. Подавлять только силой эти весьма лукавые доводы мирян, а не разрешать на разумном основании – значит выставлять Церковь и папу на осмеяние врагам и делать несчастными христиан[116].
91. Итак, если индульгенции проповедуются в духе и по мысли папы, все эти доводы легко уничтожаются, более того – просто не существуют[117].
92. Посему да рассеются все пророки, проповедующие народу Христову: «Мир, мир!» – а мира нет (Иер. 6:14).
93. Благо несут все пророки, проповедующие народу Христову: «Крест, крест!» – а креста нет.
94. Надлежит призывать христиан, чтобы они с радостью стремились следовать за своим главой Христом через наказания, смерть и ад.
95. И более уповали многими скорбями войти на небо, нежели безмятежным спокойствием (Деян. 14:22)[118].
Копию своих «Девяноста пяти тезисов» Лютер включил в письмо, отправленное архиепископу Альбрехту. И письмо, и тезисы сперва были отправлены в Магдебург, а оттуда пересланы архиепископу. Впервые он открыл письмо не ранее 17 ноября – и, даже открыв, был не в том расположении духа, чтобы внимательно его читать. Мучили его все те же финансовые затруднения: увы, обычные уловки Тетцеля не приносили и половины той прибыли, на которую он рассчитывал. Одну из причин этого Альбрехт видел в том, что его соперник-курфюрст, Фридрих Саксонский, не дал разрешения на торговлю индульгенциями у себя в княжестве. А как помогли бы Альбрехту деньги саксонских простаков! И тут еще – здравствуйте-пожалуйста! – какой-то зануда-богослов, и не откуда-нибудь, а из университета того самого Фридриха, разразился целым трактатом о том, что торговать индульгенциями вообще неправильно, и это надо поскорее прекратить. А ведь дело и так идет не слишком успешно. Слишком много продавцов индульгенций в последнее время осаждает верующих, и на этот товар явно падает спрос. Отчасти поэтому Фридрих и предпочел не впускать в свое княжество очередного ватиканского коммивояжера.
Что делать с письмом, Альбрехт не знал, но чувствовал, что нужно что-то ответить. Просто бросить письмо в огонь и забыть о нем нельзя: автор его – не простой монах, а глава богословского факультета Виттенбергского университета, а также генеральный викарий одиннадцати монастырей. Так что, прочитав письмо, через две недели Альбрехт передал его богословскому факультету университета в своем родном Майнце, надеясь, что ученые богословы дадут ему какой-нибудь полезный совет. Совсем уж безбожником Альбрехт не был – и, должно быть, смутно чувствовал, что в словах Лютера есть нечто справедливое; просто время сейчас было уж очень неподходящее, чтобы в этом разбираться.
Майнцские богословы, получив письмо и тезисы, тоже с ответом не спешили. Несомненно, они сразу поняли, что вопросы подняты сложные и даже опасные. В конце концов они выдавили из себя ответ уклончивый и почти бессмысленный: профессора в Виттенберге, мол, вправе устраивать академические диспуты на любые темы (кто же в этом сомневался?), а что касается самого вопроса об индульгенциях, пусть его решает папа. Явно понимая, что твердое «да» или «нет» может ввергнуть их в беду, майнцские профессора предпочли передать пас в Ватикан. Так же поступил и сам Альбрехт. Так зажглась искра, из которой впоследствии возгорелось пламя.
Понимая, что Альбрехту понадобится для ответа какое-то время, Лютер пока разослал тезисы своему другу Иоганну Лангу в Эрфурт и еще нескольким людям – все своим уважаемым ученым друзьям и союзникам. Без сомнения, он полагал, что эти тезисы их заинтересуют, вызовут разговоры и, может быть, приведут наконец к публичному обсуждению этой проблемы. Нюрнбергский гуманист и печатник Кристофер Шерль был впечатлен тезисами и решил, что они заслуживают широкого распространения – и, не трудясь получать разрешение автора (ибо об авторском праве в те времена и слыхом не слыхивали), просто напечатал их и начал продавать у себя в Нюрнберге. В этот миг, что называется, понеслась лошадка вскачь: тезисы вырвались из-под контроля Лютера и начали жить своей жизнью. Сам Лютер пока не понимал масштабов происходящего – да и как понять, если ничего подобного с ним, и более того, ни с кем в истории еще не случалось? Шерль напечатал тезисы в Нюрнберге; за этим вскоре последовали переиздания в Базеле и в Лейпциге. Базельское издание, оформленное в виде изящного памфлета, произвело настоящий фурор, особенно среди интеллектуалов. Дальнейшую судьбу тезисов даже сложно проследить. Текст распространялся стремительно, разлетался, словно семена молочая на ветру; быстро перешагнул он границы Саксонии, да и всей Германии. В январе тезисы были переведены на немецкий, что во много раз увеличило их читательскую аудиторию; благодаря их языку, простому, яркому и емкому, они затронули умы и сердца не одних лишь ученых. В марте 1518 года экземпляр тезисов приобрел Эразм Роттердамский. Он отправил их в Англию своему другу Томасу Мору, а тот познакомил с ними короля Генриха VIII, которому еще предстояло сыграть в этой истории видную – и не самую приятную – роль.
Тезисы Лютера распространились со скоростью, прежде невиданной в мировой истории. Пришествие книгопечатания изменило все, но этого никто еще не понял; поэтому происшедшее поразило всех – а самого Лютера серьезно обеспокоило. В марте он писал Шерлю:
Приветствую. Любезный и ученейший Шерль, получил оба ваши письма, и по-немецки, и по-латыни, вместе с даром от достопочтенного Альбрехта Дюрера, а также мои тезисы в оригинале и на общеупотребительном наречии. Вы удивляетесь, что я не отправил их вам сам. Отвечу на это: цели публиковать их у меня не было, я хотел лишь посоветоваться о них с несколькими ближними – и дальше, услышав дурные отзывы, их уничтожить, или же, услышав добрые отзывы, отредактировать. Но теперь, когда они напечатаны и разошлись куда шире, чем я ожидал, я невольно тревожусь о последствиях: не потому, что не желал бы широкого распространения истины – напротив, к этому я и стремлюсь, – но потому, что форма их мало подходит для наставления широкой публики. У меня самого есть в этих вопросах некоторые сомнения – и, определенно, я выражался бы куда осторожнее и аккуратнее, если бы знал, что из этого выйдет[119].
Ситуация наподобие той, как если бы электронное письмо, в спешке отправленное другу, попало в ведущие СМИ, или случайный комментарий, записанный скрытым микрофоном, прогремел в вечерних новостях. Что ж, Лютеру ничего не оставалось. События вышли из-под контроля, устремились вскачь – и в погоне за ними он оказался там, куда никогда и не думал попасть.
Тетцель наносит ответный удар
А что же с Тетцелем, мастером продаж, из-за которого началась вся эта заварушка? Сгоряча Тетцель пообещал отправить Лютера на костер; но, подумав, остыл и пришел к мысли, что отвечать ему следует в спокойном и строгом академическом ключе. Недавно он записался студентом в Бранденбургский университет во Франкфурте – и теперь решил, что на аргументы следует отвечать аргументами. Тетцель выпустил собственные тезисы – хоть и написал их, в конечном счете, не сам, а с помощью известного франкфуртского богослова Конрада Коха, по рождению в Вимпфене получившего не слишком удачное гуманистическое прозвище «Вимпина»[120]. 20 января 1518 года Тетцель защищал свои тезисы на диспуте: с кем диспутировал – история умалчивает, да и вообще эта дискуссия прошла без фанфар. В тезисах своих Тетцель довольно поверхностно излагал такое понимание индульгенций, с которым сам Лютер был вполне согласен. Таким образом, его тезисы – сознательно или в простоте душевной, этого мы никогда не узнаем – игнорировали те проблемы, связанные с индульгенциями, которые волновали Лютера: проблемы, возникшие в том числе благодаря пламенному красноречию самого Тетцеля и ему подобных.
Той же весной Тетцель отправил из Галле в Виттенберг книгопродавца с особым заданием: распространять печатные экземпляры его тезисов, дабы бороться с идеями Лютера. Но заочной дискуссии не получилось. Виттенбергские студенты к тому времени были полностью на стороне Лютера – и приступили к книгопродавцу с гневными упреками за то, что он привез в их славный город такой мусор (если не сказать хуже). Слово за слово – и скоро по Виттенбергу разлетелась весть, что в условленный день и час на рыночной площади эти невежественные тезисы получат по заслугам. В назначенное время, при большом стечении народу, около восьмисот экземпляров – весь боезапас неудачливого книгопродавца – полетели в огонь. Лютер, услыхав об этом постыдном событии, пришел в ужас, понимая, что вину за это возложат на него, и гневно обличил этот поступок своих чересчур рьяных сторонников в проповеди. Однако сделанного не воротишь – и ясно было, что битва с Иоганном Тетцелем неизбежна.
Тем временем, желая как-то овладеть ситуацией, быстро выходящей из-под контроля, Лютер набросал более подробное изложение своих тезисов и отправил черновик епископу Бранденбургскому. «Девяносто пять тезисов» никогда не предназначались для широкого распространения и обсуждения. В конце концов, это были тезисы будущих дебатов – набросок, краткий конспект того, что Лютер намеревался сказать. Разумеется, звучали они резко и даже провокационно – ведь задача их состояла в том, чтобы возбудить интерес и вызвать желание поспорить. Но теперь они в виде памфлета разошлись едва ли не по всему христианскому миру – да еще и по-немецки! Нечего сказать, интерес возник, желание поспорить – тоже; но совсем не там и не так, как предполагал Лютер. Чтобы исправить ситуацию, он решил опубликовать более подробное и умеренное изложение своих взглядов на этот вопрос, под заглавием «Резолюции». Как видно, в это время Лютер еще не сомневался, что все можно исправить. Поэтому, когда епископ Бранденбургский предложил ему пока не публиковать этот новый документ, Лютер с радостью согласился. Целью его было – не возбуждать недовольство, а лишь обратить внимание Церкви на то, что происходит, и помочь ей увидеть свои ошибки. Можно ли было сомневаться, что Церковь его за это только поблагодарит?
Итак, Лютер согласился отложить публикацию «Резолюций», хотя уже написал о том же предмете проповедь (под заглавием «Проповедь об индульгенциях и благодати»). В сущности, он ее даже напечатал. Не все свои проповеди Лютер отдавал в печать, но эту счел достаточно важной. Получив ответ от епископа, он согласился даже приостановить продажу печатных экземпляров проповеди; однако часть из них уже разошлась и наделала нового шума. В начале эпохи книгопечатания, когда об авторском праве еще и слыхом не слыхали, всего одна печатная книга могла породить множество других – а те, в свою очередь, порождали еще, и еще, и еще, пока эти поколения печатных книг не заполоняли землю, подобно потомкам Авраама, многочисленным, как песок морской и как звезды на небе. Стоит заметить, что ни пфеннига авторских отчислений за свои сочинения Лютер никогда не получал. Книгопечатание тех времен напоминало Дикий Запад: каждый печатник, ни у кого не спрашивая разрешения, свободно печатал и продавал все, что считал нужным – прежде всего то, что могло принести ему прибыль. А сочинения Лютера отлично продавались и приносили большую прибыль – и в 1518 году, и еще много-много десятков лет спустя.
Именно в «Проповеди об индульгенциях и благодати» мы впервые (не считая самих тезисов) встречаем изложение взглядов Лютера на этот вопрос. В проповеди он говорит четко и ясно: сама мысль, что Церковь вправе (посредством индульгенций) ослаблять наказание, которое накладывает Бог за грехи, попросту неверна – она не имеет оснований в Библии и богословски ошибочна. Далее: считать, что несколькими монетами можно откупиться от того страдания, какое в неизмеримой мудрости своей налагает Бог на душу за грех и ради ее же конечного блага, – богохульно и противоречит здравому смыслу. Такой ошибочный взгляд на индульгенции, продолжает Лютер, ведет к тому, что Церкви присваивается роль, присущая одному только Богу. Так впервые Лютер высказывает мысль, которая в дальнейшем принесет ему много бед: что Церковь и папа неправедно присваивают себе роль Бога. Также говорит он в этой проповеди, что помочь Церкви возвести собор Святого Петра – дело, конечно, благое; однако полное безумие – делать это для того, чтобы избавиться от страданий, назначенных нам Богом ради нашего исправления и спасения.
Проповедь эта вышла из печати и распространилась далеко за пределами Виттенберга – и Тетцель, вполне предсказуемо, решил ответить на нее собственной публикацией. Было это, по-видимому, ближе к концу апреля 1518 года. В новом своем сочинении Тетцель отбросил все богословские реверансы и перешел к старым добрым личным выпадам, заявив, что Лютер – еретик не лучше Джона Уиклифа и Яна Гуса. Здесь в первый раз мы видим очертания того трагического пути, который суждено было пройти этому спору далее. Лютер говорил смиренно, искренне, в простоте сердца; но Тетцель – в пылу защиты Матери-Церкви – счел нужным причислить его к еретикам, противопоставить папе и Церкви, хотя точно известно, что в тот период Лютер и в мыслях не имел ничего против папы и Церкви и хотел лишь им помочь. Ядовито-враждебный тон и тяжкие обвинения, выдвинутые Тетцелем в этом документе, стали печальным предвестием всего, что произошло дальше. Он ответил попросту: «Молчи, возьми свои слова назад – а иначе Церковь сотрет тебя в порошок. Аминь». Эгоистично и цинично старался он отвертеться от любого серьезного изучения аргументов Лютера и размышления над ними – и, как мы знаем, в конечном итоге в этом преуспел. Заявляя, что Лютер бросает вызов папе, Тетцель сделал ставку на тщеславие и мелочный нарциссизм Льва X и его окружения. Если он прав, если они не станут утруждать себя разбором доводов этого монаха (или, чего доброго, молиться о том, чтобы Бог указал им верный путь), а просто отмахнутся и заставят этого беспокойного немца замолчать – тогда, с точки зрения Тетцеля, все сложится как нельзя лучше!
Для Тетцеля все было проще простого. Аргументы? Библия? – да пошли они ко всем чертям! Папа ошибаться не может. Кто говорит, что папа или Церковь ошибаются, тот еретик – и делу конец. Тетцель был доминиканцем, а между доминиканцами и августинцами с давних пор шло жестокое соперничество, несомненно сыгравшее свою роль и в этом споре, и в том, что за ним последовало. Орден доминиканцев, основанный в XIII веке святым Домиником де Гусманом, одной из главных своих задач видел уничтожение ереси; ясно, что августинец Лютер, возвысивший голос против того, что делал доминиканец по приказу папы, пробудил в доминиканцах охотничьи инстинкты. Хотя официально доминиканцы называли себя именем своего основателя, августинцы насмешливо прозвали их «псами Господними» – от латинского Domini canes; более мягкий вариант этого прозвища звучал как «небесные гончие»[121].
В июне Лютер решил ответить Тетцелю – однако, очевидно, не принял его всерьез. Вместо ответа по существу он обрушился на Тетцеля всей мощью тяжеловесного старонемецкого сарказма. Впрочем, невежество Тетцеля, ясно видное из его писаний, и не позволяло вести с ним серьезную дискуссию. Зная, что стоит на твердой богословской почве, Лютер презрительно отмахивался от угроз Тетцеля «огнем и водой» (то есть казнью на костре или через утопление). Вместо этого Лютер предлагал Тетцелю «держаться лучше вина вместе с тем огнем, на котором жарят гуся, – к этому он больше привычен!»[122] Здесь мы слышим первые грубые ноты мелодии, которой вскоре предстояло развернуться в симфонию такой брани и оскорблений, каких еще свет не видел. Лютер откровенно издевался над Тетцелем; фактически он говорил: «Дорогой отец Пузан, сидел бы ты лучше за своим гусем и не лез в трудные вопросы, в которых ни рожна не смыслишь! Ешь, пей, набивай брюхо, а богословие оставь тем, кто поумнее!» Кроме того, Лютер обвинил Тетцеля в алчности и жажде наживы. Не забыл и поддразнить: мол, если тот готов вступить в очную дискуссию – пожалуйста, я здесь, в Виттенберге, двери открыты: «А буде найдется вопрошатель, считающий, что он в силах глотать железо и раскалывать камни, – да будет ему известно, что здесь ждет его охранная грамота, открытые двери, бесплатный кров и стол»[123]. Иными словами, курфюрст Фридрих все это с радостью тебе предоставит, раз уж ты осмелился заявить, что он укрывает у себя в Виттенберге еретика.
В том же месяце архиепископ Альбрехт, несомненно, обеспокоенный тем, куда может завести эта перепалка, предложил богословскому факультету Лейпцигского университета выпустить свое разъяснение этого спора. Однако лейпцигские богословы, как и майнцские, отказались, понимая, что дело это рискованное – слишком уж легко неосторожным высказыванием настроить против себя Рим. Лучше, как говорится, не высовываться и ждать, чем дело кончится, с безопасного расстояния.
Обелиски и астериски
Здесь в нашей истории появляется новый персонаж: богослов по имени Иоганн Эк, которого вплоть до злосчастных событий начала 1518 года Лютер считал другом. Познакомил их известный гуманист Кристофер Шерль в то время, когда был ректором Виттенбергского университета; однако в январе 1518 года, прочтя тезисы Лютера, Эк немедля дал знать, что очень хочет с ним подискутировать. Ради этого, говорил он, я готов и десять миль пешком пройти. Затем Эк написал и издал опровержение тезисов Лютера, озаглавленное «Обелиски». Слово «обелиск» первоначально означало прямоугольные каменные монументы, восходящие ко временам Древнего Египта, но в типографском деле скоро начало обозначать крошечные кинжалы, изображаемые на полях рукописи в знак того, что этот текст сомнителен. Так что заглавие книги Эка, вполне возможно, показалось Лютеру именно типографским «обелиском» – кинжалом в спину от старого друга. Эка Лютер считал человеком разумным и образованным; однако тот не просто вступил с ним в спор, а быстро перешел к личным нападкам и оскорблениям. В своих гневных инвективах Эк не знал удержу. Он метал в Лютера булыжник за булыжником, именуя его простецом, бесстыжим, «богемцем» (то есть последователем Яна Гуса – а значит, еретиком, заслуживающим смерти), а также ненавистником папы. Это предательство стало для Лютера тяжелым ударом.
Трудно сказать, что именно возбудило в Эке такое негодование; но, очевидно, отчасти оно было связано с тем, что Лютер обвинял продавцов индульгенций в алчности, подрывающей авторитет Церкви. Такое обращение за поддержкой к широко распространенному в те времена антиклерикализму Эк воспринял как величайшее оскорбление – невзирая на то, была ли в доводах Лютера какая-то правда.
Во всяком случае, Лютер был глубоко задет и даже не хотел отвечать, однако друзья уговорили его ответить. Тогда он написал «Астериски». Туше! Слово «астериск» по-гречески означает «звездочка»; а звездочками на полях рукописей отмечались особенно важные или ценные места в тексте – полная противоположность уничижительному значению кинжалов[124]. Итак, всего через шестьдесят лет после изобретения подвижного шрифта Лютер и Эк уже сражались друг с другом, используя метафоры из мира книгопечатания – очевидно, и им самим, и всем читателям вполне привычные.
С выходом в свет «Обелисков» и «Астерисков» развернулась полноценная и публичная богословская война – прежде всего за власть и авторитет. С одной стороны, проповедовалась мысль, что схоластиков, Аристотеля и в первую очередь Церковь, принявшую и продвигающую их идеи, невозможно подвергать сомнению, что они обладают высшим и окончательным авторитетом. С другой стороны – мысль, что все необходимо поверять Писанием. С одной стороны возвышался неограниченный и не подвергаемый сомнению авторитет папы, с другой – авторитет Писания. Лютер как нельзя яснее давал понять: уважение его к Церкви и к папе глубоко и искренно, однако евангельская истина дороже. Распространенную идею, что Церковь обладает властью черпать из «сокровищницы заслуг» и раздавать заслуги по своему усмотрению, Лютер, не обинуясь, именовал «пьяным бредом, уместным разве только на маскараде»[125].
В июне Шерль предпринял еще одну попытку помирить Лютера с Эком. Однако тем временем ревностный сподвижник Лютера Карлштадт – этот человек в будущем окажет Лютеру еще множество медвежьих услуг – написал собственный ответ Эку, причем Лютеру об этом не сообщил. На ответ Карлштадта последовала новая реплика от Эка, еще более накалившая страсти. Лютер надеялся, что в ответе ему Эк сбавит тон и дальше можно будет продолжать спокойную, уважительную дискуссию; на это же надеялся и Шерль. «Быть может, – писал Лютер, – обе стороны сожалеют об этом споре, начатом самим дьяволом»[126]. По одним этим словам можно судить, как глубоко огорчал Лютера разгорающийся скандал, как надеялся он еще избежать разрыва, сгладить все острые углы и прийти к примирению. Но было уже поздно.
Гейдельбергская диспутация. Aetatis 34
В 1518 году у Лютера было запланировано путешествие в Гейдельберг на съезд августинских общин. Как местный викарий, он должен был там присутствовать. Съезд был назначен на 25 апреля, и, поскольку Лютеру предстояло пройти приблизительно триста миль пешком, отправиться в путь следовало около 9 апреля. Однако спор об индульгенциях уже так разгорелся и вызвал такой ажиотаж, что Лютера предупредили: путешествовать пешком ему не стоит. Его могут схватить по дороге, отправить в Рим, а там быстро осудить как еретика и отправить на костер. Впрочем, герцог Фридрих ясно дал понять – как всегда, через посредство Спалатина, – что этого не допустит. Если Лютер не готов защищать себя сам, это сделает Фридрих. Интересно отметить: там, где Церковь и государство не разделены, – а здесь, как и нигде в мире, они разделены не были и останутся неразделенными еще почти три столетия, – богословское и церковное очень быстро становится политическим. Фридрих противился Риму, а папа не хотел обострять с ним отношения – по вполне светским причинам. Эти колебания папы стали особенно заметны через год, когда скончался император Максимилиан. Дело в том, что папа Лев X очень хотел видеть Фридриха своим союзником в вопросе о том, кто станет преемником Максимилиана – и это чисто политическое соображение резко умерило его пыл в деле Лютера.
Итак, Фридрих выписал охранные грамоты, и 9 апреля Лютер и двое его спутников покинули Виттенберг. Достигнув Юденбаха, Лютер узнал от Пфеффингера, советника курфюрста, который только что вернулся с имперского суда в Инсбруке, что сам император Максимилиан спрашивал о монахе из Виттенберга, чьи тезисы вызвали повсюду такое волнение умов. 18 апреля Лютер достиг Вюрцбурга – и здесь встретил старых эрфуртских друзей, Иоганна Ланга и Бартоломея Узингена. Они предложили подвезти его до Гейдельберга в своей карете.
О том, что происходило 25 апреля, нам известно мало; судя по всему, это было обычное собрание, на котором обсуждались разные организационные вопросы. Так, Штаупица переизбрали генеральным викарием, а место окружного викария вместо Лютера занял Ланг. Истории – и нам – интересен диспут, произошедший днем позже, 26 апреля.
В этот день Лютер представил свою «Теологию креста», в которой излагал и защищал важнейшую для себя идею: человек не может самостоятельно, руководствуясь разумом, достичь Бога. Сжато эта мысль выражена в стихе 1:23 Первого послания Павла к Коринфянам: «Но мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие»[127]. Лютер, возможно, уточнил бы, что под греками здесь следует понимать прежде всего наглого шарлатана Аристотеля. Но основная мысль вот в чем: наш разум имеет пределы. Он позволяет пройти определенный путь – но дальше мы упираемся в глухую стену. В этом месте нужно остановиться и ждать, когда на нас снизойдет откровение Божье. Бог должен спуститься к нам и Сам с нами заговорить. Если Он этого не сделает – для нас нет надежды. Мы одни, мы исчерпали весь запас человеческой логики, человеческих способностей и возможностей; нам остается лишь смотреть вверх и ждать. Разумеется, такой взгляд на вещи представлял собой вызов представителям схоластики, которые там присутствовали; но важнее всего было то, что участники диспута, принадлежавшие к молодому поколению, по-видимому, отлично Лютера поняли. Двое из них, Мартин Буцер и Иоганн Бренц, глубоко очарованные Лютером и его новым богословием, впоследствии стали его ревностными проповедниками и распространителями в разных частях империи.
Лютер видел, что его ровесники и коллеги старшего возраста, привыкшие к схоластическому мышлению, воспринимают его идеи с куда большим трудом. «Мое богословие – для эрфуртцев сущая головная боль», – писал он[128]. Он очень старался привлечь на свою сторону бывших своих наставников, Трутфеттера и Узингена, но в этом потерпел неудачу. Впрочем, врагами они не стали: в дальнейшем при общении с ними Лютер сохранял неизменно умеренный, почтительный и искренний тон. Однако, по-видимому, диалог с ними оказался бесплоден.
Дело Лютера переходит к Приериасу
Шли месяцы – и наконец облако пыли, поднятое в Германии, донесло попутным ветром до Рима. Ох, какой же там поднялся кашель, чихание и махание руками! Да кто он такой – этот немецкий выскочка, и как смеет нести такую возмутительную чушь против папы и Церкви? Разумеется, Лютер не говорил и трети того, что ему приписывали; но, так или иначе, теперь ему предстояло явиться в Рим и дать ответ за свои крамольные речи. Архиепископ Альбрехт отправил тезисы в Рим примерно через два месяца после того, как получил их сам; однако новости в те дни расходились быстрее, чем кажется нам сейчас – и, поскольку тезисы были напечатаны во многих городах и разошлись по всей Европе, нам неведомо ни то, когда первые экземпляры попали в Ватикан, ни то, какими комментариями они сопровождались и насколько преувеличили их «разжигательность» досужие сплетники.
Точно известно другое: в какой-то момент Ватикан поручил разобраться в этом деле доминиканскому монаху по имени Сильвестро Маццолини. Доминиканский орден, как мы уже упоминали, ставил главной своей задачей защиту церковного учения. Маццолини происходил из города Приеро на северо-западе Италии, и потому взял себе имя Приериас. В Ватикане Приериас носил звание «комиссар Священного дворца», и именно ему теперь поручили разобрать тезисы и определить, имеется ли в них ересь – в этом случае Лютеру предстояло явиться в Рим и отвечать перед судом инквизиции. Итак, наконец-то официальному лицу поручили разобраться в этом вопросе! Однако нельзя сказать, что Приериас подошел к делу вдумчиво и ответственно. Отнюдь! Сам он хвалился тем, что настрочил ответ наглому немцу всего за три дня. И что же было в этом ответе? Само заглавие его – «Диалог о бесстыдных нападках Мартина Лютера на власть папы» – как бы намекало: ничего хорошего ждать не стоит.
Ни в какие богословские глубины Приериас в своей торопливой публикации не вникал. Для него все было проще простого:
Итак, мой Мартин, чтобы тщательно рассмотреть твое учение, прежде всего необходимо установить общие положения и основания…
Основание третье:
Кто не принимает учение Церкви Римской и понтифика Римского как нерушимое правило веры, из которого, среди прочего, и Священное Писание черпает свою силу и авторитет – тот еретик.
Основание четвертое:
Церковь Римская может принимать решения касательно веры и нравственности как словом, так и делом. Различие между ними лишь в том, что решение, выраженное в словах, звучит яснее и определеннее. В этом смысле привычка становится силой закона, ибо воля князя выражается в действиях, которым он позволяет совершаться или же приказывает их совершать. Следовательно, как еретиком является тот, кто неверно мыслит об истине Писания, также и еретик – тот, кто неверно мыслит об учениях и деяниях Церкви в вопросах веры и нравственности.
В сочинении Приериаса немало личных нападок, грубых и поверхностных. Например, он пишет: «Как дьявол смердит гордостью во всех делах рук своих, так и ты смердишь своей злонамеренностью», и называет Лютера «прокаженным с железным рылом и латунными мозгами»[129][130]. Заключение этого переперченного опуса звучит вполне однозначно: «Итак, всякий, кто говорит, что Церковь Римская не вправе делать то, что делает в рассуждении индульгенций – еретик»[131]. Вот и делу конец. Теперь Лютеру оставалось только ехать в Рим, на суд инквизиции.
Однако в своем «богословии» – или, вернее, в том, что принимал за богословие – Приериас совершал такие головокружительные прыжки, что сам Лютер, прочтя его сочинение, был поражен и, кажется, даже позабавлен. В своем стремлении все упростить Приериас провозглашал такое, чего Церковь никогда раньше не провозглашала. Сложные, тяжелые вопросы, по которым разные авторитеты противоречили друг другу, о которых спорили или просто старались аккуратно их обходить – Приериас представлял как однозначные, давно установленные факты. Читать это было и смешно, и дико; и, подобно современному интернет-пользователю, репостящему какой-нибудь особенно идиотский твит, Лютер просто организовал перепечатку труда Приериаса, как бы говоря: «Вы только посмотрите, что он несет!»
Впрочем, затем он написал Приериасу ответ – и хвалился, что этот ответ занял у него лишь два дня. Красноречивее всего, пожалуй, было то, что, в отличие от своего оппонента, Лютер начал цитировать Писание. Прежде всего, 1 Фес. 5:12: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Затем Гал. 1:8: «Если же и ангел с неба будет благовествовать вам не то, что я благовествую, да будет анафема». На этом можно было бы и остановиться. Что тут еще сказать? Впрочем, нашлись у Лютера и собственные слова:
Я теперь жалею, что с презрением отзывался о Тетцеле. Хоть он и достоин смеха, а все же будет поумнее тебя. Ты не цитируешь Писание. Не приводишь доводов разума. Искажаешь Писание, словно хитрый бес. Говоришь, по сути, что вся Церковь состоит из одного папы. И что же тогда, по-твоему, считать деяниями Церкви? Взгляни на страшное кровопролитие, устроенное Юлием II. Взгляни на возмутительную тиранию Бонифация VIII, который, по пословице, «захватил престол как волк, правил как лев, а умер как собака»… Ты называешь меня прокаженным, ибо я смешиваю истину с заблуждениями. Что ж, хотя бы признаешь, что истина в моих словах есть. Папу ты превращаешь в императора, правящего силой и насилием. Император Максимилиан и немецкий народ такого не потерпят[132].
Последняя фраза здесь отнюдь не случайна; это острый выпад в сторону Рима, указывающий на щекотливые национальные чувства немцев, которые Рим может неосторожно задеть.
Сочинение Приериаса Лютер получил, по-видимому, 17 августа, вместе с официальным предписанием прибыть в Рим в течение шестидесяти дней. Лютер прекрасно понимал, что доминиканцы с Приериасом во главе объявили ему войну, и в Риме – который он уже назвал «Лернейским[133] болотом, полным гидр и прочих чудищ» – справедливого суда ему не видать; так что немедленно написал Спалатину, надеясь, что тот убедить Фридриха добиться, чтобы суд провели в Германии[134]. Лютер понимал, что дело принимает серьезный оборот: если решение будет принято не в его пользу, его запросто могут осудить как еретика и сжечь на костре.
В письме к Спалатину он писал, что уже отвечает на труд Приериаса (видимо, полученный им накануне), который, по его оценке, «в точности напоминает дикую непролазную чащобу»[135].
От обещания пока не публиковать «Резолюции», содержащие в себе более подробное объяснение тезисов, епископ освободил Лютера еще в апреле; однако после того, как Лютер вернулся из Гейдельберга, ему потребовалось время, чтобы отредактировать этот труд, так что «Резолюции» вышли из печати только ближе к концу августа. Отправляя рукопись епископу, Лютер с подчеркнутым и, видимо, вполне искренним смирением писал: на свое усмотрение епископ может вычеркнуть из книги все, что посчитает неподобающим, или даже вовсе ее уничтожить. Лютер по-прежнему считал себя смиренным монахом, всего лишь стремящимся послужить Богу и помочь Матери-Церкви – и был уверен, что и Церковь не может этого не видеть. Он писал даже: если что-либо написано мною не в духе Христовом, – разумеется, это не должно видеть свет.
Еще один экземпляр «Резолюций» Лютер отправил Штаупицу вместе с длинным письмом, в котором просил его, как главу ордена августинцев, переслать этот документ папе в Рим. Собственно говоря, свою новую книгу Лютер предназначал прежде всего папе, надеясь обратиться к нему через голову своих корыстных, узко мыслящих оппонентов, объяснить свою позицию и доказать свою правоту. Он ясно давал понять: ни в коем случае не намерен он подрывать авторитет папы и Церкви. Напротив, именно из страха перед тем, что их авторитет подорвут злоупотребления, допускаемые продавцами индульгенций, и делает он то, что делает. Сделал Лютер и еще один шаг в эту сторону: посвятил свою книгу самому папе Льву X. В посвящении Лютер писал: он знает, что имя его в глазах папы очернено и запачкано, – однако верит, что Христос просветит и направит папу, поможет ему понять, насколько важен вопрос, о котором идет речь. Далее он объяснял: он никогда не стремился к широкому распространению «Девяноста пяти тезисов» – но, раз уж это произошло и повлекло за собой бурную полемику, он чувствует для себя необходимость высказаться, пусть и «как гусь среди лебедей», чтобы прояснить свою позицию.
Итак, в конце лета 1518 года, через десять месяцев после публикации «Девяноста пяти тезисов», Лютер все еще надеялся на благополучное разрешение конфликта. Теперь он обращался напрямую к Святейшему – тоном глубокого смирения, однако не делая никаких уступок в том, что ему самому было совершенно ясно. Он понимал, что Церкви нужна реформа, и сам, как доктор и служитель Церкви, видел свою обязанность в том, чтобы посильно этому послужить. Примечательна и его вера, и мужество, и – в особенности – глубокое смирение в сочетании с прямодушной и почти самонадеянной отвагой.
28 августа он писал Спалатину:
Ты сам знаешь, мой Спалатин: ничто во всем этом меня не страшит. Даже если своей властью и лестью они преуспеют в том, чтобы сделать меня всем ненавистным, сердце мое и совесть останутся при мне; по-прежнему буду я знать и исповедовать, что все, из-за чего на меня нападают, получил от Бога, которому с радостью и по доброй воле все это предлагаю и вверяю. Если Он это разрушит – пусть разрушится; если сохранит – сохранится. Да будет благословенно и прославлено имя Его вовеки. Аминь[136].
Явление Меланхтона
Неожиданно для себя Лютер оказался в центре разгорающегося спора; однако многочисленные его обязанности в Виттенберге никуда не исчезли. По-прежнему он занимался университетом и старался привлечь на свой факультет лучших преподавателей; и в конце лета 1518 года привлек лучшего из всех – очень молодого еще человека по имени Филипп Шварцердт, которого история запомнила под гуманистическим прозванием Меланхтон. В Виттенберг его привез Спалатин, связывавший с ним самые радужные надежды.
Меланхтон родился 16 февраля 1497 года. С самых ранних лет он отличался большими способностями к языкам и скоро сделался знатоком и увлеченным любителем греческого. Был он внучатым племянником великого ученого-гуманиста Иоганна Рейхлина. Когда Филиппу было одиннадцать лет, случилось так, что отец и дед его умерли один за другим, всего за десять дней – и мальчика отправили в Пфорцхайм к бабке по матери, сестре Рейхлина. Говорят, что Рейхлин скоро начал относиться к мальчику как к сыну. Именно Рейхлин убедил Филиппа сменить немецкую фамилию Шварцердт на ее греческий аналог Меланхтон, по гуманистической моде того времени: почти все тогдашние гуманисты воображали себя гражданами Древней Греции или Рима и потому носили греческие или латинские имена.
Уже в тринадцать лет Филипп поступил в Гейдельбергский университет и опубликовал свою первую поэму, а в четырнадцать – стал наставником двоих сыновей местного графа. В этом же возрасте он получил степень бакалавра, а не позже чем через год попытался стать магистром, чтобы иметь возможность официально преподавать в университете – однако в этом ему было отказано «из-за юности и мальчишеского вида». Меланхтон был сильно этим обижен и уехал в Тюбинген. Там он подпал под влияние известного профессора Иоганна Агриколы, также убежденного гуманиста.
Однако, оказавшись в Тюбингене, Меланхтон скоро заскучал от местных проповедей. Проповеди в самом деле носили сказочный характер: так, один священник рассказывал благочестиво внимающим ему прихожанам, что деревянные подошвы сандалий доминиканских монахов изготовлены из древа познания, росшего в райском саду. На такие случаи Меланхтон брал с собой в церковь латинскую Библию, подаренную ему двоюродным дедом Рейхлином. Много раз, утомленный дурацкими проповедями, в жажде услышать слово Божье, которое с кафедры не доносилось, раскрывал он Библию и делал добрый глоток. Несколько раз, однако, его ловили на этом и сурово упрекали. В самом деле, что этот парень себе возомнил – разве для того мы ходим в церковь, чтобы читать там Библию?
Положение Меланхтона в Тюбингене было далеко от идеала и в других отношениях; поэтому, услышав, что Виттенбергскому университету требуется преподаватель греческого, Рейхлин немедленно и от чистого сердца рекомендовал туда своего юного племянника. Получив от Фридриха и Спалатина официальное приглашение, Рейхлин так сообщал Филиппу эту радостную новость:
Воззри! Явилось письмо от нашего милостивого князя, подписанное его собственной рукой, где он обещает тебе плату и благоволение. Не стану сейчас обращаться к тебе на языке поэзии, а процитирую обетование Бога Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение…» Так говорит мне Дух, и таково, надеюсь, будет твое будущее, дорогой Филипп, труд мой и мое утешение[137].
В конце августа 1518 года, когда Меланхтон прибыл в Виттенберг, ему едва исполнился двадцать один год. Однако уже в таком возрасте он был столь известен и знаменит, что по дороге в Виттенберг, во время остановки в Лейпциге, руководители тамошнего богословского факультета из кожи вон лезли, убеждая его остаться и занять кафедру у них. Даже Эразм Роттердамский был от него в восторге.
Меланхтон был не только очень юн; выглядел он еще моложе своих лет – маленький, щуплый, напоминавший скорее застенчивого пятнадцатилетнего мальчика, чем университетского профессора. Не все были уверены, что он им подойдет – иные предпочитали ему известного лейпцигского гуманиста Петера Мосселануса. По приезде в Виттенберг Меланхтону пришлось услышать в свой адрес фырканье и насмешки; слышал он даже, как несколько шалопаев-студентов сговаривались над ним поиздеваться. Быть может, они заметили, что одно плечо у него ниже другого, или услышали, что он заикается. Так или иначе, приветственная речь Меланхтона в Виттенберге четыре дня спустя развеяла все сомнения и отбила у остряков желание над ним смеяться. Предметом его речи стал упадок науки при схоластике и обещание нового ее возрождения в руках гуманистов. Лютер был очень впечатлен. Он писал Спалатину:
Через четыре дня после своего прибытия произнес он приветственную речь – чрезвычайно ученую и поистине безупречную. Все глубоко оценили эту речь и пришли от нее в восхищение… [так что все мы] быстро обратили взгляды от его внешности и манер на самого человека. Мы поздравляем себя с тем, что этот человек с нами; в его лице обрели мы истинное сокровище… Пока я жив, не желал бы иметь иного преподавателя греческого. Боюсь лишь, как бы телосложение его не оказалось слишком хрупко для суровой жизни в наших краях[138].
На портретах кисти Кранаха Меланхтон выглядит необычайно хрупким, почти бесплотным: кажется, стоит подуть ветру – и он поднимется в воздух и улетит за горизонт. На некоторых поздних портретах на Меланхтоне огромный плащ, размера на четыре больше нужного; вместе с небритостью и рассеянным взором этот плащ придает ему вид бродяги или пьяницы. Рядом с Лютером, который был на четырнадцать лет его старше, Меланхтон, должно быть, выглядел почти комично – как Лео Блум рядом с Максом Бялыстоком. Один – щуплый, застенчивый, оторванный от мира книжник; второй – крепкий, грубоватый, прочно стоящий на ногах любитель шутки и соленого словца. Позже Лютер приобрел хорошо знакомый нам по портретам «бычий» вид, и они с Меланхтоном сделались особенно выразительной и контрастной парой.
На портрете кисти Лукаса Кранаха Старшего Меланхтон изображен в огромном плаще, глубоко погруженным в задумчивость: портрет подчеркивает и его физическую хрупкость, и характерную для ученого оторванность от мира. (Обратите внимание на подпись Кранаха под датой – значок, изображающий крылатого змея.)
Однако пока что Меланхтон всего лишь учил местных студентов греческому – и учил так ярко, с такой страстью, что привлекал к себе сотни учеников. Очень быстро он обрел такую популярность, что в его греческий класс записались четыреста студентов – две трети всех, обучавшихся в университете в это время – и, помимо них, приходили к нему на занятия и многие другие. Лютер так писал об этом Спалатину: «Его классная комната всегда битком набита студентами. Благодаря ему все наши богословы – и лучшие в учебе, и средние, и даже слабые – ревностно взялись за греческий язык»[139].
Глава седьмая Аугсбургский рейхстаг
Итак, мне предстоит умереть. Каким позором станет это для моих родителей!
Мартин ЛютерЛютер понимал: в Риме его ждет неминуемая смерть. Вот почему он просил Спалатина поговорить с Фридрихом и постараться убедить его настоять на том, чтобы суд над Лютером проходил в Германии. И снова мы видим, что папство в те времена было почти исключительно политической организацией. В наше время папа – фигура религиозная, лишь номинальный правитель крохотного государства Ватикан; но в то время он был прежде всего земным князем (и князем из рода флорентийских Медичи), так что жизнь его, как и жизнь его приближенных, была сосредоточена на манипуляциях мирской властью. Рядом с тем утонченным злом, что воплощали в себе папы из рода Медичи, сам Макиавелли порой кажется наивным первоклашкой.
Фридрих уже был недоволен тем, как и на что Рим тратит немецкие деньги. Торговля индульгенциями в его глазах была лишь еще одним способом выкачивания денег из Германии. Острые нападки Лютера на индульгенции так взволновали Рим отчасти и потому, что соответствовали уже существующему умонастроению множества немцев. Разумеется, был у Рима и другой способ получать деньги от Фридриха и от Германии в целом – в виде налогов. Например, на имперском рейхстаге, назначенном в Аугсбурге той осенью, главным вопросом должен был стать так называемый «турецкий налог», якобы помогающий отражать натиск мусульманской армии, уже несколько десятков лет неуклонно движущейся на Запад. Император Максимилиан надеялся, что его курфюрсты одобрят налог; однако главным его лоббистом выступал папа, для поддержки своего дела решивший послать на рейхстаг своего представителя, достопочтенного кардинала Каэтана.
Еще одним ингредиентом этого малоприятного варева стали выборы нового императора. Максимилиану еще не исполнилось шестидесяти, однако здоровье его было худо: он никак не мог оправиться после неудачного падения с лошади. Кроме того, он, судя по всему, давно уже был поглощен мыслями о смерти и считал себя «не жильцом»: видно это из того, что уже четыре года, куда бы ни отправился, он возил с собою гроб. Максимилиан хотел гарантировать, что после смерти его трон унаследует внук, Карл I Испанский. Сын его Филипп Красивый, отец Карла, умер в 1506 году. Любой ценой Максимилиан стремился избежать того, чтобы следующим императором стал Франциск I Французский – и заручился помощью сказочно богатого семейства Фуггеров, чтобы подкупить семерых курфюрстов в свою пользу. Заметное место в списке возможных кандидатур на императорский престол занимал и Фридрих Мудрый. Однако папа Лев X, по своим соображениям, не хотел видеть императором Карла I – и также надеялся видеть Фридриха на своей стороне.
В середине августа 1518 года Фридрих согласился на то, чтобы Лютер остался в Германии. Он приказал Спалатину написать императорскому советнику Реннеру с тем, чтобы император одобрил эту идею и отменил приказ, призывающий Лютера ехать за восемьсот миль в Рим. Император не знал, на что решиться: до него уже дошли дурные слухи о Лютере, он слыхал, что этот возмутитель спокойствия распространяет какую-то ужасную ересь – и, конечно, хотел его остановить. Но что из этого выйдет? Важны были для него и национальная, и территориальная сторона дела. Итальянцы мечтали распоряжаться империей, как своей вотчиной – и их необходимо было держать в узде и время от времени показывать, что они здесь не хозяева. Так что в конце концов Максимилиан согласился: пусть Лютера судят не в Риме, а в Германии. На таких вот решениях – обусловленных не совестью, не убеждениями, не суждением о том, что хорошо и что дурно, а лишь политическими соображениями – и покоилось будущее Реформации, будущее Европы, а в перспективе и всего мира.
Рейхстаг в Аугсбурге должен был начаться в конце сентября. Предполагалось, что папский представитель кардинал Каэтан будет там присутствовать и озвучит позицию Ватикана по ряду вопросов. Так почему бы ему не задержаться чуть дольше и не принять участие в процессе между Святой Церковью и монахом по имени Лютер, который должен пройти примерно в то же время? Лютер должен был появиться в Аугсбурге в начале октября. После того как будут решены все дела, папский легат сможет с ним встретиться и поступить так, как хочет Рим.
Сам император Максимилиан своих чувств насчет Лютера не скрывал: он громко поклялся «положить конец гибельным нападкам Мартина Лютера на индульгенции, дабы не соблазнял он не только простой народ, но и своего князя»[140]. Ему важно было верно сыграть свою партию: показать себя добрым христианином, всецело на стороне Церкви, однако не позволить Церкви себя «продавить» и утвердить свою власть в политическом отношении. Поэтому он потребовал, чтобы суд состоялся в Аугсбурге, – под его юрисдикцией и под присмотром его людей. Однако защищать Лютера и его мятеж у Максимилиана и в мыслях не было.
Появление в Аугсбурге, 1518. Aetatis 34
Лютер от души радовался, что не едет в Рим; однако в Аугсбурге ему грозила столь же серьезная опасность. Встреча в Аугсбурге была не менее важной, чем в Риме: здесь Лютеру предстояло наконец предстать лицом к лицу перед представителем самого Его Святейшества, кардиналом, обладавшим всей полнотой папской власти – и способным что угодно сделать с дерзким монахом, бросившим вызов Церкви. Было вполне возможно, что через несколько дней Лютера ждет смертный приговор. Вера его была сильна, но не спасала от неотступной тревоги. Позднее он вспоминал, что, идя в Аугсбург, представлял себе собственную казнь. «Итак, мне предстоит умереть, – думал он. – Каким позором станет это для моих родителей!»[141]
Кардинал Каэтан, представлявший папу на рейхстаге, был ярким и знаменитым богословом своего времени. Урожденный Джакопо де Вио из города Гаэта близ Неаполя – он, как часто случалось с людьми в те времена, имел много имен. Приняв в пятнадцать лет монашеские обеты, Джакопо взял себе имя Томмазо и с той поры стал именоваться Томмазо де Вио. Однако, поскольку в то время людей часто называли по месту их рождения, он стал Гаэтанусом – или Каэтаном. В наше время его чаще всего называют «Фома Каэтан» или «кардинал Каэтан». Для нашей истории особенно интересно, что на Пятом Латеранском Соборе (1512–1517) Каэтан играл ведущую роль – и именно он предложил решение, утверждающее, что авторитет папы стоит выше власти церковных соборов. После этого папа Лев X сделал его кардиналом – и еще много лет Каэтан оставался в Церкви важной и влиятельной фигурой.
Для наших целей важно отметить, что на рейхстаге в Аугсбурге Каэтан так и не убедил немецкие княжества согласиться выплатить «турецкий налог». Ватикан отчаянно нуждался в помощи против превосходящей военной силы ислама – и еще больше нуждался в деньгах. Однако с самого начала рейхстага немецкие князья ясно выражали недовольство бесконечными финансовыми запросами Церкви. На этом примере мы снова видим, какое влияние на церковные дела оказывали вопросы национальные и политические. Один за другим немецкие правители заявляли на рейхстаге, что платить «турецкий налог» не станут. Хватит с них этих крестовых походов, говорили они, хватит войн с неверными! Довольно уже Церковь пользовалась их щедростью! Если нужно, они изложат все свои претензии к Ватикану в письменном виде. Дошло даже до обвинений Церкви в коррупции: «Случается на церковных судах, – заявляли они, – что Римская Церковь улыбается обеим сторонам, ожидая от них мзды». Глубоко возмущало их, что «немецкие деньги, в противность всем законам природы, перелетают через Альпы». Жаловались они и на низкую квалификацию священников, присылаемых в Германию: «Многие из них – лишь по названию пастыри». Жалобы и претензии множились и множились – и Каэтану пришлось смиренно все это выслушать. Завершилось все простым требованием: «Пусть папа положит этим злоупотреблениям конец»[142].
Однако единственными «злоупотреблениями», которым папа и Каэтан хотели положить конец, были здесь ереси, распространяемые «сыном погибели» из Виттенберга по имени Мартин Лютер. Поэтому Лев написал письмо Фридриху – одному из семи курфюрстов, и, следовательно, одному из влиятельнейших участников рейхстага. С помощью своего папского авторитета Лев надеялся убедить Фридриха – а с ним и весь рейхстаг – занять его сторону:
Возлюбленный сын, да пребудет над тобою апостольское благословение! Памятно нам, что главным украшением твоей благороднейшей семьи всегда была преданность вере в Бога и чести и достоинству Святого Престола. Ныне мы слышим, что некий сын нечестия, брат Мартин Лютер из числа отшельников-августинцев, воздвигающий клеветы на Церковь Божью, пользуется твоей поддержкой. Хоть мы и знаем, что это ложь, но хотим предупредить тебя об этом, дабы ты очистил репутацию своей благородной семьи от такой клеветы. Получив от магистра Священного дворца извещение о том, что учение Лютера содержит в себе ересь, мы призвали его предстать перед кардиналом Каэтаном. Просим тебя проследить за тем, чтобы Лютер был передан в руки и под юрисдикцию Святого Престола, дабы будущие поколения не упрекнули тебя в том, что ты пестовал в своих владениях погибельнейшую ересь против Церкви Божьей[143].
Как мы уже знаем, основная задача, ради которой Каэтан прибыл в Аугсбург, осталась невыполненной. Рейхстаг официально завершился; теперь предстояло разобраться с Лютером, этим «плевелом в винограднике Господнем». Фридриху удалось организовать Лютеру неофициальную встречу с Каэтаном; однако он опасался – и справедливо – что император и Каэтан, сговорившись между собой, схватят Лютера, закуют в цепи и отправят в Рим. Поэтому он не соглашался на приезд Лютера в Аугсбург, пока император не пообещал выдать ему «охранную грамоту». Однако, едва окончился рейхстаг, император отправился на охоту. Пришлось гоняться за ним по лесам и настаивать на исполнении обещания. Каэтану тоже пришлось дать обещание не вредить Лютеру, хоть такая просьба и показалась ему оскорбительной. Но в конце концов оба дали слово. Неофициальная встреча с Лютером должна была состояться у Каэтана на квартире, в роскошном аугсбургском доме сказочно богатых Фуггеров.
25 сентября Лютер покинул Виттенберг и шел пешком двенадцать дней; однако 7 октября, всего в трех милях от Аугсбурга, его поразили столь сильные боли в желудке, что он не мог идти дальше. Надо сказать, что различные недуги, поражавшие Лютера в течение жизни, были явно связаны со стрессами: вполне возможно, что и сейчас болезнь охватила его лишь тогда, когда впереди показался город, где Лютера, возможно, ждала смерть. По счастью, как раз в это время мимо проезжал в карете друг Лютера Венцеслас Линк. Лютер хорошо знал Линка по Виттенбергу – оба они преподавали на богословском факультете; и теперь Линк, конечно, предложил подвезти больного друга до города. Прибыв в Аугсбург, Лютер почувствовал себя немного лучше. Августинского монастыря в городе в то время не было, так что его устроили в кармелитской обители. Аббат ее, Иоганн Фрош, в свое время учился в Виттенберге и с Лютером был знаком.
Спалатин подготовил Лютеру торжественную встречу; его приветствовали и желали с ним познакомиться немало церковных светил, заинтересовавшихся этим отважным монахом, который осмелился острой палкой разворошить римский муравейник. Как требовал протокол, Лютер немедленно сообщил о своем прибытии в Аугсбург кардиналу Каэтану – однако кардинал пока не готов был его принять. Для начала Лютера попросили встретиться с Урбаном де Серралонгой, послом маркграфа Монферратского и доверенным лицом Каэтана. Возможно, полагал Каэтан, Серралонге удастся смягчить Лютера и подготовить его к встрече с кардиналом. Серралонга обошелся с Лютером очень ласково, постарался создать впечатление, что желает ему только добра и искренне хочет, чтобы они с кардиналом обо всем договорились – однако Лютер ощутил в его поведении «итальянский» душок неискренности и интриганства. Сын Ганса Людера был, возможно, немного неотесан – но отнюдь не простоват, и вкрадчивому ватиканскому дипломату едва ли удалось бы легко обвести его вокруг пальца.
Однако Серралонга сделал все что мог. Прежде всего он дал понять: никаких иных вариантов, кроме отречения и покаяния, для Лютера не предполагается. Все очень просто, и никаких отступлений от простого и ясного курса не будет. Ни о какой «полемике» с кардиналом Лютеру и думать нечего. В конце концов, это просто неприлично! Однако Лютеру – истинному немцу, прямому и откровенному – претила слащавая приторность Серралонги и его «разумные» советы. Он ответил напрямик: «отрекаться» не станет, пока ему не покажут, в чем он заблуждается – если он и впрямь заблуждается. Разумеется, римская курия считает именно так, иначе не пошла бы на столь решительные меры. Итак, продолжал Лютер, пусть ему покажут, где и в чем погрешает он в своих мыслях, – ведь, разумеется, у курии есть на это точный и определенный ответ. Только после этого можно будет перейти к «отречению» и «покаянию». Но, пока этого не произошло, каяться ему просто не в чем. Как мы увидим далее, этот рефрен будет звучать снова и снова в ходе нашей оперы.
Такого жесткого сопротивления Серралонга определенно не ожидал. Неужто все немцы такие? Он продолжал играть роль сдержанного и доброжелательного посредника, однако в обращении его с Лютером начало проступать напряжение. Теперь он заговорил яснее: единственное, что во всем этом деле имеет значение – вопрос о власти папы. Если папа объявил, что индульгенции соответствуют христианскому учению – значит, они по определению ему соответствуют. Значит, Лютер должен просто покаяться в том, что не признавал безусловного и нерушимого авторитета папы. Разумеется, это ересь, это любому дураку ясно! А Лютер – определенно не дурак. Теперь Серралонга умело ввернул и то, что, если Лютер не принесет полного покаяния, курфюрст Фридрих откажет ему в защите; это была неправда – и Лютер, скорее всего, это понимал. Но Серралонга на этом настаивал. «И где вы тогда окажетесь?» – спрашивал он. Но Лютер не замедлил с ответом, исполненным типичного саксонского остроумия. «Под небесами», – спокойно ответил он. Этот ответ положил конец притворному дружелюбию Серралонги. Потеряв терпение, ватиканский дипломат сделал презрительный жест и вышел вон.
Итак, смягчить Лютера Серралонге не удалось – напротив, он лишь укрепил его стальную решимость. Теперь Лютер был еще более прежнего готов высказать кардиналу все что думает – и плевать на последствия! На случай, если кардинал пригрозит ему папской властью, у монаха была церковно-юридическая карта в рукаве: он потребует созвать церковный собор. От такого у них волосы дыбом встанут! Знал ли Лютер, что именно Каэтан протолкнул решение, ставящее авторитет папы превыше авторитета соборов, нам неизвестно, и это другая история. Но о том, что папа и Рим в самом деле считают папскую власть выше и святее соборной, ему было известно – и он, несомненно, понимал, насколько провокационно и опасно прозвучит это требование. Когда требовалось, Лютер умел швырять бомбы – и эта бомба, брошенная его рукой, должна была разнести престол Льва X на клочки.
Итак, 12 октября Лютер, в сопровождении Венцесласа Линка и троих монахов из кармелитского монастыря, отправился в роскошный дворец Фуггеров. Обычно он о своей внешности не заботился, но в этот раз, чтобы выглядеть презентабельно, одолжил у Линка его более элегантную сутану.
Серралонга дал Лютеру тщательные наставления о том, как следует вести себя перед кардиналом: сперва простереться перед ним ниц, затем встать на колени. Так Лютер и поступил. Кардинал милостиво пригласил его встать и изложить свое дело, добавив к этому: он, мол, надеется, что разговор выйдет недолгий и простой. Надежды его, конечно, не сбылись. Каэтан был четырнадцатью годами старше Лютера и беседовал с ним тоном ласкового отца. Несколько раз назвал Лютера «дорогим сыном» – того, скорее всего, это только пуще злило. После того как Лютер встал, кардинал заговорил, без сомнения, все тем же покровительственно-снисходительным отеческим тоном. «Своими тезисами об индульгенциях ты потряс Германию, – сказал он. – Если хочешь быть послушным сыном и порадовать папу, отрекись от них и покайся. Ничего дурного с тобой не случится: я ведь знаю, что ты – доктор богословия и имеешь множество учеников»[144].
Несмотря на отеческий тон, угроза пыток и смерти нависла над Лютером вполне ощутимо, и Каэтан это понимал. У него не было причин считать, что проблему не удастся разрешить быстро и легко. Однако – вот еще одна загвоздка в этой истории – Лютер каяться определенно не собирался и уже сообщил об этом Серралонге; но как Серралонга призывал Лютера не вступать с Каэтаном в диалог, так же и сам кардинал получил инструкцию ни в коем случае с Лютером в диалог не вступать. Даже если бы он вдруг захотел затеять с Лютером содержательный разговор, – не смог бы, ибо не имел таких полномочий. Ему было дано ясное и определенное поручение: привести непокорного монаха к повиновению. Только это, ничего более. Так что ни у Лютера, ни у Каэтана не было пространства для маневра. Одно слово – revoco, то есть, по-латыни, «отрекаюсь» – вот и все, что требовалось. Либо Лютер произнесет это слово – либо отправится в Рим, скорее всего, на костер; и еще хуже того, в огонь вечный, уготованный диаволу и аггелам его.
Однако отрекаться у Лютера и в мыслях не было. Вместо этого он сразу пошел не по сценарию – сделал то, о чем и предупреждал Серралонгу: попросил, чтобы Каэтан указал ему его ошибки. Как можно отречься, когда он не понимает, от чего именно следует отрекаться? Пусть ему объяснят, в чем он неправ. По-видимому, это еще не противоречило инструкциям, полученным Каэтаном: он быстро назвал два пункта, надеясь, что этого будет достаточно. Во-первых, Лютер отрицает, что «сокровищница Церкви» содержит в себе «заслуги Христа и святых». И во-вторых, говорит, что вера дарует уверенность в прощении даже прежде официального отпущения грехов священником в церкви. И то, и другое явно противоречит церковному учению. Вот они, две принципиальные ошибки – ну что, как теперь насчет отречения и покаяния?
Эти слова кардинала Лютера совершенно не тронули. Речь шла о вещах куда более глубоких, и сам кардинал, несомненно, это понимал. Первая проблема – отрицание Лютером того, что «сокровищница Церкви» содержит в себе «заслуги Христа и святых» – была связана с идеей, что труды Христа и святых якобы не только позволили им заработать спасение для себя, но и значительно превзошли необходимую для спасения меру, так что все «лишние» заслуги, созданные бесчисленными добрыми делами, отправились на хранение в церковную «сокровищницу». Следовательно, Церковь – которой, по Мф. 16:9, даны ключи от сокровищницы – может в любой момент открыть это хранилище и выдать любую «сумму» добродетелей тому, кому сочтет нужным. Согласно Церкви, право это принадлежит только ей. Следовательно, когда кто-либо платит за индульгенцию, Церковь властью, данной ей Христом, продает ему за эту плату кусочек «небесных сокровищ». Церковь получает деньги за то, чтобы прощать грехи и отменять нравственные обязательства.
Лютер согласился: да, именно это он отрицает – а затем попросил кардинала показать ему, где в Библии содержится эта идея. Лютер имел в виду не ту идею, что Церковь владеет ключами от Царства Небесного, но более конкретную – что Церкви позволено делать то, что делает она с индульгенциями. В каком писании, спрашивал он, сказано, что заслуги Христа хранятся в сокровищнице Церкви и Церковь вправе ими распоряжаться? Здесь Каэтан не стал обращаться к Библии. Вместо этого он вспомнил папскую буллу, принятую в 1343 году папой Климентом VI, в надежде, что этот авторитетный документ приведет Лютера к быстрому покаянию. Каэтан, разумеется, не ожидал, что ему придется дискутировать о содержании этого старинного документа. Вот булла, канонический закон: в нем сказано то, что сказано – чего еще желать? Теперь, когда Лютер получил ответ на все свои вопросы – может быть, перейдем наконец к тому, чего все так терпеливо ждут: к покаянию? Кардинал твердо решил, что не позволит втягивать себя в спор, и напирал на Лютера всем весом своего авторитета, подталкивая его к простому ответу. «Веришь ты в это или нет?» – спрашивал он снова и снова, все громче и громче.
Но для Лютера все было совсем не просто. С твердостью гранита стоял он на своем – на необходимости полностью прояснить все эти вопросы. Он не позволит себя запутать, он ни на что не станет закрывать глаза – ведь на кону стоят человеческие души, в том числе и его собственная. Он – доктор богословия: это важное положение и огромная ответственность. Он отвечает за души верующих. Так что кардинал так и не услышал от него простого «да» или «отрекаюсь», на которое так надеялся. Бессмысленный спор продолжался, напряжение возрастало; в какой-то миг Лютер попросил передышку, и продолжение встречи было отложено на следующий день.
В тот же вечер приехал из Нюрнберга Штаупиц: явился Лютеру на помощь – и, похоже, прибыл как раз вовремя. Вечером Штаупиц, Лютер и имперские советники Фридриха устроили совещание, чтобы решить, что делать дальше. Наконец решили, что Лютер должен защитить свои взгляды письменно. Это придаст ситуации ясность: в руках у него будет документ, на который можно ссылаться, который можно обсуждать.
Итак, на следующий день Лютер и его товарищи вернулись в дом Фуггеров к Каэтану и обратились к кардиналу с просьбой позволить Лютеру представить письменный ответ. Вчера были подняты два жизненно важных вопроса, сказали они, и лучше обсуждать их на бумаге – так будет яснее. Но Каэтан был решительно против. То, что переговоры с Лютером затянулись до следующего дня, уже сильно его разозлило. Полученные им инструкции были просты: получить от Лютера письменное отречение, отвезти его в Рим – и конец истории. Мысль провести еще день в пререканиях с этим бесстыжим монахом – и неизбежно впутаться с дискуссию с ним по существу, в которой Каэтан не чувствовал себя уверенно – едва ли его привлекала. Но в конечном счете выбора у Каэтана не было. Отрекаться Лютер не желал. А Каэтану нужно было уладить дело – и, без сомнения, внутренне содрогаясь и проклиная все на свете, он неохотно согласился принять письменное объяснение.
На третий день, 14 октября, Лютер вернулся на квартиру к Каэтану вместе со своей «свитой»: теперь в нее вошел и Филипп фон Фейлитцш, один из советников Фридриха, приехавший в Аугсбург специально на выручку Лютеру. Лютер представил Каэтану текст в свою защиту, а Фейлитцш самым серьезным тоном, «от имени государя», напомнил кардиналу, что, еще обсуждая возможность суда над Лютером в Риме, император Максимилиан потребовал для него «справедливого и милосердного суда». Однако здесь терпение кардинала лопнуло: он взорвался. Спокойствие, мягкость, «отеческий» тон – все исчезло без следа; настало время крика и скандала. Дальнейшее Лютер в письме к Спалатину описывал так:
В конце концов легат гневно швырнул мою бумагу мне в лицо и снова завопил, требуя от меня отречения. Он считал, что я обескуражен и разбит той пространной речью, что извлек он из историй святого Фомы[145]. Добрый десяток раз пытался я что-то сказать – но каждый раз он рявкал на меня в ответ и вновь овладевал беседой. Наконец я тоже начал кричать, говоря: «Если мне покажут, что [папская булла «Unigenitus dei filius»] учит, что Христовы заслуги составляют сокровищницу индульгенций, тогда я отрекусь, как вы желаете». О Боже, какой тут начался хохот и махание руками!
Кардинал и его приближенные, как видно, сочли Лютера просто упрямым дурнем, не имеющим представления о том, с кем он взялся бодаться. Папский указ 1343 года, который Каэтан привел в свою защиту накануне, звучал достаточно невнятно и не всегда включался в церковные каноны; по-видимому, Каэтан и его команда надеялись, что Лютер с ним незнаком и проглотит этот аргумент не жуя. В папской булле написано!.. – о чем тут еще спорить? На том и делу конец. Но все предыдущие пятнадцать лет в университете, а затем в монастыре Мартин Лютер не семечки лущил. Буллу эту он прекрасно знал – и немедленно опроверг слова кардинала, заявив, что в булле нет того, что кардинал ей приписывает. Послушаем рассказ самого Лютера дальше:
Здесь я прервал его: «Взгляните, достопочтеннейший отче, и рассудите сами внимательно, что значит это слово: “Он приобрел”. Если Христос своими заслугами приобрел сокровищницу, значит, заслуги и сокровищница – разные вещи; сокровищница есть то, что приобретается заслугами, то есть ключи Церкви; а значит, мой тезис верен».
Лютер в совершенстве знал латынь, на которой была написана папская булла, так что запутать его не удалось. Смысл буллы был совсем не тот, какой приписывал ей кардинал. Лютер продолжает – и в рассказе его слышится нескрываемая гордость:
Здесь [Каэтан] вдруг смутился – и, поскольку ему не хотелось выглядеть смущенным, постарался поскорее спрыгнуть с этой темы и перейти на другой предмет. Я, однако, в волнении его прервал (уверен, что не слишком почтительно): «Достопочтеннейший отче, зря вы думаете, что мы, немцы, ничего не смыслим в грамматике! Между “быть сокровищницей” и “приобрести сокровищницу” разница несомненна и велика!»
Итак, Лютер одержал над Каэтаном верх – и, более того, не удержался при этом от националистической шпильки. Впрочем, еще интереснее было ему показать, что и сама папская булла не согласуется с Писанием. Однако, при всем возбуждении от этого спора и радости победы – сбывались самые мрачные страхи Лютера. Он ясно видел: на Священное Писание кардиналу плевать, тот на полном серьезе думает, что церковные решения и указы его превосходят. Это богословское безумие отвращало и пугало Лютера. Сбывались худшие его прогнозы – то, чего он страшился в глубине души, то, что, как надеялся, все-таки окажется неправдой: величайшие умы Церкви оторвались от незыблемой скалы Писания и сами этого не сознают – или даже хуже того, сознают, но остаются к этому равнодушны. Поток несет их в пропасть, но они плывут с безмятежной улыбкой, не замечая близкой и неотвратимой катастрофы. Лютер искренне надеялся, что сумеет каким-то образом пробудить их от сна, заставить увидеть опасность и пристать к берегу, пока еще не слишком поздно.
Вторая «проблема», названная Каэтаном в связи с тезисами Лютера, состояла в мысли, что вера сама по себе ведет к прощению грехов. Церковное учение ясно подразумевало: грехи прощаются благодаря не вере самого верующего, а тем действиям, что совершает священник вслед за исповедью. В миг, когда священник дарует отпущение грехов, человек, молящий о прощении, оказывается прощен. Власть Бога, позволяющая прощать грехи, дарована Церкви, и вне Церкви прощения грехов не существует. Церковь и священник – посредники между Богом и человеком, ничто не может произойти помимо них и без их воли. В конце концов, именно Церкви даны ключи. Однако Лютер утверждал: это невозможно. Даже если отпущение грехов дарует священник – верующий при этом должен искренне веровать, иначе отпущение ничего не будет стоить и станет бессмысленным. Выходит, вера верующего значит больше, чем действия священника. Лютер подкрепил свою позицию несколькими ссылками на Писание, самой значительной из которых стал его любимый, очень значимый для него стих, Рим. 1:17: «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: “Праведный верою жив будет”»[146]. Здесь ни прямо, ни косвенно не говорится о том, что в этом процессе должна принимать какое-то участие Церковь; нет никаких упоминаний об этом и в других местах Писания. Напротив, Лютер полагал, что священник лишь «ратифицирует» то, что уже произошло благодаря вере между верующим и Богом.
Переговоры продолжались, но не двигались с места – и Каэтан все более впадал в ярость. У него разве что пар из ушей не шел. Наконец, не в силах больше сдерживаться, он взорвался и потребовал, чтобы наглый немецкий монах убирался вон, добавив: «И пока не захочешь отречься и покаяться – не возвращайся!»[147]
С тем Лютер и ушел, вместе со Штаупицем и остальными, а затем они со Штаупицем пообедали вместе. Каэтан тем временем негодовал, не в силах понять, что же ему теперь делать. Как получить от этого монаха то, что ему нужно? Платить «турецкий налог» немецкие княжества отказались; раз так, нужна хотя бы победа масштабом поменьше – хоть какой-то результат, с которым не стыдно будет показаться в Риме! Но как этого добиться? После обеда Каэтан вызвал к себе Линка и Штаупица. Они – не то, что этот наглый выскочка Лютер, с ними-то, наверное, легче будет договориться! Присутствовал на встрече и Серралонга; и вдвоем с Каэтаном они несколько часов потратили на то, чтобы убедить Линка и Штаупица убедить Лютера покаяться. Все вместе сочинили даже черновик возможного отречения – Лютеру оставалось только его подписать. Каэтан сосредоточился на вопросе о ключах, то есть о папской власти: все остальное, сказал он, куда меньше его волнует. Однако Штаупиц и Линк не доверяли Каэтану, так что в конечном счете и эти переговоры окончились ничем.
Тем временем прошел слух, что в дело хотят вмешаться руководители ордена августинцев. В конце концов, они подчинялись власти Рима – и не могли допустить, чтобы какой-то волк-одиночка порочил имя их ордена перед всем христианским миром. Некоторые рассказывали даже, что руководители августинцев уже едут из Рима в Аугсбург, чтобы задержать и заточить Линка, Штаупица – и, очевидно, самого Лютера. В этот момент Штаупиц сделал нечто экстраординарное: вызвав к себе Лютера, освободил его от обета повиноваться ему. Теперь они могли действовать независимо друг от друга. Ослушавшись Штаупица, Лютер больше не был бы перед ним виноват – а Штаупиц более не отвечал за действия Лютера. Решение было блестящее и поистине драматическое. Сделав это, Штаупиц, а с ним и Линк покинули Аугсбург с почти комической поспешностью. Это, пожалуй, было странно: ведь Лютер теперь остался один, не зная, чего ждать дальше. Шли дни; Лютера никуда больше не вызывали; он отдыхал в кармелитском монастыре и ждал развития событий.
Наконец Лютер решил поступить так, как советовали ему Штаупиц и саксонцы: подать формальную апелляцию напрямую папе. Так он и сделал. В апелляции он ясно дал понять, что приехал в Аугсбург, надеясь на справедливое слушание, где ему дадут подробно объяснить свою позицию, выслушают и рассудят по совести – но этого не произошло. Поэтому в своем обращении к папе он просил нового слушания, окончательное решение по которому папа вынесет сам. Лютер считал: что бы ни произошло дальше, эта апелляция, по крайней мере, дает ему пространство для маневра. Однако друзья его, оставшиеся в Аугсбурге, понимали: в любой момент его могут арестовать и отправить в Рим – так что из города надо бежать, и чем скорее, тем лучше. Лютер с этим согласился. Но, чтобы не создавать впечатления, что бежит от правосудия, как преступник, отправил Каэтану очень смиренное письмо, в котором сообщал о своем отъезде. Причину отъезда он объяснял так: Церковь не вынесла ему осуждения, которое требовало бы отречения и покаяния, так что о покаянии с его стороны речь пока не идет. И добавлял соображение более практическое: у него закончились деньги, и сейчас он живет в Аугсбурге за счет братьев-кармелитов, которые и сами стеснены в средствах. Сообщал он кардиналу и важную новость о том, что подал апелляцию в Рим. Высказав все это, он стал ждать от Каэтана ответа. Прошло два дня – ответа не было. Напряжение становилось нестерпимым. Быть может, кардинал молчит, потому что уже планирует похитить Лютера и тайно отправить в Рим? Этого Лютер не знал – и выяснять на практике не собирался. Он решил бежать.
Был вечер 20 октября. Городские ворота были уже закрыты и заперты на засовы – быть может, именно чтобы предотвратить то, что сейчас намеревался сделать Лютер. По-видимому, его в самом деле собирались арестовать. Однако Лютер не дал им такой возможности. Как именно он перебрался через стены Аугсбурга, мы точно не знаем. По всей видимости, то ли как-то проскользнул в калитку в северной стене города, то ли даже перебрался через стену – а по ту сторону стены уже ждала его оседланная лошадь. Во всяком случае, как-то он выбрался из города – и в сопровождении охранника, специально ради этого нанятого, что было сил поскакал в ночи. Лошадь, по-видимому, одолженная ему кем-то из друзей-саксонцев, оказалась резвой и непослушной, а Лютер не слишком уверенно держался в седле, так что эта ночная поездка стала для него тяжелым испытанием. Должно быть, еще несколько дней после этого ему было нелегко ходить! За ночь они проскакали тряской рысью сорок миль. Спешившись, Лютер не мог стоять на ногах. На следующий день преодолели еще сорок пять миль. Наконец Лютер достиг Грефенталя, на полпути к Виттенбергу: здесь встретил он графа Альбрехта Мансфельдского, который громко расхохотался, увидав, как обессиленный монах сползает с седла. 31 октября Лютер наконец вернулся в Виттенберг: теперь он был в безопасности. Но что дальше?
Если Лютер полагал, что его письмо Каэтану, отправленное перед отъездом, смягчит ситуацию, то ошибался. 24 октября Каэтан написал письмо Фридриху, в котором требовал отправить Лютера в Рим. С точки зрения Каэтана, ничего другого не оставалось. Что вообразил о себе этот монах – с чего он взял, что может водить вокруг пальца кардинала? Лютер не покаялся, не взял назад свои еретические утверждения – значит, должен отправиться на суд в Ватикан. Ему дали шанс – он им не воспользовался. В беседах с Каэтаном Лютер ссылался, в том числе, на то, что Церковь никогда еще не обсуждала и не решала напрямую вопрос об индульгенциях – и он, как доктор богословия, видит свой долг в том, чтобы поставить перед Церковью нелегкие вопросы об этом предмете, вынудить ее увидеть здесь богословские провалы и позаботиться о том, чтобы их закрыть, пока они не привели к дальнейшим печальным последствиям. Лютер надеялся, что, требуя, чтобы ему объяснили, в чем его ошибка, наконец побудит Церковь к правильному решению – к обсуждению этой темы по существу; Церковь увидит ясно, что допускает существование богословски порочной практики, практики, уводящей верующих прочь от истины – будет благодарна Лютеру за то, что он указал на ошибку, и, разумеется, ее исправит. Однако – по причинам, которые истории понять не дано – Каэтан и Церковь воспринимали эту ситуацию совершенно иначе. Они уперлись; и это привело к Реформации, которой, действуя более гибко и разумно, они вполне могли бы избежать.
Яркий пример такого бессмысленного упорства продемонстрировал Каэтан дальше. Лютер говорил, что Церковь никогда не обсуждала вопроса об индульгенциях и не принимала по нему определенного решения; в доказательство своих слов он указывал на то, что никаких папских булл или указов об этом предмете не существует. Составление такого документа, разумеется, заставило бы Церковь прежде всего задуматься о богословских основаниях индульгенций – и, задумавшись об этом, она немедленно увидела бы проблемы, на которые указывал Лютер. Именно в этом и состояло принципиальное требование его «Девяноста пяти тезисов»: провести на эту тему дебаты и обсудить богословскую сторону дела. И далее: пока такого документа не существовало, как могла Церковь обвинять Лютера в ереси? Какому документу, вышедшему из папской канцелярии, противоречило то, что говорил Лютер?
Поэтому Каэтан, страстно желая как можно скорее заткнуть рот этому немецкому еретику, пришел к решению неожиданному и, пожалуй, чересчур смелому: составить такой документ самому. Он торопливо набросал черновик и 9 ноября отослал его в Рим. Однако документ Каэтана ни в малой мере не касался ни искренних вопросов и возражений Лютера, ни поднятых им сложных проблем. Вместо этого он высокомерно – и, с богословской точки зрения, бессмысленно – призывал себе на помощь папский авторитет. В сущности, говорилось там всего-навсего: «Молчи и делай, что тебе говорят! Хватит вопросов. Никаких ответов и разъяснений ты от нас все равно не услышишь. Великий и могучий папа сказал, аминь».
Разумеется, этим Лютера было не одурачить. В этих попытках заткнуть ему рот он видел не истинный глас Божий, а лишь «великую и ужасную» подделку, машину, изрыгающую дым и пламя. Но дым и пламя эти исходили не со святой горы святого Бога: извергали их люди, напыщенные и гордые, но снедаемые тайным страхом, люди, что, спрятавшись за красно-золотым занавесом, дергали за церковные и юридические рычаги. Настоящей власти, на которую они ссылались – власти и авторитета Бога и истины, – у них не было; и Лютер, подобно бдительному песику, лаял, лаял и лаял, стремясь предупредить мир о мошенничестве, убедить людей отдернуть занавес и обнажить скрытую за ним нехитрую механику обмана.
Самоуверенность Лютера приводила кардинала Каэтана в ярость. Ему это казалось вопиющей наглостью. Но Лютер верил не в себя, а в Бога. Он не сомневался, что есть Бог, которого надлежит страшиться, власти которого должны повиноваться все и каждый. К этому Богу – а также к истине и здравому рассудку – Лютер готов был прислушаться. Но, пока Каэтан и остальные на примере Писаний не укажут Лютеру, в чем его позиция расходится с истиной Божьей – слушать их Лютер не собирался. Эта-то принципиальная разница между позициями Лютера и Церкви привела к тектоническому разлому: давление нарастало с каждым днем – и вскоре должно было вызвать великое землетрясение. Лютер понимал, почему не может сдвинуться ни на дюйм: но почему же папская власть не видит проблему так же ясно, как он, и не пытается исправить ситуацию? Что он упускает? Но понять Лютера они не хотели – или, быть может, не могли; и с необъяснимым узколобым упрямством требовали от искреннего и благонамеренного монаха лишь одного латинского слова. Одно слово – и всем бедам конец. Одно слово – и все утихнет. Скажи лишь одно слово: revoco!
Усилилось давление и на Фридриха с требованием выдать Лютера; однако по каким-то своим причинам он этого делать не стал – напротив, решил Лютера защищать. Почему именно, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Разумеется, нам известно, что идее индульгенций сам Фридрих отдал немало времени, трудов и средств. Но, быть может, по совету многих виттенбергских богословов – и прежде всего Спалатина, которому полностью доверял, – курфюрст предпочел защищать Лютера от Рима.
Однако Лютер понимал, что, оставаясь в Виттенберге, наносит урон репутации Фридриха. Ситуация принимала все более политический оборот. Рим понимал, что ему грозит огромный имиджевый скандал, и готов был на все, чтобы прекратить неудобные вопросы, толки и пересуды, растущие день ото дня и наносящие власти и авторитету Церкви большой урон, возможно, с катастрофическими последствиями в будущем. Более всего, быть может, тревожило Рим то, как скажется все это на грядущих выборах нового императора. Как мы уже упоминали, для Рима было чрезвычайно важно, чтобы императорский трон не занял юный Карл I Испанский, внук Фердинанда и Изабеллы Испанских. Став императором, этот юноша сосредоточил бы в своих руках поистине безграничную власть – и Рим это очень тревожило. В глазах папы эти политические треволнения были куда важнее и «истины», и богословской ясности. Выборы приближались – и ни о чем другом в Риме уже не думали.
Итак, Рим принял роковое решение поставить все на политику. К черту прошлое, к черту будущее! Настоящее – вот единственное, что сейчас его волновало. Поэтому Церкви было необходимо, чтобы Лютер явился в Рим, покаялся – или отправился на костер. И папа изо всех сил давил на Фридриха, требуя от него дистанцироваться от Лютера и передать этого возмутителя спокойствия в руки Рима. Но что мог сделать Рим, чтобы убедить Фридриха себе подчиниться?
Тем временем Лютер, вполне понимая, что происходит, благородно поставил интересы Фридриха выше своих. Чтобы вывести курфюрста из-под огня, он решил покинуть Виттенберг и Саксонию. Он знал, что опасность велика; но из уважения к своему государю – и веря в Бога, который не покинет его в беде, – предпочел уехать. Вот еще один яркий пример веры Лютера: не зная, что ждет его впереди, он все же поступил так, как подсказывала совесть, – и положился на Бога. В письме Спалатину от 25 ноября он писал:
Каждодневно ожидаю я осуждения из Рима; поэтому привел в порядок свои дела и обо всем распорядился, на случай, если придется мне, как Аврааму, покинуть все и идти в страну незнаемую. Но я не страшусь – ведь Бог повсюду с нами. Разумеется, оставлю тебе прощальное письмо: прочти его, если у тебя достанет мужества читать письмо человека осужденного и отлученного.
Теперь же прощай – и помолись обо мне[148].
Штаупиц находился в это время в Австрии, в Зальцбурге; он прислал Лютеру письмо с нарочным, приглашая скрыться у себя:
Мир ненавидит истину. Эта ненависть распяла Христа; и поистине не знаю, что ждет теперь тебя, если не крест. Друзей у тебя немного, да и они, боюсь, попрячутся из страха перед противником. Оставь Виттенберг и приезжай ко мне, дабы могли мы жить и умереть вместе. Князь знает об этом и согласен. Как отшельники в пустыне, последуем за Христом[149].
То, что этот человек, так рано разглядевший в Лютере гениальность и огромный потенциал, теперь подбадривал его в подобных выражениях – приравнивая папскую власть к «миру», возненавидевшему и убившему Спасителя, к фарисеям, составившим заговор, чтобы казнить Иисуса, к римской толпе, требовавшей освободить Варавву – поистине поразительно. По-видимому, человек этот четко различал истинную Церковь Божью – и огромную бюрократически-политическую корпорацию, обосновавшуюся в Риме и назвавшую себя Церковью. Но еще поразительнее, что, несмотря на столь ясное понимание происходящего, Штаупиц так и не последовал за Лютером: он оставался верным сыном Церкви до конца своих дней. Любого объективного наблюдателя истории это должно убедить в том, что глубоко принципиальных и богобоязненных людей можно было встретить на обеих сторонах великого грядущего раскола.
Лютер не знал, что принесет будущее – ни ему самому, ни Церкви, которую он любил и оплакивал. Но точно знал одно: то, что творится сейчас в Риме – ужас и позор. Да, испорченность и развращенность в мире сем неизбежны – но это уж ни в какие ворота не лезет! Как может Церковь упрямо отворачиваться от очевидной проблемы, которая явно нуждается в рассмотрении и решении? В декабре Лютер писал своему другу Венцесласу Линку: «Думаю, я смогу показать, что Рим нынче стал хуже турок»[150]. Для августинского монаха слова очень серьезные и жесткие: сказать, что центр западного христианства именем Христовым приносит верующим больше вреда, чем мусульманские войска, с боями рвущиеся на запад, – это не шутка. Но Лютер, как видно, наконец начал понимать, что на Рим надежды нет.
И был прав: ведь в то самое время, когда он писал это письмо, Римская Церковь уже приняла решение не отвечать на призыв Лютера к открытости и переменам, а вместо этого сделать все возможное, чтобы затушить разгорающийся скандал в зародыше. Все остальное неважно. Итак, как же привести к повиновению саксонского курфюрста? Подумав, папа нашел выход: потрясти перед носом у Фридриха, страстного любителя реликвий, чем-то таким, перед чем он не сможет устоять. Пусть забудет обо всем на свете в надежде заполучить уникальную, сказочную реликвию. Приманим его Золотой розой добродетели.
Золотая роза добродетели
Поскольку Ватикан в эту эпоху действовал прежде всего как политическая сила, не стоит удивляться, что ему случалось использовать священные и почитаемые предметы для воздействия на оппонентов – или, говоря попросту, для подкупа. Один из таких предметов, которыми Ватикан время от времени награждал особенно верных «друзей», именовался Золотой розой добродетели. В иерархии римского арсенала Золотая роза стояла чрезвычайно высоко: это была, можно сказать, королева всех «святых» побрякушек.
И поскольку в Риме решили непременно привлечь Фридриха Мудрого Саксонского на свою сторону (в нескольких вопросах: получить его поддержку при избрании нового императора, одобрение так называемого «турецкого налога» и – пожалуй, самое важное – добиться наконец, чтобы он выдал этого волка в монашеской шкуре, взбаламутившего весь христианский мир своими рассуждениями об индульгенциях!), решено было оказать этому верному сыну Церкви необычайную и чрезвычайно лестную милость. Папский нунций по имени Карл фон Мильтиц был отряжен для того, чтобы вручить Фридриху благоухающую святыню[151].
Письмо Фридриху от папы гласило:
Возлюбленный сын, на четырнадцатый день святого поста была освящена нами святейшая золотая роза. Ее помазали священным миром и окадили благоуханным ладаном с благословения папы. Ее привезет вам возлюбленнейший сын наш Карл фон Мильтиц, человек благородного происхождения и благородных манер. Эта роза – символ драгоценнейшей крови Спасителя нашего, которою все мы искуплены. Роза эта – цветок среди цветов, прекраснейшая, благоуханнейшая на земле. Итак, дорогой сын, пусть благоухание ее внидет во внутренности сердца Вашего Величества, дабы смогли вы исполнить то, что вышеупомянутый Карл фон Мильтиц вам передаст[152].
О том, встречался ли в истории более бесстыдный и «благоуханный» подкуп, мы судить не станем. Однако, по правде сказать, был это не столько подкуп, сколько морковка, подвешенная перед носом: розу Фридриху так и не отдали – лишь обещали отдать, имея в виду, что она перейдет к нему во владение, как только он придет в чувство и согласится сотрудничать. Сам Фридрих говорил: «Должно быть, Мильтиц не отдаст мне золотую розу, пока я не объявлю этого монаха вне закона как еретика»[153]. Тем временем драгоценный предмет покоился во дворце Фуггеров в Аугсбурге.
К своей задаче Мильтиц подготовился как следует. На Лютера он шел, как на медведя, вооружившись письмами, где мятежный монах именовался «чадом сатаны, сыном погибели, зараженной овцой, плевелом в винограднике» и так далее[154]. Однако по пути в Саксонию, куда двигался он, нагруженный целым арсеналом папских бреве и пресловутой Золотой розой, Мильтиц столкнулся с неприятной неожиданностью. Повсюду, где случалось ему остановиться в Германии, с удивлением и тревогой видел он, что симпатии всего народа – на стороне Лютера. Приехав 18 декабря в Нюрнберг, Мильтиц встретился здесь с Шерлем, который подтвердил эти неприятные наблюдения и постарался склонить Мильтица к более умеренной, примирительной позиции. Самого себя он предложил в качестве посредника, уведомив Спалатина, что Мильтиц едет с предложениями, которые Лютеру стоит принять благосклонно. Шерль, как видно, полагал, что это единственный способ избежать беды – того, что Лютера отошлют в Рим и заклеймят там как еретика; в то же время это не требовало от Лютера отречения и покаяния, которого, как ясно понимали все, кто его знал, от него ожидать не приходится.
По переговорам Шерля с Мильтицем можно судить, что ситуация на тот момент была намного сложнее, чем нам, быть может, представляется. Мильтиц объяснил Шерлю: на самом деле Рим очень недоволен проповедями Тетцеля, из-за которых и начался весь шум. Он дошел даже до того, что назвал Тетцеля «этот Schweinehund» (буквально «свинопес»). Мильтиц сообщил даже, что торопливым ответом Приериаса Лютеру в Риме были сильно недовольны и сурово его одернули. Он объяснил, что больше всего беспокоит Рим «Проповедь об индульгенциях и благодати», которая распространилась уже по всей Германии, ходит по рукам и наносит репутации Церкви серьезнейший урон в глазах верующих.
Мы видим здесь, как то, что позже будет названо Реформацией, шло вперед уже собственным ходом, вырвавшись из-под контроля основных игроков. Новая технология книгопечатания и голод по печатным книгам вызвали такое бурное распространение работ Лютера, какого ни сам Лютер, ни кто-либо другой не ожидали. Отдавая свою «Проповедь об индульгенциях и благодати» в печать, Лютер не подозревал, что она разойдется так широко, вырвется из контекста и в конечном счете нанесет удар по Церкви. И нам не дано понять, как расценивать это неконтролируемое распространение ключевых текстов: навредило ли оно делу Реформации – или, напротив, только благодаря ему Реформация и стала возможна.
5 января 1519 года Мильтиц встретился с Лютером в Аугсбурге, по всей видимости, в городском замке. Его поразило, как молодо выглядит Лютер. Было ему в то время тридцать пять лет (а самому Мильтицу двадцать восемь). Наши сведения об этой ранней и чрезвычайно важной встрече исходят от самого Лютера. В письме Спалатину от 20 февраля Лютер рассказывал, что Мильтиц приехал с поручением во что бы то ни стало и любым способом исправить ситуацию. В самой любезной манере Мильтиц пригласил Лютера вместе поужинать, за ужином развлекал непринужденной беседой, а прощаясь, обнял и по-дружески облобызал. Однако любопытно – и ярко характеризует Лютера, – что он не поддался на этот фонтан обаяния; по его словам, все это было «одно только итальянское притворство». Трудно сказать, чем было вызвано такое суждение: только ли более сдержанным немецким характером и воспитанием Лютера, – или его строгой приверженностью богословским вопросам, в сравнении с которыми все прочее казалось ему неважным, а светская болтовня, ласковые улыбки и выражения дружеской приязни пред лицом тяжкой и неразрешенной богословской проблемы выглядели просто оскорбительно.
К концу 1518 года папа в общении с Фридрихом перешел от уговоров к требованиям. Тогда он жестко настаивал на выдаче Лютера в Рим, где у того, как говорится, земля запылает под ногами – вполне возможно, и в буквальном смысле. Но теперь, когда близились выборы нового императора, Рим вдруг решил смягчить тон. Он как бы сказал себе: ладно, не будем спешить. В конце концов, может быть, нам удастся достичь дружеского соглашения? Чтобы проверить, возможно ли это, папа и отправил в Саксонию Мильтица. С одной стороны, он соблазнительно помашет у Фридриха перед носом Золотой розой; с другой, оказавшись поблизости, встретится с этим непрошибаемым упрямцем Лютером и попробует выяснить, нельзя ли все-таки добиться от него отречения. Лютер избежит Рима и костра – и даже публично отрекаться ему для этого не придется; однако придется выполнить ряд условий.
В письме Фридриху, написанном после этой встречи, Лютер рассказал, что предложил ему Мильтиц. Во-первых, Лютер должен согласиться молчать об индульгенциях, если его оппоненты (Тетцель и архиепископ Альбрехт) также прекратят нападать на него по этому вопросу. Так прекратится ущерб, наносимый Церкви и ее репутации лютеровыми писаниями, со сверхъестественной быстротой разлетающимися по свету. Во-вторых, Лютер должен склониться перед властью папы и написать папе об этом письмо. В-третьих, он должен написать «книжицу», в которой «призовет всех следовать Римской Церкви, почитать ее и повиноваться и все писания его понимать в смысле чести, а не бесчестья для святой Римской Церкви»[155]. В-четвертых, он не станет настаивать на том, чтобы его дело разбирал сам папа, как просил в апелляции, но примет суд и окончательное решение от архиепископа Зальцбургского. За этим предложением стояли Фейлитцш и Спалатин: считается, что архиепископом этим был Маттеус Ланг из Аугсбурга, которому они доверяли – мы помним его по «коронации» Барабалло.
Как ни удивительно, Лютер на все это согласился и 5 или 6 января написал папе Льву X письмо из замка Альтенбург. Вот этот примечательный документ:
Святейший отец!
Необходимость снова побуждает меня, ничтожнейшего из людей, горстку праха земного, обратиться к Вашему Святейшеству и Августейшему Величеству. Молю Ваше Святейшество быть ко мне благосклонным, на краткое время удостоить меня своего внимания и по-отечески выслушать блеяние овечки Вашей, ибо Вы поистине заменяете для нас Христа.
С нами пребывает сейчас достопочтенный господин Карл Мильтиц, секретарь Вашего Святейшества. В присутствии просвещеннейшего государя Фридриха он сурово упрекал меня от имени Вашего Святейшества в недостатке уважения и в безрассудстве по отношению к Римской Церкви и Вашему Святейшеству и требовал за это удовлетворения. Услышав это, я был глубоко опечален, что моя вернейшая служба имела такой несчастливый исход и то, что я предпринял ради сохранения чести Римской Церкви, привело к бесчестию и бросило на меня тень подозрений в злонамеренности, даже со стороны главы Церкви. Но что же мне делать, Святейший Отец? Не знаю, как мне теперь поступить: гнев Ваш выдержать я не в силах, но не ведаю, как его избегнуть. От меня требуют, чтобы я отрекся от своих тезисов. Если бы таким отречением можно было достичь того, чего я старался достичь своими тезисами – я совершил бы его без колебаний. Однако теперь, благодаря неприязни и давлению врагов, писания мои распространяются так широко, как сам я никогда и не думал их распространять, и так глубоко укореняются в сердцах такого множества людей, что отозвать их и сделать как бы небывшими уже невозможно. Кроме того, поскольку Германия наша ныне чудесно изобилует людьми талантливыми, учеными и здравомыслящими, я вижу, что ни при каких обстоятельствах не могу отрекаться от чего бы то ни было, если не хочу нанести бесчестия Римской Церкви – а это должно быть моей первейшей заботой. Таким отречением можно добиться лишь одного – очернить Римскую Церковь и вложить в уста людей обвинения и упреки ей. Вы сами видите, отче, какие раны, какие удары Римской Церкви наносят те, кому я противостою. Своими бессмысленными проповедями, произносимыми от имени Вашего Святейшества, взращивают они лишь самую постыдную алчность…
Святейший Отец, перед Богом и всем творением свидетельствую, что никогда не хотел и ныне не хочу каким-либо образом касаться авторитета Римской Церкви и Вашего Святейшества или подрывать его какими-либо ухищрениями. Напротив, исповедую, что авторитет Церкви я ставлю превыше всего на свете и не могу предпочесть ему ничто на земле или на небе, кроме одного лишь Иисуса Христа, Господа всех, – и молю Ваше Святейшество не верить клеветникам, кои, строя козни против бедного Мартина, твердят обратное.
Поскольку в этом случае я могу сделать только одно – с величайшей готовностью принесу Вашему Святейшеству обещание в будущем оставить вопрос об индульгенциях и никогда более его не касаться, если только [враги мои] также прекратят свои тщеславные и напыщенные речи. Кроме того, вскоре опубликую нечто для людей, дабы они поняли, что следует почитать Римскую Церковь, и постараюсь повлиять на них в этом отношении. [Я скажу им], чтобы не винили они Церковь за безрассудство этих [проповедников индульгенций] и не направляли против Римской Церкви мои острые слова, которые я обращал (быть может, напрасно) против этих шутов и с которыми, как вижу, зашел слишком далеко. Быть может, благодатью Божьей возникшее несогласие такими мерами удастся умирить. Желаю лишь одного: чтобы Римская Церковь, мать наша, не была замарана грязью неуместной и непристойной алчности и чтобы люди, введенные в заблуждение, не предпочитали индульгенции делам любви. Все прочее полагаю я не столь важным и даже безразличным. Если могу сделать что-то еще или если в дальнейшем пойму, что еще мне сделать, – с величайшей готовностью все это сделаю[156].
К несчастью, письмо так и не было отослано; вместо этого Мильтиц предложил, что напишет папе сам. И все же документ этот остается примечательным, даже поразительным – по нескольким причинам, и не в последнюю очередь потому, что мы видим: даже в это время, более чем через год после даты, которую многие сейчас празднуют как начало Реформации, ее еще можно было избежать. Лютер, очевидно, был глубоко и искренне предан Церкви; смиренный и примирительный тон в обращении к папе был для него естественным. Он надеялся принести Церкви как можно меньше вреда – и верил, что даже на данном этапе это еще возможно. Но, увы, примирения не произошло.
Однако и в этом письме – в словах о том, что Лютер ничто не ставит выше авторитета Церкви, «кроме одного лишь Иисуса Христа, Господа всех», – мы видим: он ясно сознает, что Христос и Церковь – не одно и то же, и что между ними возможно разногласие. Замечание богословски верное и в высшей степени уместное: именно эта трещина между Господом и Церковью, расхождение между ними, и стала причиной всех грядущих бед. Предположить, что глас Церкви не становится автоматически гласом Божьим – значит предположить, что Церковь способна заблуждаться. Именно это было важно для Лютера; и даже в этом своем письме, в других отношениях глубоко смиренном, от этого он не отступил.
Итак, теперь Лютер надеялся на долгожданный справедливый суд – и полагал, скорее всего, что судьей станет архиепископ Зальцбургский. А тем временем в мире происходили и другие события. 12 января пришла весть о смерти императора. Годы спустя Лютер вспоминал, что при этой новости «бушующая буря на время утихла»[157].
Глава восьмая Лейпцигский диспут
Простому мирянину, вооруженному Писанием, следует верить более, чем папе или собору без Писания.
Мартин ЛютерЧума на все это!
Герцог Георг БородатыйДело Лютера в Риме и Ватикане шло потихоньку своим чередом – а тем временем в Германии страсти накалялись. Лютер уже написал на «Обелиски» Эка ответ под названием «Астериски», однако предназначал его для немногих читателей; ему не хотелось раздувать спор. Быть может, так бы и вышло, если бы виттенбергский коллега Лютера Андреас Карлштадт, не раз в этой истории забегавший «поперек батьки в пекло», не опубликовал свой собственный ответ Эку в 406 (!) тезисах, причем Лютера об этом не предупредил. В действиях Карлштадта вообще нередко заметно стремление ускорить события и подтолкнуть Лютера к более крайней позиции: зачем он так делал, нам неизвестно – однако в этом случае результат был самый неблагоприятный. Скандал разгорелся вовсю, и Эк чувствовал себя вынужденным отвечать публично. В середине августа 1518 года вышел из печати его ответ Карлштадту, так и озаглавленный: «Ответ».
Новый опрометчивый шаг последовал уже от самого Эка. Бог знает почему, но тихая академическая дискуссия между Виттенбергским и Ингольштадтским университетами больше его не прельщала; ему нужен был грандиозный публичный спектакль. На титульном листе своего «Ответа» он предлагал диспут, председателем которого будет не кто иной, как сам папа, а пройти он должен в университете Парижа, Кельна или Рима! В качестве даты Эк предлагал апрель следующего, 1519 года. Виттенбержцы полагали, что намного дешевле будет провести дискуссию поближе к дому – тем более и атмосфера там более благоприятная, – и предложили Эрфурт или Лейпциг. Эк выбрал Лейпциг и немедленно обратился за разрешением на диспут к герцогу Саксонскому.
Герцог Георг (известный также как Георг Бородатый) был сыном Альберта Храброго, брата Эрнста, отца Фридриха. Следовательно, Георг и Фридрих приходились друг другу кузенами – и соперничали так же рьяно, как когда-то их отцы. В предстоящем диспуте Георг увидел отличную возможность доказать превосходство богословов из Лейпцигского университета, которые станут на дебатах судьями, над богословами Фридриха из Виттенберга. Кузена Георг откровенно не любил, его политическим успехам завидовал. Он открыто насмехался над терпимостью Фридриха к мятежным виттенбергским богословам, особенно к этому Лютеру. Обнаружив, что лейпцигские богословы по своим соображениям не слишком хотят становиться хозяевами и судьями такого мероприятия, Георг Бородатый пришел в ярость. Человек прямой и сурового нрава, он заявил напрямик, что таких глупостей не потерпит. Когда местный епископ сказал ему, что он тоже против дебатов, Георг взревел в ответ: «Кому нужен солдат, который не хочет драться, собака, которая не хочет лаять, и богослов, который не хочет дебатов?»[158] Не обинуясь, обозвал он своих профессоров лентяями, умеющими только набивать брюхо, и закончил так: «Если богословы в Лейпциге не могут переварить эти дебаты и опасаются проиграть – что ж, посажу на их место старух с прялками, может, они справятся!»[159] В конце концов богословы подчинились его воле.
На самом-то деле Эк желал дебатов не с Карлштадтом, а с самим Лютером. Его уклончивость и попытки действовать обиняками разозлили Лютера. В письме к Спалатину он писал:
Наш Эк, это жадное до славы ничтожество, выпустил бумажонку, в которой объявляет о своем будущем диспуте с Карлштадтом в Лейпциге… Так этот глупец пытается окольным путем удовлетворить свою давнюю обиду на меня: называя своим противником одного, он на деле нападает на другого, главного в этом деле – то есть обрушивается на меня и на мои писания. Я сыт по горло его бесстыжим притворством[160].
В самом деле, из двенадцати тезисов, представленных Эком для защиты на дебатах, явственно следовало, что мишенью своей Эк считает скорее Лютера, чем Карлштадта. Один из этих тезисов касался утверждения Лютера, сделанного в «Резолюциях», что вплоть до правления папы Сильвестра в начале IV столетия Римская Церковь не ставила себя выше всех остальных Церквей. Следовательно, заявлять, что авторитет Церкви и папы абсолютен и по сути не отличается от авторитета самого Иисуса, ошибочно. Лютер был в ярости от того, что Эк вставил этот вопрос в программу дебатов: сам он вовсе не хотел публично обсуждать настолько провокационную тему. Однако усердие не по разуму Карлштадта дало Эку возможность заговорить об этом в открытую. До сих пор Лютер не обсуждал публично свои взгляды на церковные каноны и на возможные погрешности в «декреталиях» – официальных документах вроде того, что недавно выпустил Каэтан об индульгенциях, которые Лютер вовсе не считал обязательными для верующих так же, как обязательно Писание. Однако он вовсе не хотел смущать Церковь и усугублять и без того тяжелую ситуацию, рассуждая об этом публично. Но, спасибо Карлштадту, отступать теперь было некуда – и Лютер это понимал. Вопреки его намерениям, публичность всего спора вышла на новый уровень. Ему это совершенно не нравилось – однако он чувствовал: быть может, за таким развитием событий стоит Бог, понуждающий его идти вперед.
Портрет Андреаса Боденштейна фон Карлштадта
Итак, Лютер чувствовал себя обязанным ответить на тезисы Эка своими контртезисами и не уклоняться от боя. Он не собирался отрекаться от основной своей идеи: все наши добрые дела – ничто без Божьей благодати. Кроме того, серьезно усомнился он в учении о чистилище и снова напал на индульгенции. Позже, прочтя тезисы Эка, Лютер добавил к своим тезисам еще один. Он касался первенства Римской Церкви и границ папского авторитета. Вот как он звучал: «То, что Римская Церковь стоит выше всех прочих Церквей, подтверждается лишь бесполезными декретами последних четырехсот лет. Против этого выступают исторические свидетельства предыдущих 1100 лет, текст Священного Писания и решение Никейского Собора, святейшего из всех Соборов»[161]. Дело в том, что на Соборе в Никее Восточная Православная Церковь и Западная Римская Церковь были провозглашены равными.
Дебаты приближались – и накалялись страсти. Прежде всего, Лютер все еще не получил официального разрешения на участие в диспуте от герцога Георга, который, видя в нем протеже своего кузена-соперника Фридриха, был заранее настроен к нему враждебно. Вплоть до самых дебатов, назначенных на июнь, Лютер не знал, сможет ли в них участвовать. Тем временем Лютер и Эк вели ожесточенную переписку: оба не стеснялись в выражениях. Лютер обвинял Эка в том, что того интересует не истина, а лишь самореклама. Он называл Эка «фигляром и софистом»[162]; видно было, что яростные атаки былого друга глубоко его задевают. Эк отвечал на это, что первейший его долг – защищать Мать-Церковь, и те, кто нападает на Церковь, ему не друзья.
Все друзья Лютера, в том числе и Карлштадт, считали, что поднимать на дебатах вопрос о первенстве папы – очень дурная идея, и делали все возможное, чтобы Лютера от этого отговорить. Особенно усердствовал Спалатин, считавший, что такой политически неосторожный шаг может вовлечь Лютера в большую беду. Но Лютер был непоколебим. «Молю тебя, мой Спалатин, – писал он, – не страшись ничего и не позволяй человеческим соображениям разрывать на части твое сердце. Ты же знаешь: если бы Христос не руководил мною и моим делом, я бы уже давным-давно проиграл»[163]. Во всем происходящем Лютер с благоговением и трепетом усматривал перст Божий. Для него не было сомнения: истина победит – даже если проиграет он сам. Он не просил об этой битве, но и бежать от нее не собирался. Чем яснее видел он, что факты на его стороне, тем смелее и громогласнее их высказывал, защищая истину. В особенный гнев приводила его мысль, что Церковь – и Эк – в попытках доказать свою ложную правоту искажают Писание. Именно это, как ничто иное, возмущало его чувство справедливости; это выходило за все границы – и Лютер не собирался оставлять это безнаказанным.
Чем глубже и серьезнее, готовясь к дебатам, исследовал Лютер вопрос о первенстве папы, тем больший ужас его охватывал. В марте 1519 года он полностью сосредоточился на этой теме, тщательно проследил ее в канонах и в истории Церкви; и чем больше открывалось ему, тем более он убеждался, что обязан разоблачить эту гибельную ложь. Поскольку в то время он был еще не уверен, что получит от герцога Георга разрешение на участие в дебатах, то опубликовал «Резолюцию на Тринадцатый тезис касательно власти папы». Он считал, что само по себе папство – не против воли Божьей, однако и не установлено Богом, как утверждает Церковь. Из всего, прочитанного Лютером по этой теме, ясно следовало: это чисто человеческое учреждение. В Писании невозможно найти ни единого свидетельства о его божественном происхождении. Такова истина; и, утверждая обратное, нынешний папа – как и Каэтан, и Эк – строят на гнилом основании. Кто любит Церковь, тот обязан исправить эту ошибку; а Лютер Церковь любил. По-видимому, этот месяц стал для него точкой невозврата. 13 марта в разговоре со Спалатином он сказал шепотом: «Не знаю, то ли папа – сам антихрист, то ли кто-то из его апостолов; столь бесстыдно он в своих декреталиях извращает и распинает Христа (то есть истину)!»[164]
Очевидно, кризис, разгорающийся, как пожар, и особенно необходимость готовиться к дебатам заставили Лютера пуститься в такой богословский путь, в какой он никогда идти не собирался. Однако что-то подсказывало ему, что на эту дорогу направляет его Господь. Многолетнее изучение Библии позволило ему идти по этому пути с непоколебимой уверенностью. Начал он с индульгенций, но теперь бросил вызов величайшей из проблем Римской Церкви – вопросу о самой папской власти. Он пришел к мысли, что Римская Церковь, хоть и установлена Богом, не может претендовать на высший и безусловный авторитет, как делает она в последние четыреста лет. И, разумеется, не может воля Церкви стоять выше Писания. Для Лютера вера (см. Рим. 1:17) создает христианина, а за ним и христианскую общину, именуемую Церковью. Церковь есть везде, где есть вера в Христа, – в том числе и за пределами Римской Церкви, то есть в Церкви Греческой, Восточной.
Верно и обратное: сами по себе, без веры, и таинства, и Церковь пусты и не могут претендовать на какое-либо значение. Основание Церкви – вера в Христа; и вера эта исходит не от нас, падших грешников, а свободно даруется нам Богом. Следовательно, искажать Писание таким образом, чтобы представить Римскую Церковь, человеческое учреждение, неизбежно и неопровержимо божественной – само по себе ересь и лжеучение. Чем больше смотрел Лютер на то, что открывалось ему во всем своем величии и ужасе, тем более убеждался: в последние четыреста лет Церковь, подобно древнему Израилю, находится в некоем вавилонском плену. И если он, подобно пророку, не укажет на это, не призовет Церковь покаяться и вернуться к истине Божьей, то вина падет и на него. Значит, надо без страха идти вперед.
Готовясь к дебатам, которые должны были начаться в конце июня и растянуться на добрых три недели, уже в январе Карлштадт совместно с Лукасом Кранахом занялся афишей диспута – выдающимся образчиком ранней печатной пропаганды. Эта афиша должна была послужить рекламой будущего «спектакля». Огромная сатирическая гравюра под названием «Телега Карлштадта» изображала две телеги, влекомые запряженными в них лошадьми. Обе были полны народу, и над каждой фигурой – пояснительный текст в рамочке. В первом издании текст был по-латыни, но скоро появилось и второе издание, с немецким переводом. Плакат был разделен на две части: процессия в верхней части двигалась к Иисусу, снабженному пояснительной надписью «Unser Fri[e]d» («Наша Свобода»); над телегой ласково склонился Бог Отец, а под колесами ее извивался, корчась в муках, обезьяноподобный дьявол. Что же до процессии в нижней части гравюры – она направлялась прямиком в раззявленную пасть ада, полного языков пламени, гротескных бесов и корчащихся в огне грешников. И кто же сидел в этой второй телеге – с улыбкой на лице и с бесом за левым плечом? Не кто иной, как сам Эк; а на случай, если кто-либо не знал, в чем состоит его богословие, над ним красовалась подпись «Eigner Wil» («Моя воля»).
Начало лейпцигских дебатов. Aetatis 35
Начало дебатов было назначено на 27 июня; однако в этот же день имперский рейхстаг выбрал девятнадцатилетнего отпрыска Габсбургской династии, Карла I Испанского, новым императором Священной Римской империи. Карл унаследовал трон своего покойного деда Максимилиана I – и стал императором Карлом V. Немецкие княжества на рейхстаге сперва предлагали трон не кому иному, как Фридриху Мудрому Саксонскому; но Фридрих понимал, что ни у одного немецкого князя нет в руках власти, необходимой для успешного управления огромной империей, и оправдал свое прозвище, отдав голос юному Карлу I Испанскому, хоть папа Лев X и надеялся до последнего, что Фридрих этого не сделает. Историки часто восхваляют Фридриха как мудрого и благородного политика, думавшего о благе подданных больше, чем о собственном возвышении; здесь перед нами яркий пример их правоты. Однако и после избрания императора фигура Фридриха не утратила важность для папы: ведь ясно было, что новый император, занятый испанскими делами, не сможет уделять Германии много времени и внимания.
Дебаты должны были продлиться три недели, а погода в конце июня стояла прекрасная – и множество людей со всех концов Германии отправились в Лейпциг, чтобы насладиться редким зрелищем. Сам Эк прибыл вдвоем со слугой 22 июня, без всякой торжественности. Однако приехал он как раз вовремя: на следующий день состоялся праздник Праздник Тела и Крови Христовых[165] – важное местное событие, и очень разумным ходом со стороны Эка было принять в нем участие. Вместе с другими клириками он прошел по городу в торжественной процессии – и, разумеется, не упустил случая со всеми познакомиться и постараться на всех произвести хорошее впечатление. Остановился он в доме у бургомистра – так что не оставалось сомнений в том, на чьей стороне симпатии местных властей.
Два дня спустя в городские ворота Гриммы куда более торжественно въехали гости из Виттенберга. На первой телеге ехал Карлштадт – и вез с собой такую гору книг, что телега стонала и прогибалась под их весом. На второй путешествовали Меланхтон и ректор Виттенбергского университета вместе с самим Лютером. Здесь же можно было увидеть Иоганна Агриколу и Николаса фон Амсдорфа, виттенбергских друзей и коллег Лютера, будущих видных деятелей Реформации. Но больше всего внимания привлекала пешая часть процессии: две сотни студентов из Виттенберга, вооруженных огромными, жутковатыми на вид алебардами (иначе они называются пиками или бердышами). Многие также несли с собой копья или посохи с заостренными наконечниками.
Перед самыми воротами случилось неприятное происшествие, напомнившее карикатуру Кранаха: телега Карлштадта, до краев набитая справочной литературой, застряла в грязи и сломала себе ось. Бедняга Карлштадт полетел с телеги в грязь. Быть может, это было дурное предзнаменование? Так или иначе, Карлштадт перепугался да и сильно ушибся – и именно этим многие объясняли его отнюдь не блестящее выступление.
Один из придворных клириков герцога Георга, некий Иероним Эмзер[166], огорчившись тому, что гости из Виттенберга прибыли в Лейпциг с такой помпой, а появление Эка прошло незамеченным, взял на себя организацию при первом публичном появлении Эка почетной стражи. Роль стражи и свиты для виттенбержцев выполняли студенты: они громко поддерживали своих профессоров – а заодно наводили шороху в городе. Однажды ночью они устроили кошачий концерт под окнами у бургомистра, где, как прекрасно знали, остановился Эк; после этого и до конца дебатов у дома бургомистра дежурила охрана.
Сам Лютер остановился в доме у печатника Мельхиора Лоттера – человека, которому в будущем предстояло на трудах Лютера сделать себе состояние. Двое видных горожан приняли Лютера у себя; однако в целом его и его коллег в Лейпциге встречали презрением и насмешками. «Граждане Лейпцига, – писал он позже, – нас не приветствовали и к себе не приглашали, а обращались с нами, словно со злейшими врагами». Как будто этого было недостаточно, стоило Лютеру войти в доминиканскую церковь – и клирики демонстративно и поспешно унесли прочь гостию, словно само присутствие Лютера представляло ей угрозу. В какой-то день в продолжение этих трех недель сам герцог Георг встретился с Лютером неофициально – и во время этой встречи, не стесняясь в выражениях, критиковал его взгляды. Словно желая подтвердить славу человека недалекого ума, одним махом разрешил он сложный богословский вопрос об авторитете папы, отрезав попросту: «Божественной властью или человеческой, а все одно папа – это папа!»[167]
До начала дебатов требовалось обсудить условия дискуссии. Эк выступал за дебаты в «итальянском стиле», с более свободными правилами – но Карлштадт был против. Далее следовало решить, кто станет судьями. Лютер считал, что богословы, как правило, уже закостенели в своих взглядах и не готовы их менять, поэтому надеялся, что судьями станут представители не только богословского, но и других университетских факультетов. Он понимал, что здравомыслие и справедливые суждения скорее встретит за пределами узкого, ограниченного мирка схоластического богословия. Однако Эк решительно возражал. «Почему бы тогда не отдать дело на суд портным и сапожникам?» – в негодовании выпалил он[168]. Практичный герцог Георг с ним согласился и отклонил предложение Лютера. Таким образом, единственными судьями на дебатах стали богословы.
На рассвете 27 июня начались дебаты – точнее, торжественная церемония их открытия. В шесть часов утра в церкви святого Фомы состоялось богослужение, была отслужена двенадцатичастная месса. Затем вся компания переместилась в замок XIII века Плейссенбург. Дебаты должны были состояться здесь, в главном зале, ибо ни одна университетская аудитория не вместила бы многолюдную толпу зрителей. Зал украсили гобеленами, вокруг расставили стражу из семидесяти шести местных жителей. Друг напротив друга поставили две кафедры. На кафедре Эка был изображен святой Георгий, убивающий дракона, на кафедре виттенбержцев – святой Мартин. Расписание было следующим: дебаты начинаются каждый день в семь утра и длятся до девяти, затем перерыв – и послеобеденная сессия с двух до пяти. Однако в первый день все началось с длиннейшей – более двух часов – вступительной речи, которую произнес видный лейпцигский гуманист и знаток греческого языка Петер Мосселанус. Очень большое внимание в своей речи уделил он призывам к обеим сторонам соблюдать приличия, спорить хладнокровно и корректно, в манере, подобающей поиску истины Божьей. Герцог Георг был поражен тем, что это приходится специально объяснять. Неужто эти богословы – такие дуралеи, что не понимают элементарных вещей?
Наконец речь завершилась… и тут настало время перерыва на обед. Рассказывают, что за столом герцог Георг лично «распоряжался угощением»[169]. Эку он любезно передал оленину, Карлштадту – сочную косулю. Лютер не получил ничего. После обеда начались собственно дебаты: первым обсуждался вопрос о свободе воли и о том, может ли человек сделать что-либо без помощи Божьей благодати. По ощущению Лютера, Карлштадт вел дискуссию вполне умело, постоянно подкрепляя свои слова цитатами из многочисленных книг. Однако Эк заметил, что не станет «спорить с библиотекой»[170], и стал настаивать на том, чтобы Карлштадт отвечал ему своими словами, а не повторял, как попугай, чужие. Это вызвало большой спор и крик; но в конце концов Карлштадту пришлось отложить «библиотеку», проделавшую вместе с ним долгий путь из Виттенберга.
По причинам, оставшимся для нас неизвестными, в первые несколько дней Лютер в дебатах не участвовал, чем приводил в немалое нетерпение изрядную часть публики. Первые четыре дня Эк спорил с Карлштадтом; лишь 4 июля наконец настала очередь Лютера подняться на кафедру. Мосселанус оставил нам яркое описание всех участников дискуссии:
Мартин среднего роста, худ, столь изможден учеными трудами и скорбями, что можно пересчитать все его кости; однако вид у него мужественный и решительный. Говорит он высоким голосом, ясно и звучно. Он человек весьма ученый и чрезвычайно начитанный в Писании, ссылается на него с такой легкостью, словно знает его наизусть. Знает греческий и древнееврейский достаточно, чтобы судить о переводах. Обладает и богатыми фактическими знаниями, и большим запасом слов и мыслей. В жизни и в поведении он человек очень любезный и дружелюбный; нет в нем ничего ни от ворчуна, ни от угрюмого стоика. К любым положениям он легко приспосабливается. В обществе держится живо, весело, остроумно, всегда полон радости, всегда с улыбкой на лице, как бы серьезно ни угрожали ему противники. Глядя на него, видишь, что Бог воистину пребывает с ним и поддерживает его в нынешнем трудном положении. Единственный недостаток, за который его все порицают, – то, что он бывает чересчур резок и язвителен в словах, особенно во время споров, более, чем подобает тому, кто занят вещами божественными и ищет новые пути в богословии. Впрочем, слабость эта, возможно, свойственна всем, кто не с самых юных лет начал свое образование[171].
О Карлштадте можно сказать примерно то же самое, хоть и в меньшей степени. Ростом он поменьше Лютера, цветом лица напоминает копченую селедку. Голос у него грубый и неприятный. Он не так скор на разумные ответы, зато более скор на гнев[172].
Кто-то еще из присутствовавших отмечал, что у Карлштадта «отталкивающее безбородое лицо».
Эка Мосселанус описывает подробнее:
Эк, напротив, человек высокий, широкоплечий, крепкого телосложения и цветущего здоровья. Мощный, истинно немецкий голос, исходящий из мощной груди его, звучит словно у городского глашатая или у трагического актера. Однако он грубоват; изящества ему недостает. Благозвучия латинского языка, столь ценимого Фабием и Цицероном, в его речи совсем не слышно. Рот и глаза его, а точнее, вся физиономия таковы, что скорее напоминают мясника или солдата, чем богослова. Что же касается ума и способностей – память у него феноменальная, и он был бы воплощением самого совершенства, обладай он столь же острым пониманием. Однако ему недостает быстроты мысли и остроты суждений – качеств, без которых все прочие таланты ни к чему. По этой причине в споре он беспорядочно забрасывает противника аргументами без склада и лада – от разума, от текстов Писания, из цитат отцов – сам не понимая, сколь нелепо, бессмысленно и софистически звучит большая часть того, что он говорит. Он озабочен лишь тем, чтобы выказать как можно больше знаний, чтобы пустить пыль в глаза слушателям, большинство из которых неспособны судить об услышанном, и создать у них впечатление своего превосходства. Кроме того, обладает он невероятной наглостью, которую, впрочем, умеет искусно скрывать. Едва заметив, что сделал какое-либо опрометчивое суждение, он спешит направить дискуссию в другое русло. Иной раз он повторяет мнение противника, формулируя его иными словами, или наоборот, с поразительным бесстыдством приписывает противнику в измененной форме то, что сказал сам. Вот так и выходит, что даже Сократ на его фоне смотрелся бы глупцом, ибо Сократ сам говорил о своем невежестве и признавался, что многого доподлинно не знает, – Эк же полностью уверен в своих знаниях и не упускает ни одного случая ими блеснуть[173].
Один из виттенбергских студентов Лютера, Георг Бенедикт, также присутствовавший на диспуте, сделал на полях своей Библии такое замечание о Лютере: «Голос его мягок и в то же время резок: мягок по звучанию, резок в произнесении слогов, слов и пауз между словами. Говорит он энергично и выразительно, быстро находит остроумные ответы, и речь его всегда логична – каждое высказывание неизменно вытекает из предыдущего»[174].
Итак, Лютер и Эк наконец встретились лицом к лицу; началось то, ради чего собралась здесь толпа зрителей. И, как и ожидалось, темп и настроение дискуссии изменились мгновенно, ибо Эк поднял горячий и болезненный вопрос о папском авторитете. Он нанес Лютеру удар по центру, процитировав шестнадцатую главу от Матфея, где Иисус говорит Петру: «Ты Петр, и на этом камне Я создам церковь Мою»[175]. Эти слова всегда понимались как указание на то, что Иисус метафорически отдал Петру «ключи», прежде принадлежавшие ему самому, так что Петр, первый папа, занял место Христа и получил такую же власть, как Христос. Услышав эти евангельские слова, многие зрители сочли, что на этом диспут и закончится, – Эк победил; победил так же явно, как если бы, победно воздев руки, вскричал: «Что и требовалось доказать!» Далее Эк сказал: отрицать это важнейшее учение – значит вставать на сторону еретика Яна Гуса, сто лет назад осужденного на Констанцском Соборе и сожженного на костре. Едкий дым ужасной смерти Гуса еще не вполне рассеялся в этой части света, столь близкой к Богемии, так что этот риторический выпад прозвучал сильно и зловеще. Разумеется, это был не аргумент, а обвинение и скрытая угроза – такими приемами Эк владел мастерски. Лютер, однако, невозмутимо его выслушал и принялся отвечать фактами. Он отвечал, что догмат о первенстве папы Церковь исповедует лишь последние четыреста лет. Предыдущую тысячу лет наравне с Римской существовала Церковь Греческая. Неужто Церковь верит, что все святые из тысячелетних греческих святцев горят в адском огне? На это Эк возразил очевидным вопросом: что же Лютер хочет сказать сейчас, при всем честном народе – уж не то ли, что церковный собор ошибся? Да это же ересь! Так логике снова пришлось отступить перед вопросом о власти.
В письме к Спалатину Лютер так описывал эту часть дебатов:
Здесь у нас начался долгий спор об авторитете собора. Я открыто исповедал, что [соборы] безбожно осудили некоторые статьи христианского вероучения, которым ясно и твердо учили Павел, Августин и даже сам Христос. Тут этот змей разъярился: в его глазах это увеличило мое преступление… Однако я доказал ему словами самого [Констанцского] Собора, что не все осужденные статьи были еретическими и ошибочными[176].
Когда Лютер заявил, что Констанцский Собор вместе с несколькими еретическими статьями осудил и статьи «благочестивые и христианские», герцог Георг почувствовал, что с него хватит. Подбоченясь, затряс он своей бородой и взревел: «Чума на все это!»[177] И в самом деле: Лютер шел полным ходом по дороге, которую столетие назад протоптал Гус, – с чего было думать, что его ждет какой-то иной исход?
В какой-то момент Эк выложил на кафедру несколько посланий, заявив, что они написаны епископом Римским в первом веке и являются частью церковных канонов. Одно из них гласило: «Святая Римская и Апостольская Церковь получила первенство не от апостолов, но от самого Господа Спасителя нашего, и потому занимает первое место среди всех Церквей и всей паствы народа христианского». В выдержке из другого послания говорилось: «Этот священный порядок установлен во время Нового Завета самим Господом Христом, передавшим Петру понтификат, которым прежде владел Он Сам»[178].
Однако Лютер к дебатам подготовился на «отлично» и не дал застать себя врасплох. Быть может, эти документы и входят в церковный канон, заявил он – но это еще не значит, что они подлинные. На самом деле, продолжал он, они относятся к «подложным Исидоровым декреталиям»[179] – подделке, сфабрикованной в Средние века. Так оно и было.
В какой-то момент Лютер перешел с латыни на немецкий. Часть его гениальности и успеха, несомненно, была связана со способностью говорить простым языком с простыми людьми – теми, кто по большей части латыни не знал, однако нюхом чуял, что в Церкви не все ладно. «Позвольте мне говорить по-немецки! – воскликнул Лютер. – Не хочу, чтобы все эти люди понимали меня превратно».
Я утверждаю, что собор порой заблуждается и может заблуждаться. Кроме того, у собора нет власти, позволяющей вводить новые статьи вероучения. Собор не обладает божественным правом на то, что по природе божественным правом не является. Соборы противоречат друг другу: так, недавний Латеранский Собор отменил решения Соборов Констанцского и Базельского о том, что собор стоит превыше папы. Простому мирянину, вооруженному Писанием, следует верить более, чем папе или собору без Писания. Что же касается папских декреталий об индульгенциях – я утверждаю, что ни папа, ни собор не вправе устанавливать статьи вероучения. Они могут исходить только из Писания[180].
И действительно, недавний декрет об индульгенциях, второпях составленный Каэтаном – с конкретной задачей заставить Лютера замолчать, – стал ярким примером такого фальшивого вероучения, своего рода «Бога из курии», абсурдного и логически невозможного.
Горячие дебаты длились семнадцать дней; однако для тех, кто при этом присутствовал, зрелище было, скорее всего, не слишком увлекательное. Меланхтон настоял на том, чтобы велся протокол диспута. Эк был решительно против, но Меланхтон победил, и писцы начали записывать все происходящее. В результате после каждой фразы и участникам дискуссии, и слушателям приходилось ждать, пока ее запишут – и лишь затем продолжать. Многие лейпцигские богословы, обедавшие между сессиями, после обеда клевали носом: зачастую под конец дня их приходилось расталкивать – и, покинув зал дискуссии, они с облегчением отправлялись ужинать. Через несколько дней такой неторопливой процедуры большинство виттенбергских студентов решили, что видели и слышали достаточно – а кроме того, у них уже заканчивались деньги; так что, один за другим, потянулись они домой, в Виттенберг.
Но даже семнадцать дней спустя многие вопросы остались едва затронуты. Сказано было немало – но, чтобы отдать должное этим великим и важнейшим для вечного спасения предметам, требовалось гораздо больше времени. Однако герцог Георг, человек важный и занятой, не готов был отдать собственный замок под дискуссию, которая будет длиться до Страшного суда. Вскоре он собирался принимать у себя Иоахима, маркграфа Бранденбургского. Этот маркграф возвращался с рейхстага, где только что избрали нового императора, – и едва ли обрадовался бы, узнав, что ему придется гостить в замке, битком набитом богословами и всяким сбродом. Так что герцог решил положить Лейпцигскому диспуту конец.
Важнее всего для нас в этом диспуте следующее: на дебатах Лютер свободно говорил то, что, быть может, не решился бы сказать в иной обстановке. Здесь он чувствовал необходимость отбить все возражения и победить – и поэтому пускался в такие области, которые не стал бы затрагивать, будь у него выбор. Именно здесь, в пылу битвы, выдвинул он несколько новых и поразительных богословских позиций, от которых в дальнейшем уже не отступал. Так, он решительно заявил, что Библия по авторитетности стоит выше Церкви (так называемая идея Sola Scriptura). Высмеял учение о чистилище, заявив, что в Библии ни о чем подобном не говорится. Два года назад, когда в своих «Девяноста пяти тезисах» Лютер впервые высказался об индульгенциях, никто – включая его самого – и представить не мог, что со временем он займет столь провокационные и опасные позиции. Он, можно сказать, вынужден был обнажать все больше и больше сомнительных сторон церковного учения – и, как верный сын Церкви, понимал и чувствовал, что, говоря вслух горькую правду, оказывает Святой Церкви большую услугу. Он был уверен, что к этому его побуждает сам Бог. Но как объяснить это церковным вождям? Найдется ли в Риме хоть один человек, у которого достанет духу принять слова Лютера всерьез и ради блага всей Церкви последовать за ним нехожеными тропами назад, к истине?
После Лейпцига
После дебатов Лютер получил письмо от нескольких учеников Гуса. Они приветствовали его усилия и восхваляли, называя «саксонским Гусом» – честь и именование, без которых Лютер вполне мог бы обойтись. К письму прилагались подарки: несколько ножей искусной работы и книжица, где объяснялись взгляды Гуса. Ответ Лютера звучал с предсказуемой осторожностью. Попасться на общении с ревностными последователями известного еретика – последнее, что было ему сейчас нужно. Свой ответ Лютер продиктовал Меланхтону и вложил во второе письмо, адресованное курьеру – чтобы, перехватив письмо, нельзя было вычислить автора. Однако, открыв наконец книжечку с изложением веры Гуса, Лютер был поражен до глубины души. Основная мысль ее состояла в том, что глава Церкви – один Христос, и папа не вправе занимать Его место. Далее Гус писал: от своих слов он не отречется, пока обвинители не покажут ясно от Писания, в чем он ошибается. И за это Гуса осудили и сожгли на костре! Лютера это как громом поразило. «Оказывается, все мы гуситы и сами того не ведаем!» – воскликнул он[181][182].
Мысль, что папа занял место Христа, – притом что, по убеждению Лютера, никто, кроме Христа, не может быть истинным главой Церкви, – побудила Лютера начать называть папу антихристом. Ведь быть антихристом и значит занимать место, которое может занимать один лишь Христос. Все более и более привыкал Лютер таким образом смотреть на папство – и все менее и менее стеснялся об этом говорить. Но не только в этом отношении тон его стал суровее и резче. После дебатов многие гуманисты, как, например, Мосселанус, глубоко впечатленные выступлением Лютера и его аргументацией, начали говорить и писать в его пользу, и часто – без того смирения перед Церковью и папой, которое проявлял сам Лютер. Те же, кто занял сторону Эка, разумеется, отвечали им резкой полемикой. После Лейпцига великие вопросы, обсуждаемые на этих дебатах, перешагнули обычные богословские границы и сделались всеобщим достоянием.
Однако сами Лютер и Эк продолжали спор своим чередом. После диспута оба опубликовали свои отчеты о происшедшем – и каждый постарался выставить себя победителем. Из-за агрессивного и откровенно манипулятивного стиля полемики, а также из-за нападок на Эразма репутация Эка немедленно пострадала, а Лютера – возросла. Например, один из будущих соработников Лютера, Юстус Йонас, перешел на его сторону после того, что увидел и услышал на Лейпцигском диспуте. Он был десятью годами моложе Лютера, блестяще знал греческий и латынь и только что стал ректором Эрфуртского университета. Лейпцигские дебаты изменили для него все: в дальнейшем он стал одним из ближайших друзей и союзников Лютера. Однако Эразм, узнав, что Йонас перешел на его сторону, был опечален и писал ему:
Ты спросишь меня, дражайший Йонас, зачем разразился я этой долгой жалобой теперь, когда дело уже решено. Вот почему: хоть все это зашло куда дальше, чем следовало бы, – надлежит нам не оставлять бдительности и по мере сил искать возможности усмирить эту ужасную бурю… Если и есть в людях, правящих человеческими делами, нечто такое, что нам не по душе, – по моему разумению, нам следует оставить их на усмотрение Господа и Владыки. Если приказы их справедливы, разумно им повиноваться; если несправедливы – долг доброго человека в том, чтобы терпеть, дабы не вышло худшего. Пусть наше поколение и не может вынести Христа во всей Его полноте – по крайней мере будем Его проповедовать, сколько можем[183].
Как видим, Эразм был реформатором совсем иного склада, не похожим на Лютера; поэтому их пути и разошлись.
После диспута Эк нанес визит Фридриху, чтобы сообщить ему, что не остановится в своих попытках положить конец опасной карьере Лютера-еретика. Он сказал, что отправляется в Рим и подаст там доклад против Лютера. И действительно, с этих пор и до самой смерти Лютера Эк оставался его злейшим непоколебимым врагом. Герцог Георг после дебатов также стал убежденным противником Лютера – и таким и оставался вплоть до собственной смерти в 1539 году.
По окончании диспута Георг пришел в ярость от того, что богословы Эрфуртского университета отказались вынести о нем свое суждение. Причины их отказа не вполне ясны. Они указывали на некоторые формальные препятствия – но на деле, возможно, просто не хотели выступать против Лютера, опасаясь, что за это придется заплатить, и предпочли остаться в стороне. Георг лично встречался с ними и пытался принудить вынести решение, но ничего не добился. Обратился он и к парижским богословам – но те, к его удивлению, прежде чем выносить решение, предъявили внушительный счет. Они назначили комиссию из двадцати четырех человек, и каждому предлагалось выплатить по тридцать золотых крон, а также выдать по печатному экземпляру протокола дебатов – что, в силу их продолжительности, также было весьма недешево. Георг решил, что такой наглости потакать нельзя, платить отказался – и не получил ответа.
Однако важен был не официальный исход дебатов, а то, какое впечатление произвели они в интеллектуальных кругах того времени, например, среди нюрнбергских гуманистов. Колесница Реформации стремительно набирала скорость. Писания Лютера, Эка и прочих, связанные с дебатами, печатались, широко распространялись, обсуждались, порождали вторичную литературу – и общественное мнение решительно склонялось на сторону Лютера. Еще сильнее дискредитировала Эка грубая, но блестящая сатира под заглавием «Эк без углов» (здесь игра слов: Eck по-немецки означает «угол»), принадлежащая, как считается, перу нюрнбергского гуманиста Виллибальда Пиркхеймера[184]. Отчасти в результате распространения этой сатиры сочинения Эка начали продаваться все хуже и хуже. Издатели не хотели больше их печатать. Писания Лютера же, напротив, продавались отлично – поэтому их печатали снова и снова, все большими тиражами. Стоит отметить, что Лютер не получил за свои труды ни пфеннига – да к этому и не стремился. Он был счастлив уже тем, что мысли его расходятся по свету и находят себе множество сторонников. Когда герцог Георг запретил лейпцигским печатникам издавать книги Лютера, прибыль их резко сократилась. Читатели жадно поглощали сочинения Лютера, с нетерпением ждали новых – и пути назад уже не было. Мало того: Лютера читали не только в Германии. Он сделался сенсацией и в других странах; на него возникла мода, и другие авторы подхватывали его идеи и старались писать «по-лютеровски».
Привлекательность Лютера отчасти объяснялась его все возрастающей открытостью. Сказав А, он не стеснялся говорить и Б; высказав смелую мысль – не останавливался и перед тем, что из нее следовало. Казалось, сам дух времени едва мог за ним угнаться. Лютер все острее сознавал опасность своего положения – но от этого становился только смелее. «Что я теряю? – думал он. – Я уже рискую жизнью из-за того, что говорю правду: почему же не сказать всю правду?» И спешил думать и говорить, взбираясь на новые и новые головокружительные высоты, – пока ему не заткнули рот, спешил сказать как можно больше.
Например, в проповеди, опубликованной в декабре 1519 года, Лютер заявил – по-немецки, чтобы все его поняли, – что считает необходимым для мирян принимать во время причастия и хлеб, и вино. То же самое говорил и Гус, так что этим Лютер дразнил всех, кто уже называл его «гуситом», особенно Эка. Смысл и последствия этого заявления трудно переоценить. В сущности, Лютер восстановил библейскую мысль о том, что все верующие во Христа равны, а Церковь, уча, что священники чем-то принципиально отличаются от мирян на церковных скамьях, ошибается. Из Писания Лютер почерпнул идею «священства верующих». Всякий истинно верующий – христианин, равный другим христианам; так почему же вино причастия достается только священникам? В Греческой Церкви и других Восточных Церквях на протяжении пятнадцати веков такого разделения не существовало; не было его и у ранних христиан. Так с какой стати? Откуда взялась сама такая мысль? Проповедь свою Лютер опубликовал по-немецки, так что ее повсюду читали и широко обсуждали. Общее чувство недовольства и обиды мирян на клириков нашло себе конкретное приложение и, в каком-то смысле, обрело голос. В сущности, именно этот вопрос стал одним из основных путей, которыми Реформация распространялась от прихода к приходу: все больше и больше верующих требовали, чтобы их причащали не только облатками, но и вином.
На глазах людей – изумленных, не понимающих, что происходит, – таяли снега пятнадцати столетий. Журчащие ручейки становились все смелее, все полноводнее, сливались и превращались в бурный поток. Пройдет всего год – и Лютер разразится грохочущим водопадом таких писаний, каких еще за год до того никто, включая самого Лютера, и вообразить себе не мог. С октября 1519 года по октябрь 1520-го выйдут в свет, один за другим, три величайших его труда. Первый из них озаглавлен «К христианскому дворянству немецкой нации», второй – «О вавилонском пленении Церкви», и третий – «О свободе христианина». События в Лейпциге освободили Мартина Лютера. Именно в этот период – хотя мы точно не знаем, когда и как – он взял себе собственное гуманистическое имя: Элевтерос. Звучит словно латинизация фамилии «Лютер»; но на самом деле это греческое слово, означающее «свободный». Итак, Лютер стал «свободным» – тем, кого Христос освободил и дал возможность говорить правду. А тот, кого освободил Христос, воистину больше никому не раб.
Лютер в самом деле чувствовал себя освобожденным, получившим право говорить все, что считает нужным. Он ощущал, что Дух Святой подхватил его и несет вперед – Ему лучше знать, куда. Пользуясь новообретенной свободой – и временным прекращением огня из Рима, связанным с несколькими причинами, – Лютер начал торопливо переосмысливать все, что прежде казалось ему незыблемым, и об этом писать. До сих пор он писал смиренно и робко, старался сохранять сдержанность и умеренность. Теперь тон его писаний разительно изменился: Лютер заговорил страстно, яростно, агрессивно, нападал на все, на что считал нужным нападать, не задумываясь о последствиях. «Время молчать окончено! – писал он. – Настало время говорить!»[185] Что же произошло с ним – что вызвало такой интеллектуальный и творческий взрыв?
Множество событий, но в особенности два. Первое – то, что в феврале 1520 года Лютер прочел предисловие Ульриха фон Гуттена к новому, от 1517 года, изданию труда Лоренцо Валлы, доказавшего, что знаменитый «Константинов дар» – подделка. Гуттен, знаменитый гуманист, не раз бывавший в Италии, испытывал к папству глубокое отвращение. Переизданием труда Валлы, написанного в минувшем веке, он стремился напомнить обществу то, о чем многие предпочли бы забыть: в течение тысячи лет Церковь использовала доказанный подлог, чтобы затыкать рот своим критикам. «Константиновым даром» именовался документ, написанный якобы императором Константином в начале IV века, в котором вся власть над Западной Европой отдавалась папе; столетиями Церковь ссылалась на этот документ, чтобы доказать нерушимость папской власти. Когда Лютер узнал, что это доказанный подлог, ярость его возросла многократно. Много веков Церковь заставляла людей молчать, внушая им откровенную ложь! Что за ужас, что за позор! Для верного сына Церкви это было предательство, удар в спину – и невольно возникал вопрос: «В чем еще Церковь нам лжет?»
А затем, в июне, Лютер прочитал второй опубликованный текст Приериаса, где повторялись все те же заезженные псевдоаргументы в пользу безусловного папского авторитета. И на этот раз Приериас не просто пренебрегал доводами от Священного Писания и от разума – нет, он отбрасывал и то и другое как нечто, недостойное даже минутного размышления. Авторитет папы попирал все. В своем желании защитить папство Приериас доходил до кощунственного абсурда: по его словам, папа не мог заблуждаться, «даже если бы высказал нечто такое, что отправило бы множество людей… к дьяволу в ад»[186]. Можно ли сильнее, резче выразить идею абсолютной власти, беспардонной и бессовестной – власти, не нуждающейся более ни в каких основаниях и оправданиях? Словно сам сатана предстал перед Лютером с обнаженным окровавленным мечом, с одним лишь ответом для всех искателей Бога и истины: «Дрожи и повинуйся».
Теперь Лютер чувствовал, что борется напрямую с силами ада. И что еще оставалось думать? Тому, что происходило до сих пор, еще можно было подыскать какие-то пристойные объяснения: но теперь Лютер направил фонарь в глубокую нору – и увидел там гнездо гадюк. Против него самого – и против того, что, как он знал без малейшего сомнения, и было доброй, святой и преславной Благой Вестью Иисусовой – принимались самые жестокие, самые подлые меры. Его противники больше не утруждали себя логическими доводами и рассуждениями; что же до Иисуса – и самый слабый след Его из их писаний исчез. Подтвердились худшие страхи Лютера: по всему выходило, что Церковь нынешнего века оказалась под властью антихриста. Молчать об этом или говорить обиняками – теперь, когда он ясно и безошибочно это увидел? Невозможно. Не просто невозможно: немыслимо! Это было бы предательством всего благого, истинного и прекрасного. Если близится конец света и Лютеру каким-то образом удалось заранее об этом узнать – молчать о таком нельзя. Бога он боялся больше, чем смерти, – а Бог приказывал ему говорить. В этот уникальный, переломный момент истории Лютер готов был на все, к чему призвал его Бог. Никаких извинений и отговорок для колебаний больше не было – и Лютер не колебался, ясно чувствуя, что Дух Божий водит его рукой.
Характерно, что лишь теперь он начал слышать в свой адрес прямые угрозы. В апреле Лютер писал Спалатину, что глава Нойеркского капитула в Галле «советовал ему быть осторожнее и предупреждал»:
Даже некоторые враги мои, жалея меня, прислали мне из Хальберштадта предупреждение о том, что есть некий доктор медицины, который умеет с помощью магии становиться невидимым и убивать незаметно; он [якобы] получил приказ убить Лютера и должен прибыть сюда в следующее воскресенье, к выносу реликвий. Такие здесь ходят слухи. Прощай[187].
Не стоит удивляться, что в мире, все еще дышавшем испарениями Средневековья, мысль об убийце-невидимке, появляющемся из пустоты, не казалась чем-то невозможным. В другом письме к Спалатину Лютер писал: «Думаю, все в Риме сошли с ума: они безумствуют, они превратились в маньяков, если не в бесов». В ответе на безумные писания Приериаса Лютер обличал Рим, словно ветхозаветный пророк: «Итак, прощай, богохульный, обреченный, проклятый Рим: гнев Божий над тобою!»[188] Сам Лютер и его перо стали верным оружием этого гнева.
Главное, что произошло за эти двенадцать месяцев перерыва в гонениях – явление трех уже упомянутых сочинений Лютера; поговорим же о каждом из них в отдельности. Однако вполне возможно, что появление на свет этих трех громовых ударов, трех богословских прорывов, от которых у читателей и по сей день захватывает дух, было обусловлено еще одной, очень простой и обыденной причиной. Кажется, именно в это время монашеская практика Лютера, предполагавшая обязательное пение дневных «часов», начала соответствовать его богословию. Иными словами, он перестал ежедневно вычитывать и петь положенные молитвы. Десять лет спустя он писал:
Господь Бог силой отвел меня от канонических часов в 1520 году, когда я уже очень много писал: порой я пропускал свои часы по будням и откладывал на воскресенье, а в воскресенье читал их с утра до вечера, не прерываясь даже на еду и питье; в результате я так ослабел, что и спать не мог и вынужден был прибегнуть к снотворному настою доктора Эша, воздействие которого на свою голову ощущаю и по сей день[189].
Кончилось тем, рассказывал Лютер, что у него накопились непрочитанные часы за три месяца с лишком, – и одна мысль о том, как он будет их нагонять, приводила его в такое уныние, что наконец он совсем бросил эту практику, которую исполнял пятнадцать лет. Вполне возможно, что именно написание этих трех трактатов заставило его расстаться с давней монашеской привычкой, – или же он написал их уже после того, как бросил читать часы. В любом случае, ясно, что отказ от чтения часов значительно повысил его продуктивность.
Поразительна и непредсказуемость, и скорость, с какой Лютер швырнул в мир эти три бомбы. Словно вознаграждая себя за потерянное время, выкрикивал он во всеуслышание все, что хотел сказать, – и, пока его противники, кашляя в дыму первого взрыва, оглядывались и протирали глаза, пытаясь подсчитать ущерб, Лютер уже бросал вторую бомбу – другого рода и в неожиданном направлении, – так что им оставалось лишь в замешательстве смотреть на то, как рушатся их бастионы.
Первым большим трудом Лютера за этот год стало послание «К христианскому дворянству немецкой нации». Опубликовано оно было в августе 1520 года, и первым же изданием Мельхиор Лоттер выпустил не менее четырех тысяч экземпляров – для начала XVI века тираж весьма оптимистический. Однако рискованный шаг Лоттера полностью себя оправдал. Всего за две недели весь тираж был распродан. Второе издание, с небольшими авторскими исправлениями, вышло в том же месяце; всего появились, одно за другим, десять изданий – в Базеле, Страсбурге, Аугсбурге и Лейпциге, откуда новая книга и разлетелась по свету.
Портрет Лютера работы Лукаса Кранаха. 1520
В этом трактате Лютер взял резко полемический тон – по оценке его друга Иоганна Ланга, «пугающий и грозный»[190] – и умело сыграл на беспокойстве немецкой аристократии о том, что папа и итальянцы из Рима с обычным своим итальянским коварством стремятся похитить то, что по праву принадлежит Германии, и установить тиранию над немецкими верующими. Обращаясь к этим аристократам, он призывал их «вернуть нашу землю себе» – то есть сделать Германию независимым государством или союзом независимых государств, с тем чтобы немецкие богатства не уходили больше в распахнутую пасть римской бюрократии. С обычной для себя яркостью образов Лютер называл эту огромную и жадную до денег папскую бюрократию «гнездом гадюк»[191] и утверждал: у немцев нет иного выхода, кроме как с ним покончить.
Несмотря на свое заглавие, трактат, написанный не по-латыни, а по-немецки, был, несомненно, обращен ко всему немецкому народу. Воспользовавшись новой технологией книгопечатания, Лютер обратился через голову культурных элит, доселе составлявших нерушимую стену церковной власти, напрямую к народу. История в лице Гутенберга предоставила возможности, доселе не существовавшие, и Лютер мастерски и с большим успехом ими воспользовался. Эта стена между элитой и народом была для него «линией Мажино», которую он штурмовал своим пером. В письме Венцесласу Линку он так защищал свой резкий полемический тон:
Сыновья Ревекки [уже] во чреве матери соперничали и дрались друг с другом… Даже Павел именует своих врагов то «псами», то «увечными», то «пустыми болтунами», «лживыми бабами», «слугами сатаны» и прочими подобными словами… Кто же не видит, что пророки нападают [на грех народа] с величайшим гневом и яростью? Мы просто привыкли к этим [примерам], и потому они нас не тревожат[192].
Богословие Лютера вело его от переворота к перевороту. Например, новое понимание «священства всех верующих» означало, что вся структура Церкви безосновательна и излишня. Мысль, что существует особая каста людей, обладающих правом проповедовать, наставлять и принимать исповедь, не имеет оснований в Библии. Это – полностью человеческое изобретение, не основанное на Писании. Требование ко всем христианам подчиняться этой системе – особенно если она, как сейчас, используется для тирании, для того, чтобы силой и страхом подчинять людей власти и авторитету, исходящим не от Бога, – совершенно нестерпимо.
По названию империя принадлежит нам, в действительности – папе… Нам, немцам, преподан ясный немецкий урок. Именно тогда, когда думали достичь независимости, стали мы рабами самого безумного из тиранов; у нас есть имперское имя, титул, герб – но все наше достояние, наша власть, наши суды и законы принадлежат папе. Папа оставляет нам кожуру, а все плоды пожирает сам.
Лютер открыто провозгласил, что монополии Римской Церкви на духовность пора положить конец. Бог не отделял и не отделяет священников от мирян. Для того Иисус и сошел на землю, чтобы покончить с этими различиями, чтобы открыть врата небес для всех верующих и всех их призвать к «царственному священству». Все «заново рожденные» – часть Его Церкви; и мысль, что некоторым из них, чтобы служить Богу, нужно проходить рукоположение или пострижение в монахи – просто выдумка.
Это чистый вымысел – что папа, епископы, священники и монахи будто бы относятся к духовному сословию, а князья, господа, ремесленники и крестьяне к сословию мирскому… Все христиане воистину принадлежат к духовному сословию, и нет между ними иного различия, кроме различия по должности… Когда нам говорят, что один лишь папа может толковать Писание, – знайте, это возмутительная и вздорная ложь.
Основываясь на этом новом понимании, Лютер теперь делал то, что прежде счел бы немыслимым и невозможным. Обращаясь к немецким князьям и аристократам, он призывал их сбросить с себя оковы и освободиться. Затем шел еще дальше: раз они – князья в сем временном мире, то должны стать князьями и в мире духовном. К этому призывает их Бог; таков их долг перед Богом и перед подданными. Если папа и его представители не выполняют своих обязанностей – пусть вместо них займется этим немецкое дворянство. Лютер взывал к националистическим и антиримским чувствам, но лишь до определенного предела. Иные желали бы, чтобы он зашел в этом направлении гораздо дальше; однако, беря пример со Спасителя, который отказался, потворствуя желаниям тогдашних ревнителей, сделаться лидером политического сопротивления и попытаться силой сбросить ярмо языческого Рима – Лютер также отказался силой сбрасывать ярмо Рима «христианского». Очевидно, Лютер сознавал политические последствия своих открытий, однако мудро воздерживался от «политизации последних вещей», от попыток сделаться политическим вождем или создать утопическую националистическую программу, рядом с которой Благая Весть отступит на задний план. Лютер не сомневался: Благая Весть должна стоять в центре всего, что он делает.
Однако некоторые его союзники из лагеря гуманистов не боялись двигаться дальше в националистическом направлении. Это были Ульрих фон Гуттен и Франц фон Зикинген. Ульрих фон Гуттен – яркая фигура немецкого гуманизма, поэт, получивший от императора звание лауреата, – ненавидел Рим за его обращение с Германией. Он говорил, что Рим относится к Германии как к «корове в собственном хлеву» – безжалостно доит ее ради нечестивых итальянских излишеств и интриг; и призывал немецкие княжества и вольные города объединиться, создать единое государство, подобное Франции или Испании, и вместе противостоять ненасытной папской алчности. Гуттен надеялся привлечь на свою сторону императора Максимилиана – однако вместе с императором умерла и эта надежда. Но это не обескуражило Гуттена. Он продолжал клеймить папство, именуя его «гигантским кровососущим червем» и «ненасытным амбарным долгоносиком». Красочно описывал он, как этот «долгоносик» пробирается в амбар и…
…пожирает горы плодов земных, да еще и приводит с собой множество других обжор, что сперва сосут нашу кровь, потом поедают плоть, а под конец пытаются размолоть зубами наши кости и сожрать все, что от нас осталось. Неужто же немцы не возьмутся за оружие и не истребят эту прожорливую нечисть огнем и мечом?[193]
Сам Гуттен был рыцарем – и о возможности «взяться за оружие» говорил отнюдь не теоретически. «Мы должны защитить нашу общую свободу, – писал он, – должны освободить наше давно порабощенное отечество»[194]. Для него это было дело свободы и справедливости – лозунгов, очень схожими с теми, под которыми развернулась борьба за свободу 250 лет спустя по другую сторону Атлантики. Как и там, речь шла о налогообложении без представительства. Многие другие рыцари в немецких землях разделяли возмущение Гуттена папской алчностью и тиранией и мечтали сбросить римское ярмо.
Предводителем этих рыцарей был Франц фон Зикинген – яркий персонаж, нечто вроде тевтонского Робин Гуда. Гуттен познакомил его с писаниями Лютера, и после этого оба, Гуттен и Зикинген, объединили свои силы. Позже, когда Лютер не знал, защитит ли его Фридрих, Зикинген дал знать, что в любой момент, если понадобится, сотня рыцарей выступит ему на помощь. Лютер не хотел принимать это предложение, но и отказывать не спешил. Он все еще старался разглядеть во всем происходящем руку Божью – и писал Спалатину: «Неприязни к ним у меня нет, однако не хотелось бы прибегать к их помощи, если только не пожелает того Христос, мой защитник, который, быть может, и вдохновляет этого рыцаря»[195]. В любом случае Лютер понимал, что сейчас перед ним открываются новые возможности: если Фридрих поддастся неотступному давлению папы и решит выдать Лютера, – тот найдет себе в Германии и другое безопасное убежище, где, свободный от тяжкой работы преподавателя и проповедника в Виттенберге, возможно, сможет причинить больше ущерба Риму.
Мы видим, что в 1520 году Лютер уже принял идею полного и невозвратного разрыва с Римом. Быть может, оставалась слабая надежда на то, что Рим все-таки найдет верное решение; но сам Лютер был убежден, что идет верным курсом и не должен отклоняться от выбранного направления ни на шаг. После Лейпцига все для него переменилось. Более, чем когда-либо, он ощущал уверенность в том, что Бог на его стороне, что он защищает истину, более того, что не защищать эту истину – и есть истинная ересь, в которой повинны папа и его приспешники. Это грех против Бога. Вот почему Лютер становился все смелее. «Пусть я не могу сжигать еретиков, – говорил он, – но сожгу все их каноны!»[196]
События прошедшего года вывели его на более одинокие и опасные богословские пути; однако здесь, на территории новообретенной свободы, как никогда расцвела его вера. Теперь он знал и чувствовал, что Бог с ним, – так, как никогда не ощущал этого ранее; и если прежде его и мучал страх перед Римом, – теперь он рассеялся. Всем, что написал и совершил Лютер за этот год, он не просто разрушил все мосты с Римом – предал их огню. Время дискуссий закончилось: теперь он не стал бы продолжать разговор, даже если бы папские нунции толпой приплыли к нему через ров, полный крокодилов, с оливковыми ветвями в зубах!
Пожалуй, самый яркий пример этого видим мы во втором трактате Лютера, ««О вавилонском пленении Церкви»», где он разбирает богословские ошибки всей церковной системы, в которой право совершать семь таинств принадлежит только священникам. Сперва Лютер опрокидывает само старинное представление о «семи таинствах»: у него, говорит он, нет ни библейского основания, ни объективных причин. То ли с безумной гордостью, то ли с пророческой властью он подвергает его ревизии, выкидывает пять таинств из семи – и говорит, что истинными таинствами являются только оставшиеся два. Лишь они, пишет Лютер, установлены самим Христом: это крещение и причащение. Остальные пять – конфирмация, брак, рукоположение, покаяние и миропомазание – человеческие выдумки: пусть отправляются на помойку, где им и место. С точки зрения Эразма, это знаменовало конец всех надежд на то, что Лютер останется в Церкви.
Прежде чем закончить третью часть своего ядовитого триптиха, Лютер еще раз встретился с Мильтицем – который, казалось, все-таки решился переплыть зловонный ров с оливковой ветвью. Чрезвычайными усилиями удалось ему уговорить Лютера написать папе Льву X еще одно письмо. Лютер так и сделал – и это письмо добралось до папы. Лютер отправил его в Рим, приложив к своему трактату «О свободе христианина». В письме, демонстрируя благородство (или, как скажут иные, слабость), он отделяет папу от его окружения и отзывается о нем даже с сочувствием: мол, не столько сам он грешит, сколько против него грешат другие. Он – жертва злых льстецов, обступивших папский престол инкубов в кровавых шапках. В роли антихриста в этом письме выступает не сам Лев X, а папство как таковое, со всей своей церковной машинерией. Папу Лютер в письме по-прежнему называет «отцом» и «святейшим Львом», стараясь отделить его от того греховного фарса, что его окружает. Он пытается дать Льву X возможность сохранить лицо, перейти на правильную сторону и сделать нечто такое, что позволит Церкви преобразиться и выжить.
Но, говоря о самой падшей Церкви, Лютер в этом письме не скупится на яростные атаки:
Церковь Римская, в былые времена святейшая из всех Церквей, ныне сделалась самым беззаконным из разбойничьих притонов, самым бесстыдным из домов разврата, истинным царством греха, смерти и ада, так что даже антихрист, если явится, не сможет ничего добавить к ее порочности…
Пусть не обманут вас эти люди, что называют вас властителем мира, уверяют, что без вашего позволения никто не может быть христианином, болтают, будто бы вы обладаете властью над небесами, адом и чистилищем… Те, что называют тебя блаженным – тебя обманывают. Они вводят тебя в заблуждение и губят пути твои[197].
Людей, обманывающих папу, Лютер именует «безбожными льстецами» и объясняет, что в силу сложившейся ситуации считает нужным обратиться к церковному собору. Он явно не хочет оскорблять папу лично. Однако и чувств своих не скрывает:
Ваш престол, римская курия воистину мне ненавистны. Ни вы, ни кто иной не в силах отрицать, что разврат ее превосходит былой разврат Вавилона и Содома. Безбожие ее, сколько мне видится, безнадежно и неисправимо.
Что же должен был со всем этим делать изнеженный Лев X? Вера Лютера, уверенность и смелость, с которой он обращается к самому папе, по меньшей мере впечатляют; пройдет немного времени – и так же смело будет он говорить лицом к лицу с императором. Несколькими месяцами ранее он написал новому императору письмо, где говорил:
Молю Ваше Светлейшее Величество, Карла, первейшего из царей земных, о том, чтобы вы соблаговолили принять под сень крыльев ваших не меня, но само дело истины, ибо только властью этой истины дан вам меч для наказания злых и поощрения добрых[198].
И к папе, и к императору Лютер неизменно обращался смиренно и уважительно, однако ясно давал понять: они тоже находятся под властью истины и Бога и, более того, сохраняют право на власть лишь до тех пор, пока действуют в соответствии с Богом и истиной. Можно сказать, что Лютер напоминал им об истинном, евангельском положении вещей: ни один человек не может встать над истиной или над законом Божьим, и даже он, скромный монах, вправе требовать от власть имущих, чтобы они правили в соответствии с истиной и Божьими законами. Так богословие Лютера, основываясь на поразительном евангельском призыве к равенству, актуализировало этот призыв, вывело его в политическую плоскость – и тем навеки изменило наш мир.
Сам трактат, однако – сочинение совсем иного толка. Начинается он с примечательного силлогизма или, говоря словами самого Лютера, «двух предпосылок о свободе и рабстве духа»:
Христианин является совершенно свободным господином всего сущего и не подвластен никому.
Христианин является покорнейшим слугой всего сущего и подвластен всем[199].
В последнем из трех трактатов Лютер проговаривает последствия идеи sola fide (спасения одной верой), смело декларирующей, что спасение приносит нам вера в Иисуса, а не наши собственные нравственные усилия. Своей смертью на кресте Иисус уже сделал все необходимое, чтобы привести нас на небеса, – нам остается только ему довериться. Пытаться прибавить к тому, что сделал Иисус, какие-то собственные дела, – нелепо, не говоря уж о том, что это ересь, оскорбляющая Бога. Мы не можем заслужить рай своими делами; Иисус уже сделал это за нас. Все, что нам нужно – принять Его свободный дар. Увидев величие этого дара, мы начнем творить добрые дела свободно, в виде благодарности за уже дарованное Богом спасение, а не для того, чтобы его заслужить. Принимая свободный дар любви Божьей в Иисусе, мы испытываем естественное желание любить в ответ и Бога, и ближнего:
Когда Бог по чистому милосердию Своему, без всяких моих заслуг, одаривает меня несказанными богатствами, – неужели же я свободно, радостно, от всего сердца не поспешу сделать все, чем могу Его порадовать? Как Христос отдал Себя за меня, – так и я, подражая Христу, отдам себя ближнему[200].
Приняв Христа, мы немедленно становимся праведниками – благодаря Его праведности, а не тому, что сделали или можем сделать сами. Добрыми делами мы не в силах заслужить благоволение Божье. Это благоволение у нас уже есть – хоть мы и грешники, которые грешат и не могут перестать грешить. Верою обратиться к Богу – именно как грешники, понимая, что мы грешники, – и воззвать к Нему о помощи, признав свою беспомощность, – вот и все, что мы можем для себя сделать. И в этот миг – когда мы признаем свое положение и с верою обращаемся к Богу, – Бог немедля покрывает нас Своей праведностью. А наша благодарность Богу за этот свободный дар праведности и спасения вызывает в нас желание порадовать Его добрыми делами. Мы творим добрые дела не из какой-то тяжкой формальной обязанности, не в надежде заслужить этим благоволение Бога, но из чистой благодарности за то благоволение, что у нас уже есть. Наше служение Богу уже искуплено – и бескорыстно. Такова сила веры в Христа. Все низменное, все мертвое верою искупается и преображается в жизнь и славу.
Эту мысль Лютер выражает в типичном для него красочном образе. «Что за неравный брак! – восклицает он. – Христос – богатый, благородный, благочестивый жених – берет себе в жены нищую, грязную уличную потаскушку, искупает ее от всякого зла, осыпает своими сокровищами». Павел и Августин, возможно, никогда бы так не выразились – однако именно это неоспоримо и неизбежно вытекает из их богословия. Эта основная богословская мысль стала для Лютера плодородной почвой, из которой произросло все остальное. Если мы, грешники, обреченные на ад, полностью искуплены – значит, нет в нашем мире такого зла, такого уродства, какое невозможно было бы преобразить и искупить. Следовательно, нет в нашем мире ничего такого (включая и наши тела, и все телесные проявления, в том числе и сексуальность), от чего благочестивый человек должен бежать или стремиться это преодолеть; все, что есть в мире, нужно принимать с распростертыми объятиями, – так, как принимает и искупает весь мир Бог. Ничто в мире не должно погибнуть, исчезнуть, погрузиться в забвение – все в нем искуплено и радостно шествует в вечную славу Божью.
Однако рано или поздно этой бешеной продуктивности должен был настать конец. Новый император наконец обратил внимание на Германию; и Рим возобновил свои попытки изловить дикого кабана, разоряющего нежные папские виноградники.
Глава девятая Булла против Лютера
Ты погубила истину Божью – и ныне Господь погубит тебя. Пусть пожрет тебя огонь!
Мартин Лютер, при сожжении папской буллыЛютер писал трактат за трактатом – а тем временем за девятьсот миль к югу от него, в сияющих мраморных дворцах Рима, вновь закрутились позолоченные шестеренки папской машинерии. В феврале 1520 года Каэтан стал сопредседателем комиссии по исследованию лютеровых писаний, а в марте добился их осуждения в Левенском и Кельнском университетах. Когда зловоние этих махинаций долетело до Лютера, он остался непоколебим: «На это осуждение, – писал он, – мы обратим не больше внимания, чем на бессвязные крики пьяных баб»[201].
Из Лейпцига Эк направился в Рим. Попал туда лишь в марте 1520 года – однако, едва приехав, развернул бурную деятельность против своего противника. Он написал отчет о дебатах, в котором подчеркнул, что спор вышел далеко за пределы вопроса об индульгенциях. Рассказал о том, как Лютер практически открыто перешел на сторону гуситов, как заявил, что и папские соборы, и сам папа могут ошибаться. Разумеется, ни Эк, ни обитатели Рима, занятые «делом Лютера», не знали еще о трех великих трактатах, которые предстояло написать Лютеру в этом году – и о том, что в них он зайдет куда дальше, чем в Лейпциге. Во всяком случае, Эк присоединился к римской группе борцов с Лютером, занятых составлением против него папского указа. Каэтан считал, что в этом документе необходимо методично изложить все обвинения против Лютера и каждое из них обосновать, но Эк с ним не соглашался, считая, что сомнительные утверждения Лютера достаточно перечислить. В конце концов Эк победил – и на свет появилась булла[202] с упоминанием сорока одной статьи, каждая из которых осуждалась как «еретическая, или соблазнительная, или оскорбительная для благочестивых ушей, или опасная для простых умов, или противная католической истине» (2); однако какие именно из этих сорока одного пунктов можно назвать ересью, оставалось неясным. Нечто подобное было проделано и сто лет назад с Яном Гусом.
2 мая Эк был избран для того, чтобы представить готовую буллу папе Льву, который, как предполагалось, добавит к ней вступительное слово. Лев в это время, покинув шумный и зловонный Рим, развлекался охотой в своем роскошном имении Мальяна на Тибре. Он увлекался этим благородным спортом и много времени проводил за городом в охоте на кабанов. Известно, что Лев даже шокировал папского церемониймейстера, сбрасывая на время охоты неудобное папское одеяние и облекаясь вместо него в охотничий костюм[203]. Сохранились рассказы о том, что зайцев и прочей дичи, испокон веков обитающей в местных лесах, папе-Нимвроду было недостаточно – и специально для него в охотничьи угодья выпускали зверей, выращенных на фермах неподалеку. Но и этого ему казалось мало – и, чтобы удовлетворить его охотничий пыл, в леса на Тибре порой привозили экзотических зверей. Однажды в Мальяну привезли даже старого и немощного леопарда – и здесь, от холеных рук папы Льва, несчастный зверь нашел свой конец.
«Exsurge Domine», 1520. Aetatis 36
Здесь, на лоне природы, среди охотничьего снаряжения, написал Лев латинское вступление к булле, в котором уподобил Лютера «дикому кабану», разоряющему виноградник Господень. Чуть дальше в том же вступлении Лютер каким-то волшебством превратился в ядовитого змея, притаившегося на поле Господа. Сознательно ли понтифик превратил Лютера из свиньи в змею или просто оговорился, а приближенные не решились указать ему на ошибку – история умалчивает. Булла получила свое название по первым громогласным словам вступления – «Exsurge Domine», что означает: «Восстань, Господь!» Далее Лев писал (и Лютера, несомненно, должна была поразить ирония, заключенная в этом риторическом ходе): «Восстань, Павел, учением своим и смертью своей просветивший и поныне просвещающий Церковь! Восстаньте, все святые, вся вселенская Церковь, ибо враг нападает на ваше толкование Писания»[204].
Булла, датированная 15 июня, 24 июня была опубликована официально – вывешена в римском соборе Святого Петра. Теперь ей предстояло совершить долгий путь на север, публикуясь по дороге везде, где найдутся место и грамотные люди, способные ее прочесть, – и, наконец, пройдя девятьсот миль, предстать перед взором того, кого она осуждала. Задача отвезти сто экземпляров документа на опасную территорию, где ширилось сочувствие Лютеру, была поручена двоим папским нунциям: самому Эку и Джироламо Алеандро, также известному как Иероним Алеандр, выдающемуся богослову, прежде канцлеру Сорбонны, ныне пребывающему на службе у Льва X на должности «библиотекаря Ватикана». Именно Алеандру поручили доставить буллу императору, затем в Нидерланды, а затем в кафедральные города Западной Германии, в том числе в Майнц и Кельн. Задача Эка была намного сложнее. Он должен был отвезти суровый приговор в города Южной Германии и в саму Саксонию. Лишь после этого, когда булла будет официально опубликована в трех кафедральных городах Саксонии – в Майсене, Мерзебурге и Бранденбурге, – начнется отсчет шестидесяти дней, в течение которых Лютер должен будет явиться в Рим[205].
Везде, где публиковалась булла, следовало сжигать сочинения Лютера. Однако чем ближе к Виттенбергу, тем хуже принимали местные жители Эка и его миссию. Определенно не все здесь готовы были согласиться с обвинениями буллы. Лютер и его труды приобретали в Саксонии все большую популярность, и даже в Лейпциге, год назад дружно приветствовавшем Эка, теперь его встречали прохладно. Сам герцог Георг, благодаря выступлению Эка ставший злейшим врагом Лютера, поначалу радостно его приветствовал и даже вручил золотую чашу, полную гульденов; однако и он в конце концов отложил публикацию буллы на неопределенное время, так что в Лейпциге она так и осталась необнародованной. Книги Лютера здесь тоже не жгли. В конечном счете только один преподаватель Лейпцигского университета – с очень подходящим гуманистическим прозвищем Вулкан – отправил в огонь небольшую стопку Лютеровых сочинений.
Понятно, что Эк не горел желанием собственноручно доставлять буллу в Виттенберг – и обошел эту проблему, отправив ее в Виттенбергский университет с посыльным. Когда она наконец попала в руки к ректору университета, тот заметил, что доставили ее «каким-то воровским манером»[206]. Самого Фридриха в это время в городе не было – он уехал в Кельн на коронацию нового императора. Эк, скорее всего, этому только порадовался: меньше всего хотелось ему вручать буллу Фридриху из рук в руки! Не стал он лично встречаться ради этого и с братом Фридриха, герцогом Иоганном. Иоганн пребывал в то время в своей герцогской резиденции в Кобурге. Сославшись на то, что у него нет хорошего костюма, подходящего для приема при дворе, Эк и здесь с радостью свалил грязную работу на посыльного.
Однако в последние дни сентября Эк успешно выполнил, по крайней мере, одну свою задачу, и притом главную – доставил буллу в три кафедральных города Саксонии. Последним стал Бранденбург, где она была опубликована 29 сентября, – и с этой даты пошел отсчет шестидесяти дней для Лютера. В конце ноября Лютер должен был предстать перед судом римской инквизиции; не явившись, он автоматически получал клеймо еретика и отлучение от Церкви.
Сам Лютер впервые услышал о булле 1 октября, а десять дней спустя получил ее на руки. Резкий тон буллы так его удивил, что поначалу он даже усомнился в ее подлинности: может быть, это сам Эк написал? – спрашивал он. Надо сказать, что так же подумал, впервые прочтя буллу, и Эразм. Встретившись с Фридрихом в Кельне, Эразм, на правах давнего друга, откровенно изложил ему свои соображения по поводу Лютера и его дела – сказал, что Лютер высказывается слишком уж резко и язык его может вовлечь их всех в большую беду. Однако посетовал он и на неумеренную резкость и жесткость буллы – и, по-видимому, именно он убедил Фридриха защищать Лютера всеми силами и средствами. Поэтому, встретившись наконец с новым императором, Фридрих убедил его не просто осудить Лютера на грядущем рейхстаге в имперском городе Вормсе, а сперва хотя бы его выслушать.
Тем временем Лютер оставался в Виттенберге – и вовсе не собирался по собственной воле лезть в зловонное болото, именуемое Римом. День за днем протекал установленный срок; подошел уже и конец ноября – а он не трогался с места. Однако до Лютера доходили слухи о том, что везде, где публикуется булла, власти сжигают его книги – хоть и не всегда с таким энтузиазмом, на какой надеялись папские нунции. Первое публичное сожжение произошло 8 октября в Левене под руководством Алеандра, в присутствии всего местного богословского факультета – хотя многие богословы были этим недовольны, так как тоже сомневались в подлинности буллы. В Кельне архиепископ дал согласие на сожжение книг Лютера, однако городской палач, в чьи обязанности входило исполнить сожжение, отказался выполнять свою задачу, пока не увидит имперскую печать. Здесь возникла заминка: печать имелась на оригинальном экземпляре буллы – но не на копиях. Но в конце концов архиепископ настоял на своем, и труды Лютера отправились в огонь.
Таких же половинчатых результатов добились нунции и в Майнце. Архиепископ этого города, Альбрехт, и был адресатом знаменитого письма Лютера от 31 октября 1517 года – и именно он переслал письмо Лютера вместе с его тезисами в Рим, воспламенив тот пожар, что теперь угрожал разгореться до небес. Однако сейчас, к концу 1520 года, Альбрехт сам не очень понимал, как относиться к Лютеру и его учению. Отчасти причина этого была в том, что он подпал под влияние Ульриха фон Гуттена, твердого сторонника Лютера. В конце концов Альбрехт дал согласие сжечь лютеровы книги. Однако, когда на городской площади уже был сложен костер – майнцский палач, как и его собрат по профессии в Кельне, вдруг усомнился. Прежде чем зажечь огонь, он обратился к толпе, собравшейся на площади, с громким вопросом: законно ли это осуждение и казнь? Толпа, совершенно не сочувствовавшая ни Алеандру, ни папе, ответила оглушительным: «Нет!» Услышав это, палач немедленно спустился с костра и отказался продолжать. Алеандр, ошарашенный и раздосадованный, поспешил назад в резиденцию архиепископа – за справедливостью. Альбрехт заверил его, что назавтра они попробуют еще раз. И 29 ноября, когда палач снова отказался выполнять свою работу, Альбрехт в конце концов уговорил поджечь костер какого-то местного могильщика. Присутствовали при этом, по-видимому, лишь несколько женщин, шедших на рынок продавать гусей[207]. Однако вскоре появились и сторонники Лютера; они принялись бросать в Алеандра камнями и, если бы не вмешательство самого архиепископа, весьма возможно, его бы убили.
Лютер сжигает буллу
И вот наконец 10 декабря – ровно через шестьдесят дней после того, как буллу прочитал сам Лютер, – на тех же деревянных дверях, где тремя годами ранее Лютер вывесил свои исторические тезисы, Филипп Меланхтон опубликовал приглашение на мероприятие, подобного которому христианский мир еще не знал. Афиша обещала «благочестивое религиозное зрелище, ибо, быть может, настало время разоблачить антихриста»[208]. Но что же именно произойдет? Это объяснялось дальше: сожжение некоего документа – нет, не одной из книг Лютера, уничтожить которые повелевала папская булла, а самой буллы! Будь дело в 1960-х годах, такое мероприятие назвали бы «хэппенингом» – постановочным событием, имеющим общественно-политический смысл. Лютер символически перевернул ситуацию вверх дном: не Церковь отлучала его – он сам отлучал лже-Церковь.
Мероприятие, организованное одним из ревностных учеников Лютера и Меланхтона, Иоганном Агриколой, должно было пройти за городскими воротами, поблизости от мест обитания диких зверей и на том самом месте, где сжигали белье и одежду умерших от чумы. Здесь, на краю вонючей мусорной ямы, Агрикола и другие сложили костер; и в назначенный час – девять утра – в присутствии нескольких сотен преподавателей и студентов, свидетелей этого великого мига, Лютер бросил в огонь, одно за другим, все писания лже-Церкви. Сгорели и папские указы, и сборник церковных канонов, и сочинения Эка и «козла» Эмзера. Агрикола уговаривал товарищей-студентов пожертвовать экземплярами «Комментариев» Дунса Скота и «Суммы» Фомы Аквинского, чтобы торжественно отправить в огонь и ведущие образцы схоластики – но с этими дорогими книгами никто расставаться не захотел. Наконец, когда сгорело все остальное, Лютер жестом фокусника извлек из складок плаща ту самую папскую буллу, что угрожала ему отлучением. Он произнес слова псалма 21:10, о котором в это время читал лекции в университете: «Ты погубила истину Божью – и ныне Господь погубит тебя. Пусть пожрет тебя огонь!»[209] – и, взмахнув рукой, бросил папский указ в пылающие языки костра.
Отлученный. Aetatis 38
3 января нового 1521 года папа, видя, что шестьдесят дней давно прошли, а от Мартина Лютера нет ни гласа, ни послушания, выпустил за своей папской печатью новую буллу, в которой исполнил угрозу предыдущей: официально отлучил Мартина Лютера от Церкви. Однако распоряжения этой буллы касались не только самого Лютера. Это было официальное извещение, касающееся всех в империи: каждый, кто каким-либо образом поддержит отлученного или ему поможет, будет отлучен сам. Все города и территории, поддерживающие Лютера, объявлялись «под запретом» – то есть также были отлучены от Церкви. Совершать в их церквях, над их жителями любое из семи таинств запрещалось. Таково было последнее, самое мощное оружие Церкви: отказать в таинствах – то есть в самом спасении – тем, кто ослушался ее предостережений. Для людей, твердо веривших, что ад реален и папа обладает над ним властью, это была не шутка. Каждый из них рисковал больше чем жизнью – бессмертной душой.
Один из кардиналов, Пьетро Аккольти, приложивший руку к черновику новой буллы, говорил: «Надеюсь, едва эту буллу опубликуют в Германии, весь тамошний народ проклянет Лютера»[210]. Такой исход казался очевидным. Однако вышло ровно наоборот: Риму пришлось наглядно убедиться, насколько пошатнулся в Германии его авторитет. Едва булла увидела свет, многие немцы восприняли ее как приглашение последовать виттенбергскому примеру Лютера: они раскладывали на площадях своих городов костры – и бросали в огонь экземпляры буллы, а с ними и другую ненавистную литературу.
Беззаботный гедонист Лев и его курия с самого начала оценили ситуацию неверно – и теперь каждым своим шагом лишь усугубляли положение. Одна из ошибок состояла в том, что они недооценили уровень народного недовольства, на котором умело сыграл Лютер. Повсюду в Германии, да и в других странах, острые вопросы Лютера к Риму и его безжалостные ответы с восторгом встречал не только простой народ, увидевший в Лютере своего представителя и защитника, но и видные интеллектуалы, такие как Эразм. Рим не смог вовремя затушить пожар: огонь начал распространяться под землей, теперь пламя вырывалось наружу то здесь, то там – и загасить его было уже невозможно.
Для Лютера уже в первую неделю этого исторического года стало ясно, что назад пути не будет. И он официально распрощался с местом, которое когда-то считал духовной родиной всякого христианина на Западе:
Прощай же, злосчастный, падший, богохульный Рим… Гнев Божий над тобою – заслуженный гнев! Мы плакали об этом Вавилоне, но он не исцелился. Оставим же его – пусть сделается он обиталищем змеев, призраков и ведьм, местом вечной скорби, новым пантеоном порока[211].
Папа, со своей стороны, уже понял, что все усилия его тщетны и нужно заручиться поддержкой императора, – если Карл V не поддержит запрет, от него будет мало толку. В письме к Карлу Лев поднялся на невиданные прежде высоты лести:
Как два светила небесных, солнце и луна, превосходят своим сиянием любую из звезд, так и на земле сияют два величайших правителя, папа и император, которым все прочие земные князья обязаны повиновением[212].
Сравнение с луной, быть может, звучало и лестно, однако был в нем и подтекст, которого Карл не мог не заметить: весь свет, который изливает на мир луна – то есть вся сила и власть императора, – исходит от солнца-папы, единственного источника света в европейской Солнечной системе. С политической точки зрения ничто не мешало императору занять сторону папы против Лютера; однако он понимал, что в Германии Лютер пользуется чрезвычайной популярностью, и открыто бороться с ним – все равно что идти по натянутому канату. Решение он увидел в том, чтобы не тащить Лютера силой в Рим, а повторить то же, что сделал его предшественник, когда Лютера вызывали в Рим в прошлый раз. Тогда Максимилиан I, на правах императора, предпочел выслушать Лютера на своей территории – в Аугсбурге. И теперь Карл поступит так же – призовет Лютера на ближайший имперский рейхстаг. Изначально рейхстаг был запланирован в Нюрнберге, но там разразилась чума, и место пришлось изменить. Решено было провести рейхстаг в городе Вормсе, в Центральной Германии.
Впрочем, на сравнении с солнцем и луной Лев не остановился. 25 февраля он выражал великую «радость от того, что Его Величество соперничает с Константином, Карлом Великим и Оттоном I в своей ревности к делу Церкви». А в марте Карл отправил «дикому кабану» письмо, которое для ушей папы должно было звучать как признание в любви. «Благородному и досточтимому Мартину Лютеру, – так писал император. – Мы и рейхстаг приняли решение призвать вас в Вормс под охранной грамотой и обещанием безопасного проезда, дабы вопросить о ваших книгах и учении». И, чтобы Лютер не счел этот приказ за просьбу, которую можно и не выполнить, добавлял: «Ждем вашего приезда через двадцать один день»[213].
Письмо императора прибыло в Виттенберг 26 марта; поскольку на этот раз приказ исходил от высшей светской власти – и поскольку Вормс был куда ближе (и, следовательно, безопаснее) Рима, – Лютер без колебаний готов был отправиться в путь. «Сердечно рад, – писал он, – что Его Величество готов заняться этим делом – не моим, но делом всего христианства и всей немецкой нации»[214].
В сущности, еще три месяца назад, в конце предыдущего года, Лютер знал, что следующий рейхстаг состоится в Вормсе, и ожидал, что его могут вызвать туда. Об этом он писал Спалатину:
Если меня вызовут туда, – разумеется, поеду и приложу все силы, чтобы туда попасть, даже если не смогу дойти сам и меня придется нести, как больного. Ведь для меня нет сомнений, что, когда призывает император, – призывает Господь. Более того: если ко мне применят силу, что очень вероятно (ибо, очевидно, меня хотят призвать туда не для того, чтобы чему-то научить), – и здесь я положусь на Господа. Жив и правит миром Тот, Кто спас трех отроков из печи царя Вавилонского. Если Бог не захочет сохранить мне жизнь, – что ж, моя голова немного стоит в сравнении с головой Христа, отправленного на смерть людьми, не ведавшими, что творят: для всех камень преткновения, для многих погибель. Позаботимся лучше о том, чтобы не выставлять Благую Весть, которую мы наконец начали проповедовать, на посмешище перед безбожниками и не давать врагам повода похваляться своей победой, говоря, что мы не осмелились исповедовать то, чему учим, и побоялись пролить за это кровь. Да сохранит нас милосердный Христос от такого малодушия и такой похвальбы врагов наших. Аминь[215].
Получив наконец от императора приказ явиться на рейхстаг, Лютер понял: грядет событие большой исторической важности. Для него это было ни более ни менее как новая схватка двух сил, враждующих со времен грехопадения. Известно, что Лютер не любил хранить документы – но это письмо он сохранил и передал, как реликвию, своим потомкам.
Глава десятая Рейхстаг в Вормсе
На том стою и не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь.
Мартин ЛютерЕсли мне покажут, в чем моя ошибка, я первый брошу свои книги в огонь.
Мартин ЛютерНа рейхстаг в Вормс[216] Лютер отправился 3 апреля, в среду пасхальной недели. Карл отправил ему приказ с имперским герольдом Каспаром Штурмом: теперь этому герольду, вместе со своим слугой, предстояло проехать триста миль во главе процессии, везя с собой охранную грамоту, обеспечивающую Лютеру безопасность. Нашивка на рукаве у герольда – имперский орел – предупреждала всех и каждого, что причинить вред ему или его спутникам – все равно что напасть на самого императора. Понимая важность этой поездки для Лютера, в снаряжении его в дорогу принял участие весь Виттенберг. По распоряжению городского совета и на средства ювелира Христиана Деринга для Лютера изготовили карету. Университет выделил ему двадцать гульденов на дорожные расходы, а герцог Иоганн, брат Фридриха, и друг Лютера Иоганн Ланг добавили к этому свои взносы.
Портрет Лютера в докторской биретте. Лукас Кранах. 1521
Хоть Штаупиц и освободил Лютера от послушания августинскому ордену, Лютер последовал старой августинской традиции путешествовать по двое: спутником его в этой поездке стал некий Иоганн Петценштейнер из Виттенбергского монастыря, ничем более не прославившийся. Впрочем, и без спутника-монаха Лютеру едва ли пришлось бы скучать в одиночестве. В карете с ним ехали его друг Николас фон Амсдорф, а также Петер Швауэ, молодой дворянин из Померании: он слушал выступление Лютера в Лейпциге и был так им очарован, что немедля переехал в Виттенберг и сделался его учеником. По дороге Лютер читал и объяснял своим спутникам книгу Иисуса Навина, а порой развлекал их игрой на лютне.
Везде, где останавливалась процессия, Лютера встречали толпы почитателей. Быть может, до сей поры он не вполне понимал, насколько широко распространились и книги его, и учение; открытие это было и поразительным, и радостным, и в чем-то пугающим. Теперь не приходилось сомневаться: Лютер стал знаменитостью – пусть в эти времена и в этой части света самого такого понятия еще не существовало. Все знали его дело во всех подробностях; все хотели посмотреть на человека, который не побоялся бросить вызов римскому папе, а теперь готов предстать перед самим императором.
Являлся ли когда-нибудь прежде – в Германии или в любой иной стране – народный защитник и заступник, готовый возвысить голос за простых людей перед теми, кто их тиранит и гнетет? В этом смысле Мартин Лютер стал в истории чем-то совершенно новым. Благодаря гравюрам Кранаха, широко разошедшимся по свету, внешность Лютера стала известна всем, кто читал его книги – а кто их не читал? Чьи лица в истории – если не считать лиц царей, королей и императоров на монетах – расходились такими тиражами и становились узнаваемы в каждом доме? Родился народный герой – а с ним, в каком-то смысле, и сам народ. В первый раз на сцену мировой истории вышли народные массы, с монахом из Виттенберга во главе – вышли, чтобы никогда более не прятаться в тени. В этом смысле в Виттенберге тоже родилось будущее.
Для всех этих людей, ждущих, когда Лютер проедет в своей карете через их город, все это казалось какой-то сказкой, а сам он – сказочным героем, рыцарем, бесстрашно борющимся за истину и справедливость. Многие были уверены, что едет он на смерть, – и прямо ему об этом говорили. В городе Наумбурге некий клирик из самых лучших побуждений подарил ему портрет Савонаролы, сожженного на костре в 1498 году почти за то же, что делал сейчас Лютер. Как поступил Лютер с этим благонамеренным, но странным и довольно-таки зловещим подарком – история умалчивает.
То, что Лютер в каком-то смысле стал первой знаменитостью современного мира, прямо связано с огромной распространенностью его публикаций, вместе с портретами Кранаха. За месяц до того Лютер отправил письмо Спалатину, вложив в него, по предложению Кранаха, несколько экземпляров своих книг с автографами[217]. Новые технологии, позволяющие печатать книги в почти неограниченном количестве и снабжать их гравированными иллюстрациями, сделали возможным то, что было невозможно прежде: теперь автор – лицо и живой голос, умеющий говорить с простыми людьми, – мог беспрепятственно выйти в мир и напрямую заговорить с булочниками, мясниками, свечниками, со всеми этими обывателями, не знающими латыни, которых никто до сих пор не приглашал принять участие в обсуждении мира, в котором они живут, и учреждений, определяющих собой их жизнь. Как же льстило им, должно быть, что этот великий ум, этот даровитый и влиятельный человек говорит с ними как с равными – и выступает перед папой и императором в их защиту! Подобного история еще не знала.
Первой остановкой на пути маленького каравана стал Эрфурт: город, где Лютер учился, где ушел в монастырь и откуда переехал в Виттенберг, провожаемый не самыми добрыми чувствами собратий-монахов. Но теперь все изменилось. Едва карета Лютера приблизилась к городу, навстречу ему выехал эскорт из шестидесяти всадников: конные горожане, под предводительством эрфуртского гуманиста Крота Рубиана, когда-то соученика Лютера, а теперь ректора местного университета, торжественно сопроводили его карету от городских ворот до центральной площади. Въехав в город, Лютер был глубоко тронут тем, что увидел. Улицы Эрфурта переполнились его почитателями. Иные даже залезли на стены и на крыши, чтобы хоть одним глазком взглянуть на великого человека, в одно время с которым им выпало жить. Поэт Эобан Гесс прочел Лютеру хвалебную оду, сравнивая его труды в Церкви с пятым подвигом Геракла – расчисткой Авгиевых конюшен.
В воскресенье Лютер произнес проповедь в местной церкви – и церковь была так набита народом, что в какой-то миг галерея, на которой столпилось невиданное множество людей, затрещала, словно готовая обрушиться. Люди бросились кто куда, кто-то побежал к окнам и начал высаживать рамы, чтобы прыгать вниз. Но Лютер, убежденный, что все это проделки сатаны, желающего помешать его проповеди, успокоил людей: приказал стоять спокойно, уверил, что галерея не обрушится, – и так оно и вышло. Здесь же, в Эрфурте, к процессии присоединился еще один человек – Юстус Йонас, теперь преподававший на здешнем богословском факультете.
Приехав в Готу, Лютер и там произнес проповедь. Однако в то самое время, как он проповедовал с кафедры, с церковной колокольни вдруг сорвались несколько камней и с шумом рухнули наземь. И снова Лютер не усомнился в том, что это проделки дьявола. Двести лет колокольня стояла спокойно, ничего с нее не падало – с какой же стати начала она рушиться именно теперь, когда Лютер проповедовал слово Божье? Лютер знал, что его путешествие имеет важное духовное значение и очень тревожит сатану. Но что дьявол может с ним поделать? Лишь бессильно бесноваться на берегах, между которыми с ревом мчится вперед мощный поток Святого Духа.
Дальше дорога привела их в Тюрингию, в любимый Лютером Айзенах. Однако вечером в Айзенахе Лютер серьезно заболел: у него началась лихорадка, и друзья даже опасались за его жизнь. Пришел врач – и сделал то, что обычно делали в те времена доктора, когда не понимали, что за болезнь перед ними и как ее лечить: пустил Лютеру кровь и прописал хорошую дозу шнапса. Как ни странно, такое лекарство сработало: скоро Лютер оправился, по крайней мере настолько, что мог ехать дальше. Он был убежден, что и эта внезапная болезнь – дело рук врага рода человеческого и истины, готового на все, чтобы помешать Божьим замыслам; и все эти препятствия лишь убедили его в необходимости во что бы то ни стало добраться до Вормса. Миконий, написавший в 1541 году хронику путешествия Лютера, передавал такие его слова: даже если, мол, на пути его встанет огонь до небес – и тогда он выполнит приказ императора, явится в Вормс и не убоится «пнуть Бегемота прямо в его великанские зубы»[218]. Все трудности, что встречал Лютер на пути, лишь укрепляли в нем сознание величия и важности его задачи.
Во Франкфурте Лютер чувствовал себя гораздо лучше и снова играл своим спутникам на лютне. Спалатин в это время уже приехал в Вормс – и то, что он там встретил, наполнило его тревогой за Лютера. Он отправил своему другу письмо с просьбой не приезжать: нет никаких сомнений, писал он, что здесь того ждет осуждение и казнь. Но Лютер оставался непреклонен. Вот что писал он Спалатину из Франкфурта:
Я еду, мой Спалатин, хоть сатана и делает все возможное, пытаясь задержать меня болезнями и иными способами. Болею всю дорогу от Эйзенаха – и, признаюсь, так худо мне никогда еще не было. Разумеется, я понимаю, что указ Карла был выпущен с целью меня запугать. Однако жив Христос – и мы войдем в Вормс, хотя бы сами врата ада и все силы мира сего встали у нас на пути. Прилагаю к этому письму копии писем императора. Продолжать переписку не вижу нужды: скоро уже мы встретимся лицом к лицу и я своими глазами увижу то, что мне предстоит, – а до тех пор не стоит поддаваться уловкам сатаны, которого я презираю и на него плюю. Итак, готовь для меня квартиру. Прощай[219].
Позднее Спалатин писал: «Он готов ехать в Вормс, даже если здесь его встретит столько же бесов, сколько черепиц на крыше!»[220]
Наконец процессия достигла Оппенхайма и берегов Рейна. Здесь паром перевез карету и лошадей на другой берег – и 16 апреля, около 10 утра, процессия наконец въехала в Вормс, скорее всего, через Майнцские ворота. Все, кто об этом писали, отмечают, что зрелище было примечательное. О прибытии Лютера возвестили звуки рогов, и двухтысячная толпа высыпала на улицу приветствовать его. (Всего население города составляло семь тысяч человек, но во время рейхстага оно удвоилось.) К имперскому герольду теперь присоединился шут в дурацком колпаке, распевавший песенку:
[Наконец приехал тот, кого мы так долго ждали!
На твой приезд мы надеялись даже в самые мрачные дни!][221]
Швауэ писал, что все это напоминало вход Иисуса в Иерусалим в Вербное воскресенье. От этого захватывало дух. Разумеется, Лютер не мог не спрашивать себя, не последует ли и для него за Вербным воскресеньем – Страстная пятница; однако мысленно повторял: «Да будет воля Твоя», – и предоставлял решение Богу.
Радостный прием, оказанный Лютеру в Вормсе, страшно разозлил папского нунция Алеандра; он винил императора за то, что тот все это позволил. По убеждению Алеандра, цацкаться с наглым монахом, которого он называл «саксонским драконом», было совершенно недопустимо. К тому же приезд в Вормс самого Алеандра, разумеется, ни в малой мере не напоминал торжественный въезд Лютера. Никто не приветствовал его у ворот; для жилья ему отвели лишь одну комнату, тесную и холодную; а когда он выходил на улицу, жители Вормса перешептывались и грозили кулаками ему вслед.
Слишком хорошо Алеандр понимал, что Лютер сделался в Германии народным героем. Он писал в Рим: «Вся Германия нынче восстала: девять десятых готовы идти в бой с криком “Лютер!”, а у той одной десятой, что к Лютеру равнодушна, боевой клич – “Смерть римской курии!”». Этого монаха, продолжал Алеандр, необходимо уничтожить, а поднятую им революцию безжалостно подавить, и чем скорее, тем лучше. Особенно поражало Алеандра, что весь народ не только на стороне Лютера, но и во всех подробностях знаком с его делом. «На знаменах у них у всех, – писал он, – даже у тех, кто симпатизирует нам (или, скорее, себе самим) – требование собрать собор и провести его в Германии»[222]. Особенно раздражали его резные гравюры, изображающие Лютера с голубем, – красноречивый ответ на вопрос, вдохновляет ли его Святой Дух, или с нимбом, как будто в святости Лютера не оставалось уже никаких сомнений.
Позднее Алеандр так описывал приезд Лютера:
Как из различных сообщений, так и по виду толпы и бегущих людей на улице мне стало известно, что этот глава еретиков въезжает в город. Я отправил туда одного из своих людей, и он рассказал мне, что около сотни вооруженных верховых… сопроводили его до городских ворот; сидя в карете с тремя своими товарищами, въехал он в город [около десяти утра], окруженный восемью всадниками, и направился на свою квартиру, отведенную ему поблизости от князя Саксонского. Когда он вышел из кареты, некий священник обнял его, трижды коснулся его одеяния и закричал громким голосом, с великой радостью, словно ему выпала честь коснуться реликвии величайшего святого. Должно быть, скоро заговорят о том, что этот Лютер творит чудеса. Выйдя из кареты, Лютер окинул людей вокруг своим бесовским взглядом и проговорил: «Да пребудет со мной Бог». Затем пошел в гостиницу, где у него отбоя не было от посетителей: десять или двенадцать человек обедали с ним вместе, а после обеда весь город сбежался, чтобы на него посмотреть[223].
После приезда Лютер отобедал с прибывшей на рейхстаг венгерской делегацией; при этом двери гостиницы пришлось запереть и выставить возле них стражу – туда рвалась толпа, чтобы увидеть великого человека вблизи. После обеда, поскольку в одном доме с Фридрихом места для Лютера не оказалось, он остановился в другом месте, тоже не лишенном своих достоинств. Это был странноприимный дом рыцарей-иоаннитов. Лютеру пришлось разделить покои с Гансом Шоттом и Бернхардом фон Хиршфельдом, саксонскими чиновниками. Здесь Лютер принимал одного важного гостя за другим. Непрерывной чередой шли к нему важные господа – рыцари, бароны, графы, даже несколько князей. Все, кто был сейчас в городе, жаждали увидеть знаменитого монаха, приехавшего, чтобы бросить вызов императору и папе.
Сделать это Лютеру представилась возможность на следующий день. Утром 27 апреля имперский маршал Ульрих фон Паппенгейм сообщил Лютеру, что в четыре часа пополудни тот должен явиться к императору. Чуть позже он появился снова, на этот раз вместе со старым знакомым – Каспаром Штурмом, имперским герольдом, сопровождавшим Лютера из Виттенберга. Теперь маршалу и герольду предстояло проводить Лютера в резиденцию епископа, находившуюся в здании собора. Каким-то образом по городу пролетела весть, что Лютер идет туда, и на Кеммерерштрассе – главной улице, той же, по которой Лютер вчера въехал в город, – собралась огромная толпа. Видя это, маршал и герольд решили провести Лютера кружным путем, по задворкам – через сад иоаннитов, а затем тихими проулками к черному ходу епископской резиденции. Но и этот маршрут был раскрыт, и немало людей провожали их взглядами с крыш, куда залезли, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Лютера.
Лютер в своей простой августинской рясе, пройдя мимо испанской стражи императора, вошел в покои, где уже собралось целое созвездие знатных и влиятельных особ. От такого общества могло захватить дух и у куда более искушенного человека! Здесь присутствовали влиятельнейшие люди тогдашнего мира. Семь курфюрстов, бесчисленное множество архиепископов, князей, герцогов и иной знати – все разряженные и приукрашенные, в шляпах с перьями, с золотыми цепями на шеях; и все они с любопытством смотрели на разворачивающийся перед ними спектакль – на дерзкого монаха, в свою очередь глазевшего на них с любопытством, но без малейшей робости.
Лютер, очевидно, не привык к такому обществу. В толпе знати он увидел знакомого – Конрада Пейтингера, аугсбургского дворянина, – бросился к нему и радостно его приветствовал, не понимая, насколько неприлично так себя вести в присутствии императора. Маршал Паппенгейм сурово одернул Лютера и приказал молчать, пока ему не разрешат заговорить. Стоит отметить также, что в этих покоях Лютер впервые лично встретился с Фридрихом. Встретились они и на следующий день – но более никогда не виделись и общались друг с другом только письменно.
Один из присутствовавших делегатов так вспоминал эту сцену: «Объявили о приходе Мартина Лютера, а вслед за этим вошел и он сам – человек лет сорока, быть может, чуть больше или чуть меньше[224], крепкого телосложения, со здоровым румянцем, с не слишком добрыми глазами и живым лицом, выражение которого постоянно изменялось»[225].
В письме к папскому вице-канцлеру нунций Алеандр особенно отмечал дурные манеры Лютера: «Этот дурень вошел с улыбкой на лице, принялся вертеть головой вправо-влево и кому-то кивать, а императора словно не заметил!»[226]
А ведь посреди этой роскошной залы восседал на возвышении сам юный император. Утонченный внук Фердинанда и Изабеллы Испанских, как мог он найти общий язык с грубым, неотесанным немецким монахом? На портретах Карла в молодости мы видим изнеженного юношу-аристократа, казалось бы, неспособного ни на что, кроме изящных забав. Но в реальности Карл V был совсем иным.
А что чувствовал Лютер, оказавшись в собрании могущественных князей земных? Он улыбался и держался уверенно – это говорит об ощущении равенства с ними, видимо, порожденном глубокой верой.
Наконец Лютер встал на отведенное ему место, перед столом, на котором возвышалась гора его книг, всего около сорока, изданных в Базеле и специально привезенных сюда для разбирательства.
Вопросы Лютеру от имени императора задавал Иоганн фон дер Эккен (не путать с Иоганном Эком, лейпцигским оппонентом Лютера). Этот Иоганн фон дер Эккен был секретарем архиепископа Трирского, одного из семи курфюрстов – и лично надзирал за сожжением книг Лютера в Трире. Поскольку некоторые в зале не владели латынью, а другие знали латынь, но не знали немецкого, допрос производился на двух языках. Стоит заметить, что сам император Карл очень плохо говорил по-немецки, так что каждый вопрос и ответ переводился на латынь в первую очередь для него.
Итак, фон дер Эккен обратился к Лютеру – сперва по-немецки, затем по-латыни – с такими словами: император призвал его сюда, чтобы получить ответы всего на два вопроса. Первый: верно ли, что все эти книги, на которых стоит его имя, написаны им самим? Второй: готов ли он отречься от того, что содержится в этих книгах? Это все; больше ничего здесь обсуждаться не будет.
Юридическим советником Лютера в Вормсе стал Иероним Шурфф, профессор юриспруденции из Виттенберга; он находился здесь, вместе с Фридрихом, еще с февраля. Сейчас он шагнул вперед и потребовал огласить названия книг. И фон дер Эккен начал зачитывать собранию длинный список названий.
Само количество книг и их заглавия, должно быть, колоколом прогремели в императорских покоях и поразили умы всех, кто их слышал. Список длился и длился, и не было ему конца. Вот они, писания, вызвавшие революцию, – разлетевшиеся по всему христианскому миру, переведенные на множество языков, писания, которые все вокруг читают и обсуждают. Одно название звучало за другим – и длинный список книг сам по себе стоил целой книги.
Наконец список книг окончился, и Лютер заговорил: сперва по-немецки, затем сам себя переводя на латынь. Один наблюдатель писал: «Говорил он голосом мягким и тихим, словно был потрясен и испуган, и ни в лице его, ни в жестах, ни в манерах не ощущалось спокойствия и почтительности»[227]. Кажется, многим слушателям было трудно разобрать, что он говорит. Но сказал он вот что: «Все эти книги мои – и не только эти: я написал больше». Тогда фон дер Эккен задал второй вопрос: готов ли Лютер защищать то, что написал в этих книгах, или хочет от них отречься?[228]
В длинном списке, ближе к концу, содержался и том лекций Лютера по Псалтири. Алеандр заказал его на франкфуртской книжной ярмарке и добавил в список. В этой недавно изданной книге, как и во многих других, не было ни следа тех утверждений, что навлекли на себя папскую буллу.
Фон дер Эккен ясно дал понять, что судьи ждут только ответов «да» или «нет». Они не дадут втянуть себя в спор. Поэтому Лютер ответил: «Это касается Бога и Его слова. Это может повлиять на спасение душ. Об этом Христос сказал: “Кто отречется от Меня перед людьми, от того отрекусь Я перед Отцом Моим”. Опасно сказать об этом слишком много, еще опаснее сказать слишком мало. Молю вас, дайте мне время все обдумать»[229]. Он добавил, что хотел бы дать «удовлетворительный» ответ, «не наносящий ущерба Божественному слову и не подвергающий опасности мою душу».
Откровенно говоря, такого ответа никто не ожидал. Лютер играл не по правилам: судьи не знали, что на это ответить. И в самом деле, что это значило? Может, это просто саксонская уловка, ловкий прием, чтобы выиграть время и дать хитрецу Лютеру возможность пустить пыль в глаза собравшемуся здесь цвету европейского рыцарства? Или знак, что Лютер напуган и, словно заяц, за которым гонится свора собак, петляет и заметает следы, не зная, что еще предпринять?
Но на эту загадку, о которой ученые спорят уже пять столетий, есть простой ответ: скорее всего, Лютер ждал, что ему предъявят конкретные еретические утверждения и предложат их защищать или от них отречься. Именно к этому он готовился. Но никак не к тому, что перед ним вывалят гору книг и предложат что-то сказать о них всех разом! Такой подход был ему просто непонятен. Но те, кто думал, что страх перед лютой смертью на костре заставит Лютера сказать: «Да, все они мои, и я отрекаюсь от всего, от чего вы просите отречься», – явно ошибались.
Просьба Лютера дать ему время прозвучала странно и неожиданно, однако требовала ответа; и фон дер Эккен обратился к рейхстагу и императору. Некоторое время они совещались; затем он снова обратился к Лютеру – но прежде, чем огласить решение – «да» или «нет» – несколько минут сурово распекал его за то, что тот, профессор богословия, не может сразу ответить на простой вопрос, ради которого его и вызвали на рейхстаг. Можно ли терпеть такое? Далее он продолжал:
Однако, хотя [ты] и не заслуживаешь дополнительного времени, его императорское величество, по прирожденному милосердию своему, дарует тебе еще один день – с тем, чтобы завтра в этот же час ты готов был отвечать, и с тем условием, чтобы отвечал не на письме, а словом уст своих[230].
По-видимому, рейхстаг опасался, что Лютер – чья волшебная сила убеждения с помощью печатного слова и привела их на этот нелегкий путь – просит время для того, чтобы, вернувшись к себе на квартиру, выпустить еще один зажигательный манифест, который, без сомнения, будет напечатан в десятках печатных мастерских, разойдется по всей Европе и нанесет Святой Церкви еще больший ущерб. Не в этом ли план саксонского лиса? Мало того: с этим манифестом придется спорить. А спор по существу – это именно то, чего император и его почтенные приближенные всеми силами стремились избежать. Если Лютер втянет их в обсуждение очередного обширного труда, выйдет, что собрались они здесь напрасно, и оправдаются опасения Алеандра: рейхстаг станет для Лютера просто еще одной площадкой – и какой удобной площадкой! – для распространения своих зловредных и, увы, трудно опровержимых идей.
С этим его отослали прочь. В своем докладе папе Алеандр, покритиковавший Лютера за веселый вид, с каким он входил в императорские покои, затем саркастически замечал: «Выходил [Лютер] уже совсем не так радостно!»[231]
В тот же вечер немало знатных людей посетили Лютера, чтобы ободрить и призвать не бояться за свою жизнь. Однако Лютер держался спокойно и непоколебимо. Уже поздно вечером он нашел время написать письмо, в котором заявлял: «Однако с Христовой помощью я и за целую вечность не отрекусь ни от единой буквы, мною написанной!»[232] В тот же вечер Лютер встретился со Спалатином, чтобы обсудить, что ему делать завтра. Возможно, в этом совещании участвовали также Амсдорф, Юстус Йонас и Шурфф, Что именно они обсуждали, мы не знаем. Но известно (хотя, быть может, это понятно и без специальных упоминаний), что в положенное для молитвы время Лютер молился с обычным своим жаром.
На следующий день Лютер встретился с Конрадом Пейтингером, которого радостно приветствовал вчера, войдя в императорские покои. Пейтингер был высокопоставленным аугсбургским чиновником и в Вормсе представлял свободные имперские города, одним из которых был Аугсбург. Позднее он рассказывал, что во время этой встречи Лютер был бодр и в хорошем расположении духа.
Собрание рейхстага на следующий день проходило уже более официально: в просторном зале, в присутствии множества делегатов. Чтобы попасть туда до назначенного времени – также в четыре часа дня, – Паппенгейм и Штурм заранее провели Лютера в резиденцию епископа. Однако, поскольку эта вторая беседа с Лютером не была запланирована заранее, ее отнесли на конец заседания – а с утвержденной повесткой дня император и делегаты рейхстага покончили уже после шести. Два часа Лютеру пришлось простоять в толпе. Зал был просторный, однако переполненный: присутствовали не только все делегаты рейхстага, но и множество зрителей, и толкучка была такая, что многие, желавшие войти в зал, не могли туда протиснуться.
К тому времени как Лютер наконец предстал перед императором, уже стемнело. Зал был залит светом светильников; пламя освещало драматическую сцену, которой предстояло стать одним из поворотных моментов мировой истории.
Фон дер Эккен начал с нового обличения: он напомнил, что Лютер не имел никакого права на дополнительное время, поскольку прекрасно знал, зачем его сюда вызвали, а кроме того, поскольку он – богослов и отвечать на вопросы касательно веры входит в его профессиональную компетенцию. Эта саркастическая речь, полная насмешек над Лютером, так понравилась Алеандру, что в своем докладе папе тот рекомендовал фон дер Эккена к повышению по службе. Поставив Лютера на место, фон дер Эккен наконец задал вторично вчерашний второй вопрос: готов ли Лютер защищать все свои книги или же есть в них нечто, от чего он готов отказаться?
На этот раз Лютер был готов отвечать: голос его звучал уже не по-вчерашнему. Говорил он смиренно, с уважением, однако твердо и смело. На этот раз никто не смог бы пожаловаться, что не расслышал его или не понял. «Светлейший император, – так начал Лютер, – сиятельнейшие князья, милостивые государи!» Затем смиренно попросил простить его за неопытность в общении со столь высокими особами: он не знает правильных титулов, которыми следует именовать аристократов, да и манеры его далеки от совершенства. Очевидно, кто-то – возможно, тот же Пейтингер – объяснил ему его вчерашнюю ошибку. «Молю вас, – продолжал Лютер, – простить меня, человека, привычного не ко дворам государей, а к монашеским кельям». Далее последовала речь продолжительностью десять-пятнадцать минут; по свидетельствам всех очевидцев, говорил Лютер спокойно, уверенно и гладко, красноречиво и с внутренней силой, сперва по-немецки, затем по-латыни.
Начал он так: чтобы ответить на вопрос, готов ли он отказаться от чего-либо, содержащегося в этих книгах, прежде всего необходимо указать, что книги эти подразделяются на три категории. Первая – труды, посвященные наставлениям в христианской вере: даже противники его признают, что эти книги хороши и для верующих полезны. Признание это содержится даже в папской булле, во всех прочих отношениях Лютера сурово осуждающей. Весьма умно со стороны Лютера было начать с того, что он – не просто безвестный возмутитель спокойствия, что у него имеются заслуги, которые признают даже его враги. Вторая категория книг, продолжал он, «направлена против того опустошения и погибели, что приносят христианскому миру дурные дела и учения папистов. Кто станет отрицать это, когда жалобы, раздающиеся по всему миру, свидетельствуют о том, что папские законы изнуряют и терзают совесть верующих?»
Здесь Лютера прервал сам император. «Ложь!» – вскричал он.
Но Лютер продолжал. Хорошо сознавая, что обращается к немецким аристократам, большинство из которых горячо соглашались с тем, что Рим «потерял берега» и угнетает их всеми возможными способами, он заговорил так: «Тирания, в которую и поверить невозможно, пожирает собственность и владения людей, особенно нашей сиятельной немецкой нации!» С этим даже его враг герцог Георг не мог не согласиться. Лютер продолжал: «Отрекшись от этих своих слов, я открою двери еще большей тирании и нечестию; и еще худшие последствия ожидают нас, если я сделаю это по настоянию Священной Римской империи!»
Затем Лютер перешел к третьей категории книг. Этот разряд, сказал он,
…содержит споры с различными частными лицами. Сознаюсь, порой я бываю более резок и ядовит, чем позволяет моя профессия; однако судят меня не за мою жизнь, а за учение Христово, – так что и от этих трудов я не могу отречься, не открыв тем самым дорогу тирании и нечестию.
Упоминание тирании появилось здесь не случайно – и пришлось очень кстати, ибо взывало к националистическим чувствам слушателей-немцев. Далее Лютер привел в пример Христа перед Синедрионом:
Христос, стоя перед Анной, сказал: «Призови свидетелей». Если Господь наш, который заблуждаться не может, высказал такое требование – почему же и такой червь, как я, не вправе требовать, чтобы меня обвиняли по свидетельствам пророков и Евангелий? Если мне покажут, в чем моя ошибка, я первый брошу свои книги в огонь[233].
Думаю, из этого очевидно, что я достаточно рассмотрел и взвесил аргументы и опасности ученых диспутов, возбужденных по всему миру моим учением, – в чем меня вчера сурово и жестоко упрекали. В природе моей во всем видеть хорошие стороны – и то, что из ревности к слову Божьему возникают споры, кажется мне благим делом. Ибо таково проявление слова Божьего в мире, и таково его действие. Как говорит Христос: не мир Я пришел принести, но меч, ибо пришел Я восставить сына против отца, и так далее. Нам следует держать в уме, что Бог в советах Своих удивителен и ужасен, – и не пытаться сгладить или замолчать трудные места, ибо этим мы осуждаем слово Божье. А кто осуждает слово Божье, тот открывает дорогу потоку нестерпимого зла.
Если Бог наш столь суров, проявим же осмотрительность, дабы не вызвать потока войн и дабы правление сего благородного юноши, Карла, не стало несчастливым. Истории фараона, царя Вавилонского и царей Израилевых да послужат нам примером. Бог посрамляет премудрых. Мой долг – ходить в страхе Господнем. Говорю это не для того, чтобы кого-то упрекнуть, но лишь потому, что не могу избежать долга своего перед немецким народом. Предаю себя Вашему Величеству и молю о том, чтобы нападки врагов моих не вызвали в Вас беспричинного дурного ко мне расположения. Я закончил.
Фон дер Эккен, совершенно не впечатленный этой речью, отвечал резко:
Неверно ты, Мартин, разделил и определил свои труды. Уже ранние были дурны, а поздние – еще хуже. Ты просишь, чтобы тебя судили по Писанию, – но об этом всегда просят еретики. Ничего нового ты не делаешь, лишь возобновляешь заблуждения Уиклифа и Гуса. Как возрадуются евреи, как возрадуются турки, услыхав, что христиане якобы все эти годы неверно понимали христианство! Как можешь утверждать ты, Мартин, что ты единственный способен понять смысл Писания? Неужто ставишь ты свое суждение превыше суждения многих великих мужей и считаешь, что знаешь больше их всех? У тебя нет права подвергать сомнению святейшую и правую веру, установленную самим Христом, совершенным законодателем, проповеданную по всему миру апостолами, запечатанную кровью мучеников, утвержденную на священных соборах, определенную Церковью, к которой принадлежали все отцы наши вплоть до смерти и передали ее нам в наследие – веру, которую и папа, и император ныне запрещают обсуждать, ибо иначе обсуждению не будет конца. Я спрашиваю тебя, Мартин – и отвечай прямо, без уверток: отрекаешься ли ты от своих книг и ошибок, которые в них содержатся, или нет?
В ответ на это Лютер и произнес свои прославленные слова:
Если ваши светлейшие величества и вы, сиятельные господа, требуете простого ответа – вот вам мой ответ, простой и безыскусный: пока меня не убедят доказательствами от Писаний или от трезвого разума (ибо одному лишь папе или одним лишь соборам я не доверяю, поскольку хорошо известно, что они часто ошибаются и друг другу противоречат) – я связан Писаниями, которые привел, и совесть моя в плену у слова Божьего. Отрекаться я не могу и не стану, ибо неправильно и небезопасно идти против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне Бог. Аминь[234].
На самом деле мы не знаем, действительно ли Лютер произнес знаменитые слова: «На том стою и не могу иначе» – хоть и нет причин считать, что он этого не говорил. В протоколе заседания этих слов нет, однако они появляются в первых же печатных изданиях его речи; добавлены ли они самим Лютером или кем-то из печатников, установить невозможно. Во всяком случае, именно это изречение, краткое и жесткое, за прошедшие пять веков стало символом Лютера и прочно ассоциируется с ним. Даже если он этого не говорил, слова эти не случайно появились на его знамени: они точно отражают его позицию.
Все это Лютер произнес по-немецки. Затем, как и ожидалось, его попросили перевести свои слова на латынь. Тут саксонский советник Фридрих фон Тун, один из тех, с кем Лютер делил комнаты в гостинице, воскликнул: «Если вы больше не можете, доктор, довольно!»[235] В зале стояла жара и духота – что и неудивительно при таком количестве публики. Все устали. Сам Лютер, как рассказывают, обливался потом. Однако он настоял на том, чтобы продолжать, и повторил все сказанное еще раз, теперь по-латыни. Сохранились свидетельства, что латинский вариант его речи вызвал у Фридриха Мудрого особенное восхищение.
Место, на котором стоял Лютер, произнося эти слова, теперь превращено в мемориал; на нем установлена мраморная плита. Однако в наше время смотрится она странно и как-то не на месте. Все ее былое окружение исчезло; от роскошного дворца императора Священной Римской империи остались лишь развалины. Однако именно на этом месте пять столетий назад свершилось одно из величайших событий в истории.
Финальные слова Лютера, «На том стою и не могу иначе», в исторической памяти сохранились как кульминация и завершение драматической сцены. На самом деле, разумеется, этим дело не закончилось. Князья, повернувшись друг к другу, начали обсуждать услышанное; несомненно, со всех концов зала слышалось бормотание толпы, шепот и приглушенные восклицания. Затем Лютеру объявили, что все это – не ответ на вопрос. Фон дер Эккен, снова обратившись к нему, призвал забыть о совести – предложение, на наш слух, шокирующее, и именно потому, что мы живем в ином мире, возникшем в результате тогдашней непоколебимости Лютера, в мире, где совесть почитается чем-то священным. Другие в зале начали возражать Лютеру по отдельным пунктам – говорили, например, что соборы никогда ни в чем не ошибались; на это Лютер отвечал, что счастлив будет указать им главу и стих Писания, которым противоречат решения того или иного собора. Наконец, поскольку час был уже поздний и ясно было, что любые дальнейшие споры служат лишь к вящей славе Лютера и дальнейшему вреду для Церкви, заседание было объявлено закрытым.
Лютер вышел из зала в сопровождении двоих из числа императорской стражи. Многие в просторном холле решили, что он под арестом и его ведут в тюрьму; люди заволновались, но стражники уверили их, что Лютер свободен. Однако внизу лестницы поджидала его группа испанцев, приехавших в Вормс вместе с императором. Они проклинали Лютера и кричали, что за такие взгляды его надо отправить на костер. Разумеется, все это Лютер слышал уже много раз. Вернувшись наконец к своим друзьям, он поднял руки, как делали немецкие солдаты, торжествуя победу, и воскликнул с широкой улыбкой: «Я это сделал! Я через все прошел!»[236]
Позже в тот же вечер Фридрих Мудрый в разговоре со Спалатином заметил: «Доктор Мартин чудесно говорил сегодня перед императором, князьями и делегатами от сословий, и по-латыни, и по-немецки…» И, помолчав, добавил: «Но, на мой вкус, слишком уж дерзко»[237]. Сам Фридрих не был разочарован смелостью Лютера – однако беспокоился о том, каков будет вердикт императора, и о его дальнейшей судьбе.
Глава одиннадцатая Враг империи
Я твердо решил никогда более его не слушать… и поступить с ним как со злонамеренным еретиком.
Император Карл VЗа последние пять столетий не нашлось ни одного историка, готового отрицать, что выступление Лютера в тот день в Вормсе – перед объединенными силами империи, против богословского, политического и церковного порядка, долгие столетия царившего в Европе, в сущности, против всего средневекового мира – стало одним из величайших событий мировой истории. Оно стоит в одном ряду с завоеванием Англии норманнами в 1066 году, подписанием Великой хартии вольностей в 1215 году или высадкой Колумба в Новом Свете в 1492 году. Более того: в каком-то смысле оно перевешивает все эти исторические моменты.
Если существует исторический момент, о котором можно сказать: в этот миг родился современный мир, родилось само будущее – несомненно, это произошло 18 апреля в зале заседаний рейхстага в Вормсе. Невозможно сомневаться: именно случившееся в этом зале повело историю определенным путем – путем, который, среди прочего, 254 года и один день спустя, 19 апреля 1775 года, привел войска в Лексингтоне и Конкорде к борьбе против тирании. Столь многое вытекает из этого момента, столь многое на нем строится, что нам имеет смысл повнимательнее взглянуть на то, что именно произошло в Вормсе.
Обращение Лютера к совести
Многое из того, что пишут об этом моменте, вертится вокруг слова «совесть». Лютер заявил: «Моя совесть в плену у слова Божьего». И далее: «Неправильно и небезопасно идти против совести»[238]. Однако многие историки, говоря об этом, смешивают представления Лютера с совершенно иными современными представлениями о совести: в результате у нас возникает совершенно превратная картина того, что Лютер имел в виду и что, собственно, он отстаивал в Вормсе. Понятно, что русского слова «совесть» Лютер не произносил: он говорил по-немецки и по-латыни. Употребленные им слова, которые обычно переводятся как «совесть», не вполне соответствуют современному значению этого слова. Немецкое слово Gewissen точнее перевести как «знание». А латинское conscientia означает «со-знание». Во времена Лютера ничто в этих словах не указывало на тот смысл, который вкладываем мы в слово «совесть» сейчас. В современном понимании «совесть» – вещь сугубо субъективная, некий личный барометр, присущий каждому человеку и у каждого свой; барометр этот мы считаем священным и полагаем, что личная истина каждого человека вполне сравнима с истиной как таковой. В сущности, субъективная идея истины, которая у каждого своя, в наше время полностью вытеснила идею объективной истины. Предполагается, что у каждого есть собственная истина – о ней и сообщает «голос совести».
Многие критики Лютера справедливо отмечают, что именно Лютер и именно в Вормсе пересек границу между прежним и новым представлением об истине и о совести. Как только истолкование Писаний и концепция истины были отняты у Церкви и переданы каждому человеку в отдельности, исчезло и представление о реальной и объективной истине. Как только был разбит авторитет Церкви и возникла возможность с ней не соглашаться – появилась и возможность для каждого не соглашаться с любым авторитетом. После этого неминуемо должны были возникнуть тысячи церквей, каждая – со своей версией истины. Именно это в результате и произошло.
Однако важно отметить: несмотря на то, что часто говорят и критики, и защитники, сам Лютер был весьма далек от чего-либо подобного. Его представление о «совести» было совсем не таким, как наше современное, в котором совесть берет начало из нашего самодостаточного «я». Напротив, его концепция истины ни на йоту не отличалась от той, что была принята Римско-Католической Церковью. Разница между ним и Церковью была лишь в одном – в идее, что совесть должна повиноваться непосредственно Богу. Католическая Церковь оставляла право говорить от имени Бога и руководить совестью верующих за собой; Лютер же, указывая на то, что и папам, и церковным соборам случается ошибаться, говорил, что Церковь не должна присваивать себе право говорить от имени Бога. Церковь – а именно папа и соборы – способна заблуждаться, и голос ее – не всегда голос Бога и Божьей истины; лишь в Писаниях, утверждает Лютер, можно найти безошибочный стандарт, согласно которому всем нам – в том числе и Церкви – следует исправить свою жизнь. Итак, если в Писании явно говорится не то, что говорят соборы и папы, значит, соборы и папы заблуждаются и должны переменить свои взгляды, а не наоборот. Говоря, что не может идти против совести, Лютер имел в виду только одно: если его знание, его понимание, руководимое простой логикой и ясной аргументацией, показывает ему, что Писание говорит то-то и то-то, а кто-то еще – пусть даже Церковь – говорит другое, у него нет выбора: он должен поступать так, как говорит Писание. Слово Божье превыше всего остального. Не личная совесть Лютера, а именно слово Божье. Совесть – это просто способность слышать и понимать: если ясно понимаешь слово Божье, у тебя нет иного выбора, кроме как ему следовать. Лютер, один из немногих в те времена, тщательно изучал слово Божье – и имел возможность заметить, что оно не ошибается так, как ошибаются церковные соборы и папы. Из этого он заключил, что лишь Писание говорит от имени Бога. Церковь должна склониться перед его авторитетом.
Однако из этого разговора о совести вытекает и еще одно следствие, касающееся различия между истиной и властью. Требуя снова и снова, чтобы ему показали, в чем он ошибается – если он действительно ошибается, как говорит Церковь, – Лютер обращался к идее, что любой может понять, о чем говорится в Писании, если осмелится его прочесть. Он понимал: если заставить своих противников заглянуть в Писание – хотя бы для того, чтобы показать ему его ошибку, – они поймут, что ошибаются сами. Другого способа их убедить он не знал: они должны взглянуть и убедиться сами. Но они не хотели смотреть, предпочитали не замечать того, что говорит Писание, и полагаться на голую силу Церкви. Принуждение к вере для Лютера было несовместно с Богом Писания. Бог всемогущ и всеведущ; Он один определяет, что есть истина; Он и есть истина. Но свою власть Он осуществляет совсем не так, как властители мира сего. Сила Его всегда, неизменно проявляется в слабости. Иисус омывал ноги Своим ученикам. Иисус умер на кресте за тех, кто отвергал Его и над Ним смеялся. Бог не топчет нас, а оказывает нам милость. Лютер видел, что для Церкви такой взгляд на власть остался чуждым и непонятным, что она обручилась с властью земной. Она присваивает чужие деньги, сжигает тех, кто не согласен с ее учением. Лютер пытался напомнить Церкви об ее истинных корнях, о библейской идее милосердного Бога, который не требует от нас повиновения, но сперва свободно дарует нам Свою любовь и делает нас праведными, дабы мы могли праведно жить. Это и есть евангельская Благая Весть, столь страшно искаженная и помраченная Церковью. Эта Благая Весть освободила Лютера от ужасов его предшествующей жизни. Это и есть сама истина, и ужас и ярость Церкви перед попытками показать эту истину лишь подтверждает, что Бог не на ее стороне. Ради того, чтобы показать эту истину другим, Лютер сделает все, что в его силах, – если понадобится, пойдет и на смерть. Смерти он страшится меньше, чем Бога – и отречения от истины Божьей.
Многие историки говорят о том, что Лютер первым поставил «личную совесть» превыше авторитета Церкви и империи. Однако, по иронии судьбы, сам Лютер вовсе не отстаивал право личности поступать как ей заблагорассудится. Он утверждал свободу личности поступать так, как угодно Богу, – там и тогда, где и когда Церковь или государство пытаются лишить людей этой свободы. Впервые в истории Лютер выдвинул современную идею религиозной свободы и свободы совести. Но свободу эту, в его понимании, осуществлял не самодостаточный человек, а Бог. Бесспорно, существовал риск, что кто-то обратит эти идеи во зло и начнет делать не то, чего хочет от него Бог; в той степени, в какой Лютер сознавал возможность такого риска и такой ошибки – он нес за это ответственность. Однако альтернативой такому риску было покорное принятие власти Церкви или государства – а это куда страшнее. Да, можно сказать, что позиция Лютера в Вормсе породила новые проблемы, прежде не существовавшие; однако в куда большей степени она даровала нам истинную свободу, способную привести к новому, более свободному и глубокому пониманию того, чего хочет от нас Бог. Как Иисус призывал фарисеев прекратить внешнее, обрядовое повиновение Богу и перейти глубже, к повиновению внутреннему – так и Лютер призвал каждого христианина оставить ребяческое послушание Церкви, не сравнимое со свободой и радостью истинного повиновения Богу.
Наутро после
19 апреля, на следующее утро после исторического заявления Лютера, император Карл собрал делегатов рейхстага – курфюрстов и немалое число князей, – чтобы решить, что делать дальше. Присутствовали на собрании и Алеандр, и другие папские нунции. Однако немцы не вполне понимали, как лучше поступить, и, подобно самому Лютеру, попросили дать им время на размышления. «Хорошо, – сказал молодой император. – Тогда я прочитаю вам свое мнение». И прочел вслух документ, который этим утром собственноручно написал. Писал он по-французски:
Вы знаете, что я происхожу от христианнейших императоров благородной немецкой нации, от католических королей Испании, от эрцгерцогов Австрийских и герцогов Бургундских. Все они до самой смерти были верными сынами Святой Римской Церкви и всегда защищали католическую веру, священные обряды, декреталии, таинства и похвальные обычаи – во славу Божью, ради распространения веры и спасения душ. После смерти они, согласно естественному закону, оставили эти святые католические обряды нам в наследство, дабы и мы жили и умирали по примеру предков… Поистине, великий стыд и оскорбление нам в том, что один-единственный монах, заблуждаясь в своих мнениях, противоречащих тысячелетней вере всего христианского мира, [идет] против Бога. Итак, я намерен не жалеть ни царств и владений моих, ни друзей, ни плоти и крови, ни жизни, ни самой своей души, дабы избежать этого великого позора – позора для меня и для вас, для благородного, во всех концах земли прославленного немецкого народа, призванного быть хранителем и защитником католической веры… Объявляю: теперь я сожалею о том, что так долго медлил с возбуждением дела против него и его лжеучений. Я твердо решил никогда более его не слушать… и поступить с ним как со злонамеренным еретиком[239].
При этих словах немалое число слушателей испытали потрясение и ужас. Казалось, судьба Лютера решена. Алеандр, напротив, едва не прыгал от радости: теперь он понимал, что поторопился осудить императора за «благосклонное» на вид приглашение Лютера в Вормс. Иоахим Бранденбургский, возможно, самый серьезный противник Лютера среди семерых курфюрстов, напомнил собранию: все они согласились, что, если Лютер не покается, его необходимо судить. Он не покаялся – значит, нужно подписать документ, составленный императором. Однако, хоть поначалу все и клялись, что с императором согласны, на следующий день подписать вердикт согласились лишь четверо курфюрстов из семи. Фридрих Мудрый отказался, как и курфюрст Рейнского палатината Людвиг фон дер Пфальц. До самой своей смерти Фридрих стоял на том, что Лютеру отказали в серьезном обсуждении поставленных им вопросов по существу, – чего он, несомненно, заслуживал; а без такого обсуждения любой суд оставался комедией и не давал никаких оснований отправлять достойного человека на смерть. Однако четверо курфюрстов все же подписали документ – так что император ощутил за собой достаточно поддержки, чтобы официально объявить Лютера врагом империи.
Однако дальше за одну ночь произошло нечто такое, отчего императору пришлось изменить планы. Под покровом ночи какие-то возмутители спокойствия расклеили по всему Вормсу плакаты. На большинстве из них красовался Bundschuh – крестьянский башмак, символ рабочих классов, противостоящий высоким сапогам, какие носила знать. Плакаты с очевидностью указывали на политическую сторону проповеди Лютера – и представляли собой недвусмысленную угрозу. По крайней мере, именно так многие их и поняли. «Берегитесь! – как бы говорили они. – Если вы осудите Лютера, мы восстанем!» Были и другие плакаты. На одном, дерзко наклеенном на двери городского магистрата, трижды повторялось: «Bundschuh! Bundschuh! Bundschuh!» Другой гласил: «Горе стране, где король – дитя»[240]. Попадались и стихи, высмеивавшие папских нунциев Глапиона и Шьевра или обещавшие четыреста всадников и тысячу пеших солдат. Ясно было, что за всем этим стоит не один человек[241].
Триумфальный въезд Лютера в Вормс уже ясно показал, что простой народ считает его своим героем и заступником; и сейчас этот простой народ впервые подал голос и заявил о себе. Уже несколько лет эти люди читали труды Лютера, обсуждали его идеи, ждали от него героического противостояния тирании Рима. Он говорил от имени простых немцев и в их защиту, говорил с немецким остроумием, с немецким огнем; и теперь, когда какой-то испанец-император и итальянцы – папские холуи готовились его растоптать, немцы не собирались стоять в стороне.
Абсолютная власть Церкви давно была им ненавистна: слишком ясно видели они злоупотребление этой властью на всех этажах церковной иерархии, лицемерие большинства клириков, алчность монахов, что, лопаясь от жира, отбирали последнее у бедняков. Все это им надоело. Время элит прошло; Лютер, немецкий Геркулес, восстал, чтобы смести их с лица земли, – и простые люди стали его пламенными союзниками. Он нашел путь к сердцам простых людей, заявив, что они равны священникам и так же, как священники, могут причащаться хлебом и вином; и эта идея равенства быстро вышла за узкие церковно-обрядовые рамки и приобрела политический характер.
Увидев эти угрожающие плакаты, Альбрехт Майнцский сделался белее мела. На рассвете примчался он в резиденцию Карла, чтобы поведать о новой угрозе. Молодой император рассмеялся ему в лицо. Неужто какие-то бумажки, расклеенные по стенам, заставят его изменить решение? Но Альбрехт лучше этого безусого испанского юнца понимал, на что способны немецкие крестьяне; он ушел, но вернулся со своим братом, Иоахимом Бранденбургским, и вместе они убедили других делегатов, а те подали императору петицию. В ней они просили дать им время, чтобы убедить Лютера покаяться. Быть может, думали они, это поможет если не предотвратить, то хотя бы отсрочить беду. Император не желал более заниматься этим делом сам, но согласился дать им три дня.
То, что произошло дальше, в книгах о Лютере упоминается редко – и это странное упущение: ведь именно в эти три дня, общаясь с представителями немецких княжеств, Лютер приблизился к обсуждению своих тезисов по существу даже более, чем когда-либо хотел. Страстно желая избежать мятежа и кровопролития, немецкие аристократы отчаянно старались урезонить упрямого виттенбергского монаха и уговорить его на какой-то компромисс. Даже если бы у них ничего не вышло – что ж, они хотя бы попытались; простой народ увидел бы, что они приняли его заботы близко к сердцу и постарались устроить Лютеру честное разбирательство по существу, о котором он просил. Поэтому, восхвалив императора за стойкую защиту веры, они поблагодарили его за отсрочку и обещали сделать все возможное.
То, что последовало в эти три дня, представляет собой любопытный пример отчаянной попытки в последний миг свернуть прочь от пропасти. Ничего столь же отдаленно драматического и символического, как во время объяснения Лютера с императором, в эти три дня не произошло – поэтому их обычно упускают из виду. Ни Лютер, ни кто-либо еще не произносил здесь исторических слов. И все же эти переговоры важны: они показывают нам, что даже в этот последний миг было еще не поздно повернуть реку истории в иное русло.
С Лютером встретилась разношерстная группа из десяти человек: входили в нее архиепископ Трирский, Рихард фон Грейффенклау цу Фолльратс, брат Альбрехта Иоахим Бранденбургский и герцог Георг Бородатый, даже в этой группе остававшийся Лютеру непримиримым врагом. Сочувствовали Лютеру гуманисты доктор Конрад Пейтингер из Аугсбурга, с которым мы уже встречались, и канцлер Иероним Вегус. 22 апреля Лютер получил приглашение через два дня в шесть часов утра явиться в покои архиепископа Трирского на встречу с ними.
Ранним утром двадцать четвертого апреля произошла эта встреча. Поначалу комиссия из десятерых человек предполагала обсуждать скорее неповиновение Лютера Церкви, чем его богословские позиции в целом. Из всех присутствующих наиболее сочувствовали взглядам Лютера Вегус и Пейтингер; Вегус был избран председателем. Во вступительной речи они оплакали сложившуюся ситуацию и призвали Лютера подумать, нельзя ли все-таки как-то сохранить единство Церкви. Быть может, напрасно он так резко отзывался о соборах? Да, возможно, они иногда ошибаются – но все равно их власть и авторитет стоит уважать, не так ли? Само признание, что собор может ошибаться, звучало как огромная уступка Лютеру – и, несомненно, поразило изумлением многих, кто при этом присутствовал. Впрочем, собеседники Лютера тут же сдали назад: да, бывало, что разные соборы противоречили друг другу, но это ведь не обязательно значит, что какой-то из них ошибался! Дальше пространно рассуждали о братской любви и о нежелании разрывать ткань христианского мира, если можно как-нибудь этого избежать. И, наконец, заключили они, если Лютер продолжит опрометчиво держаться за каждое слово, которое когда-либо написал, – это приведет к самым трагическим последствиям, которые, несомненно, навеки поставят крест и на всем добром, что вышло из-под его пера.
Лютер ответил, что очень тронут и благодарен за такие слова со стороны столь видных и достойных людей, – однако от своей позиции в отношении церковных соборов не может отступить ни на волос. Он ясно дал понять, что критиковал в этом отношении лишь Констанцский Собор, поскольку тот явно отступил от Писания в случае с Гусом. Важно здесь, подчеркнул Лютер, не его собственное мнение – Боже упаси! – а то, что ясно гласит Писание. Будь все дело в том, что сам он или Церковь погрешили против любви, – это было бы совсем иное дело. Обиды и оскорбления, нам нанесенные, надлежит прощать. Но, когда речь идет о Писании, у него связаны руки. Словами Писания и его авторитетом нельзя пренебрегать, и торговать ими немыслимо.
Тогда его собеседники выдвинули такое предложение: пусть Лютер отдаст все свои книги на суд императора и имперских княжеств. Но и на это Лютер ответил: человеческого суждения здесь недостаточно. Они должны судить по Писанию, и, пока не пообещают этого, – их суждения он не примет.
В переговоры вступил архиепископ Трирский. На его стороне дебатов выступали фон дер Эккен, его секретарь, и Иоганн Кохлеус, который до 1520 года симпатизировал Лютеру, но затем повернулся против него и со временем стал его злейшим противником. На стороне Лютера – Шурфф и Амсдорф. В какой-то момент Кохлеус задал Лютеру прямой вопрос: неужто ему открылось слово Божье? Лютер ответил: да. Тогда Кохлеус потребовал, чтобы Лютер показал следы от гвоздей на ладонях. Поднялся шум и крик: несколько раз фон дер Эккен и Кохлеус набрасывались на Лютера вместе, да так, что Шурффу приходилось буквально кидаться между спорящими и их растаскивать. Кохлеус в ярости обвинял Лютера в том, что тот оскорбляет папу. Наконец архиепископ предложил сделать перерыв, охладиться и продолжить позже. Переговорщики разошлись, чувствуя, что ничего не достигли.
Позже Кохлеус взял дело в собственные руки и проскользнул в комнаты к Лютеру один. Он вспоминал позднее, что там царил сущий хаос: люди приходили и уходили, дверь никто не охранял, так что ему удалось пройти незамеченным. Сперва он заговорил с другом Лютера Петценштейнером: тот принялся так рьяно с ним спорить, что пришлось вмешаться самому Лютеру. Кохлеус пришел с добрыми намерениями и сумел напроситься на ужин: посадили его между Лютером и каким-то дворянином, которого он принял за Фридриха Мудрого, хотя это, очевидно, был не он. Оживленная застольная беседа обратилась к вопросу о пресуществлении. В какой-то момент Кохлеус предложил Лютеру отказаться от императорской охранной грамоты и вступить с ним, Кохлеусом, в открытый диспут – своего рода бой без правил за истину Божью. Разумеется, предполагалось, что поражение для Лютера, скорее всего, будет означать смерть. Друзья Лютера, возмущенные таким предложением, вскричали, что Кохлеус желает ему смерти, и один из них, Рудольф фон Ватцдорф, едва не бросился на него с кулаками. Однако Лютер мученичества не страшился: он готов был принять предложение Кохлеуса – и, весьма возможно, принял бы, если бы решительно не вмешались его друзья.
После того как шум утих и ужин закончился, Лютер отправился в спальню – а Кохлеус, страстно желавший доспорить, пошел следом. Он показал Лютеру, что пришел без оружия, и Лютер согласился впустить его к себе и договорить наедине. Согласно всем сообщениям, дальнейшая беседа шла вполне по-дружески. Лютер объяснял Кохлеусу: дело зашло куда дальше чьих-то частных мнений. Даже если бы он сам и согласился покаяться – последователи его, коих уже сотни и тысячи, немедля поднимут павшее в грязь знамя Евангелия и пойдут под ним в бой. Кохлеус отвечал: если Лютер не пойдет на попятную, ему придется подписать вердикт против него. «Я не могу стать гуситом», – сказал он перед тем, как уйти[242]. До конца жизни Кохлеус утверждал, что в тот вечер почти убедил Лютера покаяться. Он рассказывал даже, что во время разговора Лютер заплакал, – хотя сам Лютер решительно это отрицал. Как бы там ни было, Кохлеус старался искренне и от чистого сердца; однако друзья Лютера, взбешенные тем, что он едва не убедил их вождя отказаться от охранной грамоты, немедленно сочинили о нем поносные стихи, в которых играли на сходстве его гуманистического прозвища с немецким словом «слизень». Стихи эти быстро разлетелись – и Кохлеус сделался персоной нон грата у Ульриха фон Гуттена и других гуманистов, которые прежде его привечали. Большинство его франкфуртских друзей приняли сторону Лютера, и кончилось тем, что ему пришлось бежать в Рим. Со временем Кохлеус сделался одним из самых яростных ругателей Лютера: много лет он неустанно осыпал его самыми грубыми инвективами[243].
Однако и на вечернем тет-а-тет с Кохлеусом дело не закончилось. На следующий день прошла еще одна частная встреча: на стороне Лютера были в этот раз гуманисты Пейтингер и Вегус, на другой стороне – Шурфф и неизвестный нам по имени саксонский рыцарь. Снова они убеждали Лютера представить свои сочинения на суд императора и имперских князей – и снова Лютер отвечал, что не станет подчиняться суждению людей, если они не согласятся судить по Писанию. Пейтингер и Вегус, как видно, так жаждали соглашения, что отвечали: разумеется, это само собой понятно, специально об этом упоминать – значит оскорблять императора. Как и вчера, разговор шел по кругу, пока вдруг кто-то не предложил, чтобы Лютер представил свои писания на суд церковного собора. Эту идею Лютер воспринял куда теплее, но и тут сразу оговорил: согласен, только если в решении собора будут ссылки на Писание. Спеша с этим покончить, Пейтингер и Вегус побежали к архиепископу и сообщили ему радостную весть – однако, как видно, умолчали о поставленном Лютером условии. Архиепископ вызвал Лютера, чтобы заключить с ним соглашение, однако из разговора с ним скоро понял, что на самом деле никакого соглашения не вышло. Лютер по-прежнему требует, чтобы любые суждения о его учении основывались на Писании, – и не делает исключений ни для кого, даже для церковного собора.
Однако последний разговор Лютера с архиепископом прошел без враждебности. Архиепископ этот был известен как хранитель одной из самых священных реликвий христианского мира – клочка ткани, якобы принадлежавшего нешвенному хитону Христову, тому, о котором римские солдаты бросали жребий. И теперь, указывая на эту реликвию, архиепископ просил Лютера не разрывать нешвенный хитон Церкви. «Кого же хочешь ты видеть себе судьей?» – спросил он в какой-то момент; и Лютер с улыбкой ответил, что судьей может стать даже ребенок восьми или девяти лет, – лишь бы судил по Писанию.
Ближе к концу разговора архиепископ спросил Лютера, какое решение тот сам мог бы предложить; на это Лютер почти не раздумывая ответил, что единственный путь, который он видит, – тот, что предлагал в Деян. 5 Гамалиил: «Пусть будущее покажет», от Бога ли проповедь Лютера или нет. Здесь Лютер сослался на тот эпизод книги Деяний, где иудейские вожди в Иерусалиме, разъяренные тем, что Петр и Павел, несмотря на запрет, продолжают проповедовать Иисуса, хотели предать их смерти. Однако самый уважаемый из них, Гамалиил, посоветовал оставить апостолов в покое. «Отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками»[244]. Таким образом, Лютер сравнил себя с первыми апостолами, которых так же преследовали, и предложил, чтобы его просто оставили в покое. В дополнение к этому он попросил архиепископа позволить ему спокойно покинуть Вормс.
После этой встречи Лютер готов был с чистой совестью ехать домой – но Спалатин сообщил ему, что уезжать пока нельзя. Вечером следующего дня, двадцать пятого апреля, фон дер Эккен и еще двое явились к Лютеру, чтобы сообщить ему решение императора. По словам фон дер Эккена, поскольку покаяться Лютер отказался, император вынужден принять против него меры. В течение двадцати одного дня Лютеру надлежит вернуться в Виттенберг. Что еще важнее, в течение этого времени ему запрещается проповедовать и даже писать. Особенно не желает император, чтобы Лютер писал отчет о событиях в Вормсе, ибо это, скорее всего, приведет к новым волнениям и спорам. На это время император выдает Лютеру охранную грамоту. На этом все. Лютер, просияв, радостно отвечал: «Как будет угодно Господу; благословенно имя Господне!»[245] Он знал, что свободен, что сделал все что мог, – а остальное оставлял на волю Божью. Дальнейшее пусть Господь управит сам. Лютер согласился повиноваться всем приказам императора и даже пожал фон дер Эккену руку на прощание.
Но что будет, когда он вернется в Виттенберг? Даже если на эти дни император выдаст ему охранную грамоту – нет сомнений, что вскоре он издаст эдикт, объявляющий Лютера еретиком и ставящий вне закона. Спалатин слышал от Фридриха, что эдикт этот был написан еще утром 18 апреля. Фридрих всей душой желал помочь Лютеру, однако не хотел делать это публично, справедливо опасаясь навлечь на себя гнев императора. Среди друзей Лютера в Виттенберге еще с 1519 года ходили разговоры о том, что рано или поздно до этого дойдет и Лютера придется прятать. Что ж, теперь определенно до этого дошло. Скорее всего, инициатором был Фридрих; однако он ясно дал понять, что не желает вмешиваться в это дело и даже знать подробности. Куда же ехать Лютеру? Да так… куда-нибудь. Его друзья Амсдорф, фон Фейлитцш и фон Тун говорили ему, что беспокоиться не стоит. План готов, однако детали его не следует знать никому – даже самому Лютеру.
В последний свой вечер в Вормсе Лютер дал прощальный обед – по-видимому, на средства Фридриха, который также выделил ему сорок гульденов на дорожные расходы. Алеандр в своих отчетах изобразил Лютера человеком плотским, любителем вкусно поесть и выпить; по его словам, Лютер наслаждался пирами, которые закатывали ему Фридрих и другие богатые друзья. Каким-то образом до Алеандра дошли сведения о том, что происходило на этом прощальном ужине, – и он не преминул сообщить, что «этот преподобный мошенник» выпил один за другим несколько бокалов своей любимой мальвазии. Коварно пнул на прощание, так сказать. На следующий день, 26 апреля, в девять утра, Лютер наконец покинул город, который прославил в веках своим именем; но куда теперь поедет – не знал и сам.
Лютер вне закона
И после отъезда Лютера император не прекратил усилий по переманиванию на свою сторону делегатов постепенно уменьшающегося рейхстага. 6 мая он представил тем, кто еще оставался в Вормсе, последнюю редакцию эдикта, подготовленную Алеандром. Текст явно не собирался щадить ничьи чувства. Вот, например, что там можно было прочесть:
Он очерняет брак, поносит исповедь, отрицает Тело и Кровь Господни. Он ставит таинства в зависимость от веры того, кто их принимает. Подобно язычнику, он отрицает свободу воли. Этот дьявол в монашеском облачении смешал в одну вонючую кучу все древние заблуждения и прибавил к ним новые. Он отрицает власть ключей и побуждает мирян умыть руки в крови клириков. Его учение порождает мятеж, разделение, войну, убийства, грабежи, поджоги и разрушение христианского мира. Он живет как дикий зверь. Он сжигает декреталии. Он презирает и отлучение, и власть меча. Для общества он еще более вреден, чем для Церкви. Долго трудились мы, призывая его к покаянию, – однако он признает лишь авторитет Писания, которое толкует в угодном себе смысле. Мы дали ему двадцать один день, начиная с 15 апреля. Теперь мы собираем князей и объявляем им, что Лютера следует считать осужденным еретиком [хотя булла о его отлучении от Церкви была еще не опубликована]. После того как исполнится указанный срок, никто не должен давать ему прибежища. Последователи его также должны быть осуждены, а книги его – истреблены из памяти людской[246].
Алеандр подал этот документ императору на подпись; однако, уже взявшись за перо, император вдруг задумался. Кто знает, что его смутило – быть может, обвинение, что Лютер «живет как дикий зверь»? Так или иначе, не подписывая эдикт, император объявил, что хочет сначала представить его на одобрение рейхстага. Алеандр не мог понять, зачем это ему понадобилось. Помимо всего прочего, рейхстаг день ото дня уменьшался – все больше знатных господ отправлялись в долгий обратный путь. Однако, хоть Карлу едва исполнился двадцать один год, ума и политического чутья у него было побольше, чем у иных седовласых старцев. Он понимал: теперь, когда уехали Фридрих и Людвиг фон дер Пфальц – главные его оппоненты в этом вопросе, – оставшаяся аудитория, скорее всего, без проблем осудит Лютера. Эдикт был представлен ему на подпись 6 мая, однако Карл выжидал до 26-го – ждал, пока уедут основные его противники. Объяснил ли он свой план остальным, предложил ли им потихоньку задержаться – мы не знаем. Но знаем, что эдикт был подписан только 26 мая, когда от рейхстага осталось лишь охвостье, поддерживающее Карла во всем.
Итак, эдикт был подписан – и на всей огромной территории Священной Римской империи Лютер оказался вне закона. Эдикт приказывал всем имперским подданным:
…не приглашать упомянутого Мартина Лютера к себе домой, не принимать ко двору, не снабжать ни едой, ни питьем, не укрывать, не предлагать ему – ни тайно, ни открыто, ни словом, ни делом – помощь, поддержку и покровительство. Везде, где его встретите – схватите его, свяжите и отошлите к нам под крепчайшей охраной[247].
Ясно было без долгих слов, что как только Лютера схватят, его будет ждать смерть на костре. Но где же скрывался этот вероотступник в день, когда вышел эдикт, – ровно через месяц после своего отъезда из Вормса?
В бегах
26 апреля, в девять утра, в карете, предоставленной ему городским советом и ювелиром Дерингом, Лютер выехал из Вормса. С ним были его прежние спутники: Амсдорф, Йонас, померанец Швауэ и Петценштейнер. Присоединился к ним и Шурфф – он тоже направлялся в Виттенберг. Алеандр считал, что Лютер в Виттенберг не поедет – и в этом был прав: однако он полагал, что Лютер собирается бежать в Данию или в Богемию, возможно, к своим «дружкам»-гуситам.
Лютер и его спутники двигались в точности тем же путем, каким прибыли в Вормс. В первый день путешествия они проехали шестнадцать миль на север, к Оппенгейму, там пересекли Рейн и направились на северо-восток, чтобы попасть в Виттенберг через Франкфурт. При выезде из Вормса имперского герольда с ними не было: он присоединился позже. Однако за воротами Вормса поджидала их компания из двадцати всадников – по всей видимости, снаряженных воинственным рыцарем Францем фон Зикингеном, который, как и фон Гуттен, сочувствовал Лютеру и мечтал сокрушить власть императора и папы. Земли Зикингена находились на Рейне; надо полагать, что до Рейна его кавалерия и проводила Лютера и его товарищей. В Оппенгейме их нагнал имперский герольд и поехал с ними в сторону Франкфурта.
Из Франкфурта на Майне, на второй день путешествия – 28 апреля – Лютер отправил письмо в Виттенберг своему другу Лукасу Кранаху. Именно в этом письме Лютер рассказал о том, что ждет его дальше. «Я подчинюсь “пленению”, – писал он, – и буду спрятан, хотя пока не знаю, где и как». Мы помним, что в вечер перед отъездом из Вормса Фридрих через своих людей заверил Лютера, что следует ожидать чего-то подобного, – однако подробностей ни Фридрих, ни сам Лютер не знали. Известно было только, что Лютера отвезут в какое-то укрытие, где он будет в безопасности. Но куда, и как долго продлится его «заточение», и все прочие детали оставались неизвестны.
Лютер продолжал: «Сам я предпочел бы смерть от рук тиранов, особенно герцога Георга Саксонского, яростно меня ненавидящего, – однако не могу пренебрегать советом добрых людей. [Придется мне подождать] времени, установленного Богом»[248]. Он понимал, что находится в большой опасности, и решил во всем положиться на Бога: делать то, что должен, и без страха встречать любые последствия. Он по-прежнему был убежден, что вслед за Вербным воскресеньем торжественного въезда в Вормс ждет его Страстная пятница. Однако понимал Лютер и то, что не следует опрометчиво торопить события. Необходимо играть роль, предписанную ему Богом, пока Бог сам не откроет для Лютера двери к мученичеству. Поэтому он покорился планам своего князя, Фридриха Мудрого, – планам, которых и сам не знал. Странные события в Вормсе Лютер объяснял Кранаху так:
Я полагал, Его Императорское Величество призовет ученого – а может, и пятьдесят ученых, – и опровергнет мнения этого монаха. Однако произошло лишь вот что: твои ли это книги? Да. Отрекаешься ли от них? Нет. Раз так, то пошел вон! О, слепые немцы: как по-ребячески мы ведем себя, как жалко позволяем римлянам себя обманывать и дурачить!
Далее Лютер писал о том, с какими чувствами едет навстречу тому, что считал своей Голгофой:
Скоро, скоро иудеи закричат: «Распни Его!» Однако придет для нас и Светлое Воскресенье, и тогда уже мы запоем: «Аллилуйя!» Некоторое же время надлежит молчать и страдать. Будет время, когда не увидите Меня, и будет время, когда увидите снова, – так сказал Христос. Надеюсь, так же будет [и со мной]. Но да будет воля Божья как на небесах, так и на земле. Аминь[249].
Можно лишь воображать себе, какие мысли, какие чувства кипели в душе и сердце Лютера на этом пути. Он не был настолько предан миру духовному, чтобы совсем не дорожить жизнью, – и не только размышлял о возможности мученичества, но и признавал, что, по заповеди Иисусовой, кесарю следует отдавать кесарево[250]. Он уважал власти предержащие – и раздумывал над тем, не стоит ли написать императору, который, несомненно, сейчас страшно на него зол.
Позднее в тот же день, из Фридберга к северу от Франкфурта Лютер написал императору большое письмо. Письмо было выдержано в самом смиренном и уважительном тоне, однако в нем Лютер высказал новую, поистине поразительную для тогдашнего мира идею, почерпнутую им из Евангелия: ни папа, ни император не обладают властью помимо той, что дарована им Богом. В этом звучало эхо диалога Иисуса с Пилатом, когда тот спросил: «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя?», а Иисус ответил: «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было даровано тебе свыше»[251]. Лютер заново открыл рычаг, способный перевернуть мир – рычаг, ставящий всех наравне перед Богом. Это и есть то, что делает нас свободными, – равенство подданных Царя царей.
На следующий день, 29 апреля, еще во Фридберге, Лютер сказал Каспару Штурму, имперскому герольду, что теперь он в безопасности и Штурм может оставить его и возвращаться к своим обязанностям. Дело было серьезное – Лютеру пришлось даже написать письменный отказ от услуг герольда; к этому документу он присовокупил письмо, которое попросил Штурма передать Спалатину. В письме к Спалатину он передавал привет и наилучшие пожелания Паппенгейму, имперскому маршалу. Кроме того – и это, пожалуй, всего важнее, – сюда же он присовокупил пространное письмо к императору. Насколько все это было спланировано заранее, мы не знаем – но точно знаем, почему Лютер отпустил Штурма: он ожидал того, что вскоре и последовало.
Похищенный
Двадцать восьмого числа Лютер, по всей видимости, ночевал во Фридберге. Штурм уехал двадцать девятого. Вместе с оставшимися своими спутниками Лютер отправился в Грюнберг, где провел следующую ночь, а затем проехал сорок миль до Бад-Херсфельда. Там городской совет и аббат местного монастыря устроили ему торжественную встречу. Лютер описал ее в письме к Спалатину:
Едва ли ты поверишь в то, как по-дружески принял нас хердсфельдский аббат! Выслал своих канцлера и казначея на добрую милю вперед, чтобы нас встретить, а возле своего монастыря появился сам вместе с многочисленными всадниками и сопроводил нас в город. Городской совет встречал нас за воротами. В монастыре аббат угостил нас роскошным ужином и отдал в мое распоряжение собственную спальню. [На следующее утро] они убедили меня произнести проповедь. Напрасно убеждал я их, что монастырь потеряет дарованные ему привилегии, если императорские чиновники сочтут, что этой проповедью я нарушил условия охранной грамоты, – ведь мне запретили проповедовать в пути. Однако, продолжал я, слово Божье превыше всего – и его нельзя замалчивать[252].
На следующий день Лютер и его друзья приехали в Айзенах: здесь Лютер тоже проповедовал. Он верил и исповедовал, что слово Божье нельзя замалчивать, – и сам этого делать не собирался; приказы людей, запрещающих проповедовать Благую Весть, он считал для себя необязательными, ибо превыше всего ставил свой долг перед Богом. В менее важных вопросах Лютер вел себя иначе: однако, как ясно писал он и в письме к императору, и во многих других случаях, слово Божье – нерушимая святыня, и долг пастыря – проповедовать его везде, где только возможно, вопреки любым человеческим стеснениям и запретам[253]. Он понимал, что этим подвергает опасности свою жизнь; однако в этом случае, как и в других, Лютер, по всей видимости, действительно полагался на Бога. Впрочем, штатный проповедник в Айзенахе не стал заходить так далеко, как его коллеги в Бад-Херсфельде. Он не мешал Лютеру проповедовать, однако, чтобы обезопасить от репрессий себя, заранее подал протест в городской совет.
К югу от Айзенаха жили родственники Лютера, которых он хотел навестить: поэтому Юстуса Йонаса, вместе с Шурффом и Швауэ, он отослал вперед, в Виттенберг. Лишь с двумя товарищами – монахом Петценштейнером и своим другом Амсдорфом – отправился он в близлежащую Мёру, деревню, где родился его отец Ганс. Там троица переночевала у родных Лютера, а на следующий день снова двинулась в путь. Однако не успели они проехать и пяти миль, как в лощине близ замка Альтенштайн их окружила группа вооруженных всадников. Неизвестно, знал ли о заговоре Петценштейнер – но известно, что, увидав «разбойников», он выпрыгнул из кареты, бросился бежать и в тот же вечер прибыл в Вальтерсхаузен. «Разбойники», наставив на кучера устрашающие арбалеты, грубыми голосами и с проклятиями поинтересовались, кого он везет. Кучер, явно не посвященный в заговор и дрожавший за свою жизнь, пролепетал то, что они, без сомнения, уже прекрасно знали. Амсдорф понимал, что происходит, однако, чтобы не вызывать подозрений у кучера, принялся проклинать «разбойников» и с ними браниться. Но те, ничего не слушая, вытащили Лютера из кареты – грубо, однако позволив ему захватить с собой Новый Завет и еврейскую Библию, – и заставили его бежать за своими лошадьми, пока не скрылись из виду. Едва горизонт очистился, они – как Лютер и ожидал – остановились и заговорили с ним совсем иным тоном. Ему помогли снять монашеское одеяние и облачили в рыцарскую одежду, чтобы ни один встречный не заподозрил в нем монаха, и усадили верхом на коня. А чтобы никто их не выследил, отправились в дорогу кружным путем – по извилистым тропкам в сердце тюрингских лесов.
Кто же были эти похитители? Как и следовало ожидать, друзья Фридриха. Один – кастелян[254] знаменитого Вартбургского замка, Ганс фон Берлепш; второй – властитель близлежащего замка Альтенштайн. Оба убедительно сыграли свои роли – и после долгого путешествия по темным лесам, незадолго до полуночи, пересекли по деревянному мосту ров, за которым их «пленник» был в безопасности. План, задуманный Фридрихом и разработанный его приближенными, был исполнен. Лютер находился в замке Вартбург – и почти никто во всей империи об этом не знал; хотя и можно было надеяться, что слухи о похищении скоро разнесутся по стране и многие решат, что Лютер убит.
Вспомнив, что эдикт против Лютера был издан императором, мы начинаем лучше понимать средневековый мир, в котором, словно в каком-нибудь мусульманском халифате, Церковь и государство фактически образовывали своего рода теократию. Мы видим, что там, где они были едины, подлинной, «свободной» Церкви не существовало; и, хотя Лютер еще не задумывался об отделении Церкви от государства или о религиозной свободе в нашем понимании, – усилия его, несомненно, были направлены на это. Чтобы освободить Благую Весть – освободить Свободу, – требовалось вырвать ее из ткани мира и позволить ей остаться в одиночестве.
В любом случае, Вормсский эдикт против Лютера представлял собой нечто вроде фетвы на «еретика»: теперь Лютера должны были арестовать и, скорее всего, казнить. Вполне вероятным казалось, что какой-нибудь убийца или банда убийц подстерегут его в пустынном месте и положат конец его жизни, не объявляя об этом во всеуслышание, – и вполне естественно было подумать, что за этими убийцами будет стоять император или папа. Именно так и решили многие, когда Лютер исчез. В течение долгих месяцев его полу-добровольного заточения многие гадали, жив ли он. И если Лютера больше нет в живых, – куда же перекинется зажженное им пламя?
Далеко в Нидерландах Альбрехт Дюрер писал:
Не знаю, жив ли он [Лютер] или убит – но в любом случае он пострадал за истину христианства. Если мы потеряем этого человека, писавшего яснее многих авторов за сотни лет, – пусть Бог дарует его дух другому. Книги его заслуживают великого почитания: не их следует сжигать, как того требует приказ императора, а скорее книги его врагов. О Боже, если Лютер мертв, кто же теперь станет объяснять нам Евангелие? А если он жив – что еще напишет для нас в следующие десять или двадцать лет?[255]
Глава двенадцатая Вартбург
Хотел бы я, чтобы Карлштадт опровергал необходимость безбрачия более подходящими для этого цитатами из Писания!
Мартин ЛютерНа высокой горе – одиноком острове среди зеленого моря, распростершегося от края до края окоема, – стоит замок Вартбург[256]. Построенный в 1067 году тогдашним тюрингским графом, известным как Людвиг Шпрингер[257], ко времени Лютера Вартбург был уже прославленным местом. Для Лютера он стал, должно быть, чем-то вроде ковчега, плывущего над бурными водами. Время, которое провел здесь Лютер, скоро сделалось легендарным, а само слово «Вартбург» стало нарицательным для его изгнания[258]. В наше время, взирая на Вартбургский замок, большинство людей прежде всего вспоминают о том, что здесь Лютер совершил одно из величайших своих деяний, более чего-либо иного отражающее смысл его деятельности в целом: перевел Новый Завет на немецкий язык, навеки освободив из латинского плена простую песнь свободы, разлетевшуюся по всему миру, – песнь, которую никому и никогда больше не удастся заглушить.
Однако, когда Лютер приехал сюда, таких планов у него не было. Здесь, в Вартбурге, он был один и никому не известен. Никто в замке, кроме самого кастеляна Берлепша, не ведал, кто их новый сосед. Берлепш устроил его в маленьком помещении – две крошечные комнатки, очень скудно обставленные, – которое обычно использовалось в качестве «гауптвахты» для провинившихся рыцарей. «Гауптвахта» находилась поблизости от комнат самого Берлепша во внешней части замка, но вдали от всех прочих жилых помещений, так что Лютер здесь никому не мозолил глаза. Из комнат Берлепша в комнаты Лютера вела лестница в несколько ступеней: каждый вечер она перегораживалась цепью и запиралась на замок. В первое время в Вартбурге Лютер видел только Берлепша да еще двоих пажей – мальчиков из дворянских семей, которые приносили ему еду. Как объяснили им присутствие в замке этого загадочного человека, мы не знаем. Известно одно: для всего света, не считая горстки смельчаков, принявших участие в заговоре, монах по имени Мартин Лютер, одними прославляемый, а другими поносимый, перестал существовать. Едва он переступил порог замка, обращаться к нему начали исключительно как к «юнкеру Георгу»[259]. Теперь он должен был и выглядеть, и вести себя как другие рыцари в замке – и прежде всего поскорее зарастить тонзуру. Кроме того, он отрастил бороду и, сняв монашескую рясу, облачился в элегантный наряд благородного рыцаря. Теперь он носил рубаху из тонкого льна, модный дублет и лосины с гульфиком – все для того, чтобы, когда он выйдет из заточения, никто из встречных не догадался, кто стоит перед ним.
Из суеты, многолюдности и драматических событий Вормса перенестись в такое тихое пристанище – само по себе это, должно быть, стало потрясением; и ведь Лютер не знал, сколько времени здесь пробудет. Он не привык ни к полному одиночеству, ни к изобилию свободного времени. Однако, похоже, выбора не было. Чем же заняться? Разговаривать он поначалу мог только с Берлепшем, из книг у него было с собой лишь две – те, что удалось захватить с собой из кареты, греческий Новый Завет с переводом Эразма, издание 1516 года, и еврейская Библия. Для человека, привыкшего жить и дышать книгами, это было поистине драконовское ограничение. Однако это были не просто книги – книги книг; и дальше мы увидим, что Лютер сумел найти им поистине великое применение.
Из окон комнатки Лютеру открывался захватывающий пейзаж – бескрайний Тюрингенский лес, в начале мая зеленый и цветущий. В самые ясные дни на северо-востоке можно было увидеть гору Хоэр-Майснер, что в Гессене, в тридцати милях от замка. В письмах к друзьям Спалатину, Амсдорфу и Меланхтону – единственным, кто (не считая тех, кто привез его сюда) знал, где он, – Лютер писал, что обитает сейчас «в птичьем краю» и «в обители воздуха». Неодолимая сила вырвала его из привычного мира студентов, преподавателей и ученых споров – и вознесла на вершину горы, открытую всем ветрам, под самый свод небес. Однажды он написал: сидя у окна, он слышит, как птицы «поют, день и ночь изо всех сил своих воспевая хвалу Богу»[260]. В другом письме назвал Вартбург своим «Патмосом» – островом, куда апостол Иоанн был сослан римским императором за «слово Божье и свидетельство об Иисусе Христе»[261]. Там, в изгнании, апостол написал книгу, ныне известную нам как книга Откровения; и в недалеком будущем Лютеру предстояло последовать его примеру – написать очень и очень многое, а в заключение ту же книгу Откровения перевести. Ибо, начиная с декабря, Лютер взялся за великую задачу – перевод Нового Завета целиком на немецкий язык.
Гравюра, изображающая Лютера в образе «юнкера Георга». Лукас Кранах. 1522
Но до этого оставалось еще много месяцев. В первые дни в Вартбурге, еще не освоившись, Лютер написал лишь несколько писем. Первое – по-видимому, на четвертый день заточения – было адресовано его ближайшему другу Филиппу Меланхтону[262]:
Многое хотел бы я добавить к этому письму, но слишком велик страх, что меня обнаружат. Также и вас всех прошу быть очень осторожными… Никому, кроме тебя и Амсдорфа, не следует знать ничего, кроме того, что я жив[263].
В первые дни Лютер нетерпеливо ждал писем от друзей и тосковал по новостям о том, что происходит в мире. Он понимал, что исчезновение его должно было вызвать много толков, – и страдал от того, что сам ничего не знает и ни на что не может повлиять. Поэтому в первом же письме Лютер обращается к тому, что слышал, скорее всего, от Берлепша. По слухам, писал он, за два дня до того, как Лютер скрылся в Вартбурге, в Эрфурте произошли беспорядки. Причиной их стало событие, случившееся месяцем ранее, – после того, как Лютер проехал через Эрфурт по пути в Вормс и встретил там теплый прием от местного монашества. На следующий день после отъезда Лютера настоятель собора святого Северина решил наказать клириков, тепло приветствовавших отлученного еретика. Когда один из клириков – некий Иоганн Драх, каноник – отказался принять наказание, настоятель унизил его: схватил за шиворот, выволок из алтаря, а затем и из церкви и безапелляционно заявил, что тот отныне отлучен. Эрфуртские студенты и прочая молодежь, вся занимавшая сторону Лютера, начала громко протестовать. В протестах и беспорядках приняли участие также эрфуртские ремесленники и другие простые люди – первый случай, когда движение Реформации, так сказать, на практике выплеснулось за академические и церковные пределы. Дальше мы увидим, как оно будет расти и шириться. Подавленная досада эрфуртских горожан снова нашла себе выход в беспорядках 1 и 2 мая – быть может, потому что в городе услышали, что Лютер проезжает мимо по пути из Вормса. Так или иначе, эрфуртцы требовали восстановить Драха в правах. В конце концов настоятель подчинился и отменил отлучение. Слыша все это, Лютер трепетал от волнения и жаждал подробностей – но подробности дошли до него не скоро. После воссоединения с Церковью Драх, однако, оставил свое место в Эрфурте и переехал в Виттенберг. В последующие годы такое случалось все чаще и чаще: Реформация, выйдя из-под контроля Лютера, широко шагала по Германии и соседним странам. Виттенберг сделался прибежищем для всех, кто разделял взгляды Лютера, – и многие, как Драх, эмигрировали туда. Лютер гадал о том, что происходит и какой эффект на быстро меняющуюся ситуацию оказывает его исчезновение и молчание, – ведь прежде ему, можно сказать, молчать не приходилось вовсе:
Кто знает, что вознамерился совершить Бог с этими сильными мира сего[264] посредством моего молчания? Священники и монахи, что негодовали против меня, пока я был на свободе, теперь страшатся меня как пленника – и начали смягчать свои нападки на меня. Терпеть угрозы от простого народа они не в силах, но и не знают, как их избежать. Воззри, вот рука Сильного Иаковлева, что действует, пока мы молчим, страдаем и молимся. Не справедливо ли слово Моисеево: «Будешь молчать – и Господь будет сражаться за тебя»?[265]
Однако в тот же день (или, возможно, несколько дней спустя) Лютер пишет письмо Меланхтону, в котором выражает глубокое недовольство вспышками насилия со стороны своих приверженцев:
Я слышал, что в Эрфурте совершалось насилие против священников и их домов. Поражен тем, что городской совет это терпит и не обращает внимания, а также и тем, что молчит наш Ланг. Хоть и хорошо, что ленивые и безбожные священники получают по заслугам – однако такой метод вызывает отвращение и неприязнь к нашей Благой Вести. Хотел бы я написать [об этом] Лангу, но пока не могу. Однако такие «услуги» нам со стороны этих людей крайне неприятно меня поражают[266].
С этой проблемой Лютеру предстояло сталкиваться и в последующие месяцы и годы. Начатое им движение обрело свою жизнь; и все чаще и чаще приходилось ему бороться с побочными эффектами от действий своих же сторонников – людей, ведомых благородными побуждениями и целями, однако прибегавших, на взгляд Лютера, к глубоко ошибочным средствам, позорящим Христово Евангелие.
Но обратной дороги не было. То, что говорил и делал Лютер, имело свои последствия – как хорошие, так и дурные. Да, какие-то его последователи делали то, что самого Лютера огорчало; однако многие другие, читая его труды, загорались его идеями, начинали воплощать их в жизнь и нести дальше именно так, как он надеялся. Все немецкое общество пришло в движение – и, как всегда случается, наряду с честными энтузиастами возбудились неуравновешенные люди и мошенники. Ситуация, известная еще из Писания: пшеница и плевелы должны расти вместе, пока сам Бог не решит их судьбу.
Если папа предпримет шаги против тех, кто думает так же, как я, без мятежа в Германии не обойдется. Чем быстрее он это сделает, тем быстрее сам он и его последователи погибнут, а я смогу вернуться. Не думаю, что наше дело можно подавить силой: если [папа] попробует затушить этот пожар, он разгорится в десять раз сильнее. В Германии ведь очень много Karsthansen[267][268].
Число последователей Лютера росло с каждым днем; скоро и вдали от Германии множеству людей пришлось выбирать сторону в этой открытой войне идей. Например, через восемь дней после приезда Лютера в Вартбург сожжение его книг состоялось в далеком Лондоне. Костер, разведенный во дворе собора Святого Павла, организовали кардинал Вулси и настоятель собора Ричард Пейс. Генрих VIII высказался решительно против виттенбергского поджигателя – и даже сам взялся за перо, чтобы написать возражение на его труд «О вавилонском пленении Церкви». Появилось ощущение, что дерзкие писания Лютера требуют от католиков сплотиться вокруг Церкви; атмосфера гуманистического «свободомыслия», в которой возникла критика Церкви Эразма или «Утопия» англичанина Томаса Мора (1516 год), стремительно угасала. Желание встать на защиту Церкви против «ереси» охватило всю Европу. В Париже сожжением книг Лютера руководил сам король Франциск I, и даже в далекой Польше в июле того же года король Сигизмунд выпустил строгий указ против лютеровых идей.
Оказаться в заточении в Вартбурге для молодого человека, привыкшего к проповедям, лекциям и еще сотне ежедневных обязанностей августинского викария и университетского преподавателя, было очень тяжело. «Сижу день-деньской, – писал он Спалатину, – с набитым брюхом, не зная, чем себя занять»[269]. Лютер не привык к такому режиму. Тяжело было, что он оказался вырван из активной жизни, что бурные события дома происходили без него. Были и другие проблемы. Например, он начал снова страдать от Anfechtungen, хотя уже некоторое время – быть может, именно из-за занятости – эти навязчивые мысли ему не докучали.
Порой Лютер спрашивал себя, правильно ли поступил, позволив себя спрятать. Не сделал ли он ошибку, не настояв на том, чтобы пройти свой путь до логического конца, – пусть этот конец, вполне возможно, и означал для него страшную смерть? Во всяком случае, он не сомневался, что с руководством движением виттенбергские коллеги – Андреас фон Карлштадт, Габриэль Цвиллинг, Николас фон Амсдорф и Филипп Меланхтон – справились бы и без него. Официальным «заместителем» Лютера в его отсутствие стал Меланхтон; однако этот двадцатичетырехлетний ученый никогда не сможет стать таким же лидером, как его наставник. Лютер верил в Меланхтона намного сильнее, чем тот сам в себя. В первую очередь он был ученым – и оказался недостаточно подготовлен к своей новой роли. Лютер всегда относился к нему тепло и заботился о нем: так, считая, что Меланхтону нужно жениться, он практически организовал его брак с Катариной Крапп, дочерью виттенбергского бургомистра.
Двенадцатого числа Лютер писал Меланхтону:
Что поделываешь ты в эти дни, мой Филипп? Не молишься ли о том, чтобы пребывание мое в этом убежище, куда я помещен против воли, послужило к вящей славе Божией? Очень хотелось бы мне узнать твои мысли [о моем исчезновении]. Боюсь, не выглядит ли это так, словно я бежал с поля битвы; однако противиться тем, кто этого хотел и так мне советовал, я не мог. [И все же] ничего так не желаю, как встретить ярость врагов моих лицом к лицу[270].
Долгие месяцы в Вартбурге Лютера не отпускала мысль, что ему не следовало уезжать из Вормса и позволять себя спрятать. Но что толку об этом жалеть? Он уже был здесь – и должен был использовать это свободное время наилучшим образом.
В письме он убеждал Меланхтона в его отсутствие «быть твердым» и «укреплять стены и башни Иерусалима». Лютер писал, что до сих пор вел эту битву один, однако скоро враги могут прийти и за Меланхтоном. Упомянул он о том, что слышал от Спалатина: главный враг его, герцог Георг, которого Лютер обычно именовал «дрезденским боровом», но на этот раз присвоил ему имя «дрезденского Ровоама»[271], намерен издать новый указ, с требованием разыскать и сжечь все книги Лютера в своих владениях. Кроме того, продолжал он, император потребовал у короля Дании, чтобы тот не давал последователям Лютера приюта в своей стране. Дальше в этом письме Лютер переходил к проблеме куда более личной – проблеме, что не давала ему покоя в Вартбурге и часто мучала всю оставшуюся жизнь.
«Частица креста»
Жизнь Лютера в продолжение десяти месяцев в Вартбурге сильно отличалась от той жизни, что вел он до сих пор. Здесь он – особенно в первые недели – по большей части сидел один у себя в комнате. Неподвижность, отсутствие физических нагрузок и богатый стол, предоставленный ему любезным хозяином, привели к возобновлению недуга, беспокоившего Лютера еще в Вормсе. В письме к Меланхтону Лютер касается этой болезненной темы:
Господь поразил меня болезненным запором. Испражняться очень тяжело: приходится напрягать все силы, до изнеможения – и чем дольше я откладываю, тем становится хуже. Вчера, на четвертый день задержки, мне наконец удалось опорожниться – но всю ночь я провел без сна, и сейчас чувствую себя худо. Прошу, помолись обо мне. Если так будет продолжаться, этот недуг станет нестерпимым[272].
В тот же день он писал Амсдорфу: «Господь поразил меня: запор мой становится хуже»[273]. Но подробнее всего описал свои желудочно-кишечные страдания Лютер в письме к ближайшему и доверенному своему другу Спалатину. В письмах к нему мы видим, как легко – и в полном соответствии со своим богословием – смешивает Лютер высочайшие темы с самыми низменными. Через месяц после письма к Амсдорфу он писал Спалатину:
Беда, от которой страдал я в Вормсе, не только не оставила меня, а сделалась еще хуже. Таких запоров не было у меня еще никогда, и я уже отчаялся найти лекарство. Господь поражает меня, чтобы и я не остался без частицы креста. Да будет Он благословен, аминь[274].
Состояние его сделалось столь мучительно, что Лютер страстно желал получить от Фридриха разрешение выехать в Эрфурт и посетить там врача. Однако опасность угрожала ему повсюду – Лютер был вне закона, его запросто могли схватить и привезти к императору; поэтому Спалатин ответил, что это невозможно. Впрочем, от врачей при дворе Фридриха он получил советы и лекарство, которое немедленно переслал Лютеру. 15 июля, получив и приняв это лекарство, Лютер писал Спалатину:
Пилюли я выпил согласно предписанию. Скоро я ощутил облегчение – удалось опорожниться без усилий и без кровотечения; однако раны от предыдущих разрывов еще не зажили, и мне пришлось помучиться, когда вместе с калом вышла плоть, – не знаю уж, от моих усилий или от действия пилюль[275].
Две недели спустя он снова сообщал о своем самочувствии:
Что касается моего здоровья: благодаря сильным и действенным лекарствам испражняться мне стало легче, однако само пищеварение не изменилось. По-прежнему чувствую боль и боюсь, как бы Господь в мудрости своей не поразил меня еще худшими напастями[276].
Большинство историков воспринимают жалобы Лютера на здоровье в самом прямом смысле – как указание, что он страдал запорами. Однако здесь стоит снова упомянуть фрейдистские теории Эрика Эриксона – хотя бы потому, что много десятилетий немалое число ученых считали нужным воспринимать Эриксона всерьез. Вот поистине драгоценное суждение Эриксона об этом важнейшем предмете:
Можно сказать, что физическим запорам Лютера, от которых он страдал всю жизнь, соответствовали «запоры» психические и духовные – склонность задерживать и накапливать в себе чувства и впечатления. Однако эта склонность к задержке и накапливанию (которая, впрочем, скоро сменилась противоположной) была частью его адаптации; и подобно тому, как мы полагаем, что психосексуальную энергию возможно сублимировать, – так же должны принять как должное, что человек может (и должен) научиться вывести из психобиологических и психосексуальных особенностей своего организма первичную модальность своей творческой адаптивности[277].
И возгласил весь народ Божий: «Аминь».
Творчество
В комнате Лютера в Вартбурге имелась изразцовая печь, простой стол и стул, которыми он пользовался постоянно, а также один любопытный предмет, скорее всего, подарок Фридриха, пересланный через Спалатина, хотя письма с какими-либо упоминаниями о нем не сохранились. Это был исполинский позвонок кита – по всей видимости, часть китовых останков, выброшенных на сушу где-то далеко от Германии, возможно, на берегу Северного моря. В то время считалось, что китовые кости обладают целительной силой: возможно, поскольку Лютер постоянно жаловался на свои хвори, Спалатин достал где-то этот позвонок и прислал ему в подарок. Нет сомнений, что Лютера изумил и обрадовал такой редкий дар: гигантская белая кость левиафана, когда-то плававшего в глубинах отдаленного моря. Океана Лютер никогда не видел – ни в то время, ни позже, так что, несомненно, подарок этот привлек его и своей экзотичностью. Некоторые считают, что Лютер ставил на него ноги в те бесконечные часы, что проводил за работой[278].
Объем написанного Лютером в эти десять месяцев в замке на вершине горы поражает воображение. По правде сказать, больше ему там и заняться было нечем. Он не мог ни общаться с друзьями лицом к лицу, ни проповедовать и читать лекции несколько раз в неделю, как привык. Пока не заросла тонзура и не отросла борода, он не мог даже гулять за пределами замкового двора – да и после этого старался пореже выходить на улицу, чтобы праздными прогулками не привлекать к себе внимание и не вызывать подозрений, будто он чем-то отличается от прочих замковых рыцарей. В любом случае, выходить из комнаты с книгой было для него совершенно недопустимо. Этим он сразу бы себя раскрыл: печатные книги в то время были явлением новым и привычка к чтению их еще не успела распространиться среди знати. Со временем у Лютера появилась возможность ездить верхом по лесам, простиравшимся во все стороны, – однако всегда в сопровождении слуги или пары слуг, на случай каких-нибудь неприятностей. Начал он даже гулять по лесным тропам вокруг Вартбурга, собирая землянику – занятие из детства, когда он жил у родственников в деревне близ Айзенаха, – но и это всегда в сопровождении двух пажей из благородных семейств, приданных ему Берлепшем. Развлечений у Лютера было немного, а обязанностей и того меньше – и он писал, писал торопливо и яростно, и за эти десять месяцев заточения выдал на-гора больше, чем иным писателям удается за всю жизнь.
Кстати сказать, популярнейшая легенда о том, как Лютер в Вартбурге швырнул в дьявола чернильницей, – по всей видимости, еще один миф, на этот раз обязанный своим существованием ошибочному буквальному пониманию метафоры. Лютер явно имел в виду, что побеждал дьявола своими трудами, а не то, что буквально бросал чернильницу рогатому в голову. Чернильное пятно на стене комнаты, которое сейчас показывают туристам, совершенно точно оставлено не Лютером, а каким-то более поздним «автором».
Однако в первые дни в Вартбурге Лютер ничего не писал. Вначале ему нужно было получить материалы. Как только появилась возможность, он начал бомбардировать своих друзей письмами с просьбами выслать ему различные книги и его собственные неоконченные рукописи. А в ожидании всего этого прилежно штудировал Эразмов греческий Новый Завет и еврейскую Библию. Так готовился он к монументальному труду, за который взялся в ближайшем декабре – переводу Нового Завета на немецкий язык[279]. Однако, как только прибыли другие книги и рукописи, Лютер взялся за не столь масштабные проекты – а их тоже хватало. В письме Спалатину от 10 июня он писал: «Я здесь бездельничаю, но в то же время очень занят: изучаю еврейский и греческий, а также пишу без остановки»[280].
Вырвавшись из кипучей виттенбергской суеты, Лютер, однако, не прекратил дискутировать со своими оппонентами. В каком-то смысле он «вырвался из контекста», но во многих отношениях в нем оставался. В начале 1520 года Каэтан настоял на том, чтобы университеты Левена и Кельна разобрали и осудили лютеровы писания. Прочтя то, что они написали, Лютер, в свою очередь, осудил их осуждение, заявив, что в нем отсутствуют какие-либо основания из Писания, – что было совершенной правдой. Однако теперь, в мае 1521 года, появилось новое антилютеровское сочинение, и на этот раз вроде бы со ссылками на Писание. Это сочинение, за авторством левенского академика Якоба Латомуса, носило заглавие: «Доводы из Священного Писания и древних авторов в пользу осуждения богословских учений брата Мартина Лютера, подготовленные левенскими богословами». В Вартбурге времени у Лютера было более чем достаточно – и он написал ответ. Сочинил он и саркастическую реплику в ответ на очередное писание «козла» Эмзера, капеллана Георга Бородатого. В целом в Вартбурге Лютер создал несколько полемических статей – хоть и гораздо меньше, чем в предшествующие годы. Здесь у него появилась возможность сосредоточиться и приложить силы к чему-то более объемному и монументальному, чем пламенные памфлеты, так легко выходившие из-под его пера.
Еще одной темой, на которую Лютер обратил внимание в эти дни, стало католическое таинство исповеди. В книге «О вавилонском пленении Церкви» он писал о том, что больше не считает исповедь таинством. Теперь же написал об этом отдельную книгу: «Об исповеди: обладает ли папа властью ее требовать». Лютер был не против исповеди; однако в первые годы своего монашества сам немало пострадал от принятой церковной практики, требующей тщательно запоминать и исповедовать каждый грех, – и видел, что исповедь превратилась для христиан в тяжкое бремя, а не в избавление от бремени, каковой должна была быть изначально. В своем труде, цитируя Иак. 5:16 («Итак, исповедуйте грехи свои друг другу»[281]), Лютер показывает, что изначально исповедь совершалась между простыми христианами, так что специальные церковные структуры, выстроенные вокруг этого, не нужны и даже нежелательны. Кроме того, Лютер полагал, что исповедь не должна быть ни обязательной, ни регулярной; каждый христианин должен прибегать к ней по собственному решению, когда ощутит в этом потребность. Многие христиане чувствуют себя виноватыми просто потому, что не пошли на исповедь, – так она превращается в еще одно бремя жизни, полной религиозных бремен, а не в освобождение от бремени.
Прежде чем отправиться в Вормс, Лютер работал над комментарием к магнификату – славословию Богородицы, которое начинается со слов «Величит душа Моя Господа» и приведено в рассказе о рождестве Христовом в Евангелии от Луки. Текст взят прямо из первой главы Евангелия, а экзегеза Лютера говорит о важнейшем тезисе его богословия: Мария смогла принять Бога именно потому, что смирилась и умалилась перед Ним. Он не описывает ее как великую святую, совершившую какие-то необыкновенные нравственные подвиги, – напротив, восхваляет за самоуничижение, за низведение себя почти в ничто. Только опустошив себя, смогла она принять Бога – в ее случае буквально; и мы можем принять Бога только в пустоте и из пустоты, не пытаясь ничего предлагать ему в ответ. Эту книжечку Лютер посвятил герцогу Иоганну Фридриху, семнадцатилетнему принцу, племяннику Фридриха, которому со временем предстояло заменить того на троне курфюрста. Ближе к концу комментария Лютер с типичной для него пророческой смелостью обращается к этому блестящему юному правителю:
Все это предначертано было Богом, дабы испытывать тех, кому принадлежит власть, держать их в страхе и предостерегать о погибели. Ибо великие богатства, слава, власть и честь, не говоря уж о льстецах, без которых ни один господин не обходится, – все это осаждает сердце князя, подвигая его к гордости, к забвению Бога, к пренебрежению народом и общим благом, к распутству, богохульству, надменности и лени, – короче говоря, ко всякому злу и пороку. И если князь не укрепит дух свой сими примерами и не защитит себя, словно крепостной стеной, страхом Божьим, – как устоит?[282]
Пророческая смелость Лютера в его обращениях к папе и императору – а также к Фридриху, Альбрехту Майнцскому и многим другим сильным мира сего, – лишь еще один пример того, что можно назвать новым открытием Благой Вести, спасением ее из-под глыб средневековых церковных и политических структур. Лютер не чувствовал себя намного ниже этих земных властителей, поскольку все мы ходим под одним Богом. Всякая власть – от Бога, а во Христе все едины и все судятся одинаково; раз так, значит, у Лютера как христианина есть и право, и даже долг говорить властителям истину, предупреждать о возможных ошибках или указывать на ошибки уже совершенные: как ради их собственных душ, так и ради душ тех, кем они правят. Страх Божий для Лютера превышал страх перед земными властями, так что он чувствовал себя свободным говорить ясно и прямо, зная, что слова его идут не от эгоистичных страстей, а от желания привнести в ситуацию Бога и Его Благую Весть. В том, чтобы обращаться к властителям с проповедями и предупреждениями, Лютер видел не только свое право, но и первейший долг. С этого начал он в 1517 году, опубликовав свои Тезисы: но время шло – и первоначальная робость его и страх оскорбить вышестоящих малу-помалу уходили, пока не исчезли совсем. Теперь осторожность в речах он считал скорее плодом мирской мудрости и «страха человеческого», чем истинной веры и служения Богу.
За время пребывания в Вартбурге изменилось и отношение Лютера к оппонентам. До Вормса на встречах с Каэтаном Лютер держался вежливо, любезно и даже по большей части дружелюбно. Однако в Вартбурге пришел к мысли, что в Вормсе допустил ошибку, даже не попытавшись обличить своих противников в стиле ветхозаветного пророка. Он понимал, что это, скорее всего, привело бы его к смерти – но, как мы уже отмечали, умереть не страшился. Страшился он лишь одного: не сделать того, чего хочет от него Бог, – и теперь чувствовал, что в Вормсе, возможно, сплоховал. Мы читаем об этом в письме его к Спалатину от 9 сентября, где он критикует Эразма за уклончивость на грани малодушия. Он всегда знал, пишет он, что пути его с Эразмом и Фабрицием Капитоном[283] однажды разойдутся:
Ибо я видел, что Эразм далек от познания благодати: во всех писаниях заботит его не крест, но мир. Он полагает, что все на свете можно обсудить и устроить «цивилизованно», благожелательно и по-доброму. Но уговорами Бегемота[284] с места не сдвинуть, и от ласковых слов ничего не меняется к лучшему… Своими писаниями они [Эразм и Капитон] ничего не достигают, поскольку стараются не упрекать, не кусать, не оскорблять. Но, когда пап [и епископов] увещеваешь цивилизованно, они принимают это за лесть и продолжают в том же духе, как если бы получили право оставаться такими, как есть, – довольные тем, что их боятся и никто не осмеливается возразить им в открытую.
Размышляя об этом, Лютер задавался вопросом, не был ли слишком мягок и сам:
Я также очень опасаюсь, и совесть тревожит меня, ибо в Вормсе я, последовав твоему совету и совету [наших] друзей, держал дух свой в узде и не явился подобно Илии перед этими идолами. Если бы мне появиться перед ними сейчас – о, тогда они услышали бы нечто иное! Но довольно об этом[285].
Нечто подобное говорит он и в письме от 1 ноября, в отношении своей готовности бежать от императора в Вартбург:
Я скрылся от глаз людских, повинуясь совету друзей. Поступил так против собственной воли – и по сей день не знаю, угодил ли этим Богу. Я определенно считал, что должен подставить шею под людской гнев, – но [мои друзья] были иного мнения[286].
Кроме того, в Вартбурге Лютер закончил две небольшие благочестивые книжицы, так называемые постиллы. Само слово «постилла» происходит от латинской фразы «post illa verba texta» («после этих слов») и обозначает обычно комментарий к библейскому тексту. Постиллы Лютера представляли собой именно комментарии к библейским текстам, вспомогательные материалы для воскресных пастырских проповедей – можно даже сказать, планы или черновики самих проповедей. За последующие годы Лютер написал и опубликовал множество постилл: они хорошо продавались и стали еще одним путем распространения его богословской мысли в среде немецкого народа.
А тем временем в Виттенберге
Итак, Лютер прохлаждался в «птичьем краю», на вершине высокой горы – а внизу, в долинах, жизнь продолжалась. Писания Лютера последних месяцев, фигурально выражаясь, распахнули множество конюшен – и теперь из них рвались на волю кони. Многое из того, о чем писал Лютер в «Вавилонском пленении», его друзья, оставшиеся в Виттенберге, начали воплощать на практике: однако самого его не было рядом, так что он не мог за этим проследить.
Например, Юстус Йонас, столь разочаровавший Эразма тем, что оставил Эрфурт и присоединился к партии Лютера, в июне 1521 года решил не читать более лекции по церковному праву, хотя именно для этого нанял его виттенбергский капитул Всех Святых. Но теперь Юстус Йонас увидел новый свет – и свет этот исходил не от запыленных томов церковных канонов, не от поросших мхом «Сентенций» Петра Ломбардского или от богопротивной «Никомаховой этики» Аристотеля, а только от священного слова Божьего.
Впрочем, это определенно была не главная проблема. Важнее стало то, что в Виттенберге начали воплощаться в жизнь мысли Лютера о священнических обетах, о целибате, мессе – и о многом другом. И почти во всех случаях этот переход от теории к практике совершали люди далеко не столь вдумчивые и осторожные, как сам Лютер.
Целибат или брак?
Некоторые священники решили, что настало время принять всерьез взгляды Лютера на брак – и, не посоветовавшись ни с Лютером, ни с кем-либо еще, быстренько нашли себе жен и женились. Услышав об этом, Лютер был удивлен, хотя скорее приятно удивлен. Такие поступки казались ему прежде всего смелыми – ведь женатых священников могли ожидать серьезные последствия. И действительно, одного из них архиепископ Альбрехт Майнцский призвал на суд, а другого герцог Георг арестовал и отправил к его епископу в Майсен.
Женились не только эти двое священников, но и один монах – и это сделало ситуацию еще более запутанной. В книге «К христианскому дворянству немецкой нации» Лютер не пожалел труда, постаравшись отделить священнические обеты от монашеских. Он ясно дал понять, что требование безбрачия для священников не имеет оснований в Библии, – однако о монахах, свободно и сознательно выбравших особый безбрачный образ жизни, такого не говорил. Но прежде чем Лютер успел разобраться в этом запутанном вопросе и прислать из Вартбурга свое суждение, Карлштадт снова забежал вперед: опубликовал памфлет о том, что и священнические, и монашеские обеты ничего не стоят. Это привело к тому, что в Виттенберге те и другие оказались фактически аннулированы. Меланхтон был с Карлштадтом согласен; Лютер сомневался. Он чувствовал необходимость хорошенько все продумать и прояснить. Но Карлштадт уже написал то, что написал, – и Лютеру оставалось только отбивать подачу.
Вообще Карлштадту не раз случалось вот так «бежать впереди паровоза» – и можно даже подумать, что он пытался в отсутствие Лютера возглавить Реформацию. Пока что серьезных проблем это не приносило; однако, прочтя сочинение Карлштадта об обетах священников и монахов, Лютер сразу заметил в нем ложку дегтя. В письме к Меланхтону от 3 августа он говорил, что обеспокоен той сомнительной библейской экзегезой, которую приводит Карлштадт в подтверждение своего мнения о ничтожности монашеских обетов:
Разумеется, я высоко ценю его усердие и труды, однако предпочел бы, чтобы он не искажал библейский отрывок о «семени», принесенном в жертву Молоху, превращая его в упоминание об истечении семени. Враги [наши] посмеются над таким искажением этого отрывка, ибо яснее ясного, что речь здесь идет о сыновьях и дочерях, приносимых в жертву идолу[287].
Слово «семя» в Писании часто означает «потомство» – как в Быт. 3, где Бог говорит змею: «Положу вражду между тобой и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее»[288]. Увидев слово «семя» в отрывке о Молохе, идоле, которому языческие племена приносили в жертву детей, Карлштадт представил себе малопристойную картину семяизвержения. Лютер немедленно заметил эту глупую ошибку и был обеспокоен тем, что она бросает тень на всю аргументацию Карлштадта, заставляя усомниться и в других его умозаключениях. А ведь эта ошибка была не единственной.
Три дня спустя Лютер так жаловался на труд Карлштадта Спалатину:
Хотел бы я, чтобы Карлштадт опровергал необходимость безбрачия более подходящими для этого цитатами из Писания! Боюсь, сделанное им возбудит много толков и о нем, и о нас. Что это за экзегеза: принести семя в жертву Молоху – будто бы то же самое, что стать нечистым от естественного истечения семени? Каждому ясно, что «семя» в этом отрывке означает «дети» или «потомство»… Тему он поднял важную, защищает ее усердно, но хотелось бы, чтобы защита эта звучала более грамотно и разумно. Ты ведь видишь, какой ясности и силы требуют от нас враги: даже самые очевидные и понятные [наши] утверждения они перетолковывают на свой лад.
Далее он выражает беспокойство о тех, кто мог оставить обеты и жениться под влиянием труда Карлштадта:
Ибо что может быть опаснее, чем побудить большую толпу неженатых людей к браку на основе столь ненадежных и неподходящих цитат из Писания? Ведь это значит – обречь их в дальнейшем на сожаления и муки совести, куда более тяжкие, чем тот крест, что несут они ныне. Я также хочу, чтобы безбрачие стало делом свободного выбора, как того и требует Благая Весть. Однако пока не вижу ясно, как этого достичь. Но все мои предостережения напрасны. Быть может, [Карлштадт] не хочет, чтобы его останавливали. Что ж, тогда нам остается лишь позволить ему продолжать[289].
Поучительно видеть, как ответственно подходит Лютер к своей задаче. Он хочет, чтобы каждое действие его приверженцев имело под собой основание, надежное, как скала – и без этого не считает возможным двигаться вперед. Далее различия между ним и Карлштадтом все росли; но пока Лютер решил оставить все как есть. В конце концов, он безотлучно сидел в Вартбурге и не мог управлять процессами в далеком Виттенберге – хотя все что мог, конечно, делал. Любопытно, что в этот период Лютер написал бесчисленное множество писем Спалатину, довольно много – Меланхтону, но Карлштадту – ни одного. Да и весной не приглашал Карлштадта поехать с ним в Вормс.
Позднее в пространном письме Лютер рассказывал Спалатину, как выехал вместе с несколькими рыцарями на охоту с ночевкой. «Добыли двух зайцев и нескольких бедолаг-куропаток», – писал он; для нескольких человек, охотившихся два дня, добыча, конечно, очень скудная. Сам Лютер писал, что предпочел бы «медведей, волков, кабанов, лис [и так далее]», и добавлял, что это «вполне достойное занятие для людей, которым нечего больше делать». Далее Лютер рассказывает Спалатину, как спас маленького зайчонка, спрятав его в рукав своего плаща. Но гончие и там его учуяли – и, «прокусив плащ насквозь, сломали ему правую заднюю лапу и задавили». В этом случае, как и во многих других, Лютер увидел аллегорию: «Так папа и Сатана ярятся, стремясь погубить даже уже спасенные души, – и мои усилия для них ничто»[290].
В сентябрьском письме к Спалатину Лютер вновь возвращается к жалобам на проблемы с кишечником:
Сегодня, на шестой день, мне удалось опорожниться, но с таким трудом, что я едва не лишился чувств. Теперь сижу, страдая, словно женщина в родах: внутри все изранено, все болит и ноет, и чувствую, что заснуть мне сегодня не удастся. Благодарю Христа, который не оставил меня без частицы святого Своего Креста. Я бы исцелился, если бы прекратился запор, – а так все раны, за четыре дня уже поджившие, при каждом испражнении открываются вновь[291].
Но в начале октября Лютер делится хорошими новостями. Упрямые запоры смягчились – и, мало того, зажили наконец и столь болезненные анальные трещины. «Наконец и зад мой, и кишки со мной примирились!» – писал он и в восторге добавлял, что лекарства ему больше не нужны. Дальше в том же письме Лютер просит Спалатина присмотреть за Меланхтоном; своего младшего друга Лютер всегда опекал, а теперь известие о разразившейся в Виттенберге чуме навело его на мысль вывезти Меланхтона, хрупкого и слабого здоровьем, куда-нибудь подальше из зараженного города. «Эту голову, – писал он, – необходимо сохранить, дабы не погибло слово, доверенное ему Господом ради спасения душ». В конце письма Лютер упоминает о вартбургском священнике, который «ежедневно служит мессу с великим идолопоклонством»[292]. Можно только вообразить, как содрогнулся бы этот священник, случись ему узнать, что один из рыцарей, бывающих у него на службах – вон тот, молчаливый, бородатый, – не кто иной, как Мартин Лютер из Виттенберга.
Месса
В Виттенберге внезапно воплотились в жизнь писания Лютера не только о браке, но и о мессе. Лютер писал, что католическая месса, представляющая собой воспроизведение жертвенной смерти Христа, основана на идее, не имеющей основания в Библии: следовательно, служить мессу так, как это делают сейчас католики, богословски ошибочно. Разумеется, идея была монументальная: отринуть то, что составляло самое сердце всей средневековой экклесиологии! Лютер ясно давал понять, что выделение священников в особую касту, отдельную от мирян – тоже не библейская идея, а следовательно, ошибочно и мнение, что только священники вправе причащаться хлебом и вином. Однако друзья Лютера в Виттенберге – Меланхтон, Карлштадт, а также некий августинец по имени Габриэль Цвиллинг – решили воплотить эту идею в жизнь. Они отслужили Вечерю Господню, на которой угощали всех пришедших и хлебом, и вином. Никогда до сих пор миряне не пили вина во время причастия – по крайней мере, такого не случалось уже много сотен лет. Виттенбержцы пошли и еще дальше: позволили мирянам самим держать евхаристическую чашу.
Лютер не был против всего этого; однако он всегда предпочитал двигаться вперед осторожно, ответственно, умеренным шагом. Но снова Карлштадт «побежал впереди паровоза»: объявил письменно, что всякий, кто не причащается и хлебом, и вином вместе, грешит. Узнав об этом, Лютер пришел в ярость. Одно дело – сказать, что мирянам позволено причащаться хлебом и вином, как священникам; с этим он, безусловно, был согласен. Но совсем другое – заявить, что это обязательно и что грешно так не делать! Ведь Евангелие дает нам право выбора и ни к чему нас не принуждает.
Затем Габриэль Цвиллинг начал произносить очень критические проповеди о монашестве и призвал своих собратьев из обители августинцев снимать сутаны. 12 ноября его призывам последовали не менее 13 монахов. К концу месяца ушли из монастыря еще 15. Это был настоящий переворот – и аббат монастыря Конрад Хельт, очень расстроенный, написал Фридриху, прося его о помощи. Лютер в письме к Спалатину писал, что испытывает по поводу этого массового исхода тревогу, аналогичную тревоге из-за неумелой экзегезы Карлштадта в вопросах брака и безбрачия. Он хочет быть уверен, что монахи, снявшие с себя обеты, впоследствии в этом не раскаются. В том и в другом случае Лютер предстает перед нами как вдумчивый и заботливый пастырь. Люди и их состояние для него важнее своей богословской правоты. Поэтому Лютер решил написать на эту тему, надеясь своим трудом снять тот ущерб, что мог быть нанесен «заместителями» в его отсутствие. Написанный им трактат назывался «Суждение Мартина Лютера о монашеских обетах». Трактату Лютер предпослал обширное предисловие, написанное в форме письма к отцу – и в нем фактически просил у отца прощения за монашеские обеты, необдуманно принятые им шестнадцать лет назад. И сам трактат, и само предисловие были написаны по-латыни – так что отец Лютера, не читавший по-латыни, скорее всего, о них даже не знал. Однако в этом предисловии перед нами раскрывается трогательная картина любви Лютера к отцу и его сожаления о давнем опрометчивом решении.
Дальше Цвиллинг перешел к вопросу о частных мессах: 6 октября заявил, что служить их более не будет, и объявил виттенбержцам, что они не обязаны ходить на такие мессы, где хлеб и вино не предлагаются всем. Лютер и сам писал, что частные мессы – идея не библейская, хотя бы потому, что Евхаристия в Новом Завете именуется греческим словом synaxis, означающим «собрание». Более того, сам этот обычай возник не ранее VII века. И все же характерно, что воплощение этой идеи в жизнь также произошло в отсутствии Лютера. Кроме того, виттенбержцы включили в мессу немецкий язык – начали произносить по-немецки те слова, что произнес Иисус, устанавливая причастие на Тайной Вечере. «Hoc est corpus meum» превратилось в «Das ist mein Körper» («Сие есть Тело Мое»). В кульминации мессы, в самый важный и святой ее миг слышать немецкую речь – для прихожан это было ново и удивительно и многих, возможно, даже шокировало; однако виттенбергские вожди рвались вперед по пути реформ, и Меланхтон, по-видимому, не считал себя вправе их останавливать.
Проблема Виттенберга состояла отчасти в том, что хоть Лютер и оставил Меланхтона своим «заместителем» на время отсутствия – четкого лидера и четкого согласия там не было. На роль вождя движения Меланхтон попросту не годился. Часто возникали споры и несогласия, в основном потому, что реформы продвигались слишком быстро и многие верующие оказывались не готовы к таким радикальным переменам. В отсутствие лидера вмешаться пришлось Фридриху. Он сурово приказал виттенбергским вождям оставить разногласия и все вопросы решать сообща и назначил комитет – в составе Меланхтона, Йонаса, Карлштадта, Шурффа и одного из своих советников – для оценки деятельности Цвиллинга.
Лютер все еще считал, что за происходящее в городе отвечает Меланхтон, и в знаменитом августовском письме призывал его руководить, не боясь ошибок, не боясь даже согрешить. Он писал:
Будь грешником и греши смело, но еще смелее верь во Христа и радуйся Христу, ибо Он – победитель греха, смерти и мира. Пока мы здесь [в этом мире], не грешить мы не можем. Жизнь наша – не то место, где обитает праведность; однако, по слову Петра, ждем мы нового неба и новой земли, где праведности найдется место. Сейчас же довольно того, что изобилием славы Божьей мы пришли к познанию Агнца, взявшего на себя грех мира. Никакой грех не отделит нас от Ангца, даже если бы мы совершали убийство и блудодеяние по тысяче раз на дню. Не думаешь же ты, что слишком мала цена, уплаченная Агнцем во искупление наших грехов?[293]
Лютер не говорит здесь, как утверждают иные толкователи, что следует грешить сознательно, – лишь то, что необходимо оставить боязнь согрешить, поскольку жить на земле и не грешить в конечном счете невозможно. Необходимо понять: во всем, что делаем, мы, без сомнения, грешим, ибо мы грешники – однако, если верим в Христа, уже победившего грех и заплатившего за наши грехи на кресте, мы искуплены. Лютер надеялся, что Меланхтон оставит мелочные сомнения и опасения, свойственные книжнику, и станет лидером – пусть не безупречным, но решительным; но надежды его, очевидно, были тщетны. В эти месяцы Меланхтон подпал под сильнейшее влияние проповедей Цвиллинга – по всем отзывам, столь ярких и вдохновенных, что Цвиллинга называли «вторым Лютером», – и все яснее становилось, что иного выхода нет: Лютеру необходимо приехать и своими глазами посмотреть на то, что творится в Виттенберге.
Еще в сентябре Лютер попытался сделать Меланхтона главным виттенбергским проповедником. Он понимал: если проповедовать будет кто-то другой, ситуация может выйти из-под контроля – и в этом, несомненно, был прав. Проповедовал Меланхтон блестяще, а мысль, что нельзя произносить проповеди, не будучи рукоположенным, больше не имела смысла. Это было богословски неверно – а значит, не существовало ни единой причины, по которой Меланхтон не мог бы занять проповедническую кафедру и повести утлую лодочку Виттенберга по бурному морю реформ. В письме к Спалатину Лютер так объяснял свое намерение:
Ибо, если мы нарушили все законы человеческие и сбросили с себя всякое ярмо, какое дело нам до того, что Филипп не пострижен и не рукоположен, но женат? Несмотря на это, он воистину священник и исполняет священнические труды: разве не дело священника – учить слову Божьему? И сам Христос ведь не был священником, однако учил то в синагогах, то на корабле, то на морском берегу, то в горах… Итак, поскольку Филипп призван Богом и исполняет служение слова, чего никто отрицать не может, – что нам с того, что он не призван этими тиранами?.. Пусть Христос восполнит мое отсутствие и молчание проповедью и голосом Меланхтона, к посрамлению сатаны и апостолов его[294].
Лютер надеялся, что, если Кранах и Христиан Деринг обратятся с этой просьбой к городскому совету, Меланхтона поставят в проповедники. Поскольку он не священник, это поддержит идею «священничества всех верующих». Однако к такому повороту городской совет был пока не готов и в просьбе отказал. Важнейшую роль городского проповедника в отсутствие Лютера исполнял Цвиллинг, а затем Карлштадт – и в результате произошло многое из того, чего Лютер надеялся избежать. Пока он не смог вернуться в город насовсем, исправить ошибки и разобрать недоумения, – реформы в Виттенберге двигались через пень-колоду.
Случались в городе в этот период и эпизоды насилия. Так, 8 октября в Виттенберг прибыла группа монахов из монастыря святого Антония в Лихтенберге: как было у них заведено, пришли просить милостыню. Но на этот раз в городе их встретила непривычная атмосфера – определенно враждебная к нищенствующему ордену. Рассказывали даже, что студенты забросали их камнями и комьями земли.
Лютер был рад, что реформы движутся вперед; однако то, как они движутся, порой его огорчало. Чаще всего все менялось слишком быстро, однако в одном отношении не менялось вовсе. До Лютера дошла весть, что архиепископ Альбрехт Майнцский, тот самый, что, злоупотребляя индульгенциями, стал в 1517 году невольным двигателем Реформации, снова нуждается в деньгах и пытается выйти из положения, рекламируя свое обширное собрание реликвий – и предлагая индульгенции в обмен на их посещение, разумеется, не бесплатное. Узнав об этом, Лютер вскипел от ярости.
На рекламу своей коллекции Альбрехт не пожалел никаких денег. Гравированный портрет архиепископа для роскошно изданного каталога реликвий писал сам Дюрер. А список святынь своей пестротой и беззастенчивостью превосходил все, что мы читали до сих пор. Были здесь и два кувшина вина со свадьбы в Кане Галилейской, и два фиала грудного молока Девы Марии, и манна[295], которой питался Моисей в пустыне, и палец апостола Фомы[296], и перст Иоанна Крестителя, которым он указал на Иисуса, пришедшего креститься в Иордане, и еще один большой палец святой Анны[297], и новые веточки с Неопалимой Купины, и множество частей тела двенадцати апостолов (от одного Петра – общим числом сорок три), и девять шипов из тернового венца Христова[298], и пресуществленная частица Тела Христова, и, наконец, щепотка той самой земли, из которой был сотворен Адам[299].
Гнев Лютера на эскападу Альбрехта не знал себе равных. 1 декабря, подобно бородатому тюрингскому Зевсу с вершины Олимпа, из-за крепостных стен Вартбурга Лютер метнул в архиепископа эпистолярную молнию. В письме, обращаясь к заблудшему архиепископу, он сообщал, что жив – и не просто жив, а намерен с еще большим жаром, чем прежде, преследовать подобные извращения:
Быть может, ты думаешь, что я вышел из строя; но я сделаю то, чего требует христианская любовь, даже если на пути моем встанут врата ада – не говоря уж о невежественных папах, кардиналах и епископах. Молю тебя, покажи, что ты епископ, а не волк. Ныне всем ясно, что индульгенции – ложь и чушь. Взгляни, что за пожар разгорелся из одной презренной искры – пожар, подпаливший одеяния и самому папе. Жив Бог – Бог, поразивший четырех императоров, Бог, сокрушавший кедры ливанские и смирявший гордых фараонов; сможет он воспротивиться и кардиналу Майнца.
Не думай, что Лютер мертв. Я покажу тебе, чем епископ отличается от волка. Я требую немедленного ответа. Если ты не ответишь через две недели, я выпущу против тебя трактат[300].
С тем же успехом он мог бы сказать: «Тогда я сам приеду и разберусь…» В самом деле, благодаря этому и другим событиям Лютер все сильнее ощущал, что должен, если возможно, хоть на время вырваться из Вартбурга, показать своим друзьям, что с ним все в порядке, и собственными глазами взглянуть на то, что творится у него в Виттенберге.
Глава тринадцатая Близится революция
Сколько можно спорить о слове Божьем и воздерживаться от действий? Что толку разговаривать с глухими?
Из письма Мартина Лютера к СпалатинуИтак, в декабре рыцарь, известный как «юнкер Георг», решил спуститься с Вартбургских высот в долины, к простым верующим, тщательно скрывая, что он – не кто иной, как прославленный еретик, монах по имени Мартин Лютер. От Виттенберга Вартбург отделяло почти 150 миль; однако, играя роль рыцаря, Лютер не обязан был более трястись в медленной и неудобной карете – теперь он путешествовал верхом на лошади, в сопровождении слуги. В сером рыцарском плаще, в шляпе поверх красного берета, несся этот бородатый дух времени по холмам и долам, никем не примеченный, никем не узнанный. Известно, что в Лейпциге он остановился в гостинице Иоганна Вагнера, а на следующий день въехал в ворота Виттенберга – города, который покинул восемь месяцев назад, 3 апреля, направляясь в Вормс.
Как раз за день до появления Лютера досада виттенбержцев на упорное нежелание клириков принимать реформы перелилась через край. Ранним утром студенты и с ними городской люд встали стеной у дверей городского собора и не дали верующим пройти на мессу. Нескольким священникам все же удалось проникнуть в собор; но, когда они запели «Величит душа моя…», в них полетели камни, а затем толпа окружила их и вырвала из рук молитвенники. На следующий день на стенах францисканской обители появились плакаты с карикатурами; чуть позже бунтовщики явились в обитель, начали оскорблять братьев и даже ворвались в часовню и разломали деревянный алтарь.
Лютер надеялся, что его визит в Виттенберг будет недолгим и сугубо тайным. Остановился он не в августинской обители, а в доме у своего друга Николаса фон Амсдорфа[301]. О том, что он в городе, знали очень немногие. Много времени провел с ним Меланхтон. Очевидно, кому-то пришла в голову мысль, что, раз уж он здесь, имеет смысл Кранаху написать портрет такого Лютера – бородатого и в дублете. Но и сам Кранах поначалу не знал, кого ему придется писать. Созданные им портрет и гравюра, ясно показывающие, каким был Лютер в тот период, дошли до нашего времени. В это же время, как говорят, Меланхтон предложил Лютеру оставшееся время в Вартбурге посвятить переводу на немецкий язык Нового Завета.
То, что увидел Лютер в Виттенберге, не особенно его смутило и совсем не расстроило. Еще в ходе путешествия из Вартбурга он видел, что простой народ повсюду возбужден надвигающимися переменами, так что известия о насильственных выходках не слишком его встревожили. Одна из таких выходок произошла во время его пребывания в Виттенберге: сорок студентов и горожан прошли по городу толпой, вооруженные короткими мечами, оскорбляя монахов и угрожая разгромить францисканскую обитель. Однако Лютер верил, что в конечном счете все устаканится. Быть может, он был поражен и обрадован, собственными глазами увидев, как его мечта – пусть и не без некоторых заминок и треволнений – становится явью. В любом случае он обещал друзьям, что немедленно по возвращении в Вартбург выпустит строгое увещевание против насилия. Из его уст такое увещевание должно было иметь успех. Но в целом, по мнению Лютера, все шло очень неплохо. Так что он решил вернуться в Вартбург, остаться там до Пасхи и посвятить это время переводу Нового Завета.
Единственное, что сильно обеспокоило Лютера в период его пребывания в Виттенберге – известие о том, что некоторые его труды, направленные Спалатину для публикации, так и не увидели свет. 5 декабря, в день своего прибытия, он написал Спалатину об этом – и таким суровым тоном, каким никогда ни до, ни после к нему не обращался. «В радости возвращения к друзьям и пребывания с ними, – писал он, – нашлась для меня капля горечи: а именно, оказалось, что никто из них не видел моих книжек и писем и ничего о них не слыхал. Суди сам, оправдано ли [мое] разочарование». Далее в письме он объясняет:
Я присылал тебе, вместе с письмами, [рукописи] книжиц об обетах, о мессах, а также против тирана Майнцского [Альбрехта]. Я надеялся, что все они попадут к нужным людям. Теперь оказалось, что этого не произошло, и мне приходится делать собственные выводы… Ничто не беспокоит меня сейчас больше мысли о том, что [рукописи] дошли до тебя, но ты предпочел их утаить, поскольку в этих книжечках я говорю о таких вещах, разговор о которых не терпит отлагательства. Итак, если они у тебя – ради всего святого, отложи нерешительность и боязнь, которую я в тебе подозреваю: ты ничего не достигнешь, пытаясь грести против течения. То, что я написал, должно быть опубликовано, – если не в Виттенберге, то где-то еще. Если же рукописи потеряны или если ты предпочтешь оставить их у себя, я буду столь огорчен, что еще раз напишу по каждому из этих вопросов, и уже намного резче прежнего. Можешь уничтожить бездушную бумагу, но не заставишь умолкнуть дух[302].
Снова мы видим, что Лютер не терпел несогласия определенного сорта – того, что, на его взгляд, вытекало из недостатка страха Божьего и чрезмерного «страха человеческого». Он как будто чувствовал, что перемены должны идти с определенной скоростью, – и решительно противился тем, кто пытался их задержать или остановить. По всей видимости, Спалатин согласился отдать в печать две «книжицы», однако сумел убедить Лютера немного придержать резкое письмо архиепископу Альбрехту. Но Лютер настоял на том, чтобы Спалатин переправил это письмо Меланхтону: пусть, мол, тот решит, не слишком ли оно резко, и при необходимости его отредактирует. Убеждая Лютера повременить с этим письмом, Спалатин упирал на то, что архиепископ вроде бы уже исправляется, и в доказательство этому приводил то, что он выпустил из тюрьмы арестованных женатых священников. Но Лютер увидел во всем этом лишь недостаток веры Спалатина – и пришел в ярость. Он резко отвечал: «Жив Господь, которому вы, царедворцы, не поверите, пока Он не начнет все делать по-вашему, так что и вера уже станет не нужна»[303]. Никогда прежде он так не разговаривал со Спалатином; однако в эти месяцы заточения в Лютере появились пыл и суровость, которых не было прежде. Он давно перешел Рубикон, и мирская осмотрительность – как у Спалатина – казалась ему уже не просто оскорблением Бога, но почти что переходом на сторону дьявола:
Сколько можно спорить о слове Божьем и воздерживаться от действий? Что толку разговаривать с глухими? В тебе нет веры: ум твой слишком занят придворными делами, он и чересчур утончен, и чересчур робок… Теперь я понимаю, что в таких делах не следует слушать советов людей. До сих пор людские советы во многом сдерживали меня и останавливали; но не стоит людям опасаться за Божье дело[304].
Вернувшись в Вартбург, Лютер за два дня написал обещанный трактат, «Искреннее увещание ко всем христианам беречься от беспорядков и мятежей». В нем он писал: Бога в делах Его остановить невозможно, и любые попытки «поддержать» дело Божье силой оружия или насилием обличают недостаток веры. В сущности, это дьявольская ловушка, имеющая целью скомпрометировать Благую Весть. «Я всегда буду на стороне тех, против кого направлен мятеж», – писал он[305]. Пусть дело Божье совершает сам Бог – люди в любом случае Ему помешать не смогут.
Взгляните же на то, чего достигли мы за последний год, когда проповедовали и писали истину. Взгляните, как сморщивается и съеживается шкура папистов… Что же произойдет, если молотилка Христова[306] Духом Святым проработает еще пару лет?[307]
В этом же трактате Лютер осуждает название «лютеране», принятое многими его сторонниками. Он просит этих людей называть себя просто христианами. «Что такое Лютер? – спрашивает он. – В конце концов, учение это не мое. И не я был распят за вас… Как могу я, зловонный червь, допустить, чтобы дети Христовы звались моим презренным именем?»[308] Как мы знаем, просьба эта осталась неисполненной[309].
22 декабря Карлштадт, вечно торопящий события, объявил, что в день новолетия в Замковой церкви будет проведена простая евангелическая Вечеря Господня с задействованием всех последних нововведений. Хлеб и вино раздадут всем. Чаши для причастия члены общины будут держать сами, а слова обряда причастия – произносить на разговорном немецком языке. Возносить гостию, как на католической мессе, разумеется, тоже не будут. Конечно, будет проповедь. Услышав об этих планах, советники Фридриха ясно дали понять, что этому не бывать. Одно дело – предпринимать такие смелые шаги где-нибудь на частной территории, и совсем другое – в Замковой церкви: это как-то… уж слишком. Однако Карлштадт не зевал: прежде чем Вечерю успели официально запретить, он передвинул ее дату на неделю вперед, в Рождественский сочельник. И не просто сделал все, что обещал, – еще и снял священническую сутану и служил в профессорской мантии. На Вечерю собрались сотни людей – говорили даже, что не меньше тысячи. Поговаривали еще, что перед принятием причастия многие не постились и не ходили к исповеди: и то, и другое было решительным нарушением правил. Дважды во время этой знаковой службы освященную облатку роняли на пол; один раз мирянин, уронивший облатку, был так напуган своим кощунством, что не решался наклониться и ее поднять – и за него это сделал сам Карлштадт. Это подлило масла в огонь толков и пересудов вокруг этого события.
В целом все прошло гладко, и Карлштадт, осмелев, объявил, что в Новый год проведет такую же службу в Виттенбергском городском соборе. Тамошний настоятель был не против; однако такая быстрая поступь реформ возбуждала революционную атмосферу в городе и не успокаивала, а, напротив, возбуждала толпу. Так, в сочельник какие-то хулиганы, без сомнения, пьяные, разбили в церкви несколько светильников, а потом шатались по улицам и орали песни. На следующий день после Рождества, словно спеша одним махом покончить со всеми условностями, Карлштадт объявил о своей помолвке с пятнадцатилетней девушкой. Самому ему было тридцать пять; в то время среди дворян (а невеста его происходила из дворянской семьи) были приняты браки зрелых мужчин с молоденькими девушками. Такой бешеный темп реформ кружил головы, возбуждал страсти – и делал столкновение Карштадта и Цвиллинга с традиционалистами неизбежным.
Пророки из Цвиккау
27 декабря, в разгар набирающей силу бури, в Виттенберг явились трое из Цвиккау, текстильного центра в девяноста милях к югу. Они заявили, что напрямую общаются с Богом, – и недолго думая явились домой к Меланхтону, чтобы ему об этом рассказать. Первые два, Николас Шторх и Томас Дрехзель, были по ремеслу ткачами; третий, Маркус Штюбнер, прежде учился у Меланхтона. Отец его был банщиком, и Маркус принял себе в качестве фамилии немецкое название этой профессии[310].
Город Цвиккау уже пару лет внимательно прислушивался к учениям Лютера, так что Реформация там быстро пустила корни. Однако имелись там и куда более радикальные настроения, вдохновляемые в основном ярким, но очень неоднозначным человеком по имени Томас Мюнцер. Лютера этот Мюнцер называл своим духовным отцом. О темных глубинах его души Лютер пока не ведал, так что без сомнения рекомендовал его на место проповедника в церкви Святой Марии в Цвиккау. Однако в этом городе Мюнцер сошелся с ткачом по имени Николас Шторх. Шторх, по описаниям современников, «тощий и с выпученными глазами»[311], рассказывал о видениях и откровениях, которые ему являются, – и, в отличие от многих других чудаков и маргиналов, обладал необычайным умением внушать к своим чудесным историям доверие и привлекать к себе людей. Увлек он и Мюнцера – и уже вдвоем они сколотили настоящую секту, отступившую не только от Римско-Католической Церкви, но и от лютеровской Реформации, и от Библии. Мюнцер восхвалял Шторха с кафедры и благословлял его на проведение секретных собраний, где Шторх учил всех желающих «прямому пути к Богу». Он был убежден, что существуют несколько ступеней, пройдя которые, можно мистическим путем достичь «праведности Божьей». Первая из них, говорил он, «изумление», дальше идет «освобождение», затем «созерцание», «претерпевание» и, наконец, сама «праведность Божья». Учение это не только не имело никаких оснований в Библии, но и было прямо противоположно всему, чему учил Лютер. Нужно бежать, – говорил он, – от мысли о какой-то лестнице «религиозного делания», по которой можно взойти к Богу. Наоборот, необходимо ясно понять, что подняться к Богу своими силами ты не можешь: лишь тогда откроется чудесная дверь веры и Бог снизойдет к тебе сам. Однако в Цвиккау не было никого, кто указал бы на это Мюнцеру и Шторху, – так что они пустились в плавание по бурным богословским водам без руля и без ветрил. Ходили даже слухи, что они, как когда-то Христос, назначили дюжину апостолов и сверх того учеников, коих было семьдесят два, для проповеди своего нового «евангелия».
События в Цвиккау приняли мрачный оборот, когда во время проповеди Мюнцер сурово обличил какого-то грешника, а разгоряченная этой проповедью толпа набросилась на этого «грешника» и избила до полусмерти. Здесь пришлось вмешаться городскому совету; однако и после этой отвратительной истории Мюнцер был уверен, что все делает правильно. За первой вспышкой насилия последовали новые – и наконец городские власти решили просто изгнать Мюнцера из города, чем привели в бешенство его учеников. Начались беспорядки; пятьдесят шесть подмастерьев и учеников ткачей были схвачены и брошены в тюрьму. Сам Мюнцер бежал в Богемию. Однако и после его отъезда некоторые его ученики, и в особенности сам Шторх, продолжали мутить воду. Даже герцог Георг увидел, что с этим надо что-то делать, и надавил на своего кузена, герцога Иоганна, чтобы тот начал расследование. Не желая, чтобы его допрашивали, Шторх бежал из города, взяв с собой друзей Дрехзеля и Штюбнера. А куда было бежать в то время всем вольнодумцам и еретикам? Куда же еще, если не в Виттенберг!
Так эта троица объявилась в доме у Меланхтона – и вскоре совсем заморочила робкого ученого уверенными толкованиями Библии и рассказами о райских видениях. Подпал под их влияние и Амсдорф. Отсюда легко понять, насколько взвинченной и нездоровой была в целом атмосфера в городе: Меланхтон и другие, вполне разумные и образованные люди, всерьез задавались вопросом, не наступила ли новая апостольская эра, в которой возможны любые чудеса, – тем более что Шторх и его последователи вещали очень уверенно и рядом не было Лютера, который указал бы им на дверь. Мысль, что трое из Цвиккау снискали духовные дары Древней Церкви, ни Меланхтону, ни Амсдорфу не казалась невозможной. Что же тут такого? Видения бывали и у Павла, и у Петра, и у других апостолов. Этого никто не отрицает – как и того, что апостолы обладали даром говорения на языках. Кто знает – быть может, Господь решил вернуть человечеству эти дары и начал с этих троих? Кто знает – быть может, все это свидетельствует лишь о том, что мы живем в последние дни перед обещанным пришествием Господним? Странным образом откровенная чушь, которую несли «пророки» из Цвиккау, не настораживала ученых богословов – вплоть до того, как они поделились с Меланхтоном своими взглядами на крещение младенцев, которое решительно отвергали. Вот это почему-то его насторожило. Хотя и без этого было чем обеспокоиться: ведь «пророки» утверждали, что прямое откровение от Бога следует ставить выше Библии. В конце концов, говорили они, будь Библия так необходима, Бог сам дал бы нам ее прямо с небес. Но зачем? Ведь есть Святой Дух! Меланхтон был в затруднении. Он не мог понять, святые перед ним или мошенники – и страстно желал возвращения Лютера, который во всем разберется. Того же хотели, даже агрессивно требовали и сами «пророки». Где Лютер? Им нужно с ним встретиться! Так что Меланхтон написал Фридриху, прося его вызвать Лютера назад в Виттенберг:
Едва ли смогу передать, как глубоко я обеспокоен. Не знаю, кто, если не Мартин, сумеет вынести о них суждение. Вопрос идет о самой Благой Вести, так что необходимо устроить ему с ними встречу. Сами они также этого хотят. Я не стал бы писать вам, не будь этот вопрос столь важен. Нам следует остерегаться, чтобы не впасть в противление Духу Божьему, но и не менее остерегаться стать игрушкой в лапах дьявола[312].
Очевидно, мягкого и ведомого Меланхтона «пророки» сумели уболтать. Однако Фридрих был из иного теста. Для него ситуация была ясной: трое из Цвиккау выдумывают Бог весть что и их нужно строго наставить от Писания. Однако с тем, что Лютеру пора возвращаться, Фридрих был согласен полностью: политическая ситуация становилась слишком опасной. В ответном письме Фридрих жестко потребовал от Меланхтона и других прогнать агитаторов из Цвиккау и не иметь с ними более никаких дел – и Меланхтон покорно подчинился.
Разумеется, о своих гостях из Цвиккау он написал и Лютеру – и тот, прочтя об этом, вышел из терпения. В ответном письме он, во-первых, бог знает какой по счету раз упрекнул Меланхтона за его вечную робость: ты, писал он, куда лучше меня знаешь Писание, так что мог бы такой вопрос разрешить и сам, не дожидаясь моего приезда. Дальше он писал, что Писание заповедует нам «испытывать духов» (1 Ин. 4:1) и не принимать о них поспешных решений. Сначала пусть докажут, что они от Бога. Пока что, продолжал он, ничто из услышанного не говорит о том, что видения этих «пророков» – от Бога, а не от дьявола. Дальше он подробно объясняет: признак того, что человек действительно встретил Бога или призван Богом – страдание. Испытывают ли самозваные пророки из Цвиккау Anfechtungen? Случается ли им в присутствии Бога испытывать ужас, как многим при встрече с Богом и ангелами Его, – или их видения всегда радостны и приятны? Если им является только рай и исключительно в розовых тонах, то лучше поостеречься.
Тем временем Карлштадт продолжал делать то, что у него лучше всего получалось – забегать вперед. Лютер ему больше не мешал, и, должно быть, он ощущал себя единоличным лидером бурно растущего движения. События набирали головокружительную быстроту. Свадьба Карлштадта – которую Лютер одобрил, прибавив: «Я знаю эту девушку»[313], – состоялась 19 января; на роскошный свадебный пир было приглашено множество самых знатных гостей, в том числе и сам курфюрст Фридрих (он, правда, не пришел). А месяц спустя тем же счастливым курсом последовал и Юстус Йонас.
Однако на триумфальном пути Карлштадта встречались и зловещие знаки. Время от времени возбуждение и пыл горожан прорывались в насилии; во время одной из таких вспышек ярости толпа погромщиков ворвалась в дом местного священника. А затем, 6 января, в августинском монастыре в Виттенберге собралась конгрегация реформированной части августинского ордена. Председательствовал на этом мероприятии друг Лютера Венцеслас Линк, приехавший из Нюрнберга, делегатом из Эрфурта выступал Иоганн Ланг. Однако августинцы пошли неожиданным путем. Обитель их в Виттенберге опустела уже почти на треть – и на съезде лидеры ордена решили принять серьезнейшие реформы, которые, словно круги на воде, дошли и до других монастырей и изменили монашескую жизнь повсюду. Теперь любому монаху, пожелавшему выйти из монастыря, официально разрешалось уйти: в результате монашеские обеты, принимаемые всерьез и на всю жизнь, сделались практически бессмысленными. В сущности, Лютер надеялся, что так и будет. Однако его не было рядом – и некому было проследить за тем, чтобы реформы не выходили из берегов.
Например, через несколько дней после съезда августинцев Цвиллинг решил, что настало время для публичного перформанса. Он организовал уничтожение некоторых прежде почитаемых в обители предметов. Статуям святых отрубали головы, руки и ноги; картины и иконы с ними бросали в огонь. Карлштадт в своих проповедях возбуждал слушателей против образов в церкви, требуя выполнения заповеди: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения…»[314]: по его словам, зримые представления не приносили никакой пользы, а лишь соблазняли на грех. Он считал, что из церквей следует убрать даже распятия. Кое с чем из слов Карлштадта Лютер, быть может, и готов был согласиться – но не хотел, чтобы изменения происходили так быстро и резко, и уж точно не желал уничтожения образов и статуй. Однако ревностные сторонники реформ, врываясь в церкви, уничтожали не только изображения: они разбивали деревянные алтари, рвали и топтали церковные покровы, даже жгли освященное масло, используемое при миропомазании.
Взгляд Карлштадта на изображения был намного радикальнее, чем у Лютера, и отдавал своего рода гностическим дуализмом, в котором все чувственное находится под подозрением или вне закона. «Взоры наши любят [изображения] и услаждаются ими, – писал он. – Истина в том, что всякий, кто почитает образы, ищет у них помощи и поклоняется им – распутник и прелюбодей»[315]. Мы знаем, что Лютер такой суровой иконоборческой позиции не разделял; но Карлштадт пошел еще дальше – объявил вне закона и музыку в церквях. «Органы, рога и лютни оставьте для театра, – писал он. – Вкрадчивые звуки органа пробуждают мысли о земном». В вопросе о богослужебной музыке царь Давид определенно с ним бы не согласился. Однако Карлштадт вообще не отличался ни умеренностью, ни рассудительностью. «Если все же и петь в церквях, – добавлял он в виде большого одолжения, – то петь не более чем одним голосом»[316]. С этим Лютер не просто не соглашался: мы помним, что вскоре после этого он возродил музыку и хоровое пение в церкви и положил начало богатой культуре церковных гимнов, распространившейся по всему миру. Но в эти месяцы ветер в Виттенберге дул туда, куда хотел Карлштадт, – в сторону мрачного мироотрицания: и кто мог бы ему противостоять?
Впрочем, на пути его неожиданно встал герцог Георг. Услышав о таком варварстве, герцог (в то время он был на рейхстаге в Нюрнберге), и прежде раздраженный всеми этими нововведениями, просто впал в ярость, заявил, что так дальше продолжаться не может, и потребовал немедленно принять меры. Он убедил рейхстаг сделать своему кузену Фридриху и епископу Мейсенскому официальный разнос:
Мы слышали, что священники служат мессу в мирской одежде, опуская важнейшие ее слова. Они освящают Святые Дары на немецком языке, а верующие потребляют их без предварительной исповеди. Приемлют они и хлеб, и вино, и то и другое сами берут в руки. Кровь Господня подается не в священном сосуде, а в обычной кружке. Святые дары преподаются детям. Священников силой оттаскивают от алтарей. Священники и монахи женятся, а простые люди предаются всякого рода безобразиям и бесчинствам[317].
Фридриха, должно быть, и самого все это не радовало. Неудивительно, что он прислушался к предостережению рейхстага и согласился: бесчинствам надо положить конец. Что, если об этих диких эксцессах услышат папа и император? А они непременно услышат. Фридрих понимал: если так будет продолжаться, рано или поздно его ждут серьезные последствия. Возможно, придется даже лишиться своих владений – они отойдут к кузену, который только этого и ждет. Так что 13 февраля Фридрих написал два письма, в университет и в Замковую церковь. «Мы идем вперед слишком быстро», – писал он. И дальше требовал, чтобы изображениям в церквях не причиняли вреда – с этим Лютер бы согласился, – а из мессы не выпускали «важнейшие слова»[318]. Наконец, он потребовал, чтобы Карлштадт больше не произносил проповедей. Едва ли Фридрих хотел остановить Реформацию – всего лишь стремился охладить горячие головы и снизить темп. Однако для Карлштадта это был чувствительный удар: скорее всего, он ощутил, что в сложной ситуации его сделали козлом отпущения.
Но виттенбергский городской совет счел такие указания курфюрста себе за обиду и отказался повиноваться. Именно так всегда влияло и влияет на людей Евангелие: учит жить своим умом, властно требует свободы от властей предержащих – или хотя бы подсказывает, что им не следует подчиняться бездумно и беспрекословно. Так произошло и в Виттенберге, где люди осмелились пойти против своего князя. Они ощущали реформы своим общим делом и горячо стояли за них – а Карлштадт и Цвиллинг, несомненно, от всего сердца их в этом поддерживали. Невзирая на эксцессы и порой явные ошибки своих лидеров, люди чувствовали, что в целом они правы – и более того, чувствовали, что и сами могут занять место лидеров и решать свою судьбу самостоятельно. Так что теперь, оскорбленный требованием Фридриха, городской совет издал указ о том, чтобы церковные службы и дальше шли именно так, как проводит их Карлштадт. Более того: он решил разобраться с аморальными явлениями в городской жизни. Следующим указом была запрещена проституция и закрыты все бордели; заодно запретили и нищенство. Однако виттенбержцы помнили, что Бог заповедовал помогать бедным, – и учредили для бедняков специальную общественную кассу. Были введены и другие решительные меры. По-видимому, Карлштадт стремился построить некую христианскую утопию. Так Виттенберг стал первым в череде самоуправляющихся христианских городов.
Меланхтон во всем этом активного участия не принимал. Он понимал, что Карлштадт и Цвиллинг совершают ошибку за ошибкой, что события в целом приобретают неблагоприятный оборот. Однако по своей натуре он был не из тех, кто способен бороться, командовать или наводить порядок. Он думал даже о том, чтобы вовсе уехать из Виттенберга. «Плотина прорвана, – писал он в отчаянии, – воды хлынули, и я не могу их остановить»[319]. Многие университетские студенты, захваченные общим брожением умов и апокалиптическими настроениями, приходили к выводу, что учение – пустая трата времени. Атмосферу близкого конца света подогревала и разразившаяся в Виттенберге очередная эпидемия. Если миру вот-вот придет конец и единственное, что сейчас имеет значение – проповедь Благой Вести и спасение душ, какой смысл в гуманистических штудиях? К чему копаться в темных мыслях древних поэтов, когда перед тобою – вечность? Так впервые подняла свою дубовую голову чума ревностных евангелистов – антиинтеллектуализм. Еще одна причина, по которой вышли из университета многие студенты, была финансовой: здесь, как и в других университетских городах Германии, они добывали себе хлеб нищенством. Но нищенство в Виттенберге запретили – и что осталось делать? Многие студенты, не имевшие собственных средств, попросту разъехались по домам. Теперь в Виттенберге начался подлинный кризис, и городской совет видел лишь один выход: призвать на помощь Лютера. В городе не было иного лидера, способного даже отдаленно с ним сравниться; а значит, настало для Лютера время оставить Вартбург в прошлом.
Лютер переводит Новый Завет
В Вартбурге Лютер более не страдал от безделья, как в первые дни. Запоры его прошли, и, вернувшись в декабре из недолгого путешествия в Виттенберг, он всецело погрузился в перевод на немецкий язык Нового Завета. На это он отвел себе несколько месяцев тяжелой работы. Сделав это, Лютер рассчитывал вернуться в Виттенберг около Пасхи – теперь уже насовсем. Мысль о том, чтобы перевести все двадцать семь книг Нового Завета, он впервые упомянул в декабре в письме к Иоганну Лангу, который и сам в то время переводил Евангелие от Матфея. То, что Лютер сумел начать и закончить такой проект за одиннадцать недель, вот уже пять столетий ставит в тупик ученых. Это предприятие, требовавшее уникального сочетания знаний и способностей, Лютер осуществил не только быстро, но и на чрезвычайно высоком уровне – настолько, что до сего дня его перевод остается основным, на котором базируются все последующие переводы. При переводе с древнего языка на новый, быть может, важнее всего сохранить свойственную ему поэтичность – даже если (может быть, особенно если) это поэзия в прозе. Язык перевода должен быть гибким, мощным и живым – однако ни в коем случае не должны страдать заключенные в словах богословские идеи. Напротив, Лютер стремился прояснить богословское значение многих отрывков, прежде переводимых дурно и понимаемых превратно. Эти дурные переводы и связанные с ними ложные идеи не только затрудняли понимание тех или иных стихов или богословских идей в Библии, но и вредили ее восприятию в целом. Кто захочет читать громоздкий и маловразумительный текст? А если люди не читают Библию сами – они будут слушать, как толкует ее священническая каста, и полагаться на толкования священников; так и происходило много веков – и результаты Лютера совсем не радовали.
В основном Лютер полагался на второе издание Эразмова греческого Нового Завета, вышедшее в 1519 году. Хотя немецкие переводы Нового Завета (все довольно неуклюжие) существовали и имели хождение, – все они были сделаны с латинской Вульгаты, полной бесчисленных ошибок, а не с оригинального греческого текста, до Эразма на Западе попросту неизвестного. Так что эти предыдущие немецкие переводы Лютер по большей части игнорировал. Однако в новый перевод он привнес не только точность смысла, но и удивительную точность и музыкальность звучания. Перевод этот (всей Библии – переведя Новый Завет, Лютер обратился к Ветхому) изумительно хорош с литературной точки зрения: он не только вернул в Германию христианскую веру, но и почти что создал новый немецкий язык. В своей авторитетнейшей биографии Лютера Генрих Борнкамм подытоживает так: «Благодаря лютеровой Библии немцы научились говорить на общем для них языке»[320]. Многочисленные диалекты, распространенные в Германии, в то время лишь начали соперничать с так называемым верхненемецким – общегерманским языком, все более и более употребительным. «Я говорю на языке саксонской канцелярии, – писал Лютер, – на котором говорят ныне все немецкие князья»[321]. Поразительное и счастливое совпадение видно в том, что множество диалектов, вместе образовавших универсальный немецкий, или «верхненемецкий», язык, начали сливаться именно в лютеровой Саксонии. Используя этот новый язык с мастерством, к которому применим лишь эпитет «виртуозное», в книге, которой для многих и многих семей предстояло стать единственной, Лютер совершил и то, что едва ли собирался: помог немцам обрести свой национальный голос и вместе с ним – национальную идентичность, прошив более трех сотен лоскутов этого пестрого лингвистического одеяла красно-золотой нитью Писания.
Открытиям Лютера в этой немецкой Библии предстояло навеки изменить немецкий язык. Множество саксонских слов – например Krippe (колыбель) в значении «ясли» – стали общими для всех немцев. Кроме того, Лютеру приходилось встречать слова, не имеющие немецкого эквивалента, и изобретать для них перевод: например, «козел отпущения» он перевел на немецкий как Sündenbock.
Лютер намеревался остаться в Вартбурге до завершения этого труда, а также закончить множество проповедей, или постилл, над которыми параллельно работал. И, даже планируя вернуться на Пасху, он не рассчитывал занять свое прежнее место – скорее, предполагал, что скроется где-нибудь в Виттенберге или поблизости, с помощью Меланхтона, выдающегося знатока языков, отшлифует свой перевод Нового Завета, а затем, также с помощью Меланхтона и других, примется за Ветхий. Однако новости из Виттенберга волновали его пастырское сердце и заставляли думать, что лучше вернуться поскорее. Он видел, что виттенбергская церковь нуждается в нем, – и именно как в учителе и проповеднике. Городской совет, в который входили близкий его друг Лукас Кранах и ювелир Христиан Деринг, призвал его домой – и Лютер счел это ни более ни менее как гласом Божьим. А для Лютера это, разумеется, решало все. Людей он не боялся – ни герцога Георга, ни императора, ни папы. Бог его призвал – Бог и защитит; а если и не защитит, это Его дело. Дело Лютера – повиноваться Богу.
24 февраля он написал Фридриху. В неподражаемой своей шутливой манере Лютер извещал курфюрста – как мы помним, большого любителя реликвий, – что его можно поздравить: вот-вот ему достанется величайшая реликвия из возможных, и совершенно бесплатно. Это «крест целиком, вместе с гвоздями, копьями и губками»[322]. Ха-ха. Да, Лютер твердо верил, что защитники Благой Вести должны страдать, терпеть преследования и, в конечном счете, так или иначе быть распятыми. Оценил ли курфюрст шутку – неизвестно. В любом случае он полагал, что возвращаться сейчас для Лютера глупо и опасно. 28 февраля в Вартбург явился посыльный от курфюрста с убедительной просьбой к Лютеру не возвращаться в Виттенберг. Фридрих считал, что Лютер не заслуживает выдачи имперским или папским властям, – ведь его так и не выслушали и не дали ему серьезного и справедливого суда. Однако, если бы Лютер вернулся, на Фридриха принялись бы давить с тем, чтобы он выдал «еретика». А таких политических проблем Фридрих хотел, хотя бы на какое-то время, избежать. Да и в любом случае жизнь Лютера, стоит ему покинуть «птичий край», окажется в опасности. Однако Лютер был уверен, что его возвращения желает Бог, – а значит, ничто не могло его остановить.
Глава четырнадцатая Лютер возвращается
Мужчин сбивают с пути вино и женщины. Что же, запретить вино и упразднить женщин? Язычники поклоняются солнцу, луне и звездам. Что же нам, сорвать светила с неба?
Мартин Лютер1 марта 1522 года Лютер сошел со своей волшебной горы в низины. После двухдневного путешествия он прибыл в Йену и остановился в гостинице «Черный медведь». Там жил в это время Иоганн Кесслер, девятнадцатилетний студент из Санкт-Галлена в Швейцарии: со своим спутником, Вольфгангом Шпенглером, он также направлялся в Виттенберг. Кесслер вспоминал позднее, как они со Шпенглером заметили в обеденном зале гостиницы рыцаря в алом дублете, шерстяных лосинах и красной шляпе. Одну руку он положил на рукоять меча, а в другой сжимал книгу, в которой они узнали еврейскую Псалтирь. Рыцарь, читающий такую книгу – поистине любопытное зрелище! Заметив их интерес, таинственный рыцарь предложил к нему присоединиться и спросил, знают ли они что-нибудь о новом движении – Реформации. Разумеется, они знали. Так вышло, что сами они направлялись в Виттенберг. Между ними завязался разговор, и в какой-то момент они спросили о знаменитом Мартине Лютере: где, мол, он сейчас, не в Виттенберге ли? Рыцарь отвечал, что знает точно: сейчас Лютера в Виттенберге нет, но очень скоро он там будет. Затем он попросил, чтобы, приехав в этот прекрасный город, они сходили к Шурффу и передали привет «от того, кто должен прийти»[323]. В какой-то момент хозяин гостиницы отвел молодых людей в сторону и сообщил вполголоса: тот, с кем они разговаривают, и есть Лютер, но он путешествует инкогнито, так что тс-с-с-с! Однако студенты этому не поверили: они решили, что хозяин гостиницы, человек малообразованный, перепутал Лютера с Ульрихом фон Гуттеном – действительно рыцарем и другом Реформации, – так что этот рыцарь, со знанием дела рассуждающий о Реформации, должно быть, он. 8 марта, прибыв в Виттенберг, они явились с рекомендательными письмами к Иерониму Шурффу, а вскоре были представлены и Меланхтону, Николасу фон Амсдорфу и Юстусу Йонасу. А затем встретились и с самим Лютером, на этот раз в натуральном виде – без бороды и дублета – и были поражены, обнаружив, что именно с этим гладковыбритым монахом беседовали в гостинице «Черный медведь». Впоследствии Кесслер вернулся домой и стал видным деятелем Реформации у себя на родине, в Швейцарии.
Перед приездом в Виттенберг, 5 марта, Лютер посетил город Борна близ Лейпцига. Здесь он остановился в доме дворянина фон дер Штрассе и отсюда написал Фридриху письмо, ставшее одним из самых знаменитых его посланий. «Пишу вам, – так начал он, – ради вас, а не ради себя».
Весьма обеспокоило и смутило меня то, что Благая Весть в Виттенберге подвергается поношению. Все скорби, что мне уже случалось претерпеть – в сравнении с этой ничто. С радостью заплатил бы я за это жизнью, ибо ни Богу, ни миру мы не можем ничего ответить за происшедшее. Здесь действует дьявол. Что же до меня – мое благовестие не от человеков. Уступки порождают только презрение. Я не уступлю дьяволу ни пяди. Уже достаточно сделал я для Вашей светлости, почти год оставаясь в укрытии. Так я поступал не из трусости. Дьяволу известно: я поехал бы в Вормс, даже встань на моем пути столько бесов, сколько черепиц на крыше – так и теперь поеду в Лейпциг, хоть бы там девять дней подряд шел дождь из герцогов Георгов!
Образ многодневного дождя из герцогов Георгов сам по себе заслуживает внимания; однако вера и бесстрашие Лютера проявляются здесь ярко, как никогда. Он знает, что исполняет волю Божию – и идет вперед без страха, с поразительной отвагой. Сейчас он настолько уверен, что идет с Богом к Божьим целям – а значит, не может ошибаться, – что разговаривает с Фридрихом по меньшей мере надменно:
Хочу сообщить вам, что еду в Виттенберг под защитой более надежной, чем защита Вашей светлости. У вас я защиты не прошу: скорее мне защищать вас, чем вам меня. Если бы думал я, что лишь от вас следует ждать защиты – не поехал бы. Но это не дело меча – это дело Божье, и вы не сможете меня защитить, ибо слабы в вере… Просто оставьте это Богу. Если меня пленят или убьют, вашей вины в этом не будет. Как князь, вы обязаны повиноваться императору и не оказывать ему сопротивления. И использовать силу не вправе никто, кроме тех, кому это поручено законом. Все иное – мятеж против Бога. Надеюсь лишь, что вы не станете выступать моим обвинителем. Если оставите дверь открытой, этого будет достаточно. Если же от вас начнут требовать чего-то большего, я сообщу вам, как поступить. Если у Вашей светлости есть глаза, вы узрите славу Божию[324].
Слова по меньшей мере сильные. Лютер определенно не сомневался в том, что Господь воинств реален и на его стороне – иначе не осмелился бы заявить человеку, столь долго его защищавшему, что теперь вера Лютера (иначе говоря, Бог) будет защищать самого Фридриха. И далее он говорит не только о защите, но и о славе Божьей.
Вернувшись в Виттенберг, Лютер сделал то, что считал своим долгом перед курфюрстом: написал Имперскому совету регентства письмо с объяснением, почему вернулся – и таким образом снял полную ответственность за это с Фридриха, которому она могла бы дорого стоить. В письме Лютер ясно и смиренно объявил, что готов повиноваться имперской власти. Он объяснил, что вернулся ради «детей во Христе», то есть своей виттенбергской паствы. Дело в том, продолжал он, что нестроения в Виттенберге ставят всех, кто к ним причастен, перед важнейшим вопросом: что значит быть христианином. На взгляд Лютера, то, что делали Карлштадт и Цвиллинг, носило на себе отпечаток скорее гневного политического протеста, чем смиренной христианской веры. Лютер чувствовал, что поведение их бросает тень на Благую Весть. Фактически, они превратили в политический протест само принятие Тела и Крови Христовых. Беспокоили Лютера и буйные толпы, очевидно движимые не Благой Вестью и стремлением к христианской жизни, а плотским желанием безобразничать и бунтовать. Лютер никогда не был антиавторитаристом – напротив, как увидим мы во время событий Крестьянской войны, считал необходимым повиноваться властям. В этом контексте он ясно высказал то, что столь же ясно высказывал и прежде в других контекстах: необходимо дать Богу свободу делать то, чего Он хочет. Торопить события, впутывать собственную мертвую плоть в дела, которые должны совершаться лишь живым Духом Божьим – значит выступать на стороне сатаны и становиться игрушкой в его руках. Лютер ясно дал понять, что именно так расценивает эксцессы Карлштадта и Цвиллинга, – как и, несомненно, пророков из Цвиккау. Во всех этих случаях допускались богословские ошибки: в одних вопросах – например, в запрещении любых изображений в церквях, – законничество; в других – противоположный грех вседозволенности. Словом, все перепуталось: но теперь Лютер вернулся – и готов был все исправить.
«Никто не может умереть за другого»
Лютер вернулся в Виттенберг 6 марта и следующие два дня провел в обсуждении ситуации со своим «неофициальным кабинетом министров» – Йонасом, Амсдорфом и Меланхтоном. В воскресенье 9 марта он – впервые почти за год – взошел на кафедру городского собора, чтобы произнести проповедь: первую из восьми проповедей за восемь дней, знаменующих начало Великого поста. Биограф Лютера Майкл Маллет пишет, что Лютер прекрасно понимал и использовал значение этого момента: перед Великим постом, на масленичных гуляниях, люди предаются разным утехам и дурачествам, но наступает Чистый понедельник – и всему этому приходит конец. Маллет заходит даже дальше, предполагая, что так и было задумано, что Лютер
мастерски продумал и рассчитал визуальный символизм своего костюма, подгадав внешний свой облик к времени богослужебного года. Он сознательно сбросил рыцарский костюм, роскошный и подчеркнуто светский, заменив его простым и черным монашеским одеянием, сбрил щегольскую бороду, обрил голову и восстановил монашескую тонзуру, вновь подчеркнув суровую мощь своего черепа[325].
Справедливо усомниться, что Лютер сознавал «суровую мощь своего черепа» или, тем более, много о ней думал. И разве не все бритые головы выглядят «сурово»? Да и былая борода Лютера, запечатленная Кранахом, не кажется такой уж «щегольской». Но в любом случае, момент был драматический – и наш бритоголовый оратор, без сомнения, это понимал. Вся церковь затаила дыхание. Что скажет нам человек, вернувшийся почти что из мертвых? Что скажет наш Лютер? Но даже если бы паства не ловила каждое его слово – что там, если бы она была к нему совершенно равнодушна, – и тогда первые его слова приковали бы их внимание так же властно, как булавка коллекционера прокалывает жука.
«Смерть приходит к каждому из нас, – так начал Лютер, – и никто не может умереть за другого».
Кого не поразит и не заинтригует такое начало речи, независимо от «суровой мощи черепа» оратора? Можно лишь догадываться о том, каким колоколом прогремели эти слова из уст человека, которого еще недавно считали мертвым, в ушах слушателей.
«Каждый из нас, – продолжал он, – должен выдержать битву со смертью в одиночку. Мы можем кричать друг другу; но к смерти каждый из нас должен подготовиться сам – ни я не буду с вами в этот миг, ни вы со мной»[326].
В каком-то смысле слова эти стали сутью и смыслом всей будущей Реформации. В отношениях с Богом – и во всем, что с ними связано, – мы не можем ни полагаться на других, ни обвинять других в своих ошибках, а нашу новообретенную свободу должны понимать не как вседозволенность, а как серьезнейшую и священнейшую обязанность. Такими мощными словами начал Лютер первую из октавы своих знаменитых «Проповедей Invocavit». Произнося эти проповеди, он стремился вернуть себе контроль над запутанной и нестабильной ситуацией в городе: и так, как умел только Лютер, определил и разъяснил основные разногласия, разделяющие людей, и исправил ошибки, возникшие под руководством Карлштадта и Цвиллинга. В этих проповедях Лютер не упрекал Карлштадта лично – однако вряд ли кто-либо сомневался в том, против кого направлена его критика. Должно быть, Карлштадту было неловко, а порой и очень обидно слушать, как Лютер разбирает по косточкам его смелые публичные заявления.
Но весь остальной Виттенберг был в восторге. Иероним Шурфф писал курфюрсту:
Великую радость и восхищение и у ученых, и у неученых вызвало возвращение доктора Мартина и его проповеди. Его посредством, с помощью Божьей, город возвращается на путь истинный: день ото дня он показывает нам, в чем мы заблуждались, и неопровержимыми аргументами выводит из того хаоса, в который погрузили нас предыдущие проповедники[327].
В восторге были и студенты. Один из них, Альберт Бурер, писал: «Лютер пришел восстановить порядок и выправить то, что напутали Карлштадт и Габриэль [Цвиллинг] своими безумными проповедями»[328]. Бурер продолжает: Карлштадт и Цвиллинг не думали и не заботились о тех, кто с ними не соглашался или для кого перемены шли чересчур быстро и резко. Они просто, как часто бывает с ревностными новообращенными, мчались вперед на полной скорости, ничего и никого вокруг не замечая. Лютер же, напротив, проявлял большое внимание и любовь к тем, кто не готов был разом все изменить; в этом он, по мнению Бурера, походил на апостола Павла. Богословие Лютера всегда было ясно и вразумительно, говорил он так, чтобы слушатели его понимали. «Кто слышал его хоть раз, – писал Бурер, – тот, если он не из камня, рад слушать снова и снова. Ибо свои тезисы он гвоздями вбивает в умы тех, кто его слышит»[329].
Гений Лютера – и то, что сделало его безальтернативным лидером движения, – сложился из двух факторов. Во-первых, как пастырь по призванию, он не только стремился быть правым, но и никогда не забывал о том, как могут подействовать те или иные слова на простых верующих. Лютер понимал, что перемены, продвигаемые Карлштадтом и Цвиллингом, многим кажутся чрезмерными и чересчур быстрыми – и в этом роковая ошибка, ибо важнейшей частью проповеди Благой Вести является забота о тех, кого Павел называл «слабыми». Лютер ясно понимал: внимание к нуждам этих более робких или осторожных членов общины – ни в коей мере не преступление против истины, а напротив, важнейший признак любви и благодати. Карлштадт и Цвиллинг готовы были все принести в жертву своей правоте. Лютер нашел для таких ревнителей яркий образ: напившись вдоволь молока, они «обрезают сосок», забывая, что молоко нужно и другим[330]. О тех, кто не вполне еще проникся духом Реформации, необходимо помнить – и не понуждать их двигаться вперед быстрее, чем они в силах. Быть правым – значит быть правым не только в том, что говоришь и делаешь, но и в том, как ты это говоришь и делаешь. Реформатор, вводящий реформы бездумно, не заботясь о том, как отразятся они на сознании и поведении паствы, больше вредит реформам, чем помогает: именно так, по мнению Лютера, поступали Цвиллинг и Карлштадт.
Вторая отличительная черта Лютера была связана с его богословскими прозрениями. Много лет он провел за вдумчивым изучением Писания, а затем пережил несколько богословских озарений, которые помогли ему расставить все изученное и понятое на свои места, – так что теперь понимал, какие богословские проблемы стоят за теми или иными поверхностными, на первый взгляд, вопросами. Иными словами, одно дело – спорить о том, допустимы ли изображения в Церкви, и совсем другое – понимать, какое богословие стоит за той и другой позицией, понимать, что не все вопросы и проблемы равнозначны, и знать, что это само по себе важная богословская истина, которую соратники Лютера без него упускали.
Общий контекст религиозной жизни для Лютера был следующим: над всем главенствуют законы свободы и любви. Там, где речь идет о важнейших истинах, от которых зависит спасение души, компромиссы невозможны; но там, где есть выбор – выбор должен оставаться. И необходимо четко отличать одно от другого. Поэтому, когда Карлштадт утверждал, что не принимать во время причастия и хлеб, и вино – грех, Лютер говорил: нет, можно поступать и так, и так. Когда Карлштадт и Цвиллинг настаивали, что в Писании прямо запрещены любые изображения, Лютер отвечал: нет. На Ковчеге Завета были херувимы, в пустыне – бронзовый змей. Все не так просто. Более того, то, что изображения святых искушают некоторых им молиться, не означает автоматически, что священные образа и статуи нужно запретить. Если кто-нибудь возгордится красивой новой церковью – следует ли из-за этого сносить церковь? И в любом случае, действовать нужно медленно и постепенно. «Дайте людям время», – говорил Лютер.
Три года беспрестанного учения, размышлений и обсуждений потребовалось мне, чтобы прийти туда, где я сейчас нахожусь: как же можно требовать, чтобы простой человек, неискушенный в таких материях, прошел тот же путь за три месяца? Не думайте, что можно победить злоупотребления, уничтожив то, чем злоупотребляют. Мужчин сбивают с пути вино и женщины. Что же, запретить вино и упразднить женщин? Язычники поклоняются солнцу, луне и звездам. Что же нам, сорвать светила с неба? Такая торопливость и грубость выдает недостаток уверенности в Боге. Взгляните, чего достиг Бог через меня, – а ведь я только молился и проповедовал. За меня все сделало слово Божие. Пожелай я – мог бы возбудить в Вормсе мятеж. Но, пока я просто сидел и пил пиво с Филиппом [Меланхтоном] и Амсдорфом, Бог сам нанес папству мощный удар[331].
Лютер говорил, что в центре христианской веры должны стоять свобода и любовь. Веры «без любви недостаточно; в сущности, это и не вера вовсе», – говорил он[332]. Серьезно и подробно говорил Лютер о сходстве между тем «ярмом дел», которое накладывала на человека папская система, – и таким же ярмом, которым неожиданно обзавелось нынешнее виттенбергское движение. Многие миряне с детских лет впитали такое благоговение перед гостией и чашей со Святыми Дарами, что просто не могут за один день начать относиться к ним так, словно в них нет ничего особенного, без страха трогать гостию руками и брать в руки чашу вина. Лютер хорошо помнил, как его самого едва не парализовало во время первой мессы. Он понимал: заставлять некоторых людей брать в руки чашу – все равно что запрещать им причащаться. И в этом, и во многих других вопросах единственным принципом должна стать свобода. Дайте людям свободно причащаться вином – но не принуждайте к этому. Подавая практический пример такой свободы, Лютер надевал на проповедь монашескую сутану. Он легко мог бы поступить, как Карлштадт – проповедовать в профессорской мантии, – однако желал дать понять: никто не принуждает его носить сутану, но он будет ее носить по собственному выбору. Именно свобода носить или не носить – вот что важно и ценно. Карлштадт и Цвиллинг, так сказать, принуждали паству к нонконформизму так же, как папа принуждал к конформизму. Похоже на то, как если бы в каком-нибудь офисе персонал взбунтовался против дресс-кода, отменил костюмы и галстуки – и скоро там стали бы смотреть косо на всех, кто ходит на работу не в джинсах и без татуировок. И то и другое – рабство; и то и другое идет против величайших законов – евангельских законов любви и свободы. «Прежде дьявол делал нас слишком папистами, – говорил Лютер, – а теперь хочет сделать слишком евангелистами»[333].
В памфлете Лютера о Вечере Господней, озаглавленном «Принятие Святых Даров в обоих видах», есть слова, почти буквально повторяющие основную мысль его более ранней книги «О свободе христианина»:
Я учу так, чтобы учение мое прежде всего и более всего вело к познанию Христа, к чистой и истинной вере и подлинной любви, а значит, и к свободе во всех вопросах внешнего поведения – в том, что есть, пить, как одеваться, как молиться, как поститься, в отношении к монастырям, к таинствам и так далее. Такая свобода может стать путем спасения лишь для тех, кто имеет веру и любовь, иначе говоря, для истинных христиан. Таким людям и невозможно, и не должно навязывать – или позволять кому-либо навязывать – человеческие законы, стесняющие их совесть[334].
Тем, что говорил и делал сейчас в Виттенберге, Лютер привлек на свою сторону даже некоторых былых врагов. Так, Фабриций Капитон, представитель архиепископа Альбрехта Майнцского, доселе был одним из самых суровых критиков Лютера – тот даже называл его «лютым зверем». Однако, услышав, что Лютер вернулся в Виттенберг, Капитон приехал послушать его проповедь – и был тронут всем, что увидел и услышал. «Люди стекаются как бы в единую процессию и идут к свободе во Христе», – писал он[335]. Не прошло и года, как он оставил место у архиепископа и сделался вождем нового евангелического движения в Страсбурге.
Однако отношения Лютера с Карлштадтом потерпели большой урон. Карлштадт был тремя годами младше Лютера, но в иерархии университета стоял выше и публичные упреки за то, что делал в Виттенберге, воспринял как личную обиду. Цвиллинг, который тоже был моложе Лютера, принял его критику близко к сердцу и действительно исправился, но Карлштадт начал спорить и доказывать, что Лютер неправ. Очевидно, в нем говорила оскорбленная гордость: совсем недавно он стоял в центре расцветающего нового движения, даже терпел преследования (когда курфюрст попытался запретить ему проповедовать), – а теперь вдруг оказался задвинут на «камчатку», откуда оставалось лишь смотреть, как верховодит другой. Вернувшись из своего укрытия, Лютер прямо и откровенно сообщил всему городу, что Карлштадт все делал неправильно – не обидно ли? «Путы, смазанные медом, – с горечью писал Карлштадт, – всегда кажутся слаще, чем грубые, ничем не приукрашенные кандалы»[336].
В какой-то момент, надеясь на публичный диспут с Лютером, он написал свои тезисы – однако университет запретил даже их публиковать. Трудно не заметить, что Карлштадт стал своего рода козлом отпущения. Во всем, что происходило в городе в отсутствие Лютера, нельзя винить его одного – Меланхтон, Амсдорф и городской совет этому потакали или, по крайней мере, не препятствовали. Обиженный Карлштадт начал все меньше появляться в Виттенберге и, в конце концов, сделался пастором маленького прихода в деревне Орламюнде: оттуда он писал о Лютере критические памфлеты, там был свободен воплощать в жизнь все то, что в Виттенберге ему не позволили. Все службы он проводил на немецком языке и без облачений, причащал прихожан и хлебом, и вином, решительно запретил изображения и крещение младенцев.
В сердце богословия Лютера стоит мысль о том, что слово Божье – евангельская Благая Весть – всегда пробьет себе дорогу, что навязывать его или насаждать силой не нужно и опасно. В одной из своих «Проповедей Invocavit» он говорил об этом так:
Знаете ли, что думает дьявол, когда видит, что люди пытаются распространять Благую Весть насилием? Сидит он, скрестив лапы, перед адским огнем, злобно ухмыляется и приговаривает: «Вот молодцы! Порадовали меня! Все делают как мне нужно! Пусть продолжают в том же духе – богатый улов мне достанется!» А когда видит, что Слово защищает себя и одерживает победы само, без помощи человеческого оружия – вот тогда дрожит и трясется от страха[337].
Сам Лютер в эти годы проповедовал Благую Весть неустанно. В 1522 году он произнес только в Виттенберге 117 воскресных проповедей, в следующем году – 137. И это не считая тех, что произносил в путешествиях, там, куда его приглашали.
Возвращение пророков
Лютер и его друзья еще не выслушали последнего из безумных «пророков из Цвиккау», которых, вместе с другими радикалами, Лютер уже припечатал словечком Schwärmer («фанатики»). Где-то в начале января Шторх и Дрехзель покинули Виттенберг так же торопливо, как здесь появились, и теперь путешествовали по Германии, везде, где только можно, распространяя свои безумные учения. Шторх обладал несравненной способностью завораживать толпу: истории о том, что случалось с ним на небесах, он ткал с таким же мастерством, как пряжу на ткацком станке. Нередко рассказывал он о своих встречах с архангелом Гавриилом, и договорился до того, что Гавриил якобы обещал уступить ему свой небесный престол. Правда, где будет тогда сидеть сам архангел, оставалось неясным.
Младщий из этой троицы, Маркус Штюбнер, бывший студент Меланхтона, остался со своим бывшим учителем: тот поселил его у себя дома и защищал от виттенбержцев, все более подозревавших неладное. Некоторое время Штюбнер жил с Меланхтоном и его женой – и каждый божий день забрасывал их красочными апокалиптическими пророчествами. Однажды заявил, например, что скоро явятся турки и перережут всех священников, в том числе и тех, что успели жениться. Еще предсказывал, что через пять или семь лет начнется жестокая гражданская война, но те, кто останется верным Богу, выживут, – и после этого уже не будет разделений в христианском мире. Можно лишь воображать, с какими чувствами слушал все это мягкий и несколько оторванный от жизни Меланхтон. Чем дальше, тем причудливее звучали речи Штюбнера: однажды, когда все сидели за обедом, он вдруг задремал – должно быть, утомленный несколькими неделями беспрерывных пророчеств, – а проснувшись, ни с того ни с сего объявил себя Иоанном Златоустом, архиепископом Константинопольским IV века.
В начале апреля Лютер имел беседу со Штюбнером и еще одним из этой же компании, неким магистром Целларием, приехавшим в Виттенберг. Штюбнер объяснил Лютеру свое учение о ступенях духовного восхождения. По его словам, сам он достиг второй мистической ступени, «твердости», а Лютер (так он снисходительно сообщил) пока пребывал на первой, называемой «подвижностью». Но Лютеру не следует отчаиваться: если он постарается, то сможет подняться и на вторую ступень. Лютеру все это показалось решительной чушью, о чем он без обиняков и сообщил. В Библии, сказал он, нет ни тени чего-то подобного. Либо Штюбнер и его друзья попросту все это высосали из пальца, либо в самом деле получили «откровение»; однако, поскольку Библия ничего этого ни прямо, ни косвенно не подтверждает, такое откровение Лютер должен отвергнуть. Откровения бывают не только от Бога, но и из других источников, и это – явно не от Бога.
На это Штюбнер ответил, что о первородном грехе Библия тоже ничего не говорит. Разумеется, в Библии и вправду не упоминается первородный грех – а также Троица, печатный станок и еще множество разных вещей, – но такое доказательство, что твое учение истинно, выглядит шатким, особенно с точки зрения человека, который много лет только Библией и жил. Дальше с Лютером начал спорить Целларий. Спор быстро перешел на повышенные тона. Лютер процитировал Целларию пророка Захарию – «Господь да запретит тебе, сатана!» – и дальше начался скандал. До того Целларий заискивал перед Лютером и льстил ему, но тут, потеряв самообладание, разразился таким потоком брани, что Лютер не мог и слова вставить. Неудивительно, что Штюбнер и Целларий скоро покинули Виттенберг. Позже Лютер вспоминал об этой встрече так: «Я говорил с самим дьяволом во плоти»[338]. И это была не гипербола: он искренне верил, что за мистическими дарованиями «пророков» стоял не Бог, а дьявол.
Штюбнер в Виттенберг больше не возвращался, но какое-то время спустя в городе вновь объявился Дрехзель. Он рассказал Лютеру о двух необыкновенно ярких видениях, которые истолковал как предупреждения о близости Божьего гнева. На Лютера это никакого впечатления не произвело: спокойно выслушал он поток бессвязных слов, воплей и речений, достойных дельфийской пифии, а затем спросил: «Это все, или еще что-нибудь добавишь?» Тут высшие силы открыли Дрехзелю, что здесь его пророческий дар не встретит понимания, и он скромно удалился. Наконец, вождь троицы из Цвиккау, Шторх, снова появился в городе в сентябре. По неизвестной причине «князь пророков» носил теперь солдатский мундир и привел с собой новообращенного, доктора Герхарда Вестербурга из Кельна (впоследствии, как и многие последователи пророков из Цвиккау, этот Вестербург примкнул к жестокому и буйному движению анабаптистов). Шторх начал прямо с крещения младенцев, сообщив Лютеру, что брызганье на младенца водой не может иметь никаких последствий для его души. Дальше этого беседа не продвинулась.
Возвращение в Виттенберг открыло в жизни Лютера новый этап: теперь его окружали угрозы не только от «правых» традиционалистов вроде герцога Георга, но и от радикальных «левых» Schwärmer вроде Карлштадта или Мюнцера. Лютеру пришлось не только отражать атаки с обоих флангов, но и сосредоточиться на определении правого пути: нападки справа и слева, несомненно, помогали ему сформулировать этот царский путь к истине. Надо сказать, представшей перед ним неподъемной задачи по созданию новой Церкви – или, по крайней мере, новой деноминации – Лютер никогда не ожидал и тем более не желал. Но события последних лет вывели его на этот невиданный исторический путь – и теперь ему предстояло определять правила веры и жизни не только для Виттенберга, но и для множества людей в иных местах, близких и отдаленных, которые видели в нем своего вождя. Так, необходимо было придумать новую форму богослужения: в ходе этого Лютер начал писать музыку и гимны и в конце концов ввел в Церкви хоровое пение всех прихожан – еще одно величайшее его историческое достижение.
В первый год по возвращении Лютер очень много писал, стремясь прояснить, что означает вера и как подобает жить христианину. Он составил «Личный молитвенник», в котором постарался создать противовес принятым в Средневековье молитвенным практикам, – бессмысленному повторению одних и тех же молитв по многу раз, словно в стремлении достучаться до Бога, рассеянного, занятого чем-то другим или попросту не желающего тебя слушать. Лютер верил, что Бог – любящий отец, всегда готовый прислушаться к молитвам своих детей. Понять его отношение к молитве поможет нам письмо к одному австрийскому дворянину, написанное Лютером два года спустя. Этот дворянин потерял жену – и написал Лютеру, прося молиться о ее душе и упоминая, что заплатил множеству священников, чтобы они служили по ней частные мессы. На это Лютер прямо и откровенно ответил, что платить священникам за молитвы об усопшей жене – «маловерие»:
Довольно будет, если ваша милость один или два раза искренне и с чувством за нее помолится. Ибо Бог обещал: просите с верою, и дано вам будет (Лк. 11:9–10). Напротив, когда мы снова и снова молимся об одном и том же, – это знак, что мы не верим Богу, и такая маловерная молитва Его только сердит. Верно, что нам надлежит регулярно молиться, – но всегда с верою и с убеждением, что нас слышат. Иначе молитва наша тщетна[339].
Обратим внимание: Лютер говорит, что постоянная молитва не только не нужна, но и контрпродуктивна, ибо обличает в нас недостаток веры. Молясь таким образом, мы лишь доказываем, что не понимаем, к кому обращаемся, – и этим Его оскорбляем. Похоже на то, как если бы мы попытались всучить взятку честному полицейскому, который от чистого сердца старается нам помочь, или подкупить своих любящих родителей. Это не разрешило бы наших проблем – напротив, все сильно усложнило бы. Родители с горем и ужасом увидели бы, насколько мы не понимаем их и как глубоко им не доверяем, – и пропасть между нами, прежде существовавшая лишь в нашем сознании, сделалась бы реальной.
Много времени в первый год Лютер посвящал разъездам и проповедям в соседних городах. Его приглашали проповедовать в Цвиккау, в Торгау, в Борне, в Альтенбурге. Проповедовал он и в Эрфурте, и в Веймаре при дворе герцога Иоганна. Основная его идея – идея веры евангельской – стремительно распространялась и без его участия, однако он видел свой долг в том, чтобы помочь людям избежать уклонений и ошибок. В своих проповедях Лютер снова и снова подчеркивал главное:
Христос сошел с небес, чтобы мы познали Его. Спустился в наше болото и стал человеком, как мы. Мы не знаем и не принимаем Его, пришедшего спасти нас от всякой нужды и всякого страха. Но кто принимает Христа, кто признает Его и любит – тот все исполняет, и все дела его становятся благими: он творит добро ближним, он ради Бога идет на страдания и на смерть.
Письмо к Штаупицу
27 июня Лютер написал своему старому другу и наставнику Иоганну фон Штаупицу первое письмо после долгого перерыва. Бодрая поступь Реформации и ее влияние на августинский орден для Штаупица представляли немалую проблему. С точки зрения богословия он был во многом с Лютером согласен – однако не решился последовать за самым блестящим своим учеником по каменистой тропе, предполагающей прямое противостояние папе, а теперь и отпадение от Церкви. Уже в 1520 году, видя, что августинский орден обречен, Штаупиц подал в отставку с поста генерального викария (на этом месте его сменил друг Лютера Венцеслас Линк). Годом позже Штаупиц вообще вышел из августинского ордена и присоединился к бенедиктинцам. До Лютера дошли слухи, что он готовится стать аббатом бенедиктинской обители в Зальцбурге, и это его расстроило. Кроме того, он знал, что до Штаупица доходят о нем лживые и порочащие слухи.
Об одном молю вас: ради милосердия Христова, не верьте всем обвинениям, выдвигаемым против Венцесласа (Линка) или меня. Вы говорите, что учения мои восхваляют распутники и что недавние мои писания возмутительны. Всем этим я не удивлен, и таких обвинений не страшусь. У нас в этом мире лишь одна задача – распространять среди людей чистое слово, [не создавая] беспорядков; этим мы и занимаемся. Слово можно использовать и к добру, и к худу; вы сами знаете, что не в нашей власти решать, [как будут использовать его люди]… Будем делать то, что предсказал Христос, когда говорил, что ангелы Его истребят все дурное из царства Его. Отец мой, я должен разрушить царство порока и погибели, возглавляемое папой вместе со всеми его приспешниками. Он [Христос], разумеется, делает это без нас, без помощи рук человеческих, силой одного лишь слова. Господь знает, к чему все это придет. Нам не дано этого понять и постичь. А следовательно, мне нет причин откладывать свою работу до тех пор, пока кто-либо сможет это понять. Бог велик – поэтому весьма вероятно, что явление слова Его вызовет столь же великое смятение умов, великие волнения и даже злодеяния. Но, отец мой, пусть все это вас не смущает. Я полон надежды. Во всем этом виден совет Божий и Его могучая рука. Вспомните, как с самого начала дело мое казалось для мира сего ужасным и нестерпимым, – однако ж оно возрастает день ото дня. Одолеет оно и то, чего вы так страшитесь, – нужно лишь немного подождать. Сатане нанесли серьезную рану – от этого он и ярится и все повергает в смятение. Но Христос, уже начавший Свои труды, повергнет его под ногу Свою, и врата ада вотще будут бороться против Христа.
…Изо дня в день бросаю я вызов сатане и всему воинству его, дабы поспешил День Христов, когда Он низвергнет антихриста.
Прощайте, отец мой, и молитесь обо мне. Доктор [Иероним Шурфф], ректор Амсдорф и Филипп посылают вам привет…
ВашМартин Лютер[340]Немецкая Библия
Крупнейшим проектом Лютера, несомненно, стал полный перевод Библии на немецкий язык. Рукопись немецкого Нового Завета, привезенная им из Вартбурга, поражала воображение, хоть и была еще не вполне закончена. Лютер понимал, что ей требуется пристальное внимание редактора – Меланхтона. Этот блестящий лингвист, греческий знавший лучше кого-либо иного, много недель провел за тщательным «причесыванием» текста, который вручил ему Лютер. Особенно серьезные проблемы возникли у Лютера с самым концом книги – а именно с предпоследней главой завершительной книги, Откровения Иоанна Богослова. В этой главе описывается Новый Иерусалим, стоящий на основании из всякого рода драгоценных камней. Но, ради всего святого, где найти немецкие обозначения для таких редких драгоценностей, как хризопраз, хризолит, яшма, берилл, сердолик? Для разрешения этой нелегкой задачи Лютер обратился к другу Кранаху, уже создавшему для книги Откровения двадцать одну гравированную иллюстрацию, явно под сильным влиянием Дюрера. Кранах, в свою очередь, обратился к своему другу Фридриху, прося, чтобы им с Лютером разрешили позаимствовать из княжеской сокровищницы несколько драгоценных камней, рассмотреть их и определить их цвет. Книга вышла в свет в сентябре, отчего стала называться Сентябрьским Заветом: гравюры Кранаха немало способствовали ее продаже. Непереплетенные экземпляры продавались по половине гульдена, переплетенные – за гульден; биограф Кранаха Стивен Озмент отмечает, что примерно столько же стоила в те времена свиная туша[341].
В иллюстрациях Кранах выразил собственные богословские симпатии и антипатии – в частности поместил на голову блудницы Вавилонской очень узнаваемую трехзубую папскую тиару. Герцог Георг, увидев это, по своему обыкновению пришел в ярость; тиару решительно осудил и потребовал от кузена, чтобы из следующего издания ее убрали. Первые копии Библии Лютер отослал Спалатину и Фридриху, а также брату Фридриха герцогу Иоганну и его сыну герцогу Иоганну Фридриху, жившим в это время в Веймаре[342]. Сначала был напечатан тираж в три тысячи экземпляров – и весь быстро разошелся. Второе издание, тиражом в две тысячи, вышло в декабре; тиары в нем уже не было. Однако популярность этой эпохальной книги оказалась столь велика, что через три месяца после выхода второго издания все было распродано, а цена Библии увеличилась втрое.
Книга стала шедевром издательского труда, не в последнюю очередь благодаря обширным смысловым комментариям и примечаниям Лютера. Едва ли мы можем вполне себе представить, какое она произвела впечатление: ведь именно благодаря Лютеру Библия и ее содержание в наши дни знакомы всем и каждому. Но представим себе народ, в котором Библия много столетий существовала лишь на чужом, для многих совсем непонятном языке, и мало кто понимал, что она собой представляет, – и поймем, каким революционным откровением стала эта книга почти для всех, кто ее видел. Комментарии, которыми предварял Лютер каждую книгу Нового Завета, для многих немцев стали первыми за много веков объяснениями, из чего состоит Библия и что в ней содержится. Можно привести бесчисленные примеры простых пояснений, благодаря которым взгляд людей на те или иные религиозные вопросы изменился навеки. Например, в начале Нового Завета Лютер объясняет значение слова «Евангелие»: это не что иное, как «благая весть» или, попросту, «хорошая новость». Во всех четырех Евангелиях, от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, – пишет он далее, – содержатся рассказы о жизни, распятии, воскресении и вознесении Иисуса; однако истинное Евангелие, то есть Благая Весть, содержится во всем Новом Завете. Вся эта история – это и есть Евангелие.
Именно простоте и доступности Благой Вести Лютер уделял первостепенное внимание: все слово Божье он почитал священным, однако считал вполне нормальным «ранжировать» разные части Нового Завета согласно тому, насколько передавали они его центральную мысль. Лютер не считал все книги Библии равноценными, как можно было бы предположить. У него были даже сомнения, стоит ли считать Послание Иакова и книгу Откровения каноническими и апостольскими. В конце Нового Завета он писал:
Евангелие от Иоанна и Послания святого Павла, особенно к Римлянам, а также Первое послание святого Петра – вот ядро и костный мозг всех этих книг. Поистине, их следовало бы ставить перед прочими, и каждому христианину я советую в первую очередь читать их – и сделать их своим ежедневным чтением, подобным хлебу насущному. В них вы не найдете описания множества дел и чудес, совершенных Христом, однако найдете прекрасно изложенное объяснение того, как вера во Христа побеждает грех, смерть и ад и дарует жизнь, праведность и спасение[343].
Блудница Вавилонская с трехзубой папской тиарой на голове
В этом был для Лютера основной смысл Евангелия – Благой Вести о свободном даре любви и праведности Иисуса. Поэтому Лютер дал Посланию Иакова печально известное прозвище «соломенное послание», – по многим причинам, но не в последнюю очередь потому, что в нем подчеркивалась важность добрых дел (хотя, будем справедливы, этот уничижительный эпитет фигурировал только в первом издании 1522 года). И все же сейчас странно смотреть на то, как Лютер выдвигал вперед одни евангельские книги и оставлял на заднем плане другие – Послание к Евреям, Послания Иакова, Иуды и книгу Откровения – как будто отправляя их на испытательный срок. Однако в этом вопросе стоит соблюдать золотую середину. Здравый смысл всегда подсказывал – пусть и не всегда об этом говорилось вслух, – что не все в Библии равнозначно. Например, кто же согласится, что знаменитый стих Ин. 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, кто верует в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» – равен стиху 2 Тим. 4:13: «Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные»? Или даже со следующим стихом, невольно поражающим современного читателя своей ворчливостью: «Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его!»[344]
В наше время многие стихи Писания цитируются постоянно, а некоторые мы едва знаем – и именно по той причине, на которую указывал Лютер. Разница между Лютером и многими другими христианами в том, что он не боялся говорить открыто о том, о чем другие помалкивают. Мысль, что формально все стихи в Библии равнозначны, поскольку все они – часть «слова Божьего», не должна закрывать от нас тот очевидный факт, что одни из них важнее других. Некоторые говорят, что Благую Весть можно увидеть в каждой запятой и в каждой точке Писания, поскольку это, мол, не обычная книга – она живая, ее нельзя читать так же, как все прочие. Но даже если так, в одни стихи ее, чтобы разглядеть Благую Весть, нужно вглядываться куда пристальнее, чем в другие, где она на поверхности. Это и имел в виду Лютер – и не стоит из какого-то богословского ханжества отмахиваться от этой простой и очевидной мысли.
Перевод Ветхого Завета
Помимо всех прочих своих занятий, уже в 1522 году Лютер взялся за новый, куда более масштабный и амбициозный проект – перевод на немецкий язык всей Библии. Вскоре после того, как передал Меланхтону рукопись Нового Завета, он уже сел за этот новый перевод, которому предстояло занять годы. Лютер намеревался начать с первых книг и публиковать перевод постепенно. Первой частью, естественно, стало Пятикнижие (книги Бытия, Исхода, Левита, Чисел и Второзакония). Лютер и его команда, состоявшая из Меланхтона, Амсдорфа и других, одолела эти пять толстых книг с такой быстротой, что к концу декабря 1522 года первый том Ветхого Завета был уже почти готов, а в феврале 1523 года вышел в свет. Однако перевод с древнееврейского поставил перед ним новые, порой необычайно сложные задачи. Начать с того, что латинская Вульгата была полна ошибок: Лютер азартно выискивал их и исправлял, в то же время ужасаясь мысли, что много столетий эти ошибки распространялись и передавались из поколения в поколение при активной поддержке Церкви.
В письме к Спалатину Лютер отчаянно просит помощи с названиями животных, встреченными в книгах Левита и Второзакония. Ко времени этого письма рукопись была уже практически закончена, однако прежде, чем отправлять ее в печать, требовалось разрешить несколько таксономических загадок. Можно только воображать, с какими чувствами читал Спалатин такую просьбу:
Очень прошу тебя о помощи: пожалуйста, опиши нам следующих животных по роду их:
Хишные птицы: коршун, стервятник, сокол, ястреб-перепелятник, ястреб-перепелятник-самец.
Промысловые животные: газель, серна, горный козел, дикий или лесной козел.
Пресмыкающиеся: верно ли переводить stellio как «саламандру», а lacerta limacio как «жабу с оранжевыми крапинками»?
…У евреев, римлян и греков [названия] животных страшно перепутаны, так что приходится догадываться, о каком животном идет речь, на основе его рода и вида. Поэтому, если можно, я хотел бы узнать названия и классификацию всех хищных птиц, промысловых животных и ядовитых пресмыкающихся по-немецки…
Какое множество у нас названий ночных птиц: сыч, ночная цапля, филин, неясыть, ушастая сова!
Вот птицы, которых я знаю – стервятник, коршун, сокол, ястреб-перепелятник; хотя не уверен, что смогу легко узнать каждую.
Вот промысловая дичь, которую я знаю: олень, косуля, серна (которую [Вульгата] называет bubalus).
Не знаю, что имеет в виду [Вульгата], когда упоминает среди кошерных животных козла, оленя, антилопу и жирафа[345].
Хочу, чтобы эту часть работы ты взял на себя. Возьми еврейскую Библию и постарайся выяснить об этих животных все что сможешь, чтобы нам не наделать здесь ошибок. У меня на это времени нет.
Прощай и молись обо мне[346].
Новый Завет Лютера стал сенсацией по многим причинам. Прежде всего, благодаря своему мощному языку. Многие фразы из него стали крылатыми и вошли в сокровищницу немецкого языка навеки. Переводя Новый Завет, Лютер ориентировался на то, что его будут читать вслух, – и старался сделать свой перевод не только точным и понятным, но и благозвучным для немецких ушей.
Но еще больший интерес и восхищение читателей вызвали предисловия к каждой книге, все объясняющие и ставящие в должный контекст. Разумеется, мысль, что Писание невозможно понять, пока нам его не объяснят, – вполне библейская; более того, для Писания она очень важна. Вспомним эпизод из Деяний, где эфиопский евнух разговаривает с Филиппом:
Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня?[347]
Из того, что Лютер открыл Библию для всех и каждого, порой делается вывод, что все истолкования Библии равнозначны; сам Лютер, конечно же, так не думал. Себя он поставил на место наставника и учителя, но ясно понимал: это не замена самостоятельного чтения, а лишь подспорье для людей, читающих Библию самостоятельно. Ясно видел он, что впадение в любую крайность создает серьезные проблемы. Читающий Библию без понимания того, что именно он читает, неминуемо впадет в заблуждение – но и всякий, кто отказывается читать Библию сам и доверяет чужим толкованиям, рискует ошибиться, ибо толкования эти могут оказаться богословски неверными. Как никто не в силах умереть за нас, так и никто не может за нас строить отношения с Богом, – а значит, и принять на себя ответственность за то, как мы читаем Писание. Это решать только нам.
Поэтому Лютер стремился давать полезные комментарии, однако не пытался объяснить все и не навязывал свою точку зрения. Из предисловий Лютера к библейским книгам особенным шедевром считается предисловие к Посланию к Римлянам:
Вера – это действие Божье в нас, которое изменяет нас и делает рожденными заново в Боге… Вера – живая и смелая уверенность в благодати Божьей, столь твердая и определенная, что ради нее верующий тысячу раз поставит на кон собственную жизнь. Познание этого и уверенность в благодати Божьей делает людей радостными, смелыми и счастливыми в обращении с Богом и со всем творением. Вот что совершает в вере Дух Святой. Из-за этого человек без принуждения, охотно и радостно всем делает добро, всем служит, терпит любое страдание ради любви Божьей и в похвалу Богу, показавшему ему такую благодать. Отделить дела от веры невозможно, как невозможно отделить тепло и свет от огня[348].
Эти слова Лютера столь ясно объясняют, что значит «родиться заново», что более двух столетий спустя, в мае 1738 года, чтение их вслух произвело на молодого англичанина по имени Джон Уэсли огромное впечатление и подарило ему опыт обращения и перерождения, изменивший всю его жизнь[349].
Уэсли принялся неустанно проповедовать то же евангельское послание – и это привело к великим историческим последствиям, в том числе к методистскому возрождению XVIII века; а оно, в свою очередь – к обращению Уильяма Уилберфорса, возглавившего борьбу за прекращение работорговли в Британской империи. Оно же привело к служению и проповеди Джорджа Уайтфилда в американских колониях – а это, в свою очередь, несколько десятков лет спустя вызвало объединение колоний вокруг тех же идей свободы и равенства, какие, благодаря проповедям Лютера и других реформаторов, вдохновляли немцев в начале XVI века. Идеи всегда меняют мир – и идеи Лютера изменили мир более каких-либо иных.
Глава пятнадцатая Монстры, монахини, мученики
В явлениях природных на земле
И в небе, – непогода ли случится,
Внезапный ветер, или что еще, —
Разумную причину отвергая,
Увидят чудо, знаменье, предвестье,
Зловещий метеор, глагол небес,
Что королю грозят господней карой.
У. Шекспир. Король Иоанн. Акт 3, сцена 4Порой мир Лютера кажется нам очень похожим на современный. Но в другие моменты мы вспоминаем, что он все же от нас очень далек. Например, напоминает об этом история Папского осла и Теленка-Монаха.
В декабре 1522 года, когда Лютер и Меланхтон в последний раз вычитывали лютеровский перевод Нового Завета, за много миль к востоку от Виттенберга, в деревне Вальтерсдорф, чья-то корова произвела на свет теленка-уродца. Мир в те времена бдительно следил за кометами, рождением уродов и прочими «знамениями»; так что это гротескное существо, как говорят, походившее на монаха, привлекло большое внимание и новости о нем быстро распространились. Придворный астроном в Праге, услыхав о нем, немедленно сделал вывод, что теленок-монах – не что иное, как намек самой природы на Мартина Лютера, и написал об этом стихотворение, кое-где приобретшее популярность. Лютер, что неудивительно, истолковал это чудо природы совсем иначе.
За несколько месяцев до того на песчаный берег в Харлеме, в Нидерландах, выбросило большого кита, и новость об этом также привлекла внимание Лютера. А еще до того Меланхтон наводил справки о чудовище, якобы выброшенном волной на берег Тибра, близ Рима, в 1496 году. У той твари, как рассказывали, было женское тело, ослиная голова, чешуя и две пары разных ног. Поскольку обнаружилась она поблизости от Рима, неудивительно, что появление ее было истолковано как прозрачный намек Бога на сущность папства; уроду быстро присвоили название der Papstesel (Папский осел) – и, быть может, активно его обсуждали, не в последнюю очередь ради удовольствия не раз и не два произнести эти слова, едва ли приятные папе.
Так или иначе, едва закончив перевод, Лютер и Меланхтон сели вместе за памфлет с веселым названием: «Истолкование двух ужасных явлений – Папского осла в Риме и фрайбургского Теленка-Монаха, найденного в Майсене». Памфлет, украшенный гравюрами Кранаха, стал, пожалуй, самым странным и натянутым сочинением Лютера – что само по себе любопытно: обычно Лютер писал иначе. У теленка-монаха, как говорили, шкура напоминала сутану, а на голове виднелось некое подобие тонзуры. Из этого Лютер уверенно заключил, что перед нами символ монахов и монашества в целом. Сам же теленок, разумеется, не что иное, как олицетворение идолопоклонства: ведь каждому дураку известно, что евреи в пустыне поклонялись золотому тельцу. Кроме того, коровы едят траву – это указание на то, что монашество сосредоточено на «земном». Рассказывали, что в шкуре несчастного урода имелись дыры – это, очевидно, указание свыше на богословские пробелы, характерные для разных монашеских орденов. В конце этого странного сочинения Лютер, обращаясь к монахам, страстно призывал их оставить свои ордена и стать «истинными христианами». Но, надо заметить, даже не читая эксцентричного трактата о теленке, бесчисленное множество монахов и монахинь, покидающих своих монастыри, скоро стали для Лютера серьезной проблемой; а бегство дюжины монахинь из Нимбшена неожиданно и навсегда изменило ход его жизни.
Побег дюжины из Нимбшена
8 апреля 1523 года, через несколько месяцев после выхода в свет памфлета о теленке, Лютер написал своему другу Венцесласу Линку: «Вчера я принял девятерых монахинь из Нимбшенского монастыря»[350]. До этого письма мы слышали лишь о беглых монахах, каковых было уже множество, – столько, что Лютер не понимал, что с ними делать. Бежать от унылой монастырской жизни – только полдела; чем заниматься дальше, где найти себя в шумном и непредсказуемом мире? Разумеется, многие монахи отправлялись в Виттенберг, надеясь, что Лютер так или иначе разрешит все их проблемы. Однако монахиням покинуть монастырь было куда сложнее, чем монахам, – что и продемонстрировал случай Нимбшена, в котором Лютер, так сказать, сыграл роль гордой повитухи, выпустившей монахинь в новую жизнь. Город Нимбшен находился на землях герцога Георга, и организация побега из тамошнего монастыря была делом по-настоящему опасным. Сейчас мы, может быть, не вполне ясно представляем, какая недюжинная смелость для этого требовалась.
История гласит, что с подачи Лютера некий Леонгард Коппе, бюргер из города Торгау, 4 апреля (в Страстную субботу) приехал на крытой телеге в женский монастырь в Гримме, куда обычно доставлял свой товар. Пять столетий нам рассказывали, что в телеге в это время не было ничего, кроме пустых, но чрезвычайно вонючих бочек из-под селедки. В какой-то момент появились двенадцать монахинь, прыгнули в телегу, спрятались в бочках, где никому не пришло бы в голову их искать, Коппе хлестнул лошадей – и телега с рыбными бочками понеслась вперед, к свободе. Эту красочную историю рассказывают нам уже пять веков, ее можно найти почти в любой биографии Лютера… даже жаль, что все это неправда.
Как мы уже сказали, монастырь в Нимбшене находился в границах герцогской Саксонии, где властвовал и правил раздражительный герцог Георг. Он однозначно запретил монахам и монахиням выходить из монастырей и объявил беглецов вне закона – так что перед нами и в самом деле дерзкий побег. Три из двенадцати беглянок сразу отправились к родственникам, а оставшиеся девять четыре дня спустя приехали к Лютеру в Виттенберг. Поскольку у женщин в 1520-х годах практически не было возможностей самим себя обеспечивать, каждой нужно было найти какие-то средства к существованию, и самым простым выходом было выдать их замуж. Вот тут их история пересеклась с историей самого Лютера – и самым неожиданным и драматическим из возможных способов.
Первая кровь Реформации
За те семнадцать лет, что Иоганн фон Штаупиц занимал должность генерального викария августинского ордена, множество монахов-августинцев приезжали в Виттенберг, поскольку здесь располагался его университет. Если бы не Штаупиц, как мы помним, не оказался бы здесь и сам Лютер. Время викариата Штаупица (1503–1520) совпало с пребыванием здесь Лютера, и в результате многие августинцы, приезжавшие в Виттенберг, познакомились с Лютером и его богословием. Один монастырь, с которым у Штаупица были особенно тесные связи, находился в Антверпене, в Нидерландах. Тамошние монахи очень рано приняли учение Лютера – и в результате, вернувшись на родину, подверглись жестоким преследованиям. Связано это было с тем, что в то время Нидерланды находились под регентством королевы Маргариты Австрийской, тетки императора Карла. После того как в 1521 году ее племянник выпустил Вормсский эдикт, она – с помощью Джироламо Алеандро – начала яростно искоренять еретическое учение Лютера на своих землях. Так и вышло, что первые трое мучеников Реформации были преданы огню в ее владениях.
Уже в 1519 году августинцы в Антверпене проповедовали против индульгенций – и этим и другими добрыми делами начали привлекать внимание как друзей (в том числе Дюрера и Эразма), так и врагов. Эразм написал Лютеру дружеское письмо, в котором говорил: «В Антверпене есть аббат [августинской] обители – подлинный христианин, нет в нем никакого лукавства, – который пылает к вам любовью; он бывший ваш студент и хвалится этим. Можно сказать, он здесь единственный, кто проповедует Христа. Почти все остальные болтают сами не зная что и думают лишь о своей выгоде»[351]. Эразм имел в виду Якоба Пропста, который учился в Виттенберге в 1505–1509 годах, а в 1520 году вернулся туда, чтобы получить степень по богословию. В то время в Антверпене жил Альбрехт Дюрер: он так заинтересовался Пропстом, что написал его портрет и подарил ему перед отъездом. Однако едва Пропст вернулся из Виттенберга, как в Брюсселе его схватили и бросили в тюрьму. Не выдержав тяжелых условий заключения и допросов, он в конце концов публично отрекся – и был отослан в августинский монастырь в Ипре. Однако, едва оказавшись там, Пропст во всеуслышание отрекся от своего отречения и продолжил проповедовать лютеранские идеи, за что был арестован вторично. Как ни удивительно, ему удалось бежать – и скоро он снова появился в Виттенберге.
Следующим аббатом в Антверпене стал Генрих фон Цютфен: он также два года учился в Виттенберге и жил в это время в том же августинском монастыре, что и Лютер. Цютфен начал прямо с того же, чем закончил Пропст, – смело принялся учить антверпенских августинцев лютеровому богословию. Однако 29 сентября 1522 года, в день святого Михаила, Цютфена обманом, под ложным предлогом выманили из монастыря и арестовали, а антверпенской обители учинили форменный разгром. Вот как описывал это Лютер в письме к Венцесласу Линку:
Братию изгнали из монастыря; некоторых схватили и держали в разных местах; нескольких после того, как они отреклись от Христа, отпустили из-под стражи, другие же стоят твердо и по сей день… Все монастырское имущество продано. Церковь и монастырь закрыты и запечатаны, говорят даже, что их снесут с лица земли. Тело Христово с великой торжественностью, словно спасенное из рук еретиков, перенесли в церковь Пресвятой Девы, где его с великим почтением приняла госпожа Маргарита [Австрийская]. Позорили и наказывали также некоторых горожан, мужчин и женщин (3).
Цютфена должны были отправить в Брюссель, но в тот же вечер возбужденная толпа, услышав об его аресте, разгромила тюрьму и освободила его. Он бежал в Бремен, желая оттуда добраться до Виттенберга. Однако, когда его уговорили произнести в Бремене проповедь, он настолько поразил умы и сердца слушателей, что они не захотели его отпускать. Бременцы убедили Цютфена остаться и регулярно проповедовать в часовне святого Ансгара; так он и поступил – и на проповеди его неизменно собиралась толпа. Велико было и число его противников: его называли еретиком и строили против него всяческие козни – однако Генрих продолжал проповедовать, привлекая к себе людские сердца отвагой и добротой.
После ареста и побега Цютфена все монахи Антверпенского монастыря были арестованы, вывезены за пятьдесят миль к югу, в Брюссель, и заточены в тюрьме Вилворде. Известно, что всех их содержали в очень суровых условиях и допрашивали с пристрастием. Когда стало ясно, что, не отрекшись, они будут сожжены, большая часть монахов отреклась и получила свободу. Но трое отказались отречься. Имена их были: Иоганн Эш, Генрих Вос и Ламберт Торн. Всех их снова допросила инквизиция – и снова они отказались покаяться. Наконец они были переданы светскому суду, и тот приговорил их к смертной казни через сожжение 1 июля. В последний раз спросили их, не желают ли они отречься. Эш и Фос сразу отказались, но Торн попросил дать ему еще четыре дня, чтобы проконсультироваться с Писанием. Его не казнили, но и не выпустили – и пять лет спустя он умер в темнице. Что же до Эша и Воса – в назначенный день их привели на брюссельскую рыночную площадь и сожгли на костре.
Эта ужасная весть дошла до Лютера, когда он был вместе с Иоганном Кесслером, одним из тех студентов, с которыми познакомился в гостинице «Черный медведь». Кесслер рассказывал, что Лютер «молча заплакал», а потом сказал: «Я думал, что стану первым из мучеников за святое благовестие, – но, видно, я этого недостоин». А затем – с типичным для него, по словам многих, быстрым переходом от горя к радости – начал благодарить Христа, который наконец «начал создавать плоды нашего или, вернее, Его слова – новых мучеников»[352]. Почти мгновенно Лютер перешел от частного к общему, увидел, так сказать, ситуацию с точки зрения Бога – и понял, что, несмотря на весь ужас и горе от такого известия на человеческом уровне, за это стоит славить и благодарить Господа.
Печальная весть о казни мужественных молодых людей, отдавших жизнь за веру, подвигла Лютера сделать нечто такое, чего он никогда прежде не делал, – а в будущем сделает еще не раз, – и что станет одним из важнейших его вкладов в христианское богослужение, не потерявшим свою актуальность и полтысячелетия спустя. Лютер написал гимн.
В гимне из десяти или двенадцати строф рассказана история этого мученичества. Вот первая строфа:
[Воспоем новую песнь Господу О том, что совершила Его истина; Воздадим великую славу и хвалу Одержанной Им победе. В Брюсселе, в Нидерландах, Он показал Свою мощь; На двоих юношах, любивших заповеди Господни, Явилась сила истины; Великая вера в Господа небес Была дана этим двум христианским юношам][353].Лютер ясно чувствовал историческое и духовное значение того, что совершилось в Брюсселе. Дело, для которого избрал его Господь, ныне увенчалось величайшей честью и славой. Бог подтвердил истинность этого дела, позволив двоим невинным умереть так же, как умер Христос; зло, сотворенное людьми и дьяволом, Бог обратил в добро. Теперь весть о мужестве мучеников распространится повсюду, о них запоют в церквях, и пример их будет наставлять и ободрять других верующих. Такие моменты в жизни возрожденного народа Божьего заслуживают величайшей славы и хвалы – и Лютер постарался достойно восхвалить мучеников, рассказав их историю в гимне. Их мученичество, в глазах Лютера, вывело все движение, начатое Богом, на новую ступень. Эта мысль ясно выражена в последних словах гимна:
[Лето уже у дверей, Окончились зимние морозы; Повсюду цветущая зелень, Настали теплые, ясные дни: Сам Бог начал это дело — И доведет его до конца][354].Смерть этих двоих молодых людей и жестокое обращение с другими монахами из августинской обители в Антверпене снова напоминает нам: Лютер знал, что может принести за свои убеждения самую страшную жертву, – и был к этому готов.
Сначала вместе с Эшем и Восом казненным называли и Торна; потом пришло более точное известие, что он еще в тюрьме. В январе 1524 года Лютер писал ему:
Благодати и мира во Господе. Христос послал мне столь обильные свидетельства о вас, дорогой брат Ламберт, что в моих словах вы не нуждаетесь, ибо Он Сам страдает и прославляется в вас. Он вместе с вами пленен и с вами царствует, Он в вас угнетен и в вас побеждает, ибо Он даровал вам святое познание Себя, сокрытое от мира сего. И не только это: Он укрепляет вас изнутри Духом Своим во внешних испытаниях и утешает двойным примером Генриха и Иоганна. И они, и вы – мне величайшее утешение и сила, миру сладкое благоухание, Благовестию Христову – особая слава. Так что едва ли вы нуждаетесь в моих утешениях. Кто знает, почему Господь не захотел вашей смерти вместе с теми двумя? Быть может, Он сохранит вас для иного чуда.
…Итак, брат мой, молитесь обо мне, как я о вас молюсь, помня, что страдаете вы не один: с вами Тот, Кто сказал: «Я с ним в испытаниях; он надеялся на Меня, и Я освобожу его; буду защищать его, ибо он знает Мое имя». С вами мы, с вами и Господь, и ни Он, ни мы вас не оставим. Будьте мужественны, укрепите сердце свое и ждите Господа[355].
Знать, что другие находятся в тюрьме в ужасных условиях, терпят жестокое обращение, пытки и угрозы смертью, понимать, что рано или поздно некоторые пожертвуют жизнью за веру, – все это, без сомнения, было для Лютера куда тяжелее, чем если бы он претерпевал все это сам. Однако несомненно и то, что все это лишь приближало его к Богу и заставляло с еще большей страстью проповедовать истину, доверенную ему Богом. Так воплотилось в жизнь знаменитое изречение Тертуллиана: «Кровь мучеников есть семя Церкви».
История преследования антверпенской братии продолжилась в истории друга Лютера Генриха фон Цютфена, который осел в Бремене и регулярно проповедовал там, несмотря на серьезное противостояние. Лютер всегда с радостью узнавал, что слово Божие звучит и вдали от Виттенберга: осенью 1524 года он написал Цютфену, желая поддерживать с ним связь. Отважная проповедь Цютфена в Бремене очень ободряла его и вдохновляла. Однако вскоре после того, как Цютфен получил письмо Лютера, его пригласили произнести проповедь в деревне Мельдорф в отдаленном Дитмаршене. Братья в Бремене не хотели его отпускать, чувствуя, что работа его с ними еще не завершена, однако Генрих отвечал: если его зовут на проповедь – тем более в такое место, где таких проповедей никогда еще не слышали – это зов Божий, и противиться нельзя. Бедные души в Мельдорфе заслуживают услышать слово Божие. Он обещал бременцам, что, утвердив Слово в Мельдорфе, немедленно вернется. Итак, Цютфен отправился в отдаленный Мельдорф, за сто миль к северу от Бремена, произнес там проповедь 4 декабря и еще две проповеди двумя днями позже. Но местные доминиканцы, обнаружив, что и в их отдаленный край проникла Реформация, пришли в такую ярость, что сговорились схватить его и убить без суда.
То, что произошло с другом Лютера далее, было ужасно: подробности известны нам, поскольку Лютер сам описал в их в душераздирающем сочинении «Сожжение брата Генриха». Рассказ Лютера о том, как свирепая толпа, разгоряченная вином, подстрекаемая неразлучными «близнецами» – Церковью и государством, схватила, жестоко мучала, а затем убила Генриха фон Цютфена, имел ту же цель, что и гимн, рассказывающий историю сожжения Эша и Воса. Лютер верил, что такая публикация укрепит дух верующих, научит не сдаваться – а также навлечет справедливый позор и бесчестье на тех, кто совершил это злодеяние. «В наши дни, – писал он, – вновь явился образец истинно христианской жизни: ужасный в глазах мира, ибо он означает гонения и страдания, но драгоценный, даже бесценный в глазах Бога»[356].
Монахини из Нимбшена
История женитьбы Лютера началась с того, как он спланировал и организовал дерзкий побег двенадцати монахинь из монастыря в Нимбшене. Лютер не только предоставил им убежище в Виттенберге, но и помог бежать. В этом он видел свой нравственный долг. Поступок был смелый – ведь бегство из монастыря или помощь в таком бегстве в герцогской Саксонии карались смертью. Жениться Лютер не собирался – ни в то время, ни позже. Он был убежден (и не без оснований), что умрет смертью мученика, так что радости семейной жизни в его планы не входили, – хоть он и очень активно сватал других.
Однако, чтобы рассказать о побеге из Нимбшена, вернемся немного назад и для начала спросим, откуда монахини, безвыходно запертые в монастыре, узнали о революционном движении за его стенами. Ответ на этот вопрос покажет нам, что, несмотря на все попытки подавить распространение Реформации, учение и писания Лютера разлетались вольными птицами по всей стране.
Одним из мест, где эти птицы свили себе гнездо, стал августинский монастырь в городе Гримма. Аббат этого монастыря, саксонский дворянин по имени Вольфганг фон Цешау, рано познакомился с виттенбергскими идеями и проникся к ним большой симпатией. Уже в 1522 году он сложил с себя обязанности настоятеля и ушел из монастыря, уведя с собой множество сочувствующих новым идеям монахов. Из Гриммы не уехал, но нашел себе в городе новое место – стал капелланом при иоаннитской больнице Святого Креста. По всей видимости, мысль о возможности сложить с себя обеты и вернуться к светской жизни перелетела стены нимбшенского женского монастыря с его помощью: известно, что две из двенадцати монахинь, бежавших во тьме ночной в Страстную Субботу, сестры Вероника и Маргарита фон Цешау, приходились ему родственницами, скорее всего, племянницами. По всей видимости, как их родственник и настоятель соседнего монастыря, он имел доступ в женскую обитель.
Итак, семена восстания были посеяны, возросли и принесли плод – несколько монахинь захотели уйти и прежде всего, как и любой в подобных обстоятельствах, написали об этом своим родным. Однако семьи им помогать отказались. Выйти из женского монастыря – в то время это было примерно то же, что сейчас бежать из федеральной тюрьмы: неправильно, незаконно, влечет за собой суровое наказание. Тогда монахини обратились к Лютеру. Как-то сумели с ним списаться, – хоть мы и не знаем, кто послужил курьером. Узнав о тяжелом положении сестер, Лютер ощутил нравственную обязанность их освободить. Но как?
В 1519-м, а затем в 1522 году Лютер не раз бывал в Торгау – и, должно быть, в это время познакомился там с одним из видных жителей города, неким Леонгардом Коппе. Коппе, пожилой человек из уважаемой местной семьи, получил образование в Лейпциге и Эрфурте, затем служил в городском совете Торгау, а в последнее время занимал должность сборщика налогов для курфюрста. Размышляя о том, как организовать побег нимбшенской дюжине, Лютер понимал, как важно соблюсти все приличия. Ничто в этой истории не должно вызывать подозрений в каких-либо неподобающих намерениях монахинь или вольном с ними обращении. А кто вызовет меньше подозрений, чем герр Коппе, почтенный горожанин пятидесяти девяти лет от роду? К предприятию Коппе привлек также своего племянника и еще одного уважаемого бюргера из Торгау по имени Вольф Доммицш.
Подробности «спасательной операции» нам неизвестны. Например, мы не знаем, как именно монахиням сообщили, что они должны быть готовы к побегу поздно вечером в Страстную Субботу, когда все тихо и Христос еще в гробу, или – где должны встретиться с Коппе и его людьми. Версий множество, и все носят явно легендарный характер. В одной истории, например, рассказывается, что монахиням пришлось сделать подкоп под монастырскую стену.
Все, что мы можем сказать точно, – что бесчисленное множество раз пересказанная история о вонючих рыбных бочках, в которых спаслись монахини, апокрифична. Эта красочная выдумка восходит к некоему мемуаристу, жившему около 1600 года, вспоминавшему, что Коппе провернул все «с удивительной хитростью и ловкостью, как будто в рыбных бочках вывез»[357]. Однако никакие реальные бочки в этой поездке точно не участвовали, – так что перед нами лишь еще одна из легенд, прилипших к Лютеру цепко, словно репей. Пора уже от них отказаться. Нам известно только, что для побега использовалась большая крытая телега. Скорее всего, она даже не въезжала в монастырь. Возможно, телега ждала монахинь в близлежащем лесу, где они скрылись, незаметно ускользнув из монастыря.
Отуда телега отправилась в Торгау: всего тридцать миль – но, когда трясешься на телеге по немощеным сельским дорогам, путь неблизкий. Часть Пасхального Воскресенья и весь Светлый понедельник монахини провели в Торгау, несомненно отдыхая и приходя в себя после побега. Скорее всего, в один или оба из этих дней побывали на службе в местной церкви. Расстояние от Торгау до Виттенберга было примерно такое же, как от Нимбшена до Торгау. Мы не совсем уверены, доехали ли они за один день или где-то останавливались по пути – но точно знаем, что в среду, 8 апреля, телега с монахинями наконец въехала в ворота Виттенберга.
Так это смелое предприятие увенчалось успехом. Лютер так ясно чувствовал, что выполнил волю Божью, что решил немедленно поведать эту новость миру. С обычной для себя быстротой, на следующий же день он написал об этом отчет в форме открытого письма к Коппе, храброму человеку, рискнувшему ради этого благородного дела и добрым именем, и жизнью. Свое послание Лютер озаглавил так: «Почему монахини могут, не теряя благочестия, покидать монастыри: основание и ответ». Он хотел, чтобы весь мир узнал, как удалось не только помочь монахиням бежать, но и защитить доброе имя этих молодых женщин от сплетников и клеветников, разумеется, готовых слететься на такую историю, как стервятники на мертвое тело. Кроме того, Лютер хотел, чтобы этот случай стал ободрением и примером другим, – и, без сомнения, так оно и вышло. О центральной роли Лютера во всем предприятии часто забывают. Он не просто принял девятерых беглых монахинь (и одну из них – «пока смерть не разлучит их»); он спланировал во всех деталях этот опасный побег, зная, что, если он удастся, – это будет славная победа над силами тьмы, жестокий удар дьяволу и разным его приспешникам вроде герцога Георга, который, узнав о том, что произошло, должно быть, рвал и метал от ярости.
Проблему монахов и особенно монахинь, запертых в монастырях, Лютер принимал очень близко к сердцу. Он знал: многие монахини попали в монастыри еще детьми – и никто никогда не спрашивал их, хотят ли они там оставаться. Многие никогда не приняли бы монашеских обетов по доброй воле и в монастыре глубоко несчастны; так что мысль о том, что им нельзя оттуда выйти, поражала Лютера несправедливостью и жестокостью. Лютер далеко опередил свое время, в том числе и в том, что серьезно и с уважением относился к женской сексуальности: он верил и исповедовал, что женщины призваны к семейной жизни и к сексуальным отношениям с мужьями. Принуждение женщин к безбрачию – грех против Бога, сотворившего мужчин, женщин и их взаимное влечение друг к другу, создающее семью. Кому-то в этом отказывать – само по себе грех.
Во многом в результате нимбшенского побега и широкого «пиара», который обеспечил этому событию Лютер, в последующие годы покинули монастыри еще немало монахинь. Одна из них, Урсула фон Мюнстерберг, была кузиной самого герцога Георга. Она сумела привлечь в свой монастырь во Фрайбурге капеллана, открытого для идей Лютера, и даже достать и распространить в монастыре некоторые лютеровы сочинения. В 1528 году ей пришлось бежать из монастыря; она приехала в Виттенберг и поселилась вместе с семьей Лютеров в местной августинской обители.
В 1524 году, через год после нимбшенской истории, женщина по имени Флорентина фон Обервеймар бежала из-за стен монастыря в Айслебене и приехала в Виттенберг. Она написала рассказ о своей истории – поведала том, как ее привезли в монастырь в шесть лет и насильно заставили принять святые обеты, как она пыталась уйти, но встречала лишь жестокое сопротивление. В отчаянии она написала Лютеру, попросила о помощи – и была за это жестоко наказана аббатисой, вплоть до порки. Стоит добавить, что аббатиса приходилась ей родной теткой. После ее побега Лютер написал письма пяти графам Мансфельдским, объясняя им, что никто не может и не должен быть принуждаем служить Богу против воли. История Флорентины вышла в свет под заглавием: «История о том, как Бог выручил из беды достойную монахиню, вместе с письмом Мартина Лютера к графам Мансфельдским»; Лютер сам написал к ней предисловие.
Теперь, когда девять нимбшенских монахинь прибыли в Виттенберг и оказались в безопасности, предстояло решить, как и на что им жить дальше. Старшая из них была сестрой наставника Лютера, Иоганна фон Штаупица. Стоит вспомнить, что у монахинь не было ни гроша, – да и у самого Лютера тоже. Девушкам, например, не на что было купить новую одежду – и пришлось еще долго ходить в монашеских одеяниях. На любые расходы Лютер должен был просить денег у знати. В ту же пятницу он написал Спалатину, прося о помощи. На следующий день написал Спалатину и Амсдорф. «Мне жаль этих девушек, – говорил он, – им не во что одеться и обуться». Он просил Спалатина обратиться за пожертвованиями, денежными или вещевыми, к своим богатым друзьям. Не удержался он в этом письме и от того, чтобы поддразнить друга:
Они хороши собой, держатся с достоинством, все благородного происхождения. Нет ни одной пятидесятилетней. Старшую из них, сестру моего доброго господина и дядюшки доктора Штаупица, я присмотрел для тебя, дорогой брат… А если хочешь помоложе – выбирай, все они красавицы![358]
Дальше каждой монахине предстояло найти свой собственный путь в мире. Сестра Иоганна фон Штаупица какое-то время жила с другим своим братом, Гюнтером, несколько лет спустя открыла в Гримме школу для девочек, а в конце концов вышла замуж за кого-то из жителей Гриммы. Еще одну из девяти беглянок, Лонату фон Гохлис, забрала к себе сестра; в конце концов она тоже вышла замуж. Две сестры, Ава и Маргарита фон Шонфельд, жили с Кранахами в их роскошном доме, пока также не вышли замуж. Похоже, Лютер поначалу выделял Аву среди прочих и говорил, что, если бы вообще был расположен жениться, женился бы на ней; однако она быстро отдала свое сердце одному из сотрудников Кранаха, молодому доктору медицины по имени Базилиус Акст, который заведовал принадлежащей Кранаху аптечной лавкой. Сестра Авы Маргарита чуть позже вышла замуж за дворянина из Брауншвейга.
Катарина фон Бора, больше известная как Кати, также была благородного происхождения, однако Лютер ее как вариант для себя не рассматривал, говоря, что он не заинтересован в браке, а кроме того, она «слишком горда». Вначале она жила с семьей Филиппа Рейхенбаха, видного юриста, в следующем году ставшего начальником городской канцелярии Виттенберга. Много времени Кати проводила и у Кранахов, у которых жила первое время после своего бегства, и в конце концов переехала к ним. Дом Кранахов в те годы так славился своей просторностью и богатством обстановки, что у него, например, гостил изгнанный король Швеции Христиан II, зять императора. Король познакомился с Кати и в знак приязни подарил ей золотое кольцо: в те дни короли раздаривали кольца с той же легкостью, как сейчас раздают значки.
Немало времени проводила Кати фон Бора и у Меланхтона – и, скорее всего, именно там познакомилась с молодым дворянином по имени Иероним Баумгартнер, который ранее учился в Виттенберге у Меланхтона и вскоре после появления Кати вернулся его навестить. Молодые люди сразу полюбили друг друга. Виттенбергские друзья Баумгартнера тоже хорошо приняли Кати – настолько, что прозвали ее, по-видимому, за благочестие «Екатериной Сиенской». В Виттенберге Баумгартнер оставался два месяца – и все ждали, что в конце этого срока он сделает Кати предложение. Однако ему пришлось неожиданно уехать. Все ждали, что он скоро вернется, – но отлучка его затянулась и начала вызывать толки. Чего он ждет? – спрашивали друзья. Может быть, какой-то внезапный случай или неожиданное препятствие мешают ему жениться на Кати? Лето сменилось осенью, а от него все не было вестей. Прошла зима, весна и снова лето. Лютер, высоко ценивший Баумгартнера, писал ему в октябре 1524 года: «Если хочешь сохранить для себя Кати фон Бора, поспеши сюда, прежде чем ее не просватали за другого, что произойдет неизбежно. Она все еще тебя любит. Я был бы очень рад вашему союзу. Будь здоров!» Под «другим» Лютер здесь имел в виду доктора Каспара Глатца, немолодого господина, в этот период активно ухаживавшего за Кати. Возможно, ухаживанию его содействовал и сам Лютер – он всегда страстно стремился поскорее выдать замуж монахинь, с его помощью вырвавшихся на свободу. Глатц был доктором богословия и носил латинское гуманистическое имя Глациус. В 1524 году он стал ректором Виттенбергского университета – и проявлял большой интерес к умной, образованной и жизнерадостной девушке; но Кати все ждала своего потерянного Баумгартнера и надеялась на его возвращение. А прожить остаток жизни с Глатцем, которого коллеги между собой называли «старым скрягой», ей вовсе не хотелось.
В сентябре 1524 года Лютер отправил Глатца в Орламюнде, где возникли проблемы с его старым соперником Карлштадтом. Воспользовавшись его отсутствием, Кати пришла к Амсдорфу, чтобы откровенно объясниться на этот счет. Она сказала, что решительно не хочет замуж за Глатца, однако вовсе не питает отвращения к браку как таковому; и дальше прямо и смело заявила, что вполне готова выйти замуж либо за самого Амсдорфа, либо, быть может, за доктора Мартина. Так гордая и волевая девушка сама решила и свою судьбу, и судьбу своего избранника.
Амсдорф к браку был склонен еще менее Лютера; до конца жизни он остался убежденным холостяком. Оставался вопрос: готов ли достопочтенный доктор Лютер сам прыгнуть очертя голову туда, куда столь рьяно подталкивал других?
Однако в это время проблемы осаждали Лютера со всех сторон, едва ли позволяя ему сосредоточиться на делах личного свойства. В первую очередь беспокоили его Томас Мюнцер и закипающий бунт немецких крестьян. Бунт вскоре разразился – и погрузил страну в кровавый кошмар, от которого, казалось, померкло и солнце на небесах; и понятно, что среди этих ужасов Лютеру было не до любви и брака.
Глава шестнадцатая Фанатизм и насилие
ТЫ ДЫШИШЬ ЛИШЬ КРОВЬЮ И УБИЙСТВОМ.
Из письма Агриколы к Томасу МюнцеруЕсть ли у него мужество – у этого доктора На-Мягких-Лапках, нового папы Виттенбергского, доктора Мягкое Креслице, княжеского лизоблюда?
Мюнцер о ЛютереПроблемы с теми, кто остался на стороне папы, скоро сменились для Лютера иными, куда более серьезными проблемами: с Карлштадтом, а затем с Томасом Мюнцером и его сторонниками. Главным вопросом для Лютера всегда оставался один: как найти между этими крайностями путь Божий?
Мы, однако, выбираем срединный путь: не требуем, но и не запрещаем, не уклоняемся ни вправо, ни влево. Мы – не паписты и не карлштадтианцы, мы – свободные христиане, и потому возносим или не возносим Святые Дары по своему усмотрению, так, как, где, когда и насколько это нас устраивает, пользуясь дарованной нам Богом свободой. Точно так же свободны мы вступать в брак или воздерживаться от брака, есть или не есть мясо, носить или не носить фелонь, сутану или тонзуру. В этих отношениях мы – сами себе господа и не нуждаемся ни в приказаниях, ни в поучениях, ни в запретах[359].
Карлштадт доставил Лютеру немало хлопот; однако это были, можно сказать, сущие пустяки в сравнении с тем, что устраивал Томас Мюнцер. Например, в июле того же года Мюнцер произнес проповедь перед герцогом Иоганном – точнее, угрозу, замаскированную под проповедь. Либо князья присоединятся к реформам, сказал он, либо Бог сметет их с лица земли. Выражений Мюнцер не выбирал:
Что за зрелище развернулось перед нами: клубок угрей и змей, непристойно совокупляющихся друг с другом в единой куче! Священники и все дурные служители Церкви – это змеи… а светские господа и правители – угри… Досточтимые правители Саксонские… обратитесь без промедления к поискам праведности Божьей и смело вступитесь за дело Благовестия[360].
Иными словами, карайте и казните мечом тех, кто со мной не согласен, – или меч покарает вас самих.
Мюнцер представляет собой один из нередких в истории случаев, когда безумец, дорвавшийся до власти, вовлекает в свое безумие всех вокруг и развязывает кровавую бойню. Как все утописты, Мюнцер не дружил с реальностью – и считал, что тем хуже для реальности; по его убеждению, от реального мира следовало бежать, и чем быстрее и дальше, тем лучше. В любом реформистском движении, религиозном или политическом, возникает опасность сектантства и насилия; и во времена Лютера эта опасность самым ярким образом воплотилась в фигуре Мюнцера.
На протяжении истории, и особенно в наше время, многие отвергают религию именно из-за фарисейской склонности к осуждению, жесткого законничества и, в конечном счете, жестокости и насилия, проявляемого различными религиозными группировками. Однако сейчас, как и во времена Лютера, эти пороки проявляются на обоих концах богословского спектра. В дни Лютера на одном конце стояло ультратрадиционалистское средневековое папство, готовое применять насилие, чтобы защитить свою власть, на другом – радикальные «леваки» вроде Томаса Мюнцера и его учеников, чья нетерпимость также вела к насилию, хоть и иным путем. Лютер верно понимал, что свобода и истина неотделимы от любви. Они составляют единство, черпают силу друг в друге: туда, где они разделены, является дьявол – и начинается кровавая баня.
С одной стороны, Лютер видел, что папа и Церковь объединились с императором, чтобы задушить истинную свободу, подавить честное исследование истины, заставить замолчать всех, кто не хочет им повиноваться. Более всего на свете они стремились сохранить статус-кво – и всякий, кто упорствовал в несогласии с ними, рисковал подвергнуться жестоким гонениям и даже умереть на костре. Против этого Лютер вел свой крестовый поход с того дня, как вывесил на дверях Замковой церкви свои тезисы; это слияние Церкви и государства до полной неразличимости, превращение их в единую кошмарную машину, терзающую и давящую несогласных, он считал делом антихриста.
Но, с другой стороны, почти сразу вместе с Реформацией возникла и другая крайность – та же проблема в другом облике, заблуждение, очень схожее с папским. Свобода вышла из берегов и перехлестнулась за свои пределы – туда, где она превращается во вседозволенность, а затем и в тиранию. Папская Церковь обрела такую власть, ибо слилась с властью светской до такой степени, что их уже нельзя было различить, как бы в единый железный кулак, – с той лишь деталью, что одна сторона этого кулака блестела религиозной позолотой. Такая судьба постигла Церковь, не желавшую отделять себя от государства. Но в Мюнцере проявилась противоположная крайность – утопистское желание упразднить государство вообще, узурпировать политическую власть и полностью присвоить ее церковной общине. В обоих случаях становились неизбежны тирания и кровопролитие.
Однако, чтобы рассказать о том, каким образом события с участием Мюнцера вышли из-под контроля, для начала вернемся немного назад – к Карлштадту в Орламюнде. В этой деревушке Карлштадт зализывал раны и наслаждался свободой, которой лишили его Лютер и Фридрих в Виттенберге. Вполне понятно, что он затаил обиду на Лютера, выступившего в роли своего рода Моисея: спустившись со своего вартбургского Синая, обросший бородою вождь принялся судить и рядить о том, что происходило в Виттенберге без него, – и, сурово осудив Карлштадта, отправил в изгнание за то, что сам Карлштадт, без сомнения, считал благим и Божьим делом. В какой-то степени Карлштадт сделался без вины виноватым, жертвой дурной компании. Он впустил в лютерову овчарню безумных пророков из Цвиккау – а они, прежде чем появиться в Виттенберге, привлекли в свои ряды еще более опасного безумца, Томаса Мюнцера; так что тень их общего горячечного утопизма неминуемо пала и на Карлштадта. Кроме того, он допустил возникновение в Виттенберге той атмосферы, что привела к уничтожению образов и сожжению алтарей. От эксцессов Мюнцера или пророков из Цвиккау Карлштадт был далек; и все же он проповедовал против изображений и прочего с таким жаром, что вполне справедливо мог получить обвинение в законничестве. Даже в Орламюнде Карлштадт продолжал возбуждать подозрения Лютера. О нем говорили, что он отказался от всяких связей с ученым миром. Он больше не позволял называть себя «доктор Карлштадт», предпочитая эгалитарные (и несколько неестественные) имена «брат Андреас» или «дорогой ближний». Изменился и его костюм – теперь он одевался как неотесанный сын немецкой земли. Прежние свои одеяния, дорогие и изящные, сменил он на бесформенную серую мужицкую дерюгу и войлочную шляпу.
Все это лишь подтверждало сложившееся мнение Лютера о Карлштадте как о человеке, не знающем меры. Вместе с Мюнцером и пророками из Цвиккау, также проповедовавшими некое насильственное уравнение, он был выразителем скорее социального брожения и гнева простонародья на знать, чем Христова Евангелия. Такие тенденции Карлштадт проявлял еще в Виттенберге: так, однажды (в то время ему уже запретили проповедовать), наблюдая за присвоением кому-то звания доктора, он вдруг громко объявил, что все подобные церемонии нечестивы, поскольку Иисус запретил своим ученикам кого-либо называть «магистром»[361]. Нам неизвестно, возвел ли Лютер глаза к потолку – но точно известно, что в этот момент его охватило сильное искушение выйти вон. Такое буквалистское, законническое толкование Писания Лютеру казалось отвратительным фанатизмом – и не стоит удивляться, что Карлштадта он зачислил в ту же категорию Schwärmer, что и пророков из Цвиккау, и Мюнцера.
В Орламюнде Карлштадт дал волю и своим дуалистическим теориям о порочности изображений. Он верил, что материальный мир, мир «тварный», к которому относятся и образа, и статуи, нужно превзойти. Скоро начал он искажать и само Писание, заявляя: Христос, мол, говорил, что душа человеческая, его невеста, должна предстать перед женихом «нагой». Следовательно, все, что он относил к «тварным одеждам», оказалось под запретом. Во всем этом чувствовалась смутная мысль о возвращении к почве, к природе: ведь «нагота», безусловно, ближе к природному состоянию, чем одетое тело. Но будь рядом Лютер – он заметил бы, что это попытка вернуться в Эдем, минуя крест, – как если бы мы могли просто вернуться к исходному состоянию, забыв о крови, пролитой за наши грехи. Думать так – и ересь, и попросту глупость.
Ветхозаветное законничество ощущалось и в рассуждениях Карлштадта о необходимости обрезания. Впрочем, дело было сложнее: буквалистское толкование Писания у Карлштадта и его единомышленников сочеталось с доверием к «гласу Божьему», к внутренним голосам и откровениям, не основанным на Писании и, следовательно, открытым для любых эксцессов и злоупотреблений. Лютер никогда особенно не полагался на мистический опыт, но допускал, что при некоторых обстоятельствах «глас Божий» может быть истинным и заслуживать уважения, – разумеется, если не противоречит Писанию. Однако здесь был явно не тот случай. Карлштадт и прочие Schwärmer использовали свои мистические прозрения лишь как предлог, чтобы выскользнуть из жестких рамок Писания, на их взгляд, ограничивающих их «свободу» и «естественность».
Томас Мюнцер
Все это возвращает нас к ужасной истории Томаса Мюнцера. Мюнцер учился в Виттенберге в 1517 году, когда Лютер еще блуждал в потемках немецкого мистицизма: возможно, на этой почве они и сошлись. Лютер вскоре оставил этот путь, но Мюнцер пошел по нему дальше – как мы скоро увидим, намного дальше. В это же время в Виттенберге он познакомился с Карлштадтом. Покинув Виттенберг, Мюнцер продолжал поддерживать Лютера, так что в 1520 году тот даже рекомендовал его на место священника в Цвиккау. Но там Мюнцер подпал под влияние местных «пророков», Шторха, Дрехзеля и Штюбнера, а также сблизился с так называемыми Tuchknappen – ткацкими подмастерьями радикальных взглядов. Именно из этого круга он, по-видимому, почерпнул идею революции трудящихся низов против знати и богачей.
Мистические идеи Мюнцера были полностью противоположны богословию Лютера. Мюнцер верил: чтобы услышать слово Божье, следует вначале очиститься от «плотских пристрастий и вожделений»[362]. Иными словами, нужно сделать именно то, что пытался сделать Лютер в своей монашеской молодости и потерпел неудачу, – непрестанной исповедью пробить себе путь на небеса. В наше время о схожем «очищении» говорят сайентологи. Во всех случаях перед нами программа суровой духовной работы, как предполагается, позволяющая достичь результата. Однако с Божьей благодатью она не имеет ничего общего: речь идет лишь о собственных усилиях. Нужно, цепляясь ногтями и зубами, преодолевать различные духовные ступени, одну за другой – и так до самого престола Божьего. Об этом говорили Лютеру пророки из Цвиккау – и, по-видимому, в этом они с Мюнцером были едины. Однако к концу пребывания в Цвиккау идеи Мюнцера стали еще сумасброднее.
Проповеди Мюнцера в Цвиккау звучали все более «разжигательно» и опасно. Именно в это время Иоганн Агрикола написал ему суровое письмо, призывая опомниться и осознать, что он рискует зайти слишком далеко. Например, не раз Мюнцер с кафедры принимался обличать кого-либо, называя его по имени. В письме Агрикола ясно дал понять, что такую практику следует прекратить немедленно; в конце послания гнев его вылился во фразу, написанную заглавными буквами: «ТЫ ДЫШИШЬ ЛИШЬ КРОВЬЮ И УБИЙСТВОМ»[363]. Несомненно, так оно и было. Однако Мюнцер уже зашел слишком далеко – и не желал возвращаться назад. Он знал: мировой пожар близок и Бог избрал его, чтобы вести избранных в Новый Иерусалим.
Едва ли стоит удивляться, что бюргеры из Цвиккау решили указать безумному пророку на дверь. Вместе со Штюбнером Мюнцер бежал в Прагу и писал оттуда другу: «Ради Слова я готов обойти весь мир»[364]. Он не сомневался, что в Праге найдет себе «стартовую площадку» для полета в небеса; однако пражане остались глухи к его призывам. Впрочем, это не помешало ему написать здесь «Пражское воззвание». Это сочинение – критику церковников в сочетании с мистическим бредом – Мюнцер накатал на огромном, чуть ли не в ярд шириной, листе бумаги, надеясь прибить его где-нибудь, как Лютер прибил свои знаменитые тезисы, и тем воспламенить истинную революцию, такую, от которой вскружатся головы и бешеные толпы ринутся прямиком в светлое будущее.
Но сперва Мюнцеру нужно было найти другую работу. А с этим не складывалось: нигде он не задерживался надолго. В марте 1522 года он писал Меланхтону, критикуя учение Лютера за излишнюю мягкость и ошибочность в некоторых пунктах. Лютеровская «забота о слабых»[365] совсем ему не нравилась. С теми, кто не поспевает за шагом перемен, считал он, никакого компромисса быть не может. Глубоко возмущало его и то уважение и почтение, которое проявлял Лютер к Фридриху и другим князьям. На его взгляд, Лютер слишком уж сближался с властями. Между тем Бог дал Своему народу всю власть как на небе, так и на земле – и народ Божий возьмет ее, если понадобится, силой! Что же до Лютера – он считал Мюнцера просто умалишенным.
На протяжении 1522 года Мюнцер отчаянно искал себе постоянное место священника. Наконец, в апреле 1523 года, ему повезло: сами небеса послали синекуру в Альштедте, деревне к северу от Эрфурта. Здесь он скоро сколотил себе новую группу учеников и принялся, фигурально выражаясь, строить звездолет, который унесет их всех в дивный новый мир. Альштедт находился в Тюрингии, на территории герцога Иоганна, брата Фридриха, так что с самого появления Мюнцера за ним присматривал Спалатин, – однако выгонять его пока вроде бы причин не было. Мюнцер быстро женился на бывшей монахине Оттилии фон Герсен, а затем начал убеждать прихожан, что они и есть избранный народ Божий. А какой из этого самый естественный вывод? Разумеется, взяться за оружие и стереть с лица земли всех, кто не с ними, – и не мешкая. Проповеди Мюнцера, уверенные и красноречивые, привлекали все больше слушателей: на последней его «проповеди» присутствовало две тысячи человек.
Лютер видел в Мюнцере поистине дьявольскую угрозу. Начать с того, что он распространял свои причудливые учения на дружеской территории курфюрстской Саксонии. Попробуй он творить такое на землях герцога Георга – не ушел бы дальше ближайшего подземелья! Но Фридрих, в отличие от кузена, предоставлял своим подданным большую религиозную свободу и не особенно беспокоился о том, что происходит с их духовной жизнью, – хотя вот тут как раз обеспокоиться стоило. Лютер ясно понимал, что проповеди Мюнцера ведут к насилию. Так скоро и вышло: в Маллербахе сгорела часовня, посвященная Деве Марии, – и ясно было, что к этому привели яростные призывы Мюнцера. К этому времени он уже сколотил себе «тайный союз» из тридцати последователей. Целью его было «стоять за благую весть, не давать потачки монахам и монахиням, способствовать их изгнанию и уничтожению»[366].
Со временем Мюнцер перетянул на свою сторону бо́льшую часть города. «Союз» его вырос до пятисот человек: все они принесли ему торжественную присягу. Многие из них были не из Альштедта: встречались среди них и горняки из Мансфельда, и крестьяне из близлежащих деревень. Мюнцер даже разделил их на военные отряды и начал готовить к обороне – на случай, если князья попытаются вмешаться и ему помешать. Лютер понимал, что Мюнцер, как и Карлштадт, вступил на этот путь именно во время пребывания в Виттенберге – и был глубоко встревожен и опечален тем, что его собственные благие усилия привели к такому безумию. Еще больше беспокоило его то, что многие со стороны католиков, несомненно, припишут все происходящее ему. Любое насилие, вытекающее из его идей – пусть и искореженных до неузнаваемости, – припишут ему, и на него возложат вину за это. Помешать Лютеру или Карлштадту Лютер практически не мог; но мог хотя бы прояснить разницу между своей и их позициями, надеясь, что это кого-то остановит.
Так что в июле Лютер опубликовал «Письмо к князьям Саксонии о духе мятежа», обращенное к Фридриху и герцогу Иоганну. Он понимал, что рано или поздно власти неизбежно столкнутся с насилием, и желал предупредить их о растущей угрозе. Пока Лютер еще не призывал применять против Мюнцера силу. В дальнейшем он отступит от этого принципа – но пока что он верил в относительную свободу религии и идей и полагал, что добрые мысли – иначе говоря, истинное слово Божье – пробьют себе дорогу и одолеют любые подделки. Однако он понимал, что Мюнцер скоро перейдет из мира идей в мир действий, ступив на территорию, на которой имеет право – и более того, обязанность перед Богом – распоряжаться светская власть.
В том же месяце Мюнцер согласился произнести проповедь перед герцогом Иоганном и его сыном, молодым герцогом Иоганном Фридрихом. В Альштедте они были проездом и 13 июня вызвали Мюнцера к себе в замок. Целью его было привлечь их на свою сторону и убедить помочь в исполнении его безумных планов. Однако от того, что говорил в тот день Мюнцер, у любого волосы бы зашевелились на голове. Он призвал князей, к которым обращался, «смело ступить на краеугольный камень»[367] (имея в виду Христа) и направить данные им Богом мечи на защиту дела Божьего. О чем речь? Мюнцер не замедлил объясниться. Князья должны помочь ему совершить революцию «избранных» – тех, кому предстоит смести с лица земли обычных, неизбранных людей. А кто будет решать, кто избран, а кто нет? Судя по всему, сам Мюнцер – по крайней мере, на это он ясно намекнул, выбрав материалом для своей проповеди книгу Даниила. Он объявил князьям, что Даниил был пророком, толковавшим сны царя, а сам Мюнцер – Даниил наших дней, избранный Богом, чтобы толковать все, что потребуется. Так что для собственного блага и для блага всей вселенной саксонские князья должны назначить его своим «Даниилом». А дальше он смело поведет их к концу света, к всеобщей гибели и разрушению. Предложение соблазнительное: как от такого отказаться? Под конец – чтобы у слушателей не осталось никаких сомнений насчет его намерений – Мюнцер прокричал, что «безбожники не имеют права жить, если только избранные не даруют им жизнь»[368].
Откуда же взял Мюнцер такое истолкование воли Божьей? Он искажал Писание – а значит по определению оторвался от Бога. Так, ссылаясь на притчу о десяти минах, которую рассказывает Иисус в Лк. 19, он неверно понял контекст последней фразы: «Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною»[369]. В маниакальной картине мира Мюнцера эти слова произносит не персонаж придуманной Иисусом притчи, а сам Иисус. Следовательно, полагал Мюнцер, Библия разрешает и даже приказывает призывать к истреблению всех неизбранных. В заключение своей речи он перешел к угрозам саксонским князьям: если, мол, они не воспользуются случаем и не примут его предложение, Бог отнимет у них мечи.
Ясно дал понять Мюнцер, что Лютера тоже ждет безжалостная казнь. Он назвал Лютера «брат Жирный Боров» (а Меланхтона – «брат Сладкой Жизни»)[370] и высмеял за любовь к удовольствиям, за то, что тот будто бы живет лишь затем, «чтобы сладко есть и пить при дворе»[371]. Далее Мюнцер потребовал для своих идей «международного» разбирательства. Властям предержащим – то есть тем, кто сидел сейчас перед ним и слушал, – он пригрозил восстанием крестьянских орд. Либо знать поднимет свои мечи за Божье дело – как понимал его Мюнцер, – либо «народ Божий» возьмет дело в свои руки. Все должны либо принять его благовестие, либо признать себя язычниками и умереть.
Быть может, ни в чем ином не ощущается так явственно привкус ада, как в религиозном фанатизме. Воззрения Мюнцера напоминают то бред, то демоническую одержимость – тем более зловещую, что тот же бред охватывал множество людей в разных странах, в разные эпохи, с древних времен и до наших дней. Для всех фанатиков дьявол есть Бог, жизнь есть смерть, милосердие равно слабости, а жестокость – справедливости. Все они – какой-то адский апофеоз своего «я», где все «другие» должны быть порабощены или убиты.
Откровенно изложив свои взгляды князьям, Мюнцер ожидал их решения. Что же, поможете вы мне обрушить небо на землю и подняться в эмпиреи? Или согласитесь быть убитыми и отправиться в ад? Можно лишь догадываться, с какими лицами выслушали все это герцоги Иоганн и Иоганн Фридрих; и нам неведомо, пожали ли они Мюнцеру руку при прощании, сказали ли, что проповедь им очень понравилась. Известно лишь, что вскоре после этого Мюнцер напечатал эту «проповедь», присовокупив к ней рассуждение о снах.
Затем, 17 июля, Мюнцер написал Карлштадту в Орламюнде, приглашая его присоединиться к «союзу избранных» и прося заняться агитацией в пользу Мюнцера в пятнадцати соседних деревнях. К чести Карлштадта, он мгновенно сообразил, что Мюнцер планирует именно то, чего в это время все опасались, – мятеж вооруженного «народа» против знати, и в страхе порвал письмо. Впрочем, затем, сев на коня, он бросился к одному другу и показал ему сложенные обрывки письма – как доказательство того, что затевает Мюнцер. Сам Карлштадт никогда не приветствовал насилие: два дня спустя он отправил Мюнцеру ответ, в котором решительно отказывался в этом участвовать и советовал Мюнцеру отказаться от воинственных планов. Верно, у них было много общего; но возглавить орды крестьян, чтобы истреблять неверующих и насильственно приближать конец света… нет, на такое Карлштадт согласиться не мог.
Обдумав не слишком скромное предложение Мюнцера, герцоги Иоганн и Иоганн Фридрих решили, что против него пора принять меры. Мюнцера, а также множество его последователей из Альштедта, вызвали в Веймар на допрос. Некоторые из его сторонников, которых допрашивали отдельно, легко выдали планы Мюнцера устроить вооруженный мятеж. Строго говоря, это было ясно и из проповеди – однако в зале суда прозвучало совершенно иначе; и, видимо, тут до Мюнцера в первый раз дошло, что его планы власть встречает без энтузиазма. Так или иначе, он понял, что над головой его навис топор. Свидетели рассказывали, что из судебной палаты он выходил белым как мел. Поздно вечером 7 августа Мюнцер сделал то, что, как видно, привык делать в любой затруднительной ситуации – бежал, вполне буквально перебравшись через городскую стену Альштедта. Жену и ребенка он бросил. Побег его наделал много шума: члены «тайного союза», которых он вовлек в свое безумие, были разочарованы и унижены, все прочие – очень рады. Однако Лютер справедливо полагал, что о Мюнцере еще придется услышать. Так и вышло: Мюнцер осел в Мюльхаузене и снова начал собирать вокруг себя последователей. Там он нашел себе «соратника» – Генриха Пфайффера, тоже чистой воды смутьяна. Там же, в Мюльхаузене, Мюнцер написал самую желчную и злую филиппику против Лютера, озаглавленную: «Совершенно необходимая защита и ответ против братьев сладкой жизни из Виттенберга, что, присвоив Святое Писание, самым подлым образом марают бедный христианский мир».
Пламенная ненависть Мюнцера к Лютеру усиливалась от мысли, что Лютер «продался» князьям и встал на их сторону против страдающих крестьян:
Князья выжимают из народа все соки, считают своей и рыбу в реке, и птицу в небе, и траву в поле – а доктор Лжец говорит: «Аминь!» Есть ли у него мужество – у этого доктора На-Мягких-Лапках, нового папы Виттенбергского, доктора Мягкое Креслице, княжеского лизоблюда? Он говорит: нельзя восставать, ибо меч вручен правителю Богом, – но сила меча принадлежит всей общине. В добрые старые времена, когда правитель извращал справедливость, за правду вставал весь народ – а сейчас, поистине, правители извращают справедливость. Сбросим же их с престолов! Птицы уже собираются в небесах, чтобы клевать их трупы[372].
Если вспомнить о том, чьи трупы в конце концов склевали птицы, мы увидим, что Мюнцер оказался лжепророком. Но до этого было еще далеко; а пока гордый голос его наполнял слушателей таким пылом и жаждой действия, с какими «доктор На-Мягких-Лапках» состязаться не мог.
Снова гостиница «Черный медведь». Aetatis 40
В конце августа 1524 года Лютер отправился в Йену, чтобы произнести там проповедь. Эта поездка стала частью своего рода «проповеднического турне», в который отправили его саксонские князья, чтобы определить, где успел пустить корни «энтузиазм» Карлштадта и Мюнцера, и постараться его преодолеть, указав на их богословские ошибки. Карлштадта, разумеется, не радовало, что его смешивают с опасным маньяком Мюнцером: поэтому, когда Лютер произносил проповедь в церкви святого Михаила в Йене, неподалеку от Орламюнде, Карлштадт приехал туда, проскользнул в церковь и, не слишком убедительно «замаскировавшись» своей войлочной шляпой, присел на скамью послушать. Лютер метал громы и молнии против всего, что отделяло от него Карлштадта, Мюнцера и ему подобных. Он коснулся проблем «изображений», крещения младенцев и Вечери Господней. К этому времени от амбивалентной позиции по изображениям Лютер перешел к мнению, что в церкви они нужны. Он видел, что Schwärmer, как он их называл, тяготеют к законничеству, – которое Лютер считал прямо противоположным смыслу Евангелия; это законничество он связывал с ветхозаветным Законом и, следовательно, с фарисеями и иудеями вообще. Так запрет на изображения в синагогах для него встроился в общую картину, и борьба с законничеством слилась воедино с борьбой за изображения. Кроме того, он полагал, что все это логически приводит к убийственным плодам, которые уже продемонстрировал Мюнцер. Закончив проповедь, Лютер отправился к себе в гостиницу «Черный медведь» – ту самую, где останавливался два года назад, по возвращении из Вартбурга, и где инкогнито беседовал со студентами. Но Карлштадт счел, что с него хватит, и решил объясниться со старым другом. Он написал ему в гостиницу письмо и попросил о встрече.
Лютер согласился – и несколько часов спустя встретился с Карлштадтом в обеденном зале гостиницы. Вместе с Лютером путешествовало множество саксонских чиновников, а Карлштадт привел с собой зятя и двоих коллег. Начал он с яростных претензий к тому, что в своей проповеди Лютер причислил его к «духам убийства и мятежа» в лагере Мюнцера. «Тот, кто желает… засунуть меня в одну кучу с этими убийственными духами, – заявил он, – поступает не по правде, как бесчестный человек!»[373] Для тех времен публичное заявление крайне резкое. Однако Карлштадт еще не закончил. Дальше он начал изливать свою боль по поводу того, что ему запретили проповедовать в Виттенберге и не дали даже печатать свои книги: оба запрета он приписывал Лютеру – и, конечно, имел для этого некоторые основания.
Начался оживленный спор, и в ходе его выяснилось, что оба воспринимают события прошедших двух лет очень по-разному. К чести Лютера, он принял заверения Карлштадта в том, что тот всегда был против насилия, однако продолжал утверждать, что в позициях Карлштадта и Мюнцера есть некий общий «дух». Оба верят в мистическую возможность услышать глас Божий. Оба считают дурной идеей крещение младенцев. Оба не признают изображений в церкви. Оба, по-видимому, ярые противники власти, испытывают отвращение к знати и особую симпатию к крестьянам. Лютер не обвинял Карлштадта – но упорно старался разобраться в том, имеется ли у него с Мюнцером некий общий «альштедтский дух». Разумеется, никто не усомнился в этом лютеровом предположении о «духах» – по меньшей мере, неясном и явно не основанном на Писании. Что он хотел сказать: что Мюнцером руководит некая бесовская сила и каждый должен встать либо всецело против этого «духа», либо за? Но разве бесов не может быть много и разных? Настойчивые требования Лютера, чтобы с ним соглашались во всем, временами, по иронии судьбы, напоминали ту же твердолобость, что так удручала его и у папистов, и у Schwärmer.
В какой-то момент этого долгого разговора Карлштадт упрекнул Лютера в том, что тот о чем-то изменил свое мнение. На это Лютер с улыбкой ответил: «Дорогой мой доктор, если вы в этом уверены, то напишите об этом свободно и смело, чтобы это вышло на свет»[374]. Это был важный момент. Вскоре Лютер повторил это предложение – и в знак серьезности своих намерений вынул из кармана гульден и бросил его Карлштадту. «Чем смелее вы на меня нападаете, – сказал он, – тем дороже мне становитесь»[375]. Карлштадт согнул (видимо, зубами) монету из мягкого золота, чтобы вывести ее из обращения, и оставил себе как вечный знак лютерова обещания, что он свободен писать против него. Итак, казалось бы, старые приятели расстались по-дружески; но два дня спустя оказалось, что это вовсе не так.
Через два дня после этой встречи Лютер приехал для проповеди в Орламюнде. Однако деревенские жители не встречали его, как было принято, толпой на улицах: Лютеру сообщили, что все они заняты в поле – собирают урожай. Лютер, как видно, приехавший уже в дурном настроении, счел такой неласковый прием для себя оскорбительным. Когда наконец появились несколько членов местного совета, Лютер не снял шляпу (традиционный вежливый жест) и с порога принялся предъявлять претензии по поводу написанного ими письма, где они жаловались на его обращение с Карлштадтом: это письмо он счел чрезвычайно резким и грубым и даже высказывал подозрение (местными жителями отвергнутое), не сам ли Карлштадт его и написал.
Когда появился сам Карлштадт, Лютер заявил, что они теперь враги, и потребовал, чтобы тот ушел: как видно, сам он вовсе не считал их недавнее соглашение о письменной дискуссии знаком примирения. Лютер заявил даже, что не станет продолжать разговор, пока Карлштадт здесь. Когда тот удалился, отцы деревни пригласили Лютера произнести проповедь, как делал он уже во множестве городов и деревень в ходе этого турне, – однако он резко отказался, а вместо этого прямо на месте завел с ними спор об «изображениях». Пришлось ему выслушать сомнительные идеи Карлштадта о необходимости «превзойти» физический мир, сами по себе туманные, в еще более туманном пересказе местных крестьян. Для Лютера все это звучало слишком узнаваемо – похоже на болтовню пророков из Цвиккау и Мюнцера, не говоря уж о собственном монашеском опыте, принесшем ему столько мучений. Более Лютер выдержать не мог: он развернулся и пошел прочь, под град оскорблений от негостеприимных хозяев – ему желали убираться к черту и, говорят, даже кидали в него камнями. После его ухода на кафедру поднялся Карлштадт и разразился громами и молниями против бывшего друга, именуя его «исказителем Писания»[376].
Для Лютера ужас был в том, что он сражался теперь со своими былыми соратниками. Снова он чувствовал, что предан старым другом, – а тот, без сомнения, в свою очередь считал преданным себя. Еще мрачнее стало все, когда в сентябре герцог Иоганн изгнал Карлштадта с земель курфюрста. Должность священника в Орламюнде Карлштадт так официально и не занял, несмотря на желание местных жителей, – и теперь на орламюндской кафедре его сменил «старый скряга» доктор Каспар Глатц, тот самый, которого Лютер усердно старался женить на одной из нимбшенских монашек. Однако паства его не желала подчиняться ни Лютеру, ни саксонским князьям – и долго Глатц на этой должности не продержался.
Теперь, освобожденный Лютером в гостинице «Черный медведь» от обета молчания, Карлштадт взялся за перо и с поразительной скоростью накатал пять памфлетов, где изложил их с Лютером основные разногласия. В ноябре он выпустил «Диалог, или Беседу об отвратительном идолопоклонническом злоупотреблении священнейшим таинством Иисуса Христа».
Такое нередко случалось и дальше: резкий характер Лютера приводил его к упрямству и авторитаризму в некоторых вопросах. Как полагал он, что соглашаться с Мюнцером в любом вопросе означает разделять «дух Альштедта» (хотя определения этого духа так и не дал), – так и теперь оказался не готов взвешенно и продуманно подойти к вопросу о Вечере Господней. По каким-то своим причинам отрицание Реального Присутствия Христа на Вечере Господней он считал отрицанием христианства как такового – и полагал, что дальше спорить тут не о чем. Кто отрицает Реальное Присутствие, тот на стороне врагов – и на этом разговор окончен[377].
В декабре 1524 года Лютер начал отвечать на писания Карлштадта: опубликовал первую (из двух) частей своей полемики с ним и другими, с кем расходился по вопросам изображений, крещения младенцев и причащения. Свою работу он озаглавил «Против небесных пророков по вопросам изображений и таинств». Бывший друг и сотрудник, теперь, как видно, ставший для Лютера главным врагом, подвергся суровому разносу: в его «папистском» законничестве, в навязчивой одержимости внешним и маловажным Лютер видел полную противоположность истинному благовестию. Для него все это было ветхозаветное фарисейство. Такой ревностный антипапизм, по его словам, столь далеко ушел от Рима, что в безумном рвении своем обогнул земной шар и, сам того не зная, вернулся в Рим. «Папа приказывает, что делать, – писал он, – доктор Карлштадт – чего не делать»[378]. И то и другое Лютер считал несовместимым со свободой, обещанной в Евангелии. Такие жесткие предписания связывают совесть и внушают людям вечное чувство вины за то, что те недостаточно стараются. «Нет такого места, – писал он, – в котором эти учителя учили бы нас, как освободиться от греха, сохранить чистую совесть, достичь мирного и радостного духа. А ведь только это и имеет значение»[379].
Меланхтон был расстроен чрезмерно резким, на его взгляд, тоном Лютера в отношении Карлштадта. Увы, очень многое из того, что написал Лютер тогда и позже, на взгляд современного читателя, слишком напоминает «холивар» в интернете. Гневливость и раздражительность Лютера, которую мы привыкли связывать с последними годами его жизни, начала подавать голос уже сейчас. В своей критике он снова смешивал Карлштадта с Мюнцером, – хотя уже мог убедиться в неудачности этого приема. Впрочем, одно важное сходство между ними действительно было – неприятие авторитетов, то, что Лютер воспринимал как общий дух мятежа. И Мюнцер, и Карлштадт не желали играть по правилам, и это для Лютера было серьезным и дурным знаком. Карлштадт не принял официально место священника в Орламюнде и нарушил приличия, демонстративно отказавшись от звания «доктора». Оба выдергивали из Писания отдельные фразы и истолковывали их с бездумной смелостью, не смущаясь логикой, не утруждая себя мышлением «по правилам». Самого Лютера из-за его отношения к папе многие также считали мятежником и бунтовщиком – однако он ясно давал понять, что никогда не был против власти как таковой. Наоборот, он выступал против ложной власти именно из уважения к власти истинной. Однако Карлштадт и Мюнцер, на взгляд Лютера, зашли по этой дороге слишком далеко. Так или иначе, жители Орламюнде новой книгой Лютера остались недовольны – и выразили это самым практическим образом: начали использовать ее вместо туалетной бумаги.
Крестьянская война и пределы свободы
Не стоит удивляться тому, что, едва Лютер вывел свободу из темницы, она «потеряла берега» и начала приносить беду. Сама по себе свобода не ведает границ. Она знает лишь, что должна существовать, что в тюрьме ей не место, – но не ведает о том, как далеко может зайти без опасности для себя. Над этой парадоксальной проблемой не раз размышлял и сам Лютер. В труде «К христианскому дворянству немецкой нации» он ясно говорил, что христианин свободен, и так же ясно – что свобода обязывает его поступать с ближними по совести. Христианская свобода парадоксальна насквозь – такова ее природа, таинственная и славная.
Вот в чем вопрос: до каких пределов простирается власть правительства над народом? Там, где на сцену истории выходит истинное Евангелие Христово, беззаконие сменяется правосудием и рабы получают свободу. Движения за освобождение рабов и за гражданские права в США ясно об этом свидетельствуют. Зная, что они свободны, люди начинают требовать, чтобы и власть обращалась с ними как со свободными. Но как далеко могут заходить эти требования, и какими мерами вправе народ влиять на правительство без того, чтобы впасть в эгоизм и грубое насилие? Об этом много размышляли такие великие мыслители и деятели прошедшего столетия, как Ганди, Дитрих Бонхеффер или Мартин Лютер Кинг.
Уже много лет крестьяне жаловались на свои горести и высказывали требования; однако пришествие Лютера – явление Благой Вести – придало их требованиям основание, глубину и более ясное выражение. В 1431 году на Базельском Соборе документ, известный как «Реформация короля Сигизмунда», заявлял: «Всякий, кто называет себя христианином, но держит собрата-христианина в своей собственности – не христианин. Он против Христа и нарушает все заповеди Божьи. Бог всех христиан сделал свободными и освободил от уз»[380].
В феврале 1525 года зарождающееся революционное движение произвело на свет манифест под названием «Двенадцать статей», где религиозным языком была изложена политическая программа крестьянского класса. Основание для своих требований авторы видели в Божественном законе – и, очевидно, считали себя в полном праве требовать от правителей, чтобы те поступали с ними по этому закону справедливости, равному для всех.
ЧИТАТЕЛЮ-ХРИСТИАНИНУ МИР И МИЛОСТЬ БОЖЬЯ ЧЕРЕЗ ХРИСТА:
В последнее время много является на свет злых писаний, сочинители которых упрекают Благую Весть за собрания крестьян, говоря: «Таков ли плод этого нового учения – что никто не должен повиноваться, но всем повсеместно следует восстать и вместе переустроить или, быть может, вовсе уничтожить власти церковные и светские?» Таким безбожным и преступным обвинителям дадим мы ответ в этих статьях: первая их цель – защитить от упреков слово Божье, вторая – объяснить, почему христианин вправе не повиноваться властям и даже против них восставать.
Прежде всего: Благая Весть – не причина мятежей и беспорядков, ибо она есть слово Христа, обетованного Мессии, слово жизни, учащее лишь любви, миру, терпению и согласию. Следовательно, все, кто верует в Христа, должны научиться миру, любви, долготерпению и гармонии. Таково основание всех статей о крестьянах (которые последуют далее), приемлющих Благую Весть и живущих с ней в согласии. Как же могут наши обвинители говорить, что Благая Весть – причина неповиновения и мятежей? В том, что сочинители этих обвинений и враги Благой Вести противостоят нашим требованиям, винить следует не Благую Весть, а дьявола, злейшего ее врага, который возбуждает сомнения в умах ее последователей и таким образом побеждает слово Божье, полное согласия, мира и любви.
Во-вторых, крестьяне стремятся лишь руководствоваться Благой Вестью во всех сферах своей жизни – и, поистине, не заслуживают, чтобы за это их называли бунтовщиками и мятежниками. Если кто всем сердцем и душой стремится жить по слову Божию и Бог исполняет его просьбы, – что за грех в том, чтобы поступать по воле Всевышнего? Кто решится вставать на пути Его суда или противостоять Его величию? Не слышал ли он о том, как дети Израилевы воззвали к Богу и тот спас их от фараона? Не спасает ли Он и ныне верных своих? Да, спасает – и без промедления.
Итак, добрый христианин, прочти внимательно эти статьи, а затем сам вынеси свое суждение.
Первая статья из двенадцати гласила:
Вот первая наша смиренная просьба и пожелание: такова наша воля и желание, чтобы в будущем каждая община имела власть и авторитет сама выбирать себе священника, а также право смещать его, если он поведет себя недостойно. Избранный нами священник должен учить Благой Вести, чистой и простой, без примеси каких-либо человеческих учений, постановлений и законов.
Разумеется, идеи «Двенадцати статей» были вдохновлены писаниями Лютера и Реформацией в целом, так что ясно было, что Лютер за этот документ в ответе. Признавали ли авторы статей его своим учителем, не вполне ясно. Так или иначе, Лютер получил «Двенадцать статей» вместе с сопроводительным открытым письмом, в котором его, Меланхтона и Иоганна Бугенгагена просили стать судьями между авторами – крестьянами, составившими документ, – и знатными господами. Однако нарастающая политическая активность крестьян и серьезность их требований ставила Лютера в трудное положение. Еще в 1522 году из Вартбурга опубликовал он памфлет «Искреннее увещание ко всем христианам беречься от беспорядков и мятежей». Этот памфлет был написан в ответ на тогдашние беспорядки в Виттенберге: мысль его была проста – Благую Весть нельзя распространять силой и насилием. Слово Божье достигает своих целей мирным путем, одной лишь смиренной и терпеливой проповедью. Та же мысль лежит в основе того, что говорил Лютер, вернувшись в Виттенберг и критикуя то, что творил без него старый друг Карлштадт: даже если Карлштадт был прав, он не должен был силой навязывать «слабым братьям» свою правоту. Стоило подумать об их благе и не торопиться, требуя, чтобы они немедленно с ним согласились. Перемены произойдут тогда, когда будет угодно Богу. По-видимому, в соответствии с этим же принципом Лютер оценил и «Двенадцать статей». Не то чтобы требования крестьян были несправедливы; однако насилием и даже угрозой насилия ничего нельзя добиться – можно лишь все испортить. А основной смысл крестьянского документа был именно таков. Требования правильные, даже благородные – но ясно звучащая в них угроза насилия безнадежно все губит.
Поэтому в середине апреля Лютер написал «Увещание к миру: ответ на “Двенадцать статей” крестьян из Швабии». В этой статье он говорил, что, если мятеж «возьмет верх», результаты будут трагическими. «Германия, – писал он, – будет лежать в руинах: стоит лишь начаться кровопролитию – война не остановится, пока не разрушит все. Легко начать войну, но невозможно в любой момент по своему желанию ее остановить»[381]. Как и в «Искреннем увещании», основным аргументом против мятежа были для него неизбежные страдания невинных. Однако сейчас он сурово увещевал обе стороны: господ упрекал за то, как не по-христиански они обходятся с крестьянами, крестьян – за то, что хотят решить свои проблемы насилием. Лютер всегда уважал власть, даже когда считал, что она ошибается, – и полагал, что от войны с властями вреда будет куда больше, чем пользы:
Дорогие друзья, подумайте об этом как следует. Если ваше предприятие справедливо, значит, любой человек вправе стать судьей другому. Тогда власть, правительство, закон и порядок исчезнут с лица земли; не останется ничего, кроме убийства и кровопролития. Едва любой увидит, что кто-то поступает с ним дурно – будет считать себя вправе осудить его и покарать. Когда так поступает человек с человеком, мы считаем это неправосудным и нестерпимым – значит, не можем позволить этого и целой толпе… Что сделаете вы, если среди вас начнутся беспорядки, – например, какой-нибудь обиженный схватит обидчика и учинит над ним расправу? Примиритесь с этим? Или все же скажете, что суд он должен был оставить другим людям, специально вами для этого избранным и назначенным?[382]
Но больше всего беспокоили Лютера Schwärmer, своими безрассудными словами разжигающие пламя мятежа. К ним он обращал основные свои упреки. Как и его тезка Мартин Лютер Кинг, Лютер выступал не за то, чтобы сидеть сложа руки – но против насилия как христианского способа разрешения социальных проблем. Лютер советовал довериться Богу – и возложить на Него все свое доверие. Он учил по Писанию: если не брать дело в собственные руки, а воззвать к Спасителю – скоро увидишь, как Он сражается за тебя. Однако история учит нас, что у людей нечасто можно найти столь твердую веру, побуждающую отказаться от действий. Подкрепляя свою мысль, Лютер цитировал Рим. 12:19: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: “Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь”». Далее он писал:
И вождь наш Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея [5:44], что следует благословлять оскорбляющих нас, молиться за наших преследователей, любить врагов, отвечать добром на зло. Таковы, дорогие друзья, наши христианские законы.
Дальше Лютер со всей своей мощью обрушивается на тех, кто сбивает крестьян с пути: «Дьявол послал к вам лжепророков – берегитесь их!» Никого он не называет по имени, но всем читателям ясно, что речь идет о Мюнцере, Карлштадте и пророках из Цвиккау. Своими безумными проповедями возбудили они тысячи крестьян, разожгли в них праведный гнев, не имеющий ничего общего со смиренным Христовым Евангелием, – а ведь это смиренное Евангелие обладает неизмеримо большей силой, чем праведный гнев, прибегающий к кулакам и мечам. Лютер напоминал своим читателям об увещании Иисуса Петру в Гефсимании: «Взявший меч от меча и погибнет», – и приводил современный пример из собственного опыта:
Папа и император ярились на меня и противостояли мне. Что же я сделал – как добился того, что чем сильнее они ярились, тем успешнее распространялась Благая Весть? Не извлекал я из ножен меч, не жаждал мести. Не устраивал ни заговоров, ни мятежей; но сколько мог, помогал правителям мира сего – даже тем, кто преследовал меня и мою проповедь – сохранить их власть и честь. Дело свое я передал в руки Божьи – и без сомнений полагался на Бога во всех треволнениях. Вот почему Бог не только сохранил мне жизнь, несмотря на усилия папы и всех тиранов – что многие, да, признаюсь, и я сам, почитают за великое чудо, – но и помог моей проповеди расти и процветать. Теперь же вы препятствуете тому, что я делаю. Вы хотите помочь Благой Вести, однако не замечаете, что сами же сильнее любых врагов душите ее и губите[383].
Лютер справедливо отмечал: наиболее склонны были присоединиться к восстанию те города и деревни, куда не проникла Благая Весть. В этом нет ничего удивительного: жители тех мест, где евангельская проповедь была под запретом, сильнее гневались на своих правителей и считали свое положение более нестерпимым, чем жители тех мест, где идеи Реформации распространялись свободно. Лютер считал: пока жители территорий, где Благая Весть разрешена и свободно распространяется, не присоединяются к мятежникам – остается надежда. Если закваска мятежа распространится лишь по католическим землям, в конечном счете это может быть и к лучшему. Однако на деле вышло не так.
Уже с осени 1524 года Германию то здесь, то там сотрясали крестьянские бунты. Но к середине апреля 1525 года, когда Лютер был в Айслебене – поехал туда, чтобы помочь в организации христианской латинской школы, и там же написал «Увещание к миру», – беспорядки переросли в полномасштабный мятеж, охвативший всю Германию. Войска императора сражались во Франции, местным князьям пришлось защищаться самим – и вскоре оказалось, что крестьяне, вооруженные пиками, побеждают их числом. Император большую часть времени проводил вдали от Германии, решал свои проблемы то на западе с Францией, то на востоке с турками: на внутренние германские дела, в том числе на подавление революционных идей, времени у него не оставалось – отчасти к добру, отчасти к худу. Но сейчас, пожалуй, определенно к худу. Крестьяне-бунтовщики, опьяненные властью и вседозволенностью, творили ужасные зверства. Не таких плодов ожидал Лютер от своих идей! Например, в пасхальное воскресенье близ Вайнсберга крестьяне взяли в плен графа Хельфенштейна и его отряд. Граф пытался предложить им выкуп, но озверелые бунтовщики убили его на месте, а над двумя дюжинами рыцарей и их слуг устроили садистскую расправу: прогнали их сквозь строй и закололи копьями, а тела их бросили без погребения.
Однако Лютер в то время не знал о злодеянии под Вайнсбергом, да и то, что происходило в Германии в целом, представлял пока довольно смутно. К тому времени, как он закончил свое «Увещание к миру», от мира уже мало что осталось. Германия на всех парах мчалась к кровавой резне. Уже выпустив трактат с призывами к миру, Лютер понял, что все зашло гораздо дальше, чем он думал. Повсюду, где бывал он после Айслебена, навстречу ему попадались вооруженные крестьянские отряды, и в воздухе витал дьявольский дух братоубийственной войны. Лютер страстно проповедовал против насилия, делал все возможное, чтобы призвать к миру; но даже те, кто прежде видел в нем друга и союзника, теперь насмехались над ним и гнали прочь. Он объездил с проповедями всю Северную и Среднюю Тюрингию, но тщетно. Крестьяне давно вышли из пределов разумного; Лютер видел, что ими овладел «дух Альштедта».
В это время он порой опасался за свою жизнь. Его призывы к сдержанности и умеренности, богословски вполне верные, не могли соперничать со страстными лозунгами Мюнцера, игравшего на глубинном чувстве многолетней несправедливости. Во время проповедей Лютера над ним насмехались, гнали его, даже звонили в колокола, чтобы заглушить его голос. Наконец он понял, что разговаривать с восставшими не о чем. Они взбесились и жаждут крови, так что осталось лишь одно – подавить их силой. Уже 4 мая Лютер пишет своему другу Иоганну Рюгелю, прося его не призывать графа Альбрехта к «мягкости». Что бы вы ни делали, советует он, ни в коем случае не удовлетворяйте требования крестьян. Рюгель позже рассказывал, что письмо от Лютера очень поддержало его в критический момент.
Лютер возвращался домой – и повсюду встречали его ужасы войны. Страна превратилась в поле брани: и среди крови и огня, подобно кровожадному демону, носился, раздувая пожар, «архидьявол» Мюнцер. После Мюльхаузена он снова бежал, теперь в Нюрнберг, а оттуда опять в Мюльхаузен. Однако эта череда бегств пришла к концу: настал час его славы, наконец осуществились его мечты. В Мюльхаузене он собрал и возглавил вооруженное ополчение, скромно названное «Вечным Союзом Божьим». Над ним развевался флаг цветов радуги с лозунгом, в этом контексте звучавшим иронично и горько: «Слово Божье претерпевает все».
Повсюду, и особенно в Тюрингии и Саксонии, тысячи крестьян грабили и разрушали монастыри. В одной только Тюрингии было разграблено семьдесят обителей. Монахи подвергались унижениям и издевательствам. Фанатичные крестьянские толпы рыскали по стране, разрушая и сжигая все, что попадалось им навстречу, от рыцарских замков до амбаров с зерном. Никакой справедливости они больше не искали – и даже не вспоминали о ней. Не осталось ничего, кроме дикого буйства, свирепости, жажды крови и разрушения. Лютер понимал: сам сатана призвал Мюнцера возглавить этих слепых мясников, пламенно убежденных, что выполняют Божью волю, – когда на деле они лишь наслаждаются зверствами и радуются крови и огню.
Ко времени возвращения в Виттенберг Лютер видел уже достаточно – и излил свою горечь и возмущение в печально известном трактате «Против крестьянских полчищ – убийц и расхитителей». Лютер видел: время надежд на мир и отчаянных призывов к миру прошло. Теперь он развернулся на сто восемьдесят градусов и призвал немецких дворян – тех, кому Бог вручил меч, – со всей силой и яростью обрушить этот меч на головы мятежников. Пусть не страшатся, не колеблются, пусть борются изо всех сил и сотрут в пыль кровожадных бунтовщиков, вдохновляемых не Богом, а самим дьяволом. «Все, кто может – бейте, режьте, вешайте! – писал Лютер. – Если сами при этом погибнете – благо вам: нет достойнее смерти, чем умереть, повинуясь Божественному Слову и заповеди Рим. 13 [:1–2], на службе ближнему, которого вы спасаете от уз ада и дьявола»[384].
Однако пламенные увещания Лютера сыграли с ним дурную шутку, ибо вышли в свет намного позже, чем он рассчитывал. К тому времени, когда их прочла широкая публика, мятеж был уже жестоко подавлен – и яростные призывы Лютера к насилию выглядели просто жестокими. Обычно Лютер внимательно следил за тем, как воспринимаются его слова, но за эти слова извиняться не стал. Вместо этого несколько месяцев спустя он написал дополнение под заглавием «Открытое письмо о резкой брошюре против крестьян», где фактически защищал себя от обвинений и напоминал читателям, почему написал именно так:
Бунтовщики не понимают слов и не слушают увещеваний. Им ничего не объяснишь, пока не раскупоришь им уши мушкетными пулями, пока у них [кровь] не польется из носу и головы не полетят с плеч[385].
Лютер понимал: если бы знать не остановила мятеж, тот нанес бы немецкому обществу непоправимый удар. Порядок и цивилизация были бы разрушены полностью – и один бог знает, когда удалось бы их восстановить. Наступило бы время немыслимых страданий для всех. Так что бунтовщики в своей глупости и кровожадности рубили сук, на котором сидели. Если бы знати не удалось потушить пожар мятежа, он охватил бы всю страну и не угас, пока не пожрал бы все и вся. «Если же кто полагает, что я выражался слишком резко, – добавлял Лютер ближе к концу статьи, – пусть вспомнит о том, что терпеть мятеж не должно, и что гибели мира можно ожидать в любой день и час»[386]. Что ж, с таким аргументом не поспоришь.
Однако Мюнцер не внимал лютеровым увещеваниям. У себя в Мюльхаузене он призывал своих сторонников к новым кровожадным «подвигам», убеждая не останавливаться на пути смерти и разрушения. Мюнцер чувствовал, что ради этого часа появился на свет, – и как же сейчас упивался собой! Дай судьба ему шанс, он бы, пожалуй, всю Европу безвременно уложил в могилу.
Итак – идите, идите, идите! Время настало. Эти негодяи будут скулить как псы, просить, хныкать, умолять, как дети. Но не ведайте жалости. Что приказал Бог Моисею во Втор. 7, то же теперь приказывает и вам… Идите, идите, пока горит огонь! Пусть меч ваш не остынет и не дрогнет. Бейте молотом по Нимвродовой наковальне. Разрушьте до основания их замки и башни. Пока они здесь – вам не избавиться от страха человеческого. Пока они правят вами – вы ничего не узнаете о Боге. Идите, идите, пока солнце еще высоко. Бог идет впереди вас. За ним, за ним![387]
Разумеется, впереди них шел не Бог – скорее уж тот вечный мертвец, что объявил себя «богом» еще до начала времен. Он вел эти потерянные души за собой во тьму внешнюю, туда, где плач и скрежет зубов.
Но сколь ни ужасны были эти орды одержимых, внушающие страх всей Германии, – встретив серьезное сопротивление, они победить не смогли. Сопротивление возглавил ландграф[388] Филипп Гессенский, выставивший против бунтовщиков конницу и доспешных рыцарей. Сперва в Фульде, затем в Бад-Херсфельде он нанес своим необученным противникам серьезные поражения. В обоих случаях знать побеждала благодаря умелому командованию и превосходству в вооружении. Следующий этап войны развернулся в Бад-Франкенхаузене близ гор Кифхойзер, где собрались большие крестьянские силы. Для этой битвы Филипп призвал себе на помощь тестя, герцога Георга, чьи силы присоединились к армии.
Мюнцер едва ли понимал, с чем ему предстоит столкнуться, – и продолжал свои безумные речи, а также рассылал во все концы письма, стремясь привлечь к себе новых союзников и устрашить врагов. 12 мая он написал обоим мансфельдским графам, Альбрехту и Эрнсту. Католику Эрнсту Мюнцер писал:
Брат Эрнст! Скажи нам, жалкий зловонный мешок червей, кто поставил тебя князем над людьми, которых Бог искупил драгоценной своей кровью?.. Власть всемогущего Бога предает тебя смерти и разрушению… Говорю тебе: вечный и живой Бог приказывает, чтобы силой, полученной нами от Него, мы свергли тебя с престола… ибо Бог говорит о тебе и таких, как ты… гнездо ваше будет разорено и разрушено[389].
Граф Альбрехт в вопросах веры ассоциировал себя с Лютером – но для Мюнцера это было, пожалуй, еще хуже. Альбрехту он писал:
Портрет Томаса Мюнцера (1489–1525)
Барахтаясь в своей лютеранской каше и виттенбергской похлебке, не забыл ли ты пророчества Иез. 37? Неужто Мартиново дерьмо так отбило тебе и нюх, и слух, что не слышишь ты слов того же пророка из главы 39 – о том, что все птицы поднебесные будут клевать кости князей, и все звери лесные – пожирать плоть сильных мира сего, как сказано в тайном откровении в [главах] 18 и 19? Или еще не понял, что Бог ценит народ Свой превыше вас, тиранов?[390]
Неужто Бог в самом деле говорил такое? Под каждым письмом стояла безумная подпись: «Томас Мюнцер с мечом Гедеоновым»[391].
Однако два дня спустя все было кончено. Победа была чистейшая, почти что сказочная – можно сказать, не битва, а резня: на четыре тысячи погибших крестьян пришлось четверо солдат рыцарской армии. На следующий день выжившим крестьянам, скрывавшимся в окрестностях города, было предложено выдать «лжепророков» и сдаться. Если они подчинятся, их пощадят. Но даже и в эти последние минуты Томас Мюнцер искал спасения в мире грез: собрав вокруг себя последних измученных соратников, он воспламенял их умы горячечными фантазиями. Пусть нас осыплют ядрами и пулями, говорил он: все эти пули поймаю я своим волшебным рукавом! Не получив ответа на свое требование, рыцари, разумеется, двинулись в атаку. Первый пушечный выстрел не достиг цели – и Мюнцер разразился победным воплем. Но следующие выстрелы оказались точнее. Увидев, что волшебные рукава Мюнцера ни на что не годны, крестьяне растеряли свой героизм и сделали то, что сделал бы на их месте любой, не готовый гибнуть смертью храбрых – сверкая пятками, бросились в разные стороны. Большинство из них хотели скрыться где-нибудь в городе, однако попали прямиком в руки врагов. Те встретили их с оружием в руках, и бой продолжился.
Что же до самого Мюнцера – вместе со своими рукавами он скрылся на чердаке жилого дома, лег на кровать и натянул на себя одеяло. Когда его наконец там обнаружили, пытался выдать себя за бедного больного, однако сумка с его бумагами, найденная неподалеку, открыла истину. «Инвалида» не слишком вежливо стащили с чердачного одра и представили пред очи самого бородатого герцога. Как ни удивительно, герцог присел рядом с Мюнцером на скамью и спросил о том, что произошло в соседнем Артерне, куда явились к Мюнцеру трое послов от графа Эрнста. Верно ли, спросил герцог Георг, что они предлагали мир, а Мюнцер приказал их обезглавить? «Дорогой брат, – отвечал Мюнцер, – говорю тебе, не я сделал это – это совершило божественное правосудие». После этого в беседу вступил ландграф Филипп и принялся спорить с Мюнцером, забрасывая его цитатами из Писания.
На следующий день состоялся допрос – и под пытками Мюнцер во всем признался и от всего отрекся, даже от своих проповедей против правителей. Прежде он отчаянно отстаивал причащение «под двумя видами» – теперь же смиренно принял причастие по римскому обряду, одним лишь хлебом. Понимая, что его казнят, он написал своей пастве в Мюльхаузен прощальное письмо – однако в нем не признавал своей вины, а винил в поражении крестьян, говоря: «Без сомнения, все произошло так, как произошло, поскольку все искали собственного блага более, чем справедливости для христианского мира». Когда Лютер прочел это письмо, это место особенно его разъярило. «Всякий, кто видел Мюнцера, – говорил он, – не усомнился бы, что перед ним самый свирепый дьявол во плоти»[392]. В этом последнем письме Мюнцер также внезапно проявил миролюбие – и призвал тех самых людей, которых своими подстрекательскими речами толкал на смертоубийство, «бежать от пролития крови». И это – человек, говоривший, что призван положить конец жизни «не-избранных», тот, кто восклицал: «Я точу свой серп!» Одновременно с ним судили его соратника Генриха Пфайффера – и тот без утайки рассказал обо всех планах Мюнцера. «Уничтожив всех правителей, – говорил Пфайффер, – он намеревался провести христианскую реформацию». Вместо этого жертвами мятежа пали восемьдесят тысяч крестьян, и лютерова Реформация – по крайней мере, в глазах всех, кто был настроен против нее – оказалась прочно связана с этим кровавым побоищем. 27 мая Мюнцер и еще пятьдесят три бунтовщика (и Пфайффер среди них) были обезглавлены; головы и тела их, насаженные на копья, еще несколько лет служили мрачным украшением стен Мюльхаузена.
Глава семнадцатая Любовь и брак
Жизнь людей женатых, если они живут в вере, стоит ставить выше жизни знаменитых чудотворцев[393].
Мартин ЛютерПосле кошмара Крестьянской войны мир Лютера сильно изменился. Хоть он и сделал все от него зависящее, чтобы предотвратить насилие, хоть и неустанно предостерегал против учений Карлштадта и Мюнцера, – многие все равно винили в произошедшем его, и Реформация во многих немецких краях обрела дурную славу. А за несколько недель до последней битвы при Мюльхаузене отошел в мир иной человек, с самого начала бывший для Лютера молчаливым, но непоколебимым покровителем и защитником.
Смерть Фридриха
Фридрих Мудрый – этот благородный правитель, много раз защищавший Лютера и, несомненно, сохранивший жизнь и ему, и Реформации, умер 5 мая в своем охотничьем домике в Лохау, в пятидесяти милях к югу от Виттенберга. Лютер узнал об этом на следующий день, по пути домой, в Виттенберг. Удивительно, что Лютер ни разу не разговаривал с Фридрихом и даже не встречался с ним наедине, – лишь видел его один раз на Вормсском рейхстаге, среди множества других князей и дворян. До самого конца Фридрих оставался добросердечным и умеренным правителем: даже к бунтующим крестьянам он относился снисходительно, стараясь понять причины их озлобленности. Вот что он писал своему брату и будущему наследнику Иоганну:
Быть может, проповедь слова Божьего лишь дала крестьянам подходящий повод прибегнуть к восстанию. Стоит сказать правду, правители жестоко угнетают этих бедных людей, и за это нас теперь посещает гнев Божий. Если будет на то Его воля – простолюдины придут к власти; не будет Его воли – всему этому скоро придет конец. Будем же молиться о том, чтобы Бог простил наши грехи, и предоставим это дело Ему. Пусть действует, как считает нужным, сообразно Своему желанию и славе[394].
Смерть явилась за Фридрихом в разгар Крестьянской войны. Охотничий замок в Лохау, где лежал он при смерти, почти опустел – все уехали с герцогом Иоганном на войну, сражаться с бунтовщиками. Узнав о его болезни, Спалатин отправил ему утешительное письмо, а затем и сам поспешил к одру своего господина. Приехав, он увидел, что Фридрих в очках, лежа в постели, читает его письмо. Как правило, все письма читал Спалатин курфюрсту вслух – и теперь Фридрих попросил своего верного друга прочесть вслух это последнее послание, написанное им самим. Спалатин взял письмо и прочел вслух все, что хотел сказать человеку, к которому много лет был так близок. Фридриху было тяжело; в какой-то момент он даже проговорил: «Не могу больше». «Всемилостивейший господин, – воскликнул Спалатин, – вас что-то беспокоит?» «Нет, – ответил Фридрих, – ничего; только больно» (1). После этого он задремал; а Спалатин продолжал читать ему вслух Послание к Евреям – и, пока читал, Фридрих отошел в вечность.
На следующий день тело курфюрста возложили на катафалк и повезли домой, в Виттенберг. Катафалк с кортежем проехал пятьдесят миль, останавливаясь в городах и деревнях, – и везде звонили колокола, и люди толпами высыпали на улицу, чтобы отдать последний долг человеку, мудро и мирно правившему их страной сорок лет. Десятого числа тело Фридриха привезли в Виттенберг и стали готовить к погребению в Замковой церкви. Восемь знатных дворян несли гроб; за гробом шло множество знатных господ и видных горожан. Лукас Кранах и Христиан Деринг, стоя в дверях церкви, раздавали бедным подаяние, по тогдашнему обычаю. Фридриху предстояло упокоиться в городе, который сам он отстроил и которому подарил славу.
В окружении двадцати человек с факелами и гербовыми щитами гроб внесли в Замковую церковь и поставили посередине большого нефа. Меланхтон и Лютер произнесли надгробные проповеди. Спалатин уже проконсультировался у них о том, как лучше провести завтрашнее погребение. Впервые кто-то из саксонских князей умирал вне Католической Церкви: какой должна быть новая церемония? Вместе решили они, что не следует ни служить мессы, ни надевать черные одеяния, ни завешивать черной материей алтарь. В письме к Спалатину об этом Лютер писал: «О, как горька смерть, – не столько для умирающего, сколько для тех, кого он покидает»[395].
Всю ночь тело курфюрста лежало в церкви, в тишине и покое, охраняемое стражей. Перед рассветом вблизи алтаря выкопали могилу, и в семь часов утра, после пения заутрени, снова зазвонили колокола, созывая в церковь народ. Лютер произнес вторую проповедь – и, на седьмой день после смерти, под пение Никейского Символа веры, тело было предано земле.
«Я не женюсь»
Предыдущей осенью, когда крестьянский мятеж еще не развернулся в полную силу, Лютер начал задумываться о браке – прежде всего потому, что немало друзей спрашивали, не собирается ли он жениться. Впрочем, в ноябре он был еще решительно против. В этом месяце Аргула фон Грумбах, убежденная сторонница Лютера и одна из нескольких известных женщин-деятельниц Реформации, написала Спалатину, настойчиво спрашивая, не женился ли Лютер и не собирается ли. Ей казалось, что ему давно пора двигаться вперед. Узнав об этом письме, Лютер написал Спалатину:
Благодарю за то, что пишет Аргула о моей возможной женитьбе. Нимало не удивлен подобными слухами – мало ли вообще слухов вокруг меня ходит! Так или иначе, передай ей мою благодарность и скажи: я в руках Божьих, я Его создание, и Он властен в любой миг изменить и переменить, убить и вновь оживить мое сердце. Однако, по нынешним своим ощущениям (и так думается мне уже довольно долго) – я не женюсь. Дело не в том, чтобы я не ощущал своей плоти или пола, – я ведь не из дерева и не из камня; но ум мой далек от брака, ибо каждодневно я ожидаю преследований и казни как «еретик». Впрочем, не полагаюсь на собственное сердце и не хочу ограничивать Бога в Его трудах надо мной. Однако надеюсь, что Бог не даст мне жить долго[396].
Похоже, эта черта – отчуждение от мира и мысли о скорой смерти – не изменилась в Лютере с 1505 года, когда он со Штаупицем сидел под грушевым деревом: по-прежнему Лютер ждал скорой встречи со своим Создателем и даже этого желал. Очевидно, что в 1524 году он еще не представлял себя человеком семейным. Кажется, не переменилось это настроение и за зиму. Однако 16 апреля 1525 года, перед самым отъездом из Виттенберга в Айслебен, где Лютер написал знаменитое «Увещание к миру», и прежде чем увидел собственными глазами масштаб происходящего, он написал Спалатину. В этом письме чувствуются новые нотки: Лютер по-прежнему уверяет, что семья ему не нужна, – но в то же время намекает, что мнение его скоро может измениться:
Кстати сказать, по поводу того, что пишешь ты о моем браке, [позволь сказать тебе вот что]: не хочу, чтобы ты удивлялся, почему это блестящий кавалер вроде меня все не женится. В самом деле, странно, что я, хотя и часто пишу о семейной жизни и много общаюсь с женщинами, все еще ни одну из них не полюбил, не говоря уже о том, чтобы какой-нибудь стать мужем… Однако посмотри на себя: ты-то сам чего медлишь? Смотри, как бы я, и мыслей о браке не имеющий, в один прекрасный день тебя не обскакал, – Бог ведь всегда решает дело так, как мы менее всего ожидаем. Говорю об этом серьезно, чтобы побудить тебя скорее исполнить свое намерение[397].
Менее чем через три недели, среди ужасов Крестьянской войны, по дороге домой Лютер написал письмо Иоганну Рюгелю – то самое, в котором советовал не отговаривать графа Альбрехта от подавления мятежа силой. Однако в этом письме, отправленном 4 мая, проскальзывает одна фраза, составляющая яркий контраст с общим его мрачным тоном: «Если все будет хорошо и я буду жив – непременно женюсь на моей Кати, чтобы посрамить дьявола»[398]. Такая фраза, брошенная вскользь посреди письма, в прочих отношениях серьезного и даже мрачного, ясно показывает: и Рюгель, и другие друзья Лютера к этому времени прекрасно знали и о том, кто такая Кати, и о том, что Лютер может на ней жениться. Самое удивительное здесь, что он называет ее «моя Кати», – ясный знак, что дело зашло уже очень далеко, хоть ни одно другое из дошедших до нас писем не дает на это и намека. По-видимому, постоянные мысли Лютера об этом – столь постоянные, что он не мог не думать о предстоящей женитьбе даже перед лицом «кровожадных орд», – были связаны с недавней поездкой к родителям. Объезжая Саксонию с проповедями, он побывал и у них; и упоминание «моей Кати» почти безусловно доказывает, что и с родителями о ней поговорил. Быть может, для того и заезжал к ним, чтобы рассказать о Кати и о скорой свадьбе. Родители его, без сомнения, всем сердцем одобрили мысль, что сын их наконец-то обзаведется семьей, – ведь ему было уже почти сорок два.
Были и еще две причины, облегчившие для Лютера вступление в брак. Одну мы уже знаем – это смерть Фридриха. Взгляды Фридриха на возможность брака для монахов и священников были скорее традиционными, и Лютер, несомненно, понимал: если он женится, это осложнит его отношения с человеком, которого он так уважает и который столько для него сделал. Кроме того, недавно умер и Штаупиц – и это, пожалуй, еще серьезнее расчистило Лютеру путь к браку. Он прекрасно понимал: известие о том, что его бывший протеже и духовный сын женился, чрезвычайно обеспокоит Штаупица – тем более что жениться он решил на монахине.
Странным образом, Лютер особенно радовался тому, что женится именно на монахине, создавая тем самым большой скандал и повод для возмущения. Он говорил, что этим хочет посрамить дьявола и папу. Но, конечно, делал это не только кому-то из них «назло». Духовная война для Лютера была вполне реальна, и во вступлении в брак с монахиней он видел важный духовный смысл, своего рода удар ногой с разворота в челюсть дьяволу. Он считал, что в духовной плоскости такое событие имеет огромное значение. Это глубокий и смелый акт почитания Бога. Душой и телом, всем своим существом Лютер отрицал ложно-«благочестивую» неприязнь ко всему материальному и особенно к эротике. Бог создал человека существом из плоти и крови, разделил на два пола, наделил сексуальным желанием – и все это было хорошо весьма; а от греха, связанного с сексуальностью, человека освобождает и искупает брак. В этом не просто нет ничего грязного – напротив, это чисто и свято. Лютер считал, что противоестественное безбрачие – от дьявола, а естественный, здоровый секс в браке славит Бога.
Кто стыдится брака – тот, значит, стыдится бытия и того, что он человек, и пытается улучшить творение Божье. Дети Адамовы – люди и остаются людьми; они должны порождать новых людей. Боже мой, взгляните только, какого труда стоит благочестиво жить в браке и соблюдать брачные обеты! А мы пытаемся обещать целомудрие – так, словно мы не люди, словно не имеем ни плоти, ни крови.
Это бог мира сего, дьявол клевещет на брачное состояние человека, внушает нам, что оно постыдно, – а сам позволяет прелюбодеям, блудницам, самым грязным развратникам жить спокойно и в великих почестях. Достойно будет жениться, чтобы плюнуть в лицо ему и миру сему, и принять его поношение, и нести его во славу Божью[399].
В 1522 году в трактате «Против так называемого духовного сословия» он писал:
Молодая женщина, если только не дана ей высокая и редкая добродетель девственности, может обойтись без мужчины не более, чем без еды, питья, сна и прочих естественных потребностей. И равно так же и мужчина не может обойтись без женщины. И вот причина этого: желание размножаться укоренено в нашей природе так же глубоко, как желание есть и пить. Вот почему Бог снабдил наше тело членами, кровеносными сосудами, извержением семени и всем прочим. Если же кто-то хочет все это остановить и запретить природе делать то, что она делает, – не то же ли это, что пытаться запретить природе быть природой, огню гореть, воде быть мокрой, человеку есть, пить и спать?[400]
За три дня до свадьбы Лютер получил письмо от друга Спалатина, обдумывавшего собственную свадьбу. В письме Спалатин спрашивал, что думает Лютер о долгих помолвках, – и тот дал ему обычный для себя остроумный ответ: «Когда покупаешь поросенка, держи наготове мешок». Дальше он писал:
Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Ганнибал не поторопился – и потерял Рим; Исав не поторопился – и лишился своего первородства. Христос сказал: «Будете искать Меня, и не найдете». Так Писание, опыт и все творение свидетельствуют об одном: дары Божьи следует принимать, не медля»[401].
Свадьба Лютера. Aetatis 41
Брак в Германии XVI века, как правило, заключался в два этапа. Сперва проводилась скромная церемония с несколькими свидетелями, затем – пышная свадьба с церковной процессией и гостями со всего города. Однако брак считался заключенным уже после первой церемонии, и, соответственно, консуммация брака – так называемая Kopulation[402] – совершалась до свадьбы. Если брак не был консуммирован, свадьбы не бывало – а после консуммации брака пара, даже без свадьбы, считалась женатой. Таков был обычный ход дела, и Лютер и Кати не стали исключением. Итак, вечером 13 июня, во вторник, друг Лютера Иоганн Бугенгаген, к этому времени ставший в Виттенберге приходским священником, совершил в Черной Обители обряд венчания. Свидетелями стали ближайший друг Лютера в то время Юстус Йонас, а также Лукас Кранах с женой Барбарой, у которых Кати некоторое время жила. Присутствовал и еще один местный друг Лютера, юрист Иоганн Апель. Он тоже женился на бывшей монахине и присутствовал как официальный свидетель от университета.
Помимо странного, на наш вкус, разделения брака и свадьбы, была в немецком брачном церемониале эпохи Возрождения еще одна, куда более странная, черта: консуммация брака происходила на глазах у свидетеля. После скромной церемонии пара удалилась в спальню, а любопытная роль свидетеля, наблюдающего, как двое в буквальном смысле становятся одной плотью, досталась Юстусу Йонасу. По собственному признанию, глядя на это, он даже заплакал от торжественности и значительности события. Часто над брачным ложем даже ставили высокий стол для наблюдателя: но в этот раз, по-видимому, ничего такого не было, Йонас просто тихо сидел где-то в уголке, моля Господа о том, чтобы тот сохранил его от кашля или чихания в самый неподходящий момент. С нашей точки зрения, ничего более странного и неловкого и представить себе нельзя. Однако в те времена люди смотрели на жизнь проще, без лишнего ханжества, брачное ложе почитали почти что святым, а в физическом единении мужчины и женщины видели живую картину единения Жениха-Христа с Невестой-Церковью. В этот миг поистине небеса опускались на землю, альфа обнимала омегу, перед грешными людьми вновь открывался сияющий Эдем – и из всего этого рождалось непостижимое чудо новой жизни. «Вчера, – писал Йонас другу, – я присутствовал, видел жениха на брачном ложе – и при зрелище этом не мог сдержать слез» (11).
Наутро Кати, уже войдя в роль хозяйки дома, приготовила завтрак для немногочисленных гостей. По всей видимости, по предложению Кранаха городской совет прислал новобрачным аппетитный подарок: галлон рейнского, галлон сладкой мадеры и полтора галлона франконского.
Почему на церемонии 13 июня не было Меланхтона, мы не знаем – но точно знаем, что этот брак он не одобрял. Быть может, Лютер не пригласил его именно поэтому – чтобы избежать недовольства и, возможно, неловких сцен. Однако Меланхтон расстроился от того, что его не пригласили и даже не сообщили о радостном событии. Впрочем, об этой размолвке мы узнаем лишь из единственного письма Меланхтона к другу Камерарию, написанного три дня спустя и по-гречески – возможно, чтобы не прочли посторонние:
Поскольку до тебя непременно дойдут самые разные слухи о женитьбе Лютера, думаю, недурно будет мне изложить свое мнение. 13 июня Лютер неожиданно, не уведомив заранее никого из друзей, женился на Бора и вечером, не пригласив на ужин никого, кроме [Бугенгагена], художника Луки и Апеля, совершил обычные брачные обряды. Ты, быть может, поражен тем, что в такое страшное время, когда все достойные люди пребывают в скорби и унынии, он не только не сочувствует им, но едва ли не напротив – развлекается и предается беспутству, пороча свою репутацию; и это именно сейчас, когда Германии так нужна его сила и мудрость…
Однако слухи о том, что он будто бы обесчестил ее до свадьбы – решительная ложь. Теперь, когда дело сделано, нам не стоит принимать это слишком близко к сердцу или упрекать его: думаю, жениться побудил его зов природы. Кроме того, такой образ жизни, хоть и скромен – свят и более угоден Богу, чем безбрачие.
…Надеюсь, семейная жизнь немного его отрезвит и он оставит то низменное шутовство, за которое мы часто его упрекаем[403].
Известно также, что жена Меланхтона, Катарина, не любила молодую жену Лютера; судя по тому, что Меланхтон коротко и сухо именует ее по фамилии (никто более в дошедших до нас источниках не называет ее таким образом), чувства жены он разделял. Возможность близко познакомиться с Кати была у Меланхтона и его жены в те два месяца, когда за ней ухаживал доктор Баумгартнер; часто это происходило в доме у Меланхтонов, поскольку он с ними дружил – и, должно быть, в то время жена Меланхтона подметила в «Бора» что-то такое, что ей не понравилось. Может статься даже, что именно Меланхтон с женой отговорили Баумгартнера от возвращения и женитьбы. Если это так – как обидно, должно быть, им было узнать, что Катарине фон Бора достался куда более ценный «приз»: сам Лютер!
Не только Меланхтон огорчился известием о свадьбе Лютера. Иероним Шурфф, большой ревнитель церковных канонов, был этим серьезно обеспокоен. «Когда женится монах, – писал он, – весь мир и дьявол смеются над ним и он сам разрушает все им сделанное»[404]. Лютер смотрел на это прямо противоположным образом – однако понимал, что люди в любом случае будут о нем судачить. Даже Эразм, подтвердив нелестное мнение Лютера о себе, подхватил ложный слух, что Лютер якобы соблазнил молодую монахиню, а потом, чтобы замести следы своего греха, на ней женился.
Свадебный пир Мартина и Кати был назначен на 27 июня – ровно через две недели после бракосочетания, также во вторник – видимо, для того, чтобы успели съехаться гости из других городов. В те времена вторник почему-то считался счастливым днем для женитьбы: возможно, суеверие это восходило к еврейскому почитанию вторника как счастливого дня, поскольку в первой главе книги Бытия именно во второй день недели Бог повторяет: «Это хорошо» – дважды.
21 июня Лютер пригласил на свадьбу своего друга Николаса фон Амсдорфа:
Слух этот верен: я в самом деле внезапно женился на Катарине – для того, чтобы заставить замолчать злые языки, привыкшие судачить обо мне. Ибо я надеюсь еще немного прожить на свете. А кроме того, не хочу отвергать редкую [возможность выполнить] желание моего отца иметь внуков, о котором он так часто говорил. В то же время хотел я и воплотить то, чему учу, на практике – ибо, несмотря на великий свет Благой Вести, многие вокруг нас еще робеют. Так пожелал Бог – Он привел меня к этому шагу. Сильного пыла или страсти к своей супруге я не чувствую, но нежно ее люблю. Чтобы [публично] засвидетельствовать свою свадьбу, в будущий вторник я устраиваю пир, на который приедут и мои родители. Разумеется, хочу, чтобы там был и ты. Хотел пригласить тебя – вот и приглашаю, и прошу обязательно быть, если сможешь[405].
Разумеется, пригласил Лютер и Леонгарда Коппе, помощника в бегстве дюжины монахинь из Нимбшена, без которого они с Кати никогда бы не встретились. Лютер попросил Коппе и его жену привезти с собой баррель доброго пива из Торгау и добавил шутливо: мол, если пиво окажется невкусное – сам все выпьешь! Разумеется, пригласил Лютер своих родителей, а также еще нескольких друзей и родственников из Мансфельда. А приглашая Спалатина, попросил его привезти с собой дичи с саксонского герцогского стола. Дичь, судя по всему, в то время стоила очень дорого, и покупать ее было накладно. Город Виттенберг подарил новобрачным двадцать серебряных гульденов и баррель айнбекского пива, стоивший почти шесть гульденов – королевский подарок! Айнбек, как и Торгау, в то время славился своим пивом. Приехал из Альтенбурга и Венцеслас Линк, сам уже два года женатый; пришел и Меланхтон, живущий от Лютера всего в одном квартале.
Возвращение в Эдем
Еще одна перемена в 1525 году была связана со Спалатином. Много лет он верно служил курфюрсту Фридриху – и был основным связующим звеном между Лютером и своим князем. Однако теперь на престол взошел новый курфюрст, Спалатин уехал в Альтенбург и стал пастором в большой местной церкви. А в ноябре того же года он тоже женился. Разумеется, на свадьбу пригласил Лютера: однако Альтенбург находился от Виттенберга в семидесяти милях к югу и путь туда лежал через Лейпциг – владения герцога Георга, все еще питавшего к еретику Лютеру самые «теплые» чувства. Так что Лютер отказался от двухдневного путешествия в Альтенбург, сославшись на то, что молодая жена за него боится. «Слезы моей Кати не позволяют мне тебя навестить, – писал он. – Она боится, что по дороге я попаду в беду». А через две недели он отправил Спалатину еще одно письмо: его цитируют намного чаще, что и неудивительно. Дело в том, что в этом письме Лютер предлагает Спалатину свое присутствие особым образом – куда более редким и странным, чем приезд на свадьбу. Но Лютер есть Лютер – он все делал по-своему:
Когда ляжешь со своей Катариной в постель и начнешь нежно обнимать ее и целовать, помысли в себе: «Мой Христос, хвала ему и слава, даровал мне это милое существо – лучшее из созданий моего Бога». А я в тот день, когда, по моим расчетам, это письмо до тебя дойдет, лягу в постель со своей женой и буду любить ее в воспоминание о тебе[406].
Предложение по меньшей мере необычное – и много сообщающее нам о Лютере. Прежде всего, мы видим, что Спалатин был ему очень близким, пожалуй, ближайшим в мире другом. Сравнить с ним можно лишь Юстуса Йонаса – того, что, как мы помним, физически присутствовал при первом соитии Лютера с женой. Многолетнее общение, совместная работа над Евангелием среди политических и прочих опасностей – все это так их сблизило, что Лютер легко делился со Спалатином самыми интимными своими мыслями и чувствами. Во-вторых, мы знаем, что физический акт сексуального единения в браке Лютер считал прекрасным и святым. Для него это было возвращение в Эдем, где Бог все одобряет и освящает, где не может быть, даже в мыслях, ничего грешного или грязного. Это личное, глубоко интимное письмо показывает нам, что Лютер жил так же, как учил и проповедовал. Наш мир и все, что в мире, искуплено Христом. Наша задача – не отвергать физический мир, стремясь к духовному, но искупить его, ввести за собой в освященный духовный мир, напоить присутствием Христа, так, чтобы все вещи в нем – будь то хлеб, вино или половой акт, – исполнившись присутствия Бога, обновились и стали прекрасны.
Взгляд Лютера на материальный мир и особенно на сексуальную сферу резко противостояит дуалистическому, гностическому, антиматериалистическому взгляду тех, кто, как Schwärmer, ценит только дух – а секс, брак и прочее отвергает как «бездуховное». Лучшая иллюстрация такого взгляда на мир – остекленелый, отрешенный взгляд сектанта: как будто он уже не здесь, словно готов вот-вот выйти из тела или его «преодолеть». От Агриколы мы знаем характерную историю о Мюнцере: он был столь поглощен божественным, что в Пасхальное воскресенье 1524 года, когда ему сообщили, что у него родился сын, не изменился в лице и не выразил ни малейшей радости. Когда душой обитаешь где-то в мире ином, все земное кажется далеким и незначительным.
Как ни парадоксально, современный материалистический взгляд на мир совершает ту же ошибку, но, так сказать, с другой стороны. Он не говорит, что духовное выше материального, а значит, мы должны елико возможно преодолеть материю или из нее бежать. Напротив: он утверждает, что духовность – фикция, а по-настоящему «реальна» только материя. Этот неудачный проект не отвергает материю как низменную и дурную – напротив, он отвергает дух как нечто вымышленное, не существующее в реальности. Для него сексуальные отношения не «грязны», ибо ничего «грязного» на свете просто нет. Наши представления о «постыдном» – всего лишь социальные конструкты. Грех, добро и зло, красота – все это попросту фикции. Чисто материалистический взгляд на секс и на человека предполагает, что мы не духовные существа, способные отпасть от Бога или вернуться к нему, получив искупление, а существа чисто физические, для которых Бог – всего лишь выдумка, удобная или неудобная. Согласно этому взгляду, нужно принимать физический мир, не приписывая ему никакого духовного смысла: в половом акте ничего постыдного нет, но не потому, что благодаря пролитой за нас крови Христа мы вернулись в Эдем, а потому, что и стыд, и грех, и сам Бог – всего лишь «поповские сказки». Итак, будем жить как существа полностью телесные, а все следы стыда или неловкости отринем как остатки примитивных суеверий былых времен.
Лютер делал нечто совершенно иное. Никогда он не говорил, что существует один лишь материальный мир, – напротив: Бог изначально создал этот материальный мир благим и наполнил его Своим присутствием, однако в Эдеме мы отпали от единства с Богом. Так возник раскол между «материальным» и «духовным» – рана в сердце вселенной, исцелить которую может только Иисус. Так призовем Его в наш мир и позволим Ему сделать это! Он сошел в Вифлеем и умер на Голгофе, но мы должны пригласить Его в свои сердца и принять, чтобы Он сделал в наших жизнях то, ради чего пришел сюда. Едва это произойдет, все вернется. Так что все, что делаем мы в нашей смиренной обыденной жизни – работаем, занимаемся сексом с мужем или женой, растим детей, – теперь мы можем делать во славу Божью и получать искупление.
Лютер говорил: для тех, кто живет такой жизнью, нет больше мира, в котором религия и духовность остаются достоянием особых, специально назначенных «религиозных» и «духовных» людей. Перед ними открывается новый мир, где каждому открыта благость Божья, каждый – «священник», каждый может жить полной жизнью, получая от Бога любовь и одобрение, каждый может причащаться и хлебом, и вином.
Поэтому мысль, что Лютер во время соития с женой будет думать о своем друге Спалатине, а Спалатин на супружеской постели должен думать о дорогом своем друге Мартине и его молодой жене Кати, свидетельствует о возвращении к детской невинности Эдема до падения. В ней нет ничего странного или «грязного», от чего стоило бы отвернуться с отвращением: неприятие возможно здесь лишь для того, кто не верит, что Бог, существо всецело духовное, способен снизойти в наш физический мир, в нашу сексуальность, освятить ее Собой и придать ей духовное измерение. Нет, духовное измерение брачного ложа уже существует. Оно прекрасно – и не потому, что греха или искаженной сексуальности вовсе не существует на свете. Оргию или свальный грех Лютер бы точно не одобрил: он определенно был не из тех, кто считает, что прекрасен и нормален секс с кем угодно и в любых обстоятельствах. Он исповедовал нечто третье – то, о чем мир знает так мало. Это приглашение на царский путь, в жизнь, полностью искупленную Иисусом Христом, – жизнь, которая говорит нам: да, мы можем родиться заново, можем вернуться в царство благодати Божьей и снова стать как дети; можем принять то, что мир сей и дьявол называют «грязным», – и сделать эту «грязь» чистой, как цветок.
В последней строке письма Лютера к Спалатину снова упоминаются жены – и звучит характерная лютеровская шутка, также наводящая на мысль об Эдеме и о первых радостях человечества: «Ребро мое шлет привет тебе и твоему ребру»[407].
Карлштадт возвращается
Изгнанный из Орламюнде, Андреас Карлштадт не мог вернуться в Саксонию – этого не позволял запрет Фридриха. Бездомный, скитался он с женой и маленькой дочерью из города в город, пытаясь найти себе место и средства к существованию. В конце концов укрылся он в отдаленном Ротенбург-об-дер-Таубере, почти в 250 милях к югу от Виттенберга. Но когда разразилась Крестьянская война, на него посыпались угрозы с обеих сторон. Бедняга оказался для всех чужим. Пытался одеваться и жить как скромный земледелец – но крестьяне не принимали его за своего, а одна вооруженная банда едва его не убила. Женился на дворянке, ясно давал понять, что не хочет иметь ничего общего с насилием, – но дворяне видели в нем одного из крестьянских вождей, а за это грозила казнь. Когда же наконец насилие подошло к концу и он смог выбраться из своего укрытия – куда ему было идти? И Карлштадт обратился к Лютеру.
12 июня отправил он бывшему другу и недавнему врагу чрезвычайно смиренное письмо, моля о прощении за «все, чем я согрешил перед вами, подвигаемый ветхим Адамом»[408]. Он спрашивал, не может ли Лютер принять к себе его жену и дочь. Двадцать седьмого июня, как раз в день свадебной церемонии, жена и ребенок Карлштадта приехали в Виттенберг и укрылись под крышей у Лютера, в Черной Обители. Сам Карлштадт появился немного позже.
Карлштадт попросил Лютера, чтобы тот заступился за него перед новым курфюрстом, герцогом Иоганном, и тот позволил ему вернуться в Саксонию. Как бы ни было это унизительно – он даже отрекся от последних своих книг против Лютера и дал обещание ничего больше не писать, ничему не учить и не проповедовать. Лютер в самом деле обратился к курфюрсту, сказав, что Карлштадта стоит выслушать и дать ему возможность доказать, что в нем нет «мятежного духа» Мюнцера. Учитывая атмосферу тех дней, вполне возможно, что это спасло Карлштадту жизнь.
За эти восемь недель, прячась под покровительством Лютера, Карлштадт сочинил апологию – так и названную, «Апология», – где объяснил свою позицию и рассказал о своих блужданиях среди бунтующих крестьян. Сам Лютер написал вступление к этой книге, в котором обозначил свои резкие доктринальные разногласия с Карлштадтом, – однако, несмотря на это, использовал свое влияние, чтобы обеспечить Карлштадту справедливое разбирательство. Карлштадт даже издал памфлет, в котором разъяснил, что его взгляд на Святые Дары – отличный от Лютерова «Реального Присутствия» – никогда не носил вероучительного характера, что это лишь его личные взгляды, которые он выражал в виде тезисов для последующего обсуждения.
Даже Лютеру нелегко было убедить курфюрста, что Карлштадту можно позволить вернуться в Саксонию. Слишком велик был страх, что тот опять начнет мутить народ. Карлштадт попросил дозволения поселиться в Кемберге; но этот город стоял на столбовой дороге в Лейпциг, и курфюрст побоялся, что там ему будет слишком легко общаться с людьми и распространять свои идеи. В сентябре Карлштадт наконец получил официальное разрешение поселиться в Зеегренне, маленькой деревушке в пяти милях к юго-востоку от Виттенберга, где жила семья его жены. По-видимому, такой вариант предложил Спалатин: в результате Карлштадт осел и вдали от шумного города, и поблизости от Виттенберга, чтобы легче было за ним приглядывать.
В начале 1526 года Карлштадт крестил своего сына – и пригласил в крестные отцы Юстуса Йонаса и Иоганна Бугенгагена, а крестной матерью стала Кати Лютер. Сам Лютер и еще множество гостей из Виттенберга приехали на праздник в Зеегренну. Сыну Карлштадта, названному, как и отец, Андреасом, было уже два года – для «крещения младенца» поздновато; однако родился он в то время, когда Карлштадт был изгнан из Саксонии, и, возможно, в то время отец его не признавал крещения во младенчестве. Но теперь настало время примирения – и даже сам Лютер был изумлен свершившейся переменой. В письме к Амсдорфу он писал: «Кто бы мог подумать еще год назад, что человек, называвший крещение “собачьим купанием”, теперь будет просить врагов крестить его сына?»[409][410].
Семейная жизнь
Итак, в сорок два года Лютер наконец зажил своим домом. Впрочем, жил он все там же, где и поселился пятнадцать лет назад, едва приехав в Виттенберг. Единственная разница состояла в том, что прежде с ним в Черной Обители проживало еще сорок монахов, – теперь же здесь обитал лишь один бывший монах вместе с бывшей монахиней. Брак Лютера оказался на удивление счастливым – к чести и его, и Кати. Все годы, проведенные вместе, Лютер был с ней неизменно весел и ласков – поистине удивительно, если вспомнить, каким гневливым и раздражительным стал он к концу жизни. Но и сама Кати была, по всем свидетельствам, удивительной женщиной. Значительно (на четырнадцать лет) моложе Лютера, она, однако, сразу с ним сошлась; они стали близки так, как только могут быть близки супруги. Годы спустя Лютер вспоминал первый год своей семейной жизни:
В первый год после женитьбы тебя одолевают странные мысли. Сидишь, например, за столом – и думаешь: «Прежде я всегда обедал один, а теперь нас тут двое». Или в кровати, когда просыпаешься и видишь рядом пару хвостиков, которых раньше здесь не было. Как бы ни был занят муж, жена постоянно вносит в его жизнь уйму мелочей. Поначалу Кати сидела подле меня, когда я работал; я сижу, погрузившись в свои труды – и вдруг она поворачивается ко мне и спрашивает: «Доктор, а наш магистр – брат маркграфа?»[411]
Кати уважительно именовала Лютера «доктором» – хотя, представляя ее себе, думаешь, что, должно быть, она произносила это с улыбкой и веселым блеском глаз. А он отвечал той же любезностью, называя ее Doktorin, то есть «докторшей». Когда читаешь об их семейной жизни, никогда не возникает ощущения, что Кати «недотягивала» до Лютера или что ему было сложно с ней общаться из-за ее молодости и недостатка образования.
Начало семейной жизни ознаменовалось для Кати решительными переменами в быту. Из роскошного и благоустроенного «дворца» Кранаха она переехала в Черную Обитель – почти что в сарай. Монастырь давно опустел: жили в нем только Лютер, еще один монах по имени Брисгер да слуга Лютера Зибергер, прославленный полным незнакомством с понятиями чистоты и порядка. Брисгер скоро женился и съехал, а Зибергер выстроил себе пристройку – так что огромное ветхое здание, столетняя обитель вечных холостяков, перешла в полное распоряжение Лютера и Кати. Сказать, что от заботы этой женщины монастырь сильно выиграл, – значит невероятно преуменьшить реальность. До женитьбы Лютер жил типичной холостяцкой жизнью, о которой можно судить по такому шокирующему признанию: «До того, как женился, я целый год не менял себе постель, так что она вся провоняла моим потом»[412]. Только представьте себе этот вонючий соломенный матрас, пропитанный потом Мартина Лютера до такой степени, что уже и самому хозяину это стало нестерпимо, – и от души порадуйтесь, что он все-таки нашел свою тихую пристань. И в самом деле, умелые руки Кати очень скоро изгнали из Черной Обители всю нечисть – в самом буквальном смысле слова.
Нет сомнений, что хозяйство вела Кати, и заботы ее были неисчислимы. Она руководила покраской и оштукатуриванием дома – операциями совершенно необходимыми; она же со временем начала выращивать коров, свиней и даже разводить рыбу. Да, именно Кати надзирала за рыбным прудом, дававшим на обед форелей, окуней, щук и карпов, – их ловили сетями. Был возле монастыря и сад, источник яблок, груш, орехов и персиков. Присматривала Кати и за скотным двором. Помимо свиней, она разводила коров, уток и кур. Стоит отметить, что эта бывшая монахиня и дворянка сама резала скотину. Лютер отвечал за огород, где росли дыни, огурцы, горох, латук, капуста и прочее. На огороде он работал сам – и постоянно рассылал своим друзьям семена.
Кати занималась и денежными делами семьи. Сам Лютер был к этому мало способен, должно быть, потому, что привык жить монахом и довольствоваться немногим: деньги у него не задерживались, почти все, что оказывалось в руках, он старался поскорее раздать. Щедрость его была притчей во языцех, и друзьям порой приходилось вмешиваться и удерживать его от безрассудных трат. «Не могу поверить, – заметил он как-то, – что меня можно обвинить в сквалыжничестве»[413]. Даже получив свадебный подарок, по его мнению, чересчур роскошный, Лютер попытался отослать его назад – и хорошо, что Кати вовремя его спрятала! Книги его расходились бешеными тиражами по всей Европе, но за издание их Лютер не получал ни гроша – и отказывался, даже когда печатники пытались его вознаградить; не брал денег он и за проповеди. Он просто стремился распространять Слово – а в вопросе хлеба насущного полагался на Бога. Однако физической работы Лютер не чурался. Помимо огорода, однажды он решил принести в семью дополнительный доход работой по дереву. В первый год брака он заказал токарный станок и другие необходимые инструменты; однако Лютер не был таким мастером резьбы по дереву, чтобы работа его приносила доход, – и в конце концов этот проект пришлось отложить. Не отказывался он и от домашних дел – например, сам латал свои прохудившиеся штаны, чтобы сэкономить на портном.
Постоянным источником дохода для семьи стали жильцы – в основном студенты, приезжавшие учиться в Виттенберг, которым Лютеры предоставляли кров и стол. Разумеется, Кати ни минуты ни сидела без дела. Позже она купила ферму в Цюльсдорфе неподалеку и проводила там много времени. Лютер начинал письма к ней забавным обращением: «Богатой госпоже Цульсдорфской [sic!], госпоже докторше Катарине Лютер, обитающей во плоти в Виттенберге, а духом в Цульсдорфе». Или: «Возлюбленной жене моей Катарине, госпоже докторше Лютер, властительнице свинарника, госпоже Цульсдорфской, а также владелице всех иных титулов, какие угодны будут ее светлости». Они с Лютером, похоже, постоянно добродушно поддразнивали друг друга. Кто бы мог подумать, что из Мартина Лютера получится отличный семьянин? К концу первого года жизни с Кати он писал: «Моя Кати во всем меня так радует и веселит, что свою бедность я не променял бы на все богатства Креза»[414].
Кати была чудесной женщиной: умной, веселой, всегда бодрой и энергичной, у которой все в руках спорится – и не только в руках. Брак их официально совершился 13 июня, а уже в октябре Кати почувствовала себя беременной. Всего у них родилось шестеро детей. Однако мысль, что монах и монахиня зачали ребенка, поначалу поразила и даже напугала публику. Разумеется, поговаривали люди, Бог должен как-то выразить недовольство этим нечестивым союзом – но как? Что за страшный урод появится на свет от безбожного совокупления? Быть может, чудище вроде Папского осла, Теленка-Монаха, – или того безголового младенца, что, как говорят, родился в Виттенберге в прошлом году? Большая часть досужих саксонских сплетников сходилась на мысли, что ребенок родится с двумя головами.
7 июня 1526 года появился на свет первенец Лютера – по счастью, с одной головой. Лютер не мог сдержать радости и на следующий же день написал своему другу Иоганну Рюгелю в Айслебен, где в то время жил и Иоганн Агрикола:
Пожалуйста, передай от меня магистру Айслебенскому [Иоганну Агриколе], что вчера, в день, называемый «Дат»[415], в два часа дорогая моя Кати милостью Божьей подарила мне Гансена Лютера. Скажи, чтобы не удивлялся, что я спешу к нему с этой новостью, – пусть сам подумает, как радует нас солнце[416] в такое время года.
Пожалуйста, передай привет твоей дорогой солнценосительнице, а также айслебенской Эльзе. Препоручаю тебя Богу. Аминь. Сейчас, когда пишу, моя Кати еще в постели и зовет меня.
Мартин Лютер[417].Сына назвали Гансом, в честь его крестного Иоганна Бугенгагена, а также отца Лютера, Иоганна, которого тоже все звали Гансом. В первые годы жизни мальчика его называли уменьшительным именем Геншен. Крестили его всего через два часа после появления из материнской утробы.
Глава восемнадцатая Эразм, спор о таинстве, музыка
Эразм – это угорь.
Мартин ЛютерГромкий разрыв между Лютером и Эразмом можно назвать одной из величайших интеллектуальных битв нашей эпохи. Подобно отношениям Фрейда и Юнга или Чарльза Дарвина и Альфреда Рассела Уоллеса, он проливает яркий свет на идейные проблемы и разногласия своего времени. Однако до того, как Лютер и Эразм принялись обмениваться ударами и пинками, их обычно считали союзниками. В сущности, едва учения Лютера начали распространяться среди широкой публики, многие в Ватикане возложили вину за это прямиком на плечи голландского «князя гуманистов». В Эразме, в его единственной любви – гуманизме, а также в его остроумных и популярных критических сочинениях в адрес Церкви видели ту плодородную почву, на которой возрос этот немецкий сорняк. Легко понять, как возникла такая мысль. В то время – особенно в первые два года после публикации «Девяноста пяти тезисов» – связь Лютера с Эразмом была очевидна. Пусть ни тот, ни другой не признавали этого впрямую – но они явно были интеллектуальными товарищами по оружию. Оба видели и громко заявляли, что Римская Церковь уклонилась с пути истины и нуждается в реформе. Разумеется, видели это не они одни – однако именно их голоса и перья в первую очередь подняли эту тему, затронули важную струну и нашли себе широкую аудиторию. Каким путем каждый предлагал идти к вожделенной реформе – вопрос второй; но многое из того, что они говорили, поражало сходством – не в последнюю очередь потому, что все это были очевидные истины.
И Лютер, и Эразм выступали против законнического подхода Церкви ко многим вопросам, ее внимания к мелочным внешним правилам и запретам за счет принципов более глубоких и важных. Эразм говорил: главным учением Церкви стало ныне не «возлюби ближнего своего», а «в Великий пост не ешь масла и сыра»[418]. И Лютер, и Эразм видели одну из главных проблем в папе и папстве – и прямо об этом говорили. Исследователь Лютера Роланд Бейнтон пишет о том, что многое, выходившее из-под пера Эразма в тот период, звучало как одобрение Лютера, хотя впрямую Эразм никогда его не одобрял. Например, в новое издание «Примечаний к Новому Завету», выпущенное в 1519 году, Эразм добавил такой пассаж:
Но как осложнили и затруднили человеческие правила таинство покаяния и исповеди! Вечно висит над несогласными меч отлучения. Священный авторитет римского понтифика так замаран отпущениями, разрешениями и прочим, что благочестивый человек не может смотреть на это без тяжких вздохов. А Аристотель нынче в такой моде, что в церквях едва остается время толковать Евангелие.
В том же 1519 году он добавил в свою «Ratio theologiae»[419] отрывок, во многом повторяющий и подытоживающий мысли Лютера того времени:
Некоторые полагают, что вселенское Тело Христово сжалось до размеров тела римского понтифика, не способного заблуждаться в вопросах веры и нравственности; так они приписывают папе больше, чем приписывает себе он сам, хоть и без колебаний оспаривают его суждение, случись ему помешать их обогащению или честолюбивым планам. Ужели это не прямой путь к тирании – в случае, если такая власть попадет в руки человеку нечестивому и свирепому? То же можно сказать и о десятинах, обетах, реституциях, отпущениях и исповедях, которыми дурачат простых и суеверных людей[420].
Сходство с Лютером здесь поразительное. Однако Эразм всегда отличался большой чуткостью к веяниям эпохи – а проще говоря, умел держать нос по ветру – и четко понимал, до каких пределов стоит поддерживать Лютера. Сам Лютер считал его человеком скользким – так и говорил: «Эразм – это угорь. Один Христос в силах его схватить». Так, например, Эразм всегда настаивал на том, чтобы дело Лютера разобрали по существу, но был осторожен и никогда прямо не высказывался в его защиту. Были между ними и разногласия – так что Эразм вовсе не хотел, чтобы разверзшаяся пропасть Реформации поглотила его, словно Корея[421]. Например, воинствующий национализм Лютера – или, по крайней мере, заигрывания Реформации с национализмом – представляли угрозу надеждам Эразма на объединение Европы. Вполне сознательно Эразм посвятил свои комментарии к четырем Евангелиям четверым правителям новых европейских национальных государств: Генриху VIII Английскому, Фердинанду Австрийскому, Франциску Французскому и Карлу Испанскому. Образ единой Европы под эгидой Рима был для него важен и дорог.
Но еще одно, более фундаментальное различие состояло в том, как эти двое себя презентовали. Лютер был в высшей степени немец – иначе говоря, прямота и любовь к истине порой доходили у него до степени комической. В богословских спорах он иногда не знал удержу; и, по всей видимости, полагал, что так и надо, что, если он и перегибает палку, – Господь разберется. А Эразм был противником споров и открытых столкновений. Он был больше литератором, чем богословом – в сущности, богословом он не был вовсе, – и шутку, сатиру, намек всегда предпочитал прямоте и резким обличениям. В отличие от Лютера, к богословию Эразм был равнодушен – это в конечном счете и привело к громкому разрыву между ними. Не случайно святым покровителем Эразма был «благоразумный разбойник», никогда не слышавший ни о Троице, ни о Филиокве, ни даже о том, что Иисус – совершенный Бог и совершенный человек. Подробности богословских споров Эразма не занимали. Он просто не понимал, что в этом важного или интересного. Свою задачу он видел в другом – донести до как можно большего числа людей основы христианской веры. На этом он так настаивал, что в 1519 году общество, созданное несколькими годами ранее в Европе для просвещения Америки, перевело несколько его сочинений на ацтекский язык.
Разумеется, это не значит, что Лютер не стремился обращаться к простому человеку – или не считал это одной из важнейших своих задач. Напротив, быть может, именно это и привело его к успеху. Он обладал поистине поразительным даром обращаться напрямую к простому немцу, сидящему на церковной скамье, – природным даром, отшлифованным и заостренным частыми проповедями в Виттенберге. Пожалуй, именно удивительный интеллектуальный размах Лютера – способность переходить от переводов с латыни и греческого, от глубокой экзегезы и богословских исследований к простой и ясной проповеди, понятной любому крестьянину – делает его гением, которому трудно найти равных. Он не просто не пренебрегал простыми людьми; те, кто ими пренебрегал, были ему ненавистны. Мракобесие схоластов и Аристотеля почитал он враждебным и самому Христу, и тем, кого любит и о ком заботится Христос. Замечание об этом можно найти в его позднейших «Застольных беседах». «Прокляты те проповедники, – говорил он, – что в церкви вещают о высоком и сложном и, пренебрегая спасением бедных неученых простаков, ищут лишь собственной чести и славы или того, как бы угодить одному-двум влиятельным господам».
В предисловии-посвящении к своему «Трактату о добрых делах» Лютер писал:
Хоть и знаю прекрасно, и слышу каждый день, что многие обо мне низкого мнения – он, мол, пишет только проповеди и памфлеты по-немецки для неученых мирян, – это меня не останавливает. Дай-то Бог, чтобы за всю жизнь я хоть одному мирянину действительно помог стать лучше!
…С величайшей радостью оставил бы я честь и славу сложных тем кому-нибудь другому. Нимало не стыжусь проповедовать неученому мирянину и писать для него по-немецки. Пусть сам я не слишком даровит – думается мне, если отныне мы возложим на себя такую задачу и постараемся в будущем сделать больше, весь христианский мир немало от этого выиграет и уж точно получит больше пользы, чем от тяжелых томов и questiones, что ни для кого, кроме студентов в школах, не годятся[422].
Так что Лютер всегда готов был признать себя «горняцким сыном» или обменяться с простым мужиком такими шутками, от которых поморщился бы утонченный и интеллигентный Эразм. Но, в отличие от Эразма, к порядку и точности в богословских вопросах Лютер подходил с истинно немецкой педантичностью: это и привело к разрыву между ними. По-видимому, именно в этой точке Лютер отошел от гуманизма – или гуманизм от Лютера. В конце концов встал вопрос: долго ли гуманизм и его приверженцы – и «князь гуманистов» в том числе – смогут идти с Лютером рука об руку? В какой миг Эразм понял, что скачет на спине тигра, и захотел сойти?
Стоит вспомнить, что без интеллектуального движения, именуемого гуманизмом, феномен Мартина Лютера едва ли стал бы возможен. Не будь греческого Нового Завета, восстановленного Эразмом, не стоит и думать, что Лютер сумел бы создать столь яркий и доступный перевод, навсегда изменивший жизнь всех людей, говорящих по-немецки, сделавший их поистине народом Книги. Стоит напомнить и о том, что именно великий гуманист Рейхлин помог Меланхтону стать тем, кем он стал, – и перекроить Виттенберг по гуманистической мерке.
Однако к середине 1520-х годов вселенные Лютера и Эразма дошли до края столкновения. Лютер критиковал Церковь так резко и непримиримо, как еще несколько лет назад и представить было нельзя. Много раз писал Эразм о том, как глубоко озабочен он тоном Лютера, на его взгляд, вредящим делу церковных реформ. У самого Эразма тоже бывали проблемы с Церковью – но никогда он не рвал с ней, как Лютер, и совершенно точно не собирался выходить из границ того, что у католиков именовалось правоверием. Осторожный и чуткий, он прекрасно понимал, когда следует умолкнуть, отступить и на цыпочках вернуться в объятия Церкви.
Таким образом, не только настроение, но и цели критики Церкви у Лютера решительно расходились с целями Эразма – и с какого-то момента Эразм уже не мог закрывать глаза на эту разницу. То, что говорил и делал Лютер после Вормса – назвал папу антихристом, сжег папскую буллу, – для него было совершенно неприемлемо. Более того: король Генрих VIII обратился к нему с просьбой написать что-нибудь против Лютера, чтобы прояснить эту разницу и засвидетельствовать свою лояльность Церкви. Так сидение Эразма на двух стульях подошло к концу. Церковь ждала от него четкого и ясного заявления, что стулья эти разные.
Надо сказать, в любом случае, что бы ни делал теперь Эразм, многие возложили бы на него вину за создание гуманистической и критической атмосферы, в которой и стал возможен Лютер. Однако настал момент, когда гуманизму и лютеровой Реформации предстояло прояснить свои взаимные отношения. Многие с нетерпением ждали голоса Эразма. Немало гуманистов, как Гуттен, презирали Церковь и стремились к Реформации больше самого Лютера – но многие другие желали ясности. Как далеко могут зайти реформы? Где предел? И ответа ждали именно от Эразма. Но к ссоре с Лютером Эразм стремился не больше, чем к ссоре с Церковью. Ссориться было просто не в его стиле.
Лютер на своем фланге испытывал те же трудности. После Крестьянской войны католики заговорили о том, что это он столкнул с горы эту лавину. В июле 1525 года старый враг, Иероним «козел» Эмзер, бывший капеллан герцога Георга, написал об этом целое сочинение: «Как Лютер в своих книгах призывал к мятежу». А за этой книгой последовала еще одна, написанная новым капелланом Георга и новым врагом Лютера, Иоганном Кохлеусом. И как будто этого было недостаточно – в октябре на Лютера накинулись разом его друг Капитон и швейцарский реформатор Ульрих Цвингли. Лютер оказался в положении кролика, которого рвет на части свора собак; и громкая ссора с Эразмом – последнее, что было ему сейчас нужно.
История Лютера ясно свидетельствует о том, какие случайные внешние факторы порой определяли и его путь, и путь Реформации в целом. Не будь император занят войнами с Францией, Италией и турками – он проследил бы за выполнением Вормсского эдикта, и у Лютера не появилось бы свободных четырех лет на проповедь и распространение своих идей. Не будь папа Лев настолько близоруким – и в прямом, и в переносном смысле, – он брался бы за богословскую взрывчатку Лютера в лайковых перчатках, а не бил по ней молотом. Свою роль сыграла и смерть папы Льва в декабре 1521 года. Его преемником стал Адриан VI, как и Эразм, происходивший из Голландии: он искренне желал осушить болото, в которое превратился папский Рим. Последний из шестерки «адских пап» наконец отправился… одному Богу ведомо куда – и все с трепетом ждали новой эры. Однако Адриан VI умер, проведя на престоле святого Петра лишь двадцать месяцев, и сделать успел немного. Впрочем, сразу после избрания, в январе 1522 года, Эразм отправил новому папе письмо с поздравлениями и заверил, что тот может положиться на соотечественника, – Эразм готов оказать ему любую возможную помощь. В ответ Адриан VI присоединился к Генриху VIII – ответил, что больше всего пользы принесет Эразм Святому Престолу, если направит свое прославленное перо против Лютера.
Никогда прежде Эразм не выступал открыто против Лютера; но теперь время пришло. Папа сделал ему предложение, от которого было невозможно отказаться. Скорее всего, именно это наконец подвигло Эразма написать трактат по вопросу, который он считал важнейшим в своих разногласиях с Мартином Лютером, – вопросу о свободной воле.
Впрочем, непосредственно к появлению на свет этого трактата привела цепочка более мелких событий. На жесткую критику Генриха VIII Лютер написал ответ, поразивший Эразма грубым и непочтительным тоном – и Эразм счел нужным высказать по этому поводу свое возмущение. На это Ульрих фон Гуттен, гуманист и горячий сторонник Реформации, в своем «Expostulatio» ответил еще резче: не обинуясь, назвал он Эразма трусливым, самовлюбленным и жадным до славы, а отношения его с Реформацией охарактеризовал как двурушничество и даже хуже того. Глубоко оскорбленный, Эразм счел необходимым написать ответ, который назвал «Spongia adversus aspergines Hutteni» («Губка[423] против ядовитых брызг Гуттена»). В этом ответе он писал, что главная заслуга его перед Реформацией – в неустанных стараниях смягчить «твердолобую прямоту»[424] Лютера, и жаловался, что за свою позицию терпит поношение от обеих сторон. Сам он, продолжал Эразм, ничего так не желает, как сохранить единство Церкви – а писания, подобные статье Гуттена, мягко сказать, этому не помогают.
На этой стадии Лютер ощутил необходимость вмешаться. На его взгляд, не место было ни светской болтовне, ни остроумным словечкам, ни даже «единству» там, где речь шла об истине и Благой Вести. Он ясно видел, что Эразм трусит и пытается усидеть на двух стульях там, где давно настала пора выбирать. Об этом Лютер написал в Базель Конраду Пелликану. Прекрасно зная, что это письмо прочтет и сам Эразм, он писал: пора бы ему «стать мужчиной»[425] и взять быка за рога, а не бегать бестолково вокруг поля битвы, оглашая его жалобными воплями. Как он не понимает, что на кону стоит судьба христианства? Почему не вступит в бой?
Но Эразм был другим человеком. Бросаться в бой очертя голову он не стал бы никогда; а обвинения Лютера принудили этого гениального ученого положить конец молчанию. В ответ на обвинения в трусости Эразм наконец выпустил в свет книгу о свободе воли, которую написал еще по просьбе Генриха VIII, но до сих пор оставлял неопубликованной. Книга эта была прямо и откровенно направлена против Лютера. Лютер этого пока не знал – хотя подозревал, что получит от Эразма какой-то ответ. В то время друг Меланхтона Камерарий – тот самый, которому Меланхтон жаловался по-гречески на скоропалительную женитьбу Лютера, – как раз направлялся в Базель, и Лютер воспользовался этой возможностью, чтобы передать с ним письмо Эразму. Он знал, что Эразм пользуется величайшим уважением; но сам Лютер никогда не страдал трепетом перед авторитетами – и написал ясно: если Эразм не станет на него нападать, то и Лютер оставит его в покое, но если начнет прямо и открыто писать против Лютера и Реформации – Лютер откроет ответный огонь и стесняться не будет. Довольно высокомерно отвел он Эразму роль немощного наблюдателя, которому не хватает сил, чтобы вместе с самим Лютером участвовать в битве за истину. В сущности, он сказал Эразму – напрямик, без всякой дипломатичности, очень по-немецки: «Не путайся под ногами – и останешься цел». Все равно что назвал немощным стариком, ходящим под себя – по крайней мере, именно так воспринял это Эразм.
Итак, чувствуя необходимость прояснить свою позицию, 1 сентября 1525 года Эразм опубликовал свой трактат о свободе воли, так и названный: «О свободе воли». Полное название звучало как «De libero arbitrio diatribe sive collatio»: название макароническое, в котором слово «диатриба» было написано заглавными греческими буквами, а все остальное по-латыни. Едва вышла в свет эта книга, весь гуманистический мир замер в предвкушении: как видно, между «князем гуманистов» и вождем Реформации начался поединок – битва веков, волнующая схватка двух интеллектуальных тяжеловесов своего времени.
Продуманно и тонко, с обычным своим красноречием Эразм рассмотрел обсуждаемую проблему со всех сторон. И – еще более характерно для себя – занял твердую позицию против любых твердых позиций, заявив, что вопрос, существует ли свободная воля, невозможно разрешить раз и навсегда. Единственное, что можно сказать точно: ошибаются те, кто считает, что Лютер доказал ее несуществование. Кроме того, немало мест в Ветхом Завете свидетельствуют в пользу свободной воли; да и отцы Церкви, правоту которых подтверждает их жизнь, исполненная великой святости (всем читателям было понятно, в чей огород этот камушек), считали, что свободная воля существует. Это факт. А кроме этого, мы не можем сказать, не играет ли свободная воля какую-то, пусть и очень скромную роль в нашем спасении – хоть тут Эразм и справедливо оговаривал, что причиной любых наших «добрых дел» в любом случае является Бог и все, что мы делаем, следует приписать Божьей благодати. Но значит ли это, что свободной воли у нас нет? В этом Эразм сомневался. Очевидно, перед нами тайна, непостижимая уму. Ну что ж – это Эразма не смущало. Тайна так тайна. Если текст непонятен, к чему насильно выдавливать из него какой-то смысл, – не лучше ли просто признать, что он непонятен? И в этом, и в некоторых других вопросах единственный честный путь – признать, что перед нами тайны, непосильные для нашего разума. Так что рассуждение Лютера о свободе воли интересно и во многом полезно, но зря он предъявляет его как некое последнее слово, окончательное решение вопроса[426][427].
Кроме того, Эразм чувствовал, что некоторые истины лучше держать подальше от широкой публики; и опасная идея Лютера, что свободы воли не существует – а значит, то, что человек делает, никак не влияет на его спасение, – брошенная «в народ», может привести к поистине роковому заблуждению, способному разложить и погубить общество. С его точки зрения, это разложение общества из-за идей Лютера уже началось, и Лютеру стоило бы этим обеспокоиться. Одно дело – спорить с натужным фарисейским благочестием, совсем другое – распахнуть двери для дикости и бесстыдства. Религиозное ханжество никому не по душе, но это не значит, что в собор Святого Петра должен вломиться Дионис со своим тирсом и менадами и устроить там вакханалию. Меж тем горестные вести из Германии говорят о том, что именно это уже происходит. Вопрос о свободной воле – не пустой вопрос, он имеет огромное значение: ошибка в нем может страшно навредить верующим, неискушенным в сложных богословских спорах, – поставить под угрозу и их жизнь, и, что куда важнее, вечное спасение.
Вообще Эразм не любил писать о вероучительных материях – и в своем труде об этом упомянул; однако чувствовал себя обязанным написать эту книгу. После того как Адриан VI умер и его сменил родич Льва X, Эразм втайне надеялся, что на этом его служба сторожевым псом при папском дворе окончится: он, так сказать, принес свое покаяние – на том и делу конец. Разумеется, вышло не так: получив от Эразма первое сочинение против Лютера, католические правители вцепились в него и принялись жарко убеждать, чтобы он продолжал разрабатывать эту золотую жилу. Особенно не терпелось прочесть продолжение герцогу Георгу! Он требовал, чтобы Эразм без промедления сел и опроверг возмутительные нападки Лютера на монашество. Раз уж у Эразма есть ружье, – так рассуждал он, – чего ему зря висеть на стенке, пусть палит из всех стволов!
Лютер в это время был так занят, что не прочел «De libero arbitrio» до ноября. Как правило, Лютер вообще читал сочинения против себя выборочно, кусками. Искажение его мыслей, натянутые аргументы и явная ложь слишком его расстраивали. Он прочитывал столько, чтобы иметь возможность написать ответ – а остальное, из-за дороговизны бумаги, а также для того, чтобы от души (и от тела) выразить свои чувства, использовал так же, как жители Орламюнде в свое время использовали его сочинение «Против небесных пророков» – как spongi culus[428]. Эразму Лютер, можно сказать, оказал особую честь – прочел его книгу целиком; однако книга вызвала в нем такое отвращение, что далеко не сразу он собрался с духом и смог ответить. На его взгляд, это было какое-то протухшее жаркое, к которому и прикасаться не стоит, – лучше сразу выбросить на двор.
Кроме того, Лютер был просто сильно занят другими делами. Однако избежать ответа было нелегко. Друзья и сторонники Лютера осаждали его, требуя ответить. Всю осень Иоахим Камерарий, можно сказать, прыгал от нетерпения, как и многие другие гуманисты-сторонники Реформации, – просто Камерарий выражал свое нетерпение громче всех. Но прошла осень, за ней и зима – а на горизонте ни облачка. 4 апреля Камерарию написал Меланхтон – и заверил своего бывшего ученика, что Лютер наконец сел за ответ Эразму и скоро выпустит его в свет. Для Лютера, писал он, сложнее всего начать – но если уж начал, то не остановится, пока не доведет дело до конца! Однако оказалось, что Меланхтон принял желаемое за действительное. Чем только не занимался Лютер – только не ответом Эразму! В начале 1525 года возился с Карлштадтом, в апреле съездил в Айслебен и написал две книги, связанные с ужасами Крестьянской войны. А в июле, как мы уже знаем, женился, чем вызвал новое язвительное письмо Меланхтона. 19 июля Меланхтон написал Камерарию еще раз – и вынужден был признать, что ошибся: работа не двигается, а Лютер вместо того, чтобы спорить с Эразмом, снова читает лекции. В середине лета он начал цикл лекций по книге Наума, а к концу года за ними последуют книги Аввакума, Софонии, Аггея и Захарии. Когда же ему найти время ответить Эразму? Иной раз кажется, что он просто не может на это решиться, – как будто свободная воля отнята у него не только в вопросе спасения!
В августе Камерарий приехал в Виттенберг. К этому времени он, похоже, так отчаялся получить от Лютера ответ, что обратился со своей просьбой к молодой жене великого человека. Быть может, Кати все-таки убедит мужа сесть и написать то, чего с нетерпением ждут от него все гуманисты-реформаторы? Что ж – Кати в самом деле убедила мужа, с которым прожила всего два месяца, собраться с духом и взяться наконец за это неприятное дело. В результате на свет появился трактат под названием «De servo arbitrio» (в противоположность Эразмову «De libero arbitrio»), то есть «О рабстве воли»[429]. Лютер напряженно работал над книгой всю осень – и закончил лишь под Новый год. Тон ее настолько резок и несдержан, что, получив ее, достопочтенный Эразм написал Лютеру напрямую:
Натура твоя известна всему миру; однако ни на кого ты не нападал с таким бешенством и, что еще хуже, никому еще так явно не желал зла, как мне… Все эти обвинения, непристойные и оскорбительные – я, мол, и безбожник, и эпикуреец, и скептик, – чем помогут тебе в споре?.. Скорбь и ужас охватывает меня, как, должно быть, и всех добрых людей, когда вижу, как своим высокомерием, заносчивостью, строптивостью ты весь мир вверг в войну… Пожелал бы тебе лучшего расположения духа – но слишком ясно, что ты доволен тем, что есть. Можешь проклинать меня любыми проклятиями – не желай лишь, чтобы я уподобился тебе[430].
Однако если отложить в сторону буйный полемический темперамент и злой язык Лютера – что же представлял собой этот его долгожданный труд? Прежде всего, Лютер написал его не с чистого листа: он принял решение опровергать Эразма пункт за пунктом и следовать общей форме его труда, так что получилось не столько изложение взглядов самого Лютера, сколько опровержение Эразма. И все же эта книга по праву считается величайшим из трудов Лютера – да и сам он со временем начал смотреть на нее так же. Прежде всего, проблему свободы воли Лютер считал важнейшим богословским вопросом. Это самая сердцевина, Святая святых Благой Вести – лучшей из возможных новостей: мы не можем сами выбраться из ада, не можем освободиться от греха и вечного проклятия собственными силами, но – mirabile dictu! – Христос Сам спускается в ад и освобождает нас. Все, что нам нужно – в Него поверить; и вот мы уже навеки, неопровержимо освобождены от греха и смерти. Мы не обязаны ничего делать, чтобы спасти себя, – да ничего сделать и не можем, и это чрезвычайно важно: понять, что сами для себя мы не можем сделать ничего. Ничего. Думать, что мы сами способны сделать какой-то (пусть самый скромный, о котором в обтекаемых выражениях писал Эразм) вклад в свое спасение, – не что иное, как самое зловредное и опасное заблуждение в истории человечества.
Надо сказать, что, несмотря на свой желчный тон, Лютер воздал Эразму должное за то, что для полемики тот выбрал единственно важную тему:
Только ты… заговорил о настоящем деле, о том, что действительно имеет значение. Не стал беспокоить меня вопросами мелкими и внешними – папством, чистилищем, индульгенциями и прочими мелочами, которыми до сего дня почти все изнуряли меня и пили мою кровь… Ты, ты один увидел ось, на которой все держится, и прямо по ней нанес удар. За это сердечно тебя благодарю; об этом предмете я рад говорить без устали.
Но дальше он ядовито замечает: если это – лучшее, что смог выдавить из себя величайший интеллектуал современности, это лишь подтверждает его убеждение, что никакой свободы воли не существует. Сам Лютер прекрасно понимает, что аргументация его порой напоминает скачки на дикой лошади, а из-под пера сочится кислота:
А что спорю я порой слишком жарко – что ж, признаю свою вину, если это вина; но нет, я рад свидетельствовать миру о Боге, и пусть сам Бог подтвердит мое свидетельство в последний день![431]
Для Лютера этот вопрос стоит в центре человеческого существования: здесь неизбежный выбор между жизнью и смертью, небесами и адом, вечной славой и несказанной радостью – и столь же невообразимыми ужасами и кошмарными муками. Так что, играя словами, приравнивать свободу воли к ее отсутствию, скользить на коньках красноречия мимо проруби, в которой прямо сейчас тонут тысячи людей, – значит служить злу, иначе об этом не скажешь. Это необходимо видеть ясно, понимать твердо и верить в это всем сердцем – иначе, даже сам того не зная, окажешься на одной стороне с дьяволом. Лютер надеялся не просто выиграть спор, но перетянуть Эразма на свою сторону в вопросе, который считал самым важным на свете.
Сам Лютер в молодости тоже пытался взойти на небеса собственными силами – и в результате уже при жизни пережил опыт ада. Все его усилия лишь отбрасывали его назад, в преддверие геенны огненной. Ни к чему другому человеческие усилия привести и не могут – и Лютер не видит смысла смягчать и подслащать эту горькую истину:
Что же до меня – признаюсь откровенно, даже будь это возможно, я не желал бы, чтобы Бог наделил меня свободной волей или оставил что-то необходимое для спасения в моем распоряжении; и не только потому, что среди стольких бед, опасностей и бесовских нападений я не смог бы стоять твердо и держаться крепко (ибо один бес сильнее всех людей, вместе взятых, и спастись от него своими силами невозможно), но и потому, что, даже не будь ни бед, ни опасностей, ни бесов, я все же принужден был бы постоянно сражаться с неизвестностью и бить по невидимому противнику; сколько бы я ни прожил, сколько бы ни совершил, совесть моя не была бы спокойна, ибо никогда не знаешь, сколько нужно сделать, чтобы угодить Богу. И, сколько бы ни совершил я добрых дел, вечно меня грызло бы сомнение, что, быть может, Богу этого мало и нужно больше: об этом свидетельствует опыт всех самоправедников, об этом говорит и мой многолетний опыт, который вспоминаю с глубокой горечью[432].
С особой яростью нападает Лютер на утверждение Эразма, что наше мнение по вопросу о свободной воле неважно. Для Лютера нет учения более важного: в его глазах именно это учение определяет, как читаем мы всю остальную Библию. Правильно поняв эту доктрину, мы сможем отмести и все мнимые противоречия с Ветхим Заветом, на которые указывает Эразм. Сказать, что вопрос о свободе воли открыт для интерпретаций, – для Лютера все равно что сказать, будто для интерпретаций открыты вопросы о воплощении или о телесном воскресении Христа. Они вовсе не «открыты»: от того, как мы их понимаем, зависит и все остальное. Поэтому Лютер не жалел сил на прояснение учения о воле. По его словам, в нем заключается сокровище, доступное равно императору и простому мужику, Kaiser und Karsthans. Это не частный богословский вопрос – напротив, это то, что могут и должны понять все: без Иисуса мы погибли, с Иисусом мы спасены. Для Лютера вся его экзегеза группировалась вокруг этой оси, этого пути для человечества в жизнь вечную – а все аргументы Эразма против этого он отметал как солому.
Столкновение Лютера и Эразма завораживает. Публичная борьба между ними на этой величайшей работе Лютера завершилась – но не закончилась вражда. И, как ни старался Эразм дистанцироваться от Лютера, даже «De libero arbitrio» в глазах большинства католических критиков не отдалила его от еретика: Эразм для них оставался подозрительным криптолютеранином, и, чтобы опровергнуть это мнение, одной книги было недостаточно.
В 1559 году папа Павел IV опубликовал первый ватиканский «Индекс запрещенных книг». На почетном месте в нем, разумеется, стояли сочинения Мартина Лютера – иного и ожидать нельзя; но, приглядевшись, рядом с ними можно было обнаружить и сочинения Дезидерия Эразма.
Спор о таинстве
Столкновение с Эразмом было вызвано вопросом о свободе воли; а следующий спор в богатой на споры жизни Лютера касался Вечери Господней, и вести его пришлось уже не с католиками, а со своими же товарищами-реформатами. Спор шел о природе элементов Евхаристии, хлеба и вина. В Евангелии мы читаем, как Иисус на Тайной Вечере сказал: «Сие есть Тело Мое» и «Сие есть Кровь Моя»[433]. В обоих случаях он держал в руках нечто иное, чем свое тело и кровь – сперва хлеб, затем вино. Итак, вопрос состоял в следующем: что имел в виду Иисус, когда сказал: «Сие есть Тело Мое» и «Сие есть Кровь Моя»? Весь спор – в котором со временем пролилось немало подлинной крови и погибло множество настоящих человеческих тел, – развернулся из-за того, как понимать слово «есть».
Католическая Церковь всегда учила, что священник способен своей уникальной духовной властью буквально преобразовывать хлеб и вино в Тело и Кровь Христа. Когда он молится над этими элементами во время мессы, они каким-то образом по-настоящему становятся Телом и Кровью Христовыми[434]. Это учение называют доктриной о пресуществлении. Лютер не соглашался с этой доктриной, утверждая, что Писание здесь надо понимать в прямом смысле, ни больше ни меньше. Иисус сказал, что хлеб уже стал Его телом, а вино – Его кровью («Сие есть Тело Мое», «Сие есть Кровь Моя»). Он не говорил: «Хлеб сейчас станет Моим Телом» или «Вино вот-вот станет Моей Кровью». Только: «Это Мое Тело», «Это Моя Кровь». Всюду, где христианин с верою произносит эти слова, учил Лютер, уже присутствуют Тело и Кровь Христовы, ибо он повторил эти слова с верою. Писание говорит то, что есть: не нужно искать в нем метафоры и символы. Свое учение Лютер назвал учением о Реальном Присутствии. Иисус действительно присутствует в хлебе и вине. Не появляется в них от того, что об этом помолился священник – нет, Он уже присутствовал, когда мы поверили Его словам. Слово Божье – истина, и важно только одно: ему верить. Именно вера в слово Божье, а не магические слова священника, меняет все.
Однако не все с ним согласились. Первым не согласился Карлштадт, но более значительным стало выступление Ульриха Цвингли из Швейцарии, считавшего, что слово «есть» на деле значило «означает». Цвингли утверждал, что это открылось ему во сне, а взгляды Карлштадта на него не повлияли. Различия эти имели для тех, кто о них спорил, огромное значение.
Почему для Лютера это было так важно? В основном по двум причинам. Во-первых, говорил Лютер, мы должны верить в точности тому, что гласит Писание: раз Иисус сказал «есть» – понимать это следует именно как «есть». Любое иное понимание – ересь. Мы обязаны верить Слову. Да, это не всегда легко – но нельзя ставить человеческий разум превыше слова Божьего. Нам трудно понять, как хлеб и вино, оставаясь на вид и на вкус все теми же хлебом и вином, при этом становятся Телом и Кровью Христовыми; но трудно понять и Троицу, и воплощение, и воскресение, и многое другое, однако во все это мы должны верить, поскольку об этом говорит Писание. Нам не понять как хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христа; но нам не понять и как Дух Святой оплодотворил яйцеклетку Марии, и как мертвое тело Иисуса ожило, и как Иисус проходил сквозь стены и вознесся на небеса. Вряд ли мы когда-нибудь поймем, как все это произошло, – и тем не менее должны в это верить.
Вторая причина, по которой Лютер придавал этому вопросу такое значение, была связана с очень важной для него мыслью, что Бог не требует от нас отвращения к физическому или телесному. Согласно Лютеру, как гностики, так и современные ему католики учили: чтобы уподобиться Богу, нужно стать как можно более духовным и как можно менее телесным, вступить в войну с материальным миром и с собственным телом. Лютер говорил: это не так, Христос пришел в мир, чтобы его искупить, и стал человеком, чтобы искупить человечность. Любая материальная вещь в мире сем, которой коснулся Христос, искуплена: ей возвращена «благость», присущая ей до грехопадения. Поэтому говорить, что Христос не может присутствовать в хлебе и вине, что хлеб и вино должны претерпеть некое превращение и преобразиться в буквальные Тело и Кровь Христа (на вид и на вкус оставаясь хлебом и вином), – значит очернять хлеб и вино и с ними весь материальный, физический мир. По Лютеру, Христос может буквально присутствовать в хлебе и вине – и для этого им не нужно становиться чем-то иным, чем они есть.
Третья причина для Лютера была связана с ненавистным Аристотелем. Он обвинял Церковь в том, что нехристианскую философию Аристотеля она вводила в такие места, где той явно делать нечего. Так, именно Аристотелевым «разумом» пыталась она объяснить, как хлеб и вино становятся Телом и Кровью, на вид оставаясь хлебом и вином. «Субстанционально», учили католические богословы, это уже Тело и Вино, но «акцидентально» они сохраняют свою хлебность и винность. Для Лютера это была софистика, полная чушь – даже хуже чем чушь, ибо она означала, что Христос не может просто прийти в мир и его искупить, что Ему необходимо заменить мир чем-то «духовным», в данном случае самим Собой в акте пресуществления. Церковь верила и учила, что Христос заменяет хлеб и вино Собой, так что, оставаясь по виду хлебом и вином, на деле они перестают быть собой, а становятся Телом и Кровью Христа. Лютер же верил и учил, что Христос присутствует в хлебе и вине, но не уничтожает их, не подменяет Собой. Существует и то, и другое. Католическая Церковь, по мнению Лютера, учила, что физическое не искупается, а просто отодвигается в сторону и заменяется чем-то «духовным». Для Лютера же Христос реально присутствовал в хлебе и вине, однако они от этого не исчезали, не теряли свою суть, не «преобразовывались» в духе Аристотеля – или, точнее, Фомы Аквинского, объясняющего таинство в аристотелевом духе.
Эколампадий, человек простого ума, все понимавший чересчур буквально, не мог понять, каким образом Христос телесно воскрес, затем телесно вознесся на небеса, сидит там одесную Отца – и в то же время физически присутствует в элементах Евхаристии. Лютер нетерпеливо отмахивался от этого затруднения как от «простой физики». Он писал:
Слово говорит, прежде всего, что у Христа есть тело: этому я верю. Далее, что это тело вознеслось на небеса и сидит одесную Бога: и этому я верю. Дальше говорит, что это же тело присутствует на Вечере Господней и дается нам, чтобы мы его ели. И этому я верю, ибо Господь мой Иисус Христос с легкостью может сделать все что пожелает, – а о том, что Он этого желает, нам известно из Его собственных слов[435].
Временами спор становился чересчур жарким, – как когда Цвингли принялся грубо насмехаться над лютеровым взглядом на вещи, говоря, что Лютер и его сторонники – «людоеды» и поклоняются «печеному Богу».
В 1528 году Лютер писал:
Итак, почему же не можем мы сказать на Вечере: «Сие есть Тело Мое», хотя хлеб и тело – две разные субстанции и слово «сие» указывает на хлеб? И здесь два различных предмета образуют единство, которое я назову «единством таинства», поскольку Христово Тело и хлеб даны нам как таинство. Это единство не природ и не личностей, как в случае Христа и Бога. Быть может, отличается оно и от единства голубя со Святым Духом, а пламени с ангелом; но это также, несомненно, единство[436].
С той же богословской последовательностью учил Лютер и о крещении младенцев. Вода крещения преображает крещаемого младенца только силою веры. Эта вода не «волшебная», она не становится чем-то иным – но благодаря вере преображается все. Итак, вера совершающих крещение, что Бог так же благ, как слово Его – вот и все, что требуется для совершения таинства. В каком-то смысле можно сказать, что Лютер верил в «магию» веры, преображающей все вокруг себя. И это было не чисто духовное преображение – скорее преображение духовного, таинственно соединенного с физическим; преображение, которое меняет физический мир подлинно и навсегда, искупает из чистой материальности и ведет к чему-то большему, однако не презирая и не уничтожая материальность.
Разумеется, ошибки Цвингли беспокоили Лютера, однако против него он не писал, – только произнес на эту тему три проповеди и издал их. Лютер видел, что Цвингли и прочие мыслят на эти темы точно так же, как Мюнцер и Карлштадт. Эти ярые противники папистов неожиданно оказались с ними схожи: как и паписты, они очерняли и отвергали физический мир – в случае Карлштадта и Мюнцера эта неприязнь распространялась и на образы, и на церковную музыку[437]. Все здесь было логично взаимосвязано.
«Буква убивает, дух животворит», – писал Павел[438]. А Иоанн добавлял: «Дух животворит, плоть не пользует нимало»[439]. Однако Лютер понимал, что отделение материального мира от духовного – идея совсем не библейская. Греческое слово SARX, использованное Иоанном, означает не реальную плоть, а «плотскую» часть человека, не настроенную на слышание Бога. В очернении плоти Лютер ощущал дуализм, гностический и монашеский. Несомненная ересь – и, как и в случае с Мюнцером и Карлштадтом, ересь, исходящая из его собственного лагеря. Особенно расстроился Лютер, когда услышал в Страсбурге от Николауса Гербеля, что ту же ересь разделяет и Мартин Буцер.
Сакраментарии, как назвал их Лютер, начали с того же, с чего и он, – с антиклерикализма и неприятия идеи, будто священники могут магически преобразить хлеб и вино в Тело и Кровь Христову; но они пошли дальше – и зашли слишком далеко, описав круг и слившись с теми, от кого убегали. Такое происходило постоянно; и свою задачу Лютер видел в том, чтобы посреди этих уклонений удержаться на срединном пути и постараться вернуть уклонившихся назад, к смыслу Писания:
Обе стороны изгоняют Христа – одни в парадную дверь, другие в заднюю. Одни уклоняются вправо, другие влево, и ни те, ни другие не остаются на пути истинной свободы[440].
На взгляд Лютера, превращать ясные слова Писания в аллегории, метафоры или символы было все равно что говорить: Христос воскрес «в сердцах учеников». Или все равно что сказать: в долг я у тебя взял настоящими деньгами, а отдавать буду «метафорически». В письме в Страсбург Лютер пишет: «Этот текст слишком силен: никаким пустословием не оторвешь его от его значения»[441].
Всякому, кто мучается совестью из-за своих грехов, следует приступить к таинству и получить успокоение – не от хлеба и вина, не от Тела и Крови Христовых, но от Слова, кое в этом таинстве предлагает, представляет и дарует нам Тело Христа, преданное за нас, и Кровь Его, за нас пролитую[442].
Иными словами, духовная реальность, созданная в Боге верою, делает все даже более реальным, чем реальность физическая, – однако не устраняет физическую реальность, не уничтожает ее, не делает неважной. Верить в то, что сказал Бог, – вот и все, что нужно, чтобы Бог сошел с небес на землю и преобразил не только хлеб и вино, но и нас – навеки. Вот в чем суть. Вот в чем искупление, которое принес Христос нам и всему творению верою в слово Его.
Воздух и солнечный свет
Те же богословские идеи, что звучали в спорах о свободе воли и о таинствах, применимы и ко всему прочему. Важнейшая сторона Лютерова богословия – в том, что Бог и Благая Весть о Боге во Христе должны быть освобождены из тех ритуальных пут, в которые заключила их средневековая Церковь: они должны распространяться свободно. Пусть текут как вода и заливают равнину обыденной жизни – во всякое время, при всех обстоятельствах, во всем. Пусть Библия заговорит на народном языке и станет доступной для всех; пусть прощение и исповедь не ограничиваются разговорами со священниками; пусть причащение под двумя видами станет доступно каждому, кто верует во Христа. По мнению Лютера, в течение столетий Церковь выстроила жесткую организационную структуру, отгородившую Бога от верующих. Разумеется, не нарочно – но тем не менее: медленно, но верно Бог оказался окружен стеной и спрятан в месте, ключи – или «ключи» – от которого имелись лишь у клириков. Звучит нелепо, пожалуй, даже кощунственно – но это правда: Церковь и папа сделались сторожами Бога, почти что держали Его в тюрьме или в клетке, как будто не Он был им господином, а они Ему. В этом-то и проблема. Церковники решали, когда и как Богу встречаться с простыми верующими, – а значит, были не столько посредниками между Богом и народом Божьим, сколько Божьими тюремщиками. Как до такого дошло? Для Лютера Иисус сошел на землю, умер и воскрес из мертвых именно для того, чтобы уничтожить пропасть между Богом и человеком. Иисус стал мостом между берегами, разделенными со времен Эдема; а вера в Него – способ для нас перейти мост.
Из этого следует, что, если человек истинно верует, вся жизнь его должна быть жизнью свободы во Христе. Он свободен идти куда хочет – и Бог, в которого он верует, всегда будет с ним. Для Лютера это была очень важная, быть может, важнейшая задача Реформации: вывести святость из Церкви в большой мир. Отобрать святость у священников – и отдать каждому отцу и матери. Отобрать у молящихся монахов и монахинь – и отдать каждому пахарю, каждой хозяйке. Святость не должна быть заперта в особых религиозных местах и занятиях. Стену между «религиозным» и «мирским» необходимо сломать навеки. Подобно тому как разорвалась храмовая завеса, обнажив Святая святых и позволив Богу оттуда выйти, – так и ныне все, что прежде было приковано к религиозной и церковной сфере, должно вылететь оттуда в большой мир. И так все, прежде сотворенное Богом, было искуплено верою во Христа. Да, это произошло пятнадцать веков назад: но с искуплением случилось то же, что с деньгами, положенными в банк и там забытыми. Никто не снимал их со счета, никто не тратил – а ведь для чего еще нужны деньги? Теперь Лютер объявил: вот оно, наше богатство, доступное всем – берите и пользуйтесь в жизни во славу Божью! Бог может и должен коснуться всего – и всех материальных вещей в мире (в том числе и секса), и, кстати сказать, музыки.
Незачем изгонять музыку из нашей жизни, как требовали Карлштадт и Мюнцер. Не стоит делить ее и на «церковную», которую могут исполнять лишь священники и монахи, и «светскую», которую играют и поют обычные люди за стенами церквей. Все хорошее – от Бога, и строить стены там, где Бог не возводил никаких стен, – трагическая ошибка, если не намного хуже. Поэтому, создавая заново службы для церквей Реформации, Лютер стремился любую хорошую музыку привлечь на службу Богу и воплотить «священство всех верующих» в хоре прихожан. В наше время пение прихожан в церквях распространено повсеместно, даже в Католической Церкви – и трудно поверить, что до Лютера этого не было. Он знал силу музыки и хотел, чтобы музыка служила целям Бога:
Музыка – светлый и прекрасный дар Божий; часто она пробуждает меня и подвигает к радости проповеди. Блаженный Августин смущался в совести своей всякий раз, когда бывал захвачен музыкой: он почитал это греховным. Но он был избранным духом – и, живи он сейчас, с нами бы согласился. Не станем слушать угрюмых зануд, презирающих музыку, ибо она – дар Божий. Музыка отгоняет дьявола и веселит людей; при звуках музыки они забывают всякий гнев, нечистоту, надменность и тому подобное. Музыке отвожу я, после богословия, высочайшее место и величайшую честь. То немногое, что знаю я из музыки, не променял бы я ни на что великое. Опыт учит меня, что после слова Божьего лишь музыка заслуживает звания госпожи и правительницы чувств человеческого сердца. Мы знаем, что для бесов музыка отвратительна и нестерпима. Сердце мое в ответ на музыку бурлит и переполняется радостью; сколько раз музыка освежала меня и избавляла от тяжких мук![443]
Лютер жаждал принести благовестие Христово в каждый уголок нашей жизни, на всем оставить след Евангелия. Как писал голландский политик и богослов XIX века Абрахам Кюйпер: «Нет во всем творении ни одного квадратного дюйма, о котором Христос не мог бы сказать “Мое”!»[444] Итак, искуплено все – в том числе и желание простых людей петь. Однако было у Лютера и еще одно, очень практическое соображение. Он понимал, что лучший способ внедрить истины Писания в умы всех мужчин, женщин и детей, – облечь учение о вере в музыкальные формы. Слушать проповеди с кафедры, а потом подкреплять усвоенное чтением Писания и лютеровых катехизисов – все это хорошо и правильно. Но что, если те же истины облечь в стихи и положить на музыку, чтобы люди могли выучить их наизусть и петь за работой или на отдыхе? Однако уже много столетий христиане не сочиняли новых гимнов – так что Лютер поспешил восполнить этот пробел. Множество гимнов он написал сам, однако и просил помощи везде, где только мог. В конце 1523 года Лютер писал Спалатину, прося его помочь в переложении нескольких псалмов:
План [наш] в том, чтобы последовать примеру пророков и древних отцов Церкви и составить для народа на разговорном языке псалмы, то есть песни духовные, чтобы слово Божье распространялось среди людей в музыкальной форме. Поэтому мы ныне везде ищем поэтов. Поскольку ты одарен богатством [познаний] и изяществом [в обращении] с немецким языком и поскольку твой [немецкий] язык отточен постоянным использованием, прошу тебя поработать над этим замыслом вместе с нами: попробуй переложить любой из псалмов так, чтобы он превратился в гимн, так, как увидишь на [приложенном мною] примере. Однако прошу тебя избегать новых слов или того языка, каким пользуются при дворе. Гимн должен быть понятен народу – поэтому слова в нем следует использовать самые обычные, простейшие; но в то же время он должен звучать чисто и красиво, а смысл его пусть будет ясен и как можно более близок к псалму. Здесь даю тебе свободу: сохраняй смысл, но не держись за слова, при необходимости переводи их другими, более подходящими[445].
Пригласив всех участвовать в богослужении таким образом, какой раньше был немыслим и невозможен, Лютер словно распахнул в Церкви окна, впустив свежий воздух и солнечный свет. Солнце и воздух сладостны, всем доступны, более того, необходимы для жизни. Конечно, в открытых окнах есть свой риск: вдруг кто-то обгорит на солнце, вдруг в дом залетят насекомые? Но жить в мире без свежего воздуха и солнечного света – слишком высокая цена за спасение от таких проблем. И Лютер решил рискнуть.
Глава девятнадцатая Чума и возвращение Anfechtungen
Больше недели швыряло меня туда и обратно, в смерть и в ад, так что я все еще совершенно обессилен и дрожу всем телом.
Из письма Мартина Лютера к МеланхтонуБоже правый, что за бедствие мне предстало! Обычные люди, особенно в деревнях, ничегошеньки не ведают о христианской вере – и слишком многие пасторы, к несчастью, сами ничего не зная, ничему не могут их научить.
Мартин Лютер. Малый катехизис1527 год начался с того, что Лютер назвал короля Генриха VIII Английского дьяволопоклонником. Вот что писал он 1 января в письме к другу Венцесласу Линку:
Послушавшись совета короля Датского, я написал королю Английскому [Генриху VIII] смиренное и почтительное письмо – писал с большими надеждами и без всяких задних мыслей, от чистого сердца. Он же отвечает мне теперь с такой враждебностью, как будто… рад возможности наконец мне отомстить. Все эти тираны – люди низкие, слабые, лишенные мужества, достойные того, чтобы им служила лишь всякая шваль… Презираю их и их бога сатану[446].
Как известно, Генрих VIII обезглавил двух своих жен – так что, возможно, Лютер был не так уж неправ. Однако история пререканий Лютера с рыжебородым тираном-многоженцем началась почти десятью годами ранее, когда Лютер написал об индульгенциях. Тогда Генрих начал сочинение против Лютера, но, не закончив, отложил. В 1520 году, когда Лютер издал свой труд «О вавилонском пленении Церкви», Генрих вспомнил о незаконченном трактате и довел его до конца, переписав так, чтобы критиковать теперь в основном последнюю книгу Лютера. В то время Генрих позиционировал себя благочестивым католиком: видимо, с некоторой помощью кардинала Вулси он сочинил ядовитый ответ Лютеру, озаглавленный «Защита семи таинств», и удостоился за это от благодарного папы Льва X почетного титула «Защитник веры». Ознакомившись с трактатом, папа пришел от него в такой восторг, что пообещал индульгенцию всякому, кто его прочтет. Генрих называл Лютера «ядовитым змеем» и «адским волком». Но перещеголять Лютера в брани было сложновато: на этот трактат он немедленно ответил своим, озаглавленным «Против Генриха, короля Англии», где объявил, что сочинение Генриха полно лжи, а сам он – «король лжецов». К этому он добавил, что Генрих вопит и проклинает его, «словно уличная шлюха»[447]. Именно этот трактат заставил Эразма возмутиться и публично выразить неодобрение тону Лютера.
На какой-то стадии этого обмена любезностями вмешался король Дании Христиан II. У него почему-то сложилось впечатление, что извинения со стороны Лютера за резкий тон побудят Генриха проникнуться симпатией к протестантизму. Как раз в это время Лютеру и прочим, порвавшим с Римом, требовалась помощь против герцога Георга, который сколотил католический союз и рвался в бой, стремясь раз и навсегда покончить с лютеранской заразой. Начнется ли война – никто не знал; а у курфюрста Иоганна хватало крепостей, нуждающихся в укреплении или перестройке, и он не готов был укреплять Виттенберг. Так что Лютер, поверив обещаниям Христиана, написал Генриху, быть может, одно из самых смиренных писем в своей жизни. Но увы, Христиан ошибся: Генрих не забыл и не простил – и увидел в этом письме прекрасную возможность отплатить обидчику. Лютер, можно сказать, сам подставился – и Генрих с наслаждением размазал его по стенке: обвинил и в совращении монахини, и в гибели тысяч жертв Крестьянской войны. Этот злобный, ядовитый ответ на смиренное и искреннее письмо и заставил Лютера в первый день нового 1527 года изливать свои чувства Линку. Как известно, три года спустя, когда кардиналу Вулси не удалось убедить папу аннулировать брак Генриха с Екатериной Арагонской (тетушкой императора Карла), Генрих выгнал кардинала взашей, порвал с Римом и в конце концов стал-таки протестантом, так что новому папе пришлось поспешно лишить его неуместного в новых обстоятельствах титула «Защитник веры». Но до этого оставалось еще три года. Пока что Генрих грудью стоял за Рим.
1527 год выдался тяжелым и в других отношениях. Прежде всего, вернулась чума. Она явилась в Виттенберг летом, и многие выехали из города – но не Лютер: он полагал, что долг его, как вождя и пастыря, остаться с паствой. Еще до начала чумы у Лютера начались собственные проблемы со здоровьем. Сперва он ощутил стеснение в груди – и вылечился от него настоем из бенедикта аптечного. Потом начался геморрой и другие болезни. Два года назад у Лютера был серьезный нарыв на ноге, но в тот раз он полностью излечился. Затем, в июне 1526 года, случился тяжелый приступ мочекаменной болезни. Кати спросила, что принести ему поесть, и Лютер попросил жареной селедки и холодного гороха. Врачи от такой «диеты» пришли в ужас – однако сам Лютер, как видно, лучше знал, что ему поможет: и в самом деле, камни скоро вышли, и боль утихла. Однако в дальнейшем Лютер страдал от этой болезни еще не раз.
Принес 1527 год и другие беды. В апреле убили друга Лютера, Георга Винклера, пастора в близлежащем городе Галле. Галле находился под властью архиепископа Альбрехта Майнцского и, следовательно, официально оставался городом католическим, однако Винклер смело проповедовал там евангелическую веру. Своим прихожанам он начал предлагать причащение под двумя видами – и это отступление от католической практики решило его судьбу. Он был вызван в Майнц, чтобы дать там отчет в своих действиях, – а на обратном пути погиб, как говорили, от рук убийц, подосланных архиепископом. Узнав об этом, Лютер написал прихожанам Винклера письмо со словами утешения. В этом письме он представляет, что сказал бы им Винклер сейчас, с небес. В словах, вложенных Лютером в уста Винклера, чувствуется его собственный мрачный взгляд на наш мир, изобилующий бесами; однако сам он видел в них утешение и поощрение. Все мы, писал он, вместе странствуем по этой долине слез и ничего не должны желать так страстно, как скорее присоединиться к нашему брату-мученику в месте, где нет ни печали, ни воздыхания:
Если вы меня любили, то должны теперь радоваться, что таким образом я перешел от смерти к жизни. Ибо что в этой жизни постоянно? Ныне ты стоишь, завтра лежишь; ныне право веруешь, завтра впадаешь в заблуждение; ныне надеешься, завтра отчаиваешься. Сколько блестящих людей каждодневно впадают в ересь и становятся фанатиками! И скольким еще предстоит пасть из-за этой [секты] или будущих, ей подобных?[448]
Зная о том, что несколько друзей Лютера погибли за веру, мы сможем лучше понять его апокалиптические взгляды. Для него мир корчился в последних судорогах исторической драмы: антихрист уже явился в мир и все более и более ярился при виде истинного света благовестия. «Это несомненный знак, – писал Лютер, – что близок пожар, который охватит мир, – но сперва Бог выхватит из него Своих, дабы они не претерпели всего этого и, быть может, не пали и не погибли бы среди безбожников». Можно ли сомневаться, что жизнь в таком мире была тяжким бременем, – особенно для человека, который сам принес в мир этот «пожар» и чувствовал за все происходящее глубокую личную ответственность?
Вскоре после этого трагического события Лютер серьезно заболел. Разные недуги порой беспокоили его и в предшествующие годы; но именно с этой внезапной болезни началась многолетняя драматическая история бесконечных болезней Лютера. Случилось это 22 апреля, когда он проповедовал с кафедры. Вдруг его охватило такое головокружение, что он не смог закончить проповедь. Отчего это случилось и как прошло, мы не знаем. Но то же самое повторилось в июле – и на этот раз головокружение пришло в компании со старым недобрым знакомым, Anfechtungen, которого, как думал Лютер, он давным-давно и навсегда поборол. Причины этого определить трудно: прежде всего, мы не знаем точно, что представляли собой эти приступы Anfechtungen, ибо имеем лишь субъективные описания, исходящие от самого Лютера. Мы знаем, что он страшно устал от нескончаемых споров о Евхаристии и прочем. Его очень беспокоил недостаток отклика на проповедуемую им небесную весть о свободе. Первый приступ Anfechtungen поразил его рано утром 6 июля. Внезапно Лютера охватила глубокая скорбь и мучительные мысли о своем недостоинстве перед Богом, настолько, что он призвал своего друга Бугенгагена, ныне пастора Виттенбергского городского собора, и немедля у него исповедовался. К десяти утра Лютер был зван на обед с несколькими дворянами в местной гостинице. Он решил пойти туда – но почти ничего не ел, а после обеда отправился к Юстусу Йонасу. Найдя его в саду, он сел с ним рядом и излил другу свое отягощенное скорбью сердце.
После этого он отправился домой – но прежде пригласил Йонаса и его жену на ужин в Черную Обитель. Однако стоило им войти, как Лютер ощутил в ухе некое адское жужжание и сказал, что ему нужно прилечь, и прежде чем лечь, отчаянным голосом взмолился к Йонасу, чтобы тот принес ему воды – «иначе я умру». Йонас так перепугался, что расплескал всю воду Лютеру на лицо и на спину. Лютер лег; его стала бить дрожь, руки и ноги похолодели, он был уверен, что умирает. Он начал громко молиться – прочел молитву Господню и два покаянных псалма. Боль его была вместе и физической, и духовной: как и утром, Лютера охватило острое чувство вины за прошлые грехи и ощущение своего недостоинства. Совершенно убежденный, что умирает, он просил всех вокруг за него молиться и стенал о том, что Бог счел его недостойным, как другие, пролить кровь за веру. Явился доктор Августин Шурфф и принялся лечить Лютера горячими компрессами. Тот отталкивал врача, уверенный, что ему ничто не поможет. Вдруг охватило его раскаяние в том, что он порой говорил и писал, – и Лютер заговорил о том, что никогда не хотел никого обидеть, что резкими словами стремился лишь успокоить собственную боль. Уверенный, что умирает, начал он давать последние наставления своей жене Кати – просил ее твердо держаться истинной веры. Вспомнил маленького Геншена. Вспомнил и Schwärmer: они продолжают рассеивать повсюду яд своих заблуждений, извращают Божье благовестие, выводят людей из канавы папства лишь для того, чтобы утопить их в другой канаве, – а он не сможет больше им противиться! Еще Лютер просил всех, кто стоял вокруг его одра, быть свидетелями: перед смертью он не отрекается ни от чего, что писал против папы о покаянии и об оправдании.
Однако Лютер не умер. Уже на следующий день он смог встать с постели и поужинать. Но внезапная болезнь эта глубоко его потрясла и надолго оставила на нем свой след – две недели после этого он не мог ни читать, ни писать.
В сущности, весь август и добрую половину сентября Лютер продолжал болеть – и не был самим собой. Во время нового приступа Anfechtungen он решил, что потерял Христа, что падает прямиком в лапы к дьяволу, в пучину греха и богохульства, – однако верил, что его поддержали горячие молитвы друзей, так что каким-то чудом он все же не погиб окончательно. Эти приступы Лютер счел делом рук нечистого; позднее он признавался, что никогда в жизни не испытывал таких страданий.
2 августа он писал Меланхтону, бывшему в это время в отъезде:
Больше недели швыряло меня туда и обратно, в смерть и в ад, так что я все еще совершенно обессилен и дрожу всем телом. Я совершенно потерял Христа и с головой погрузился в бурные потоки и бури отчаяния и богохульства. Однако, подвигнутый молитвами святых, Бог сжалился надо мной и извлек мою душу из глубочайшей пропасти ада[449].
Современному человеку трудно понять как сами страдания Лютера, так и то, какой смысл имели они для него. Нас соблазняет мысль, что он просто страдал от депрессии, вызванной химическим дисбалансом в мозгу или еще какими-то чисто химическими причинами, а все остальное, следовательно, просто себе придумал. Но сам Лютер был убежден, что вел духовную брань, что на него нападал враг душ человеческих, – и надо признать, что в этом его убеждения не отходят от стандартов христианской веры. Рассказов о столкновениях людей с бесами множество – от новозаветных чудес Иисуса до современных случаев экзорцизма; и само постоянство этой темы, как и сходство деталей в разных историях, свидетельствует о том, что версию «духовной брани» стоит как минимум принимать всерьез.
Смущает нас и признание Лютера в том, что, если бы не молитвы его друзей, он, весьма возможно, потерял бы веру и погиб навеки. Но это вполне соответствует его богословским взглядам: не сами мы поднимаемся на небеса, нас туда возводит Бог. Все, что требуется от нас – вера; и самой скромной веры, с горчичное зерно, уже достаточно. Но вот и более сложная мысль: даже если веры нет в нас самих – может помочь вера родных и друзей. Лютер говорит, что молитвы друзей поддерживали его, когда он не в силах был поддерживать себя сам. Это согласуется с его учением о том, что наши молитвы за младенца предоставляют его Богу, что нашей веры достаточно для того, чтобы открыть младенцу, не умеющему еще ни говорить, ни молиться, великий поток Божьей милости.
21 августа Лютер писал Иоганну Агриколе в Айслебен:
Надеюсь, что битва моя многим послужит, хоть и нет такого зла, какого бы я по своим грехам не заслужил. И все же, хоть жизнь моя грешна, знаю и хвалюсь, что учу чистому слову Божьему и тем служу ко спасению многих. Это злит сатану – вот он и старается погубить меня и уничтожить, а вместе со мной и Слово. Вот почему я не пострадал от рук тиранов мира сего, хоть многих других закололи или сожгли за Христа; тело мое в безопасности – и тем яростнее князь мира сего нападает на меня в духе[450].
Лютер был убежден, что на него нападают бесы, что, раз он не стал мучеником за веру, должен пострадать другим способом. Едва ли возможно объяснить, как именно происходит духовная брань, – ведь мы говорим о вещах невидимых; но множество рассказов о пережитом, дошедших до нас на протяжении столетий, позволяют в общих чертах проследить ее ход и признаки; и лютерова интерпретация собственного опыта вполне согласуется с теми рассказами о бесовских нападениях, с которыми он был знаком.
Возвращение чумы. Aetatis 43
Тем же летом на Виттенберг снова обрушилась чума. Многие, как было принято в те времена, покинули город, чтобы избежать заражения. 15 августа весь университет на время переехал в Йену. Уехали и Меланхтон, и Юстус Йонас, увезя с собой свои семьи; однако Лютер чувствовал себя обязанным остаться и заботиться о больных. Кати и сын их Ганс тоже остались в Виттенберге. Несомненно, и в этом проявилась вера Лютера: он понимал, что подвергается опасности, но чувствовал себя обязанным рискнуть своей жизнью – и даже жизнью семьи, – чтобы остаться на месте и заботиться о своей пастве. Бог призвал его – и он отвечал на Божий зов. Единственное, чего он по-настоящему боялся, – однажды не ответить Богу. Самого его болезнь не коснулась; однако заболел маленький Геншен, и серьезно.
Пастор Бугенгаген также остался в Виттенберге, а несколько месяцев спустя даже переехал со своей семьей в Черную Обитель. Люди вокруг умирали, как всегда бывает при эпидемиях. Заболела золовка Карлштадта Маргарита фон Мошау – и также переселилась в обитель, как и жена врача Августина Шурффа, которую болезнь тоже не миновала. Черная Обитель в эти месяцы превратилась в нечто вроде больницы. Когда чумой заразилась жена виттенбергского бургомистра, она тоже отправилась в Черную Обитель – однако не выжила; умерла лишь через несколько минут после того, как Лютер обнял ее при встрече. Заразилась и Ханна, сестра Бугенгагена, вышедшая замуж за секретаря Лютера, дьякона Георга Рёрера: в то время она была беременна. Она также переселилась в Черную Обитель – и здесь, после долгих мучений, родила мертвого младенца и сама вскоре скончалась. Эта трагическая сцена особенно поразила Лютера, не в последнюю очередь потому, что его Кати снова была беременна и собиралась родить в декабре:
Я беспокоюсь о родах жены; слишком ужаснул меня пример жены дьякона…
Мой маленький Ганс не может сейчас послать тебе привет, ибо он болен, но очень нуждается в твоих молитвах. Сегодня вот уже двенадцатый день, как он ничего не ел; кое-как мы поддерживали его силы питьем. Только теперь снова начинает понемногу есть. Удивительно смотреть, как этот малыш жаждет, как обычно, играть и резвиться, но не может – он еще слишком слаб.
Вчера вскрыли нарыв у Маргариты фон Мошау. Когда выпустили гной, ей стало легче. Я поселил ее в нашей обычной зимней комнате, а сами мы теперь живем в большом холле с парадной стороны. Геншен лежит у меня в спальне, а в его спальне – жена Августина [Шурффа]. И все мы ждем, когда закончится чума[451].
В это же лето, отмеченное Anfechtungen и чумой, стал мучеником за веру еще один евангелический верующий – тоже друг Лютера, не так давно покинувший Виттенберг. Звали его Лео Кайзер, в Виттенберге он провел полтора года, а затем поспешил домой в Баварию к тяжелобольному отцу, который вскоре умер. Но Бавария была небезопасна для лютеран – и за возможность попрощаться с умирающим отцом Лео заплатил суровую цену. Вскоре после смерти отца его арестовали и бросили в тюрьму. Лютер писал ему туда. Он предчувствовал, что Кайзера могут казнить, и очень волновался за него и в месяцы, предшествующие приступу Anfechtungen 6 июля, и после. Особенно угнетало его, что одним из преследователей Кайзера оказался старый друг, а затем враг – Иоганн Эк. В конце концов Кайзер отказался отречься и претерпел публичное унижение: под наблюдением Эка с него на глазах у людей сорвали одежду, а затем в цепях повлекли обратно в тюрьму. Месяц спустя его отправили в родной город и там сожгли на костре. «Иисус, я твой! Спаси меня!» – вскричал он трижды, когда вокруг разгорелось пламя. С глубоким горем слушал Лютер эту историю со всеми ее ужасными подробностями – в том числе и о том, как палач шестом подталкивал изуродованное тело ближе к огню, чтобы лучше горело. Все это он в конце года описал в памфлете, присовокупив к нему молитву о том, чтобы Бог счел его достойным умереть такой же смертью. В этом же памфлете Лютер задавался вопросом, живет ли он жизнью, достойной Благой Вести – так, как жил Лео? Считается, что именно страдания Кайзера вместе со смертью в Черной Обители жены Бугенгагена Ханны и ее ребенка побудили Лютера написать самый знаменитый его гимн: «Ein feste Burg ist unser Gott» («Бог наш – надежная крепость»). В этом гимне Лютеру принадлежат не только слова, но и мелодия.
В эти месяцы депрессия то ненадолго отпускала Лютера, то возвращалась вновь. Бугенгаген с семьей тоже переехал в Черную Обитель; и Лютер изливал свои сомнения другу и просил за него молиться. Порой духовный мрак так сгущался вокруг него, что Лютер говорил: он уверен, что борется уже не с простыми бесами, а с самим князем бесовским. Однажды он сказал Бугенгагену, что вера его слабеет, и попросил напомнить ему об обетованиях слова Божьего, с твердой верою произнести их – ибо самому ему веры не хватает. В одном из таких разговоров Бугенгаген ответил: «Вот что думает Бог: “Что мне делать с этим человеком? Я осыпал его такими дарами – а он сомневается в Моем милосердии!”»[452].
Наконец, начиная с 20 ноября, чума стала утихать. Маленький Геншен поправился, самого Лютера и Кати болезнь не коснулась. Кроме сестры и маленькой племянницы Бугенгагена, никто в обители не умер. Однако приступы Anfechtungen продолжали мучить Лютера до декабря. Он был уверен, что после женитьбы этот ненавистный старый недуг оставит его навсегда, – но вышло иначе. Что ж, говорил Лютер, если такова воля Господня, он ее примет, «во славу Бога, сладчайшего моего Спасителя»[453].
По крайней мере, завершился этот annus horribilis[454] на светлой ноте. 10 декабря Кати родила дочь Элизабет. Став свидетелем страшной смерти сестры Бугенгагена, Лютер боялся за жену; однако роды прошли легко, девочка родилась здоровой, жена также быстро оправилась. Окончилась и чума. А в последний день уходящего 1527 года и жена Бугенгагена родила сына, названного, как отец, Иоганном.
Инспекция приходов
В 1528 году, желая выяснить, как продвигается духовное оздоровление Саксонии, курфюрст Иоганн отправил Лютера, Меланхтона и других с инспекцией церковных приходов на своей территории. Отчасти он стремился выяснить, не пустили ли корни на его землях еретические учения Schwärmer, которые не угасли и после смерти Мюнцера, а через некоторое время возродились в так называемой секте анабаптистов[455]. То, что предстало Лютеру в этих «командировках», не особенно вдохновляло. Повсюду встречал он глубокое невежество и непонимание христианской веры: даже там, где Реформации удалось выкорчевать старые католические традиции, их не заменило что-то иное и лучшее – напротив, создавалось впечатление, что, освободившись от католицизма, люди освободились и от морали, а религиозная жизнь их свелась к минимуму. От истинной евангельской свободы и радости все это было очень далеко. Вот что писал Лютер о своих впечатлениях:
Боже правый, что за бедствие мне предстало! Обычные люди, особенно в деревнях, ничегошеньки не ведают о христианской вере – и слишком многие пасторы, к несчастью, сами ничего не зная, ничему не могут их научить. А ведь все они носят имя христиан, все крещены, все принимают Святое Причастие – хоть и не знают ни молитвы Господней, ни Символа веры, ни десяти заповедей! В результате живут они как скоты, как неразумные звери, и, хоть Благая Весть к ним и вернулась, изощряются в тонком искусстве обращения своей свободы во зло[456].
Едва ли стоит удивляться, что после десятилетий, даже столетий непросвещенности и жизни в синкретическом мире, где средневековые суеверия причудливо соединялись с обрывками католической веры, об истинной христианской вере многие крестьяне не знали ровно ничего. И несколько лет под руководством номинально евангелического проповедника едва ли могли здесь что-то исправить. Простые люди по-прежнему поклонялись Марии и иным святым, по-прежнему сохраняли менталитет «религиозных дел», характерный вообще едва ли не для всех религий на свете. Каждый понимал, что он в чем-то да виноват, каждый видел пропасть между собой и неким недостижимым стандартом; чтобы хоть отчасти смягчить это чувство вины, прибегал к религиозным ритуалам – и так тянулось с незапамятных времен. Что с этим можно сделать? Ясно было, что путь будет долог и труден: но, чтобы хоть немного его облегчить, Лютер решил составить катехизис.
Лютер понимал: много веков никто не знал ни Библии, ни ее содержания. Каждое воскресенье люди приходили послушать священников – но священники и сами ничего об этом не ведали. Передача веры была невозможна. Посещая все эти деревни и городки и сталкиваясь с глубиной народного невежества, идущего прямиком из Темных веков, Лютер поражался и скорбел – но скорбь привела его к созданию одного из величайших его трудов, «Большого катехизиса». Эта книга, с помощью которой Лютер надеялся распространить и укрепить веру, увидела свет в 1529 году. Говорилось в ней о самых основах веры: о десяти заповедях, апостольском Символе веры, молитве Господней, святом крещении и причащении. Написана она была в форме вопросов и ответов, удобной для обучения; предназначалась прежде всего пасторам, которые, не зная основ веры сами, не могут научить им и паству. Кроме «Большого катехизиса», Лютер выпустил и «Малый катехизис», предназначенный для простецов и даже для детей.
Сведения из катехизиса нужно было не просто заучить наизусть, но воспринять умом и сердцем. Например, объяснение первой заповеди, «Да не будет у тебя иных богов, кроме Меня», Лютер начинал с такой необычайной формулировки:
Что означает «иметь бога»? Что такое Бог? Ответ: Бог есть то, от чего мы ожидаем всякого блага и к чему прибегаем во время нужды. Иметь Бога означает не что иное, как верить и доверять Ему всем сердцем. Как я уже не раз говорил, вера и доверие сердечное могут принадлежать и Богу, и идолу. Если твоя вера и доверие верны, тогда твой Бог – истинный Бог. Если же они ложны – у тебя нет истинного Бога. Ибо вера и Бог друг с другом неразрывны. Итак, к чему тяготеет и чему вверяет себя твое сердце – и есть твой Бог[457].
Между тем у Лютера и его друзей продолжалась черная полоса. На четвертый месяц 1528 года Бугенгаген и его жена потеряли младенца Иоганна. А в августе умерла Элизабет, восьмимесячная дочь Лютера и Кати. Лютер очень любил эту кроху, и скорбь о ее потере стала для него почти непереносима: «Удивительно, как я скорблю по ней; сердце мое стонет, словно у женщины. Никогда не думал, что сердце отца может питать такую нежность к ребенку»[458]. Лишь немного утешило его то, что 4 мая следующего года Кати родила еще одну дочь, которую назвали Магдаленой.
Должно быть, вскоре после рождения Магдалены в Виттенберг к Лютеру приехали его родители; в 1529 году Кранах написал их портреты. На портрете отца Лютера, Ганса, перед нами предстает человек усталый и, пожалуй, недовольный жизнью (а может быть, просто нетерпеливо ждущий, когда можно будет встать). Маргарита, мать Лютера, выглядит суровой, быть может, тоже утомленной жизнью и ее скорбями – и, возможно, покорившейся тому, что ради создания портрета приходится часами сидеть неподвижно. Много ли радости в том, чтобы на старости лет получить условное бессмертие, – и что хорошего в том, что потомки увидят вас стариками? Само то, что эти портреты были созданы и дошли до нас, говорит о многом. А зачем они были написаны – мы не узнаем никогда.
Глава двадцатая Взросление Реформации
Лучше десять раз умереть, чем взять на свою совесть такое невыносимое бремя и допустить, чтобы Благая Весть стала причиной кровопролития.
Мартин Лютер1520-е годы подходили к концу – и единственной причиной, по которой Лютер оставался жив, а Реформация распространялась, оставалось то, что император был занят другими делами и не спешил воплощать Вормсский эдикт в жизнь. В сущности, после Вормсского рейхстага 1521 года Карл ни разу не был в Германии. Он воевал с французами. В 1526 году император не смог присутствовать на Шпейерском рейхстаге: его заменял младший брат, эрцгерцог Австрийский Фердинанд. В течение пяти лет после Вормса, пока лютеран никто не трогал, они резко увеличились в числе и возросли в силе. А вот у императора дела шли хуже: турки осаждали восточные границы империи, Франциск I Французский теснил его войска на западных. В борьбе с турками Карл не получал от Германии никакой помощи; а когда в 1525 году он наконец разбил Францию в битве при Павии, папа Климент VII, преемник Адриана VI, своей папской властью освободил Францию от навязанных Карлом суровых условий мира. Вышло, что император ничего не выиграл.
Из-за этой выходки Климента Карл с ним рассорился; тогда папа призвал к себе в союзники Милан, Венецию, Флоренцию и Францию и создал так называемую Коньякскую лигу. Предполагалось, что к этому союзу присоединится и Англия; но Генрих VIII пожелал, чтобы все участники переплыли Ла-Манш и подписали договор на его территории, остальные на это не согласились, Генрих вспылил и ушел, хлопнув дверью.
Итак, к рейхстагу 1526 года имперская власть подошла в кризисе. Император отчаянно нуждался в помощи для борьбы с турками в Венгрии и Австрии – и ради этого готов был заключить с мятежными немцами-реформатами сделку. Турки захватили уже всю Грецию и многое другое. Сулейман Великолепный стремился расширить свой халифат – и действие своих законов, которые мы сейчас называем «шариатом», – до Рима и готовился к атаке на Вену. Если Карл хотел получить от князей-сторонников Реформации помощь в борьбе с магометанами, все, что для этого требовалось, – позволить им продолжать в том же духе. Иными словами, это был вопрос религиозной свободы. Не дать им религиозную свободу – и бороться с исламистами придется в одиночку. Любопытно: Лютер не был убежден, что Реформации стоит использовать такой рычаг давления. Это казалось ему слишком циничным и манипулятивным. В конце концов, верующие в любом случае должны делать то, что угодно Богу, – а отказ от своих обязанностей перед кесарем Богу совсем не угоден. Так что помочь императору бороться с разбойниками-турками стоит в любом случае. Однако Фердинанд, брат императора, согласился приостановить действие Вормсского эдикта – или, по крайней мере, не настаивать на его выполнении. Пусть вопрос об эдикте, сказал он, решает церковный собор, который следует созвать как можно скорее. А тем временем приостановим его действие – тем более что выполнить его все равно почти невозможно, учитывая, как растянуты силы императора по всей Европе. Реформацию, конечно, надо подавить… но как-нибудь потом. После такого решения, одновременно и наивного, и циничного, Реформация могла продолжаться – теперь с официального дозволения императора и рейхстага. Приостановка действия эдикта дала ей дополнительное время, чтобы распространиться и пустить корни.
Однако к 1529 году положение императора вновь изменилось. Впервые с Вормсского рейхстага 1521 года, через восемь долгих лет отсутствия, он вернулся в Германию. В 1529 году Лютеру и его соотечественникам предстоял полномасштабный политический поединок. А что же случилось с положением Карла? Прежде всего, в октябре 1529 года его армия остановила турок у самых ворот Вены. Карлу помогла погода: проливные дожди, мешавшие осаде, а за ними ранний снегопад. В конце концов Сулейман со своей армией отступил. Следующая осада Вены турками состоялась лишь через 154 года.
Отпраздновав эту победу, Карл наконец смог заняться Италией – и в феврале 1530 года получил из рук папы Климента корону Священной Римской империи. Императору везло – а вот от папы, как видно, удача отвернулась. Когда в 1527 году войска Карла осадили Рим, Климент вынужден был скрыться и полгода прятаться в замке, выходя оттуда лишь в лохмотьях нищего, в страхе за свою жизнь. А теперь, для пущего унижения, ему пришлось короновать своего победителя!
Однако, по обычаю, от императора требовалось поцеловать туфлю Климента – жест формально самоуничижительный. Что ж, это хоть что-то. А кроме этого, папа потребовал, чтобы император дал обещание стереть с лица земли евангелическую ересь раз и навсегда. Поскольку Рим, взятый и разграбленный имперскими солдатами, еще дымился, местом коронации была выбрана Болонья. Но ради такого случая Болонью «задекорировали» под Рим, к большому возмущению гордых болонцев.
Итак, получив из рук папы корону, Карл наконец мог обратить внимание на мятежных реформаторов, число коих все росло: они уже разделились на два лагеря – лютеране в Германии и цвинглианцы в Швейцарии. Следующий имперский рейхстаг предстояло провести в Шпейере, в шестидесяти милях к югу от Франкфурта и совсем рядом с Гейдельбергом, весной 1529 года; и заранее известно было, что этот рейхстаг должен вернуться к вопросу о Вормсском эдикте, восстановить его действие и настоять на его исполнении. Что же было делать теперь Лютеру и другим вождям Реформации? В Шпейере они заявили формальный протест – тот, что подарил им прославленное имя «протестантов». Однако надо заранее сказать, что император и другие облеченные властью католики подавили этот протест и ситуация зашла в тупик. Что было делать дальше?
Марбургский диспут
У ландграфа Филиппа Гессенского были на этот счет кое-какие идеи. Новичком в политике он не был и понимал, что открытая борьба императора с протестантами – лишь вопрос времени. Он заключил, что виттенбергской, лютеранской ветви протестантизма необходимо политически объединиться со швейцарской, цвинглианской ветвью – иначе император и католические силы возьмут над ними верх и Реформация погибнет. Если же две партии Реформации объединятся, пусть не догматически, но политически, им будет легче выторговать для себя выгодные условия. Поэтому Филипп предложил обеим партиям провести в своем замке в Марбурге диспут.
Лютер в этом диспуте был совершенно не заинтересован. Он читал сочинения Цвингли о Святом Причастии и считал, что по этому поводу все уже сказано: Цвингли свою позицию выразил ясно, пойти с ним на компромисс Лютер не может. Кроме того, он чувствовал, что Цвингли, наоборот, активно стремится к этой встрече, – и опасался, что они вдвоем с ландграфом Филиппом начнут давить на него, подталкивая к богословским уступкам. Не хотел туда ехать и Меланхтон. Он, как ни удивительно, все еще верил в возможность компромисса и примирения с католиками; но, если бы лютеране сделали шаг в сторону эксцессов Цвингли, этим надеждам настал бы конец. Однако курфюрст Иоганн считал, что стоит попробовать, – и буквально выкрутил Лютеру руки, заставив поехать. Впрочем, сперва Лютер написал Филиппу. «Я знаю, что не уступлю ни пяди, – писал он. – Прочтя их аргументы, я по-прежнему убежден, что они неправы»[459].
И это была не единственная проблема. Лютер не только не шел на компромиссы по вопросу о Реальном Присутствии – то есть о том, присутствует ли в Евхаристии реальное Тело Христово; не соглашался он и с самой идеей, лежащей в основе этой встречи. Он понимал, что Филипп пытается примирить реформатов ради политического – а следовательно, и военного – союза против императора; однако то понимание Писания, которое исповедовал Лютер, требовало повиноваться поставленным Богом властям. С властями можно не соглашаться – это Лютер уже и делал; можно желать умереть за веру, можно позволить им себя убить, но нельзя восставать против них с оружием в руках. Здесь для Лютера не было даже предмета спора. А создание такого союза – как ясно понимал он, – подтолкнет ситуацию к войне:
По совести, одобрить эту лигу мы не можем, ибо из этого может выйти пролитие крови или иное бедствие, в которое мы окажемся втянуты и не сможем отказаться от участия в нем, даже если бы и хотели. Лучше десять раз умереть, чем взять на свою совесть такое невыносимое бремя и допустить, чтобы Благая Весть стала причиной кровопролития, ибо нам заповедано скорее быть овцами на бойне, чем мстить или защищать себя[460].
Здесь Лютер выступает как убежденный пацифист – поистине удивительно, если вспомнить, как несколько лет назад он призывал знать «резать и вешать» восставших крестьян! Однако это не должно нас удивлять, если мы вспомним лютерово богословие. Законной власти, считал он, следует повиноваться в любом случае, даже если она хочет нас убить. Если мы, как крестьяне, поднимем оружие против законной власти, – Лютер встанет на ее сторону и не станет советовать ей бросить меч; напротив, он скажет, что власть должна использовать врученный ей Богом меч для наведения порядка. Но в любом случае сама идея богословского диспута и, возможно, принятия какого-то общего исповедания веры у Лютера возражений не вызывала, так что они с Меланхтоном отправились в путь. Диспут был назначен на 1–4 октября.
Вместе с Меланхтоном и Юстусом Йонасом Лютер выехал из Виттенберга 14 или 15 сентября. С ними ехали Георг Рёрер и молодой коллега по имени Каспар Крюцигер. Помощником Лютера в то время был Файт Дитрих: скорее всего, с ними отправился и он. Делегация проехала через Торгау, где встретилась с курфюрстом Иоганном, затем через Готу и Айзенах, где к ним присоединились еще двое лютеранских священников. В Альтенбурге они тепло встретились со Спалатином – и продолжали свой путь.
Город и замок Марбург был построен в XI веке как укрепление над рекой Лан, текущей почти в тысяче футов под замковыми стенами. Утром тридцатого сентября, прибыв в Марбург в нескольких каретах, Лютер и его команда уже встретили там Цвингли, Эколампадия и других, в том числе и Мартина Буцера. «Ах ты мошенник!» – довольно добродушно сказал ему Лютер при встрече, упрекая за то, что в споре о Реальном Присутствии тот занял сторону Цвингли. На следующий день приехали Андреас Озиандер из Нюрнберга и Иоганн Агрикола из Аугсбурга. Никогда еще Германия не видела такого многолюдного собрания протестантских богословов!
В первый день были проведены две отдельные дискуссии, Лютера с Эколампадием и Цвингли с Меланхтоном. Как Лютер и ожидал, никто не сказал ничего нового. Эколампадий и Цвингли просто повторили свою позицию: верно, что Иисус верою присутствует в элементах причастия духовно, однако не присутствует и не может присутствовать телесно. Их доквантовое понимание физической вселенной не позволяло вообразить, каким образом Иисус может сидеть на небесах одесную Отца и в то же время присутствовать Телом и Кровью на Тайной Вечере. Лютер снова повторил: Бог делает много такого, чего мы не понимаем. В Писании сказано: «Сие есть Тело Мое» – значит, нам нет нужды беспокоиться о деталях. Все, что нам нужно знать, в этих словах есть. Они не сложны, не туманны, напротив, очень просты и ясны: попытки натянуть на них какое-то сложное толкование обличают либо недостаток веры, либо нечто еще худшее.
На встрече Меланхтона с Цвингли, прошедшей предсказуемо спокойнее, чем у Лютера с Эколампадием, Цвингли записал свою позицию и попросил Меланхтона прочесть, чтобы удостовериться, что они друг друга поняли. В письме коллеге Цвингли объяснял, почему так поступил:
Поскольку Меланхтон чрезвычайно скользок и, как Протей, может превратиться во что угодно, мне пришлось, вооружившись вместо соли чернильницей, схватить его и держать, пока он, оскалив зубы, бился у меня в руках и пытался ускользнуть[461].
Спор в самом деле получился «скользким». Достаточно сказать, что Цвингли предлагал Меланхтону согласиться с тезисом: «Слова могут только означать». Но кто же спорит о смысле смысла – или о том, что слова есть символы, обозначающие реальность? Спор шел о том, как понимать слова Иисуса: «Сие есть Тело Мое»: имел ли Он в виду, что хлеб воистину стал Его телом – или что он (именно сам хлеб, а не слово «хлеб») лишь означает Его тело? Никто не спорил о том, что слова сами по себе лишь что-то означают: это и так очевидно. Спорили о том, буквально или метафорически употребил Иисус слово «есть».
На следующее утро, до начала дебатов, Лютер проскользнул потихоньку в зал собрания, написал мелом на столе в середине комнаты слова: «Hoc est corpus meum» («Сие есть Тело Мое») и прикрыл их бархатной скатертью. В какой-то момент спора, когда Цвингли потребовал доказательств, что в хлебе причастия действительно присутствует Тело Христово, Лютер понял, что момент настал. Жестом опытного фокусника он сдернул скатерть – и обнажил надпись на столе. Вот оно, доказательство! – как бы сказал он. – Очевидное для всякого – только взгляни! Всего четыре коротких, простых слова: можно ли с ними не согласиться?
Но, кажется, этот драматический жест никого не убедил. Филиппу, впрочем, это и не требовалось: он хотел лишь, чтобы лютеране и цвинглианцы «согласились не соглашаться» и чтобы это разномыслие не мешало им выступить единым фронтом против императора. Если во всем прочем они согласны, – нельзя же допустить, чтобы одно-единственное разногласие все испортило! Может, и так – однако именно это и произошло. По окончании дискуссии Цвингли, явно огорченный, со слезами на глазах сказал, что всем сердцем желал видеть Лютера своим другом и что ни с одним человеком в Германии или во Франции не стремился встретиться так, как с ним. Но эта оливковая ветвь из Швейцарии тронула Лютера не больше, чем итальянский поцелуй Мильтица одиннадцать лет назад. Ответ его прозвучал холодно, как лед. «Молитесь Богу, – сказал он, – о том, чтобы прийти к правильному пониманию этого вопроса»[462].
Почему же Лютер так себя повел? Когда Буцер, пытаясь найти ответ на этот вопрос, спросил, чем не нравится Лютеру позиция его швейцарских друзей, тот ответил:
Дух наш отличен от вашего духа: ясно, что у нас не один дух, ибо не может быть одного духа там, где одни просто верят словам Христа, а другие эту веру порицают, ей сопротивляются, считают ложной, хулят ее всевозможными злонамеренными и богохульными словами. Так что, как я уже сказал, препоручаю вас Божьему суду[463].
Снова мы слышим от Лютера сомнительную и, странным образом, совсем не библейскую мысль о «духах». Но Лютер твердо стоял на своем – сказал как отрезал и ушел, оставив Цвингли, без преувеличения, в слезах. Как видим, он не позволил себе даже проявить по отношению к Цвингли самую поверхностную доброжелательность, не говоря уж о том, чтобы ответить на его горячее желание дружбы.
Несговорчивость Лютера вкупе с упоминанием «духов» в этом случае очень напоминает его разговор с Карлштадтом о том, одержим ли Карлштадт «духом Альштедта», то есть тем свирепым и кровожадным духом, что обитал в Мюнцере. Что привело Лютера к мысли, что они, различаясь во многих важных догматических вопросах, при этом «имеют один дух»? Почему он был так в этом уверен? Как видно, Лютер не считал нужным это объяснять или обсуждать. То, что добросовестные и, по-видимому, от чистого сердца идущие попытки Цвингли с ним примириться он отверг как «злонамеренные» и «богохульные», выглядело откровенно странно – в том числе и для тех, кто был на его стороне. У всех их создалось впечатление, что Цвингли не желал зла. Но Лютер был непоколебим. Что же двигало им: нетерпимость, злоба, упрямство – или ощущение Божьего перста?
Аугсбургский рейхстаг. Aetatis 46
Псалом 118: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни»[464].
В 1530 году император Священной Римской империи Карл V созвал в Аугсбурге рейхстаг, на который обещал приехать и сам. Девять лет прошло с тех пор, как он последний раз появлялся в Германии, – на Вормсском рейхстаге 1521 года. Начало Аугсбургского рейхстага было назначено на 8 апреля; в конце февраля император короновался в Болонье – и оттуда должен был ехать прямиком на рейхстаг.
Однако сам Лютер не смог там появиться. Карл выдал охранные грамоты для проезда в Аугсбург всем прочим протестантам – формально находившимся вне закона, – но не Лютеру. На это решение повлияло не только отвращение к «главному еретику». Император полагал – и справедливо, – что присутствие Лютера на рейхстаге многих склонит в его пользу. Так что Лютер решил отправиться в Нюрнберг и оттуда наблюдать за происходящим. Нюрнберг находится всего в семидесяти пяти милях от Аугсбурга, новости и сообщения доходили туда быстро; Лютер собирался следить за ходом заседаний и, при необходимости, посылать участникам письменные советы. Однако Нюрнберг его не принял. Защищать известного еретика, преступника в глазах императора – на это власти Нюрнберга пойти не могли. Они искренне желали Лютеру успеха, но… где-нибудь в другом месте. Не желая совсем прощаться со своим изначальным планом, Лютер удалился в Кобург. В наше время Кобург находится в границах Баварии, но в то время он был южным форпостом Саксонии, для Лютера безопасным. Увы! – от Аугсбурга его отделяло сто пятьдесят миль, и оперативно получать оттуда новости было вдвое затруднительнее. Лютер чувствовал, что его мнения и советы могут быть очень важны, – но выбирать не приходилось: оставалось довольствоваться тем, что есть.
Предполагалось, что рейхстаг под председательством императора станет чем-то вроде церковного собора, на котором обсуждаются и решаются проблемы Церкви и доктринальные различия. Папа римский был решительно против. Сама мысль, что подобным делом займется император, ясно свидетельствовала о вмешательстве империи в дела церковные. Однако граница между Церковью и государством сейчас была туманна как никогда. И потом, что папа Климент мог поделать?
Лютер, Меланхтон, Бугенгаген и Йонас вместе начали вырабатывать исповедание евангелической веры, которое собирались представить на рейхстаге. По-видимому, именно Лютер написал к нему сопроводительное письмо, в котором пояснял: вера их не «бунтовщическая» и потому вмешательства властей не требует. Здесь Лютер попытался провести границу между Церковью и государством с библейской точки зрения. Он справедливо полагал, что в Писании на эту тему сказано довольно много; и, по-видимому, Писание придерживается того взгляда, что власть империи (государства) не распространяется на личные религиозные верования человека, если только эти верования не ведут явно и однозначно к бунту. Пока верующий подчиняется законам и установлениям империи, выполняет распоряжения правительственных чиновников – словом, отдает кесарево кесарю (царю, кайзеру),[465] – тот должен позволить ему «отдавать Божье Богу». Как видим, идея религиозной свободы, включенная отцами-основателями в Конституцию США, впервые была найдена в Евангелии Лютером.
Лютер хотел четко прояснить, что его вера не может и не должна быть угрозой миру и порядку ни в Саксонии, ни во всей империи. Поэтому евангелическим верующим нужно разрешить практиковать их веру и не предпринимать против них никаких репрессий. Сложность была в том, чтобы четко отделить себя от Мюнцера, – несомненно представлявшего угрозу миру и порядку в Германии. По этой причине Лютер особенно ненавидел Мюнцера и его племя: из-за них подлинным христианам стало еще труднее жить в согласии со своей верой. Однако Лютер твердо стоял на том, что Библия приказывает ему уважать правящую власть – как в Рим. 13:1–7 – и что мятеж для него решительно невозможен. Еще и поэтому Лютер желал умереть за веру и побуждал к этому и других христиан, ведь сражаться за веру он не считал для себя возможным. Лютер сделал все возможное, чтобы убедить в своей правоте курфюрста Иоганна и Филиппа Гессенского, доказывая им, что время восстать против католиков – взяться за оружие, пусть и из самозащиты – еще далеко не пришло; однако о том, придет ли это время когда-нибудь да и может ли оно прийти вообще, в разговорах с ними благоразумно умалчивал.
Исповедание веры, которое Лютер и другие собирались представить на рейхстаге, было, по сути, списком пунктов, в которых протестанты расходились с Римско-Католической Церковью и которыми не могли поступиться. В список входили: браки для духовенства, отказ от идеи мессы как жертвоприношения, причащение под двумя видами, отказ от монашеских общин. Были и дополнения – например, четкое заявление, что «сакраментарии», то есть те, кто не верит в Реальное Присутствие, к евангелической стороне не принадлежат. 4 апреля Лютер, Йонас и Меланхтон выехали из Виттенберга. Сперва они доехали до Торгау, где к ним присоединились курфюрст, Спалатин, Агрикола и другие. Дальше дорога повела их через Гримму, Альтенбург, Айзенберг, Йену и Веймар. В Веймаре они остановились на четыре дня: в Вербное воскресенье и в следующие понедельник и вторник Лютер произнес здесь проповеди. Затем отправились в Кобург – и прибыли накануне Пасхи, как раз вовремя, чтобы Лютер успел произнести проповедь и здесь.
Прибыв в высокий Кобургский замок – и оставшись здесь один, ибо все друзья его поехали дальше, на рейхстаг, – Лютер, должно быть, почувствовал себя так, словно перенесся на девять лет назад, в Вартбург. Быть может, в память об этом периоде своей жизни он во второй раз отрастил бороду. Свою жизнь в Кобурге Лютер описывал так:
Самая высокая замковая башня отдана в наше распоряжение. Кроме того, нам доверены ключи от всех комнат. Говорят, здесь обедает более тридцати человек. Дюжина из них – ночная стража, и еще по двое дозорных, сменяющих друг друга, на нескольких башнях. Что еще? Увы, больше писать не о чем. Вечером, надеюсь, появится кастелян или еще кто-нибудь и расскажет новости.
Мы с тобой, дорогой мой Филипп, наконец прибыли на Синай – а теперь нам предстоит спуститься с Синая в Сион и выстроить три шатра[466]: один для псалмопевца, второй для пророков и третий для Эзопа… На самом деле место здесь чрезвычайно приятное и как нельзя лучше подходит для занятий; жаль только, что тебя нет рядом[467].
Упоминание «трех шатров» – намек на три дела, которыми Лютер планировал здесь заняться. Лютер всегда любил басни Эзопа, однако многие их издания включали в себя вещи, неподходящие для детей, так что он задумал собственный перевод для семейного вечернего чтения. В баснях интересовала его не столько мораль, сколько реалистичные картины падшего мира, в котором мы живем. На его взгляд, это был хороший способ помочь детям понять мир, полный всякого рода грехов и грешников, «чтобы среди порочных людей, в злом, предательском мире научиться жить мудро и мирно»[468]. Очевидно, Лютер не принадлежал ни к тому племени воспитателей, что считают нужным ограничивать детское чтение библейскими рассказами, ни к тем, что требуют из всякой истории извлекать мораль. Как и в письмах из Вартбурга, Лютер теперь развлекал друзей шутливыми наблюдениями за птицами:
Здесь можно увидеть и гордых королей, и герцогов, и всякую иную птичью знать: все они пресерьезно заботятся о своих пожитках и потомстве и неустанно провозглашают всему миру свои законы и указы. Однако не живут они – точнее, не запираются – в тех норах и пещерах, что вы, люди, не знаю уж почему, называете дворцами. Они живут под открытым небом: небо им – расписной потолок, зеленая трава – ковер, а стены [их дворцов] – все концы земли[469].
Дальше Лютер развивал эту шутку. «Императора их я пока не видел и не слышал, – пишет он. И далее: – Подобно рыцарям, они прихорашиваются, чистят перья и хлопают крыльями, словно заранее торжествуя победу и славу [в своих набегах] против амбаров пшеницы и ячменя»[470].
На стене в своей комнате Лютер написал – неизвестно, мелом или краской – слова из псалма 118: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни»[471]. Псалом этот имел для Лютера особое значение; по просьбе Лютера его друг Людвиг Зенфль положил эти строки на музыку.
Как и десять лет назад в Вартбурге, период вынужденного молчания Лютер использовал для работы. Он начал писать.
Одним из первых его проектов стал памфлет, суть которого ясна из названия: «Увещание ко всем клирикам, собравшимся в Аугсбурге на имперский рейхстаг 1530 года». Лютер не мог присутствовать на рейхстаге лично – но хотел присутствовать там хотя бы мысленно. 12 мая он закончил рукопись и немедленно отправил ее в обратно в Виттенберг, в 150-мильное путешествие, занявшее четыре дня; там ее быстро напечатали и привезли на 300 миль в Аугсбург, где памфлет мгновенно разошелся.
Как всегда, в выражениях Лютер не стеснялся:
Или вы забыли, что в Вормсе немецкое дворянство представило Его Императорскому Величеству около четырехсот жалоб на клириков и заявило открыто: если Его Императорское Величество не пожелает положить этим злоупотреблениям конец, они сделают это сами, ибо долго не вытерпят?[472]
Он напоминал, что многое им сказанное – особенно первые атаки на индульгенции и на монашество – вызывало горячий прием у простого народа, который ощущал все эти злоупотребления на себе и радовался, что кто-то наконец о них заговорил.
Но кто из вас хоть раз покаялся за все эти мерзости, хоть раз вздохнул или пролил слезу? Люди жестоковыйные и нераскаянные, вы хотите сделать вид, что не творили никакого зла. Теперь вы приехали в Аугсбург и хотите нас убедить, что Дух Святой с вами, что через вас Он совершает великие благодеяния (хотя за всю свою жизнь вы не принесли христианскому миру ничего кроме вреда), что после смерти Он возведет вас прямиком на небеса, – со всеми этими нераскаянными мерзостями, которые вы еще и защищаете, словно радуясь тому, как славно вы послужили своему богу-чреву и оставили Церковь в запустении. Но нет у вас успеха и не будет, пока не покаетесь и не исправите пути свои[473].
Можно лишь гадать о том, как воспринимали эти обличения те, против кого они были направлены: испытывали ли только гнев и досаду – или кто-то, быть может, и впрямь задумывался над своей жизнью, что могло привести к переубеждению и раскаянию. Так или иначе, Йонасу памфлет чрезвычайно понравился, о чем он и написал Лютеру, называя его труд «неожиданным, чудесным и сильным»[474]. Вчитываясь в него и не упуская деталей, мы встречаем примеры ханжества и развращенности, способные возмутить любого, в ком еще осталась душа. Например, Лютер говорит об особенно возмутительных «масляных письмах» – то есть индульгенциях, покупка которых избавляла покупателя от соблюдения постов.
Снова и снова гремит обличающий голос Лютера. Самый ярый огонь направляет он по одной цели – единой лжи, лежащей в самом сердце, черном и гнилом сердце папства: лжи о том, что люди могут сами «дать удовлетворение» за свои грехи, что свободного дара благодати Божьей не существует и, следовательно, Иисус умер и воскрес напрасно. «Это учение, – писал он, – наполнило ад и потрясло царство Христово страшнее турок, ужаснее, чем мог бы целый мир… Увы, где те языки и голоса, что могли бы сказать об этом достаточно?»[475]
Свое «увещание» Лютер заканчивает пламенным обличением; и, читая этот текст, всякий, у кого есть глаза, не может не задуматься хотя бы о том, что человек этот и впрямь во что-то верит, что жизнь для него – явно нечто большее, чем поиск удовольствий и удобств:
Кровь ваша падет на вашу голову! Мы неповинны и хотим быть неповинны в вашей крови и осуждении, ибо не раз мы указывали на ваши заблуждения, с верою призывали вас к покаянию, искренне молились и предлагали все возможные уступки ради мира, не ища и не желая ничего иного, кроме как утешения душ наших: свободного и чистого благовестия. Итак, можем с чистой совестью похвалиться тем, что вина лежит не на нас. Но пусть Бог мира и утешения пошлет вам Духа Своего, дабы Он вел и направлял вас ко всякой истине через Господа Иисуса Христа[476].
Однажды ночью в Кобурге Лютер увидел сон, который хорошо ему запомнился: будто бы у него выпал зуб, такой огромный, что Лютер в изумлении проснулся. Такие сны обычно считаются предвестниками смерти: и в самом деле, через два дня Лютер был потрясен известием о смерти своего отца.
Письмо, где сообщалось об этом, пришло к нему 5 июня; написал его старинный мансфельдский друг Лютера Ганс Рейнеке. По рассказу Файта Дитриха, который жил с ним в Кобурге, едва прочтя письмо, Лютер взял Псалтирь, удалился в спальню и «плакал так, что на следующий день не мог мыслить ясно»[477].
Лютер писал Меланхтону:
Хоть и утешает меня, что отец мой, сильный верою во Христа, тихо почил вечным сном, – но горечь сердечная и воспоминания о том, как он любил меня, поражают меня до глубины существа, и никогда еще я не ненавидел смерть так, как сейчас… Больше писать не могу – слишком горько: но правильно и богоугодно сыну оплакивать отца, через которого Отец милосердный ниспослал мне столько даров, который вскормил меня и вырастил тем, кто я есть. Радуюсь, что он дожил до сего дня и узрел свет истины[478].
Вскоре после этого Лютер написал письмо своему четырехлетнему сыну Геншену. Наставником мальчика был в это время Иероним Веллер, один из студентов, живших с ними в Черной Обители: он написал Лютеру, что у Ганса все хорошо, и Лютер, тронутый этим известием, решил написать сыну:
Знаю я один прекрасный сад, веселый и радостный, где гуляет множество детей в золотых камзольчиках. Они срывают с деревьев сладкие яблоки, груши, вишни, желтые и синие сливы, поют, прыгают и веселятся. Есть у них там и ласковые пони с золотой упряжью и седлами. Я спросил хозяина этого сада, чьи это дети. Он отвечал: «Это те детки, что любят молиться, учиться и хорошо себя ведут». Тогда я сказал: «Господин мой, у меня тоже есть сын, зовут его Геншен Лютер. Не разрешите ли вы и ему войти в этот сад, чтобы и он мог покушать яблок и груш, покататься на пони, поиграть с этими детьми?» И он отвечал: «Если Геншен любит молиться и учиться, если хорошо себя ведет, он тоже войдет в этот сад вместе с Липпусом и Йостом»[479].
В Кобурге Лютер не так страдал от одиночества, как девять лет назад в Вартбурге: большую часть времени рядом с ним был Файт. Однако Файт писал Кати Лютер:
Дорогая и любезная госпожа Лютер!
Будьте уверены, что господин ваш и мы Божьей милостью в добром здравии. Хорошо вы сделали, что прислали доктору портрет [его дочери Магдалены]: он отвлекает его от забот. Портрет он повесил на стену напротив стола в апартаментах курфюрста, за которым мы едим. Поначалу он ее не узнал. «Бог ты мой, – говорил он, – почему Ленхен такая темненькая?» Но сейчас портрет ему нравится, и все более и более он узнает в нем Ленхен. Она удивительно похожа на Ганса – и ртом, и глазами, и носом, да и всем лицом, а со временем станет совсем как он. Я просто подумал, что стоит вам об этом написать[480].
По-прежнему осаждали Лютера и проблемы со здоровьем, и достаточно серьезные. В мае снова начались головные боли и звон в ушах, порой такой сильный, что превращался в рев и грохот. Повторялись и Anfechtungen. Лютер знал, что за всем этим стоит дьявол, и не раз говорил об этом в письмах. «Ладно, – писал он, – если уж [дьявол] сожрет меня – пусть, с Божьей помощью, я стану для него слабительным, от которого ему кишки разорвет! Что ж, кто хочет обладать Христом – пусть готовится к страданиям»[481].
В этот период Лютер не раз принимал посетителей – так часто, что даже опасался, что место его укрытия станет известно. В мае побывали у него Венцеслас Линк и другие. Были здесь и Ганс Рейнеке, и Аргула фон Грумбах. Среди прочего, она дала совет по отлучению от груди маленькой дочери Лютера, Магдалены (Ленхен): этот совет Лютер передал в письме жене. В конце июня, через несколько недель после смерти отца, заезжал младший брат Лютера Якоб. В сентябре приехал навестить Лютера кронпринц Иоганн Фридрих, сын герцога Иоганна, которому предстояло стать курфюрстом после смерти отца. Юного Иоганна Фридриха поразила борода Лютера: поначалу он его даже не узнал. Помимо бороды, Лютер в этот период начал носить очки для чтения. Христиан Деринг прислал ему из Виттенберга новую пару очков, о которых Лютер ворчливо отзывался: «Худшие из всех, какие у меня были!»
Император прибыл на рейхстаг только 15 июня, во главе огромной процессии – словно целый город, снявшийся с места: здесь было не менее тысячи всадников и целый отряд личных телохранителей. В арьергарде двигался обоз: «повара, аптекари, сокольники», а также – неудивительно для испанца – свирепая свора из двухсот испанских догов. Сам император, весь в золоте, с золотой шпагой на боку, восседал на белоснежном коне под золотым балдахином. Зрелище было завораживающее и, пожалуй, пугающее: на немецкие земли явилась Империя во всем своем величии и мощи. Те из немногих явившихся на рейхстаг протестантов, кто это видел, с особой ясностью понимали теперь, кому и чему осмелились бросить вызов. Если Бог не на их стороне – их ждет беда. Через несколько дней Йонас писал: «Император окружен кардиналами… каждый день они у него во дворце, и, как пчелы, вьется вокруг него целый рой священников, пылающих к нам ненавистью»[482]. Теперь, когда Карл со своей тысячной свитой наконец прибыл в Аугсбург, можно было без промедления переходить к основному вопросу.
Меланхтон составил заранее документ, впоследствии названный «Аугсбургским исповеданием» – нечто вроде официального лютеранского Символа веры. 23 июня лютеранские богословы и князья собрались, чтобы в последний раз прочесть этот текст и его подписать, – хотя подписи требовались только от князей, другой знати и официальных представителей немецких земель. Ожидалось, что документ будет представлен императору на следующий день: в действительности его, в немецком переводе, огласили перед императором и рейхстагом 25 июня. По-немецки император понимал плохо – и, как свидетельствуют очевидцы, плавное течение малопонятной тевтонской речи, словно птичье пение или колыбельная без слов, погрузило его в дремоту.
Вскоре Лютер получил от Меланхтона отчет об этом событии. В письме Меланхтон спрашивал, в каких пунктах можно было бы пойти на уступки. Ответ Лютера был предсказуем: ни в одном. Лютер похвалил Меланхтона за отлично проделанную работу и написал, что «Исповедание» вполне его удовлетворяет, – хотя, пожалуй, неприятие папской власти можно было бы подчеркнуть и яснее. Надо заметить, что именно этот пункт делал документ совершенно неприемлемым для императора, и Меланхтон не терял надежды как-нибудь его смягчить или обойти. Лютер готов был к войне – точнее, к открытой ссоре и любым ее последствиям, вплоть до собственной мученической смерти. Меланхтон придерживался более мирной позиции.
16 июля Лютер написал Йонасу, Спалатину, Меланхтону и Агриколе письмо, где советовал сворачивать шатры и возвращаться домой, в Виттенберг:
Уверен, вы уже получили ответ противников – и именно тот, которого, по вашим словам, и ожидали, а именно: «Отцы, отцы, отцы; церковь, церковь, церковь; обычай, традиция»[483]. Более того: не сомневаюсь, что там не было ни слова из Писания. Основываясь на своих судьях и свидетелях, император вынесет вердикт против вас. За сим последуют угрозы и похвальба…»[484]
Дальше Лютер писал, что они уже сделали больше, чем можно было ожидать: «отдали кесарево кесарю», появившись на рейхстаге и исполнив все, что от них требовалось, – а «Божье отдали Богу», подготовив «Аугсбургское исповедание», в котором ясно изложили свою веру и проповедали другой стороне истину, так что «у тех, кто не верует, больше нет оправданий»[485]. «Итак, – писал Лютер, – во имя Господне освобождаю вас от этого рейхстага. Домой – возвращайтесь домой!» Иными словами, Лютер был по горло сыт дипломатией и подозревал, что Меланхтон по-прежнему надеется на достижение какого-то соглашения, на которое сам Лютер никогда бы не пошел. Папский легат Кампеджо сообщил Меланхтону, что имеет полномочия пойти на некоторые уступки касательно брака для священников и причащения под двумя видами, – но Лютер знал, что все это пустая трата времени: «На похвальбу Кампеджо, что он обладает властью давать разрешения, отвечу словами Амсдорфа: “Плюю на легата и на разрешения от его господина [папы]; нам достаточно иных разрешений [от Бога]”». Свое письмо он заключал словами: «Домой, домой! Да сохранит и утешит вас Господь Иисус, во имя которого вы так славно потрудились и столько перенесли. Аминь». А в подписи, не желая открывать свое истинное местонахождение, шутливо подписался: «Лютер из Грубока» – «Кобурга» наоборот[486].
Однако команда Лютера вовсе не собиралась уезжать с рейхстага – и сам он не смог покинуть Кобургский замок вплоть до первых чисел октября. 3 августа император призвал двадцать католических богословов дать на «Исповедание» ответ: это они и сделали, и в тот же день ответ был зачитан на рейхстаге. В ответе, названном «Опровержение», католики признавали, что многое в «Исповедании» действительно основано на Писании и, следовательно, неоспоримо. Однако, разумеется, не могли согласиться в оценке того, что лютеране называли «злоупотреблениями» – будь то требования целибата для священников или причастия под одним видом для мирян. Меланхтон немедленно сел за составление на «Опровержение» письменного ответа, который озаглавил «Апология», несомненно, используя это слово в смысле древнегреческом и сократическом – а не в современном, где оно означает извинения.
8 сентября Лютер писал в очередном письме к Кати:
Поистине странно слышать, что кто-то сказал тебе, будто я болен: ведь ты своими глазами видишь написанные мною книги. Я закончил [перевод] всех пророков, кроме Иезекииля; сейчас работаю над ним, а также над проповедью о таинствах, не говоря уж о письмах и прочем, чем мне приходится заниматься.
Из-за спешки сейчас не могу написать больше. Передавай всем привет! Для Гансена Лютера я сберег большой кус сладкого сахара, привезенного Кириаком из Нюрнберга[487].
Учитывая многочисленных визитеров и непрекращающиеся болезни Лютера, трудно поверить, что за эти месяцы ему удалось столько успеть. Перевод Библии быстро продвигался, и в 1534 году Лютер опубликовал весь этот гигантский труд в одном томе. Кириак, упомянутый в письме – это племянник Лютера Кириак Кауфман, некоторое время проживший с ним в Кобурге: однако Лютер видел, что молодому человеку очень хочется посмотреть на роскошь и пышность рейхстага, так что отпустил его. О сахаре он написал буквально «большая книга сладкого сахара», посмеиваясь над своей творческой продуктивностью.
«Опровержение» было готово к 22 сентября; в этот день император пригласил делегатов во дворец епископа, чтобы там дать окончательный вердикт по лютеранскому «Исповеданию». Само «Исповедание» император также внимательно прочел, но остался непоколебим. Когда все собрались, он объявил: «Опровержение» дает на «Исповедание» достойный ответ – иначе говоря, полностью его опровергает, – так что дальше говорить не о чем.
Далее он объявил лютеранам, что дает им время до апреля следующего года, чтобы они решили, хотят ли вернуться в папскую овчарню. Но лютеране немедленно и официально отвергли императорский вердикт. От их имени выступил один из советников курфюрста Саксонского, Георг Брюк. Он протянул императору «Апологию» Меланхтона, протестантский ответ на «Опровержение» – и тот даже протянул руку, чтобы ее взять, но в этот миг кто-то (по-видимому, его брат, эрцгерцог Фердинанд) оттолкнул его руку и что-то прошептал ему на ухо. Так были отвергнуты доводы протестантов.
Ситуация снова зашла в тупик; быть может, она все-таки требовала церковного собора. Но оставался еще один вопрос, политический и куда более простой. Готовы ли император и католические князья в апреле будущего года напасть на лютеранских князей и, как и обещал Вормсский эдикт 1521 года, подавить мятеж силой? Сделают ли они это после 15 апреля, когда лютеранские князья должны будут официально дать ответ на ультиматум Карла? Филипп Гессенский снова предложил на этот случай союз между разными фракциями реформатов – и герцог Иоганн согласился: что-то делать надо.
Вместе с Меланхтоном, Йонасом и прочими виттенбержцами герцог Иоганн и Спалатин 1 октября приехали в Кобург, а три дня спустя отправились вместе с Лютером по домам, в Торгау и в Виттенберг. Однако позже в том же месяце герцог Иоганн снова собрал их всех в Торгау, чтобы обсудить предложение Филиппа Гессенского о создании лиги, – союза для отражения нападения Карла.
На встрече Лютер наконец получил возможность прямо ответить на вопрос о том, нужен ли союз, цель которого – возможное вооруженное сопротивление императору. Но почему теперь ответ его звучал иначе? Некоторый свет на это проливает отрывок из его речи: «Если князья как князья решат сопротивляться императору, пусть это будет их решение и дело их совести. Но христианину, умершему для мира, такое сопротивление определенно не подобает». Такая логика, как кажется, противоречит более общим суждениям Лютера – о том, что христиане не делятся на разряды, как в католическом мире, где священники вместе с монахами и монахинями составляют своего рода высший класс, а миряне – «второй сорт». Быть христианином для Лютера означало разделять общие для всех идеи и быть частью «царственного священства» – «священства всех верующих». С чего же вдруг у князей, известных ему как благочестивые христиане, появилось право нарушать правила, для прочих христиан обязательные? В своем богословии Лютер никогда не проводил четких границ между Церковью и государством, так что у членов Церкви – иначе говоря, у всех истинных христиан – не было ясных критериев, объясняющих, можно ли и в каких случаях можно поднимать оружие против государства. С той же проблемой столкнулся четыре века спустя Дитрих Бонхеффер; он сделал все возможное, чтобы разрешить эту дилемму и найти верный ответ, – однако немецкие лютеранские священники за ним не последовали: национал-социалисты не встретили со стороны Церкви никакого сопротивления и спокойно творили все, что им вздумается.
В последний день 1530 года в городе Шмалькальдене был создан союз протестантов, предсказуемо названный Шмалькальденской Лигой; документы о создании союза герцог Иоганн и Филипп Гессенский подписали в феврале. Приближался апрель – срок ответа от немецких князей, и Лютер написал «Предостережение дорогому немецкому народу». Однако обстоятельства имперской политики вновь неожиданно изменились – и снова в пользу лютеран! Архиепископ Альбрехт Майнцский и еще один курфюрст обратились к Карлу с предложение провести с протестантами новые переговоры от его имени. Карл предпочел бы не соглашаться; однако ему нужны были их голоса, чтобы гарантировать, что следующим правителем Германии станет его брат, эрцгерцог Фердинанд. Кроме того, ему по-прежнему требовалась помощь в борьбе с турками. Так что Карл согласился – и угроза, нависшая над протестантами, снова отодвинулась в неопределенное будущее. Теперь над головами их висел не Вормсский эдикт, а эдикт Аугсбургский; но переговоры все длились, и протестанты могли продолжать свое дело – распространять и укреплять Реформацию.
Глава двадцать первая Встречи со смертью
Пусть не смущают тебя те, для кого Христос – лишь шутка и посмешище… Они живут спокойно, и дьявол их не мучает. Да и зачем ему их беспокоить? Ведь они уже ему принадлежат.
Мартин Лютер20 мая 1531 года, узнав от брата Якоба, что мать его тяжело больна, Лютер послал ей письмо, очень похожее на то, что годом раньше отправил отцу. Письмо это много говорит нам о Лютере и его сердце:
Дорогая и любимая матушка! Я получил от брата [Якоба] письмо о вашей болезни. Разумеется, это весьма меня печалит, особенно потому, что не могу сейчас быть с вами, хоть этого желал бы больше всего на свете.
Далее он обращает к матери настоящую проповедь: она ведь, мол, сама прекрасно знает, что болезнь эта – «любящее, отеческое наказание» от Бога, ничтожное в сравнении с Его милостями, и что утешение следует искать в «краеугольном камне – Иисусе Христе». «Он не пошатнется, – пишет Лютер, – Он не подведет нас, Он не позволит нам утонуть или погибнуть». И затем переходит напрямую к смерти:
Возвеселимся же без сомнений и без печали, и пусть мысль о грехе и смерти нас не страшит – напротив, возвысим сердца свои горе́ и скажем: «Что это ты делаешь, милая моя душа? Дорогая смерть, дорогой грех, почему вы все еще живы и ужасаете меня? Или не знаете, что вы давно побеждены? Разве ты, смерть, не знаешь, что сама мертва? Разве не ведаешь Того, Кто говорит о тебе: “Я победил мир”?»[488]
Вскоре после получения этого письма мать Лютера скончалась. А затем, 9 ноября, Кати родила четвертого ребенка – мальчика, которого назвали Мартином-младшим, быть может, потому, что он появился на свет за день до дня рождения отца. По-видимому, крещен он был двумя днями позже, в день святого Мартина.
В августе 1532 года герцога Иоганна в его охотничьем замке в Швайнице разбил удар. Услыхав об этом, Лютер и Меланхтон поспешили туда за двадцать миль из Виттенберга, чтобы быть с ним в его последние минуты. Они молились вместе с герцогом и утешали его; но он не пережил ночь. Тела знатных людей в то время принято было бальзамировать, и, поскольку в Швайнице бальзама не нашлось, тело спешно повезли в Виттенберг[489].
В 1534 году умер папа Климент VII, и преемник его Павел III принялся готовить в Мантуе церковный собор, назначенный на 1537 год, – хоть этим планам и не суждено было сбыться. Но тогда, в 1535 году, подготовка собора была в разгаре, и папский нунций Паоло Верджерио примчался в Виттенберг, чтобы встретиться с Лютером и это обсудить. Лютер, гордый тем, что папский легат явился в Виттенберг просить у него мира, решил принарядиться для такого случая. Он пошел к цирюльнику и сделал модную стрижку, как поступал иногда перед важными проповедями, чисто выбрился, принял ванну, облачился в дублет, отделанный мехом, и мантию с меховой опушкой, натянул на ноги облегающие дворянские лосины. Руки украсил кольцами, позаимствованными у друзей; завершала этот пышный костюм золотая цепь таких размеров, что даже цирюльник, увидав ее, неодобрительно поцокал языком. А вместо того, чтобы идти на встречу с Верджерио пешком, как обычно ходил по городу, Лютер вдвоем с Бугенгагеном появился в карете. Впрочем, и сам Верджерио приехал на переговоры с большой помпой – в сопровождении двадцати всадников.
В письме Каспару Мюллеру, датированном январем 1536 года, Лютер упоминает документ (подготовленный Меланхтоном), принятый Шмалькальденской Лигой в ответ на вопрос Верджерио о том, может ли предполагаемый церковный собор состояться за пределами Германии. Ответом стало решительное «нет»: протестанты хотели проводить собор на своих условиях, а в любом ином месте на него оказывал бы сильное и нежелательное влияние папа. Лютер писал, что хотел бы списать этот документ и отправить Мюллеру копию, но не может, ибо сейчас его одолевает страшный кашель. И шутливо добавлял: помолись обо мне, тогда, быть может, кашель прекратится и мне удастся взяться за дело.
Три месяца спустя Лютер написал Томасу Кромвелю – в то время самому могущественному человеку в Англии, не считая короля, и одному из ведущих архитекторов английской Реформации. Кромвель надеялся включить Англию в Шмалькальденскую Лигу, чтобы и она сопротивлялась папе и императору вместе с Германией. Из этого ничего не вышло; однако Роберт Барнс, недавно уехавший из Виттенберга, заронил в Лютере надежду на такой союз и передал наилучшие пожелания от Кромвеля, на которые Лютер теперь и отвечал:
Доктор Барнс… доставил мне чрезвычайную радость, рассказав о серьезном и решительном желании Вашей светлости стоять за дело Христово; особенно радостно это от того, что высокое ваше положение позволяет вам собрать силы всего королевства, привлечь на нашу сторону и Его Величество короля и таким образом сделать много доброго. Молюсь и буду молиться Господу о том, чтобы Он преизобильно укрепил дело, начатое Вашей светлостью, во славу Его и во спасение многих. Аминь[490].
Однако скоро было решено, что делегация от Шмалькальденской Лиги, включающая в себя Меланхтона, в Англию не поедет. А в июне до Виттенберга дошли шокирующие новости о казни Анны Болейн, которую Лютер назвал «чудовищным английским злодеянием»[491], – и вопрос о союзе был снят с повестки дня.
В том же 1536 году умер Эразм. Ему было шестьдесят девять. А английский реформатор Уильям Тиндейл был схвачен в Антверпене и заключен в темницу: допрашивал его тот же человек – Якоб ван Хогстратен, – что много лет назад пытал и казнил лютеранских священников. Тиндейла приговорили к сожжению, однако по неизвестной причине сперва удавили, а затем сожгли уже мертвое тело. Тиндейл этот осмелился писать против кардинала Вулси и женитьбы Генриха VIII на Анне Болейн. Кардинал Вулси осудил его как еретика. Однако перед смертью Тиндейл перевел на английский Библию и разослал множество экземпляров книги по Англии и Шотландии, утверждая там Реформацию.
Здоровье Лютера все ухудшалось: к концу 1530-х годов тело доставляло ему постоянную боль и страдания. Обильная и жирная пища, которую он очень любил, вызвала накопление в суставах мочевой кислоты, так называемую подагру, – недуг столь болезненный, что во время одного из приступов Лютер громко угрожал отрезать себе большой палец ноги. Особенно тяжко страдал он от подагры в 1537 году. Не прекращались и приступы мочекаменной болезни: 8 февраля с болью и с сильным кровотечением вышел большой камень, а десять дней спустя еще один камень перекрыл ему мочеиспускательный канал, и Лютер едва не испустил дух. Курфюрст прислал к нему своего врача, но тот сделал только хуже – из неизвестных соображений прописал Лютеру пить много воды, что тот и сделал. Затем ему пришлось выпить варево из свежего навоза с чесноком. Боль была столь мучительной, что Лютер молил Бога о смерти; скоро его погрузили в карету и повезли домой, в Виттенберг, умирать. Однако тряска на зимней дороге, как видно, каким-то счастливым образом сдвинула камень, закупоривший канал – и, словно после удара Моисеевым посохом на горе Хорив, «хлынули воды». Из чрева Лютера вышло не менее четырех кварт мочи – и он выжил. «Лютер жив!» – объявил он в Виттенберге в тот же вечер.
Реформация продолжалась, и порой Лютеру оказывали различные почести. Так, в 1539 году было подготовлено собрание сочинений Лютера на немецком языке. Лютера попросили написать к нему предисловие – и там он посмеялся над собой и над всеми авторами, искушаемыми соблазном гордости за свои труды. Вот знаменитый отрывок из этого предисловия:
Если же чувствуешь, что все у тебя выходит как нельзя лучше, если нахвалиться не можешь своими книжками, учением или речами, если считаешь, что лучше писать или проповедовать даже и невозможно… если с нетерпением ждешь похвал – возьми-ка, друг дорогой, самого себя за уши; и, ежели правильно ухватишься – нащупаешь пару огромных, длинных, волосатых ослиных ушей. Дальше не жалей никаких расходов! Повесь себе на уши золотые колокольчики, чтобы люди, слыша, что ты идешь, показывали на тебя пальцами и восклицали: «Смотрите, смотрите! Вот идет наш сиятельный осел – тот самый, что так чудно проповедует и пишет такие прекрасные книги!» Тут-то, конечно, ты обретешь в Царстве Небесном неисчислимые благословения[492].
Смерть Ленхен. Aetatis 48
В конце августа 1542 года Лютер отправил своего шестнадцатилетнего сына Иоганна, которого дома звали Гансом, в латинскую школу в Торгау, в двадцати двух милях от Виттенберга. Там Гансу предстояло изучать грамматику и музыку. С ним отправился кузен Флориан, племянник Кати, некоторое время проживший с ними в Виттенберге. Однако несколько недель спустя тринадцатилетняя дочь Лютера Магдалена вдруг слегла в жару. До того она была совершенно здорова – но болезнь оказалась столь серьезна, что семья не надеялась на благополучный исход. Ганса немедленно вызвали из Торгау домой. Лютер отправил за ним карету.
Магдалена, которую дома звали Ленхен, была особенно дорога Лютеру и Кати, не в последнюю очередь потому, что родилась вскоре после смерти их первой дочери Элизабет. Сидя у постели своей милой Ленхен, Лютер обратился к ней с такими словами: «Скажи, хочешь ли ты остаться со своим земным отцом или предпочтешь отправиться к Отцу Небесному?» Ответ Ленхен был: она хочет того, чего пожелает ее земной отец. Тогда, как рассказывают, Лютер сказал:
Дух бодр, плоть же немощна. Я очень ее люблю… Ни одному епископу за последнюю тысячу лет не давал Бог таких великих даров, какие даровал мне (ибо позволительно хвалиться дарами Божьими). Как зол я теперь на себя за то, что не могу радоваться от всего сердца и благодарить Бога! Но в жизни и в смерти мы принадлежим Ему[493].
Такова зияющая рана в самом сердце человеческого бытия: знание истины о Боге не ограждает нас от страданий в этом падшем мире, и, даже зная, что смерть есть переход в лучший мир, мы не можем осознать это вполне и перестать скорбеть. Ленхен умерла на руках отца 20 сентября, в девять утра. У одра ее сидели также Меланхтон и Кати: она, говорят, много дней после этого рыдала без устали. По всей видимости, были здесь и юный Ганс, и Георг Рёрер.
Когда Ленхен положили в гроб, Лютер воскликнул: «Что ж, закрывайте – она восстанет в последний день!» А когда гроб вынесли из дома, обратился к присутствующим со словами: «Не плачьте, я послал святую на небеса!» И затем, вспомнив свою первую дочь Элизабет, умершую во младенчестве четырнадцать лет назад, добавил: «Даже двух святых». Своей дочери Лютер сочинил стихотворную эпитафию:
[Я, Ленхен, любимая дочь Лютера, Сплю среди святых мира, Лежу здесь в мире и покое, Ибо теперь я в гостях у Бога. Верно, я была рождена для смерти, Из смертного семени породила меня мать; Но теперь я живу с Богом в довольстве И благодарю за это смерть и Кровь Христа. ][494]Чуть раньше в том же году Лютер переписал завещание: теперь он отписал все, что имел, не старшему сыну, а милой своей Кати, которую безмерно любил. Вот еще один пример того, что Лютер ставил женщин выше, чем большинство мужчин того времени, – и особенно ценил свою дорогую Кати. Примерно к этому времени относятся его слова: «Ни за Францию, ни за Венецию не отдал бы я мою Кати». В комментарии на книгу Бытия Лютер писал: «С женщиной, с которой соединил меня Бог, я могу шутить, веселиться и вести приятные беседы». В новом завещании Лютер высказался ясно: Библия велит детям почитать мать, а с финансовой зависимостью матери от детей это несовместимо. «Мать, – писал он, – вот лучший опекун для детей».
Вера Лютера всегда ярче всего сияла рядом со смертью. В одном из томов «Застольных бесед» мы читаем, как Лютер утешал некоего умирающего:
Бог тебя не оставит. Он – не скряга, трясущийся над своими сокровищами, и не тиран, затаивший на тебя зло. Хоть бы ты и богохульствовал или отрицал Бога в минуту уныния, – что с того? – такое случалось и с Петром, и с Павлом. Пусть не смущают тебя те, для кого Христос – лишь шутка и посмешище… Они живут спокойно, и дьявол их не мучает. Да и зачем ему их беспокоить? Ведь они уже ему принадлежат. А тобой или мной он очень желал бы овладеть. Как же ему это сделать? Будет и дальше нападать на тебя с разными мелочами, пока не доберется до твоего нутра. Но ты ему противься. Тот, Кто с нами, сильнее того, кто в мире сем[495].
Лютер и евреи
Несомненно, один из самых странных и спорных эпизодов в жизни Лютера связан с его писаниями о евреях, относящимися к самому концу жизни. Худшему из того, что он там сказал, ни один ученый за пять веков не смог дать внятного объяснения – слишком явно это противоречит многому из того, что он говорил о том же предмете раньше. В расцвете сил Лютер надеялся, что Реформация поможет многим европейским евреям понять: те христиане, что их презирают и гонят – не христиане вовсе, а просто лицемеры-язычники. В 1519 году он даже удивлялся, почему евреи иногда обращаются в христианскую веру, учитывая «ту вражду и жестокость, что мы к ним питаем, – то, что в нашем поведении с ними мы уподобляемся не столько христианам, сколько диким зверям». В 1523 году он написал трактат под названием «О том, что Иисус Христос был рожден евреем», где говорил:
Случись мне быть евреем и видеть, какие дурни и остолопы ныне правят Церковью и учат христианской вере, – скорее я стал бы свиньей, чем христианином. Они ведь обращаются с евреями как с собаками, не считая их за людей, и только и делают, что издеваются над ними и отбирают их имения[496].
По злой иронии судьбы, в последние желчные свои годы Лютер сам начал призывать к этому и еще к худшему. В самом разнузданно-злобном своем сочинении, «О евреях и их лжи», он яростно требует предать огню синагоги, разрушить дома евреев, даже конфисковать у них деньги и молитвенники. О религиозной свободе он, кажется, и думать забыл – и нам остается только гадать, как удавалось этому человеку писать вещи не просто разные, но и настолько противоречащие друг другу.
Быть может, об этих писаниях почти никто бы не слышал, не будь нацистов. Лютер, когда писал их, не мог и вообразить, что четыре века спустя в возлюбленной его Германии придет к власти тиран, одержимый неведомой прежде дьявольской злобой, и что клевреты его, желая привлечь Лютера на свою сторону, извлекут из горы его писаний именно эти, самые несправедливые страницы. Он не мог знать, что эта дьявольская затея приведет к невиданному еще в мире злодеянию, – хладнокровному, расчетливому убийству шести миллионов мирных еврейских граждан. С холодным цинизмом мастера нацистской пропаганды извлекли из ста десяти томов сочинений Лютера несколько злых слов о евреях – и прокричали их на весь мир; хотя даже в то время люди, хорошо знакомые с другими работами Лютера, этого памфлета либо не знали, либо просто игнорировали, видя в нем какое-то странное, необъяснимое отклонение.
Однако остается главный вопрос: каким образом человек, большую часть жизни столь ясно ощущавший любовь и благодать Божью, столь много о них размышлявший, наговорил такого, что явно противоречило его же собственным убеждениям? Это не укладывается в голове – но тексты перед нами, не замечать их не выйдет; и мы невольно задаемся вопросом, является ли человеческая жизнь единым целым или ее разумнее рассматривать по частям? Верно ли, что мы одни и те же на протяжении всей жизни, – или в разные жизненные периоды в нас как бы сменяются разные личности? Если написать подобное Лютера соблазнил дьявол, – что ж, он преуспел. Много лет искушал он Лютера предаться низменным чувствам, наконец победил – и выиграл от этого, быть может, даже больше, чем надеялся: не только помог нацистам оправдывать свои преступления против евреев – что само по себе эталон зла, творимого людьми, – но и заставил миллионы людей окинуть новым, недоверчивым взглядом все, что писал Лютер прежде, создал как бы ленту Мебиуса, сотканную из противоречий.
Таким образом, понять смысл его поздних нападок на евреев кажется невозможным. Половина из того, что написал Лютер в этом прискорбном памфлете, основана на тезисах, в которые сам он, без сомнения, верил, – но мы теперь знаем, что все это ложь. Например, достаточно многое взял он из «Победы над безбожными евреями», сочинения картезианского монаха по имени Сальвагус Порхетус (около 1300 года), и других подобных книг. Согласно этой и другим книгам, иудеи произносят богохульства против Иисуса и Марии: Лютер считал, что такого терпеть нельзя. Современные понятия о свободе слова и религии в то время были еще не в ходу, и Лютер полагал, что терпеть евреев в Саксонии значит соглашаться с этими богохульствами и поощрять их. В книге Порхетуса приводится одно из таких богохульств: Иисус, мол, творил чудеса с помощью каббалистической магии, пока его не разоблачили и не предали казни. Мария в этих еврейских писаниях будто бы именуется «шлюхой» и «навозной кучей», о ней пишут, что она родила Иисуса во время менструации. Порхетус – а за ним и Лютер – был уверен, что евреи ждут прихода истинного Мессии, который убьет всех христиан. Верил Лютер и тому, что евреи отравляют колодцы, воруют детей для ритуальных убийств, а также своей ложью уводят людей от Христа, – что для него было страшнее всех прочих преступлений.
Наконец, стоит вспомнить, что, говоря о других религиозных группах, Лютер также в выражениях не стеснялся. Известно, что о турках-мусульманах он говорил очень грязные вещи, – например, что в их браках «чистоты столько же, сколько в связи солдата с публичной девкой». Он обвинял их в «такой латинской и содомской нечистоте, о которой невозможно даже упомянуть среди приличных людей», а Коран называл «проклятой, позорной, гибельной» книгой, полной «самых ужасных мерзостей». А что он говорил о папистах, мы уже знаем.
Если попробовать найти в этом прискорбном казусе хоть что-то хорошее, можно сказать так: эти злые и несправедливые писания мешают нам идеализировать Лютера и превращать его в идол. Быть может, немного утешит нас и то, что через год после «Евреев и их лжи» он, кажется, снова развернулся в обратную сторону. В 1544 году он переписал гимн под заглавием «Бедный Иуда, что ты наделал?», добавив в него такую строфу:
[Наши великие грехи и тяжкие проступки Пригвоздили Иисуса, истинного Сына Божьего, к кресту. Итак, не осмеливаемся винить тебя, бедный Иуда, Или толпу иудеев: позор этот только наш. ][497]Так что тех, кто желает видеть в Лютере последовательного антисемита, ждет разочарование. Он справедливо возлагает вину за распятие Иисуса не на иудеев, а на каждого из нас – в том числе и на самого себя.
Прежде чем оставить эту мрачную тему, добавим: наш ужас перед ней связан с глубокой иронией – не только с тем поверхностным парадоксом, что человек, столь преданный почитанию иудейского раввина Иисуса, так говорил о его соплеменниках, но и с иронией более глубинной: человек, принесший в мир идеи религиозной свободы и плюрализма, сам при жизни не считал их естественным и неизбежным следствием из своих открытий и учений.
Как ни ужасно все, что писал Лютер о евреях и прочих – пожалуй, настоящий фейерверк ненависти приберег он под конец жизни, как и следовало ожидать, для папы. В 1545 году в трактате «Против папства римского» Лютер превзошел самого себя. Приведем оттуда избранный отрывок:
Папа – не глава христианской Церкви и быть ею не может. Он – глава церкви проклятой, составленной из худших на свете негодяев; он викарий дьявола, враг Бога, противник Христа, разрушитель церквей Христовых; учитель лжи, богохульства и идолопоклонства; главный церковный тать и похититель ключей, грабитель и Церкви, и светских князей; убийца королей, подстрекатель всяческого кровопролития; сутенер хуже всех сутенеров, такая гадина, какой и имя подобрать нельзя; он – антихрист, человек греха и подлинный упырь[498].
Однако и этого Лютеру показалось мало, и он подрядил Кранаха на создание двенадцати гравюр, изображающих самые грязные и отвратительные сцены, описанные Лютером. Ужасные эти гравюры соперничают с худшими творениями Иеронима Босха; некоторые из них способны подействовать как рвотное. На одной из них ухмыляющийся демон с пятнистой шкурой, женскими грудями и хвостом испражняется полудюжиной кардиналов, а рядом папу кормит грудью мерзкая обнаженная старуха со змеями вместо волос. На другой демон, сидящий с двумя своими собратьями на перекладине виселицы, извергает из заднего прохода целый поток монахов: те грудой падают на землю, причем у одного задрана ряса и видны гениталии. Издеваясь над целибатом клириков, Лютер даже присвоил папе Павлу III прозвище «Его Содомское Адейшество Павла III». Словом, любители непристойностей найдут для себя в этом сочинении немало интересного.
Реплики и изречения Лютера, сохраненные для нас в «Застольных беседах», представляют собой настоящую сборную солянку, по счастью, без таких крайностей. Многие из них действительно забавны; иные напоминают о раздражительности, которой, увы, прославился Лютер в последние годы жизни. Вот два анекдота оттуда:
Некто прислал узнать, можно ли использовать при крещении теплую воду? Доктор отвечал: «Скажите этому болвану, что вода, теплая или холодная, остается водой!»[499]
Некто спросил, где находился Бог до того, как сотворил небеса? Святой Августин ответил: в Самом Себе. Когда мне задали тот же вопрос, я ответил: «Он был очень занят – создавал ад для тех, кто глупые вопросы задает!»[500]
Ближе к концу жизни Лютера яркая личность его проявлялась почти во всем, что он говорил или писал. Вот рождественская проповедь, написанная им в последние месяцы жизни. Она в высшей степени «лютеровская»: упреки древнему Вифлеему плавно и естественно переходят в ней в упреки и наставления собственной пастве:
Гостиница была битком набита. Никто не захотел уступить комнату беременной. Пришлось ей идти в хлев для скотины и там привести в мир Творца всего, ибо никто над Ним не сжалился. Стыд и позор тебе, негодный Вифлеем! Гостиницу эту стоило бы спалить дотла: ведь будь Мария даже нищенкой бездомной, даже незамужней – как можно было в такое время не протянуть ей руку помощи? Знаю, многие из вас сейчас думают: «Эх, был бы там я! Уж я бы, конечно, поспешил на помощь Младенцу! С какой радостью стирал бы Ему пеленки и вместе с пастухами смотрел бы на Господа, лежащего в колыбели!» Да, конечно – ведь теперь вы знаете, как велик Христос. А окажись вы там в то время – уверяю вас, повели бы себя не лучше, чем жители Вифлеема. Мысли эти глупые, ребяческие. Хотите помочь Христу – почему бы не сделать этого сейчас? Христос дан вам в ближнем. Ему вы призваны служить, ибо что делаете для ближнего в нужде – делаете для самого Господа Христа[501].
Глава двадцать вторая «Мы нищие. Это истина»
Пал колесничий Израилев!
Меланхтон1546. Aetatis 62
С Мансфельдом Лютера связывали пожизненные узы. В этом городе прожили до самой смерти его отец и мать; здесь жили его брат и сестра со своими семьями. И с Мансфельдом, и с соседним Айслебеном, где Лютер родился, у него сохранялись тесные связи. Все, что там происходило, находило в его сердце горячий отклик, и за эти годы он много раз обращался к графу Альбрехту Мансфельдскому с различными просьбами. Альбрехт сам был евангеликом и с Лютером поддерживал хорошие отношения, однако в 1536 году он попытался взять под контроль добычу медной руды у себя в графстве. Брат Лютера Якоб и шурин Пауль Макенрот возражали против действий Альбрехта: оба они, как и отец Лютера, занимались медной рудой. Несколько раз Лютер вмешивался в этот спор на их стороне, прямо говоря Альбрехту, что жадность вынуждает его забывать о благословениях Божьих. Кроме того, он просил мансфельдского пастора Целеуса поговорить с графом о том же, а в 1542 году отправил Альбрехту особенно жесткое пастырское послание. Говорят, письмо это так разъярило Альбрехта, что он бросил его наземь и принялся топтать ногами. Позже Лютер просил одного из саксонских дворян заступиться перед Альбрехтом за еще одного горняка, Бартоломея Драхштедта из Айслебена. Наконец произошла громкая ссора между Альбрехтом и его братом Гебхардом – и тут Лютер почувствовал себя обязанным ехать в Айслебен и вмешаться в дело лично. Он уже был там в октябре 1545 года вместе с Меланхтоном, но теперь решил, что должен вернуться.
Итак, в начале 1546 года Лютер решил отправиться в это путешествие. Меланхтон на этот раз был болен и не мог его сопровождать. В сущности, болел он уже несколько лет, и в этот раз Лютер сам посоветовал ему остаться дома, опасаясь, что дорога дурно скажется на его здоровье. Лютер дрожал за жизнь Меланхтона, понимая, что с его смертью университет понесет огромную потерю. Путь из Виттенберга занимал более шестидесяти миль, и Лютер, зная, что пробудет там не меньше двух недель, решил взять с собой троих сыновей. Ему было в то время шестьдесят два года. Старшему, Гансу – девятнадцать, Мартину – четырнадцать и Паулю – тринадцать. В Мансфельде, всего в девяти милях от Айслебена, жили брат и сестра Лютера – и, скорее всего, он рассчитывал заехать туда, повидаться с родственниками, познакомить сыновей с двоюродными братьями и сестрами. За неделю до отъезда, 17 января, Лютер произнес с кафедры Schlosskirche в Виттенберге проповедь – как оказалось, последнюю в своем городе. В тот же день в письме к другу Якобу Пропсту он признавался, что чувствует себя «совсем стариком, ветхой развалиной: неповоротливый, вечно усталый, постоянно мерзну, а теперь еще и одноглазый». Наполовину в шутку, наполовину всерьез он добавлял, что может считаться уже мертвым, и признавался, что жаждет «заслуженного отдыха»[502]. Однако путь его был еще не окончен. 23 января Лютер попрощался с Кати и с единственной оставшейся в живых дочерью Маргаритой, которой было в то время одиннадцать лет, – и отправился вместе с мальчиками в Айслебен.
Вместе с ними ехал Иоганн Аурифабер, тогдащний помощник Лютера. Прибыв двадцать четвертого числа в Галле, Лютер встретил там Юстуса Йонаса, который должен был оттуда ехать с ними. В Галле Лютер произнес проповедь в церкви Святой Девы на Рыночной площади – и не пренебрег возможностью покритиковать обширную коллекцию реликвий, собранную архиепископом Альбрехтом, хоть сам архиепископ несколько месяцев назад скончался. На следующий день путешественники хотели ехать дальше, но река Зале так разлилась и так бурно несла свои воды, полные острых обломков льда, что переправляться через нее было опасно. Двадцать шестого числа, все еще ожидая, пока спадет вода, Лютер произнес в церкви в Галле вторую проповедь; однако и на следующий день переправа оставалась небезопасной. Двадцать восьмого числа мансфельдские графы наконец прислали за Лютером и его спутниками отряд из шестидесяти всадников в качестве эскорта. Все благополучно прибыли в Айслебен, откуда трое мальчиков должны были сразу отправиться в соседний Мансфельд. Однако не успели они уехать, как Лютер серьезно заболел. Два дня спустя он рассказал о своей болезни в письме к Меланхтону.
«Ты знаешь, – писал он, – что я человек старый, человек, которому пора на покой».
В дороге настигли меня обмороки и та болезнь, что ты обычно называешь humor ventriculi [сердцебиение]. Шел я пешком, но это оказалось превыше моих сил, так что началась одышка. На ходу я пропотел, а в карете меня продуло и начался прострел в левом плече, а от этого случилось стеснение в груди: сдавило сердце и невозможно было вздохнуть полной грудью. Все это вышло по моей собственной глупости. Теперь я снова более или менее здоров, но надолго ли – не знаю: в мои годы на здоровье полагаться уже нельзя.
Насколько можно понять, Лютер терял сознание, и его приводили в чувство, оборачивая теплыми полотенцами. В том же письме он рассказывает Меланхтону о своих успехах в переговорах с местными графами в таких выражениях: «С Божьей помощью зарезали сегодня самую визгливую свинью… хоть она и отбивалась»[503].
В письме к Кати, написанном в тот же день, Лютер упоминает только о головокружении. Он знал, что жена беспокоится о нем, – и не без причин. Нарыв на ноге у Лютера к тому времени уже прошел; однако врач его Маттиас Ратценбергер заверил, что на самом деле это «родничок», то есть отверстие, через которое выходят излишние телесные жидкости, и посоветовал не давать отверстию зарастать. Отправляясь в дорогу, Лютер не взял с собой нужную мазь, и абсцесс начал заживать – а Лютер был уверен, что это вредно для здоровья. Писал он Кати и о том, что наслаждается здесь прекрасным наумбургским пивом, которое оказалось чрезвычайно полезно для пищеварения – о запорах нет и помину, «по-большому» он ходит теперь с легкостью, по три раза каждый день. Упомянул и о том, что приступ головокружения, посетивший его перед самым въездом в Айслебен, возможно, был вызван «евреями» – ведь как раз перед этим он проезжал через город, где, говорят, их очень много. Мы уже видели, что Лютер твердо верил в «духовную брань» и нападения бесов: по-видимому, он считал, что евреи могли проклясть его, как-либо околдовать или же просто что в присутствии евреев бесы собираются большими стаями и нападают яростнее. По словам тех, кто ехал с ним в карете, Лютер жаловался им на здоровье так: «Всякий раз, как собираюсь сделать что-нибудь важное, на меня набрасывается дьявол. Он… нападает на меня и причиняет мне tentatio [тяжелые испытания]»[504].
Лютер понимал, что для мира духовного имеет особое значение, – поэтому ему так часто досаждает дьявол. Об этом говорил он Меланхтону в письме от 3 февраля, где, рассказав о трудных переговорах, затем передал следующий случай:
Сатана сил не жалеет. До сих пор мы противились ему молитвой. Но вчера после проповеди в моей комнате загорелась сажа в дымоходе[505], страшно перепугав бедных моих хозяев, – не иначе как сам сатана ее поджег! Боюсь, сатана смеется над нашими усилиями – или, быть может, угрожает [нам] чем-то иным[506].
10 февраля Лютер снова пишет Кати – и в этом письме подробно рассказывает о пожаре в дымоходе. В этом письме происшествие выглядит более опасным. Рассказывает он и об еще одном опасном случае, произошедшем с ним во время важного занятия, о котором Лютер всегда говорил много и подробно – похода в уборную. Уборная, по его словам, прилегала к стене, на которой стояла мортира: она покосилась, кто-то поднялся на стену, чтобы ее поправить, – однако едва коснулся стены двумя пальцами, камень трех футов длиной и шести дюймов толщиной сорвался с нее и пролетел мимо Лютера, чудом разминувшись с его головой. Случись Лютеру в этот момент «сидеть орлом», камень неминуемо вышиб бы ему мозги – прямо «в клоаке».
Кати очень беспокоилась о муже: в ответных письмах она сообщала, что от тревоги за него не спит ночами. Быть может, ее мучало дурное предчувствие – кто знает? Так или иначе, подобная тревожность, по-видимому, обычно была ей несвойственна. Но Кати знала, что муж слаб здоровьем, что зима в этом году особенно суровая, а быстрый и сильный разлив рек как раз на пути у Лютера и сыновей делает путешествие опасным. Однако и в болезни Лютер не переставал подшучивать над женой, – хоть за шутками его всегда чувствовалась пастырская забота и нежная супружеская любовь:
Дорогой моей женушке Катарине Лютер, докторше и самомучительнице Виттенбергской, милостивой моей госпоже.
Мир и радость во Господе! Читай, дорогая Кати, [Евангелие от] Иоанна и [мой] «Малый катехизис», о котором ты однажды сказала: все в этой книге про меня! Ибо ты хочешь возложить на себя заботы Бога – как будто Он не всемогущ и не властен сотворить десять новых докторов Мартинов, если этот, старый, утонет в речке или сгорит на пожаре… Не докучай мне своими тревогами. У меня есть Хранитель надежнее и тебя, и всех ангелов: Тот, что лежит в яслях и сосет грудь Девы и в то же время сидит одесную Бога, всемогущего Отца.
Так что будь спокойна. Аминь[507].
Последние письма Лютера к Кати и к Меланхтону написаны четырнадцатого числа. Кати он уверяет, что у него все хорошо, и обещает на следующей неделе пуститься в обратный путь, а также посылает подарок – форель, полученную от жены графа Альбрехта. Сыновья, пишет он, все еще в Мансфельде у брата Якоба: тот за ними присматривает, у них все в порядке.
По-видимому, в этот же день или на следующий произнес он свои знаменитые слова: «Если вернусь в Виттенберг – лягу в гроб и устрою червям праздничный ужин». Последнюю в жизни проповедь Лютер произнес четырнадцатого или пятнадцатого февраля. За десятки лет он произнес с десятков кафедр миллионы слов; но во время этой проповеди ему пришлось сидеть – долго стоять он уже не мог. Он даже закончил проповедь раньше, чем намеревался, сказав: «Это и многое другое можно было бы еще сказать об этом Евангелии – но я слишком слаб, так что давайте на этом остановимся»[508]. Это была его последняя фраза, произнесенная с кафедры[509].
За все это время Лютер произнес в Айслебене четыре проповеди, все в церкви святого Андрея. В каждой из них он подчеркивал главную мысль всей своей жизни – главную мысль человечества: Бог во Христе свободно отдает Себя нам, хоть мы и грешники. Пока не поймем, что мы неисправимые грешники, нуждающиеся в помощи, пока не позволим Ему войти в нашу жизнь и спасти нас – спастись мы не сможем. В этих проповедях он противопоставлял свою веру вере папистов, евреев и турок: все они считают, что необходимо заслужить благоволение Бога и взойти на небеса собственными усилиями. Эти проповеди произносил он 31 января, 2 февраля, 7 февраля, и последнюю – 14 или 15 февраля. Кроме того, находясь в Айслебене, почти каждый день или через день участвовал он во встречах с графами и их советниками, ради которых и приехал, – хотя здоровье и не позволяло ему участвовать в этих встречах дольше часа или, самое большее, полутора часов. То, что Лютер болен, и болен серьезно, было очевидно всем вокруг. Так, он был на переговорах шестнадцатого числа, а семнадцатого из-за самочувствия прийти не смог. Однако к вечеру ему стало лучше, и он отужинал вместе с несколькими друзьями. Именно так завершался обычно день Лютера: он ужинал с друзьями, а в восемь часов удалялся к себе для отдыха и молитв.
Во время этого ужина – как оказалось, последнего – зашел разговор на довольно странную (и, как видно, пророческую) тему: смогут ли друзья узнать друг друга в жизни вечной? Лютер настаивал на том, что, конечно, смогут. После ужина он ушел в свои покои, чтобы помолиться у окна, и на этот раз взял с собой двоих младших сыновей. Но скоро ему стало худо: начался озноб и сильная боль в груди. Пастор Целеус и Йонас вбежали к нему и, видя, что дело серьезное, принялись растирать его горячими полотенцами. Аурифабер тем временем бросился к графу Альбрехту и его жене Анне: они примчались к Лютеру с чудодейственным средством – рогом единорога, который в то время связывали с чистотой Девы Марии и божественным спасением. На самом деле это был рог нарвала – но в те времена люди верили в существование единорогов. Граф Альбрехт растолок кусочек рога в порошок и высыпал в стакан вина – считалось, что такое средство любого больного поднимет на ноги. Один из его советников, Конрад фон Вольфрамсдорф, сам выпил ложечку снадобья – должно быть, чтобы Лютер удостоверился, что это не яд, ибо в последние годы жизни тот постоянно боялся отравления. Лютер выпил вино с рогом нарвала; ему стало чуть легче, и он задремал на диване в гостиной.
Проснувшись, Лютер с удивлением увидел, что вокруг дивана сидят его друзья, – очевидно, они не расходились, тревожась о нем. Он встал и без посторонней помощи прошел в умывальную, говоря: «В руку Твою предаю дух мой, Ты искупил меня, Господи, Боже истины». Эту молитву из псалма 31:5[510] часто читали в то время люди, полагающие, что умирают, – не в последнюю очередь потому, что эти слова последними произнес Иисус на кресте (Лк. 23:46). После этого он всем пожал руки, пожелал доброй ночи и удалился в спальню. С ним остались сыновья Мартин и Пауль, Йонас и слуга Амброзиус Рутфельт.
По городу прошел слух, что Лютер умирает, и в дом, где он остановился, стал сходиться народ. Пастор Целеус и Аурифабер оставались рядом; явились также двое врачей, хозяин дома и начальник городской канцелярии Иоганн Альбрехт вместе с женой. Около часа ночи Лютер проснулся от нового приступа боли в груди. Тем, кто был рядом, он пожаловался на боль и озноб. Разбудив слугу Амброзиуса, попросил его развести огонь в печи, хотя в комнате было достаточно тепло. Уверенный, что умирает, он и на краю смерти не удержался от обычной лютеровской шутки – с улыбкой сказал Йонасу: «Что ж, в Айслебене я родился, крестился – в Айслебене и останусь!» Затем снова поднялся в постели и пошел в умывальную, произнося при этом слова из псалма 31. Когда он вернулся в постель, его снова растерли полотенцами, смоченными в горячей воде.
В какой-то момент Лютер начал обильно потеть – и увидел в этом знак подступающей смерти. «Это холодный пот смерти, – сказал он. – Мне становится хуже, вот-вот я испущу дух». Быстро послали за врачами, а Лютер начал громко молиться Богу, «Богу всякого утешения, Отцу Иисуса Христа», благодаря его за то, что Бог открыл ему Сына Своего, «в Которого я верил, Которого любил, Которого проповедовал, исповедовал и восхвалял, Которого поносят и чернят папа и все безбожники». Страх ада не посещал Лютера перед смертью: он был уверен, что идет к Богу. Он молился словами Симеона из Лк. 2:29: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром. Аминь». Затем еще трижды произнес он слова из Пс. 31:5 – и умолк. Стали звать его, трясти – он не отвечал. Графиня Анна потерла ему ноздри раствором розового уксуса с «водой жизни» – разбавленным винным спиртом – но он не очнулся[511].
Йонас и Целеус отдавали себе отчет, что весть о смерти Лютера скоро разлетится по всей Европе, – и как для друзей, так и для врагов будет очень важно, как он умер. Постыдная смерть или мучительная агония считались верными признаками, что умирающий отходит не в райское блаженство, а в вечные муки. Поэтому – для вечности, так сказать – оба вскричали громким голосом, так, чтобы их услышали и на краю вечности: «Преподобный отец! Готовы ли вы умереть, доверяясь Господу Иисусу Христу и исповедуя то учение, что проповедовали вы именем Его?» Лютер их услышал, и из уст его вылетело громкое, отчетливое: «Ja»[512] – последнее его слово. Затем Лютер повернулся на правый бок; на миг присутствующим показалось, что ему стало легче, – но он погрузился в глубокий сон и с этой минуты уже ни на что не обращал внимания и никому не отвечал. Около пятнадцати минут спустя, приблизительно без четверти три, заметили, что он испустил особенно глубокий вздох – и перестал дышать. Всем было очевидно, что Лютер мирно и непостыдно отошел в мир иной.
Но это был еще не конец истории. На сцену вышел аптекарь по имени Иоганн Ландау и в последней отчаянной попытке вернуть Лютера к жизни… сделал безжизненному телу клизму! Разумеется, это ничего не дало. Но надо сказать, такой «туалетный» постскриптум как нельзя лучше подходит к натуре Лютера – с его готовностью соединять высокое и низменное, с его любовью к рискованному и «черному» юмору. Лютер и смеялся над нашей телесностью, и ее прославлял. Мы – не бесплотные духи: из земли мы созданы, в землю возвратимся и не можем отделаться от земли – но Бог счел нужным наполнить создания из праха земного дуновением вечности. Так что не дьявол смеется последним, а мы – вместе с Богом. Мы, созданные из персти Эдемской, мы, обреченные вернуться в землю и стать пищей червям – воскреснем в последний день, взлетим, как птицы, чтобы встретиться с Господом и Царем, создавшим нас, с такими же телами, как у него, новыми, вечно юными и прекрасными. Вот в чем состоит искупление: из этих кожаных бурдюков, наполненных кровью, желчью и экскрементами, создать нечто столь славное и прекрасное, чего мы сами не в силах и вообразить. Во всей полноте это знание нам недоступно; но Лютер подошел к нему ближе, чем кто-либо еще, – и передал его миллионам.
Hoc est corpus Lutherum[513]
Люди, окружавшие сейчас усопшего, знали: еще много лет назад он ясно дал понять, что погребальные ритуалы католиков в его глазах – не таинство; поэтому не совершали над ним ни миропомазания, ни прочих католических обрядов. К четырем утра весть о смерти Лютера распространилась по городу и к дому потянулись люди. Пять часов подряд шли горожане попрощаться с Лютером: многие рыдали, видя его мертвым всего в нескольких ярдах от места, где шестьдесят два года назад он появился на свет. Рано утром Йонас отправил нарочных с известием о смерти Лютера к курфюрсту Иоганну Фридриху и к Меланхтону. Когда рассвело, Лютера переодели в белую «швабскую блузу» – простую рубаху вроде тех, что носили тогдашние крестьяне, и переложили с кровати в свинцовый гроб. Посетители шли нескончаемым потоком: знать чередовалась с простыми людьми, хорошие знакомые – с теми, кто видел его лишь раз или два. Некоторые здесь знали Лютера всю жизнь.
Рано утром 19 февраля в городские ворота Виттенберга влетел нарочный с печальным известием. Погребальная процессия с телом Лютера двигалась куда медленнее: раньше чем через три дня она здесь появиться не могла. Филипп Меланхтон в этот ранний час готовился читать студентам лекцию о Послании апостола Павла к Римлянам. Но когда вестник протянул ему письмо Юстуса Йонаса и Меланхтон распечатал послание – скорбь охватила его, заставив забыть обо всем ином. Поднявшись в девять часов на кафедру, он не смог сказать о Послании к Римлянам ни слова. Он объяснил студентам, что не сможет сегодня исполнять свои обязанности, ибо: «Сегодня я получил печальное письмо – письмо с горестным известием, столь меня потрясшим, что не знаю, смогу ли дальше преподавать в университете. О том, что мне сообщили, сейчас вам расскажу, дабы вы не верили ложным слухам, которые об этом событии, несомненно, распространятся»[514]. Затем он рассказал о смерти Лютера – во всех подробностях, описанных Йонасом.
Свою речь Меланхтон закончил восклицанием: «Alas, obiit auriga et currus Israel!» – «Пал колесничий Израилев!» Это парафраз слов Елисея о смерти Илии в 4 Цар. 2:12.
Тем временем в Айслебене графы Мансфельдские вполне предсказуемо настаивали на том, чтобы Лютера похоронили здесь, – в городе, где он родился и где Бог судил ему умереть. В тот же день, девятнадцатого, в два часа пополудни, гроб с телом Лютера перенесли в церковь святого Андрея – буквально через улицу, примерно на пятьдесят футов от места, где он умер. Юстус Йонас произнес над ним надгробную проповедь. Призвали художника, Лукаса Фортеннагеля из Галле, чтобы тот сделал посмертный портрет. Ночью над телом бдели, сменяя друг друга, десять горожан. Утром следующего дня – двадцатого – провели еще одну службу: теперь проповедовал пастор Целеус. Однако в Айслебене Лютера так и не погребли. Курфюрст сумел переспорить мансфельдских графов и настоял на своем: Лютера должны перевезти в Виттенберг и похоронить там, в Замковой церкви, на дверях которой почти тридцать лет назад он вывесил свои Тезисы.
Итак, двадцатого числа после обеда гроб с телом погрузили на дроги, и под траурный колокольный звон, в сопровождении свиты из пятидесяти всадников, скорбный груз отправился прочь из города, где Лютер родился и умер. Где-то в пять вечера процессия добралась до Галле. На главной городской площади уже собралась в ожидании огромная толпа: и площадь, и близлежащие улицы были так забиты народом, что не протиснуться. Под звон колоколов тело внесли в церковь Девы Марии; однако для заупокойной службы было уже поздно. Именно в Галле с Лютера сняли посмертную маску. Таков был тогда обычай при погребении выдающихся людей. Однако вслед за тем скульпторы сделали нечто необычное – сняли слепки и с кистей его рук[515], в чем-то, пожалуй, даже более выразительных, чем лицо. Впрочем, поразительно само то, что точные слепки лица и рук – по-своему более точные, чем фотографии – дошли до нас через пять столетий. С маски было снято несколько копий. Но по-настоящему поражают руки – в естественном, совершенно «живом» положении: на одной все пальцы подогнуты, как у отдыхающего человека, на другой пальцы выпрямлены и лишь слегка согнут мизинец. Эти руки пять столетий назад держали перо, ласкали Кати и детей; эти руки написали бесчисленное множество слов, изменивших мир.
Двадцать первого похоронная процессия приехала в Биттерфельд: здесь местные «отцы города» выразили почтение усопшему и проводили процессию на двадцать миль до соседнего Кемберга. И наконец, утром двадцать второго, около девяти утра, процессия въехала в Виттенберг и, в сопровождении большой свиты, направилась через весь город к Замковой церкви. Теперь во главе процессии шли школьники и священники. За ними – представители курфюрста Иоганна Фридриха, двое мансфельдских графов и шестьдесят пять всадников. Далее ехал катафалк с телом. Его влекла четверка лошадей; гроб был покрыт черной тканью с изображенным на ней белым крестом. За катафалком ехала небольшая карета для Кати Лютер, ее дочери Маргариты и еще нескольких местных женщин. За каретой шли пешком трое сыновей Лютера, их дядя Якоб, сыновья сестры Лютера и другие родственники. Дальше – ректор университета и множество студентов всякого рода и звания. За ними – университетский канцлер, дальше Йонас, Бугенгаген и Меланхтон, и с ними Иероним Шурфф и другие университетские преподаватели. Доктора и магистры шли плотной толпой. За ними – члены городского совета, и снова студенты, и множество простых горожан – мужчин, женщин и детей.
Гроб внесли в Schlosskirche и поставили в боковой придел, перпендикулярно алтарю. Вырыли могилу – почти под той самой кафедрой, с которой Лютер столько лет проповедовал Евангелие.
Бугенгаген подготовил проповедь, но от волнения и горя произнес ее с большим трудом. Текстом для проповеди он выбрал 1 Фес. 4:13–14: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Затем заговорил Меланхтон – и произнес похвальное слово, в котором изобразил Лютера как одну из величайших фигур в мировой истории:
Лютер явил на свет истинное и необходимое учение. Он показал, что есть истинное покаяние и что есть прибежище и твердое утешение души, трепещущей от страха перед гневом Божиим. Он объяснил учение Павла, гласящее, что человек оправдывается верою… Многие из нас стали свидетелями борений, через которые прошел он, устанавливая принципы веры, полученные и услышанные нами от Бога. Отныне и вовеки благочестивые души будут приумножать блага, посланные Богом Церкви через Лютера.
Впрочем, даже сейчас Меланхтон не удержался от легкой критики в адрес покойного соратника:
Иные жалуются, что Лютер проявлял чрезмерную суровость. Этого я отрицать не стану. Но отвечу им языком Эразма: «Тяжки и безмерны болезни века сего, и Бог послал им сурового врача»… Не стану отрицать, что пламенные натуры порой совершают ошибки, ибо человек слаб и нет среди нас ни одного, кто был бы безгрешен. Но и о таком человеке можно сказать: «Хоть он и груб, но похвалы достоин!» Если он и бывал суров – это была суровость не из злобы, не из любви к ссорам, а из ревности к истине… Бог был его якорем, и вера никогда его не покидала[516].
Кати горько скорбела о своем муже – особенно о том, что в последние его часы не была с ним рядом, не заботилась о нем, не утешала сыновей, видящих смерть отца. Через несколько недель после смерти Лютера Кати писала своей невестке Кристине фон Бора:
…И кто не горевал бы, кто мог бы не печалиться потере столь драгоценного человека, как дорогой мой господин? Он совершил великое не для города только, даже не для одной страны, но для всего мира. Скорбь моя так велика, что ни единому человеку не в силах я передать ту боль, что терзает мое сердце. Не знаю, как я это переживу. Я не могу ни есть, ни пить, ни спать. Владей я княжеством или имперской короной, а потом потеряй их – мне не было бы так больно, как сейчас, когда дорогой Господь Бог отнял у меня драгоценного моего возлюбленного, – и не только у меня, но и у целого мира[517].
Последние слова
В день смерти Лютера в кармане у него нашли клочок бумаги с такой записью:
Не сможет понять «Буколики» и «Георгики» Вергилия тот, кто сам лет пять не пробыл земледельцем или пастухом. Не поймет Цицероновы письма тот, кто не занимался двадцать лет судебными и государственными делами. Так пусть никто и не думает, что в силах ощутить вкус Священного Писания, если не управлял церквями и пророками хотя бы сто лет! Все это полно чудес: первое чудо – Иоанн Креститель, второе – Христос, третье – апостолы. «Не прикасайся к божественной “Энеиде” – лишь смиренно склонись перед ее следами!»[518][519]
А под этим, отдельной строчкой – последние написанные слова Лютера, на смеси немецкого и латыни, странные, глубокие и трогающие душу: «Wir sind Pettler. Hoc est verum»[520].
Эпилог Человек, создавший будущее
Не прошло и года после смерти Лютера, как император Карл V въехал верхом в виттенбергскую Замковую церковь и направил коня прямиком к источнику ереси – кафедре, с которой так часто проповедовал Лютер. Гордо взирал император со своего седла на могилу настырного немца, чье наследие теперь лежало в руинах. Всего месяц назад, в апреле 1547 года, император покончил наконец с прочими своими войнами, всей своей мощью обрушился на Шмалькальденскую Лигу – и наконец-то вернул заблудших протестантов на путь истины. Вместе со своим братом, эрцгерцогом Фердинандом, в битве при Мюльберге он наголову разбил Иоганна Фридриха Саксонского и Филиппа Гессенского. Протестантской Германии не было больше ни на одной карте. Оба вождя были схвачены и заключены в темницу, а протестантская революция, казалось, подошла к концу. Теперь, глядя на могилу, где покоились бренные останки Лютера, Карл размышлял, не стоит ли извлечь труп противника и сжечь его хотя бы посмертно, как подобает поступать с еретиками? Самая достоверная легенда рассказывает, что именно этого требовали разгоряченные насилием испанские солдаты, – но Габсбург, благородный и здравомыслящий, отвечал: «Я не воюю с мертвыми!» Так император оставил архиеретика лежать там, где покоятся его кости и по сей день – развернул коня, выехал из-под каменных сводов огромного здания и покинул мятежный Виттенберг, чтобы никогда больше туда не возвращаться.
Верно, силы императора победили в Шмалькальденской войне и опустошили значительную часть Саксонии; однако к 1547 году идеи Лютера слишком широко распространились и слишком глубоко укоренились в сердцах, чтобы Реформацию можно было убить одним военным поражением. Быть может, этого хватило бы десять или двадцать лет назад – но не сейчас. Началось сопротивление – и в 1555 году император вынужден был признать за протестантскими территориями право оставаться протестантами. Он сдался – подписал Аугсбургский мир, формально дарующий этим землям особый статус, а на следующий год отрекся от престола. С единой католической Европой было покончено.
Семья Лютера
Из-за Шмалькальденской войны и последующих войн Кати и ее детям дважды приходилось бежать из Виттенберга. Когда они вернулись, Черная Обитель и другое их достояние по большей части лежали в руинах. Даже скот был разворован или просто вырезан. Покойный муж Кати отказывался брать плату за свои обширные труды – и в результате после смерти оставил семью практически без гроша, на милость курфюрста и прочих; а они оказались совсем не так добры к Кати, как надеялся ее муж. В 1552 году в Виттенберг снова вернулась чума, и «мать Реформации» вместе с младшими детьми бежала в Торгау. Однако у самых городских ворот телега ее опрокинулась и Кати упала в канаву, полную воды. Падение и купание в ледяной воде привели к болезни, от которой Кати уже не оправилась. Три месяца спустя, в возрасте пятидесяти трех лет, испустила она последний вздох и была похоронена в Торгау, где лежат ее останки и по сей день. Говорят, последние слова ее были: «Буду держаться за Христа, как репейник держится за плащ».
В 1564 году взрослые дети Мартина и Кати продали Черную Обитель обратно университету. Старший, Ганс, сделался юристом и со временем стал советником курфюрста. Мартин, как и его отец и тезка, пошел в богословы – однако пастором так и не стал и умер молодым, всего в тридцать три. Третий сын, Пауль, стал известным врачом. Мужская линия семьи пресеклась в 1759 году, однако потомки единственной выжившей дочери Лютера Маргариты, вышедшей замуж за дворянина, живы и по сей день. Так, с гордостью называл себя прямым потомком Мартина Лютера национальный герой Германии Пауль фон Гинденбург. Увы, этим ловко воспользовался Гитлер, поставив и Гинденбурга, и Лютера на службу собственным дьявольским целям – и более чего-либо иного запятнав лютерово наследие.
Народный герой и глас народа
Рассматривая наследие Лютера, прежде всего невозможно не заметить, как поощрял он зарождающиеся демократические движения своего времени. Никто до него не выражал так ясно заботы и надежды трудящихся низов. Народные вожди прошлого жили до изобретения печатного станка – так что, если даже кто-то из них и владел таким же даром коммуникации, у него просто не было способа обращаться к массовой аудитории. Лютер обладал невиданным, почти невероятным слухом и чутьем, позволяющим общаться на равных с людьми из других слоев общества. Он писал прекрасным литературным слогом письма папам и императорам, обсуждал на латыни с Эразмом и прочими сложные богословские вопросы – и в то же время умел с несравненной простотой и ясностью обращаться к тем, кто и на родном немецком языке говорил с трудом. Благодаря этому дару он всегда на несколько шагов опережал своих оппонентов.
Обратившись к новому жанру – памфлетам на немецком языке, – Лютер открыл прямой путь к простым людям, многие из которых никогда прежде ничего не читали и не слышали, чтобы кто-то выражал их заботы и тревоги. В результате Лютер почти единолично создал vox populi – «глас народа». Он стал голосом простых людей – и их героем; в этом никто ни из союзников, ни из противников не мог с ним состязаться. Оседлав свободный рынок, обращался он ко все более и более широкому кругу читателей – и возбуждал в них жажду читать больше и больше. Смиренные читатели его никогда прежде не думали, что могут или имеют право участвовать в обсуждении своего будущего. Дискуссии такие шли и прежде – но никто не выступал от них и за них. Лютер стал их голосом и бесстрашным защитником – и перед папскими легатами, и перед самим императором. Не какой-нибудь деревенский дурень или смутьян – высокообразованный человек, интеллектуал, к которому прислушивались князья и мудрецы, возвысил голос за простой народ. То, что простые люди могут сами решать, что им нужно, и в своих собственных потребностях разбираются лучше сильных и ученых мира сего – мысль эта, привычная для нас, в то время была совершенно новой. И эту мысль, как и многое другое, впервые вывел на историческую сцену Мартин Лютер.
Наследие Лютера в Католической Церкви
Недавно я был на похоронах дорогого моего свекра, Джозефа Скьявоне. Заупокойная служба проводилась в церкви Святой Марии у Моря, на морском берегу в Нью-Джерси. В ходе этой светлой и печальной церемонии я обратил внимание на несколько вещей, в которых никто, кроме меня, ничего особенного не видел – и я заметил их лишь потому, что в это время размышлял о Лютере и Католической Церкви. Прежде всего, и меня, и других мирян на службе просили читать Писание. В дни Лютера, да и много позже, такое было бы немыслимо. И вот что еще поразительнее: никто из читавших Писание не был крещен в католицизме. Кроме того, во время службы мы пели прекрасные гимны. В наше время хоровое пение прихожан – на многих католических службах самое обычное дело; однако впервые ввел его Лютер в XVI веке в лютеранских церквях, и лишь оттуда оно в следующие столетия постепенно распространилось и среди католиков. Кроме того, я заметил, что все гимны, кроме одного, были написаны протестантами.
Конечно, некоторые католические традиционалисты и по сей день видят в Мартине Лютере злейшего врага, человека, навеки погубившего мир, разбившего цивилизацию в щепы, среди которых нам с тех пор приходится жить. Но большинство католиков – порой сами того не понимая – радуются множеству реформ, со временем преобразивших Церковь и прямо отражающих реформы Лютера. Например, мысль, что паства должна активнее участвовать в богослужении или что мессу следует служить на понятном людям языке, – то и другое восходит к persona non grata по имени Мартин Лютер. Многие из этих реформ были приняты на знаменитом Втором Ватиканском Соборе.
Отдаленные последствия: пришествие будущего
Отдаленные последствия жизни и трудов Мартина Лютера почти невозможно описать и перечислить. Нет такой сферы жизни на Западе, которую бы они не затронули; мало того, те же ценности распространяются и далеко за пределами Запада. Во времена лютеровой молодости мир был един: нерушимый монолит западного христианского мира, в котором не дозволялись и казались невозможными даже мельчайшие трещинки. А затем все навеки изменилось. Мир после Лютера стал миром многоголосья: споров, религиозных войн, явления религиозной свободы, проповеди равенства, а затем – демократии, самоуправления, политических свобод и многого, многого другого. Проходят века, история мчится к своей неведомой цели – а все эти ценности остаются с нами. Вот почему многие считают легендарные удары лютерова молотка по дверям Schlosskirche первыми шагами в будущее, в котором мы живем, – безмерно сложное, но свободное. Эти удары, эти сотрясения вырвали мир из средневековой спячки и отправили в путь, которым движется он и сейчас. И на первом месте среди идейного наследия Лютера стоит, конечно, простая идея плюрализма.
До Лютера Римско-Католическая Церковь обладала почти абсолютной властью и авторитетом; но после Лютера все изменилось. Лютер распахнул дверь к бесчисленному множеству дорог и тропинок, отличных от единого католического пути. Разумеется, сам он этого не желал. Он стремился лишь склеить разбитое, спасти церковный корабль, увести его прочь от гибельных скал – и с помощью Божьей стать спасителем и реформатором Церкви, которую Лютер любил и которой служил так же верно, как и многие до него. Но мы знаем, что этого не произошло: ревностно стремясь к одной цели, на деле он достиг совсем другой.
Лютер открыл дверь ко второй Церкви – той, которую мы сейчас именуем Лютеранской – но при этом совершил и нечто иное: открыл дверь к бесконечному множеству Церквей, да и не только Церквей. Дело в том, что через дверь, которую осмелился отворить Лютер, могла пройти не только истина, но и все что угодно. Этой дверью Лютер надеялся вернуть в христианский мир Иисуса – однако вместе с ним ворвалось и множество демонов. В этом критики Лютера были правы; и это, пожалуй, самая основательная из причин, по которым они пытались его остановить.
Видные церковные деятели того времени – в том числе Эразм и голландский папа Адриан VI – ясно понимали, что современная им Церковь находится в глубоком кризисе. Исправить ее нестроения было совершенно необходимо; именно это они и пытались сделать. Противостояли они тому, что в идеях Лютера казалось им безумием, – желанию выдернуть из-под Церкви фундамент. Несомненно, думали они, закончится это тем, что все здание перевернется вверх дном – и, пожалуй, боже упаси, многие отпадут от Рима вовсе и, быть может, создадут новую лже-Церковь.
Критики Лютера верно отмечали: отказ от авторитета папы и Церкви приведет к смятению умов, к тому, что множество лжеучений и безумных басен получат с истиной равные права. Как победит истина, как сможет восторжествовать порядок? Где гарантия, что все закончится так, как должно быть? Не приведет ли этот опаснейший шаг к тому, что каждый дурак теперь сможет толковать Писание как ему вздумается, основывать собственную Церковь – и, быть может, обманывать миллионы и вести их за собой к вечной погибели? В последующие века именно это и происходило – и повторялось раз за разом. И по сей день возникают бесчисленные ереси, культы и лже-Церкви – и уводят миллионы людей от истины.
Свободный рынок идей
Стоит спросить, почему же сам Лютер не боялся этого так, как боялись другие?
Прежде всего, он твердо верил, что дьявол уже трудится вовсю. По его представлениям, Католическая Церковь – в его глазах, разумеется, вовсе не «католическая» – уже привела и продолжает вести миллионы людей к вечной погибели. Это приводило его в ужас и негодование; чтобы исправить положение, он готов был рискнуть почти всем. Единственную возможность двигаться вперед он видел в «тактике выжженной земли» – в том, чтобы бороться за истину несмотря ни на что. О том, что тем самым он открывает дверь всевозможным конкурирующим идеологиям, Лютер особенно не думал. В этом и состоит проблема плюрализма – проблема очень серьезная. Однако эти первые шаги в наш современный плюралистический мир составляют важнейшую, принципиальную часть лютерова наследия.
Еще одна причина того, что он бесстрашно двигался вперед, – в том, что около 1520 года Лютер пришел к убеждению: сам Бог требует от него действовать смело, по мнению иных, даже безрассудно. Лютер верил: сколько бы вреда ни причинила новообретенная свобода – в конце концов истина победит. Он понимал, что делает очень высокие ставки, но твердо верил, что Бог не дает истине проиграть. По-видимому, он ощущал, что свободная конкуренция, да и сама свобода – не только полноправные, но и необходимые элементы истины Божьей, заложенные в самой ее природе. Однако стоит спросить: что побуждало его думать, что соревнование поможет раскрыться истине?
Здесь возможен такой ответ: если вселенную в самом деле создал и поддерживает в бытии Бог истины, значит, если позволить различным течениям в ней свободно соревноваться друг с другом, истина всегда одержит верх. Иными словами, Бог участвует в игре – и играет за истину. Если не рискнуть проиграть, мы, быть может, не сможем и выиграть. Возможно, свобода – единственный наш шанс найти истину. Если так, значит, нужно допустить и разногласия, и споры, и полемику. Современный мир твердо в это верит – и не прошло и ста лет после смерти Лютера, как один из его духовных наследников, Джон Мильтон, красноречиво защищал эту мысль в своем эпохальном труде «Ареопагитика». Сейчас мы принимаем это – как и многое другое наследие Лютера – как должное, настолько, что даже не помним, кто открыл для нас эту мысль.
Проблемы с плюрализмом
Лютер знал, что открытый спор об индульгенциях будет полезен для Церкви и общества. Поэтому такой дискуссии он добивался всеми силами – хотя так ее и не получил, что, как мы знаем, и привело ко всем дальнейшим бедам. Однако, судя по всему, далеко вперед Лютер не думал. Что могло произойти, если бы против Церкви восстали и другие – и с такими учениями, с которыми сам Лютер согласиться не мог? Такого вопроса он не ожидал.
Вот почему он был удивлен и очень расстроен, столкнувшись с Карлштадтом, Мюнцером, а затем Цвингли и другими. Лютер вовсе не предполагал, что его идеи поведут не просто от лжи назад к истине, но к плюрализму, к бесконечному делению на новые и новые течения. Однако дверь была уже открыта.
Думал ли Лютер об этом или нет – но, вырвавшись из римского богословского строя, он порвал не только с католической верой, но и с мыслью более обширной и глубокой: с мыслью, будто веру или убеждения можно навязывать силой. Открытие было поистине поразительное. Лютер отворил дверь к тому, что мы сейчас называем совестью и личными убеждениями. Открыл путь к мысли, что правда и сила неизбежно друг с другом на ножах. Момент, значение которого невозможно переоценить: бесчисленные «общечеловеческие ценности», которые мы на Западе сейчас принимаем как должное, от демократии до прав человека, начались именно здесь. Едва просияла эта светлейшая из всех идей – кто мог дальше верить, что насильственное обращение в другую веру что-то дает? Грубая сила отступила в тень перед правом человека верить в то, что он считает правильным.
Совесть и личные убеждения
Именно это в большей степени, чем богословские взгляды, делает Мартина Лютера выдающимся историческим деятелем. Не соглашаться с богословием Церкви и прежде мог любой – и многие не соглашались. Многие выступали за церковную реформу. Но лишь один человек в этом преуспел – и не просто преуспел, а создал новый мир, в котором разногласия стали не только возможны, но и важны, и почти желательны. Куда приведет этот путь? Этого не знал никто – не знал и сам Лютер. А привел он прямиком к миру, в котором живем мы сейчас.
Лютер начал с защиты своего взгляда на истину; однако при этом он ввел в мир совершенно новую идею – идею должной и недолжной аргументации. Быть может, это величайшая часть его наследия: в борьбе с Римом он, сам едва ли четко это понимая, открыл, что истина является, так сказать, и существительным, и глаголом. Мир всегда признавал: истиной является то, что истинно и право. Но внезапно важно стало и то, как искать истину и какими средствами ее защищать.
Так, благодаря Лютеру, истина перешла в новое измерение. За один день она из черты превратилась в квадрат – или, быть может, в куб. Прежде истина была чем-то объективным, незыблемым, существующим помимо человека, – теперь же в нее оказался включен и сам процесс выяснения того, что есть истина. И этот процесс оказался не менее важен, чем она сама. То, как человек приходит к истине и как за нее борется – неотъемлемый элемент самой истины. Несомненно, это следовало из Библии; но первым в истории заметил это и заговорил об этом Лютер. Так, сам того не зная, сделался он орудием величайшей революции в истории – первой революции, из которой выросли все остальные.
Оказалось, например: если то, как мы ищем истину и как за нее боремся – часть самой истины, значит, нет смысла добиваться правды пытками и истязаниями – это ведет лишь к еще большей лжи. А от этой мысли до прав человека уже рукой подать. Лютер все это не продумывал; однако самим предположением, что есть нечто, называемое истиной, и этой истины можно достичь вне стен земного института Церкви, он неизбежно связал истину с тем, каким путем ведется ее поиск. Само по себе это было революцией – революцией, за которую мы сражаемся и сейчас и будем сражаться, пока длится история человечества. Но это изменило все – и, поистине, это главное наследие Лютера.
Расторжение брака истины и власти
Лютер первым осмелился сказать: то, что Римская Церковь обладает властью сокрушать несогласных, еще не означает, что истина на ее стороне – скорее, означает обратное. Прежде всего, жестокое насильственное подавление несогласных несовместно с жизнью Иисуса: Он не убивал, чтобы защитить истину, – напротив, ради истины свободно пошел на смерть. А ведь вполне мог бы применить силу и заставить тех, кто Его распинал, признать Его учение! Это выглядело бы практично. Но Он этого не сделал. Вместо этого Иисус свободно обрек Себя на страдания и смерть и тем показал так красноречиво, как только возможно, что голая сила – не самое сильное, что есть во вселенной. Истина сама по себе сильнее власти. Но этому революционному деянию, этой идее, навеки изменившей мир, пришлось ждать еще пятнадцать веков, пока Мартин Лютер не ввел их раз и навсегда в западную культуру. Сама мысль, что всемогущий Бог не принуждает нас верить в Него или в истину, была недоступна человеку, пока ее не проиллюстрировала в истории смерть Иисуса; но и после этого она лежала мертвым грузом, пока Лютер не ввел ее, так сказать, в историческую практику.
Те события, что вызвал Лютер своим отказом отречься и покаяться, привели к новым открытиям. Например, если, желая уничтожить ересь, ты сжигаешь еретиков – быть может, это потому, что боишься с ними спорить. Время шло, и мысль, что власть сама по себе подозрительна, все более укоренялась по обеим сторонам Атлантики. Появились мысли об ограничении власти и различные предложения о том, как уравновесить власть с истиной, милосердием, свободой. Никогда прежде такого не было. Мысль древняя, как сам Бог, – однако до сих пор она не воплощалась в жизнь; и начало ее воплощению положил не кто иной, как неотесанный бывший августинец по имени Мартин Лютер.
Лютер не открыл никаких по-настоящему новых идей. И Бога за этими идеями он тоже не открыл. Но он открыл их заново – и вытащил из-под спуда векового забвения. Чтобы увидеть, насколько эта новая мысль уходит во тьму веков, достаточно прочесть ветхозаветный рассказ о царе Соломоне и младенце.
В этой истории, безмерно древней, но до сих пор поражающей читателя, к великому и мудрому царю Соломону явились две женщины, спорящие из-за младенца – каждая называла себя его матерью. Выслушав обеих, царь предложил страшное решение. Разрежьте младенца пополам, сказал он, и пусть каждой женщине, называющей себя его матерью, достанется половина. Разумеется, этого не произошло – а то, что произошло, открывает неизреченную мудрость Соломона, ибо кто здесь настоящая мать младенца, стало ясно сразу. Одна женщина воскликнула: «Нет, не убивайте его, лучше отдайте ей! Я буду счастлива и тем, что он жив!» А другая вскричала: «Да, разрежьте младенца, пусть он никому не достанется!» Соломон, разумеется, понял: та, что готова отдать младенца, лишь бы он остался жив, – и есть его истинная мать. Эта необыкновенная история, которую стоит прочитать целиком, открывает нам в действии все тот же принцип, который открыл для мира Лютер. Мать, готовая отдать сына чужой женщине ради его блага, олицетворяет Бога и его любовь. Недостаточно просто быть правым – правы были и фарисеи; важна любовь и свобода.
И эта история, и труды Лютера много лет спустя ясно показывают: есть нечто глубже и важнее, чем просто победить или просто быть правым. Если я вынужден побеждать мечом – или любыми другими «силовыми приемами», – значит, победа моя пиррова и ничего не стоит. Нужно не просто побеждать, но побеждать правильно. Не просто отстаивать истину, но делать это так, чтобы чтить ее, а не оскорблять. Эта мысль открывает собой новую эпоху – по счастью, ту самую, в которой живем мы сейчас. Государство по-прежнему защищает своих граждан и наказывает преступников, используя силу; однако в его обязанности больше не входит «насаждать» истину, нравственность или какую-либо религию. Этого оно больше и не может, и не должно делать.
Однако когда Лютер одержал верх – и в богословском смысле, и в смысле поддержки государственной власти, – как сам он начал разбираться с несогласными? Мы уже видели, что одной ногой Лютер все еще стоял в средневековом мире. В 1543 году, составляя трактат о евреях, он вовсе не отстаивал право иудеев жить свободно в соответствии со своими неверными (по его представлениям) взглядами. Напротив: он очень боялся, что они убедят христиан в своей правоте и, не желая иметь дело с последствиями этого, предлагал подавить разногласие силой – сделать с иудеями то самое, что с ним самим пытался сделать Рим.
Однако готовность терпеть разногласия – истинная суть свободы и любви, – словно закваска Иисусова, уже начала свою работу в тесте западной цивилизации и не могла остановиться, хоть бы и сам Лютер на склоне лет пытался ее остановить. Практически в одиночку бросил Лютер эту закваску в квашню истории – и начал брожение, на которое не могли повлиять уже никакие, даже самые прискорбные его грехи.
В прошлом мы жили в мире, где власть и право были одно, где истина обитала на острие меча. Точнее сказать, ни правды, ни права там не было вовсе: все затмевала голая сила. Христианская Церковь была синонимом Церкви Католической – и, совсем как турки, как Османский халифат, эта Церковь насаждала свою истину огнем и мечом. Ныне в то, что власть и истина едины, что можно навязать свою веру пытками и казнями, верят радикальные исламисты; в то время такими же «исламистами» были католики. Но сейчас мы живем в мире, где, даже если кто-то начнет творить подобное, множество голосов возвысится против него и твердо заявит, что так нельзя. Мы живем в мире, где, даже будучи правым и зная, что ты прав, ты так же твердо знаешь: навязывать силой свои правые взгляды ничем не лучше, чем иметь неправые. Это истинная революция – прародительница всех прочих революций.
Демократия и свобода
Итак, несмотря на прискорбные противоречия и падения самого Лютера, едва он заметил несогласие между Библией и Римом и принял в этом споре сторону Библии, – на свет явилась современная идея свободы.
Что из этого вышло? Одним словом: все. Прежде всего многообразие Церквей. Реформация распространилась из Германии и в Англию, и во многие другие страны. Однако в новых протестантских Церквях, в свою очередь, возникали разногласия. Из разногласий повсюду рождались новые Церкви – не без столкновений и, увы, не без кровопролития. Но явилась надежда: птица свободы, высиженная Лютером, расправила крылья и отправилась в полет.
В 1644 году, в разгар Гражданской войны в Англии, Джон Мильтон опубликовал свою «Ареопагитику» – эпохальный труд, пламенно защищающий свободу слова. В 1689 году в Англии было принято решение о веротерпимости – готовности терпеть и другие Церкви, кроме государственной Англиканской. В первые годы того же столетия король английский Яков I преследовал религиозных диссидентов, которых мы теперь называем «отцами-пилигримами». Укрепляясь верою, они бежали сперва в Голландию, а затем на прославленном своем корабле через Атлантику, в нынешний штат Массачусетс. За ними последовал Джон Уинтроп, и возникло то, что позже было названо английскими колониями в Америке. Увы, и для первых американских поселенцев религиозная терпимость не была безусловным правилом – печальные истории Энн Хатчинсон и Роджера Уильямса тому свидетельства.
Однако именно в американских колониях, отчасти потому, что здесь нашли приют приверженцы различных вер, терпимость к чужим взглядам скоро стала важным и всеобщим принципом. Во время Великого пробуждения XVIII века Джордж Уайтфилд вдоль и поперек обошел тринадцать американских колоний, проповедуя Благую Весть – так, что ко времени смерти его в 1770 году не менее 80 процентов американцев хотя бы раз лично слышали его проповедь. Проповедовал он своего рода экуменическое христианство: в основе его лежала глубоко лютеранская мысль, что совесть и верность Богу стоят превыше верности любой Церкви или государству. Из этого следовало: тем, кто творит насилие против учения Иисуса, подчиняться не следует. Эта мысль сыграла огромную роль в движении американских колонистов к самоуправлению. Когда Англия попыталась подавить их брожение силой – как когда-то Рим пытался подавить Лютера, – они «проголосовали ногами» и взбунтовались против далекой метрополии, как Лютер взбунтовался против Матери-Церкви.
Новая нация, созданная в 1776 году, запечатлела идею религиозной свободы в основном своем законе: каждый гражданин, объявила она, свободен следовать своей совести и своей религии. Вот еще одна важнейшая веха развития в истории лютерова наследия. Правительству новой страны было специально и официально запрещено устанавливать по всей стране или в каком-либо штате «государственную» религию; оно призвано было довериться свободному рынку идей, регулируемому демократическим народным правительством, – и пусть люди сами выбирают для себя лучшее. Так произошло так называемое отделение Церкви от государства, позволившее расцвести свободному рынку идей.
Социальные реформы
Приблизительно в то же время в Англии группа методистов под предводительством Джона Уэсли терпела от официальной Англиканской церкви неодобрение и даже некоторые стеснения. Однако и им, и квакерам теперь было позволено существовать – и эти диссиденты, глубоко преданные идеалам Нового Завета, повели решительную борьбу за прекращение в Британской империи торговли рабами. Без уважения к личным убеждениям и к свободному рынку идей, введенному Лютером, такое было бы невозможно. Представителем этих евангелистов в парламенте стал Уильям Уилберфорс: сам он, что весьма разумно с его стороны, официально не рвал с Англиканской церковью, однако вел борьбу за уничтожение во всей стране рабовладения и работорговли. От него эта идея распространилась по всей Европе – и дошла и до Америки, где Авраам Линкольн и Фредерик Дуглас смотрели на Уилберфорса как на своего героя и великого зачинателя аболиционистского движения.
Аболиционизм стал лишь первой и важнейшей из бесчисленных социальных реформ, последовавших в Англии в XIX столетии. Евангелисты с Уилберфорсом во главе продвигали законы, направленные на помощь беднякам, на ограничение детского труда, против жестокого обращения с животными, реформы системы наказаний и другие. Уилберфорс и его духовные наследники приняли идеи Лютера и пошли дальше – таким путем, каким сам Лютер никогда бы не пошел, но который без него остался бы невозможен. Идеи Уилберфорса перешагнули границы Англии и распространились по всему западному миру. Освободив истину и библейские идеи из-под власти земной Церкви, Лютер позволил им войти в полноту светского мира, так что теперь любой достойный агностик или атеист знает: заботой о бедных и ущемленных измеряется наша человечность.
Конец истории
В конечном счете, Лютер открыл дверь не только для свободы восстать против внешних властей, но и для ответственности – ответственности перед Богом за себя и за тех, кто слабее и не может помочь себе сам. Мы больше не вправе жаловаться, что нам навязывают дурную власть, светскую или духовную. Напротив, у нас теперь есть не только свобода, но и ответственность брать свою судьбу в собственные руки, полагаясь лишь на Бога. Так что Лютер, можно сказать, вывел западный мир из детства. Произошло и кое-что еще – то, что Лютер предвидел и на что страстно надеялся: люди начали больше задумываться о Боге, углублять с Ним личные отношения, тщательно изучать Писание – ведь на чем еще могли они основать, чем еще оправдать свои убеждения? Так поступал и сам Лютер. Он знал, что ничем заменить это нельзя – и неизмеримо лучше пытаться понять Бога и истину самому, пусть и с риском впасть в заблуждение, чем полагаться в понимании этого на других. Свобода с Богом, с возможностью вырасти или умереть, лучше «безопасного» пребывания в вечных детских пеленках.
На том стоим. История по-прежнему задает нам серьезные вопросы, и мы напрягаем все силы, чтобы найти на них ответы, зная, что ставки очень высоки. Где та грань, за которой свобода превращается во вседозволенность и угнетение? В какой момент, просочившись через незримую границу, она оборачивается навязыванием своих ценностей? Когда плюрализм выворачивается наизнанку, обернувшись монолитной идеологией, репрессивной и нетерпимой? Мы движемся вперед, порой ошибаемся – но великий танец между истиной и свободой продолжается и будет продолжаться до скончания времен. Порой этот танец больше напоминает битву; и все же истина и свобода, равные и неразделимые, кружат друг вокруг друга вплоть до того радостного дня, когда сольются воедино, – не только в Боге, но и в истории.
Ей, гряди, Господи!
Приложение Сон Фридриха
Этот рассказ о сне, якобы приснившемся Фридриху Мудрому в ночь накануне 31 октября 1517 года, составляет часть легенды, окружающей Мартина Лютера. Стоит ли за ним какая-то реальность – неизвестно; но он очень широко распространен, и поэтому, пожалуй, стоит его здесь привести.
Выйдем на миг из пределов истории и расскажем о том, что за сон приснился Фридриху, курфюрсту Саксонскому, в ночь перед тем памятным днем, когда Лютер вывесил на дверях Замковой церкви свои Тезисы.
Сам курфюрст поведал о нем наутро брату, герцогу Иоганну, в то время гостившему у него во дворце Швайниц, в шести лигах[521] от Виттенберга. Об этом сне рассказывают все хронисты того времени. Как бы его ни толковать – в истинности этого рассказа сомнений быть не может. Приведем его здесь и мы, как красочный и драматический очерк тезисов Лютера и того движения, что из них выросло.
Утром 31 октября 1517 года курфюрст обратился к герцогу Иоганну: «Брат, расскажу тебе сон, который сегодня мне приснился. Хотел бы я понять его значение! В душе моей он запечатлелся так глубоко, что не забуду его, даже если проживу тысячу лет. Снился он мне трижды, и всякий раз с новыми подробностями».
Герцог Иоганн: Это был хороший сон или дурной?
Курфюрст: Не знаю; то ведомо Богу.
Герцог Иоганн: Не смущайся; будь так добр, расскажи мне.
Курфюрст: Удалившись ко сну прошлой ночью, усталый и огорченный, вскоре после молитвы я заснул и спокойно спал два с половиной часа; затем пробудился и бодрствовал до полуночи, думая о том и о сем. Среди прочего думал я о том, как проведу праздник Всех святых. Я молился за бедные души в чистилище и просил Бога наставить меня, советников моих и народ мой поступать по правде. Затем я снова заснул – и увидел во сне, что Всевышний послал мне монаха, истинного сына апостола Павла. Все святые сопровождали его по приказу Божьему, чтобы свидетельствовать о нем передо мной; все они объявили, что пришел он не ради какого-либо заговора или злодеяния, но лишь для того, чтобы исполнить волю Божью. Затем просили они меня милостиво разрешить ему написать нечто на дверях церкви Виттенбергского замка. Через канцлера я дал такое дозволение. Тогда монах этот подошел к церковным дверям и принялся писать на них такими большими буквами, что я мог прочесть и из Швайница. [За восемнадцать миль от Виттенберга. ] Перо его было так велико, что конец его достиг Рима, и пронзил уши рыскающего там льва, и потряс тройную тиару на голове у папы. Все кардиналы и князья поспешно бросились к папе и окружили его, чтобы не дать тиаре упасть. Мы с тобой, брат, тоже хотели помочь, и я уже протянул руку… и в этот миг проснулся с вытянутой рукой, пораженный и изумленный, сердясь на того монаха за то, что не мог аккуратнее обойтись со своим пером. Затем я пришел в себя и понял, что это всего лишь сон.
Снова я закрыл глаза, задремал – и сон вернулся. Лев, раздраженный пером, начал рычать что есть мочи – так что весь Рим и все княжества Священной империи сбежались узнать, в чем дело. Папа приказал им воспротивиться этому монаху и особенно обратился ко мне, ибо монах этот находился на моих землях. Тут снова я проснулся, повторил молитву Господню, прося Бога охранить Его Святейшество, – и снова уснул.
На этот раз приснилось мне, что все имперские князья, и мы среди них, поспешили в Рим и один за другим приступили к перу, пытаясь его сломить, – но чем больше мы старались, тем крепче становилось перо, и звенело, и гудело, словно выкованное из железа. Наконец мы отступили. Тогда я спросил монаха (ибо во сне я оказывался то в Риме, то в Виттенберге), где взял он это перо и откуда у него такая крепость. «Перу этому, – отвечал он, – уже сто лет, и принадлежало оно одному старому богемскому гусю[522]. Я получил его от одного из своих старых наставников. Что же до крепости его – ей я поражаюсь сам: должно быть, все оттого, что из этого пера никак нельзя извлечь сердцевину». Вдруг услышал я громкий шум: это из длинного пера монаха высыпалось, словно рой стрел, еще множество перьев. На этом я проснулся в третий раз – было уже светло.
Герцог Иоганн: Канцлер, что вы на это скажете? Жаль, нет у нас своего Иосифа или Даниила, просвещенного Богом!
Канцлер: Вашей светлости известна народная пословица: в снах юных дев, ученых и князей всегда есть какой-то скрытый смысл. Значения этого сна, однако, мы не поймем еще какое-то время – пока не произойдут те события, к которым он относится. Оставим же их исполнение Богу и положимся во всем на Его волю.
Герцог Иоганн: Я того же мнения, канцлер: не стоит нам себя беспокоить, пытаясь разгадать значение этого сна. Господь все управит к славе Своей.
Курфюрст: Да будет так; и все же сон этот я никогда не забуду. Некое его толкование приходит мне на ум, но лучше оставлю его при себе. Быть может, время покажет, хорош ли из меня прорицатель.
Так прошло утро 31 октября 1517 года в княжеском замке Швайниц. А события того же утра в Виттенберге нами уже описаны. Курфюрст еще рассказывал свой сон, а монах с молотком уже подходил к дверям Замковой церкви, чтобы его исполнить.
Иллюстрации
Портрет Лютера в облике «юнкера Георга» (крупный план). Лукас Кранах Старший. Декабрь 1521 года
Портрет родителей Лютера, Ганса (слева) и Маргариты (справа),
Написанный Кранахом во время их приезда в Виттенберг в 1527 году
Старейшее из дошедших до нас изображений Яна Гуса на костре, найденное в иллюстрированной Библии 1429 года, всего через четырнадцать лет после смерти Гуса
Историческое место, на котором стоял Лютер в Вормсе. Надпись по-немецки гласит: «Здесь стоял Мартин Лютер перед императором и страной»
Надпись по-немецки: «В этом доме родился доктор Мартин Лютер 10 ноября 1483 года»
Мемориальный камень на том месте близ Штоттернхайма, где в 1505 году Мартин Лютер дал обет стать монахом
Барент вон Орлей. Портрет императора Карла V
Парадный портрет папы Льва X, чье равнодушие к бедам Церкви привело к непоправимому расколу христианского мира Западной Европы. Портрет кисти Рафаэля датируется 1518–1519 годами и находится сейчас в галерее Уффици (Флоренция, Италия)
Лукас Кранах Старший. Портрет Фридриха III Мудрого, курфюрста Саксонии. 1532. Исторический музей Регенсбурга
В декабре 1521 года, когда Лютер ненадолго инкогнито приехал в Виттенберг, Лукас Кранах Старший воспользовался этой возможностью, чтобы запечатлеть его в облике «юнкера Георга», с бородой и без тонзуры. Два раза в жизни Лютер отращивал бороду, второй раз – при схожих обстоятельствах, во время Кобургского заточения в период Аугсбургского рейхстага 1530 года
Лукас Кранах Старший. Портрет Филиппа Меланхтона. 1537 год
Лукас Кранах Старший. Портрет Катарины Лютер. 1526 год
Вартбургский замок, где Лютер жил под видом «юнкера Георга» после Вормсского рейхстага. Здесь весной 1521 года он перевел на немецкий язык Новый Завет
Комната Лютера в Вартбурге. Огромный китовый позвонок – единственный предмет обстановки, оставшийся здесь от самого Лютера
Карикатура, созданная Андреасом Карлштадтом фон Боденштейном и Кранахом – один из ранних образцов печатной пропаганды. Иллюстрирует различия между богословием Лютера и Иоганна Эка. Была опубликована, чтобы разрекламировать Лейпцигские дебаты и объяснить зрителям их суть
Лукас Кранах Старший. Портрет 25-летнего Георга Спалатина. 1509 год
Лукас Кранах Старший. Портрет 50-летнего Георга Спалатина. 1537 год
Лукас Кранах Старший. Автопортрет. 1531 год
Знаменитый портрет Эразма, «князя гуманистов», работы Ганса Гольбейна. В конце концов Лютер разошелся с Эразмом, назвав его «угрем» за скользкость и нежелание занять какую-либо твердую позицию. Работа «О рабстве воли», ответ Лютера на сочи нение Эразма о свободе воли, считается лучшим его богословским сочинением
Гипсовый посмертный слепок лица и рук Мартина Лютера
* * *
Примечания
1
Да, я на вас смотрю!
(обратно)2
«Начальника начальников», ит. – прим. пер.
(обратно)3
«Какая потеря!», фр. – прим. пер.
(обратно)4
Строго говоря, это совершенно неверно. За все ошибки в книге, конечно, отвечает автор. Но как вы думаете, готов ли я это признать? Абсолютно не готов!.. Ну разве что в примечании, мелким шрифтом.
(обратно)5
В переводе Alexander Roberts, in Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series. Vol. II, ed. Philip Schaff and Henry Wace (Buffalo, N.Y.; Christian Literature,1894). Revised and edited for New Advent by Kevin Knight, .
(обратно)6
Остальные пять – это папа Иннокентий VIII (1484–1492), папа Александр VI (1492–1503), папа Пий III (1503), папа Юлий II (1503–1513) и папа Лев X (1513–1521). Историю этих понтификов, сделавших все возможное, чтобы опорочить само имя папства, отлично рассказывает Барбара Тачмен в своей книге «Марш глупости» (Barbara Tuchman, The March of Folly).
(обратно)7
Словом «Ludher» именовали женщину неопрятную и дурного нрава: это слово переводится обычно как «неряха», «потаскуха» или просто «сука» (в том смысле, что относится к самке человека, а не к самке собаки). От того же корня происходит слово «lude» с еще более неприятным значением – «сводник». Значение корня связано с соблазном – в том числе сексуальным.
(обратно)8
Sproul and Nichols, Legacy of Luter, 16.
(обратно)9
Andreas Stahl and Björn Schlenker, “Luther in Mansfeld: Excavations and Accompanying Architectural Research on Martin Luther’s Parents’ Home”, Martin Luther and the Reformation: Essays, ed. Gotha Stiftung Schloss Friedenstein (Dresden: Sandstein Verlag, 2016).
(обратно)10
Там же.
(обратно)11
Там же, 68–69.
(обратно)12
Лютер в письме к Филиппу Меланхтону, 5 июня 1530 года, in WA Br 5:351, 20–27; Martin Luther, Luther’s Works (LW), American Edition, 55 vols., ed. Jaroslav Pelican and Helmut T. Lehman (Philadelphia: Muehlenberg and Fortress, and St. Louis: Concordia, 1955–86), 49:318–19.
(обратно)13
Гансвурст – комический персонаж немецкого фольклора того времени, изображался с ожерельем из колбас на шее.
(обратно)14
«В возрасте», лат. – прим. пер.
(обратно)15
Лютер и Рейнеке оставались друзьями на протяжении всей жизни.
(обратно)16
LW, 46:250.
(обратно)17
Hendrix, Martin Luther, 25.
(обратно)18
Brecht, His Road to Reformation, 18.
(обратно)19
Цит. по: там же, 19.
(обратно)20
Цит. по: Tuchman, March of Folly, 60.
(обратно)21
К современному английскому лингвисты относят английский язык, начиная с Шекспира и его современников (XVI век) и до наших дней. Язык Чосера называют среднеанглийским, язык «Беовульфа» (XI век) – староанглийским.
(обратно)22
В мире, где верили, что всех христиан, захороненных на освященной земле, ожидает телесное воскресение, лишить тело христианского погребения и навеки уничтожить огнем было страшной карой – ведь это означало, что мертвый не сможет воскреснуть.
(обратно)23
Цит. по: там же, 56.
(обратно)24
Итальянское слово «булла» происходит от латинского bulla, означающего печать на важном документе. По смежности значений документы с большими официальными печатями стали и сами называться «буллами».
(обратно)25
Bursa – слово латинское, означающее сумку или кошелек. Используется этот термин и в современных университетах [англоязычных – прим. пер. ], где казначей или завхоз именуется bursar.
(обратно)26
На протяжении всей этой книги, говоря о гуманизме, мы имеем в виду возрожденческий гуманизм, не совпадающий с более привычной нам современной, сугубо светской версией гуманизма.
(обратно)27
Вульгата – это латинский перевод Библии IV века; к XVI веку он стал единственной официальной версией Библии, используемой Католической Церковью. В основном перевод принадлежит святому Иерониму Стридонскому. Слово «вульгата» происходит от латинского vulgaris, что означает «общий», «общеупотребительный».
(обратно)28
Julius Koestlin, Life of Luther (Charlestone: BiblioBazaar, 2008), 31.
(обратно)29
Oberman, Luther, 113.
(обратно)30
Немецкое слово, которым Лютер называл свою депрессию и тревогу.
(обратно)31
John Milton, Paradise Lost, bk. I, line 63.
(обратно)32
William Styron, Darkness Visible: A Memoir of Madness (New York: Random House, 1990).
(обратно)33
Dante Alighieri, Inferno, in The Divine Comedy, trans. Henry F. Cary (New York: P. F. Collier & Son, 1909), canto 3, line 9.
(обратно)34
Впрочем, возможно, этот случай произошел в 1503 году.
(обратно)35
Впрочем, не все было так мрачно: во время выздоровления Лютер не только предавался тревожным размышлениям, но и научился играть на лютне.
(обратно)36
Brecht, His Road to Reformation, 45.
(обратно)37
Лк. 10:18 (New International Version).
(обратно)38
Это старейшее здание в современном Эрфурте, построенное в 1277 году.
(обратно)39
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 20.
(обратно)40
В «Божественной комедии» Данте чистилище изображено как «гора с семью ярусами». Так же звучит заглавие автобиографии Томаса Мертона, монаха-трапписта XX века.
(обратно)41
Там же.
(обратно)42
Наплечник – монашеское одеяние без рукавов, свисающее с плеч. Также называется скапулярием, от латинского scapula – «плечо».
(обратно)43
Там же, 21–22.
(обратно)44
LW, 48:4.
(обратно)45
Stahl and Schlenker, “Luther in Mansfeld,” Martin Luther and the Reformation, 68–69.
(обратно)46
Фил. 2:12 (New International Version).
(обратно)47
Лютер здесь, очевидно, пишет о себе – так же, как апостол Павел в 2 Кор. 12:2–4; знакомые с Библией читатели того времени, несомненно, сразу это понимали.
(обратно)48
LW, 31:129.
(обратно)49
Oberman, Luther, 59.
(обратно)50
Brecht, His Road to Reformation.
(обратно)51
Там же, 94.
(обратно)52
Эти великолепные часы вместе со всем, что здесь описано, можно увидеть в Нюрнберге и сейчас.
(обратно)53
В наше время на этом месте стоит копия «Давида», а оригинал хранится в галерее Уффици.
(обратно)54
Там же, 87.
(обратно)55
Сейчас мы знаем, что число это сильно преувеличено. Шесть пап и пятьдесят мучеников – это ближе к истине.
(обратно)56
Лк. 23:21 (New International Version).
(обратно)57
Мф. 6:9–13.
(обратно)58
Цит. по: Oberman, Luther, 149.
(обратно)59
LW, 54.
(обратно)60
В 1356 году император создал «выборную коллегию», состоящую из семи князей; курфюрстами – слово, по-немецки означающее «князь-выборщик» – начали называть их впоследствии. Четверо из них были светскими правителями, трое – архиепископами. (См. Ozment, The Serpent and the Lamb.)
(обратно)61
Замковая церковь по-немецки – Schlosskirche.
(обратно)62
Brecht, His Road to Reformation, 107.
(обратно)63
Bainton, Here I Stand, 57.
(обратно)64
LW, 48:27–28.
(обратно)65
Цит. по: Oberman, Luther, 252.
(обратно)66
Цит. по: там же, 71.
(обратно)67
Ozment, The Serpent and the Lamb, 70.
(обратно)68
Дословно «Замковой улице», нем. – прим. пер.
(обратно)69
Там же, 90–92.
(обратно)70
LW, 48:10.
(обратно)71
Lewis William Spitz, Luther and German Humanism (Aldershot, U.K.: Variorum, 1996), 85.
(обратно)72
Kenneth Scott Latourette, A History of Christianity (New York: Harper & Brothers, 1952), 661.
(обратно)73
Цит. по: Carlos Eire, Reformations: The Early Modern World, 1450–1660 (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2016), 65.
(обратно)74
Цит. по: там же, 112.
(обратно)75
Tuchman, March of Folly, 112.
(обратно)76
Традиционно монахам в знак посвящения Богу выбривали или выстригали кружок волос на макушке – тонзуру. Этот обычай связан с преданием, согласно которому нескольких апостолов римские императоры приказали с целью унижения обрить наголо.
(обратно)77
Bedini, Pope’s Elephant, 92.
(обратно)78
«Как забавно!», ит. – прим. пер.
(обратно)79
Аллюзия на: Milton, Paradise Lost, bk. 12, line 648.
(обратно)80
«В нужнике», буквально «в доме дерьма».
(обратно)81
LW, 25:409.
(обратно)82
LW, 48:37–38.
(обратно)83
LW, 48:42.
(обратно)84
Там же; 34:336–337.
(обратно)85
Лютер и его окружение, как правило, бегло говорили по-латыни или, по крайней мере, хорошо ее знали – и из этого примера мы видим, что Лютер часто говорил макаронически, то есть на смеси двух языков, сочетая немецкие слова с латинскими.
(обратно)86
В оригинальном греческом тексте «праведность Божия» – прим. пер.
(обратно)87
LW, 34:337.
(обратно)88
По-немецки эта фраза звучит так: «Sobald der Gülden im Becken klingt im huy die Seel in Himmel springt».
(обратно)89
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 64–65.
(обратно)90
Pettegree, Brand Luther, 56.
(обратно)91
Brecht, His Road to Reformation, 201.
(обратно)92
. “Luther’s Posting of His Theses: Much Ado About Nothing?” Martin Luther and the Reformation: Essays.
(обратно)93
Лавка индульгенций Тетцеля находилась в двадцати пяти милях от Виттенберга, в Ютербоге. Лютер не бывал на его проповедях сам и получал сведения от тех, кто там бывал.
(обратно)94
LW, 48:45–47.
(обратно)95
Brecht, His Road to Reformation, 206.
(обратно)96
В переводе А. И. Рубана под редакцией Ю. А. Голубца – прим. пер.
(обратно)97
Этот первый тезис определяет предмет дискуссии. Мысль, что жизнь верующего христианина должна быть чем-то вроде игры, в которой можно набирать или терять очки – насмешка над волей Божьей о нас и о нашей жизни. Мы должны постоянно стремиться к покаянию во всем, что отделяет нас от близости к любящему Богу. Это и проясняет первый, важнейший тезис Лютера: игра с набором или потерей очков, изобретенная церковной системой, – а затем и усложненная такими ловкими игроками, как Тетцель, – сама по себе анафема.
(обратно)98
В этом тезисе, как и во многих других, Лютер поднимает еще одну проблему, центральную для церковной системы того времени: верующие не имеют прямого доступа к Богу, все совершается через посредство священников. Уже здесь, в самом начале реформаторского пути Лютера, значительная часть дебатов посвящена власти Церкви как посредника между Богом и людьми.
(обратно)99
Лютер не забывает упомянуть о том, что наша вера – а следовательно, и покаяние – должны проявляться во внешнем поведении.
(обратно)100
Папа не обладает ни властью Бога, ни произвольной властью, основанной на его собственной человеческой воле; иными словами, он сам находится под властью Бога и исторической Церкви.
(обратно)101
Например, если кто-либо получил епитимью в виде какой-либо работы на благо Церкви, папа может снять с него эту обязанность; однако все за пределами этого – не во власти папы.
(обратно)102
Здесь Лютер снова подчеркивает, что покаяние – не игра. Если мы не смирились сердцем по отношению к Богу и его служителям, вина нам не простится.
(обратно)103
Здесь Лютер утверждает, что Церковь и папа не могут судить и решать о том, что происходит в чистилище. Этот суд и эти решения принадлежат одному Богу.
(обратно)104
Души в чистилище – прим. пер.
(обратно)105
В первый раз Лютер ставит под вопрос само церковное учение о чистилище, предполагающее, что все души, не находящиеся ни в аду, ни на небесах, со временем гарантированно попадают на небеса.
(обратно)106
Здесь Лютер говорит, что папа не имеет так называемой власти ключей, позволяющей распоряжаться сокровищницей заслуг, – он обладает лишь властью молитвы, помогающей душам претерпевать борьбу и страдания в чистилище.
(обратно)107
Иными словами, Тетцель и другие продавцы индульгенций лгут, вводят верующих в заблуждение и внушают им ложное представление о Церкви.
(обратно)108
Снова Лютер вводит важный и потенциально опасный богословский тезис: у Церкви нет никакой власти над чистилищем, она не может помочь душам, страждущим в чистилище, ничем, кроме молитв.
(обратно)109
Проповедь индульгенций уводит людей от любви к Богу и внушает им циничное отношение к Церкви.
(обратно)110
Здесь Лютер прямо говорит о том, что за продажей индульгенций чаще всего стоит человеческая алчность.
(обратно)111
Мы видим, что Лютер очень старается не нападать на папу или папство: предмет его критики – те продавцы индульгенций, что отступают от официального церковного учения.
(обратно)112
Лютер имеет в виду Тетцеля и прочих, в своем учении об индульгенциях искажающих официальное учение Церкви.
(обратно)113
Поистине гениально Лютер вкладывает последующие провокационные вопросы в уста мирян и утверждает: они требуют ответов, поскольку подрывают веру мирян в авторитет Церкви.
(обратно)114
Здесь Лютер указывает на одно из противоречий, содержащихся в идее индульгенций: почему человек, уже любящий Бога и неустанно трудящийся над своим спасением в чистилище, благодаря этому не спасается – но спасается благодаря чужим деньгам, возможно, «грязным», то есть исходящим от человека, далекого от Бога и от праведности?
(обратно)115
Крез (VI век до н. э.) – легендарный царь Лидии, греческого царства, прославившийся своим необычайным богатством.
(обратно)116
Снова обратим внимание на уловку Лютера: он вкладывает эти «опасные» вопросы в уста мирян и спрашивает, почему Церковь не хочет честно на них ответить, а старается силой заставить вопрошателей замолчать? Ведь это, говорит он, заставляет и друзей, и врагов Церкви терять к ней уважение.
(обратно)117
Снова Лютер подчеркивает, что ни в чем не обвиняет папу: он уверен, что проповедники индульгенций искажают мысли папы и его волю.
(обратно)118
«Девяносто пять тезисов» Мартина Лютера, а также сопутствующие документы из истории Реформации, приводятся по: Martin Luther, 1483–1546, ed. Kurt Aland (St. Louis: Concordia Pub. House, 1967).
(обратно)119
Smith, The Life and Letters of Martin Luther, 43–44.
(обратно)120
Впрочем, сейчас, пять столетий спустя, многие гуманистические имена звучат, на наш слух, очень странно.
(обратно)121
Kittelson, Luther the Reformer, 23.
(обратно)122
Brecht, His Road to Reformation, 210.
(обратно)123
Там же.
(обратно)124
Там же, 211.
(обратно)125
Там же, 212.
(обратно)126
Цит. по: там же, 213.
(обратно)127
American King James Version.
(обратно)128
Цит. по: Brecht, His Road to Reformation, 217.
(обратно)129
«Железное рыло» здесь – намек на упрямого быка.
(обратно)130
Bainton, Here I Stand, 77.
(обратно)131
Цит. по: Oberman, Luther, 194.
(обратно)132
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 77.
(обратно)133
Лернейское болото – легендарное болото в Лерне (близ Аргоса), где, согласно мифу, Геркулес и Иолай победили чудовищную Гидру.
(обратно)134
LW, 48:72.
(обратно)135
В этом письме – как и многие другие письма Лютера, написанном по-латыни – он именует труд Приериаса «Сильвестровым диалогом», по имени Приериаса – Сильвестр, и на этом основывает игру слов: ведь silvester по-латыни означает «дремучий лес».
(обратно)136
LW, 48:74.
(обратно)137
Цит. по: Manschreck, Melanchton, 42.
(обратно)138
LW, 48:78.
(обратно)139
LW, 48:83.
(обратно)140
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 75.
(обратно)141
Цит. по: там же.
(обратно)142
Там же, 76.
(обратно)143
Цит. по: там же, 81.
(обратно)144
Цит. по: там же, 73.
(обратно)145
Кардинал, будучи доминиканцем, был страстным поклонником схоластики и Фомы Аквинского; однако Лютер, разумеется, никакой любви к Аквинату не питал, и тезисы Фомы едва ли могли быть для него авторитетны.
(обратно)146
New International Version.
(обратно)147
Robert E. McNally, “The Ninety-five Theses of Martin Luther: 1517–1967”, Theological Studies 28, issue 3 (,1967,): 475, doi:10.1177/004056396702800301.
(обратно)148
LW, 48:94.
(обратно)149
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 88.
(обратно)150
James M. Kittelson, Luther the Reformer: The Story of the Man and His Career, 2nd ed. (Minneapolis: Fortress Press, 2016), 97.
(обратно)151
Brecht, His Road to Reformation, 265.
(обратно)152
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 89.
(обратно)153
Цит. по: там же.
(обратно)154
Цит. по: там же, 94.
(обратно)155
LW, 48:98.
(обратно)156
LW, 48:100–102.
(обратно)157
LW, 34:332.
(обратно)158
Bainton, Here I Stand, 98.
(обратно)159
Hendrix, Martin Luther, 78.
(обратно)160
LW, 48:107.
(обратно)161
Цит. по: Brecht, His Road to Reformation, 303.
(обратно)162
Там же, 304.
(обратно)163
Kittelson, Luther the Reformer, 99.
(обратно)164
LW, 48:114. Примечание в скобках авторское.
(обратно)165
Религиозный праздник, посвященный Телу и Крови Христа, отмечается во многих странах мира.
(обратно)166
На гербе Эмзера красовалась козлиная голова. Впоследствии он сделался лютым врагом Лютера – и тот его иначе как «козлом Эмзером» не называл.
(обратно)167
Там же, 311.
(обратно)168
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 102.
(обратно)169
Там же.
(обратно)170
Kittelson, Luther the Reformer, 101.
(обратно)171
Цит. по: Gene Edward Veith, A Place to Stand: The Word of God in the Life of Martin Luther, ed. David J. Vaughan (Nashville: Cumberland House, 2005), 62.
(обратно)172
Bainton, Here I Stand, 103.
(обратно)173
Brecht, His Road to Reformation, 315.
(обратно)174
Там же, 297.
(обратно)175
Мф. 16:18, New International Version.
(обратно)176
Kittelson, Luther the Reformer, 102.
(обратно)177
Roper, Martin Luther, 135.
(обратно)178
Bainton, Here I Stand, 104.
(обратно)179
Там же, 105.
(обратно)180
Там же, 107.
(обратно)181
Часто рассказывают, что, запалив костер, на котором должен был сгореть Ян Гус, палач воскликнул: «Ну, теперь поджарим гуся!» (Фамилия Гуса по-чешски означает «гусь»). На это Гус ответил: «Пусть так – но через сто лет явится лебедь, которого вы не сможете ни сварить, ни поджарить!» Позднее это пророчество широко применялось к Лютеру, которого часто изображают в виде лебедя.
(обратно)182
LW, 48:153.
(обратно)183
Desiderius Erasmus, The Correspondence of Erasmus: Letter 1122–1251, 1520–1521 (Toronto: University of Toronto Press, 1974), 8:210.
(обратно)184
Пиркхеймер был близок к Эразму и Альбрехту Дюреру. Впоследствии решительный разрыв Лютера с Церковью его смутил, и он пытался добиться исключения своего имени из буллы 1521 года, где упоминался в числе его сторонников. Как и его друг Эразм, поначалу поддерживавший Лютера, он не ожидал, что дело зайдет так далеко.
(обратно)185
LW, 48:210.
(обратно)186
Oberman, Luther, 42.
(обратно)187
LW, 48:160.
(обратно)188
Цит. по: Oberman, Luther, 43.
(обратно)189
Цит. по: Roper, Martin Luther, 146.
(обратно)190
Цит. по: там же, 159.
(обратно)191
Цит. по: Kittelson, Luther the Reformer, 112.
(обратно)192
LW, 48:170.
(обратно)193
Reston, Luther’s Fortress, 13.
(обратно)194
Kittelson, Luther the Reformer, 110.
(обратно)195
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 126.
(обратно)196
Цит. по: там же.
(обратно)197
Перебивка «ты» и «вы» здесь авторская – прим. пер.
(обратно)198
LW, 48:178.
(обратно)199
Цит. по: Kittelson, Luther the Reformer, 115.
(обратно)200
Bainton, Here I Stand, 230.
(обратно)201
Kittelson, Luther the Reformer, 110.
(обратно)202
Подробнее о папских буллах см. на с. 29.
(обратно)203
Murphy, Pope’s Daughter.
(обратно)204
Bainton, Here I Stand, 140.
(обратно)205
И император, и папа понимали, что путешествия на большие расстояния требуют времени и серьезной подготовки, – поэтому, вызывая кого-либо к себе, всегда давали ему время.
(обратно)206
Hendrix, Martin Luther, 94.
(обратно)207
Bainton, Here I Stand, 152–53.
(обратно)208
Pettegree, Brand Luther, 131.
(обратно)209
В Синодальном переводе Пс. 20:10, цитата неточная – прим. пер.
(обратно)210
Цит. по: Reston, Luther’s Fortress, 18.
(обратно)211
Цит. по: там же.
(обратно)212
Цит. по: там же, 20–21.
(обратно)213
Цит. по: там же, 21–22.
(обратно)214
Цит. по: там же, 22.
(обратно)215
LW, 48:188.
(обратно)216
Название немецкого города Вормс не имеет отношения к «червю» (Wurm). Что же до слова «рейхстаг» – оно, вместе с названием города, в Священной Римской империи обозначало регулярные собрания или ассамблеи дворянства под председательством императора (отсюда более торжественное название «имперский рейхстаг»). «Reich» – по-немецки означает «государство», «Tag» – день, а также усеченное «Tagung» – «встреча». Слова с суффиксом «-tag», означающие Национальное собрание, или Конгресс – Reichstag и Bundestag – сохраняют свое значение в немецком языке и по сей день.
(обратно)217
Pettegree, Brand Luther, 180.
(обратно)218
Цит. по: Roper, Martin Luther, 179.
(обратно)219
LW, 48:198.
(обратно)220
Цит. по: Oberman, Luther, 197.
(обратно)221
Цит. по: Hendrix, Martin Luther, 103.
(обратно)222
Цит. по: Pettegree, Brand Luther, 135.
(обратно)223
Цит. по: Oberman, Luther, 198–99.
(обратно)224
В то время Лютеру было тридцать семь.
(обратно)225
Brecht, His Road to Reformation, 453.
(обратно)226
Цит. по: Oberman, Luther, 199.
(обратно)227
Цит. по: Brecht, His Road to Reformation, 453.
(обратно)228
Bainton, Here I Stand, 178.
(обратно)229
Цит. по: там же.
(обратно)230
LW, 32:107.
(обратно)231
Цит. по: Oberman, Luther, 199.
(обратно)232
LW, 48:200.
(обратно)233
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 181.
(обратно)234
LW, 32:109–13.
(обратно)235
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 182.
(обратно)236
Цит. по: Brecht, His Road to Reformation, 451.
(обратно)237
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 182.
(обратно)238
Цит. по: Oberman, Luther, 203.
(обратно)239
LW, 32:114.
(обратно)240
Charles Beard, Martin Luther and the Reformation in Germany Until the Close of the Diet of Worms (London: Philip Green, 1896), 444–45.
(обратно)241
Считается, что за расклейкой плакатов стоял Ульрих фон Гуттен.
(обратно)242
Brecht, His Road to Reformation, 467.
(обратно)243
Пожалуй, совершенства в своем роде Кохлеус достиг, когда заявил, что Лютер – сын беса, изнасиловавшего его мать в отхожем месте.
(обратно)244
Деян. 5:38–39, New International Version.
(обратно)245
Цит. по: Brecht, His Road to Reformation, 470.
(обратно)246
Bainton, Here I Stand, 185.
(обратно)247
Oberman, Luther, 203.
(обратно)248
LW, 48:201.
(обратно)249
Там же, 201–202.
(обратно)250
Кесарь по-немецки Kaiser; Лютер и все остальные немцы называли своих императоров кайзерами, указывая на то, что они – не просто короли, а правители империи, в нашем случае – Священной Римской, которая, разумеется, считалась наследницей и продолжением изначальной Римской империи.
(обратно)251
Ин. 19:10–11.
(обратно)252
LW, 48:225.
(обратно)253
Таково было прирожденное Лютеру чувство религиозной свободы: он ясно ощущал, что власть государства, даже вполне законная и праведная во всех прочих отношениях, не должна вторгаться на территорию, принадлежащую Богу.
(обратно)254
Кастеляном назывался управляющий замком.
(обратно)255
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 189.
(обратно)256
В наше время, чтобы попасть в Вартбург, необходимо оставить машину внизу и подняться по немыслимо крутой и извилистой горной дороге – на автобусе или на ослике, как в старые времена. В любом случае даже сейчас Вартбург производит на паломников большое впечатление своей отдаленностью и труднодоступностью.
(обратно)257
Это прозвище обычно переводится как «Людвиг Прыгун». Возникло оно от того, что, будучи заточен в высокой башне над рекой Зале, Людвиг прыгнул из окна башни в реку.
(обратно)258
Дитрих Бонхеффер, проезжая мимо Вартбурга на поезде в 1941 году, видел его из окна – и пришел в ужас, увидев, что нацисты заменили огромный крест на самой высокой его башне гротескной, подсвеченной прожекторами свастикой.
(обратно)259
Немецкое слово Junker происходит от jung («молодой») и Herr («господин»).
(обратно)260
Bornkamm, Luther in Mid-career, 2.
(обратно)261
Откр. 1:9, New International Version.
(обратно)262
Не совсем ясно, когда было отправлено это письмо: от него дошел до нас только отрывок, а сам Лютер рассказывал позднее, что в первые дни писал письма, но тут же рвал из страха, что переписка раскроет его местонахождение.
(обратно)263
LW, 48:212.
(обратно)264
Возможно, аллюзия на книгу Исаии, где «сильные мира сего» выступили против Бога и погибли.
(обратно)265
Там же, 213.
(обратно)266
Там же, 214.
(обратно)267
Немецкое слово Karst означает «мотыга», а Karsthansen – общее название крестьян и вообще людей физического труда, особенно в противоположность знати.
(обратно)268
Там же, 233.
(обратно)269
Bornkamm, Luther in Mid-career, 3.
(обратно)270
LW, 48:215.
(обратно)271
Ровоам – гордый царь Израиля, наследовавший своему отцу Соломону.
(обратно)272
Там же, 217.
(обратно)273
Там же, 219.
(обратно)274
Там же, 255.
(обратно)275
Там же, 268.
(обратно)276
Там же, 276.
(обратно)277
Erikson, Young Man Luther, 176.
(обратно)278
Сейчас этот китовый позвонок – единственная дошедшая до нас часть «меблировки» комнаты Лютера. Он все еще хранится там, и увидеть его может любой посетитель.
(обратно)279
Переводы Нового Завета на немецкий язык делались и прежде Лютера; но он первым переводил напрямую с греческого и на современный ему разговорный немецкий.
(обратно)280
LW, 48:255.
(обратно)281
В Синодальном переводе «Признавайтесь друг перед другом в проступках» – прим. пер.
(обратно)282
Там же, 21:356–357.
(обратно)283
Коллега Эразма.
(обратно)284
Как и святой Иероним, Бегемота из книги Иова Лютер отождествлял с дьяволом.
(обратно)285
Там же, 48:306–7.
(обратно)286
Там же, 319.
(обратно)287
Там же, 283–84.
(обратно)288
Быт. 3:15, New American Standard Bible.
(обратно)289
LW, 48:293–94.
(обратно)290
Там же, 295.
(обратно)291
Там же, 307.
(обратно)292
Там же, 316.
(обратно)293
Там же, 282.
(обратно)294
Там же, 308–9.
(обратно)295
Из Библии известно, что манну можно было хранить лишь один день, дальше она гнила и покрывалась червями. Интересно было бы узнать, как сохранилась она на тридцать пять веков!
(обратно)296
Как пояснял каталог – не просто какой-то там палец, а тот самый, которым Фома разрешил свои нечестивые сомнения, вложив его в рану на боку воскресшего Иисуса!
(обратно)297
Видимо, парный к большому пальцу святой Анны в Виттенберге.
(обратно)298
Один из них, как рассказывали, на глазах у множества свидетелей чудесным образом отделился от восьми своих неподвижных собратьев.
(обратно)299
О том, почему земля, из которой он был создан, не стала частью его тела, а осталась землей, история умалчивает.
(обратно)300
Bainton, Here I Stand, 195.
(обратно)301
Возможно, какое-то время он также жил у Меланхтона.
(обратно)302
LW, 48:350–51.
(обратно)303
Там же, 354.
(обратно)304
Там же, 354–55.
(обратно)305
Там же, 45:63.
(обратно)306
Мы больше не живем в аграрном обществе, и яркий образ деревянной молотилки, выбивающей шелуху из пшеничного или какого-нибудь еще зерна, которым часто пользовался Лютер, для нас утерян. В современном мире схожее представление могут дать, пожалуй, нунчаки – или те вращающиеся пластмассовые мельницы, что ставятся перед автомобильными магазинами для привлечения внимания проезжих.
(обратно)307
Bornkamm, Luther in Mid-career, 40.
(обратно)308
Цит. по: Brecht, Shaping and Defining, 32.
(обратно)309
Будь у Лютера фамилия посложнее – как у его друзей Меланхтона или Эколампадия, – скорее всего, последователи с бо́льшим рвением выполнили бы эту его просьбу.
(обратно)310
Профессия банщика считалась низменной и даже постыдной; однако в богословском кругу Штюбнера царили эгалитарные настроения, и вполне возможно, что он носил свою фамилию с гордостью.
(обратно)311
Bornkamm, Luther in Mid-career, 57.
(обратно)312
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 207.
(обратно)313
LW, 48:363.
(обратно)314
Исх. 20:4.
(обратно)315
Цит. по: Roper, Martin Luther, 226.
(обратно)316
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 206.
(обратно)317
Цит. по: там же, 208.
(обратно)318
Цит. по: там же.
(обратно)319
Цит. по: там же, 209.
(обратно)320
Bornkamm, Luther in Mid-career, 50.
(обратно)321
Цит. по: там же, 49.
(обратно)322
LW, 48:387.
(обратно)323
Brecht, Shaping and Defining, 43.
(обратно)324
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 210–11.
(обратно)325
Mullett, Martin Luther, 180.
(обратно)326
LW, 51:70.
(обратно)327
Bornkamm, Luther in Mid-career, 74.
(обратно)328
Цит. по: там же.
(обратно)329
Цит. по: Brecht, Shaping and Defining, 57.
(обратно)330
Roper, Martin Luther, 233.
(обратно)331
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 213.
(обратно)332
Цит. по: Kittelson, Luther the Reformer, 182.
(обратно)333
Bornkamm, Luther in Mid-career, 79.
(обратно)334
LW, 36:262.
(обратно)335
Kittelson, Luther the Reformer, 143.
(обратно)336
Цит. по: Hendrix, Martin Luther, 131.
(обратно)337
Veith, A Place to Stand, 84–5.
(обратно)338
Цит. по: Bornkamm, Luther in Mid-career, 77.
(обратно)339
Цит. по: Hendrix, Martin Luther, 139.
(обратно)340
Там же, 49:11–12.
(обратно)341
Ozment, The Serpent and the Lamb, 107.
(обратно)342
Герцог Иоганн стал курфюрстом после своего брата в 1525 году, а герцог Иоганн Фридрих наследовал отцу в 1532 году.
(обратно)343
LW, 35:362.
(обратно)344
2 Тим. 4:14, New American Standard Bible.
(обратно)345
Все животные с раздвоенными копытами, очевидно, некошерны.
(обратно)346
LW, 49:19.
(обратно)347
Деян. 8:30–31, Berean Study Bible.
(обратно)348
LW, 35:371.
(обратно)349
У себя в дневнике Уэсли писал: «Примерно без четверти девять, когда руководитель собрания описывал перемену, совершаемую Богом в сердце через веру во Христа, я ощутил в сердце странное тепло. Я вдруг почувствовал, что одному лишь Христу вверяю свое спасение, – и ощутил уверенность, что Он взял на Себя все грехи, даже мои, и спас меня от закона греха и смерти».
(обратно)350
Brecht, Shaping and Defining, 100.
(обратно)351
Bornkamm, Luther in Mid-career, 101.
(обратно)352
Brecht, Shaping and Defining, 103.
(обратно)353
Luther, Spiritual Songs of Martin Luther, 68.
(обратно)354
Там же, 72.
(обратно)355
. Luther’s Correspondence and Other Contemporary Letters, vol. 2, ed. Preserved Smith and Charles Michael Jacobs (Philadelphia: Lutheran Publication Society, 1918), 2:213–14.
(обратно)356
LW, 32:265–66.
(обратно)357
Ernst Kroker, The Mother of the Reformation: The Amazing Life and Story of Katharine Luther, trans. Mark E. DeGarmeaux (St. Louis: Concordia, 2013), 34.
(обратно)358
Там же, 39.
(обратно)359
LW, 40:130.
(обратно)360
Цит. по: Tom Scott, Thomas Muntzer: Theology and Revolution in the German Reformation (New York: St. Martin’s Press, 1989), 73.
(обратно)361
По-немецки, как и по-английски, слово «магистр» созвучно слову «господин» – прим. пер.
(обратно)362
Brecht, Shaping and Defining, 148.
(обратно)363
Roper, Martin Luther, 250.
(обратно)364
Bornkamm, Luther in Mid-career, 147.
(обратно)365
Святой Павел в Рим. 15:1 призывает христиан проявлять снисходительность к более слабым в вере: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать».
(обратно)366
Brecht, Shaping and Defining, 150.
(обратно)367
Цит. по: Bornkamm, Luther in Mid-career, 160. Примечание в скобках авторское.
(обратно)368
Цит. по: там же, 161.
(обратно)369
Лк. 19:27, English Standard Version.
(обратно)370
Brecht, Shaping and Defining, 153.
(обратно)371
Цит. по: Bornkamm, Luther in Mid-career, 160.
(обратно)372
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 282.
(обратно)373
Цит. по: Roper, Martin Luther, 242.
(обратно)374
Цит. по: Bornkamm, Luther in Mid-career, 165.
(обратно)375
Цит. по: там же, 166.
(обратно)376
Brecht, Shaping and Defining, 161.
(обратно)377
LW, 40:52–57.
(обратно)378
Там же, 128.
(обратно)379
Там же, 223.
(обратно)380
Цит. по: Bornkamm, Luther in Mid-career, 356.
(обратно)381
Цит. по: Bornkamm, Luther in Mid-career, 365.
(обратно)382
Martin Luther, Selected Writings of Martin Luther, ed. Theodore G. Tappert (Minneapolis: Fortress Press, 2007), 3:335.
(обратно)383
Там же, 329–31.
(обратно)384
Bornkamm, Luther in Mid-career, 380.
(обратно)385
Martin Luther, “An Open Letter on the Harsh Booklet Against the Peasants”, in Luther: Selected Political Writings, ed. J. M. Porter (Philadelphia: Fortress Press, 1974), 88.
(обратно)386
Bornkamm, Luther in Mid-career, 380.
(обратно)387
Там же, 381.
(обратно)388
Ландграфом в Германии называли графа, обладающего территориальным суверенитетом, от слов Land – «земля» и Graf – «граф».
(обратно)389
Roper, Martin Luther, 264.
(обратно)390
Bornkamm, Luther in Mid-career, 382.
(обратно)391
В библейской книге Судей (гл. 6–8) Гедеон – пророк и полководец, всего с тремя сотнями вооруженных израильтян разбивший огромное войско мадианитян. Ангел Господень объявил Гедеону: «Господь с тобою, муж сильный!», так что, уподобляя себя Гедеону, Мюнцер говорил: с ним Бог и победить его невозможно.
(обратно)392
Brecht, Shaping and Defining, 186.
(обратно)393
LW, 3:210.
(обратно)394
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 283.
(обратно)395
Hendrix, Visionary Reformer, 164.
(обратно)396
LW, 49:93.
(обратно)397
Там же, 49:104–5.
(обратно)398
Там же, 49:111.
(обратно)399
Цит. по: Oberman, Luther, 273.
(обратно)400
Цит. по: там же, 275.
(обратно)401
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 225.
(обратно)402
«Совокупление», нем. – прим. пер.
(обратно)403
Smith and Jakobs, Luther’s Correspondence, 2:364.
(обратно)404
Brecht, Shaping and Defining, 199.
(обратно)405
LW, 49:117.
(обратно)406
Цит. по: Herbert David Rix, Martin Luther: The Man and the Image (New York: Irvington, 1983), 187.
(обратно)407
Цит. по: там же.
(обратно)408
Roper, Martin Luther, 269.
(обратно)409
Связь между Лютером и Карлштадтом на этом не закончилась. Всего несколько дней спустя Лютер снова ходатайствовал перед курфюрстом за мельника из Зеегренны, дядю жены Карлштадта. А вскоре, когда в Виттенберге разразилась чума, еще одна родственница жены Карлштадта, заболев, переехала к Лютеру и Кати в Черную Обитель.
(обратно)410
Smith and Jakobs, Luther’s Correspondence, 2:364.
(обратно)411
LW, 54:191.
(обратно)412
Там же, 432.
(обратно)413
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 298.
(обратно)414
Цит. по: там же, 298–99.
(обратно)415
В американском издании «Собрания сочинений Лютера» это название объясняется так: «“Dat” – по-латыни “дает”». Такое название имеет день 7 июня по старому [средневековому] календарю [так называемому Cisiojanus], в котором названия дат брались из стихов, составленных из начальных слогов имен чтимых святых каждого месяца.
(обратно)416
Здесь игра слов: солнце/сын (Sonne/Sohn).
(обратно)417
LW, 49:152–53.
(обратно)418
Bainton, Here I Stand, 116.
(обратно)419
«Смысл богословия», лат. – прим. пер.
(обратно)420
Цит. по: там же, 116–117.
(обратно)421
Корей взбунтовался против Моисея, и тогда в земле разверзлась пропасть и поглотила его.
(обратно)422
LW, 44:22.
(обратно)423
В позднем Средневековье учителя и студенты порой писали на досках и стирали написанное морскими губками.
(обратно)424
Цит. по: Brecht, Shaping and Defining, 217.
(обратно)425
Цит. по: там же, 218.
(обратно)426
Любопытно отметить, что уже в 1522 году Меланхтон ясно видел главное различие между Эразмом и Лютером: «В богословских материях мы с ним особенно стремимся к разному: один хочет понять, чем утешиться в виду смерти и Божьего суда, другой – как жить праведной жизнью. Первое – предмет истинной, евангельской христианской проповеди, миру и человеческому рассудку неизвестный; этому учит Лютер – и это порождает праведность сердца, от которой происходят добрые дела. Другое – то, чему учит Эразм: чистая жизнь и добрые нравы. Но этому учили и языческие философы. Что общего у философии с Христом, у слепого рассудка – с откровением Божьим? Тот, кто следует этому учению, знает лишь добрые чувства, но веры не знает. А если любовь не исходит из веры – это не подлинная любовь, а лишь внешнее фарисейское ханжество. И все же без колебаний скажу, что Эразм выше древних».
(обратно)427
Manschreck, Melanchton, 115.
(обратно)428
«Туалетную бумагу», лат. – прим. пер.
(обратно)429
Трактат «О рабстве воли» считается величайшим трудом Лютера; в предисловии к бейкеровскому изданию не кто иные, как Дж. И. Пэкер и О. Р. Джонсон [переводчики – прим. пер. ] признают его «выше всего, что вышло из-под его пера». Стоит ли удивляться нетерпению Камерария?
(обратно)430
Preserved Smith, The Life and Letters of Martin Luther (Boston: Houghton Mifflin, 1911), 209.
(обратно)431
Martin Luther, On the Bondage of the Will: A New Translation of “De Servo Arbitrio” (,1525,), Martin Luther’s Reply to Erasmus of Rotterdam, ed. J.I. Pacjer and O.R. Johnson (London: James Clarke, 1957), 42.
(обратно)432
Там же, 174.
(обратно)433
Мк. 14:22–24; Лк. 22:18–20.
(обратно)434
Во время этого ритуала священник произносит латинские слова: «Hoc est corpus meum» («Сие есть Тело Мое»). От этой формулы произошло кружным путем выражение «фокус-покус».
(обратно)435
LW, 37:305.
(обратно)436
Там же, 300.
(обратно)437
По иронии судьбы, Цвингли отлично играл на шести музыкальных инструментах.
(обратно)438
2 Кор. 3:6, King James Version.
(обратно)439
Ин. 6:63, King James Version.
(обратно)440
Bornkamm, Luther in Mid-career, 171.
(обратно)441
LW, 40:63.
(обратно)442
Там же, 214.
(обратно)443
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 352.
(обратно)444
Abraham Kuyper, “Sphere Sovereignty,” in Abraham Kuyper: A Centennial Reader, ed. James D. Bratt (Grand Rapids: W.B. Eerdmans, 1998), 488.
(обратно)445
LW, 49:68–69.
(обратно)446
Цит. по: Hendrix, Martin Luther, 181.
(обратно)447
Там же, 182.
(обратно)448
LW, 43:160.
(обратно)449
Цит. по: там же, 181.
(обратно)450
Цит. по: Bornkamm, Luther in Mid-career, 556.
(обратно)451
LW, 49:174.
(обратно)452
Цит. по: Brecht, Shaping and Defining, 209.
(обратно)453
Цит. по: там же.
(обратно)454
«Ужасный год», лат. – прим. пер.
(обратно)455
Слово «анабаптист» означает «перекреститель», от греческого «baptismos» («крещение») и «ana» («пере-»). Анабаптисты не верили в действенность крещения младенцев и потому считали нужным заново «перекрещивать» приходивших к ним взрослых.
(обратно)456
Denis R. Janz, ed., A Reformation Reader (Minneapolis: Fortress Press, 2008), 118.
(обратно)457
Martin Luther, The Large Catechism of Martin Luther (Philadelphia: Fortress Press, 1959), 9.
(обратно)458
Bornkamm, Luther in Mid-career, 564.
(обратно)459
Цит. по: Hendrix, Martin Luther, 205.
(обратно)460
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 327.
(обратно)461
Цит. по: Bornkamm, Luther in Mid-career, 637.
(обратно)462
LW, 38:35.
(обратно)463
Там же, 70–71.
(обратно)464
Пс. 118:17, King James Version.
(обратно)465
«Царь» и «кайзер» – производные от «кесарь» («цезарь»).
(обратно)466
Лютер ссылается на новозаветный рассказ о преображении Иисуса. Петр, пораженный чудесным преображением, предлагает Иисусу выстроить три шатра (обычно переводятся как «кущи» или «скинии») и остаться там.
(обратно)467
LW, 49:288.
(обратно)468
Цит. по: Brecht, Shaping and Defining, 380.
(обратно)469
Цит. по: Bornkamm, Luther in Mid-career, 668.
(обратно)470
Цит. по: там же.
(обратно)471
Пс. 118:17, King James Version.
(обратно)472
LW, 34:14.
(обратно)473
Там же, 18.
(обратно)474
Цит. по: Bornkamm, Luther in Mid-career, 669.
(обратно)475
LW, 34:19–20.
(обратно)476
Там же, 60–61.
(обратно)477
Oberman, Luther, 311.
(обратно)478
Цит. по: Hendrix, Martin Luther, 216.
(обратно)479
Цит. по: там же, 217.
(обратно)480
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 332.
(обратно)481
LW, 49:329.
(обратно)482
Roper, Martin Luther, 327.
(обратно)483
Быть может, лучше отражает сарказм Лютера один из современных переводов: «Бла-бла-бла отцы церкви, бла-бла-бла церковь, бла-бла-бла традиция».
(обратно)484
LW, 49:375.
(обратно)485
Рим. 1:20.
(обратно)486
LW, 49:377.
(обратно)487
Там же, 418–19.
(обратно)488
LW, 50:18–19.
(обратно)489
Сын герцога Иоганна, Иоганн Фридрих, ставший курфюрстом после смерти отца, вскоре после этого отдал Лютеру и Кати во владение всю Черную Обитель.
(обратно)490
Там же, 138.
(обратно)491
Там же, 142.
(обратно)492
LW, 34:288.
(обратно)493
LW, 54:430.
(обратно)494
Цит. по: Lull and Nelson, Resilient Reformer, 343.
(обратно)495
Цит. по: Kittelson, Luther the Reformer, 238.
(обратно)496
LW, 45:200.
(обратно)497
Цит. по: Brecht, Preservation of the Church, 349.
(обратно)498
LW, 41:357.
(обратно)499
Martin Luther, The Table Talk or Familiar Discourse of Martin Luther, trans. William Hazlitt (Oxford: Oxford University, 1848), 165.
(обратно)500
Там же, 30.
(обратно)501
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 365.
(обратно)502
LW, 50:284.
(обратно)503
Там же, 292.
(обратно)504
Там же, 291.
(обратно)505
Горение сажи в дымоходе, вызванное накоплением креозота, – нередкое происшествие в домах с печным отоплением. Сажа вспыхивает с громким ревом. Горение сажи очень опасно – высокая температура креозота может вызвать пожар в доме.
(обратно)506
Там же, 295.
(обратно)507
Там же, 302.
(обратно)508
Там же, 51:392.
(обратно)509
За все время своей проповеднической «карьеры» – приблизительно с 1510 года и до смерти – Лютер произнес около семи тысяч проповедей. Приблизительно две тысячи триста из них дошли до наших дней.
(обратно)510
В Синодальном переводе Пс. 30:6 – прим. пер.
(обратно)511
Цит. по: Brecht, Preservation of the Church, 376.
(обратно)512
«Да», нем. – прим. пер.
(обратно)513
«Сие есть тело Лютера», лат. – прим. пер.
(обратно)514
Manschreck, Melanchton, 274.
(обратно)515
Копия посмертной маски Лютера, которая хранится сейчас в Галле, изменена – глаза у Лютера на ней открыты. Слепки рук лежат на вишневом бархате так, словно сложены на груди: вместе с открытыми глазами это придает всей композиции мрачный, пугающий оттенок.
(обратно)516
Там же, 275–76.
(обратно)517
Цит. по: Brecht, Preservation of the Church, 377–78.
(обратно)518
Строчка из стихотворения поэта Стация, посвященного «Энеиде» Вергилия.
(обратно)519
LW, 54:476.
(обратно)520
«Мы – нищие. Это истина».
(обратно)521
Лига составляет около трех миль.
(обратно)522
Отсылка к Яну Гусу, фамилия которого по-чешски означает «гусь».
(обратно)
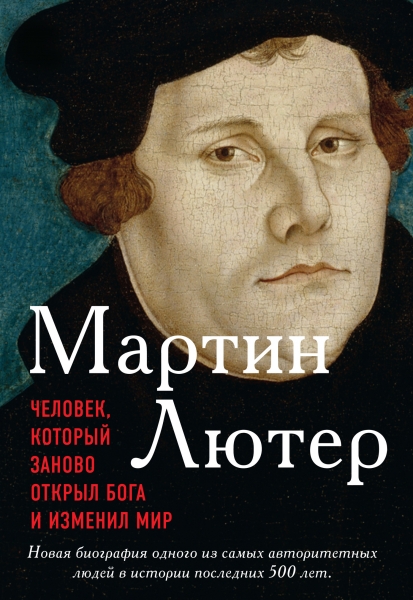



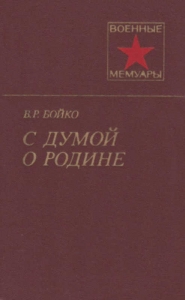

Комментарии к книге «Мартин Лютер. Человек, который заново открыл Бога и изменил мир», Эрик Метаксас
Всего 0 комментариев