Аппассионата. Бетховен
БЕТХОВЕН (Beethoven) Людвиг ван (1770—1827) — немецкий композитор, пианист, дирижёр. Первоначальное музыкальное образование получил у отца, певчего Боннской придворной капеллы, и его сослуживцев. С 1780 г. ученик К.-Г. Нефе, воспитавшего Бетховена в духе немецкого просветительства. С 13-летнего возраста органист Боннской придворной капеллы. В 1787 г. Бетховен посетил в Вене В.-А. Моцарта, который высоко оценил его искусство импровизации. После окончательного переезда в Вену (1792) Бетховен как композитор совершенствовался у Й. Гайдна, И.-Г. Альбрехтсбергера, пользовался советами И. Шенка, А. Сальери, Э. Фёрстера. Концертные выступления Бетховена в Вене, Праге, Берлине, Дрездене, Буде проходили с огромным успехом. К началу 1800-х гг. Бетховен — автор многих произведений, поражавших современников бурным драматизмом и новизной музыкального языка. В их числе: фортепьянные сонаты № 8 («Патетическая») и 14 (т. н. «Лунная»), первые 6 струнных квартетов. В 1800 г. была исполнена 1-я симфония Бетховена. Прогрессирующая глухота, первые признаки которой появились в 1797 г., заставила Бетховена впоследствии постепенно сократить концертную деятельность, а после 1815 г. от неё отказаться. В произведениях 1802—1812 гг. полностью выявились характерные признаки зрелого стиля Бетховена. В последний период творчества появились его величайшие создания — 9-я симфония с заключительным хором на слова оды «К радости» Шиллера и Торжественная месса, а также шедевры его камерной музыки — сонаты для фортепьяно № 28—32 и квартеты № 12—16.
На формирование мировоззрения Бетховена сильнейшее воздействие оказали события Великой французской революции; его творчество тесно связано с современным ему искусством, литературой, философией, с художественным наследием прошлого (Гомер, Плутарх, Шекспир, Ж.-Ж. Руссо, И. Гёте, И. Кант, Ф. Шиллер). Основной идейный мотив творчества Бетховена — тема героической борьбы за свободу, воплощённая с особенной силой в 3, 5, 7 и 9-й симфониях, в опере «Фиделио», в увертюре «Эгмонт», в фортепьянной сонате № 23 (т. н. Appassionata) и др. Вместе с тем Бетховен создал много сочинений, выражающих тончайшие личные переживания. Бесконечно широк лирический диапазон его adagio и largo.
Представитель венской классической школы, Бетховен вслед за Й. Гайдном и В.-А. Моцартом разрабатывал формы классической музыки, позволяющие отразить разнообразные явления действительности в их развитии. Сонатно-симфонический цикл был Бетховеном расширен, наполнен новым драматическим содержанием. В трактовке главной и побочной партий и их соотношения Бетховен выдвинул принцип контраста как выражение единства противоположностей. Этим в значительной мере обусловлены расширение круга тональностей побочных партий, повышение роли связующих и заключительных партий, увеличение масштаба разработок и введение в них новых лирических тем, динамизация реприз, перенесение общей кульминации в развёрнутую коду. С этим же связано и более широкое понимание границ тональности и сферы действия тонального центра, чем у его предшественников. Бетховен расширил оркестровые диапазоны ведущих голосов и интенсифицировал выразительность всех оркестровых партий. Важную роль в формировании стиля композитора сыграла его работа над техникой варьирования и вариационной формой. Совершенствуя найденную им форму свободных вариаций (финал фортепьянной сонаты № 30, вариации на тему Диабелли, 3-я и 4-я части 9-й симфонии и др.), Бетховен существенно обогатил и традиционные типы варьирования. С новым принципом сочинения вариаций связан и новый подход к полифонической технике. В произведениях последнего периода имитационная полифония фигурирует как составной элемент разработок (фортепьянная соната № 28), как начальная или заключительная часть цикла (фортепьянные сонаты № 29, 31, квартет № 14). Большое значение приобретает контрастная (неимитационная) полифония. Так, в Allegretto из 7-й симфонии тема и контрапункт образуют мелодическое «двуединство», обладающее совершенно особой, глубоко проникновенной экспрессией.
Богатый материал для изучения творческого метода Бетховена дают наброски и эскизы, которые сохранились в его музыкальном архиве. Большой биографический интерес представляют так называемые разговорные тетради, которыми Бетховен пользовался для ведения бесед с момента наступления полной глухоты (1818). Наследие Бетховена изучали русские музыканты; упоминания о его произведениях часто встречаются в русской классической литературе и литературной критике. Многочисленные статьи А. Н. Серова, В. В. Стасова, Б. В. Асафьева внесли вклад в мировую бетховиану.
Часть 1 ШПАНИОЛЬ
Пасмурный день нагонял тоску. Темнело рано, и, ко всему прочему, в этот декабрьский полдень 1770 года ветер с силой швырял хлопья снега в окно мансарды. Подрагивающее пламя свечи освещало убого обставленную комнату, и расплавленный воск, словно слёзы, капал на стол. Дыхание матери было тяжёлым и прерывистым.
Повивальная бабка госпожа Зикс быстро закутала ребёнка, чтобы он не замёрз, и её искажённая тень заметалась по голым крашеным стенам и углам. На лестнице загрохотали шаги, и женщина в кровати тут же приподнялась:
— Пресвятая Дева Мария!
Госпожа Зикс тоже прислушалась. Её тень замерла, а затем вновь судорожно задёргалась.
— Нет, госпожа ван Бетховен, — она узнала шаги, — это госпожа Баум, вдова писаря дворцового виночерпия, и... Кэт, видимо, начала колоть дрова.
В прихожей послышался спокойный женский голос:
— Осторожнее, Кэт!
Затем дверь распахнулась.
— Ну, и как наши дела?
Госпожа Зикс улыбнулась:
— Мальчик уже здесь, госпожа вдова писаря дворцового виночерпия.
— Поздравляю. От всей души желаю самого наилучшего ребёнку и матери. — Госпожа Баум переступила порог. — Ну и как, госпожа Зикс, это здоровый мальчик?
Она задала вполне уместный вопрос, ибо первый ребёнок в семье Бетховен, названный Людвигом Марией, умер уже через шесть дней после появления на свет.
— Судя по голосу молодого человека... — Госпожа Зикс небрежно махнула рукой. — И потом, у него очень большая голова и грудная клетка как у льва.
Госпожа Баум собралась присесть на стоявший рядом шаткий стул, но вспомнила, что у неё есть неотложные дела. Она зажгла несколько принесённых с собой свечей и отыскала Кэт — тринадцатилетнюю девочку, чьими услугами госпожа Магдалена в ближайшее время должна была воспользоваться, хотя при почти полном отсутствии денег даже на хозяйственные нужды это было совершенно непозволительной роскошью.
— Ещё несколько поленьев, Кэт. Здесь холодно и ветрено, как в клетке. Госпожа Зикс даже не может искупать мальчика. Почему вы мне раньше не сказали, госпожа ван Бетховен? Если бы я случайно не проходила мимо...
— Стыдно... — Большие тёмные глаза роженицы наполнились слезами.
— Кому? Вам и вашему ребёнку? Я поворошу угли, Кэт. Ты же немедленно сбегаешь в винные погребки, прежде всего к поставщику двора Хойзеру и к Дунгу на рынок. Ты передашь от меня господину придворному музыканту наилучшие пожелания и расскажешь ему обо всём.
— Слушаюсь, госпожа вдова писаря дворцового виночерпия.
Когда дверь за девочкой закрылась, госпожа Баум подошла к ложу Магдалены:
— Выходит, после заутрени он больше не появлялся?.. А ведь знал, что у вас уже начались схватки...
— Он очень хотел, но, возможно...
— И даже несомненно. По пути домой он просто позволил себе пропустить стакан водки. Беда с ним.
— Во всяком случае, я вам очень благодарна, госпожа Баум. — Магдалена робко погладила её по руке, — а также госпоже Зикс...
— Мне? За что? — возмутилась госпожа Баум. — За пару-другую поленьев? За старые тряпки для пелёнок? А, верно, ещё и за свечи! Только за это мне будет позволено восседать на золотом троне на небесах. Не говорите глупостей, Магдалена, гораздо важнее, как вы назовёте вашего мальчика?
— Меня устроит любое имя, — госпожа Магдалена задрожала всем телом, — но только не Людвиг. Господи!..
— Я вполне вас понимаю. — Госпожа Баум кивнула. — И не только потому, что это имя носил ваш умерший первенец, не только из-за дурной приметы. Какие же вы, Бетховены, тяжёлые люди! Неужели у вас здесь никогда не поселялась радость? И кто завтра в церкви Святого Ремигия окрестит ребёнка? Ну, хорошо, во-первых, я...
— Госпожа Баум...
— Да, и я устрою полагающееся в таких случаях угощение. — Она покорно вздохнула. — Мне не остаётся ничего другого, малыш позднее возвратит долг. Счёт я ему выпишу на густом слое сажи в моей дымовой трубе. Но кто же у нас завтра будет крёстным отцом? Сразу же хочу заметить: ни с одним из собутыльников вашего мужа я не сяду за праздничный стол.
Тут госпожа Баум резко повернулась:
— Госпожа Зикс, вам нужна помощь при купании младенца? Нет? Хорошо, но обращайтесь бережно с моим будущим крестником. Вода для купания не должна быть не слишком горячей, ни слишком холодной.
Она встала, блеснув карими глазами:
— Пойду поищу достойного крёстного отца. Это не займёт много времени.
Идти было недалеко, и вскоре придворный капельмейстер курфюрста Людвиг ван Бетховен изогнул спину в низком поклоне:
— Моё почтение, госпожа вдова писаря дворцового виночерпия. Какая ужасная сегодня погода. Позвольте предложить вам сесть в кресло у камина...
Госпожа Баум, держа себя подчёркнуто сдержанно и даже чуть жеманясь, присела на край кресла, сняла небрежно наброшенный платок и поправила светлые волосы.
— Я лишь на пару минут заглянула сюда, чтобы попросить вас сопроводить меня завтра на крестины. Пожалуйста, не откажите мне в такой любезности.
Старик вновь грациозно поклонился:
— С удовольствием. Позвольте узнать, где это произойдёт.
— В доме... — госпожа Баум произнесла эти слова ласковым и нежным голосом, — ...Бетховенов. У них сегодня родился мальчик.
— В доме...
— Да, господин придворный капельмейстер.
Его серо-голубые глаза гневно сверкнули. Он принялся нервно расхаживать взад-вперёд, и теперь дрожали не только его протянутые к камину руки.
— Какое...
— Ну говорите же. Прошу вас... — В её по-прежнему ласковом голосе отчётливо слышалась затаённая угроза.
— Какое я имею отношение к роду Кеверихов? Пусть они... сами расхлёбывают эту кашу. Я, во всяком случае, не желаю исполнять роль камердинера при моей невестке.
— Как вам не стыдно, господин придворный капельмейстер.
— А почему мне должно быть стыдно? Я предупреждал Иоганна и заклинал его не жениться на девушке из низшего сословия. Она дочь повара и вдова камердинера...
— ...Который с этим юным созданием...
— А сама она горничная...
— ...расстался через три года.
— Вы предлагаете мне быть крёстным отцом? Никогда, достаточно того, что меня вынудили крестить Людвига Марию с целью позднее завладеть всем моим имуществом.
Он, конечно, намекал на свою роскошно обставленную квартиру, и госпожа Баум несколько минут молчала, внимательно рассматривая невысокого приземистого старика, а затем спросила:
— Вы полагаете, что госпоже Магдалене такая мысль...
— Я вообще ничего не знаю.
— Господин придворный капельмейстер!
— Короче, в данном вопросе, госпожа Баум...
Госпожа Баум сохраняла полнейшее спокойствие, но в каждом из произнесённых ею твёрдым голосом слов слышалось полное превосходство над собеседником:
— Господин придворный капельмейстер, я не люблю, когда меня перебивают, я к этому не привыкла. И вовсе не потому, что я — вдова писаря дворцового виночерпия Баума, ведь, в конце концов, он тоже был чем-то вроде камердинера — правда, обладал при этом острым умом и бойким пером, — но потому, что здесь, в Бонне, я раньше носила другое имя, при упоминании которого любой снимал шляпу. Я звалась богатой госпожой Баум, да и была весьма состоятельной женщиной. Во-первых, я прошу вас не впутывать в свои дела мою подругу Магдалену ван Бетховен. Хотелось бы надеяться, что я смогла завязать дружеские отношения с этой бедной и очень порядочной женщиной.
— Дружеские отношения...
— Я ещё не закончила, господин придворный капельмейстер. — Госпожа Баум небрежно вскинула руку. — Теперь я намерена говорить с вами совершенно откровенно, ибо глубоко ценю и уважаю вас. А что вы сами из себя представляете, господин придворный капельмейстер? Если лакеи накрывают на стол, а повара готовят пищу, то музыканты по приказанию музыкальной коллегии создают и исполняют музыку. В глазах монсеньора вы не более чем чистильщик обуви, оснащённый, правда, вместо щёток нотами и инструментами. Вот так-то, и будь я на месте такого честного и искреннего человека, как вы, — а у вас именно такая репутация, — я бы не господина придворного музыканта и тенора Иоганна ван Бетховена отговаривала от женитьбы на Магдалене, но, напротив, попробовала бы убедить её не выходить замуж за человека, принадлежащего к самому низкому и глубоко презираемому сословию пьяниц. К тому же чью мать из-за чрезмерного пристрастия к горячительным напиткам отправили в монастырь. Но я не хочу огорчать и обижать вас, господин ван Бетховен. — Она озабоченно покачала головой: — Что с вами произошло? Вы ведь всегда отличались добротой. Однако я знаю, что заставило вас стать таким жестоким и несправедливым к Магдалене, которая ни в чём не виновата. Слишком уж сильное горе причинили вам сын и его жена, когда умерли их дети. Вы слишком одиноки.
Казалось, широко раскрытые, застывшие глаза придворного капельмейстера устремлены куда-то внутрь себя.
— Да, я... я действительно очень одинок.
— И это очень ожесточает вас.
— Вполне вероятно.
— Раньше вы были бедным человеком, но сейчас разбогатели и стали гораздо богаче меня, ибо у вас есть внук. Вам не нужно больше быть жестоким и одиноким. А теперь пойдёмте со мной.
— Я? Куда?
— К вашему внуку.
— К моему?.. — Он вдруг исторг странный, булькающий звук. Это был смех.
— А ведь ваше сердце уже в пути, оно уже там. Хватит ломать передо мной комедию, господин ван Бетховен. Вы противитесь моему предложению лишь потому, что — в этом я, правда, ничего не понимаю — считаете его оскорбительным для своего мужского достоинства или что-то в этом роде. Вы ведь умный человек и выдающийся артист, но в данном случае вы ведёте себя как дурак, как набитый дурак.
— Вы полагаете... — он никак не мог отдышаться, — я и впрямь могу...
— Где ваш плащ?
— Да, а где мой плащ? — Он словно сошёл с ума от счастья — он больше не чувствовал себя одиноким... — Ну, где же мой плащ?
— Наверное, висит в прихожей.
— Правильно. Большое спасибо.
Он вернулся, неся в руке плащ, и госпожа Баум с наигранным возмущением всплеснула руками:
— И в этих лохмотьях вы собираетесь совершить свой первый официальный визит к внуку?..
— У меня что-то неладное с головой. — Придворный капельмейстер провёл рукой по лбу. — Обычно я ношу совсем другой плащ.
Он снова вышел и возвратился в красной парадной накидке, шляпе с загнутыми кверху полями и с испанской тростью с золотым набалдашником.
— А это действительно мальчик? Мы можем идти. Хотя нет, стоп!
— Чего ещё не хватает?
— Напудренного парика! Нового воротничка и свеженакрахмаленного жабо. А в этих туфлях без серебряных пряжек я... А может быть, произошла ошибка? Это действительно мальчик?
— Полагаю, госпожа Зикс уж как-нибудь разбирается в таких вещах. — Госпожа Баум улыбнулась. — В данный момент малыша вряд ли заинтересуют серебряные пряжки на туфлях и напудренный парик. Разумеется, завтра вам, господин придворный капельмейстер, надлежит быть рядом со мной при полном параде, чтобы произвести наилучшее впечатление.
— Хорошо, а какой подарок ему преподнести сегодня? Чем можно доставить радость такому маленькому созданию?
— Своей любовью, — тихо сказала госпожа Баум. — Преподнесите ему своё сердце.
За дверью она крепко вцепилась в плащ придворного капельмейстера.
— Стоп! Стоп! Не так быстро! Я не могу передвигаться столь стремительно, и к тому же на лестнице довольно темно.
Они услышали доносившийся из мансарды шум и увидели, что из-под двери и сквозь щели пробивается яркий, словно зарево пожара, свет.
Госпожа Баум распахнула дверь.
К столу, к комоду, к подоконнику — одним словом, везде и всюду — были приклеены ранее принесённые ею свечи. Они горели, и было просто удивительно, что гардины ещё не охватил огонь.
По полу растекалась вода, бадья была перевёрнута. В углу, рядом с печью стояла госпожа Зикс и в ужасе зажимала рот. Лицо госпожи Магдалены побелело как мел.
На шатком, старом кресле с высокой спинкой сидел обрюзгший рыботорговец и поставщик двора Кляйн и со смехом хлопал себя по коленям. По стенам и потолочным балкам металась расплывчатая тень человека, отчаянно размахивающего шпагой.
— Господи Боже мой, что здесь творится? — спросила госпожа Баум.
Кружащаяся тень и стройный мужчина со шпагой отвесили низкий, даже слишком низкий поклон. Последний был пьян и с трудом удерживал равновесие. Он пробормотал заплетающимся языком:
— Овдовев... овдовевшей супруге писаря дворцового виночерпия моё почтение! Ваш покорнейший сл... слуга.
К госпоже Баум вернулась привычная уверенность в себе, поскольку она знала, что может рассчитывать на поддержку.
— Я спрашиваю вас, что всё это означает, господин ван Бетховен?
У Иоганна ван Бетховена свело губы, а язык словно превратился в кусок свинца.
— Это оз... означает, что я устроил иллю... иллюминацию в честь шпаниоля.
— Кого?
— В честь вон того шпаниоля. — Иоганн ван Бетховен с отвращением показал на кровать несколько театральным жестом. — Она небось родила его от какого-нибудь обосновавшегося на берегах Рейна выходца из Испании. Теперь я собираюсь выгнать всю эту шайку из своего дома!
Человек в ярко-красной накидке, до того предпочитавший оставаться в прихожей, медленно вошёл в комнату. Казалось, он обдумывает каждый свой шаг и соизмеряет каждый его дюйм с возможными последствиями. Его покрытая дряблой старческой кожей рука теребила что-то под красным плащом. Затем старец переложил из правой руки в левую трость с золотым набалдашником и повелительно махнул ею в сторону человека, сидевшего в кресле:
— А ну-ка, вон отсюда, рыбий потрох!
Рыботорговец судорожно вцепился в подлокотники:
— Господин придворный капельмейстер, я...
— Скотина и собутыльник моего сына! Убирайся вон отсюда, рыбий потрох! С сыном же у меня будет отдельный разговор. Смею предположить, что пользуюсь несколько большим расположением его сиятельства курфюрста, чем он.
Кресло заскрипело, и толстяк, пошатываясь, вышел из комнаты.
— А теперь я хочу поговорить с тобой, Иоганн.
Сын всё ещё пытался удержать равновесие.
— Батюшка...
— Отец! Как мне горько, что ты называешь меня отцом, и я действительно вынужден им быть. Отдай шпагу!
— Мою шпагу? Шпагу музыканта кур... курфюрста... с которой я не то что всякий сброд, вроде камердинеров и горничных... достопочтенный отец уже тогда был совершенно прав, посоветовав мне со всякими там из низшего сословия...
— Госпожа Баум! — Придворный капельмейстер медленно повернул голову. — Вы правы, госпожа Баум, ибо когда я вижу своего сына в таком виде, то понимаю, что это чистая правда. Нет ниже сословия, чем сословие пьяниц. А теперь отдай мне шпагу! — Бетховен-старший медленно покачал на ладони клинок: — Ты уже достаточно взрослый, Иоганн, и я вряд ли сумею укротить тебя. И ломать твой характер я также не хочу, но знай, что чести ты лишён. Я знаю, ты, в сущности, неплохой человек, но ты — пьяница и потому достоин презрения. А сейчас убирайся в свою спальню и хорошенько проспись, хмель помутил твой разум.
— Да ничего подобного, — попытался было возразить Бетховен-младший, — я...
— Ты уйдёшь сейчас к себе, Иоганн, иначе... — голос придворного капельмейстера стал тонким, сиплым и звучал угрожающе, — иначе... а ты знаешь, ещё не было случая, чтобы я не сдержал слова. Утром я уже буду говорить не с тобой, а с монсеньором. Он попросту выгонит тебя.
Когда Иоганн, переваливаясь с боку на бок, скрылся за дверью, Бетховен-старший повернулся к кровати:
— А что там за история со «шпаниолем»?
Госпожа Магдалена снова ощутила страх. Жестокосердый и упрямый придворный капельмейстер медленно наклонился к ней.
Её губы дрожали.
— Батюшка... — она с робостью и не сразу выговорила это слово, — батюшка, я не виновата в том, что у малыша...
— Что у него?..
— ...такое красноватое, смуглое лицо. — Она чуть развернула свёрток. — Будьте же милосердны! Вы не вправе отбирать у меня моего ребёнка.
— Все новорождённые поначалу так выглядят. — Госпожа Зикс подошла чуть поближе. — Вполне возможно, что со временем у него будет совсем другой цвет лица.
— У ребёнка? — Бетховен-старший резко повернулся. — Я бы этого не хотел! У меня ведь почти такое же смуглое лицо. Он его унаследовал от меня, своего деда, госпожа Зикс...
— Господин придворный капельмейстер?
И тут он заменил ещё кое-что:
— А цвет глаз у него такой же останется?
— С уверенностью этого никак нельзя... — попыталась было уклониться от ответа госпожа Зикс.
— Но он непременно должен остаться таким же! Эти серо-голубые глаза — мои! Итак, мы имеем красивые глаза и весьма оригинальный цвет лица, не правда ли, малыш? Он вообще очень хорошенький ребёнок, Магдалена. Ты уже выбрала ему имя?
Магдалена вздрогнула:
— Пока ещё нет, батюшка.
— Тогда, разумеется, его следует назвать Людвигом в честь меня! — Старик с силой ударил себя в грудь. — Людвиг ван Бетховен! Вы меня поняли?!
— Батюшка... — Магдалена просяще вскинула сложенные руки. Придворный капельмейстер не обратил ни малейшего внимания на её жест.
— Ух ты, какой червячок! — Он засунул указательный палец в кулачок малыша. — Поглядите на эти крошечные пальчики! Кем ты станешь, имея их, Людвиг ван Бетховен? Во всяком случае, для игры на фортепьяно они совсем не подходят. А на органе? Ну, а дирижировать он сможет?
— Сейчас он может только петь, — госпожа Зикс улыбнулась, — но только не басом, господин придворный капельмейстер.
— Басом, значит, нет. — Бетховен-старший задумчиво покачал головой.
Он осторожно убрал со лба невестки одну из тёмных прядей.
— Но волосы у него твои, Магдалена, если, конечно, этот мышиного цвета пух можно назвать волосами.
— Дорогой батюшка... — Роженица попыталась поцеловать его руку.
— Как, ты хочешь... — придворный капельмейстер не на шутку рассердился, — ...ко всему прочему ещё и поцеловать руку мне — человеку, который по отношению к тебе вёл себя как... как полный идиот? Ещё этого не хватало! — Он поцеловал ей руку: — Прости меня. Я же, в свою очередь, отблагодарю тебя зато, что ты сделала меня счастливым. — Внезапно его глаза расширились. — Ну, а как нам быть с Людвигом ван Бетховеном? — Придворный капельмейстер просто упивался этим именем. — А почему ребёнок так ворочается? Уж не заболел ли он?
— Он голоден и ищет грудь, — захихикала госпожа Зикс, — но ему ещё нельзя...
— Что вы понимаете?! — рявкнул на неё придворный капельмейстер. — Только совсем чуть-чуть, Лене, ты слышишь? Вы же не станете морить голодом Людвига ван Бетховена.
Из соседней комнаты послышался дикий вопль. Глаза Бетховена-старшего превратились в узкие щёлки.
— Теперь он вдруг пожелал выучить арию Дориндо, которая у него в последнее время совершенно не получалась. Госпожа Баум, будьте любезны, скажите ему, пусть немедленно прекратит орать! Я не хочу, чтобы тревожили моего внука. — Он внимательно посмотрел на госпожу Магдалену: — Да-да, я всё понимаю. Ты испытываешь страх, поскольку он порой буйствует всю ночь. Но сегодня ничего подобного не произойдёт. Госпожа Зикс, вы сегодня всё сделали для госпожи ван Бетховен?
— Да, господин придворный капельмейстер, теперь только завтра утром...
— Тогда уходите.
Тут вернулась госпожа Баум.
— Он обещал, что будет вести себя тихо.
— Прекрасно, — придворный капельмейстер важно кивнул, — а теперь вам также пора домой, госпожа Баум, чтобы утром вы чувствовали себя свежей и бодрой.
— А Магдалена?.. — попробовала робко возразить госпожа Баум.
— Это уж моё дело. — Придворный капельмейстер решительно махнул рукой. — Я оставлю гореть одну свечу и буду здесь караулить до утра.
— Но, батюшка, здесь же нет второй кровати! — воскликнула госпожа Магдалена.
— Спокойной ночи, госпожа Зикс, спокойной ночи, госпожа Баум, и огромное рам обеим спасибо.
— За что, господин ван Бетховен? — спросила госпожа Баум.
— Ну, если вы... хорошенько поразмыслите...
Он задул почти все свечи.
— Мне вполне достаточно старого кресла с высокой спинкой, дитя моё. Я поставлю его рядом с вами. Но сперва я принесу дрова.
— На кухне пока есть, батюшка.
— Тогда мы их отправим в печь. Утром я раздобуду ещё поленьев. — Он подбросил дров в огонь и снял с кресла покрывало.
— Как ты вообще выносишь этого человека, Магдалена?
— Я люблю его.
— Он мой единственный сын, и потому я тоже... мы вполне понимаем друг друга, Магдалена.
Придворный капельмейстер придвинул кресло поближе:
— Мне здесь хорошо и уютно, а вот не будет ли тебе холодно?
— Нет-нет.
Старик снова встал:
— Вот, возьми мой плащ на подкладке, я наброшу его... на вас обоих.
— Ваш парадный плащ, батюшка?
— Никаких возражений! В конце концов, ты мать Людвига ван Бетховена, но... взгляни на этого крошечного дурачка! Эй ты, это ведь плащ человека благородного звания, придворного капельмейстера! Однако, Лене, это не производит на него ни малейшего впечатления.
Сам он закутался в покрывало и ещё раз взглянул на свою невестку и на высовывающуюся из-под роскошного ярко-красного плаща маленькую головку.
— Спокойной ночи, Магдалена. — Он улыбнулся. — И пусть будет спокойной также твоя первая ночь... под парадным плащом, Людвиг ван Бетховен.
Маленький, впервые увидевший мир человечек сразу же оказался брошенным в вихрь жизни.
— Послушай, Магдалена! Пусть всё принадлежит Людвигу, и если вдруг случится так, что я... правда, никогда не знаешь, когда это случится... — Старик запнулся, однако твёрдо решил стоять на своём и продолжил: — Тогда тебе придётся присматривать за Иоганном... ты понимаешь меня, Магдалена?
Она тяжело вздохнула:
— Как это горько, что нам вот так приходится говорить о нём.
— Ведь, в сущности, он совсем неплохой человек. — Придворный капельмейстер кивнул. — Он и довольно хороший певец. У него красивый тенор, но... — Он пожал плечами. — Мы здесь все свои. Из-за постоянного пьянства голос у него начал дребезжать.
Магдалена ужаснулась:
— Батюшка!..
— Да, да, с этим весьма одарённым человеком с великолепным голосом действительно беда, и дело в ужасном пороке, унаследованном им от матери. Но что значит унаследовал? Это не снимает вины ни с него, ни с моей жены. Это началось, когда все наши дети, кроме Иоганна, умерли. Она начала заливать горе вином и конечно же...
Тут перед его мысленным взором предстал монастырь. Его пьяная жена вела себя в Бонне настолько ужасно, что курфюрст лично дал равнозначный приказу совет поместить в него госпожу ван Бетховен.
— Человек не вправе судить кого-либо, и я этого не делаю, — после нескольких минут раздумья произнёс он, — однако, на мой взгляд, горе и беда никак не могут служить оправданием любых гнусностей. А какое уж такое горе довелось пережить Иоганну?
Магдалена ещё раз вернулась к приведшим её в ужас словам старика:
— Вы так добры ко мне, батюшка.
— К чему мне презренный металл? — небрежно отмахнулся он. — Но дай же мне, наконец, парня, Лене. Я хочу показать ему его наследство. Пусть знает, какие ценности и векселя окажутся однажды в его распоряжении.
— Но, батюшка, Людвигу всего лишь три недели от роду, и в этом возрасте дети даже толком ничего не видят.
— Кто? Людвиг? — возмутился придворный капельмейстер. — Ничего не видит? Уверяю тебя, у него уже сейчас рысьи глаза! И он понимает каждое слово! Да он смеётся над тобой, от души смеётся. Точно-точно, он уже умеет смеяться. Нет, ну, сказать такое о Людвиге. — Он посмотрел на Магдалену: — А почему ты, собственно говоря, никогда не улыбаешься, Лене?
— Я?
— Ты, ты...
Он окинул пристальным взглядом стройную фигуру женщины, её красивое лицо, которое ничуть не портил крючковатый нос.
— Я никогда не видел тебя улыбающейся, и все на этой улице, где живут музыканты, согласятся со мной. Я вполне понимаю тебя, дитя моё, и, наверное, я бы тоже никогда уже в жизни не улыбался, но с тех пор, как на свет появился этот малыш, я снова начал улыбаться — и ты также, Людвиг, не правда ли? И тебе, третьему члену нашего союза, Лене, ничего не остаётся, как только присоединиться к нам.
— Я так и сделаю... — Грустные глаза Магдалены медленно наполнились слезами.
— Забудь о том, что пьяница снова обвинил тебя в супружеской неверности, а Людвига обзывал шпаниолем. Это не должно нас тревожить, не так ли, Людвиг? Особенно сейчас, когда у нас есть гораздо более важные дела.
Он взял внука на руки и принялся расхаживать с ним по комнате.
— Вот здесь, к примеру, шпаниоль, висит очень ценная вещь, с которой ты должен обращаться очень бережно. Это гобелен работы лучших фламандских мастеров. На нём вышито изображение святой Цецилии. Покровительница нашей семьи играет на музыкальном инструменте, и я надеюсь, что ты также станешь музыкантом, месье Людвиг ван Бетховен. Гобелен я заказал в память о моей родине и родительском доме, хотя нет, второе отпадает... да, и я хотел бы сделать так, чтобы у тебя было гораздо счастливее детство, чем у меня. В витринах выставлен мейсенский фарфор, он нынче самый дорогой, а там, в сундуках, лежат тончайшие ткани. Любую из них ты можешь продеть сквозь кольцо. Вон те стулья со странными ножками — головами дельфинов — стоили немалую часть моих честно заработанных денег. Теперь взгляни на столешницу с изображениями львов, слонов, оленей, а также охотников, собак и деревьев. Это называется инкрустацией, а кто это вон там? — Старик горделиво улыбнулся: — Это тоже шпаниоль! Твой дед, у него такое же смуглое лицо. У тебя оно чуть более красноватое, но это от матери, подбавившей нежный оттенок в нашу природную смуглость. Но прежде всего у нас, двоих Людвигов, есть замечательные поварские колпаки. — Он немного постоял в раздумье. — Если бы ты мог читать, я бы показал тебе мои бухгалтерские книги и ты бы узнал, что я зарабатывал деньги не только торговлей вином. И узнал бы, какие значительные суммы надлежит ещё взыскать с должников. Но... — Он замолчал на мгновение. — Магдалена...
— Да?
— Поставь, пожалуйста, на стол эту шкатулку из эбенового дерева.
Магдалена наклонилась, подняла шкатулку и даже закряхтела от натуги:
— Какая же она тяжёлая.
— Правда? Вполне понятно почему. Чем набита шкатулка, шпаниоль? — Он откинул крышку: — Дукатами и талерами! Твоими и моими деньгами! Тебе нужна пара дукатов и талеров, шпаниоль? Надеюсь, ты не будешь возражать, если мы дадим их твоей матери? Только пусть она обещает нам, что ничего не скажет отцу. Бери, Лене, Людвиг разрешает.
— Батюшка! Целых десять дукатов! — Магдалена в ужасе прижала руки к груди.
— Тихо, не мешай нам. Взгляни на эту покрытую серебром громаду. Ею можно убить быка, но это всего лишь дирижерская палочка, но не обычная, а наградная. Её мне вручили в тот день, когда меня назначили почётным камергером. Тебе придётся изрядно поднапрячься, Людвиг ван Бетховен, чтобы сравняться с твоим дедом Людвигом ван Бетховеном. — Старик внезапно сдвинул седые брови и неодобрительно взглянул на Магдалену: — Что, ребёнок появился на свет немым?
— О чём вы, батюшка?
— Он же всё время молчит.
— Придёт время, и он будет вовсю лепетать, — на этот раз Магдалена рассмеялась, — но вам, батюшка, придётся года два подождать. Нет, ну надо же, представить себе, что, когда ребёнку даже трёх недель ещё нет... — Она опять засмеялась.
— Нам придётся матери кое-что добавить, не так ли, Людвиг? — Придворный капельмейстер задумчиво посмотрел на внука: — Мы, правда, сумели перехитрить её... но... смех её достоин по меньшей мере пятнадцати дукатов!
— Людвиг! Пресвятая Богородица! Да угомонишься ты или нет! Иоганн...
Стройный мужчина с выразительным лицом, — когда он выходил на сцену придворного театра, то так блистательно исполнял героические роли в оперных спектаклях, что не одно женское сердце начинало трепетать, — тихо засмеялся:
— Да, батюшка?
— Ты хоть представляешь, как нужно одевать такого крошечного, упрямого человечка, который к тому же ещё более вёрткий, чем скользкий угорь? Людвиг!
— Кэт сейчас придёт. Она должна ещё посветить на лестнице, чтобы мастера с их тяжёлыми инструментами не сломали себе шеи. Вот, она уже здесь. Лене конечно же слышала грохот — поди не услышь его! — но она ведёт себя молодцом. Она догадывается, что сейчас её обязанность — затаиться как мышь.
Людвиг замахал ножками и ручками, не позволяя Кэт прикоснуться к себе. Он сегодня был явно не в настроении.
— Ну, что ты будешь делать с этим непокорным созданием? — тяжело вздохнул старик и недовольно пробурчал: — Так, Кэт, а теперь уходи. Мы сами тут во всём разобрались, не так ли, Людвиг? Осталось лишь надеть красный плащик. Что? Ну, разумеется, ты накинешь его на себя! Ты же исполняешь сегодня свою первую роль, и выглядеть тебе надлежит, как канцлеру графу Бельдербушу собственной персоной. Всё готово, Иоганн?
— Всё. Балдахин уже установлен, и последний из музыкантов, ван дён Эден, уже здесь.
Дверь отворилась, и ван дён Эден осторожно просунул в комнату седую голову:
— На колокольне Святого Ремигия пробило девять. Мой певец в порядке?
— Да. — Придворный капельмейстер посмотрел на потолок так, словно это было небо.
Затем он снял внука со стола, где его подвергли процедуре одевания, сунул трепыхающийся свёрток под мышку и отнёс его в другое помещение, освещённое только дрожащим пламенем стоявших на пюпитре свечей.
Сидевшие кругом музыканты хотели было привстать, но придворный капельмейстер жестом остановил их:
— Тихо! Тихо! Ван дён Эден, спрячьте-ка младенца под рояль, чтобы он потом вылез оттуда, как карлик из паштета...
Людвиг даже закряхтел от удовольствия:
— Вот именно! Как карлик из паштета!
— Заткнёшься ты или нет, неслух ты эдакий!
— Ну, пойдём-пойдём. — Ван дён Эден положил Людвига под рояль.
Придворный капельмейстер вопросительно взглянул на музыкантов... Риз, Ридель, Хавек и Филипп Саломон, игравший сегодня вторую скрипку.
— Гусей, Бельдеровски, Вальтер... вы также готовы?
Оба альтиста и виолончелист дружно кивнули в ответ.
— Тогда... Иоганн, осторожно приоткрой дверь комнаты Магдалены. Внимание!.. — Придворный капельмейстер, словно произносящий заклинание волшебник, вскинул руки. — Начальный аккорд!
Смычки вздрогнули, виолончелист склонился над своим инструментом.
Через минуту парадно одетая госпожа Магдалена вышла из своей комнаты и невольно зажмурилась — уж больно ярким было пламя свечей.
Иоганн ван Бетховен подвёл её к почётному месту под балдахином.
— Завтра день святой Магдалены, и батюшка пожелал, чтобы в твои именины мы особенно хорошо сыграли и спели. Ведь завтра мы будем петь, Магдалена. На музыку Стамица[1].
Придворный капельмейстер, не переставая дирижировать, повернулся к ним:
— Разумеется, для таких целей разумно было бы обзавестись собственным домашним композитором, но мы, Бетховены, к сожалению, ничего не смыслим в сочинении музыки. Это, бесспорно, наш семейный недостаток, и тут уж ничего не поделаешь.
Госпожа Магдалена стояла с отрешённым видом до тех пор, пока не отзвучал последний такт. Затем она низко поклонилась музыкантам:
— Огромное спасибо.
Музыканты молча склонили головы, убрали ноты с пюпитров и составили их в круг, оставляющий проход для госпожи Магдалены. В середине придворный капельмейстер поставил скамейку для ног.
«А это ещё зачем?» — подумала Магдалена. Придворные певицы — обе они носили фамилию Саломон — лишь загадочно улыбнулись.
Номера концертной программы зачитал сам старик.
— А теперь, Магдалена, под аккомпанемент господина придворного органиста ван дён Эдена и именно на молоточном рояле...
— ...Который батюшка, естественно, подарил Людвигу...
— Не надо сейчас об этом, Иоганн, — резко оборвал сына придворный капельмейстер. — Во всяком случае, Магдалена, ты сегодня услышишь господина Людвига ван Бетховена, но не баса, то есть меня, а господина Людвига ван Бетховена сопрано. А ну-ка, иди сюда, карлик! Вылезай из своего паштета!
Маленький Людвиг вылез из-под рояля, дед, придерживая мальчика за плащ, осторожно поставил его на скамейку.
— Людвиг? — Магдалена даже вытаращила глаза.
— Внимание! — произнёс стоявший возле рояля ван дён Эден и сыграл первые аккорды прелюдии. — А теперь Людвиг!
Еле стоящий на ногах малыш в красном плащике сложил на груди ручонки. Его чёрные волосы были растрёпаны. Он улыбнулся матери, и в потемневших глазах на красноватом личике отразились одновременно непостижимая грусть и восторг.
С трудом выговаривая отдельные слова, он запел тоненьким голоском:
Я вынужден покинуть тебя, Инсбрук, По улицам твоим Я еду на чужбину...Когда он закончил петь, воцарилась тишина. Затем старик улыбнулся и хриплым голосом сказал:
— Для канарейки у него нет никаких данных. Поёт он скорее как жаренный на вертеле цыплёнок. И всё же разве у него плохо получилось, Магдалена? Две недели тому назад я выяснил, что у него есть определённые способности, и пару раз спел ему свою любимую песню. Всё-таки он взял правильный тон, не правда ли, ван дён Эден?
— Истинно так.
Дедушка взметнул внука в воздух и посадил его на колени матери:
— Держи своего жареного цыплёнка. Ну, как сюрприз?
— Людвиг! — Магдалена прижала мальчика к себе. — Но ведь ты прекрасно пел, Людвиг. Правда, Иоганн?
— Правда. — Он ласково погладил жену по голове и, склонившись к её уху, прошептал: — А я тоже хочу сделать тебе сюрприз и подарить к именинам совершенно нового мужа.
— Но если так, Иоганн...
Людвиг прыгал на коленях матери с криком:
— Дода! Дода! Дода!
Однажды придворный капельмейстер посадил внука на плечо и спустился к берегу Рейна. Когда паром отчалил, Людвиг благодарно прижался к дедушке лицом и с неимоверным усилием произнёс: «Дода».
Дед пристально посмотрел на него:
— А ну-ка, будь любезен, ещё раз.
— Дода...
— Выходит, твоё самое первое слово относится ко мне! Дода! Для меня это самое почётное звание, я горжусь им больше, чем членством в Гильдии почётных граждан и должностью придворного капельмейстера...
— Пожалуйста, Дода, расскажи историю про карлика.
— Ах ты, мой мучитель. Ну, хорошо, раз я уже обещал. Мы ведь с ним как договорились. Если он хорошо споёт мою любимую песню, я в награду расскажу ему его любимую историю про паштет и карлика. Итак, слушай... Наш прежний его высочество курфюрст приказал как-то подать на стол гигантских размеров паштет, и всем придворным дамам и кавалерам предстояло угадать, что у него за начинка. Один предположил, что там маленькая косуля.
— Бедняжка... — тяжело вздохнул Людвиг.
— Но как тебе известно, там была вовсе не она. Никто не мог угадать, но вдруг хоп... и оттуда выскочил карлик и вот так церемонно поклонился...
— Хоп, и вот так вот. — Людвиг, подобно деду, также изобразил поклон.
— Но во всяком случае, сегодня ты прекрасно начал. Не так ли, Магдалена? А теперь давай-ка уложи твоего маленького певца спать.
— Нет, Дода! — негодующе воскликнул Людвиг.
— А ну-ка, уводи его, Магдалена. И не жди от нас пощады. Пусть тебе снятся хорошие сны, достопочтенный карлик, сопрано и жареный цыплёнок Людвиг ван Бетховен.
Маленького Людвига интересовало буквально всё.
Вот, например, воды Рейна. Спокойные, озарённые солнечным светом, они вдруг начинали бурлить, выбрасывая грязные противные брызги.
Паром ходил по реке туда, сюда, и дедушка, сидя с Людвигом на палубе, показывал ему пёстрые дома и вымощенные булыжником улицы, замок и церкви Бонна, названия которых Людвиг вскоре уже знал наизусть: церковь Святого Ремигия, где его крестили, собор, придворная церковь, церкви Святого Мартина и Святого Гонгольфа и так далее.
Или дедушка рассказывал ему на пароме историю о Драконьей скале. Людвиг мог сколько угодно раз слушать её, но обычно тут вдруг мать начинала плакать или, что ещё хуже, сидела с застывшим лицом. Людвиг понимал, что она с тревогой ждала отца.
Мальчишки на улице теперь кричали ему вслед «Шпаниоль». Об этом прозвище они, по мнению матери, узнали от рыботорговца Кляйна. Всему виной было его смуглое лицо. Шпаниолями назывались потомки изгнанных из Испании евреев, и это прозвище отнюдь не считалось оскорбительным.
Как-то он отправился к «Доде» в одиночку, ибо мать и Кэт были очень заняты. Ведь был Сочельник.
Им с дедушкой также предстоял очень тяжёлый день. Сперва им предстояло долго репетировать, а ночью...
Дедушка прямо сказал:
— Если ты после репетиции хорошо выспишься, ночью я возьму тебя с собой в церковь.
— А если я просплю?
— Я тебя разбужу.
Он всегда держал своё слово. Мать, правда, пыталась возражать, но дедушка умел настоять на своём. Это был вынужден признать даже господин Луккези, хотя он пользовался благорасположением монсеньора за то, что сам сочинял музыку. А вообще что такое сочинять музыку? Накорябал что-то такое на бумаге — и готово. Как-то он сам явился к дедушке с несколькими исписанными листами:
— Дода, я тут кое-чего сочинил.
— А что именно?
— Симфонию.
Даже если ежедневно слышать это слово, произнести его тем не менее очень трудно.
— Ни одному из произведений Стамица с ним не сравниться. Подумать только — симфония Людвига ван Бетховена.
Выяснилось, что дело это довольно простое, и вот тогда-то в награду дед с ним отправился кататься на пароме.
Падал снег, было очень холодно, но мать хорошо укутала его, и потом, он уже не считал себя малышом. Ведь несколько дней тому назад ему исполнилось три года.
Несколько мальчишек с издёвкой кричали ему вслед:
— Шпаниоль! Шпаниоль!
Глаза Людвига засверкали от ярости. Мальчишки были гораздо старше его, всё равно он не побоялся бы вступить с ними в драку. Но ему ни в коем случае нельзя было опаздывать на репетицию. Дедушка терпеть не мог неаккуратных людей.
Он упрямо вскинул голову, придал лицу презрительное выражение и зашагал дальше. А вот и знакомый дом.
Он с трудом вскарабкался по высоким ступеням, и обычно, услышав звуки его шагов — туп! туп! туп! — дедушка открывал дверь. Но сегодня этого не произошло.
Он дотянулся до ручки, однако она выскользнула из его рук. Наконец дверь распахнулась, и он увидел дедушку, сидящего в кресле с высокой спинкой у окна.
— Добрый день, Дода.
— Добрый день. Извини, что не встретил тебя, но я так устал.
Людвиг опёрся локтями о колени деда и прикрыл смуглое лицо ладонями.
— Разве мы не пойдём на репетицию?
— Её перенесли. У нас ещё есть время.
— Тогда поспи немного, Дода. Я разбужу тебя. Скажи во сколько?
Придворный капельмейстер надвинул Людвигу шапочку-«блин» на нос и слабой дрожащей рукой погладил его по голове. Затем он посмотрел в окно на кружащиеся в каком-то загадочном танце снежинки.
— У меня отказывает сердце, но спать я не хочу. Об этом я ещё вчера сказал доктору, чьи микстуры мне не помогают. — Он вяло махнул ладонью. — Это всё из-за тебя, мой маленький Людвиг. Мне очень хотелось, чтобы у тебя было счастливое детство и чтобы ты жил как в раю. Извини, если не получилось.
Дедушка говорил сегодня довольно странно. И вообще, казалось, был чем-то встревожен. Внезапно он закрыл глаза, свесил голову набок, громко всхрапнул и замер.
Боясь его разбудить, Людвиг осторожно поставил рядом обитую бархатом скамейку для ног. Теперь ему нужно было внимательно следить за часами, которые, правда, усердно тикали, но стрелки двигались слишком медленно. На улице мерно падали снежные хлопья, было довольно красиво. Зато весной можно кататься на пароме.
Часы издавали один и тот же шепелявый звук.
Вдруг то ли оглушительно загремел маятник, то ли пророкотал сильный голос дяди Франца Ровантини, похожего сейчас на Деда Мороза и склонившегося в глубоком поклоне.
— Я пришёл по поводу нот...
— Дядюшка Франц! — Людвиг вскочил с виноватым видом. — Я тоже заснул, но теперь мы должны...
— Господин придворный капельмейстер!..
Ровантини схватил старика за руку и тут же опустил её. Она безвольно повисла.
— Пойдём...
— Но мы же с Додой собрались на репетицию, — попытался было возразить Людвиг.
— Нет, мальчик. — Дядя Франц резко покачал головой. — Он... заснул. Навсегда. Он умер.
— Умер? Но как же так? Он ведь хотел... — глаза Людвига медленно наполнились слезами, — ...весной покататься со мной на пароме. Мы твёрдо договорились.
— Пойдём, малыш. Твой добрый дедушка умер.
— Дода!.. — во всё горло закричал Людвиг, но, видимо, действительно произошло нечто ужасное, так как дедушка ему ничего не ответил.
Молодой скрипач, которого в придворный оркестр привела надежда быть зачисленным в штат, взял мальчика за руку.
— Взгляни на него на прощанье, Людвиг. И будь всегда таким же добрым и честным, как твой дед. Ибо ты теперь последний Людвиг ван Бетховен.
Вскоре они перебрались с Боннгассе в так называемый «Треугольник».
Но там они жили очень недолго, поскольку квартира оказалась ещё хуже предыдущей, и они вскоре поссорились со сварливыми соседями. Затем нашли себе новое жильё.
— Ты только посмотри на Людвига. — Он подошёл кокну. — Ну надо же, пытается щёлкать большим бичом.
— А теперь извозчик даже позволил ему подержаться за поводья. — Она потёрлась о его щёку.
Иоганн нежно поцеловал её.
— Итак, дорогая, за новую жизнь.
— Людвиг!.. — Магдалена заткнула уши.
— Его манит то, что теперь называется акустическим эффектом, — улыбнулся Иоганн. — Музыка особенно громко звучит в пустом помещении, где полы ещё не устланы коврами, а на окнах нет штор.
Он наклонился к сложенным штабелем картинам и взял одну из них.
— Там будет самая настоящая музыкальная комната, мы откроем нечто вроде салона и будем устраивать домашние концерты. На прежних квартирах с их тесными убогими комнатами такое было просто невозможно... — Он отнёс картину в соседнюю комнату. — А ну-ка, чуть подвиньтесь, господин виртуоз.
Но Людвиг, похоже, даже не заметил, что отец отодвинул его в сторону и прошёл мимо, держа в руках лестницу и картину. Он сидел с выпученными глазами у рояля и яростно бил пальцами, а порой даже кулаками по клавишам.
Стройный мужчина влез на лестницу и прислонил картину к стене.
— Так, Магдалена?
— Место выбрано очень удачно, Иоганн. Посмотри, как твой достопочтенный отец внимательно наблюдает за Людвигом.
Мальчик с силой ударил по клавишам и закричал, как безумный:
— Си-бемоль, фа-диез!
— Нет, он точно не Моцарт. — Иоганн ван Бетховен недовольно поморщился, — не вундеркинд в музыке. Придётся с этим смириться.
Глаза мальчика стали похожими на чёрные бриллианты. Он взглянул на портрет деда и принялся вновь с каким-то неистовым восторгом играть на рояле.
— Фа-диез мажор! — воскликнул он.
— Людвиг! Это просто невыносимо, — возмутилась госпожа Магдалена.
Но мальчик ничего не слышал, и тогда отец подошёл поближе.
— Фа-диез мажор, похоже, твоя любимая тональность. Ах ты, мартышка без слуха, что ты там себе воображаешь? Услыхал где-то названия нескольких тонов и тональностей и думаешь, что если ты барабанишь по клавишам и приговариваешь до или фа мажор, то так оно есть? Нет, в музыке дело обстоит далеко не так просто.
Он придвинул к себе стул и посадил Людвига на колени.
— Позволю прочесть тебе что-то вроде лекции. Начнём с небольшого фокуса. Давай стукнемся ладонями. Что ты слышишь?
— Папа!!
Тут Иоганн ван Бетховен услышал за спиной шаги и резко повернулся.
— Ах, это ты, Цецилия.
Хорошенькая двенадцатилетняя девочка с поклоном присела:
— Родители велели вам кланяться и посылают в знак приветствия каравай хлеба и немного соли.
— Ты смотри, какой горячий. — Вышедшая в музыкальную комнату Магдалена с любезной улыбкой взвесила на ладонях подарок.
— Прямо из печки. — Цецилия робко посмотрела на рояль. — Неужели такой малыш...
— Ну, разумеется. — Иоганн ван Бетховен спустил Людвига на пол и встал, — наш Людвиг — гениальный музыкант, и вы ещё установите на доме, где он живёт, мемориальную доску. Передай родителям? мою благодарность, Цецилия. А теперь я должен расставить кровати, иначе нам придётся сегодня ночью спать на полу.
— А мне пора в лавку. — Девочка ещё раз сделала книксен.
Когда отец ушёл в спальню, Людвиг схватил мать за руку:
— Пойдём, мамочка.
— Куда, Людвиг?
— К роялю. Играй.
— Но я не умею.
— Ты... не умеешь... играть на фортепьяно?
Это оказалось одной из первых непостижимых загадок в его жизни.
Новорождённый кричал, а в музыкальной комнате, двери которой были открыты, со злостью били по клавишам.
— До... до... Да пропади всё пропадом!
— Людвиг!
Мальчик разговаривал с портретом деда. Он довольно часто обращался к нему.
— Ты же сам слышишь, Дода. Ничего не поделаешь. До... да.
— Перестань кривляться, Людвиг.
Мальчик осторожно приблизился к кровати матери. Она с болезненной гримасой сморщила полные губы.
— Кривляться? Я проверял силу голоса Карла. Ведь дедушка именно так поступал с певцами и певицами в Доксале. — Он пренебрежительно махнул рукой. — И Карл позорно провалился. Нам в придворной капелле он совершенно не нужен.
— Ах ты, негодник!
Но госпожа Магдалена произнесла эти слова без особого гнева. Было уже поздно, и потом, сегодня торжественный ужин по случаю крещения...
— Людвиг, а ну-ка, быстро в постель. И позови Кристину.
На лестнице послышались быстрые, уверенные шаги. Это, несомненно, был Иоганн.
Сегодня он был одет в придворный парадный костюм — фрак цвета морской воды и зелёные штаны до колен с серебряными пряжками. Белый шёлковый жилет перетянут тонким золотым поясом, парик выгодно подчёркивал резкие черты лица, густая шевелюра безупречно подстрижена. Зажатой в руке шляпой он описал круг и сделал изящный поклон.
— Пардон! Может быть, мадам соизволит обратить внимание на придворного курфюрста и первого тенора Иоганна ван Бетховена.
— Ты так ничего и не выпил! — Магдалена счастливо улыбнулась.
— Не выпил! — Он гордо взглянул на потолок. — Эта невежественная особа говорит «не выпил». Пресвятая Дева Мария! Гром и молния! Прах вас всех разбери!
— Я умоляю тебя, Иоганн. Людвиг уже, как попугай, повторяет за тобой страшные ругательства.
— Вот как? Дьявольщина, меня это радует. «Не пил»! Да я даже ничего не пригубил, хотя праздновали крещение не кого-нибудь, а моего сына. Хотя его крёстный отец, господин первый министр и канцлер граф Бельдербуш, и крёстная мать, настоятельница монастыря в Билихе Каролина фон Затценхофен, пили за благополучие семьи ван Бетховен. Граф Бельдербуш даже выразил надежду, что хотя бы один из мальчиков станет хорошим гобоистом, ибо в настоящее время в его собственном оркестре таковой отсутствует, а настоятельница преподнесла пакет со всевозможными сладостями.
— Где он? — Людвиг стремглав выбежал из угла комнаты.
— Ах... — Иоганн ван Бетховен с размаху ударил себя по лбу. — Я забыл его в замке.
— Папа! — разочарованно вздохнул Людвиг.
— Ах ты обжора! — Отец схватил Людвига и подкинул его. — Ах ты бездарь музыкальная! Разумеется, я не забыл пакет, а просто оставил его в прихожей, чтобы немного подразнить тебя. Пойди забери его, а то ещё, чего доброго, кошка сожрёт!
Он поставил мальчика на пол и посмотрел на его руки.
— Опять на них мука. А всё потому, что он не вылезает из пекарни Фишера. Может, ему лучше стать пекарем?
— Хорошо. Но умоляю, не называй его музыкальной бездарью, Иоганн. Раньше он так уважал отца, а теперь лишь обезьянничает и повторяет за тобой громкие слова и ещё... твою брань.
— Ты даже не представляешь, какой это был день, Магдалена. Когда в церкви граф Каспар Антон фон Бельдербуш и настоятельница Каролина фон Затценхофен держали на руках своего крестника Карла, я, Иоганн ван Бетховен, был счастлив, как никогда. Но это ещё не предел. Следующего нашего ребёнка будет крестить сам монсеньор. Или, ты полагаешь, он откажется?
На самом деле Иоганн прекрасно понимал, что такой высокой честью он обязан вовсе не своему таланту певца. Просто случайно застал монсеньора и считавшуюся среди его любовниц бесспорной фавориткой настоятельницу в самый неподходящий момент, и её согласие было своего рода платой за молчание. Разумеется, граф Бельдербуш что-то подозревал, но не осмелился противиться приказу своего повелителя.
Иоганн присел на край кровати и широко раскинул руки. Шпага мешала ему, он отстегнул подвешенные на серебряной цепочке ножны и небрежно швырнул их на половик.
— Итак, я хочу ещё мальчика, чтобы курфюрст стал его крёстным отцом, а ещё двух девочек с твоими глазами. — Внезапно он сурово насупил брови: — Надеюсь, я стану преемником отца, если, конечно, этот проныра итальянец Луккези всеми правдами и неправдами не сделается любимчиком монсеньора. К сожалению, он... умеет сочинять музыку.
Послышался стук в дверь, и через несколько минут в комнату вошла совсем ещё юная, несколько неуклюжая девушка:
— Господин придворный музыкант, вам письмо.
— Давай его сюда, Кристина, и убирайся.
Иоганн стал читать письмо, и руки его вдруг задрожали.
— Что случилось?
— Ну надо же! Именно сейчас! Мать сбежала.
— Из монастыря? Из Кёльна?
— Пишут, что калитка была открыта и она, видно, отправилась к нам. Мы должны вернуть её обратно.
Они не подумали, что маленький Людвиг уже давно находился в комнате. Он сидел в углу с пряником в руке. Теперь он спросил:
— Твоя мама — это моя бабушка, папа?
— Да, — рассеянно ответил отец.
— Но ведь она умерла? — продолжал допытываться Людвиг.
— Да-да-да! — истерически рассмеялся Иоганн ван Бетховен. — Она умерла, но вот сейчас, именно сейчас воскресла!
Маленькому Людвигу предстояло проникнуть в новую тайну их жизни. Его детский ум пытался по-своему разгадать эту загадку.
Давно умершая бабушка вдруг взяла да и ожила? Если такое может быть, значит, Дода тоже?..
Он даже вздрогнул от радости и тихо, почти беззвучно рассмеялся, чтобы не выдать себя. Его вечно взлохмаченные волосы встали торчком от восторга и страха перед чем-то таинственным.
Утром, пока Кристина одевала его, Людвиг просто изнывал от нетерпения. Затем он с заговорщицким видом хитро подмигнул портрету деда и зашагал по направлению к кладбищу.
В этот ранний час никого ещё не было у могил. Цветы в стоявшей на могильном холме глиняной урне поникли, а над озарённым тусклыми лучами солнца могильным камнем громко жужжала пчела.
Людвиг долго ждал, надеясь на чудо, а когда так ничего не произошло, уныло поплёлся домой. Он ещё более погрустнел, увидев на лице матери следы слёз. Всё было как-то странно и очень грустно.
— Неужели с бабушкой что-то случилось, мамочка?
— Нет, ничего, сынок.
Весь день прошёл под знаком «ничего», которое, казалось, таилось во всех углах. Мать постоянно прислушивалась к этому слову, и даже Кристина, вытирая тарелки, казалось, высматривала в окно на улице «ничего».
После обеда пошёл сильный дождь, а отец вернулся домой только поздно вечером. Он раздражённо швырнул на стул насквозь промокший плащ.
— Где ты был, Иоганн?
— Везде. — Отец устало махнул рукой. — Даже немного постоял на пароме. Никого. — Он осторожно взял жену за руку: — Прости меня.
— Иоганн...
— Пожалуй, это действительно возмездие. — Он тяжело повёл головой. — Отец предупреждал меня, что если я войду в семейство Кеверих... Нуда... ведь мы, Бетховены, — почти что аристократы.
Людвиг ничего не понимал, он слушал очень внимательно, стараясь запомнить все слова.
— Хочу спать. — Отец с силой встряхнулся. — Я замёрз и очень испачкался. Да нет, не возражай, я знаю и чувствую, что... очень грязен, госпожа Магдалена ван Бетховен, урождённая Кеверих. Ты-то как раз очень чистая...
Паром! Ну конечно же паром!
Как же он об этом раньше не подумал!
Ведь Дода в одиночку тайком уплыл на пароме, и конечно же ожившие покойники возвращаются тоже на нём...
Уже на следующий день Людвиг оказался на берегу Рейна, до которого теперь было совсем недалеко. Он от души радовался, что наконец сумел ускользнуть от зорких глаз Кристины.
Паром как раз причалил, и тут произошёл довольно комичный эпизод, до слёз рассмешивший пассажиров и перевозчиков.
Пьяная старуха, шатаясь, сделала несколько шагов по трапу и с громким всплеском плюхнулась в воду.
Один из перевозчиков с бранью и смехом зацепил её багром и как тюк мокрого белья вышвырнул на берег.
— Ванна пойдёт тебе на пользу, — с откровенной издёвкой произнёс он.
— Бла... благодарю, месье, — заикаясь, пробормотала женщина, вытащила из сумки, которую она не выпускала из рук даже при падении, бутылку водки, отхлебнула от неё, шумно выдохнула, взглянула остекленевшими глазами на растёкшуюся под ней лужу и заорала на уличных мальчишек: — Пошли прочь, мерзавцы!
Мальчишки радостно били руками и ногами по луже, и старуха вновь принялась угрожать им:
— Я вд... вдова придворного капельмейстера ван Бетховена, так-то вот, к вашим услугам, и я немедленно позову моего сына, придворного музыканта и тенора Иоганна ван Бетховена, так-то вот, ван... ван Бетховена...
Проходивший мимо солидный пожилой господин на мгновение остановился, а затем резко приказал перевозчикам:
— Немедленно прогоните этих сорванцов.
— Будет исполнено, господин надворный советник! — в один голос рявкнули перевозчики.
— А ты... ты подойди ко мне, малыш.
Отбежавшие в сторону мальчишки нашли себе новый объект для насмешек.
— Шпаниоль! А это его бабка! — дружно завопили они.
Людвиг, не обращая никакого внимания на обидные выкрики, робко улыбнулся незнакомому господину.
— Неужели это моя бабушка?
У склонившегося к нему высокого мужчины были светлые добрые глаза. Он осторожно взял Людвига за руку и, чуть помедлив, ответил:
— Она очень больна, и мы должны...
— Больна?
Людвиг презрительно выпятил широкие губы и возмущённо сказал:
— Она не больна, а пьяна. Папа тоже иногда бывает таким.
— Пойдём, я отведу тебя домой. — Надворный советник ловко посадил Людвига на плечо. — Где вы живете?
— Теперь на Рейнгассе. Я покажу дом.
— Хорошо, но ведь тебя зовут Людвиг, как твоего дедушку, не так ли?
— Да. — И он повторил слова отца, сказанные накануне вечером: — И мы, Бетховены, — почти что аристократы.
Уставшая «праздновать роды» Магдалена встала, оделась и, проходя по комнате, мельком взглянула в большое зеркало. Оттуда на неё смотрело незнакомое лицо.
Она ещё больше похудела, но в глазах было спокойствие и умиротворение. Карл родился здоровым ребёнком, а Иоганн бросил пить.
Квартира у них была довольно уютной, однако у Магдалены появилось ощущение, будто она очень вовремя вернулась из долгой поездки — в убранстве её совершенно не чувствовалось опытной женской руки. Теперь нужно было хотя бы вытереть пыль и почистить ковры.
А где Людвиг?
Она подошла к окну. Нет, во дворе среди играющих с куклами девочек его, конечно, не оказалось.
— Людвиг!
В ответ молчание.
— Кристина!
Никакого ответа. Может быть, она с ним?..
На лестнице послышались осторожные шаги, и вошедшая в комнату Цецилия, как обычно, сразу же сделала книксен.
— Уже изволили встать, госпожа ван Бетховен?
— Попробовала. — Магдалена печально улыбнулась. — Ты не видела Людвига?
— Он в амбаре, куда я отнесла корм для кур. — Цецилия чуть приподняла миску с горсткой зерна. — Стоит там и высматривает сквозь чердачный люк паром. Такой странный, молчит, на вопросы не отвечает. Привести его?
— Будь так любезна, Цецилия. Мне пока ещё трудно спускаться по лестнице.
Через несколько минут Цецилия привела мальчика. Госпожа Магдалена тут же отвела его в гостиную и посадила к себе на колени.
— Ну, хорошо-хорошо, я понимаю, тебе было очень тяжело, ты был, по сути, совершенно один, но теперь всё позади, и я снова смогу позаботиться о тебе. Но скажи, почему ты в последнее время так редко подходил ко мне? Может, ты решил, что теперь я люблю только твоего брата?
Он замотал головой.
— Или это из-за бабушки?
Вполне возможно. Во всяком случае, сейчас Людвиг был совсем не похож на себя.
— Я всё тебе расскажу. Твоя бабушка перенесла много горя. Почти все её дети умерли, и единственный, кто выжил, был твой отец. С горя она начала пить, и Дода был вынужден отправить её в монастырь. Поэтому мы говорим о ней как о покойной.
— Значит, она не умерла? — Людвиг недоверчиво сощурился.
— Нет, и отец отвёз её обратно в монастырь. Там ей хорошо.
Он недоверчиво скривил рот.
— Нет, ей на самом деле там хорошо, Людвиг, поверь мне. — Мать погладила его по лбу и тут же отдёрнула руку. — Да ты весь горишь. Как я сразу не заметила, что у тебя такое красное лицо.
— Я же шпаниоль, мамочка, — невольно вырвалось у Людвига.
— Тихо, он спит. Сходить за врачом? — Любезная толстощёкая госпожа Фишер на цыпочках подошла поближе. — Дайте-ка я посмотрю на его сыпь.
— То ли скарлатина, то ли корь. — Магдалена осторожно откинула одеяло и ласково погладила Людвига по голове. — Бедняжка, я в эти дни никак не могла позаботиться о тебе. Кто знает, как долго он носил в себе болезнь!
— Успокойтесь. Сыпь может ничего не значить, а температура у детей проходит, как летний дождь.
На следующий день вечером госпожа Фишер снова зашла в квартиру Бетховенов.
— Ну, как там наш пациент?
— Сыпь прошла. Только Людвиг ещё довольно вялый, и у него совершенно нет аппетита. Думаю, он только притворялся больным, хотел, чтобы мать приласкала его. Ну, ничего, я завтра заставлю его встать. И пусть не ждёт пощады.
— Ах, это ты, Цецилия. — Госпожа Фишер обернулась, заслышав шум шагов.
— Можно я вечером прогуляюсь с Карлом до Рейна?
— Я тоже хочу. — Людвиг попытался было встать.
— Ещё чего выдумал. — Мать сильным толчком заставила его снова лечь. — Сегодня нет. Будь умницей.
— Но Дода ждёт меня на пароме! — Людвиг заворочался в кровати и прижал ладони к вискам. — Он зовёт меня к себе!
— Что-что-что?.. — Лицо Магдалены стало белым как мел. — Ой, у него опять жар. И снова сыпь выступила.
Госпожа Фишер какое-то мгновение внимательно смотрела на мальчика. Глаза её округлились и застыли, она одёрнула юбку и поправила шаль.
— Бедного мальчика нужно срочно отправить в больницу.
— Никогда.
— Теперь я вижу, что у него за болезнь, — тяжело вздохнула госпожа Фишер. — Вы только посмотрите на его покрытые пятнами лоб и руки. Скоро у него всё тело будет таким. А на пятнах образуются узелки. Нет, нет, немедленно в больницу, иначе он заразит весь дом.
— Бог мой, госпожа Фишер, что вы такое говорите?
— У него чёрная оспа.
Магдалена отчаянно вскрикнула, а затем упрямо заявила:
— Я останусь с ним здесь одна. Поставьте у порога миску и кладите туда немного еды. Но только не прикасайтесь к ней... И я очень прошу вас, госпожа Фишер, никому ничего не говорите.
— Хорошо, пусть это останется между нами.
Магдалена проснулась, когда уже занимался рассвет и с улицы доносилось щебетание птиц.
Звал ли её Людвиг? Жив ли он ещё? Она так ослабела и устала, что забыла о своих обязанностях и крепко заснула.
Озарённые светом догорающих свечей веки Людвига чуть дрогнули. Его необычайно мощная для маленького мальчика грудь мерно вздымалась и опускалась, подобно кузнечным мехам. Коричневые пятна уже покрывали всё лицо, губы, шею и частично тело.
Она повернула голову и замерла.
Вот уже несколько недель она в страхе ждала этой минуты и теперь, заслышав грохот в прихожей, обречённо поникла головой, а затем с неожиданной силой распахнула дверь:
— Не входи, Иоганн!
— А почему нет, ты... дочь повара. — Он с трудом оторвал своё массивное тело от перил и тупо уставился на неё. — Это мой дом.
— У Людвига заразная болезнь.
— Вот как? — Он выдохнул в комнату целое облако спиртных паров.
— Вспомни о своей должности, Иоганн.
— Да что ты вообще понимаешь в моей должности, служанка. — Он широко раскинул руки. — Я вообще больше не желаю служить развратнику-архиепископу и его новому придворному капельмейстеру лизоблюду Луккези. Вот почему...
— Говори тише, Иоганн. Не буди ребёнка.
— А почему это я не должен будить шпаниоля? Он потом может весь день спать, а мне придётся идти на службу. А вообще чихать я хотел на всех: на курфюрста, весь его род, а также на Кеверихов, милостивая сударыня.
Он рухнул на стул, свесил голову и захрапел.
Минуло ещё несколько дней и ночей.
Сжигаемый изнутри жаром, Людвиг метался в бреду, однако у него ещё сохранялись силы, и он не впал полностью в бессознательное состояние, способное рождать только новый бред.
Иоганн тоже метался и в пьяном виде также нёс бред. Больной ребёнок и пьяный муж были мельничными жерновами, растиравшими Магдалену в порошок.
Постепенно пятна начали исчезать, превращаясь в гнойнички, которые, словно навсегда желая остаться в памяти мальчика, довольно долго терзали его лицо и тело, но в конце концов лопнули один за другим.
Однажды утром Людвиг проснулся и слабым голосом позвал:
— Мамочка!
Она мгновенно оказалась рядом с ним.
Он лежал с открытыми глазами, бормоча:
— Дода... Дода...
Господи, неужели опять началось?
Но Людвиг только задумчиво произнёс:
— Что с ним? Почему он так долго не приходит ко мне? Что с тобой, мамочка? Ты одновременно плачешь и смеёшься...
Наступило долгожданное рождественское утро.
— Папа! — Людвиг зашлёпал босыми ногами по половицам, направляясь к столу, на котором уже почти всё было готово к торжественному завтраку. От стоявшей рядом печи исходило приятное тепло.
— Дай отцу поспать, неугомонное дитя. Он ведь очень поздно вернулся со всенощной.
— Но он же...
— Да пропади всё пропадом! — Иоганн ван Бетховен тяжело заворочался в постели. — Вообще-то на Рождество принято здороваться по-другому, ну, да ладно... Что угодно месье Людвигу?
— Покажи, как играть на ней. — Мальчик протянул ему подаренную в сочельник скрипку и смычок.
— Уж не знаю, играл ли кто-нибудь после сотворения мира в постели на скрипке. — Отец резко выпрямился. — Но вообще-то меня в высшей инстанции аттестовали как весьма способного скрипача.
Когда зазвучала музыка, внимательно наблюдавший за отцом Людвиг очень удивился.
— И это всё, папа? Значит, пальцами левой руки так, а правой...
— Пресвятая Богородица! — Отец схватился за голову. — И это твой сын, Магдалена, наш сын! Да он превзойдёт вундеркинда Моцарта! — Он соскочил с кровати. — Однако я голоден, и аппетит мой сегодня на Рождество превосходит по размерам придворную церковь!
— Пожалуйста, завтрак готов, бездельники. — Магдалена указала на стол.
Тут Людвиг в ярости воскликнул:
— Верни обратно скрипку, папа. У меня ничего не получается.
— Боже праведный, если бы ты сказал такое после десяти лет неустанных упражнений! Правда, Моцарт...
— А кто это, папа?
— В музыкальном мире он очень известен, — рассмеялся Иоганн. — В двадцать лет уже превосходно играл на скрипке и сделался даже придворным органистом архиепископа Зальцбургского[2]. То есть вершина его славы уже позади, но в твоём возрасте он так играл на клавесине, что императрицы и королевы даже целовали его. Одним словом, гений.
— А что это такое, папа? — Людвиг задумчиво наморщил лоб. — И если хорошее, я тоже хочу стать гением и Моцартом.
— Ах ты, мой маленький дурачок. — Магдалена ласково погладила его по голове. — Запомни, Моцартом нужно родиться. Ты же появился на свет Людвигом ван Бетховеном.
— А разве этого мало? — Людвиг вскочил, обежал вокруг стола и положил отцу руки на колени. — Когда начнём играть на рояле, папа?
— Да хоть сейчас. — Иоганн ван Бетховен, смеясь, поднялся со стула. — Готов дать тебе первый урок.
Он подвёл его к роялю, посадил на колени и сказал:
— Давай сыграем обеими руками «до». Бей по клавишам мизинцем левой руки и большим пальцем правой. Так, это называется октавой. Быстрее, мне скоро пора в Доксаль к достопочтенному господину Луккези. Играй, повышая тональность. Только не одним пальцем, а попеременно. Неужели не понятно? Или ты меня невнимательно слушаешь?
— А может, тебе не хватает терпения, Иоганн? — попыталась успокоить мужа Магдалена.
Но одна только мысль, что ему придётся петь в придворной церкви под началом Луккези, приводила Иоганна в дикую ярость.
— У меня не хватает терпения? Да Людвиг попросту нерасторопен и бездарен! А вообще мне пора к твоему дорогому придворному капельмейстеру Луккези.
Он вскочил и бросился к дверям, но на пороге остановился и оглянулся. С каким удовольствием он дал бы сейчас жене оплеуху или даже сбил бы её с ног! Он вытянул дрожащие руки:
— Я, конечно, не Моцарт и, по твоему неавторитетному мнению, даже не Луккези, поскольку не умею сочинять музыку, эти дурацкие нелепые оперы. Сколько раз ты этим попрекала меня!
— Я — тебя?
— Но прямо скажу, я и не такая музыкальная бездарь, как твой Людвиг. Да он просто дерьмо!
— Ты вконец обезумел, Иоганн, если позволяешь себе так гнусно говорить о своей плоти и крови. Выходит, это твоя благодарность за ту... за ту ночь.
Дома в старинном городе, особенно на берегу Рейна, так плотно примыкали друг к другу, что походили на уложенные в ряд коробки.
За многие годы их сносили, обновляли, подстраивали, а поскольку дальнейшее расширение было невозможно из-за построенных когда-то на окраинах защитных валов, в черте города возник самый настоящий лабиринт.
От Гиергассе, где жили в основном мелкие придворные чиновники, в том числе семья Бетховен, длинный переход вёл к стоявшему на Рейнгассе дому пекаря Фишера. Сейчас возле него в сумраке стояли двое двенадцатилетних подростков. Они рассматривали примыкавший к дому маленький сад с сочувственным превосходством людей, познавших все тайны земного бытия.
— Глупо, — пробормотал Бенедикт Бахем.
— Что ты хочешь от девчонок. — Его одноклассник Франц Вегелер презрительно пожал плечами. — А ведь нужно всего три раза раскачаться, чтобы коснуться пальцами ног крыши курятника.
Они охотно показали бы несчастным существам в передниках, как это делается, но считали ниже своего достоинства общаться с теми, кто ещё таскает с собой куклы. В саду маленький мальчик считал:
— Девятнадцать, двадцать! Всё, Цецилия, слезай. Теперь моя очередь!
Он кое-как вскарабкался на подвешенные слишком высоко качели и закричал во всё горло:
— Внимание!
— Ну, у этого маленького уродца точно ничего не получится, — усмехнулся Франц Вегелер.
— Давай подождём. — На добродушном веснушчатом лице Бенедикта Бахема появилось упрямое выражение.
— Но ему же не больше четырёх.
— Ему? Да он уже давно ходит учиться к господину Руперту на Нойгассе.
Франц Вегелер понимающе кивнул. На Нойгассе учились исключительно дети бедняков.
— А отец у него придворный музыкант. Могли бы, конечно, жить лучше, если бы он всё не пропивал.
— Ты говоришь о пьянице Бетховене? — быстро спросил Франц Вегелер.
— Да, а там на качелях его старший сын.
Людвиг втянул голову в плечи и стал похож на горбуна. Его чёрные волосы развевались на ветру, при каждом взлёте качелей он всхлипывал, но продолжал считать:
— Семнадцать!
Он с силой оттолкнулся ногой от края крыши курятника, раскачался, ловко спрыгнул с качелей и крикнул одной из девочек:
— В следующий раз у меня это получится уже на пятнадцатом толчке.
— Людвиг!
Мальчик замер, затем медленно повернул голову и вгляделся в окна второго этажа.
— Ты уже упражнялся на рояле?
Людвиг ничего не ответил. Его смуглое лицо сразу посерело, губы задрожали.
Зазвонил церковный колокол, но его звуки не заглушили шагов мальчика, понуро идущего к дому.
Во дворе всё было отлично слышно.
— Быстро скамейку, Людвиг.
— Зачем? — спросил Франц Вегелер.
— Он сейчас подойдёт к окну, где стоит рояль. Но он пока ещё не может дотянуться до клавиш и потому должен встать на скамейку. А вот и он.
В окне показались чёрная шевелюра и худенькие плечи. Мальчик ещё раз взглянул на скамейку, словно желая убедиться, прочно ли она стоит.
— С какой тональности мне играть?
— Сперва до мажор две октавы и дальше по квинтовому кругу. Стоп. Левой ты плохо работаешь. Ещё раз до мажор. Что это?
— Тональность до мажор, батюшка.
— Неужели? — В голосе отца зазвучали визгливые нотки. — Сколько времени ты сегодня упражнялся?
Мальчик понуро свесил голову.
— Ну да, разумеется, ты предпочёл качели. Выходит, слово отца для тебя ничего не значит?
Иоганн ван Бетховен взмахнул тростью и обрушил на сына град ударов.
— А вон его мать, — испуганно прошептал Бенедикт Бахем.
— Это хорошо! Это очень хорошо! — Франц Вегелер в отчаянии сжал кулаки.
— Но она всё равно ничего не сможет сделать.
— Иоганн... — умоляюще произнесла госпожа Магдалена.
— Лучше заставь своего сына исполнять мои приказания! А теперь сонату Руста[3]... Видишь, Людвиг, когда хочешь, получается. Так, завтра час играть тональности, а вот здесь, — он порылся в нотах, — новая соната.
Вскоре стоявшие под окнами мальчики услышали, как он вышел из комнаты.
— Даже не вскрикнул, когда его били. — Франц Вегелер тяжело вздохнул. — Как можно играть на рояле, если тебя бьют. Я лично этот день никогда не забуду.
— Желаю вам светлого и благословенного утра, дети! — С этими словами учитель Руперт вошёл в классную комнату.
Дети дружно ответили на приветствие такими же словами, но Руперта это не устроило. Он схватил указку и с силой ударил ею по кафедре:
— А ну-ка повторить!
— Мы благодарим и желаем вам также светлого и благословенного утра, господин учитель.
— Вот так-то лучше. — Руперт взмахнул указкой, как дирижёрской палочкой. — А теперь мы, преисполнившись смирения, воспоём нашу утреннюю песню.
Он начал первым, и Людвиг вновь восхитился его музыкальным талантом. Руперт мгновенно находил нужную тональность, а голос его звучал так, словно он только что поел слив или выпил сырое яйцо.
Самому Людвигу это «превосходное средство» — так неизменно называл его отец и применял, когда собирался петь, — ничуть не помогало. Как-то он в курятнике Фишеров выпил подряд три тёплых яйца, а потом попытался спеть арию. Но голос его по-прежнему скрипел и дребезжал.
Госпожа Фишер, услышав, как куры не на шутку раскудахтались, пошла узнать, в чём дело, и едва не схватила Людвига за волосы...
— А теперь всем сесть! Продолжим наш цикл библейских историй. Сегодня я расскажу вам о...
Пока Руперт задумчиво рассматривал своих учеников, размышляя, что бы такое им сегодня рассказать, Людвиг обнаружил в нём сходство с петухом Фишеров. Правда, учитель расхаживал по проходу не с горделивым видом, а громко шаркая ногами, и вместо ярко-красного гребня у него на голове вились уже изрядно поредевшие волосы пшеничного цвета.
— Итак, дети, я расскажу вам сегодня о Каине и Авеле. Первый из них был младшим сыном Адама и Евы, второй — старшим. Авель был пастухом, а Каин — землепашцем. Однажды оба они совершали в поле обряд жертвоприношения, и дым от жертвы Авеля столбом поднялся в небо. Это означало, что Бог принял его жертву. С Каином же всё произошло совершенно по-иному. Бог не пожелал его жертвы, и тогда Каин в ярости убил своего брата, а труп закопал в землю.
Людвиг уже слышал эту историю от матери, но тем не менее вновь в ужасе закрыл глаза. Как вообще можно убивать брата?
— Но Господь всё видит, и потому из облаков тут же прозвучал его голос: «Каин! Каин! Где брат твой Авель?» И солгал Каин: «Откуда мне знать? Я не сторож брату своему». И разгневался Господь, и закричал на него: «Что сделал ты? Так будь же проклят, и пусть тебе на земле нигде не будет пристанища!» А чтобы люди знали о наложенном проклятии, Господь поставил ему на лоб отличительный знак — каинову печать. Людвиг, ты знаешь, что это такое?
Людвиг тут же вскочил с места и почувствовал, что весь класс как-то странно смотрит на него. Красновато-смуглый цвет лица, следы оспы, толстые губы и особенно бугристые наросты на лбу — ну, разве это не Божье проклятие?
— Пожар! Пожар!
Послышались тяжёлые удары в дверь. Топот множества быстрых ног слегка приглушал снежный покров, но вот они удалились, и уже издалека снова послышалось:
— Пожар! Пожар!
Кто-то отчётливо произнёс: «Замок горит», а другой голос не менее внятно ответил:
— «Мышь» загорелась с крыши. Я сразу увидел двигающееся яркое пятно, но подумал, что это камердинер со свечой в руках...
Налетевший ветер заглушил конец фразы. Людвиг лишь услышал:
— ...и тут огонь перекинулся на другую комнату...
«Мышью» называлась та часть замка, где жил курфюрст.
Другая его часть, именуемая «Кошкой», была предоставлена в распоряжение канцлера графа Бельдербуша. Граждане с усмешкой поговаривали, что «Кошка» следит за «Мышью» и не позволяет ей тратить непомерные деньги на роскошь, как это делали архиепископ и покойный курфюрст.
Мать уже стояла в дверях со светильником в руке. Струившийся от него слабый свет резко контрастировал с полыхавшим за окном заревом пожара.
— Людвиг, а ну-ка вставай и одевайся. Эй, Гертруда!..
Девочка в ночной рубашке вбежала в комнату, протирая на ходу сонные глаза.
Внезапно дом содрогнулся как от удара. Раздался страшный грохот, мать едва не упала. Гертруда закричала, а братья дружно заплакали.
— А ну, тихо. — Мать как-то умудрялась сохранять спокойствие. — Гертруда, хватит орать. Просто взорвались пороховые склады. Ну-ка, накинь чего-нибудь и давай одевай Иоганна. Карл, успокойся, я иду к тебе. Не нужно ничего бояться. — Она пристально посмотрела на Людвига: — Надеюсь, я могу на тебя положиться?
На улице ветер рассыпал искры. Из окон замка, казалось, вытянулись дрожащие красные руки, из пальцев которых клубами валил дым. По улицам бежали люди с вёдрами, обгоняя их, стремительно пронеслись пожарные повозки.
Колокола и барабанная дробь разом смолкли. Эти звуки были сейчас не нужны, ибо раскаты грома наверняка уже разбудили самого большого любителя поспать.
— Людвиг, когда оденешься, встань у окна и, если увидишь, что огонь движется сюда, сразу же зови меня. Я пойду в кухню, приготовлю для Карла и Иоганна горячую пищу.
Он кивнул, быстро оделся, окинул взглядом комнату и положил приготовленный с вечера ранец с тетрадями и учебниками на подоконник. Пусть он сгорит.
А что же для меня здесь самое ценное? Без сомнения, портрет деда. В музыкальной комнате он с тоской посмотрел на него:
— Тебя, Дода, я, конечно, возьму с собой.
Он перевёл взгляд на лежащие на рояле скрипки и громко захихикал:
— А вот вы останетесь здесь.
На рассвете Людвиг вышел из дома. Вслед за ним вышла Гертруда с Иоганном на руках.
Пламя уже перестало бушевать и походило теперь на развевающиеся на ветру жёлтые полотнища с чёрной каймой сажи. Буря усилилась, но так и не смогла вернуть небу его ослепительную голубизну. На окраине города медленно вставало окутанное дымкой солнце.
На улицах царила полнейшая сумятица. Люди с искажёнными лицами бегали взад-вперёд, и крики их чем-то напоминали Людвигу уносимые ветром клочья дыма.
— Большая мраморная лестница рухнула!
— Воды! Воды!}
— Теперь они пытаются со стороны Бишофсгассе...
— Воды...
— В колодцах ничего не осталось.
— Надворный советник Бройнинг приказал подать воды.
Качалки насосов скрипели и визжали. Люди вокруг тяжело дышали и кашляли. Но из насосов вытекали лишь тонкие струйки воды, и вёдра и бочки наполнялись очень медленно.
У дома Фишеров наступившую было тишину нарушило позвякивание дверного колокольчика. Из пекарни мгновенно появился сам хозяин, принеся с собой вкусный запах хлеба и ароматы кухни.
— О, Господь, Ты караешь меня за грехи. — Он с показным смирением устремил взгляд на потолок. — Беда одна не ходит. Что ж, придётся мне разместить у себя кое-кого из семейства Бетховен. Ну, как ваша новая квартира, Людвиг?
— Мы хотим, чтобы она сгорела.
Тут подошли госпожа Фишер и Цецилия. Девочка, узнав, что её любимцы временно поселятся у них, издала восторженный вопль и вместе с Карлом и Иоганном скрылась в доме.
— А наша квартира ещё свободна, мастер Фишер? — Людвиг взял из корзины посыпанный сахарной пудрой крендель и впился в него зубами.
— Вчера чуть было не сдал её, но люди мне не понравились.
— Тогда я хотел бы взять её в аренду. Я говорю по поручению родителей...
— Ну что, сдадим им? — Мастер Фишер с кислой миной посмотрел на жену.
— А что нам ещё остаётся? — с той же интонацией, глубоко вздохнув, ответила госпожа Фишер.
После переезда довольный Людвиг бросился на поиски отца.
Францисканергассе была уже перекрыта, и солдат дворцовой гвардии велел мальчику убираться прочь. Но тут удача улыбнулась Людвигу. Солдаты расступились, пропуская пожарных, пламя на какое-то время удалось сбить, а когда оно с новой силой вспыхнуло, Людвиг уже был по ту сторону развалин.
Картина поражала каким-то кошмарным великолепием. От замка остались только голые стены, из пустых оконных проёмов валил густой дым и сыпались искры. Портал, перед которым толпились пожарные, напоминал огромную тёмную пасть и одновременно казался входом в какую-то таинственную страшную пещеру.
Благородного вида человек, возвышаясь над окружающими, обращался к ним с проникновенной речью. Он стоял спиной к Людвигу, и голос его показался мальчику очень знакомым.
— Вам необходимо немедленно выступить. Готовы? А остальные зажгите факелы! Я пойду впереди. В маленьком дворе у дворцовой часовни передние направляют струю воды на её своды. Всё ясно?
Надворный советник поднял горящий факел и двинулся вперёд. Яркий свет дробился и переливался, отражаясь от портала. Внезапно звуки шагов заглушил грохот разваливающейся стены. Её верхняя часть как бы в нерешительности замерла, а потом с треском рухнула.
Через несколько минут из тёмного зева проёма выбежал Иоганн ван Бетховен с криком:
— Стена обрушилась на крышу павильона, и теперь они не могут выбраться! Нужно их откапывать.
Людвиг даже задрожал от счастья. Ведь отец показал себя таким храбрым и стойким. Тут мальчик вспомнил, где он впервые слышал голос надворного советника фон Бройнинга, и ринулся в страшный, опасный для жизни проход, чтобы помочь тому, кто однажды помог ему.
Первым мальчика обнаружил валторнист и музыкальный попечитель придворного оркестра Николаус Зимрок.
— Что тебе здесь надо, чертёнок?
— Хочу батюшке кое-что передать.
— И ради этого ты залез в пасть ко льву? Ну, хорошо. Твой отец где-то там...
Он неуверенно ткнул пальцем вглубь двора и тут же сам побежал туда.
С шумом покатились камни, посыпалась штукатурка, и кто-то закричал:
— Врача! Скорее! Приведите врача!
Вытащенный из-под обрушившегося обломка стены надворный советник фон Бройнинг довольно быстро пришёл в себя. Веки его дрожали, лицо было покрыто коркой запёкшейся крови и штукатуркой. Но голос звучал по-прежнему повелительно. Не терпящим возражений тоном он спросил:
— А где остальные?
— Но первым мы откопали вас, господин надворный советник.
— Тогда пусть никто не бежит за врачом. Нам здесь каждая рука нужна. Ну-ка, прислоните меня к стене и быстро назад. Ищите левее, как можно левее. Да-да, дальше, вон там. Они где-то под развалинами.
Когда последний из его людей скрылся за углом, он громко застонал и снова потерял сознание.
Очнулся он оттого, что маленький мальчик робко дёргал его за камзол. Увидев устремлённый на него взгляд, Людвиг испуганно отскочил назад.
— Чего ты так испугался? Не бойся, подойди поближе.
Людвиг сорвал с головы шапочку и осторожно приблизился к надворному советнику.
— Ты гляди-ка, а мы ведь знакомы, не так ли? Не так давно ты сидел на моём плече. Ты ведь Людвиг ван Бетховен?
— Так точно, господин надворный советник.
— Ну, зачем так официально. Тебе следовало бы поиграть с моими детьми.
Мальчик недоверчиво взглянул на него:
— Но многие дети не хотят играть со мной. Ведь я урод.
— Мои дети будут играть с тобой, дурачок. — На покрытом запёкшейся кровью лбу господина Бройнинга отчётливо обозначились глубокие складки. — Извини, я назвал тебя дурачком, а ты ведь, насколько я слышал, превосходный пианист. Знаешь, где мы живём?
— В доме с каменной шляпой священника над дверью.
— Верно, и ты можешь при случае навестить моих детей. Людвиг...
— Да? — испуганно спросил мальчик, видя, что надворный советник бессильно свесил голову.
— Людвиг, ты не мог бы...
Наверное, ему нужно было бы принести воды? Вот только где её взять?
Тут на него упала тень, и кто-то срывающимся от гнева голосом заорал:
— Что ты здесь делаешь? Бельдербуш, быстро моего придворного врача! А ну-ка, выкладывай, что ты здесь делаешь, парень? Это ворье всюду сует свой нос и тащит всё, что плохо лежит!
Людвиг в ужасе бросился бежать, и развевающийся плащ придавал ему сходство с летучей мышью, вылетевшей из прорезанной светом факелов и заревом пожара тьмы перехода.
Кладбище заполнили толпы людей, колокола непрестанно звонили, священники без устали монотонными голосами читали молитвы. Даже сбруи лошадей были сегодня в траурном убранстве. Пели придворные скопцы. Бесконечные речи производили такое же тягостное впечатление, как серое небо над головами собравшихся. Смёрзшиеся комья земли с грохотом ударялись о тринадцать гробов, а вдалеке всё ещё дымились развалины дворцового флигеля.
Под обломками рухнувшей стены погибли двенадцать человек, тринадцатый — надворный советник фон Бройнинг — скончался ночью. Таков был счёт, предъявленный страшным пожаром.
Толпа задвигалась, и монсеньор быстро зашагал к своей карете. Кучер на козлах отсалютовал бичом, один из лакеев распахнул украшенные гербом дверцы, а затем вскочил на запятки.
Людвиг уже собрался спрыгнуть с могильного камня, чтобы всё хорошенько рассмотреть. Человек с княжеской звездой на груди мельком взглянул на него и тут же проследовал дальше.
Но зато Людвиг сумел внимательно разглядеть красивую женщину, шедшую между курфюрстом и графом Бельдербушем. Её лицо напоминало маску, ни единой слёзы не скатилось по её щекам, и Людвиг знал от матери, какая это мука, когда нельзя плакать, даже если тебя постигло великое горе.
За руку она вела маленькую девочку и мальчика примерно одних лет с его братом Карлом. Людвиг уже успел разузнать кое-что о них у матери, поскольку ему разрешили играть с ними. Но теперь это было совершенно невозможно, и он медленно побрёл домой.
Там он сыграл сонату Руста и вскоре услышал шаги отца, стремительно взбегавшего по лестнице, а затем его взволнованный голос:
— Людвиг упражняется?
— Да, и очень прилежно, Иоганн.
Тогда отец буквально вбежал в музыкальную комнату:
— Упражняйся, упражняйся дальше, счастливое дитя. Тебе ведь предстоит завтра сыграть перед самим монсеньором!
— Мне, батюшка?
— Даже не знаю, как это получилось. — Иоганн нервно забегал взад-вперёд. — Вроде бы перед смертью надворный советник замолвил за тебя словечко. Во всяком случае, завтра тебе отводится роль Давида, играющего на арфе перед царём Саулом[4].
Иоганн поразился равнодушию, с которым Людвиг слушал его, а потом с таким же безразличным видом заиграл вторую часть сонаты. Лицо отца покраснело от ярости.
— Да я бы на его месте целовал мне руки и танцевал бы от радости. Лишь благодаря моим усилиям и терпению...
«Людвиг действительно ведёт себя странно, — подумала Магдалена, — но если я не вмешаюсь...»
— Людвиг! Поблагодари скорей отца! Иди поцелуи ему руку!
Мальчик чуть коснулся губами ладони Иоганна и еле слышно сказал:
— Я очень рад, батюшка. Большое вам спасибо.
— Значит, это ваш сын, — равнодушно произнёс монсеньор, даже не посмотрев на Людвига.
Отец присел в глубоком поклоне. Он сделался внезапно необычайно гибок, словно тряпичная кукла маленького Иоганна, которой дети иногда бросались друг в друга. Потом он как-то странно, будто прихлёбывая, втянул в себя воздух.
— Ваш покорный слуга, монсеньор. Позволю себе заметить, что моему Людвигу уже пять лет.
Людвиг смутился. Пять лет?..
Молодая дама с красивым кукольным лицом зябко повела плечами. Людвиг понял, что это внучатая племянница монсеньора госпожа фон Тиксис.
— Здесь, в галерее, очень холодно.
Монсеньор распахнул дверь в зал и галантно пропустил даму впереди себя. За ними последовал длинноногий полковник дворцовой стражи.
Дверь снова захлопнулась, и на пороге застыл камердинер. В зале заиграли чудесный квартет Гайдна, который едва не заглушили вялые хлопки, звон посуды и громкое звяканье столовых приборов.
Отец горделиво выпятил грудь и взволнованно заявил лакею:
— Вообще-то монсеньор хотел, чтобы мой сын сыграл уже за обедом.
— Мне монсеньор отдал совсем другое распоряжение, — равнодушно ответил лакей. — Пусть подождёт.
— Отлично! — Отец вновь уподобился тряпичной кукле, не постеснявшись низко поклониться ему.
А ведь дома он с таким презрением отзывался об этих людях. Поэтому Людвиг и преисполнился глубоким сочувствием к матери, ибо она была родом из такого же низкого сословия.
И почему он сказал, что ему пять лет? Это ведь неправда. А ещё он сказал: «Ваш покорный слуга». Так ведь выражаются именно плебеи, если, конечно, он правильно запомнил это слово.
В зал их впустили после очень долгого ожидания.
Его сразу же поразили роскошная мебель, ковры и огромные картины на стенах, которые были гораздо больше, чем казавшийся ему огромным образ святой Цецилии, висевший когда-то в квартире деда. Отец уже давно пропил его.
А как себя вели почтительно отошедшие в стороны музыканты и особенно всегда похвалявшийся своим талантом скрипача дядюшка Риз? Подобно остальным, он прерывисто кланялся чуть не до самого пола. А отец даже не знал, куда поставить ноги в туфлях с пряжками. Ещё вчера Людвиг вместе с ним долго разучивал придворный шаг. И тут Людвиг увидел возле рояля скамейку и забрался на неё.
На противоположной стороне зала за круглым столом сидели монсеньор и молодая дама с высокомерным кукольным личиком. Рядом с ними у окна неподвижно застыл полковник дворцовой гвардии. Курфюрст азартно бросал кости, ибо триктрак был его любимой игрой. Наконец полковник кивнул, и отец прошипел в ухо мальчику:
— Начинай...
Людвиг взял первый аккорд, получившийся у него слишком гулким. Но он не стал поправляться, и следующие аккорды получились более звучными. Но он же должен был заглушить стук костей в стакане, который как раз переворачивала дама.
— Десять!
Теперь маленький человечек с княжеской звездой на груди потряс стаканом и метнул кости.
— Двенадцать!
Людвиг усилил темп. Он злился, и соната тоже получалась злой. Уже пошла третья часть, он играл очень быстро и наконец взял последний аккорд.
Вокруг как ни в чём не бывало бегали лакеи, а за столом продолжали увлечённо играть в трик-трак.
— Отлично, шпаниоль! — прошептал отец, положив ему руку на плечо. — А теперь давай на бис. Помнишь, что я сочинил для сиятельных особ?
Лицо Людвига исказила злобная гримаса. Затёкшими пальцами он принялся извлекать из инструмента звуки, напоминавшие звон колокола. Блим-блям-блим-блям.
Он играл увертюру к опере Монсиньи[5] «Дезертир», которую было сложно исполнять даже в стенах рухнувшей придворной церкви. Лакеи разом прекратили свою беготню, курфюрст уставился на рояль, ибо только сейчас начал воспринимать музыку, дама с кукольным личиком уважительно слушала, а полковник дворцовой гвардии замер с таким видом, словно ему в сердце попала пуля.
— Прекрасно! Прекрасно! — одобрительно отозвался курфюрст, когда отзвучали последние аккорды. — У мальчика истинный талант. Дайте большой пакет сладостей и, — тут он повернулся к полковнику, — вручите отцу десять талеров из моей личной казны.
Вслед за отцом Людвиг низко поклонился, не понимая, почему в его душе такая пустота, как и в выжженном насквозь дворцовом флигеле.
Людвиг пел, закатив глаза от восторга, хотя обладал довольно скрипучим голосом. Его правая рука брала один аккорд за другим, а левая играла в трёхдольном ритме.
— Как ты мне надоел! — Иоганн ван Бетховен с шумом распахнул дверь. — Такое позволять себе в доме, где каждая половица насыщена истинной музыкой.
Слова эти он, однако, произнёс довольно радостно и вдобавок ещё весело подмигнул Людвигу. Он был явно в приподнятом настроении, о чём свидетельствовали уголки рта, как всегда опущенные в таком состоянии. Но пахло от него на этот раз не дешёвой акцизной водкой, а шампанским.
— Я тут прихожу с целым ворохом хороших новостей, а мой сын, видно в благодарность, пытается погубить меня рёвом почище, чем иерихонская труба. Хватит, Людвиг, не зли меня. Я хочу пролить бальзам на твои раны. Во-первых, я говорил с Рупертом и сообщил ему, что в школу ты больше ходить не будешь.
— Батюшка...
— Вот так-то. Начинай завтра упражняться прямо с утра. И ещё. — Он бросил на рояль бумажный свиток. — Прочти внимательно на досуге. Те десять талеров, возможно, вскоре превратятся в дукаты.
Громко распевая арию, он спустился во двор, а в комнату, запыхавшись, вбежала Цецилия Фишер.
— Людвиг, ты, оказывается, будешь играть в большом концерте, и не где-нибудь, а в Кельне. Вон там, на рояле...
— Что? Неужели отец...
Он выхватил из рук Цецилии, к этому времени ставшей красивой стройной девушкой, свиток и развернул его. Оказалось, что это несколько афиш.
— A-ver-tissement.
— Это по-французски, Людвиг, — рассмеялась Цецилия. — Означает «Объявление».
— «26 марта года 1778 в зале Музыкальной академии на Штернгассе придворный хорист Бетховен...»
— О-о-о! — уважительно протянула Цецилия и даже приложила палец ко рту. — Какими жирными буквами напечатано имя твоего отца. Надеюсь, твоё когда-нибудь будет так же известно, Людвиг.
— Моё?.. — Он продолжил чтение: — «...имеют честь представить двух юных музыкантов, а именно: придворную певицу мадемуазель Авердонк и своего шестилетнего сына. Первая порадует почтеннейшую публику различными красиво звучащими ариями, второй — игрой на фортепьяно, которой он уже имел честь доставить удовольствие всему двору».
— Слушай, а почему у вас целый день только и слышно: Моцарт, Моцарт? Что вы так с ним носитесь?
Вместо ответа Людвиг сел за рояль, и его судорожная игра сильно напоминала пляску святого Вита.
— Людвиг! Что ты играешь?
Он хищно оскалил зубы:
— Новую часть моей новой сонаты... Пусть этот Моцарт завидует!
Звонили утренние колокола, но у Фишеров в пекарне уже целый час кипела работа. Постепенно Рейнгассе почти вся пробудилась, и за окнами слышны были свежие и бодрые голоса отдохнувших за ночь людей. Занимавшийся день обещал быть погожим и светлым.
Откашлявшись, Магдалена долго рассматривала платок, который до того плотно прижимала к губам. На нём вновь появились пятна крови. Она была очень недовольна собой и своим состоянием. В конце концов, как хозяйка дома и мать, она должна в любом случае выполнять свои обязанности.
Тут в прихожей зазвучали шаги. Так тяжело Людвиг ещё никогда не ступал.
— Доброе утро, мама.
Она сразу поняла: случилось что-то неладное.
— Откуда ты?
— Как откуда? Из Кёльна.
— А где отец?
— Наверное, в Кельне. Да, точно, он ещё там. Ведь он так и не проехал мимо нас с Элен.
— А вы?..
— А мы пешком.
— А концерт?
— Кто слышал об Элен Авердонк? — Он презрительно усмехнулся. — А уж тем более обо мне, я же не Моцарт. В зале почти никого не было, Элен хоть немного похлопали, а мне... ну разве две дамы, им просто стало жаль меня. Но ни одна из них не поцеловала меня, хотя играл я неплохо. Но ведь я же, в отличие от Моцарта, настоящий урод...
— Ну, хватит себе это внушать!
— Внушать? — Его голос сорвался. — Да батюшка в Кельне прямо заявил, что из-за моего уродства концерт был сорван. Ну, всё ясно, пианиста из меня не выйдет. Буду играть на органе, сидеть на верхних хорах, где меня, как сказал батюшка, увидит только Бог в наказание за то, что создал такого уродливого гнома. И вот пока мы ждали батюшку, взяли да и зашли в собор. Как же там внутри красиво! Там должна звучать особая музыка — величественная и торжественная. Как жаль, что я не Моцарт, Руст или Стамиц, я бы написал именно такую музыку. Она разливалась бы по всем этим боковым приделам.
— Ну, хорошо, а где мадемуазель Авердонк?
— Я отвёл её домой. — Он с сожалением покачал головой. — Уже взрослая девушка, а боится привидений. Пришлось её взять за руку. А вообще-то мы по дороге очень подружились. — Усталость давала о себе знать, он пошатнулся и проговорил заплетающимся языком: — А лучше я стану пекарем. Какой из меня Моцарт? Зачем мне все эти концерты и аплодисменты?
— Бельдербуш.
Канцлер оторвал взгляд от разложенных на подоконнике строительных планов.
— Да, монсеньор?..
В хриплом голосе курфюрста явственно звучал гнев, но канцлер знал, что он нарочно распаляет себя.
— Если бы вы и ваш единомышленник граф Фюрстенберг в Мюнстере знали, что каждое утро, открыв глаза, я проклинаю вас, ибо вы умудряетесь три раза прокрутить каждый штюбер[6], полученный от вашего курфюрста. Но злость эта улучшает аппетит лучше любых лекарств и потому, — тут курфюрст откашлялся, — я не только прощаю вас, но и поминаю ваши имена, когда молюсь, отходя ко сну. Как бы я хотел убежать от вас, но куда? Соборный капитул в Кельне отнюдь не радует мой взор, а бюргерство там по традиции преисполнено вольнодумства.
— Это ошибка, монсеньор. — Канцлер отрицательно покачал головой. — Там всё чаще и чаще слышишь прекрасные слова: «Под епископским посохом живётся неплохо».
— Да вы мне этот посох оставили, чтобы грызть его.
— Прикажете, монсеньор, чтобы я позвонил? — Канцлер подошёл к витому шнуру со звонком.
— И дальше?
— Ну, например, можно приказать запрячь золотую парадную карету вашего благочестивого предшественника. Монсеньор могли бы, подобно курфюрсту Августу Баварскому, проезжая по горшечному базару, бить посуду, а затем швырять золотые дукаты разъярённым торговкам? Или же мне заказать на завтрашнюю утреннюю трапезу пирог, из которого выпрыгнет карлик? — В голосе канцлера зазвучали серьёзные нотки. — Монсеньор, для любого князя были и есть сотни возможностей разорить государственную казну. Гораздо труднее пополнить её обычными методами. — Он замолчал на мгновение, а потом не без колебаний продолжил: — Я имею в виду акцизы и таможенные сборы. Но ведь есть ещё и лотерея. Я о ней позаботился. — Он показал на строительный чертёж: — Разумеется, можно, ко всему прочему, по испытанной методике захватить где-нибудь по соседству пару-другую сотен крестьян и продать их как солдат куда-нибудь за границу. Уж не знаю, будет ли тогда счастлив совестливый государь, но народ, бесспорно, нет.
— Вам хорошо говорить, — недоверчиво пробурчал курфюрст. — Всё, видите ли, для и ради народа. Звучит вроде бы хорошо, но, когда руководствуешься мнением Людовика XIV: «Государство — это я»[7], — получаешь гораздо больший доход.
— Безусловно, монсеньор, но одновременно — это горючий материал, и лучший пример тому — Франция, где короли содержали в Оленьих садах двенадцатилетних и четырнадцатилетних девочек для услады себя и своих придворных. Только слепец не видит, что рано или поздно там непременно произойдёт взрыв.
— Так ли уж непременно, Бельдербуш?
— Да, монсеньор. Слишком уж там перевесила одна из чаш весов. Народ крайне недоволен высокомерием и тяготами, наложенными на него дворянством, к которому я, правда, сам принадлежу.
— Ну вы, граф, какой-то ненастоящий дворянин, прямо-таки друг презренного сословия, настоящий мятежник.
— Сожалею, монсеньор, — граф Бельдербуш с улыбкой поклонился, — но для меня в этих словах нет ничего оскорбительного. Я действительно не вижу разницы между людьми.
— Вам следовало выбрать другую профессию, Бельдербуш. — Курфюрст тяжело откинулся на спинку кресла. — Стать, к примеру, проповедником.
— Вряд ли, монсеньор.
— Истинно так, — громко рассмеялся архиепископ, — ибо после первой же проповеди вас сразу же лишили бы сана. Но может быть, вам лучше подыскать место при дворе вашего и Фюрстенберга тайного кумира Фридриха II[8]? Говорите смело.
— Такое признание не соответствовало бы ни действительному положению вещей, ни моей любви к истине, в которой у монсеньора, надеюсь, нет оснований сомневаться. У короля Пруссии есть много прекрасных высказываний, я же помню лишь одно: «Государь есть первый слуга своего государства». А что такое государство, монсеньор, как не народ. Но разве Фридрих, подражая Версалю, построил Сан-Сусси лишь из желания быть первым слугой своему народу? Разве он поэтому вёл войны, губил своих солдат, заставляя проливать слёзы их матерей, жён и невест? Воинственный государь — наихудший слуга своему народу. Правда, благодаря одержанным победам его казна пополнилась на семьдесят миллионов талеров...
— Бельдербуш! У вас надёжные источники?
— Абсолютно надёжные, монсеньор. Можно даже точно вычислить, сколько талеров принёс ему каждый из убитых и изувеченных солдат...
— Семьдесят миллионов талеров! — Курфюрст больше не слушал, поражённый величиной суммы. — Да я по сравнению с ним беден, как церковная мышь, да к тому же ещё весь в долгах!
— Вы далеко не так бедны, и потому позволю обратить ваше внимание на чертежи. Здесь предполагается разместить зал для балов-маскарадов, а за ним зрительный зал и сцену нового придворного театра. Архитектор надворный советник Ром приложил все усилия, но, увы, помещение получилось довольно тесным и низким. Но к счастью, Фюрстенберг недавно познакомился с месье Гросманом, другом некоего Готхольда Эфраима Лессинга[9].
— Это ещё кто такие?
— Первый — директор театра, второй — выходец из новой бюргерской среды, которая уже начала вытеснять старую. С государственной точки зрения было бы полнейшим безумием отрицать это. Он драматург, истинно немецкий драматург, желающий избавить сцены наших театров от заполнивших их иностранных пьес. Гамбург уже привлёк его, равно как Маннгейм и Гота. Так чем же мы хуже герцога Готского и курфюрста Маннгеймского?
— Говорите конкретнее, чего вы от меня хотите?
— Помочь Лессингу, человеку из нового, ещё только зарождающегося мира, осуществить свои мечты, ибо они воистину достойны князя... И потом, это никак не сопряжено с войнами и кровопролитием.
— Вообще-то как архиепископу мне не подобает произносить бранные слова. — Макс Фридрих тяжело вздохнул, — но тем не менее, чёрт побери, я даю своё согласие! У вас прямо-таки дьявольское умение убеждать.
Канцлер наклонился и поцеловал руку курфюрста.
Через несколько месяцев Людвиг уже стоял за прилавком и очень злился из-за отсутствия покупателей. Он подсчитал жалкие доходы — три штюбера за белую муку, два — за дрожжи — и понял, что мастер Фишер поднимет его на смех.
Разумеется, всему виной была погода. В отблеске свечей отчётливо были видны бьющие по стёклам сверкающие струи дождя.
К тому же лавка скоро закрывалась, и Людвигу предстояло провести омерзительный вечер в обществе господина директора театра Гросмана, его жены, мадемуазель Флиттнер и всех прочих, кого Бетховены, по выражению отца, «имели честь пригласить к себе домой».
Одновременно со звоном колокольчика распахнулась дверь, и внутрь вошёл человек в низко надвинутой на лоб шляпе. Под мышкой он держал футляр для скрипки.
— Чего изволите? — Людвиг чуть поклонился и выжидательно посмотрел на него.
— Выходит, мой племянник прислуживает в кондитерской лавке. — Незнакомец широко улыбнулся в ответ. — Ты ещё хоть помнишь меня, Людвиг?
— Дядюшка Франц!
— Ты смотри-ка, а ведь столько лет прошло. — Ровантини стряхнул со шляпы капли дождя. — Надеюсь, дедушку ты тоже не забыл?
— Как можно!
— Скажи мне, пекарь или кондитер, могу я у вас переночевать?
— Конечно. У нас, правда, сегодня гости и вся мебель переставлена, но ты можешь спать со мной.
— Да хоть под твоей кроватью. — Ровантини широко зевнул. — Эта проклятая почтовая карета перемолола мне все кости, как мельница. И потом, я здорово проголодался. Этот торт съедобен?
— Да мы его ко двору курфюрста поставляем! Один, два куска?
— Не меньше трёх, но режь покрупнее, старый мошенник.
Людвиг с церемонным поклоном поставил тарелку на боковой столик и, чуть разжимая губы, произнёс:
— Шесть грошей.
— Сколько? Да ты настоящий разбойник. Ты, случайно, не прячешь за спиной пистолет?
— Дай я тебе вкратце всё объясню, дядюшка Франц, — довольно улыбнулся Людвиг. — Я замещаю здесь мастера Фишера и уж никак не могу его обделить. Приходится тебя немного пощипать. Может, ты ещё и хлеб купишь?
— Нет, хлеб можно каждый день есть. Остаток торта мы возьмём домой. Запакуй мне ещё два пакета сладостей для твоих братьев, так примерно на талер.
— Дядюшка Франц!
— Хороший я клиент, правда? — Он весело подмигнул Людвигу. — Жаль, что с нами больше нет твоего деда. Он бы точно дал тебе дукат. Ладно, скажи, ты не бросил музыку? Мать как-то писала мне, что ты твёрдо намерен это сделать.
— Да нет, не получается, — после недолгих раздумий ответил Людвиг. — Сейчас я учусь играть на органе у монаха-францисканца Вилибальда Коха. Но мне он не нравится.
— Тут я могу помочь. В труппе Гросмана есть превосходный органист Христиан Готтлиб Нефе. Я с ним познакомился в Дрездене. Правда, у него мозги набекрень. Думаешь, в Лейпциге он изучал музыку? Ничего подобного, — юриспруденцию. Когда в священных стенах тамошнего университета обсуждался вопрос: «Вправе ли отец лишить сына наследства, если тот посвятил себя сцене?» — сей горбатый демон ответил отрицательно, и у профессоров от ужаса парики съехали набок. Он, как и ты, — от горшка два вершка, и жена держит его в ежовых рукавицах, но как органист он — гигант. Месяца через два-три, а может, раньше он точно будет здесь.
— А ты сколько у нас пробудешь, дядюшка Франц?
— Я устроился скрипачом в Национальный театр.
— Дядюшка Франц! — Красновато-смуглое лицо Людвига ещё потемнело от радости.
— Вот только коклюш меня донимает. — Ровантини гулко закашлялся. — А как мать себя чувствует?
— Да неважно.
— В семье Кеверих коклюш передаётся по наследству, — с издёвкой произнёс Ровантини и в подтверждение своих слов несколько раз кивнул. — Слушай, давай заманим ещё нескольких покупателей.
Он распахнул дверь и выглянул наружу.
— Дождь перестал, и люди вышли на улицу. Дай-ка я изображу крысолова из Гамельна[10]. — Он с удовольствием втянул в себя влажный воздух, приложил к плечу скрипку и наклонил голову.
Через несколько минут Людвиг восторженно воскликнул:
— Как здорово! Что ты сейчас играл, дядюшка Франц?
— Концерт ля мажор Моцарта. Какой же ты всё-таки варвар!
Людвиг конвульсивно дёрнулся. Он вдруг почувствовал неприязнь и даже вражду к Ровантини. И если уж быть до конца справедливым, к этой музыке тоже...
Явно привлечённая звуками, в лавку вошла женщина и купила хлеба. Следом тут же появилась новая покупательница, затем ещё одна.
Наконец на какое-то мгновение они остались одни.
— Дядюшка Франц!..
— Чего тебе опять? — недовольный тем, что ему помешали играть, откликнулся Ровантини.
— Это такая музыка, она словно с неба льётся... А мы под неё хлеб и сайки продаём, звеним штюберами и грошами...
— Ты прав, Людвиг. — Ровантини тут же прекратил играть. — Можешь меня теперь тоже назвать варваром. Но знаешь, стоит мне извлечь из скрипки первые звуки, как я забываю обо всём на свете. А тут ещё жар. Он у меня каждый вечер. — Он со свистом рассёк воздух смычком. — Но я хотел заманить к тебе в лавку ещё несколько жирных крыс и мышей. И я не просто сыграю, но ещё и спою, ибо это моё собственное сочинение.
Новый приступ кашля сотряс его тело, лоб покрылся бисеринками пота, щёки запали. Он прочистил горло и чуть дрогнувшим голосом сказал:
— Текст написал поэт Хёльти в день, когда врач вынес ему приговор. Вскоре он умер от чахотки. Внимание, Людвиг, приготовь свои жалкие остатки хлеба и булок.
Грустные глаза скрипача вновь засверкали. Он рывком поднял скрипку к подбородку и запел:
Так рассыплем розы по дороге и забудем грусти и печали! Больно уж короткий срок жизни нам отпущен. Весенней пляской упоён, сегодня юноша резвится...Ровантини прошёлся вокруг лавки танцующей походкой.
Ну, а завтра ветер цветы треплет на его могиле.— Ты только посмотри, Людвиг, они же сюда валом повалили.
По его лицу расплылась довольная улыбка.
Свечи они не зажигали. Ветер разогнал тучи, и из окон открывалась великолепная картина звёздной ночи. На небосводе появилась луна, залившая крыши молочно-белым светом и окутавшая мансарды таинственно мерцающим покровом. В окне отчётливо выделялись две тени — большая и маленькая.
— Почему ты вдруг так погрустнел, дядюшка Франц? Может, у тебя несчастная любовь?
— Что ты об этом знаешь?
— Я? Да меня уже сосватали за Цецилию Фишер, но я вообще не хочу жениться. Я ведь урод, и ни одна женщина не сможет меня полюбить.
Ровантини искоса взглянул на мальчика. Лунный свет паутиной оплёл его покрытый оспинами лоб и упрямо сжатый рот. Над головой его маленького друга, изливавшего ему сейчас душу, словно возник ореол одиночества.
Тут Ровантини сам ощутил странное беспокойство, будто вот-вот должно было произойти какое-то очень важное событие. Он вспомнил людей, на чьих щеках в преддверии смерти выступали красные пятна. А сами они ещё ни о чём не догадывались.
Нет, у него всё же совсем другой случай. Смерть пока ещё вроде бы обходит его стороной. Из соседней комнаты донеслись голоса и похожий на звон серебряных колокольчиков девичий смех. Стоит ли ему сейчас говорить с Людвигом об одолевавших его страстях. Вряд ли мальчик что-либо поймёт.
— Пойми, Людвиг, не важно, красивы мы или уродливы, — женщины всё равно будут нас любить, а без любви к ним ничего великого не свершить.
— Значит, ты влюблён? — Людвиг хитро подмигнул ему.
— С чего ты взял?
— Но ведь ты прекрасно играл на скрипке.
— Это было просто жалкое пиликанье. Если бы я любил кого-нибудь...
Тут из-за стены послышался громкий голос Иоганна ван Бетховена:
— Эй, Карл! А ну-ка порадуй наших гостей своими скромными талантами!
— Ишь ты, скромные таланты! — недовольно пробормотал Людвиг. — А ведь Карл во всех отношениях лучшая лошадь в его конюшне.
— А ты?
— Я — нет, меня даже больше не показывают гостям.
Карл играл не требующую слишком больших усилий сонатину. Ровантини чуть приоткрыл дверь, и в комнату сразу же проник луч света, хотя от гостиной их отделяло ещё одно помещение.
— Да это же преступление! — через несколько минут возмущённо воскликнул Ровантини. — Нельзя детей дрессировать!
Тут послышались аплодисменты, и какая-то женщина жеманным голосом сказала:
— Второй Моцарт.
— Ну и невежда! — рассмеялся Ровантини. — Моцарт был настоящим чудом!
— Был?
— Конечно. Его время прошло. Он блистал, когда с сестрой гастролировал в Вене, Брюсселе, Лондоне, Швейцарии и Италии. Сейчас он просто придворный органист архиепископа Зальцбургского. О каком чуде может идти речь, когда он сидит за одним столом с челядью.
— Ты ведь прежде играл его музыку? — осторожно спросил Людвиг, стараясь не выдать своего удовлетворения услышанным.
— Именно так. У меня с собой даже есть клавир. Ля мажор — концерт для скрипки с оркестром. — Ровантини начал рыться в своём багаже. — Трудно что-либо найти в таком хаосе... Но тебе повезло. Вот он. Посмотри, сумеешь ли ты сыграть его. Но как же я проголодался. От плохой музыки — хороший аппетит. Поэтому мой желудок — самый лучший рецензент.
Людвиг разложил ноты на озарённом лунным светом подоконнике и по буквам произнёс название первой части концерта:
— Алл... аллегро аперто. Что это значит?
— Аллегро означает «радостно», а аперто — «открытый». Значит, радостно и открыто...
Голова мальчика с всклокоченной чёрной шевелюрой заметалась над листками. Он сыграл первый аккорд, обозначил левой рукой шестнадцатую долю сопровождения и выбил пальцами правой руки стаккато.
— Ты, я вижу, зря времени не терял, — удовлетворённо произнёс Ровантини.
Через несколько минут Людвиге наслаждением потёр руки.
— Отлично! Всё отлично, дядюшка Франц.
— Что именно отлично, дьяволёнок?
— То, что меня сослали сегодня сюда и что ты оказался рядом со мной. Нам не нужно ни перед кем притворяться, нам вообще никто не нужен.
— А ну тише! — Ровантини резко вскинул руку.
Кто-то сочным мужским баритоном произнёс:
— У нас богатый выбор опер и спектаклей, и потому актёры и музыканты могут не беспокоиться. Мы будем устраивать концерты как духовной, так и светской музыки.
— Директор театра Гросман, — прошептал Ровантини.
— Насколько я слышал, — подобострастно заметил Иоганн ван Бетховен, — наидрагоценнейшей жемчужиной труппы станет мадемуазель Фридерика Флиттнер.
— Я?.. — за спиной вновь будто зазвенел колокольчик.
— Да, дитя моё, — солидно проговорил Гросман, — хотя ты и моя падчерица, но господин Бетховен совершенно прав. Однако титул юной королевы нужно уметь носить с достоинством, иначе какой-нибудь принц оспорит его у тебя. А такового долго ждать не придётся. Я имею в виду весьма одарённого скрипача Франца Ровантини.
Тут Иоганн ван Бетховен вновь поспешил вмешаться в разговор:
— Ровантини? Он ещё несколько лет тому назад подвизался в нашем придворном театре на довольно скромной должности, и его игра на скрипке...
— Господин ван Бетховен, — перебил его Гросман, — он музыкант высочайшего класса. Я недавно слушал его в Дрезденской академии. Его называют вторым Тартини[11]!
— Тартини! — в очередной раз зазвенел серебряный колокольчик. — Это же такой урод. Я как-то видела его портрет — толстый нос и выпученные глаза. Мне даже страшно стало.
— Что ты такое говоришь, дитя моё? Впрочем, вы скоро сами во всём убедитесь, господин ван Бетховен. Ровантини очень скоро будет здесь.
Ровантини молча потряс увесистым кулаком.
— А он уже здесь, — со смехом заявила Магдалена.
— Уже в Бонне.
— Ближе. Он в двух комнатах отсюда, — помедлив, ответила она. — Он же мой кузен.
Послышался звон разбитого стекла и успокаивающий голос Магдалены:
— Ничего страшного, ущерб невелик, и потом, посуда бьётся к счастью. Правда, мадемуазель Флиттнер, говорят, что пролитое красное вино к слезам, но если выдался такой радостный повод...
— Верно, — немедленно откликнулся звонкий голосок, — и теперь пусть этот Ровантини-Тартини наконец предстанет перед нами. В конце концов, он же всё это учинил.
Послышался звук передвигаемых стульев.
— Я сейчас отведу вас туда. Только возьмите с собой свечи. Они там с моим сыном сидят в кромешной тьме.
Через несколько минут дверь распахнулась.
— Франц!..
Чуть колеблемое лёгким ветерком пламя свечи высветило стоявшего на пороге Ровантини. Он с такой невыразимой тоской взглянул на юное создание, что у той на мгновение болезненно защемило сердце. Но тут глаза его внезапно засверкали, и девушка поразилась происшедшей в нём перемене. Он же смотрел на неё, как на чудо. Ровантини твёрдо знал, что никогда не встречался с ней и тем не менее был убеждён, что она уже давно вошла в его жизнь.
На вид ей было не более восемнадцати — нежный бутон, обещавший со временем стать поразительно красивым цветком. Серебристого цвета платье как нельзя лучше подходило к звенящим звукам её голоса, и вообще вся она с её глубокими тёмными глазами и чёрными волосами, казалось, была оправлена в серебро.
— Желаете, чтобы я сыграл? — Он даже не узнал собственного голоса. — Вам стоит только приказать...
Они с радостью отвели его в музыкальную комнату, но затем он вернулся за скрипкой.
— Людвиг, сын мрака, где ты прячешься? — После яркого света глаза не сразу привыкли к темноте, и он был вынужден пробираться на ощупь.
— Здесь! — Из-за огромного сундука высунулась взлохмаченная голова.
— Пойдём со мной.
— Нет.
— Ах ты, таракан запечный. Тогда скажи, что мне сыграть?
— Для Фрици? — хрипло выдавил Людвиг. — Я бы предложил один из концертов Моцарта.
— Да? А это мысль.
Ровантини взял с подоконника ноты и поспешно выбежал из комнаты.
Людвиг медленно подошёл к окну и замер возле него в своей любимой позе, опершись подбородком на ладони.
Скрипка была хорошо настроена, но сам дядюшка Франц оказался вдруг далеко не на высоте. Квинта у него получилась нечистой, он взял слишком высоко, а до мажор, наоборот, надо было взять чуть ниже.
Тут отец заговорил так, будто бы именно он породил и воспитал дядюшку Франца:
— Я с гордостью бы согласился подыграть тебе, но, увы, я не могу разобрать написанные тобой ноты.
Тут вновь заговорил Гросман:
— Попробуй, Фрици.
Людвиг даже поморщился — таким испуганным был голос Фрици:
— Чтобы я аккомпанировала такому выдающемуся музыканту, как господин Ровантини? Да у меня будут пальцы дрожать.
Людвиг сам не понял, что подвигло его на такой поступок, но все присутствующие оторопели, когда маленький уродливый демон пулей влетел в музыкальную комнату и подбежал к роялю.
— Я буду тебе аккомпанировать.
— Ты? Приму висту[12]? Прямо с листа?
— Ты готов? — Людвиг упрямо затряс головой. — Тогда аллегро аперто.
Он сыграл первый аккорд, быстро сменяя звуки.
— Ну и лицемер же ты, Людвиг. — Ровантини чуть наклонился к нему. — Неужели ты выдержишь такой темп?
Людвиг недобро прищурился в ответ:
— Я-то да, а вот насчёт тебя не уверен.
Атака[13].
Он торжественно исполнил вместе с Ровантини короткую, замедленную часть интродукции и вдруг срывающимся голосом воскликнул:
— Аллегро аперто! Но теперь и для скрипки тоже.
В его глазах засверкали весёлые огоньки-звёздочки. Они как бы поплыли к небу, куда, неистово водя смычком, устремился и дядюшка Франц. Как же он играл! Такого ритма старый неуклюжий рояль попросту не мог выдержать. А ведь из этого грубо сколоченного ящика следовало извлечь ещё дуо- и триосонаты. Но как? Об этом он поразмыслит потом.
Пока же у него не было времени. Франц играл для Фрици и, если уж до конца быть честным, для Моцарта. Ему явно не хотелось губить произведение того, кто теперь вынужден сидеть за одним столом с челядью. Зачем причинять ему новые страдания?
После каденции[14] он взял последний аккорд и на минуту замер, не убирая рук и как бы паря над клавишами, а потом резко повернулся, тряхнув всклокоченными волосами. Неужели так можно сыграть на единственной скрипке? Таких двойных нот и флажолётных звуков он ещё никогда не слышал! Дядюшка Франц чуть приоткрыл глаза, но взгляд его был по-прежнему устремлён куда-то в неведомые дали.
Гости разошлись, и Ровантини с Людвигом смогли наконец раздеться.
Они задули свечи, и комната погрузилась в кромешную тьму. Людвиг долго ворочался и потом решил притвориться спящим. Он глубоко и ровно дышал и уже почти было заснул, как вдруг дядюшка Франц надрывно закашлял, а затем громко застонал.
— Дядюшка Франц, почему ты так неподобающе вёл себя по отношению к Фрици? — Людвиг опёрся на локти и весь словно изготовился к атаке. — Ведь она такая милая. И к тебе она тоже со всей душой...
— Она ко мне?..
— Ну конечно, и ты к ней тоже. Меня вы не обманете. Из вас вышла бы отличная пара. А ты даже не посмотрел на неё, когда на прощанье она протянула тебе руку. Ну ничего, я завтра схожу к ней и всё улажу.
— Людвиг!.. — В голосе Ровантини отчётливо слышались тоска и отчаяние. — Пойми, я неизлечимо болен чахоткой. Если я её хоть пальцем трону, она может умереть. А меня ждёт... крышка гроба.
На следующий день за обеденным столом царило молчание, так как Иоганн ван Бетховен не пришёл домой. Людвиг также на какое-то время пропал, но вскоре на лестнице послышались его шаги.
Он с грохотом ворвался в музыкальную комнату, где уже не осталось ни малейших следов пребывания гостей, и прямо с порога закричал:
— Что играешь, дядюшка Франц?
— Чакону Баха.
— А что это?
— Пассаж из партиты для соло на скрипке.
Ровантини медленно накапал себе лекарство в стакан с водой, считая вслух:
— Одна, две... шесть, семь. Сколько звёзд в планетной системе, столько и капель. Какая глупость!
Он выпил стакан до дна и с отвращением отставил его в сторону.
— Целый дукат стоил мне этот вонючий териак. Эти мошенники врачи только наживаются на мне.
— Конечно, профессия могильщика куда почётнее, — понимающе кивнул Людвиг. — Поэтому я решил выбрать именно её.
— Что?..
— И потом, как только будут вырыты две могилы, я смогу исполнить траурный марш.
— Какие ещё могилы? — замер в недоумении Ровантини.
— Для тебя и Фрици. Вот письмо от неё.
Ровантини дрожащим голосом прочёл:
— «Людвиг мне всё сказал. Я до смерти огорчена и одновременно безмерно счастлива. Фридерика». Что ты ей сказал?
— Всю правду, и теперь она тоже хочет умереть. Не помнишь, сколько стоит труд двух могильщиков и похоронная музыка?
— Ах ты, алчный демон! — завопил Ровантини. — Ты от могильщика даже штюбера не получишь. Ибо теперь я хочу жить, ведь это, — он с силой хлопнул письмом по колену, — сильнее, чем смерть!
Он распахнул окно и вышвырнул во двор флакон с лекарствами, вызвав громкое кудахтанье испуганных кур.
— Превосходно! Я даже готов купить у Фишеров петуха и принести его в жертву богу — покровителю всех лекарей Эскулапу. Ибо, клянусь им, я здоров! Ведь эту девушку я люблю ещё больше, чем тебя — Амура, жаждущего могильщиков. Эх ты, исчадие ада...
Он несколько раз прошёлся взад-вперёд по комнате и ласково потрепал Людвига по голове.
— К игре на скрипке ты пригоден, правда, не более, чем мартовский кот, но тем не менее я буду давать тебе уроки, мой маленький и лучший друг. Я тут задумал один шансон[15] и хочу исполнить также сонату соль минор Тартини, ту самую, с дьявольской трелью[16].
— С чем?
— Разве ты ничего не знаешь о ней? Тогда слушай внимательно. Как-то ночью Тартини услышал странную музыку, а затем к нему вошёл дьявол со скрипкой у подбородка и, сверкая глазами, сказал: «Это моя музыка, и такой трели тебе никогда не исполнить». Тартини проснулся и тут же записал несколько нот сонаты и этой самой трели. Пошли.
— Куда?
— Со мной.
Упражнения потребовали значительных усилий. После игры лицо Ровантини сделалось бледным как мел, на лбу выступили крупные капли пота, из правого уголка рта потекла кровь. Она стекала на подбородок медленно и неотвратимо, словно воплощая собой рок.
— Разве я плохо играл, Людвиг? Нет, действительно, какие только силы не открыла во мне эта хрупкая девушка!
Людвиг почувствовал, что больше не может. Любовь одна не в состоянии преодолеть эту страшную болезнь. Чтобы хоть немного отвлечься, он спросил:
— А кто будет аккомпанировать тебе на концерте?
— Нефе... — Ровантини хлопнул себя по лбу. — Он сегодня рано утром приехал в почтовой карете и тут же отправился пробовать орган. Сейчас он в соборе. А вообще-то тебе нужно сходить к нему.
— Зачем?
— Он хочет присмотреться к тебе.
— Это ещё почему? — обиженно спросил Людвиг.
— Иди, дурачок. У него своя, никому не понятная метода. А потом отнесёшь Фридерике письмо, лохматый Амур. Где тут у вас чернила и перо?
Ещё издали Людвиг услышал тихие звуки музыки, доносившиеся из высоких окон собора.
Он с трудом открыл массивную дверь, и в лицо ему словно подул сильный ветер. Он окунул дрожащие пальцы в чашу со святой водой, перекрестился и встал на колени перед дарохранительницей.
Проход к ведущей на хоры винтовой лестнице был загорожен железной решёткой, и Людвиг облегчённо вздохнул, ибо это препятствие избавляло его от принятия дальнейших решений. Никогда ещё ему не было так страшно. Даже перед отцовской тростью он не испытывал такого трепета. Тогда он лишь стискивал зубы и втягивал голову в плечи.
Именно так он и поступил сейчас. Но к чему все эти усилия? В следующий раз дядюшка Франц позаботится о том, чтобы дверь была открыта. Теперь же вполне достаточно просунуть руку сквозь решётку и отодвинуть засов...
У него были хорошие лёгкие, и тем не менее он едва отдышался, когда, поднявшись на хоры, увидел маленького горбуна с нестарым, но уже испещрённым морщинами лицом. Он недовольно повернулся, и в наступившей тишине его голос прозвучал подобно раскату грома:
— Что тебе нужно?
— До... достопочтенный придворный музыкант Франц Ровантини...
— А мне плевать на все чины и звания. — В голосе горбуна отчётливо прозвучало нарастающее раздражение. — Я сам являюсь придворным органистом, а толку-то что? Как тебя зовут?
— Людвиг ван Бетховен, — пролепетал мальчик.
— Ясно. И ты хочешь научиться играть на органе? А руки у тебя подходящие?
— Нет... — Людвиг сглотнул засевший в горле тугой ком.
— Откуда ты знаешь?
— Так все говорят... Они даже для игры на рояле не годятся.
— А ну-ка покажи мне их.
Горбун нежно — насколько он, конечно, мог — взял его пальцы и тихо присвистнул сквозь зубы:
— Ну надо же. Хоть иногда мой лапы. В остальном же они у тебя довольно короткие и квадратные. Но кто сказал, что у музыканта не может быть таких рук?
— Все так говорят, — горестно выдохнул Людвиг.
— Тогда скажи им всем, что они полные идиоты. Ты хоть раз в жизни играл на органе?
— В церкви францисканцев.
— Значит, на писклявом органе. — Он вперил в мальчика пронизывающий взгляд. — А теперь скажи — только не лги! — ты уже сочинял музыку для органа?
— Нет... то есть совсем маленькую пьесу. — Людвиг облизнул пересохшие губы.
— А это не важно. — Нефе кое-как сполз со скамьи. — А ну-ка сыграй мне её.
Людвиг покорно залез на скамью. Конечно, он сейчас не найдёт педаль...
Горбун застыл рядом с закрытыми глазами. Через несколько минут он открыл и закричал:
— Хорошо! А теперь я кое-что исполню, чтобы проверить твой музыкальный вкус... Ну как?
— Великолепно...
— Что? — Горбун пристально посмотрел на него. — Такое же дерьмо. Это моя композиция. А теперь послушай фантазию соль минор и фугу Иоганна Себастьяна Баха.
Именно о них ему когда-то рассказывал дед. Для сравнения он использовал пример разбушевавшегося моря, волны которого, постепенно переставая вздыматься, становились как бы прозрачными, и в них плясали солнечные лучи. Он вдруг почувствовал, что дед стоит рядом, и услышал его слова: «Настал великий миг, Людвиг! Сейчас ты увидишь и услышишь такое, что тебе небо с овчинку покажется».
Горбун закатил глаза, взгляд его затуманился, словно он навсегда прощался с миром, и в зеркале над органом отразилось его искажённое муками творчества, как бы превратившееся в маску лицо. Тут зазвучала музыка.
Людвиг очнулся, услышав оклик горбуна, и с трудом оторвал от ограждения онемевшие пальцы. Нефе хитро ухмыльнулся:
— Вот это я назвал бы хорошей пьесой для органа. Или у тебя другое мнение?
Мальчик ничего не ответил, и горбун тихо рассмеялся:
— Здорово тебя проняло. Но теперь ты хотя бы из вежливости должен меня поблагодарить.
— Покорнейше благодарю. — Людвиг чуть наклонил голову. Он стиснул зубы, чтобы не расплакаться, ибо прекрасно понимал, что теперь его мечтаниям уж точно не суждено сбыться.
— Куда ты?
— Большое спасибо, но я больше не хочу...
— Что? Не хочешь учиться играть на органе?
— Нет.
— Вот это разумный вывод. А как насчёт сочинения музыки?
— Этим я тоже не буду больше заниматься. — Губы мальчика дрогнули.
— Отлично. — Нефе по-паучьи залез на скамью. — А ну-ка иди сюда. Ты что, не понял? Иди сюда ко мне. Через четыре, ну пять лет ты сможешь так же исполнить эту фантазию вместе с фугой. А о композиторском искусстве мы, возможно, поговорим позднее. И заруби себе на носу: с этого дня ты каждые вторник и пятницу будешь приходить сюда. Не вздумай опаздывать и каждый раз тщательно мой руки. А сейчас воспользуюсь случаем и дам тебе первый урок.
Он помолчал и, сверкнув глазами, добавил:
— Я очень боюсь за тебя, мой мальчик. Подозреваю, что у тебя задатки настоящего музыканта. Для тебя это ничем хорошим не кончится, но от судьбы не уйдёшь. Как твоё имя?
— Людвиг ван Бетховен.
В отличие от других дней, предшествовавших дню рождения монсеньора, на этот раз, ко всему прочему, должно было состояться торжественное открытие Национального театра.
Улицы в Бонне были роскошно иллюминированы. За окнами рядами стояли горящие свечи, а некоторые лавки особенно привлекали зевак, толпами бродящих по улицам. В витринах кондитерских были выставлены торты, в центре которых возвышались сахарные посохи и кренделя с причудливо переплетёнными буквами М и Ф — инициалами курфюрста.
— Смотри, дядюшка Франц, вон там в лавке бюст из топлёного сала.
— Желание подольстить воистину безгранично. Но кареты уже подъезжают. Давай вперёд! Ты ползёшь, как гусеница, Людвиг.
Экипажи с грохотом подкатывали к освещённым светом канделябров воротам замка и входу в Национальный театр. Из них выходили кавалеры, снимали шляпы с широкими полями и из кружевной пены протягивали руки дамам, медленно поднимавшимся с мягких сидений и осторожно ставящим на подножки ноги в парчовых туфлях.
Урождённые дворяне и те, кто приобрели дворянские титулы за деньги, сегодня пользовались особой милостью. Шуршали шелка, в ноздри били смешанные с запахом жасмина ароматы духов, шелестели веера и сверкали бриллианты.
Парадный придворный костюм позволил Ровантини пройти на сцену. Один из лакеев хотел задержать Людвига, но дядюшка Франц, в отличие от отца, не привык, чтобы с ним так обращались.
— Мальчик должен будет нести мою скрипку, — небрежно бросил он.
Когда монсеньор — маленький невзрачный человек с яркой княжеской звездой на груди — вошёл в свою ложу, зрители тут же встали. Он покровительственно кивнул им, медленно сел и жестом предложил всем сделать то же самое.
Дамы с высокомерным кукольным лицом сегодня рядом с ним не было. Монсеньор сидел в ложе один, а за его креслом стоял граф Бельдербуш.
Тут на сцене засверкали огни, занавес таинственно расколыхался, и начался праздник в честь предстоящего дня рождения монсеньора, о котором завтра возвестит пушечный залп.
Занавес медленно отъехал в сторону, открывая декорации, изображающие сельскую местность в сказочной стране. Розалия, дочь старика Линдора, сидела на скамье и плела венки. Отец принёс ей дар муз — флейту, которую она хотела вернуть им сегодня. Эраст занимался приготовлениями к этому жертвоприношению. Линдор обручил его со своей дочерью. Народ громко запел. Появилась богиня Минерва и торжественно возвестила:
— Неделю продлятся эти счастливые времена. Многочисленные напасти ожидают также муз, и они, беззащитные и презираемые всеми, будут блуждать по стране...»
Тут голос мадам Гросман — слишком полной для роли Минервы — зазвучал:
— Так слушайте же! Но там, где Рейн течёт между скал, государь приютит их, окажет покровительство творцам искусства и сделает свой замок их обителью. И завтра настанет день, когда судьба подарит его миру.
— Но ведь он уже сидит в ложе и играет в трик-трак, — недоумённо прошептал Людвиг.
— Молчи, дурачок. — Ровантини слегка ущипнул его. — Это очень древнее пророчество. Но зато барон фон Хаген уж точно станет тайным надворным советником. Но смотри, смотри!..
На сцене маленький алтарь в роще вдруг превратился в роскошный, увенчанный пирамидой храм, украшенный фигурами, аллегорически изображающими княжеские добродетели. Мадам Гросман продолжила свою партию:
— Дивитесь! В этом храме вам надлежит, почтением преисполнившись к богам, им жертву принести и слушать, что вам они в дальнейшем возвестят, а я вернусь на небеса.
Это она сделала, попросту уйдя со сцены. Её место заняла муза Евтерпа, которая показала на верхушку пирамиды.
— Вы видите богов посланца? Он грядущий гений. Явись же!..
Людвиг даже скрючился от боли, когда Ровантини вдруг изо всех сил вцепился в его плечо. На вершине пирамиды появилась исполняющая роль грядущего гения изящная Фридерика Флиттнер, одетая мальчиком и похожая на беззаботно парящую в небе птичку. В левой руке она держала золочёный лавровый венок. Стоило ей чуть коснуться пирамиды, как загремели литавры, зазвучали фанфары, перед храмом раскрылся люк, и из него показался бюст курфюрста.
Все актёры разом рухнули на колени, и «гений будущего» плавно всплыл над сценой и возложил на бюст лавровый венок.
— Благословеннейший из всех царственных особ, богов любимец, один твой вид приносит счастье и радость дарит всем, и потому ты ещё долго среди нас пребудешь, мы без тебя осиротеем...
— Дядюшка Франц...
— Тсс! Тихо! — прошипел Ровантини. — Опера сейчас закончится, и тогда уже мой чер д. Уж я постараюсь своей скрипкой дать достойный ответ «гению будущего».
На сцене Линдор ещё произносил нараспев подхваченные хором строки: «Счастливейшие дни для нас настали! Да здравствует наш сударь! Да здравствует Фридрих Максимилиан!», а Нефе уже распоряжался за кулисами:
— Храм пусть останется! Только пододвиньте клавесин к бюсту! Зимрок, вы готовы объявить о выступлении Ровантини? Хорошо, только не забудьте сказать, что он исполнит одну из сложнейших скрипичных пьес.
— Всенепременно.
Ровантини как раз вошёл в правый карман сцены.
— А где Людвиг? Где вы все вообще шляетесь?
Нефе резко повернулся и схватил стоявшего рядом человека за фалды.
— Ваша музыка, господин Гельмут, теперь несравненно лучше и тем не менее. Нет, лишь двоим будет позволено взять клавесин. Эй, Франц, не вздумай опозорить меня. А ну-ка марш на сцену! — Тут он вдруг в ужасе замер. — Дьявольщина, в этой суете я забыл ноты.
На сцене Ровантини уже отвесил глубокий поклон в сторону княжеской ложи, положил скрипку на клавесин, набросил перевязь со шпагой и вновь взял в руки свой инструмент. Для настройки он сыграл ноту ля и обернулся.
— Людвиг...
— Да? — Мальчик вызывающе выпятил толстые губы. — Господин Нефе забыл ноты в церкви. А мы ведь уже играли с тобой сонату.
— Ты что, всерьёз полагаешь, что достаточно двух-трёх раз, и соната Тартини...
Перед глазами Людвига заклубился туман, полосой разделяя реальный и иллюзорный миры. Он вдруг словно почувствовал прикосновение «гения будущего», и в тот же миг туман рассеялся и в небе засверкали золотые звёзды.
— Тартини? — недоумённо спросил он. — А кто это?
— Ты шутишь, Людвиг? — прошептал Ровантини.
— Начинаем? Только ещё один вопрос. Соната соль минор, не так ли?
— Людвиг?..
Он взметнул руками над клавишами.
— Внимание! Теперь...
И он взял первый аккорд.
— Превосходно! Превосходно! Ровантини! Я восхищен вами!
Курфюрст подошёл к барьеру ложи и жестом призвал публику аплодировать. Однако начавшаяся было овация тут же смолкла, ибо на сцену вышла исполняющая роль «гения будущего» Фридерика Флиттнер. Она приблизилась к бюсту и в нерешительности остановилась.
Видимо, граф Бельдербуш поручил ей сымпровизировать роль, а потому она застыла в раздумье. Сам канцлер, ранее внезапно покинувший ложу, теперь вышел из-за кулис и поощрительно улыбнулся.
Наконец она решилась и опустилась перед Ровантини на колени.
— Именем нашего всемилостивейшего повелителя...
Тут она запнулась, опустила голову и протянула скрипачу венок.
Ровантини недоумённо посмотрел на него. Вдруг нарушился порядок, при котором каждый занимал вполне определённое место. Ведь это он должен был преклонить колени перед исполнительницей роли «гения будущего», а не она перед ним. Она исцелила его, заставила победить смерть, благодаря ей он стал воистину великим музыкантом и вновь, как и прежде, всем телом ощущал каждый звук своей скрипки. Одним словом, она как бы заново сотворила его.
Ровантини собрался было почтительно взять венок из рук Фридерики, но вдруг бессознательно взметнул актрису в воздух, поцеловал её и мгновенно почувствовал на губах ответный поцелуй.
— Да он и впрямь вознамерился ещё и похитить моего «гения будущего», — рассмеялся курфюрст.
— Монсеньор?.. — Канцлер подошёл к рампе.
— Не стоит мешать влюблённым. Пусть опустят занавес.
Уже за кулисами Людвиг бросился вслед Ровантини, несущему на вытянутых руках Фридерику.
— Вот твой золочёный венок...
— Я дарю тебе, ибо ты просто блистательно аккомпанировал мне. — Ровантини отвернулся и нежно погладил своего «гения будущего» по голове.
Прошло полтора года.
Было только начало сентября, но на берегу Рейна уже пожелтела листва на кустах и деревьях. Люди говорили, что предстоит очень суровая зима.
За окном ярко пылали закатные отсветы, и Ровантини, чуть приподнявшись в постели, теперь не сводил с них глаз. Еле шевеля словно изрезанными ножом губами, он тихо спросил:
— Может быть, утром я?..
— Что, дядюшка Франц? — Людвиг отставил скрипку в сторону.
— Тебе что-нибудь нужно, Франц? — Госпожа Магдалена, войдя в комнату, озабоченно взглянула на его грудь. — Курфюрст с театром сейчас в Мюнстере. Может быть, он отпустит Фридерику?
— Зачем? Я счастлив, что могу избавить её от столь ужасного зрелища. Она мне уже ничем не поможет. Правда, раньше я надеялся, что близость любимой женщины подействует на меня благотворнее, чем воздух и солнце Италии, но теперь... — Он закашлялся и торопливо выдохнул: — Продолжай играть, Людвиг.
Солнце скрылось за горизонтом, и стало ещё виднее, насколько глубоко впали щёки Ровантини и как сильно похудели его руки.
— Его игра тебе не мешает?
— Да нет. — Ровантини грустно улыбнулся. — Он так скребёт смычком, что даже весело становится.
После ухода матери Людвиг подумал, что они по-прежнему считают его маленьким мальчиком, хотя он прекрасно понимает, что происходит с дядюшкой Францем, и знает, кого они называют неодолимой силой. Может быть, эта сила уже незримо присутствует здесь, в комнате, и нужно сделать так, чтобы дядюшка Франц её не заметил и не испугался.
— Ты как-то не слишком лестно отозвался о моей игре на скрипке, дядюшка Франц. — Он сделал вид, что сердится. — Ты и впрямь убеждён, что мне никогда не достичь исполнения дьявольской трели?
Сама мысль о столь огромных амбициях Людвига позабавила Ровантини. Он откинулся на подушки и весело хмыкнул:
— Не то слово. У тебя из-под смычка просто воронье карканье раздаётся. Но это не важно. Главное, что Христиан Нефе крепко держит тебя в руках. А он настоящий музыкант.
Тут он начал бормотать что-то невнятное, и Людвиг сразу же вспомнил дедушку, который говорил именно так, перед тем как отправиться туда, откуда ещё никто не возвращался.
Значит, это называется смерть! Людвиг тогда пережил незабываемый миг знакомства с ней. Теперь он знал её манеру обращения с теми, на кого пал её выбор. Ему даже показалось, что он слышит её тяжёлую поступь. Тем не менее Людвиг с нарочитым спокойствием спросил:
— Ну как там твои руки?
— Прости, Людвиг, но я оказался очень плохим учителем. — Ровантини с трудом выпрямился и с беспомощной торопливостью забормотал: — Давай, сыграй ещё раз сонату Генделя. Ну что ты медлишь? Всё, хватит!
Скрипка полностью расстроена. Болтовня не поможет, нужно только трудиться и трудиться.
Вроде бы ничего не изменилось, но Людвиг вдруг почувствовал, что в комнате присутствует кто-то третий. Дядюшка Франц даже не заметил, как смерть приблизилась к его постели.
— А ну-ка дай её сюда, Людвиг. Что ты так терзаешь скрипку? Ты хоть знаешь, что я назвал её «Фридерикой»? И пусть это очень старинный инструмент, пусть когда-то он был сотворён самим Страдивари[17], всё равно это очень большая честь для неё. — Ровантини вернул скрипку обратно, и Людвиг в отчаянии прямо-таки резанул смычком по струнам.
Через несколько минут в комнату вошла мать:
— Ну как тут Франц?
— Он даже не заметил, как отошёл в мир иной, потому что я... — Людвиг положил инструмент на покрывало, ткнулся в него лбом и громко всхлипнул: — Он же был моим другом...
Людвиг сидел за органом и, нажимая на клавиши, прислушивался к гулким звукам контрафагота. Однако в мыслях он был далеко отсюда.
Тогда после смерти Ровантини он отправился к патеру Ханцману с просьбой взять его к себе служкой. Он так мечтал обрести душевный покой возле алтаря. До сих пор в ушах звучали слова священника:
— Ты хочешь стать служкой? Да я даже представить тебя не могу в соответствующей одежде с белым воротничком. И потом, служек у нас вполне достаточно.
Разумеется, патер отверг его из-за уродливой внешности.
— И это он называет упражнениями? — Он настолько забылся, что даже не услышал шагов Нефе. — Лентяй! Мысленно он уже в Мюнстере, а сам ещё даже толком с органом обращаться не умеет. Давай-ка послушаем фантазии и фуги.
Он поставил ближе сиденье с откидной спинкой, и Людвиг начал играть. Порой мальчику казалось, что лицо сурового учителя выражало удовлетворение, но чаще он недовольно хмурился и вдруг попросту заснул, изрядно утомлённый долгой ездой в почтовой карете. Вскоре он проснулся и с протяжным зевком воскликнул:
— Я жду!
— Чего вы изволите ждать?
— Фантазию соль минор и фугу Иоганна Себастьяна Баха.
— Но ведь я же играл их.
— И ты ещё осмеливаешься называть это фантазией и фугой? Да ты попросту усыпил меня своими жалкими звуками. Я жду от тебя музыку Иоганна Себастьяна Баха, от которой огонь бежит по жилам.
— Но я не осмелился... — Губы Людвига дрожали, зубы выбивали дробь.
— Так осмелься! Или ты полагаешь, что эти великие мужи создавали усыпляющую слушателей музыку? А ну ещё раз!..
Людвиг вновь дёрнул регистры, и наконец звуки плавно поплыли из-под его рук.
— Сильнее, Людвиг, ещё сильнее! — Горбун чуть наклонился вперёд, и руки его стали похожи на когти вцепившейся в добычу хищной птицы. — А теперь усмири огонь. Ну примерно так...
Когда Людвиг закончил, Нефе не стал хвалить его. Он лишь задумчиво сдвинул брови и спросил:
— В Мюнстере отец держался молодцом. Теперь ты с матерью уезжаешь в Голландию?
— Да, мы едем туда вместе с сестрой дядюшки Франца.
— Счастливого пути. — Нефе одобрительно кивнул. — Я сам лично дня через два-три еду в Мюнстер, и ты, Людвиг, надеюсь, по возвращении окажешь мне любезность... Служкой тебе никогда не стать, тут всё ясно. — Он надул губы, словно собираясь играть на флейте, и продолжил: — Иначе я бы не стал просить тебя сыграть вместо Меня на торжественной службе. Нынешнего своего помощника я послал к чёрту. А теперь последний вопрос: что мы исполним на Рождество? Курфюрст с придворной капеллой останется в Мюнстере... Ну, Людвиг, неужели ты не понимаешь намёка? Ах ты, болван эдакий. Ты ведь сможешь исполнить фантазию и фугу.
— Я?.. — На лице Людвига выступили красные пятна.
— Но только так, как играл сейчас. — Нефе довольно усмехнулся. — Монсеньор уполномочил меня дать соответствующее распоряжение. Потому прими близко к сердцу мой совет.
Дул ледяной ветер, и Мевроу — её следовало называть только «госпожа Ми» — со своей маленькой дочерью Коге и гувернанткой «тётей» Анной Марией Магдаленой Ровантини удалились в единственную каюту.
Госпожа Магдалена и Людвиг сидели на палубе, прижавшись к деревянной обшивке. Мальчик неотрывно смотрел сквозь щель на серую пенистую воду.
Они уже были в Голландии, оставив далеко позади Бонн и бесчисленные таможни, которые распахивали перед ними своё решетчатые ворота, а затем снова закрывали.
— Людвиг...
— Да...
Сильный порыв ветра отнёс слова куда-то в сторону, выдернул из-под платка матери длинную прядь волос, и Людвиг с удивлением увидел, как она изрядно поседела.
— Тебе не холодно?
— Нет, мама.
Ответ явно не успокоил мать, она досадливо поморщилась, скрывая своё беспокойство за словами:
— Помни, что в Роттердаме ты просто не имеешь права болеть. Ты должен там играть, чтобы заработать нам деньги на обратную дорогу.
Мальчик мгновенно вскочил и несколько раз подпрыгнул.
— Так вроде ничего, только ноги немного мёрзнут.
— А ну-ка сядь, положи их мне на колени и сними башмаки. Я сейчас разотру тебе ноги. Ну, как, согрелся немного? А теперь подожди...
Он подождал немного, и она дрожащими от холода руками принялась растирать его уродливое, покрытое оспинами лицо. Наверное, именно у Каина был такой облик, и именно поэтому его, Людвига, не взяли в служки. Но может, он действительно сумеет заработать в Роттердаме много денег? Мевроу, которую называли также госпожой Ми, говорила о роскошных музыкальных вечерах в её доме, и если он и впрямь заработает деньги, то скажет матери: «Я оплатил эту каюту, мамочка. Она для тебя. И попробуй хоть слово сказать против».
Огромный музыкальный зал был увешан картинами старых голландских мастеров, тигровыми и львиными шкурами, а также масками, щитами, луками, дублёными шкурами, копьями и кинжалами. Покойный муж госпожи Ми был судовладельцем, и его корабли привозили редкие диковины из дальних стран. Были здесь и огромные, расписанные яркими, режущими глаз красками вазы с изображениями красивых рыбок.
В камине уже ярко горел огонь, посредине стоял клавесин медового цвета, перед которым был разостлан плотный, заглушающий шаги ковёр. Людвиг пробежал пальцами по клавишам, затем коснулся их черенком вороньего пера. Получился мелодичный, но слишком короткий звук. Дома рояль звучал совершенно по-иному.
Ему предстояло не просто играть, он должен был выиграть самую настоящую битву. Ведь он просто обязан был на обратном пути предоставить матери каюту. Он взглянул в окно и вдали за крышами домов увидел мачты кораблей. Может, на заработанные деньги ему даже удастся нанять целый корабль с фигурой сирены на носу?..
От столь смелых мечтаний у него даже перехватило дыхание. На корабле, ко всему прочему, есть ещё и бронзовые пушки, и он сможет ознаменовать своё возвращение салютом.
Вот именно — салютом. И пусть они здесь не гордятся своим богатством. Я потомок тех, то есть один из тех, кого монсеньор, по обыкновению, называет плебейским сбродом, но я, в отличие от отца, не буду пресмыкаться перед ними, ведь у меня будут пушки! Он запел в экстазе, а затем хрипло прокричал:
— Ви-кто-рия!
Сумерки сгустились, и пламя камина ещё ярче отразилось в полированной поверхности клавесина. В зал вошла тётя Анна, ведя за руку мальчика, голова которого была ещё больше, чем у Людвига. На вид ему было лет пятнадцать.
— Познакомься, Людвиг, это Питер Хоогстраат, он также играет на рояле.
— Вот как? И тоже хочет стать музыкантом? Что он сказал? Переводи спокойнее.
— Он говорит, — она чуть помедлила с ответом, — что хочет стать купцом. У его отца много кораблей.
Водянистые глаза голландца выражали скуку, высокомерие и презрение ко всему, что не имело отношения к деньгам.
— Питер может послушать тебя?
— Пусть только тихо себя ведёт.
— Людвиг... — В глазах тётки засветились тревожные огоньки. — Помни, что мы не дома.
Он сыграл первый аккорд. На всякий случай он собирался отрепетировать «Фантазию» Моцарта. Нет, ни для тёти Анны, ни для матери, вынужденной сейчас помогать на кухне, это не родной дом. А его самого госпожа Ми пригласила лишь для того, чтобы похвастаться перед богатыми знакомыми. Ведь пальцы его бегали по клавишам уже с какой-то головокружительной скоростью.
Сын судовладельца вдруг снял со стены кривой малайский кинжал, рукоятка которого была выполнена в виде змеи. Тётя Анна уже показывала его Людвигу и предупреждала, что лезвие у криса острое как бритва.
Затем мальчик подошёл к узкому концу рояля и с размаху всадил кинжал между задребезжавшими струнами.
— Прошу тебя, не надо.
Юный голландец не понимал по-немецки, хотя смысл сказанного был ясен. Он вытаращил глаза и с силой надавил на рукоять криса.
— А ну убери его!
Мальчик даже на шаг не отступил. Он внимательно смотрел на Людвига, и взгляд его водянистых глаз достаточно красноречиво говорил о том, что близкие родственники богатых людей могут себе и не такое позволить.
Людвиг отнюдь не забыл предостережения тёти Анны. Тем не менее он не мог вытерпеть столь наглого поведения.
Он убрал руки с клавиш, встал и спокойно обошёл рояль. Сейчас этот великовозрастный оболтус почувствует его железную хватку...
Он уже хотел было схватить парня, но тот вдруг взмахнул кинжалом и провёл им по его правой руке.
Сперва Людвиг даже не почувствовал боли. Он лишь с удивлением уставился на зияющую рану на своей ладони, из которой медленно сочилась кровь.
В комнате вдруг стало светлее. Тётя Анна принесла массивный светильник с тремя свечами и тихо сказала:
— Пришёл настройщик. Что с тобой, Людвиг? Ты сегодня не будешь играть?
— Нет. — Лицо Людвига исказила гримаса боли. — Он именно с этой целью порезал мне руку.
Обратно они отплыли, правда, не на роскошном паруснике, но мать разместилась в тёплой каюте, которую отец юного голландца, не желая предавать огласке поступок сына, оплатил полностью. Эти люди способны были купить всё на свете, вот только боль они не могли снять.
Рана гноилась и пока не поддавалась лечению. Рука распухла, и под наложенным на неё куском свинца при каждом биении пульса в кожу словно впивались раскалённые иглы. Глаза Людвига воспалились, тело трясло как в лихорадке.
— Ты слышал о достопочтенном Иоганне Вольфганге фон Гёте? — попытался было утешить его врач. — Нет? Так вот он написал чудесную пьесу «Гётц фон Берлихинген». Это история рыцаря, потерявшего руку. Её ему заменили железным протезом, благодаря которому он особенно прославился.
— И он мог потом играть на рояле и органе?
— Ты слишком многого требуешь, мальчик.
Через несколько дней, когда мать вошла в музыкальную комнату, Людвиг недовольно пробурчал:
— Даже не знаю, что делать. Сегодня ночью рождественская служба, а я с этой проклятой рукой даже к органу не могу прикоснуться. Но господин Нефе надеется, что я исполню фантазию соль минор и фугу Баха...
— Вот тебе письмо от него.
— И что же он пишет? Я даже не могу сорвать печать... Ну, пожалуйста, мама, прочти мне его скорее.
— «Дорогой Людвиг! Узнав о случившемся с тобой, я словно выпил горькую как полынь чашу до дна. Только-только я научил тебя извлекать из органа более-менее приемлемые звуки, как ты позволил глупому мальчишке полоснуть себя по лапе то ли ржавым, то ли отравленным кинжалом...»
— Неужели ты обо всём написала ему?.. — перебил мать Людвиг.
— На мой взгляд, мы ничего не должны скрывать от него. Слушай дальше: «Разумеется, не следует даже пытаться исполнить фантазию одной только левой рукой. Бах слишком велик, и его произведения нельзя рассматривать только как упражнение для пальцев. Такое ты себе можешь позволить проделывать лишь со своими жалкими творениями, если, конечно, тебе когда-нибудь доведётся сочинять музыку! Короче, заруби на своём сопливом носу: на службе обычную музыку сыграет помощник органиста из Бойля, а насчёт остального можешь не беспокоиться, ибо месье Людвигу я нашёл достойную замену. Передавай привет матери и выздоравливай скорее. Этого настоятельно требует твой строгий, но всегда справедливый учитель. Христиан Готтлиб Нефе».
— Он так зол на меня? — Людвиг задумчиво наморщил лоб.
— Ну если любовь и доброта могут сочетаться со злостью... — улыбнулась в ответ мать.
— Замена... замена. Но здесь никто не сможет исполнить фантазию соль минор... — Он осторожно пошевелил перевязанной рукой. — Может, попробовать?
— Тогда она вся воспалится.
— Замена... Знать бы, кто сможет меня заменить?
Людвиг юркнул вниз по лестнице. Уже зазвонили колокола, и хор громогласно возвестил о наступлении Рождества. Хоть бы мать не проснулась...
Возле церковного портала множество людей отряхивали от снега башмаки и плащи. Красноватые блики пробегали по лицам ожидающих и переливались на золочёных одеяниях статуй святых.
Он обошёл ряды скамей, чувствуя, как сердце начинает ныть и болеть. Но виной этому была вовсе не раненая рука.
Помощника органиста из Бойля он знал. Этот обходительный молодой человек уже сидел за органом. Он жестом подозвал Людвига и прошептал:
— Ну как там твоя рука?
— А кто меня... заменит?
— Этого я тебе сказать не могу, но, надеюсь, он скоро придёт. — Помощник органиста ткнул пальцем в лежавшие рядом с ним плащ и шляпу. — Я сижу как на углях. Мне ещё предстоит играть в другой церкви.
Людвиг придвинул к органу сиденье с откидной спинкой. Он не хотел, чтобы его видели с Нефе, ибо после Роттердама сделался ещё более робким и нерешительным.
Как же замечательно сидеть вплотную к органу и вновь слышать его голос! От него даже утихла боль в руке. «Разумеется, от царившего в церкви холода орган немного расстроился, но тут мы легко справимся, это ведь не смычковые инструменты».
Он быстро устал, ибо много ночей его мучили жар и бессонница. Он с трудом приоткрыл глаза и с облегчением констатировал, что хоры пока ещё пусты.
— Людвиг, старый разбойник, разлёгся как ни в чём не бывало на моём плаще...
— А, кто?.. — Людвиг резко вскочил на ноги.
— Никто. Пойду скажу его преосвященству, что...
Помощник органиста торопливо набросил плащ, взял ноты, надел шляпу и ушёл.
Людвиг остался один. Может, погасить светильники? Нет, пусть этим займётся старик Каспар, всё ещё таскающий с собой миску с водой. Внезапно он решительно сорвал повязку и, подняв голову, увидел в зеркале над органом своё искажённое мукой лицо. А ушах загудел ветер, Людвигу даже почудился призывный шум орлиных крыльев, и он со стоном дёрнул за регистры. Рука не слушалась, а на клавиатуру тут же закапала кровь. Но Людвиг, стиснув зубы, продолжал играть и даже не заметил, как к нему приблизились два человека в усыпанных снегом плащах. Один из них был горбат, другой, напротив, отличался высоким ростом и статью.
— Мы опоздали, — прошептал Нефе.
— А кто играет? — Подобные раскатам грома звуки вынудили его спутника чуть отойти назад.
— Мой ученик и адъюнкт Людвиг ван Бетховен. — На лице Христиана Готтлиба Нефе выражалось явное удовлетворение.
Людвиг выдержал последний аккорд, убрал руки с клавиш и взглянул на Нефе и пришедшего вместе с ним лейб-медика курфюрста надворного советника фон Кериха.
— Я... чуть запачкал клавиши.
— У месье Людвига ручонки никогда не отличались чистотой, — угрюмо кивнул Нефе. — Но сегодня, мой мальчик, ты сыграл неплохо, хотя... — Он на мгновение задумался, не желая перехвалить своего ученика, а потом добавил: — Полагаю, однако, что в последнем аккорде опорного баса могло быть больше.
Кто-то рядом так прекрасно играл на рояле, что Людвиг не выдержал и проснулся. Неужели это его брат Карл?.. Он медленно открыл глаза и сразу же увидел солнечных зайчиков, весело прыгающих на металлических шарах кровати. В окне видны были покрытые сверкающим снегом крыши домов. А может, сегодня праздничный день?
— Ты проспал целые сутки, Людвиг.
— Неужели? А сколько сейчас времени?
— Уже давно миновал полдень. Хочешь есть?
— Не то слово. Я готов волком пробежаться по мясным лавкам Бонна.
— В Рождество, к сожалению, для волков мясные лавки тоже закрыты.
— Правильно, сегодня же Рождество...
— А как твоя рука, Людвиг?
— Моя рука? Я её больше не чувствую. Будто её вообще нет.
— Да нет, она на месте. — Мать с сомнением покачала головой. — Так что ты будешь есть?
— Всё... А кто там играл?
— Господин Нефе. Он сегодня ночевал у нас.
— Господин Нефе...
При упоминании его имени в памяти стали всплывать отдельные эпизоды вчерашнего дня. Вот его хвалят за игру на органе. Вот сани быстро несут его по улицам...
Тут музыка смолкла, и в комнату вошёл сам господин Нефе.
— Я всё слышал. Месье изволили хорошо отдохнуть и теперь хорошо восприняли мою с таким тщанием исполненную музыку. — Горбун с напускным гневом воздел руки. — Подумать только, он не стал ждать, пока господин надворный советник прооперирует его, а играл на органе до тех пор, пока из раны не вытек гной. Но между нами: сей костоправ ни к чему не пригоден и может лишь прописать промывание обычной водой. Вспомни, Людвиг, я всегда говорил, что музыка от чего угодно излечит.
В дверь постучали, и Магдалена вышла в коридор.
— Мы не помешаем, мадам ван Бетховен?
— Нет, нет, что вы! Такая честь для нас!
— Мы сегодня ночью были на рождественской службе. Как себя чувствует Людвиг?
— Спасибо, так себе.
— Quel honneur[18], да это же госпожа фон Бройнинг и моя маленькая подруга Элеонора. — Нефе радостно улыбнулся.
— Мы пришли, чтобы поблагодарить тебя, Людвиг. — Красивая женщина, которая тогда, на кладбище, не могла плакать, подошла к кровати. — Ты сегодня ночью играл просто великолепно. — Она положила руку на плечо дочери. — А теперь ты выскажи свою благодарность, Элеонора.
Стройная девочка в подбитом мехом плаще с капюшоном при свете солнца выглядела ещё более очаровательно. Она сделала книксен и тихо сказала:
— Я благодарю тебя, Людвиг.
— И передай ему свёрток.
— Вот, пожалуйста, voila a vous[19].
— Возможно, тебя разочарует наш подарок, — сочла нужным пояснить госпожа фон Бройнинг. — Здесь всего лишь пряники и прочие сладости. А ещё расписная тарелка, которую Элеоноре подарили на Рождество и которую она теперь хочет передать тебе. И ещё... — Тут в её глазах блеснули слёзы. — Мне кажется, что мой покойный супруг, — упокой, Господи, его душу, — также слышал тебя. Он приглашал тебя к нам, и потому, Людвиг, как выздоровеешь, посети наш дом. А ты непременно выздоровеешь, в этом меня твёрдо заверил отец. Он, как тебе известно, лейб-медик монсеньора.
После их ухода Людвиг медленно опустился на подушки и осторожно коснулся щекой свёртка. Она видела его — мальчика, которому на улице кричали вслед «Рябой» и «Шпаниоль», — и тем не менее пригласила к себе в дом. Может быть, она просто исполнила желание покойного мужа?..
Прошёл чуть не месяц, когда госпожа Магдалена как бы невзначай спросила:
— Ты, кажется, забыл, что нас пригласили в дом надворного советника?
— Да, забыл! — Людвиг как раз играл трель, но молоточки фортепьяно реагировали недостаточно быстро. — У меня нет времени! Когда? Знаешь, как господин Нефе гоняет меня? От клавесина к органу, затем к роялю, а в промежутке я вынужден ещё осваивать и виолончель. А ведь я ещё учу латынь, и уроки за меня никто не сделает. Вечерами же я вынужден искать, а потом прятать бритву, чтобы отец, вернувшись из трактира, не поранил себя...
Кларисса распахнула дверь. Она, как всегда, была чем-то недовольна.
— Там спрашивают Людвига.
— Меня?
— Да, какая-то девочка.
Она уже присела в книксене на пороге музыкальной комнаты. Сегодня на ней был короткий шёлковый плащ.
— Мама велит вам кланяться, госпожа Магдалена. Я пришла за Людвигом. Что-то он уж очень долго не идёт к нам. Я болела, вот сегодня впервые вышла. Ты можешь хоть на часок освободиться, Людвиг?
— Могу и на более долгий срок! — недовольно пробурчал он и с силой ударил по клавишам.
— Людвиг! — возмущённо воскликнула мать. — Какой же ты невоспитанный! А ну-ка веди себя прилично.
Нет, дело не в этом. Он просто должен уловить тональность, в которой Элеонора произнесла эти слова. До мажор! Решено, отныне, ликуя, он будет играть только её.
— Ты настоящая волшебница, Элеонора, — восхищённо сказала мать. — До твоего прихода он так яростно доказывал, что у него нет ни минуты времени, и тут вдруг... Пойду выглажу ему манжеты.
Когда мать вышла из комнаты, Людвиг спросил:
— Позволь мне угостить тебя?
Не дожидаясь ответа, он перепрыгнул через порог и тут же вернулся назад. Элеонора недоумённо посмотрела на него:
— Мой свёрток! Ты так и не съел ничего?
— Я сохранил его на память о тебе.
— Пряник совершенно высох. — Она поднесла его к сверкающим белизной зубам. — А ты не хочешь? Ты такие вещи не любишь?
— Да нет, но мне больше нравится, когда ты ешь.
— Когда я ем? — Она едва не поперхнулась от удивления. — Не понимаю.
— Знаешь, Элеонора...
— Не произноси так торжественно моё имя. — Она с напускной суровостью сдвинула брови. — Я попросила маму и всех друзей называть меня просто Леноре. По-моему, так более красиво.
— Леноре, — повторил он. — Давай я что-нибудь сочиню в твою честь. Не сейчас, конечно, попозже. Что ты хочешь? Квартет? Симфонию? Выбери сама.
— Нет, симфонии мне не нравятся. — Она брезгливо поморщилась. — Больше всего я люблю увертюры. И там будет стоять моё имя?
— Конечно.
Её глаза засверкали от радости, срывающимся от волнения голосом она сказала:
— И когда станешь таким же знаменитым, как господин Монсиньи, я буду гордиться тобой.
Он не любил Монсиньи, и потому пыл его несколько угас. Тусклым голосом он переспросил:
— Таким же, как господин Монсиньи?
Она поспешила утешить его:
— Ну пусть даже ты не будешь таким знаменитым, пусть, главное, что эта увертюра будет написана Людвигом ван Бетховеном.
Его глаза вновь засияли, как бриллианты в ночи.
Старинный дом был выстроен в весьма изысканном стиле. Какими же убогими по сравнению с ним выглядели дома на Рейнгассе, где селились музыканты.
— Тсс, Людвиг. — В прихожей Леноре приложила палец к губам. — Теперь мы должны красться осторожно, как кошки. Там, наверху, — она показала пальцем на потолок, — живёт брат моей мамы дядюшка Абрахам. Он каноник. — Она сделала книксен и тут же хитро подмигнула Людвигу: — А сейчас ступай ещё тише, ибо здесь живёт брат моего покойного отца дядюшка Лоренц. Он тоже каноник да к тому же ещё наш опекун и воспитатель, но на самом деле это я их обоих воспитываю, и они даже ладони складывают при одном моём появлении.
Наконец они поднялись наверх, и Леноре уверенно заявила:
— А теперь мы можем шуметь.
Она закружилась на одном месте, громко распевая:
— Мы пришли! Со мною Людвиг!
Госпожа фон Бройнинг перестала вязать, а сидевший рядом мальчик в широкополой шляпе с петушиным пером поправил ярко-красный шарф и рявкнул:
— La bourse ou la vie![20]
— He позорь нас перед Людвигом. — Госпожа фон Бройнинг тяжело вздохнула: — Кристоф непременно хочет стать разбойником, но, думаю, со временем это пройдёт, а так он совершенно безобиден. Он даже станет тебе надёжным другом. Этого робкого мальчика зовут Стефан, а там в углу сидит Лоренц, мы называем его просто Ленц[21].
За столом госпожа фон Бройнинг окинула всех строгим взглядом:
— Хочу сразу же рассказать тебе, Людвиг, о нравах и обычаях нашей семьи. У нас никого ни к чему не принуждают. Но уж если взялся, изволь довести дело до конца. Кстати, как твоя рука?
Людвиг пошевелил пальцами так, словно играл на рояле, и сам испугался своего жеста:
— Рука... С ней всё в порядке.
Она, казалось, ничего не заметила.
— Ну очень рада за тебя. Так вот, дети, слушайте меня внимательно. Не знаю, захочет ли Людвиг нам потом сыграть, но если он будет так добр и любезен, то и вы поучитесь у него. — Она пристально посмотрела на Людвига: — Только пойми меня правильно. Мы пригласили тебя вовсе не потому, что ты играешь на рояле.
Смуглое лицо Людвига ещё более потемнело. Ему стало стыдно, ибо эта красивая добрая женщина угадала его мысли. Что это вообще всё значит? Леноре положила ему на тарелку кусок пирога, «разбойник» — второй. Он подцепил его своим деревянным кинжалом. Стефан обнял его за шею — его, урода, которого мальчишки на улицах дразнили...
Чуть позже Людвиг искоса взглянул в распахнутую дверь соседней комнаты и решительно встал:
— Что прикажете?
В последнюю минуту мать строго-настрого приказала ему вести себя как можно учтивее. Как ни странно, это не составило для него особого труда. Видимо, на него подействовала подчёркнуто любезная манера общения.
— Если уж ты и впрямь хочешь доставить нам радость своей игрой, — госпожа фон Бройнинг ласково улыбнулась, — то мы не считаем себя вправе что-либо тебе предлагать.
— Нет-нет. — Леноре тут же спрыгнула со стула. — Я упражняюсь, упражняюсь, но проклятая соната никак не получается. Пожалуйста, сыграй мне сперва сам что-нибудь.
Она немедленно бросилась к роялю и положила на пюпитр ноты.
— Соната Руста. — Людвиг мельком взглянул на лист. — Я её не знаю, но все сонаты знать невозможно. Это, по-моему, лёгкая пьеса.
Какую он опять чушь смолол! Ведь ему предстояло сейчас выдержать очень трудный экзамен. А экзаменаторы будут столь же придирчивы, как и господин Нефе...
Ну что ж, рискнём. Сперва престо[22], и потому его пальцы стремительно забегали по клавишам.
— Людвиг! — испустила крик Элеонора. — Как можно так быстро играть? И это ты называешь лёгкой пьесой?
В комнату вошла госпожа фон Бройнинг:
— Не мешай, Леноре.
— Мадемуазель мне не мешает, — рассмеялся Людвиг. — Смотри: чёрная, белая, чёрная, белая. Ты как бы через изгородь прыгаешь. Туда-сюда, туда-сюда.
Затем он начал играть медленно. Элеонора стояла, опершись локтями на рояль, и не сводила с него глаз. Внезапно она подбежала к матери, величественно восседавшей в кресле, и прошептала:
— Мама, дорогая мама...
— Да, дитя моё?
— Помнишь, что я тебе тогда говорила в сенях? У него теперь тоже в глазах такой же чудный свет.
— Но разве ты не видишь, какие они грустные? — Госпожа фон Бройнинг привлекла дочь к себе. — И тому есть много причин... Нужно сделать их весёлыми. Понимаешь?
— Да, дорогая мама.
Когда Людвиг закончил играть, Элеонора села рядом с ним на скамейку:
— Как тебе такое удаётся?
— Достигается упражнениями, — недовольно поморщился Людвиг.
— Я хотела бы тебя вот о чём спросить, Людвиг. — Госпожа фон Бройнинг подошла к роялю. — В данный момент у Леноре нет хорошего преподавателя музыки. Нет ли у тебя желания...
— Какого, мадам? — Он недоумённо посмотрел на неё.
— Давать ей уроки игры на фортепьяно.
— Я... Леноре?
— Я бы... — Она хотела сказать: «Платила бы тебе столько же, сколько и предыдущему учителю», — но, увидев напряжённое лицо Людвига, совсем по-иному закончила фразу: — Была бы тебе очень признательна. Ты ведь не захочешь брать с нас плату за обучение, но зато сможешь стать нашим другом. Тебя это устраивает?
Он молча кивнул в ответ.
Ласточки стремительно пикировали вниз на мостовую, предвещая дождь, но пока августовский день был прекрасным и жарким.
Он распахнул в церкви окна, от притока воздуха стало лучше, но всё же ему так и не удалось изгнать из лёгких сладковато-горький запах, незадолго до похорон младшего брата Франца Георга заполнивший музыкальную комнату.
Хотя всякий раз это происходило по-разному, впечатление всегда было одинаково ужасным. Когда его сестрёнка Франциска умерла через несколько дней после своего появления на свет, он схватил её за крохотную ручку и почувствовал, будто коснулся чего-то неприятного — шершавого дерева или камня.
Хорошо, что удалось под благовидным предлогом сбежать из дома. Ведь сегодня господин Нефе давал ему урок теории. Он должен был также принести с собой «Хорошо темперированный клавир» Баха. Нефе собственноручно снял с него копию. Странно, что эти ноты не были напечатаны...
Он собрал книги. Чего только среди них не было: «Обращение аккорда» Рамо, «Преддверие музыкальной композиции» Зорге, «Истинные принципы гармонии» Кирнбергера... А где же И. Фукс с его «Gradus ad Parnassum»? А, вот где он спрятался, среди других нот.
Нефе стоял посреди отведённой ему в театре студии и не сводил глаз с циферблата огромных напольных часов, на котором при каждом ударе маятника начинал двигаться корабль.
— Хорошо, что ты пришёл раньше всех остальных. Нужно кое-что обсудить. Пора заканчивать уроки теории, а больше мне тебя учить нечему. — Он с усилием повёл плечами. — Луккези уходит в отпуск, и поэтому мне навязали его должность. Поможешь мне?
Мальчик приложил руки к сердцу.
— Хорошо. Тогда ты время от времени на премьерах опер или на концертах будешь играть на клавесине. — Он громко фыркнул. — Должен сразу признать, что это чрезвычайно ответственное дело. Уж не знаю, справишься ты или нет. Но на безрыбье и рак рыба. Далее. На органе ты также продолжишь играть. Что же касается композиторства... — Тут взгляд его стал острым как кинжал. — Во время наших занятий ты кое-как сумел сочинить три сонаты, лучшей из которых является фа минор, но всё равно её крёстные отцы — не только Фильц[23], Эйхнер, Эдельман, Шуберт и ваш покорный слуга, но даже Гроген, Руст и Стамиц. Ты превосходно запоминаешь чужие произведения, Людвиг ван Бетховен, и потому со спокойной душой воруешь у других. Однако со временем тебе в голову может прийти что-нибудь оригинальное, тому свидетельство эти сонаты. В конце концов, монсеньор всё равно ничего в этом не понимает.
— Неужели монсеньор?.. — испуганно спросил Людвиг.
— Непременно. Ты немедленно отправишься домой и будешь до посинения исправлять свои три убогих сочинения. И посвятишь ты их монсеньору, текст я тебе уже набросал. И чтоб никаких жирных пятен на нотах. — Нефе сделал паузу и не терпящим возражений тоном продолжил: — Вынужден сказать тебе горькую правду. Ты, наверное, и сам уже понял, что твой отец утопил свой голос в акцизной водке. Не будем причитать по этому поводу, изменить ничего нельзя, так или иначе его скоро отправят на пенсию. Придётся тебе позаботиться о матери и братьях.
— Мне? Каким образом?..
— Увидишь. Передай матери привет, и всего тебе наилучшего, мой мальчик. Как, ты ещё здесь? А ну-ка немедленно убирайся отсюда!
Через несколько месяцев монсеньор принимал высоких гостей и выразил желание устроить для них в Национальном театре гала-представление оперы.
На репетиции господин Нефе никому не давал спуску. Примадонна мадам Саломон в истерике убежала со сцены. Даже у Фридерики Флиттнер слёзы ручьём текли по щекам. Один-единственный звук литавр он заставил повторить сорок раз и в ярости назначил новую репетицию за три часа до премьеры.
Но и тогда его настроение не улучшилось, к тому же актёры постоянно лязгали зубами. Действие оперы происходило в озарённом солнцем летнем саду, но сцену продувало насквозь, ибо снаружи, как и полагается в середине февраля, стоял лютый мороз.
Людвигу было отрадно сознавать, что он может спрятаться за своим клавесином. Пока ещё его никто ни в чём не упрекнул, и весь этот словно сотканный из света и музыки мир увлекал и манил его. Можно было хоть на пару часов забыть о всегда царившем в доме полумраке. Он читал ноты, переводя их на клавесине в аккорды и пассажи.
— Заканчивайте, господин Нефе. — В зал вошёл обер-гофмейстер граф Зальм-Рейфершайд. — Публика уже ждёт, а сиятельные особы вот-вот встанут из-за стола.
— Я бы прервал репетицию, граф Зальм, — покорно кивнул Нефе, — но, к сожалению, месье Людвиг ван Бетховен не обращает на меня ни малейшего внимания. Дирижёр для него — ничто. Может, вы всё-таки соизволите оторваться от клавесина, ван Бетховен?
Людвиг убрал руки с клавиш.
— А теперь будьте так добры встать!
Людвиг медленно поднялся.
— Что у вас за вид? — Христиан Готтлиб Нефе прищурился. — Разве вы не знаете, что сегодня всем придворным музыкантам положено надеть парадные костюмы? Как только у вас хватило смелости прийти сюда? Где ваш фрак цвета морской волны и позолоченная шпага?
Людвиг не понял ни одного слова.
— Позвольте попросить у вас грамоту, граф Зальм... Покорнейше благодарю. — Горбун неторопливо свернул бумагу в трубочку и два раза ударил ею мальчика по ушам. — Знаешь, что я с тобой сделал?
Людвиг испуганно задрожал.
— Я посвятил тебя в рыцари, Людвиг ван Бетховен. По-прежнему ничего не понимаешь? Господи, на такого чурбана я потратил столько времени! Ну, наконец-то, вроде бы дошло. Ты стал придворным музыкантом. Благодари его сиятельство графа Зальма, он все пальцы из-за тебя исписал в связи с... некими сонатами! Впрочем, он уже блистает своим отсутствием. Никто не хочет иметь с тобой дело, негодник.
— Господин Нефе... а сколько ещё до начала?
— Двадцать минут. Ты хочешь?..
— Я быстро.
— Хорошо, но если господин придворный музыкант вздумают опоздать... Я тебя тут же обратно выгоню.
Людвиг стремительно бежал по тёмным улицам. В тринадцать лет получить должность придворного музыканта, в тринадцать лет...
Этой весной всё вокруг сверкало, как золочёный эфес шпаги, с которой Людвиг иногда гордо расхаживал под портретом покойного деда.
Он внимательно вгляделся в его лицо и не смог скрыть разочарования, ибо дед взирал на него не с чувством законной гордости, а как-то холодно-равнодушно.
Может быть, ему не нравилось, что он пока ещё не получил жалованья? Что господину Нефе пришлось пожертвовать ему парадное одеяние? Нет, лицо деда что-то определённо выражало, только что именно?
Людвиг посмотрел на себя в зеркало. Да, конечно, он по-прежнему неказист, и ни фрак цвета морской волны, ни белый шёлковый жилет не меняют его внешности. Он по-прежнему маленький и неуклюжий.
Карл младше на четыре года, а уже собирается перерасти брата, не говоря о Франце Вегелере, недавно посетившем семейство Бройнинг. Выше его на голову, строен, гибок и так очарователен, что у Леноре всё время глаза сверкали...
Но зато теперь он — придворный музыкант.
Мать вместе с братьями вошла в комнату:
— Людвиг!..
Он медленно повернулся и выжидательно посмотрел на неё.
— Как он вам нравится, Карл и Иоганн?
— Таким я могу стать в любое время, — пренебрежительно повёл плечами Карл.
— О нет. — Магдалена покачала головой. — Так не бывает, чудеса с неба не сваливаются, правда, Людвиг?
— Порой я думаю, что каждый стежок на этом придворном костюме выбит ударом трости. Нужно сказать батюшке...
— Скажи, Людвиг. Он будет очень рад.
— Но ведь батюшка не разговаривает со мной.
С тех пор как Людвига назначили придворным музыкантом, Иоганн не скрывал своей ненависти к нему.
— И это только начало. — Людвиг довольно улыбнулся. — Посмотри на Доду, посмотри.
— Я ничего не вижу. — Лицо матери стало отчуждённым.
— Он даёт мне какое-то указание. Только...
— Что, Людвиг?
Глаза мальчика превратились в узенькие щёлки, он нахмурился и тихо сказал:
— Похоже, у него сейчас не слишком приятные мысли.
Госпожа фон Бройнинг и её братья-каноники были приглашены на обед во дворец, и дети остались одни. Они уже поели, и Людвигу пришлось навёрстывать упущенное.
Кристоф сегодня был одет не как разбойник, а как подобает выходцу из благородного сословия. Людвига особенно восхитила позолоченная шпага. Стефан и Ленц робко смотрели на Людвига ясными глазами.
Леноре блеснула белыми зубами, её язычок с быстротой ящерицы скользнул по ярко-красным губам.
— Сделать перед тобой книксен, Людвиг? Думаю, что да.
Она присела, в этом жесте не было никакой издёвки, и всё же он не понравился Людвигу. Интересно, поступила бы она так с Францем Вегелером? Нет, наверное, при нём бы она оробела. Людвиг почувствовал, как его захлёстывает волна жгучей ненависти к этому долговязому субъекту, а уж ненавидеть он умел. Он ненавидел Моцарта, а также мальчишек, кричавших ему вслед на улице «Шпаниоль».
— Мне нужны чернила, перо и песок, Кристоф.
— Зачем?
— Принеси и поставь на рояль... — Людвиг принёс что-то из прихожей.
— Что это? — спросил Кристоф.
— Ноты, только ноты.
Он разгладил лист, окунул гусиное перо в чернильницу и начал писать. Кристоф прочёл через его плечо:
— «Мо... моей подруге... Элеоноре фон Бройнинг... Людвиг ван Бетховен».
Собственный почерк ему очень не нравился — какой-то уж очень детский и буквы корявые. Он посыпал бумагу песком, резко повернулся и протянул лист девочке.
— Мне, Людвиг? — Леноре широко раскрыла глаза от удивления. — А что это за ноты? Ты принёс мне их для упражнений?
— Нет. Это... это моё первое напечатанное сочинение. — Он презрительно махнул рукой. — Ничего особенного, две небольшие вариации марша господина фон Дреслера. Был такой оперный певец в Капелле, он, правда, уже умер. Мои вариации понравились господину Нефе даже больше, чем сам марш.
— Здесь написано. — Элеонора посмотрела на ноты, — par Louis van Beethoven[24]... Огромное спасибо, Людвиг. Клянусь, эти ноты, — она судорожно прижала их к груди, как бы желая спрятать от чужого взгляда, — я сохраню, сохраню навсегда. Может, исполнишь?..
Он кивнул, сел на скамью, порылся в нотах.
— Исполню, — и вдруг прямо-таки упал на рояль, — а может, мне по-другому сварьировать марш?
Левой рукой он сыграл маршевую мелодию, правой выбил бешеные октавы стаккато. Он вдруг понял, что нужно бороться, борьба уже захватила его.
Пляска ведьм превратилась в горький, жалобный плач, полный тоски и печали. Людвиг раздвинул широкие толстые губы, казалось, он шептал заклинания, обращённые к пальцам и клавишам.
И тут вдруг он увидел Франца Вегелера. Ненавистный соперник с улыбкой произнёс:
— Никто против тебя ничего не имеет, Людвиг.
Элеонора промолчала и начала ещё более пристально всматриваться в ноты, словно ища в них защиту. Но её глаза!..
Чуть позже вернулась госпожа фон Бройнинг и сразу же удивлённо спросила:
— Что с Людвигом? Он промчался мимо меня с искажённым лицом. Что здесь произошло?
— Ничего, chere Maman[25], — ответил за всех Кристоф. — Людвиг подарил Леноре своё первое напечатанное сочинение. Сел к роялю, начал играть, потом вдруг вскочил, захлопнул крышку и...
— Может, кто-либо из вас обидел его каким-нибудь необдуманно сказанным словом?
— Напротив, мама. Франц говорил о нём только хорошее.
— Правда, правда, — подтвердила Элеонора.
— А ты... ты, Леноре?
— А я вообще молчала, мама. Я, как и все мы, ни в чём не виновата.
Зима ознаменовалась обилием снега и праздников.
Такого снегопада здесь ещё не видывали. Днём солнце едва проглядывало сквозь густую пелену, по ночам через неё так же мутно мерцали звёзды. Скрежет лопаты затихал только глубокой ночью, однако по утрам Людвиг, направляясь в церковь, видел, что улицы по-прежнему тонут в сугробах.
— Не нравится мне всё это, — сказал как-то господин Фишер, расчищая вместе с Людвигом подходы к лавке и дому. — В Швейцарии уже случилось несчастье.
— Швейцария далеко, — ответил Людвиг.
— Но мы соединены с ней Рейном, — мастер Фишер смахнул снежинки с лица, — и если начнёт таять...
— Да Рейн даже две снежные лавины проглотит и отправит их в Северное море.
— Будем надеяться, будем надеяться.
— А что может случиться? — Людвиг опёрся о лопату.
— Он может явиться к нам в гости.
— Рейн?
— Людвиг, если верить древним церковным книгам... Конечно, не нужно пугать себя. Но мы уже познакомились с огненным дьяволом, и у меня нет ни малейшего желания заводить знакомство ещё и с водяным. Судя по церковным книгам, всё может обернуться ещё более ужасными последствиями.
После церковных служб Людвига как бы уносил вихрь праздников. Таким курфюрста его подданные ещё не знали. Казалось, вернулись времена баварского расточителя, и не хватало только выскакивающего из паштета карлика.
Граф Бельдербуш — «Кошка» — был тяжело болен. Возможно, «мыши» просто воспользовались благоприятной ситуацией и устроили лихую пляску.
Один бал следовал за другим, и по улицам под звон колокольчиков непрерывно мчались сани, доставлявшие гостей во дворец или, наоборот, развозившие их по домам. В дворцовых залах каждую ночь горели тысячи свечей, и их отблеск был отчётливо виден сквозь сыпавшийся снег. Порой, устав от балов, концертов, опер, спектаклей, игры в трик-трак и роскошных пиров, монсеньор начинал испытывать нечто вроде раскаяния. Тогда в нём просыпался епископ, который вспоминал о вечности и устраивал в церквах службы, также поражавшие своей роскошью.
Как-то Людвиг провожал ночью Нефе домой, и горбун, прислушавшись к бою часов на башне, пробурчал:
— Четыре. Через два часа тебе снова за орган.
— А я спокоен, — рассмеялся Людвиг. — Схожу сейчас в церковь, приободрюсь немного. Если я лягу в постель, меня уже никто на свете разбудить не сможет. А что с монсеньором?
— Только держи язык за зубами. — Нефе облокотился о плечо мальчика. — Монсеньор — это затухающая свеча.
— Кто-кто?
— Выразиться яснее? Ну, свеча, которая может ещё ярко вспыхнуть.
— А потом?
— Я тебе ничего не говорил, — угрюмо пробормотал Нефе, — и потом, я уже дома. Знаешь... давай поднимемся ко мне. Хочу преподать тебе хороший урок. Только тихо, не разбуди жену.
Горбун зажёг свечи и сбросил покрытую тающим снегом пелерину.
— Садись, Людвиг, и не бойся горы на письменном столе. Она не рухнет. Чем ты заинтересовался? Миниатюрой? Хорошенький мальчик, не так ли? В отличие от отца, у него напрочь отсутствует горб. ...Это мой покойный сын.
Людвигу даже в голову не могло прийти, что у его учителя есть ещё какая-то своя жизнь, в которой он может быть глубоко несчастен. Тем временем Нефе поднёс к горящей свече бумагу, а потом бросил её в железную печь.
— Ух ты, какое пламя. Слышишь треск? Ну просто Прометеев огонь. А сейчас набью-ка я трубку.
Пока он щедро накладывал табак в фарфоровую головку, Людвиг окинул глазами комнату. В небольшом помещении, где впритык друг к другу стояли клавесин, письменный стол и шкаф, а на стенах висели полки, передвигаться было почти невозможно.
Нефе выпустил густой клуб дыма в лицо человека, изображённого на вставленной в рамку гравюре:
— Плохой человек.
— Кто? Иоганн Себастьян Бах?
— Именно! — Он с наслаждением затянулся. — Я мог сочинять музыку не менее быстро, чем он. Но увы, этот дар мною утрачен. Стоит этому человеку со спокойным лицом взглянуть на мой опус, как я тут же швыряю его в печь. Бах стоил мне целой кипы нотной бумаги, чуть ли не бочки чернил и кучи гусиных перьев. Прочти-ка вот это.
Он протянул Людвигу разделённый на столбцы и исписанный изящными, с завитушками буквами канцелярский лист.
— Что это, господин Нефе?
— Мой близкий друг принёс из дворца секретный доклад.
Людвиг прочёл:
«Всеподданнейше докладываю, каким образом надлежит, по моему скромному разумению, произвести изменения в придворной капелле.
Луккези — путём предоставления отпуска можно сэкономить 400 гульденов.
Иеврин обладает плохим голосом. Ей можно вдвое уменьшить жалованье и тем самым сэкономить 300 гульденов.
Нефе не совершил ни одного богоугодного дела, не только не умеет играть на органе, а и вообще несведущ в музыке, к тому же ещё иностранец и кальвинист, а значит, еретик. Его вполне можно немедленно уволить и тем самым сэкономить 400 гульденов».
— Господин Нефе, что это?
— Что? Завистники и клеветники всегда великодушны. — Нефе не сводил глаз с исходившего от свечей голубовато-серого дымка. — Впрочем, возможно, они и правы. Какие уж такие богоугодные дела за мной числятся? Правда, насчёт органа они ошиблись. Играю я на нём так, что ни одному из этих олухов со мной не сравниться, ну и что с того? Вот потому-то я и хочу поговорить с тобой, Людвиг. Я предложил сделать моим преемником тебя. Если согласен, подавай петицию.
— Благодарю вас, господин Нефе, — дрожащим голосом произнёс Людвиг, — за всё, что вы для меня сделали. Только...
— Значит, ты не хочешь?
— Нет!
— Я уже заранее предугадал твоё решение, упрямец, — горбун нервно потёр руки, — и оно, признаться, меня радует. Тебе предстоит ещё очень много работать над собой, хотя на органе и рояле ты играешь всё лучше и лучше. Я даже начинаю гордиться — и знаешь чем? Тем, что имею возможность преподавать Людвигу ван Бетховену. Иногда мне даже кажется, что кое-какие тона приходят тебе откуда-то свыше.
Через какое-то время Людвиг, отряхнув на пороге церкви с обуви снег, взбежал на хоры. На скамьях уже расселись прихожане, и служка наверху подал знак.
Внезапно перед глазами Людвига запрыгала цифра 400. Четыреста гульденов в месяц — отец в последнее время получал на сто гульденов меньше. Из этой суммы Нефе довольно много отдал Людвигу. И потом, его учитель действительно немыслимо талантлив. И именно ему причинили зло.
Он заиграл прелюдию, импровизируя на ходу; орган гневно взревел и тут же начал издавать жалобные стоны, как бы оплакивая судьбу человечества.
Треск льда на Рейне сменился громким плеском, а снег всё падал и падал. Внезапно из дворцовых окон исчез красноватый отблеск пламени свечей. Граф Бельдербуш умер и был похоронен с подобающими для канцлера почестями.
После панихиды по улицам между снежными завалами, под звон колоколов всех церквей двинулась траурная процессия, посреди которой медленно ехали сани с водружённым на них роскошным гробом. Почётный эскорт состоял из конных гвардейцев в парадных шлемах.
В последний день Масленицы в огромном зале над Национальным театром состоялся такой бал-маскарад, что день вполне можно было назвать «буйным понедельником». Монсеньор сидел в нише и, как обычно, играл в свой любимый трик-трак. Он был без маски, и его одутловатое лицо выглядело сильно осунувшимся. Украшенная княжеской звездой грудь бурно вздымалась. Игравшие с ним дамы были в полумасках, одна из подвыпивших арлекинш долго трепала его седые волосы, затем уселась к нему на колени, допила его шампанское и поцеловала в губы. Монсеньор закашлялся и замахал руками. Когда арлекинша спрыгнула с колен, Людвиг подумал, что теперь его лицо похоже на гипсовую маску, снимаемую обычно с покойников...
Грянули литавры, что было сил заиграли гобоисты, скрипачи с усердием водили смычками по струнам. Ведь от них требовалось заглушить музыкой смех, гул голосов и шарканье множества ног. Дирижёр Нефе выглядел просто размахивающей руками марионеткой, а Людвиг извлекал из клавесина всё более причудливые звуки.
К столу монсеньора подошёл лакей. Сегодня он проделывал это уже неоднократно, но в зале вдруг почувствовали, что, несмотря на внешнее спокойствие, выработанное за долгие годы службы во дворце, он должен сообщить сейчас тревожную весть. Замолкла музыка, танцующие замерли в напряжённом ожидании.
— Чего тебе? — Голос у курфюрста был ещё более надтреснутым и дребезжащим, чем в обычные дни.
— Монсеньор, Рейн...
— Что Рейн?
Конец фразы лакей произнёс шёпотом, и поэтому окружающие ничего не поняли. Может быть, Рейн вышел из берегов, а может быть, лакей сказал «Рейнгассе».
Курфюрст же равнодушно кивнул в ответ:
— Хорошо.
Однако «Огненный дьявол», танцевавший возле стола с дамой в костюме Психеи, услышал разговор. Он сорвал маску и оказался молодым полковником фон Клейстом.
— Покорнейше прошу вас, монсеньор, позволить мне выполнить свой долг. Могу ли я отдать приказ?
Курфюрст вяло вскинул руку и тут же опустил её.
Полковник фон Клейст отвесил низкий поклон монсеньору, затем своей даме и воскликнул на весь зал:
— Всем офицерам немедленно вернуться в казармы! Поднять по тревоге караульный полк!
Во дворе забили барабаны, в городе ударили в набат.
В бальном зале погас свет, и город погрузился во тьму. Чуть позже в окнах домов заметались огоньки, и барабанный бой зазвучал уже на улицах. На мостовой загрохотали солдатские сапоги.
Ночь выдалась очень сырой. На небе тускло мерцали звёзды, похожие на припухшие от сна глаза. Над крышами висел тонкий серпик луны. Вспыхнули факелы и, извергая клубы дыма, как бы сами собой двинулись к Рейну.
Людвиг обогнал Нефе и впервые заметил, что у горбуна ещё и кривые ноги, как у портного, вынужденного долгое время сидеть на стуле со скрещёнными ногами. Нефе долго не замечал, что торчащая из заднего кармана его зеленоватого фрака дирижёрская палочка задевает идущих рядом людей. Наконец он опомнился и засунул поглубже этот воистину бесценный предмет.
Многое было совершенно непонятно. До Рейнгассе было ещё далеко, однако вода оказалась совсем рядом. На иссиня-чёрной поверхности отражение лунного серпика прыгало и извивалось, как змея. Из переулка потоком хлынула толпа. Люди тащили кровати и шкафы, но Людвигу показалось, что вещи загадочным образом движутся сами по себе. Потом ему вдруг померещилась рука, высунувшаяся из воды и тут же снова скрывшаяся в ней.
Людвиг отпрыгнул назад и срывающимся голосом задал обращённый в никуда вопрос:
— Где лодки?
Прохожий громко рассмеялся:
— Лодки? Одни затонули, другие уплыли в Голландию. А паром болтается между деревьями, если, конечно, его ещё не затопило.
Он помолчал немного, окинул взглядом придворный костюм Людвига и удивлённо спросил:
— Куда вы направляетесь?
— На Рейнгассе.
— Куда-куда?
Можно было подумать, что Людвиг изъявил желание отправиться на луну. Какая-то женщина жалобно запричитала:
— Да на Рейнгассе никто даже проснуться не успел, как вода уже дошла до вторых этажей.
Людвиг, не раздумывая, бросился вперёд и тут же понял свою ошибку. В ледяной талой воде плыть было нельзя.
Он вернулся на тротуар и запрыгал на одном месте, чувствуя, как тепло медленно разливается по замерзшим ногам. Потом он скрылся за углом, откуда уже доносился усиливающийся барабанный бой.
В доме Фишеров он птицей слетел по лестнице вниз и распахнул дверь в музыкальную комнату.
— Людвиг!..
— Добрый вечер или, точнее, доброе утро. — Он растянул в улыбке толстые губы. — А где батюшка?
Мать чуть пожала плечами и осторожно спросила:
— Ты-то откуда?
Людвиг потёр окровавленные руки. На чердаке хранилось зерно, и ему пришлось ломать проволочное заграждение, установленное для защиты от голубей и воробьёв. Выходит, любовь к акцизной водке спасла отца, ибо все питейные заведения находились в центральной части города.
Людвиг улыбнулся и радостно прохрипел:
— Я, как кошка, пробрался по крышам.
Фишеры тоже были здесь, и мастер рассказал следующую историю.
Он как раз раскатывал в пекарне тесто, как вдруг услышал нечто вроде громового раската. Одновременно снаружи что-то загрохотало, он спустился со светильником вниз и едва приоткрыл дверь, как лавку залило водой и с треском вылетела витрина.
Нет, нет, он тогда ещё не думал о наводнении, но на всякий случай запер дверь и даже два раза повернул ключ в замке.
Тут слово взяла его жена:
— Муж как оглашённый ворвался в комнату с криком: «Вода! Вода! Она уже подступает к спальне! Хватай сына! А где Цецилия? Скорее к Бетховенам!»
Пока она говорила, мастер Фишер сходил в прихожую и, вернувшись, заявил:
— Вода скоро дойдёт и сюда. Что мы тогда будем делать, госпожа ван Бетховен?
Цецилия всхлипнула. Госпожа Фишер поднесла сжатые в кулаки руки ко рту, а Карл громко заплакал.
— Тихо, Карл! — Кожа на лбу госпожи Магдалены собралась в глубокие складки. — Как тебе не стыдно? Запомни, трусость — это позор! Посмотри, какой молодец Иоганн, сидит себе спокойно и читает «Робинзона».
— Мы сейчас сами как Робинзон на острове. — Людвиг подошёл сзади к брату и пробежал глазами страницу.
Через несколько минут мать вышла в соседнюю комнату и позвала туда Людвига.
— Слушай, а если вода и впрямь поднимется... Что тогда?
— Залезем на чердак.
— А если?.. — Мать строго посмотрела на него.
— Сюда я добирался по крышам. Пойдём тем же путём.
— Нет! — Одна только мысль об этом внушала ей ужас. — Да стоит мне только увидеть кого-нибудь на чердаке или дереве, как я вся трясусь от страха.
— Ну хорошо. — Людвиг задумчиво щёлкнул пальцами. — Давай лучше уйдём отсюда.
Внезапно он насторожился, услышав новые звуки. Снаружи раздавался то затухающий, то вновь усиливающийся жалобный вой. Это со стороны Альп дул тёплый сухой ветер, возвестивший о своём приходе сперва несколькими лужами, а затем обрушивший на город воды Рейна.
В музыкальную комнату вместе с ним из прихожей вошёл смертельно бледный Фишер.
— Да смилуется над нами Господь! У нас здесь самый настоящий потоп! Там... там... там! — Он показал дрожащими пальцами на порог, через который уже лилась вода.
— Быстро все наверх! — закричал взявший на себя ответственность Людвиг. — Давай, Цецилия, вперёд, а вы, господин Фишер, помогите жене нести Готтфрида. Пошли, Иоганн. А ты, мамочка, возьми Карла на руки. Я схожу посмотрю, что там происходит.
Напоследок он ещё раз взглянул на портрет деда.
Свечи погасли, и Людвигу пришлось в темноте считать ступеньки лестницы. На предпоследней у него под ногами уже плескалась вода. Он кое-как добрел до кухни, снял с крюка фонарь, взял лежащее возле очага огниво, чиркнул им, вставил горящую свечу в фонарь и пошёл обратно.
В амбаре он первым делом выглянул в окно и обомлел, увидев повсюду отливающую чёрным воду. Теперь Рейн и впрямь можно было назвать безбрежным. Слева неподвижно замерла длинная цепочка огней. В такой ситуации спасателям оставалось лишь тянуть вверх руки с факелами.
Вдруг послышались громкий треск, и хруст, на несколько минут даже заглушившие гулкие удары набата.
— Что случилось? — завопила в истерике госпожа Фишер.
Её муж боязливо втянул голову в плечи.
— Обрушились два дома. У них подмыло фундамент.
— Всемилостивейший Боже, а если тут у нас...
— Людвиг! — требовательно спросила мать. — А наш дом устоит?
— Откуда мне знать, — огрызнулся Людвиг.
— Нет, скажи правду.
— Я музыкант, а не архитектор.
— Ну хорошо. — У матери явно лопнуло терпение. — Тогда я спрошу по-другому. Что бы ты делал один?
Людвиг не сразу ответил. Он долго смотрел на фонарь, потом озабоченно пошевелил губами и, наконец, сказал:
— Ну ты же сама знаешь, мамочка.
— Значит, пойдём по крышам... — Мать резко встала с туго набитого мукой мешка.
Со вбитого в балку крюка свисала связка верёвок. Людвиг размял их, проверяя на прочность.
— Они не сгнили, Цецилия. Помнишь, как мы поднимали ими твоих кукол. Давай, Цецилия, покрепче привяжи Готтфрида к спине отца, а я то же самое сделаю с Карлом... Эй, мамочка, он у тебя со спины не сползёт? Ну хорошо. Ну-ка, Иоганн, залезай ко мне на спину — и поползли. Ничего не бойся, я знаю дорогу.
Госпожа Фишер вновь жалобно запричитала, но тут словно в ответ на её жалобы снаружи раздался страшный грохот. Людвиг ловко выпрыгнул в проем со словами:
— А теперь ты, мамочка!
Он взобрался на коньковый брус, подполз по нему к дымовой трубе, схватился за край, и тут его охватил страх. Мать почти наверняка не выдержит и сорвётся, но может быть, ему удастся убедить её, что опасность не столь уж велика.
— А ну-ка прокукарекай, Иоганн!
— Чего-чего?
— Дай своим петушиным криком остальным знать, что ползать здесь ну просто одно удовольствие. Громче, Иоганн! А утром я подарю тебе целый гульден.
Через несколько минут сзади послышался срывающийся от волнения голос матери:
— Хватит дурить, Иоганн! Кончай кукарекать.
Выходит, он хоть немного успокоил её? Людвиг набрал в грудь побольше воздуха и прохрипел:
— А ну-ка хоп, как зайцы. Сейчас мы выберемся на плоскую крышу, потом, правда, придётся ещё немного проползти по коньку, но там уже не так высоко и голова не закружится.
Когда они проделали большую часть страшного пути, Людвиг передал Иоганну фонарь. Над их головами жутко завывал ветер, но вода внизу не бурлила, и уровень её заметно снизился. Над крышами складов уже торчали концы лестниц, поставленных спасателями.
Людвиг решил, что самое худшее позади. Как же он ошибся...
Выяснилось, что мать, справившись со всеми трудностями пути, не выдержала душевных тягот.
Дети спасены — остальное не важно.
Людвиг оглянулся и увидел, что мать пошатнулась и рухнула в воду. Он тут же спрыгнул вслед за ней. На секунду мелькнула мысль, что в ледяной воде матери с её лёгкими...
Но её уже вытащили сильные мужские руки, и придворный музыкант господин Филиппарт, вместе с которым Людвиг играл в бальном зале — сколько с тех пор прошло: вечность или только час? — приказал:
— Быстро ко мне, Людвиг. Мой дом недалеко отсюда.
Тут мать открыла глаза, прищурилась, ослеплённая ярким пламенем факелов, и с неподдельным ужасом в голосе воскликнула:
— Так ведь недолго и умереть, Людвиг! Твоя одежда насквозь мокрая. Немедленно сними её.
Нефе уже стоял на хорах и, услышав за спиной шаги Людвига, прижал затылок к горбу и скривил лицо в злобной ухмылке.
— Оказалось, что без меня не так-то просто обойтись. А как там у вас дела? По слухам, вы пока разместились у Филиппартов. Но они же бедны, как...
— Очень бедны. У них всего две кровати, стол, несколько стульев, шкаф...
— Да, это была весьма необычная ночь, — перебил его Нефе. — Она смягчила сердца...
Он посмотрел вниз и с наигранным пафосом закричал:
— Ты только посмотри, какие необычные люди пришли на утреннюю службу. Как сверкают и блестят их плащи. Это же участники бала-маскарада.
Служка зажёг на алтарях свечи, прикрепил факел к шесту и поднёс его к паникадилу.
— Ничего не скажешь, впечатляющая картина, Людвиг. А вот и монсеньор к нам пожаловал. Хочет сам служить искупительную мессу. Ну, конечно, ему так и так сегодня не заснуть.
Людвиг уже хотел было спуститься вниз, чтобы сесть за орган, но горбун удержал его.
— Для тебя есть приятная новость. С сегодняшнего дня твоё месячное жалованье — сто пятьдесят гульденов в месяц. Так мне сказал граф Зальм. Впрочем, твой отец также сумел извлечь пользу из «Верноподданнейшего доклада об улучшении состава придворной капеллы». Он по-прежнему будет получать свои триста гульденов. Мне же остаётся лишь сидеть рядом с тобой за органом, ибо я впал в немилость и жалованье мне снизили на целых сто пятьдесят гульденов. Если в одном месте прибавится, в другом непременно отнимется.
— Но, господин Нефе...
— Не волнуйся, мы останемся друзьями. — Горбун обнял мальчика за плечи. — Так, а теперь приготовиться. Народ уже на коленях. Смотри, как мало надо. Выстрел из мортиры, немного воска, запах ладана — больше ничего от монсеньора не требуется. Вину свою он искупил и может спокойно и дальше играть в трик-трак. Карнавал продолжается. Слышишь, как танцует и хохочет Рейн?.. Пошли к органу.
Через несколько дней после их возвращения на старую квартиру, в одну из апрельских ночей на церкви Святого Франциска вдруг зазвонил малый колокол. Значит, священники уже приступили к соборованию и душа монсеньора предстала перед Господом, который возложит на чаши весов своего правосудия и любовь к трик-траку, и бесконечные балы, и любовные похождения, и церковное службы.
Тихий звон сменили гулкие, разносившиеся по всему городу удары в большой колокол. Наконец они также смолкли, и тогда в распахнутые окна донёсся громкий цокот копыт.
— Это, дети, курьер поскакал в Вену.
За эти дни Иоганн ван Бетховен сильно сдал. Его лицо обрюзгло, голос охрип, руки дрожали.
— И что же теперь будет? — с тяжким вздохом спросила Магдалена.
— Распустят труппу Национального театра, — авторитетно заявил Людвиг. — Так мне сказал граф Зальм. Указ об этом уже давно подписан. Придворной капеллы это никак не коснётся. По слухам, новый курфюрст очень любит роскошь, как, впрочем, и его сестра французская королева Мария-Антуанетта[26].
Отец подозрительно взглянул на него и с откровенной злобой спросил:
— Ты действительно ничего не знаешь об изменениях в составе придворной капеллы?
— Нет, батюшка.
— Может, ты и не лжёшь. — Иоганн ван Бетховен начал нервно расхаживать взад-вперёд. — Но окончательную судьбу мы узнаем только после панихиды и торжественной церемонии вступления на престол нового архиепископа. Нас захлестнёт поток музыки, и тогда, Магдалена...
— О чём ты, Иоганн?
— Тогда новый правитель замурует в склепе всё, что было до него.
Дворцовые башни, равно как и стены церкви Святого Франциска, задрапированы чёрными полотнищами. Внутри справа и слева от катафалка у скамеек с пюпитрами замерли на коленях монахи-францисканцы и застыли как вкопанные гвардейцы в парадной форме. Над высокими светильниками колыхалось пламя, мимо гроба, склонив головы, бесконечной вереницей тянулись люди, прибывшие сюда со всех подвластных усопшему архиепископу земель.
После похорон во дворце на какое-то время воцарилась тишина, и лишь солнечные блики пробегали по опустевшим залам. Но вдруг в конце мая лестницы начали спешно покрывать пёстрыми коврами, а в Бонне — заново штукатурить и красить дома. На улицах развесили гирлянды, по мостовой громыхали повозки, груженные берёзовыми ветвями. Наконец в город на взмыленном коне влетел всадник с долгожданной вестью:
— За мной следует монсеньор!
Почти сразу же в Бонн въехал открытый дорожный экипаж. Сидевший в нём полный обрюзгший человек, добродушно улыбаясь, вяло помахивал рукой ликующей толпе. Это был новый курфюрст, сын эрцгерцогини Австрии Марии-Терезии[27]. По слухам, ему лишь недавно исполнилось двадцать восемь лет.
В эти дни Магдалена, наверное, впервые почувствовала себя счастливой, ибо Иоганн ван Бетховен не брал в рот ни капли. Его отношение к сыну также совершенно изменилось. Они вместе ходили в церковь и вместе возвращались домой, если, конечно, Людвиг не задерживался там допоздна, просматривал вместе с господином Нефе оркестровые партии или транспонируя голоса.
В этот вечер её ждала целая гора шитья. Младшие сыновья уже спали, а Иоганн и Людвиг ещё находились во дворце, где проходил грандиозный концерт. Людвиг, правда, обещал вернуться только после полуночи, но почему так долго нет Иоганна? Она не сводила глаз со стрелки часов, и шитьё впервые не доставляло ей удовольствия. Её лицо пылало, кровь гулко стучала в висках.
Ну где же, где же Иоганн?
На рассвете Людвиг проводил врача до дверей и подержал его сумку, пока лекарь надевал перчатки.
— Она очень тяжело больна?
Пожилой доктор Рёриг, пользующийся репутацией прямодушного человека, а порой даже и грубияна, буркнул в ответ:
— Она в полной коме! Всё и впрямь произошло так, как рассказал твой отец?
— Именно так. Дома мы нашли мать лежащей без сознания в музыкальной комнате.
— Странно, очень странно. Она ни на что не жаловалась?
— Она вообще не имела такой привычки! — Своим ответом Людвиг как бы попрекнул врача.
— Дурачок ты, дурачок. Ох, пардон, я хотел сказать «господин придворный музыкант». Конечно, она никогда ни на что не жаловалась. Это делает твоей матери честь, и, уверяю тебя, любой в Бонне снимет перед ней шляпу. Но всё-таки вспомни, может быть, есть какие-то причины для столь внезапного и необъяснимого заболевания?
— Во время наводнения она упала в ледяную воду, — после недолгого раздумья сказал Людвиг.
— Ну, с тех пор прошло довольно много времени. Может, её что-то сильно встревожило?
— Нет, господин доктор, честное слово, нет.
— Ну, тогда не знаю... Спокойной ночи, Людвиг.
Мальчик долго смотрел вслед врачу, пока тот не скрылся за углом. Вдруг он понял причину заболевания. Всему виной были эти злосчастные сто пятьдесят гульденов. После падения в холодную воду она просто не могла позволить себе заболеть, так как обязана была позаботиться о детях. Теперь же жалованье Людвига делало его и Иоганна полностью независимыми от отца...
На этот раз он выпил столько акцизной водки, что рухнул как подкошенный и пересчитал головой все ступеньки. Сперва он, правда, попытался удержаться на ногах, но силы были уже не те, и он стремительно полетел вниз.
К этому времени у матери каждый вечер по непонятным причинам поднималась температура — доктор назвал болезнь «morbus diabolicus», — и Людвиг теперь старался не отходить от неё. По возвращении он всегда подробно рассказывал ей о происшедшем за день.
— Граф Вальдштейн вскоре прикажет в Вене запрячь свою карету.
Через несколько минут, показавшихся ему вечностью, мать тихо спросила:
— А кто это?
— Я же рассказывал тебе о нём.
Она согласно кивнула, но в глазах у неё застыл вопрос.
— Молодой коаудитор курфюрста, которому поручено здесь следить за порядком. Он уже получил тайные сведения о придворном оркестре. И знаешь, кто ему их дал? Только никому ни слова.
Губы на восковом лице едва шевельнулись.
— Буду... нема... как в могиле.
— Госпожа фон Бройнинг и её братья-каноники. Они дружат с графом. По слухам, господин Нефе и впрямь будет получать тысячу гульденов в месяц... А я триста.
— А что... отец сегодня на службе? — Мать настороженно подняла голову.
— У певцов сегодня дополнительная репетиция, — после короткого раздумья ответил Людвиг. — Она может продлиться ещё несколько часов.
Он деланно зевнул и с наигранной беззаботностью в голосе продолжил:
— Как же я устал! Давай поспим немного.
Он оглянулся и незаметно для матери спрятал бритву.
В один из последних мартовских дней 1785 года Людвиг забежал домой и услышал срывающийся от гнева голос доктора Рёрига:
— Вы — пропащий человек. Вы только и делаете, что пьёте. И после всего, что я вчера вам сказал... Ну-ка вон отсюда!
Отец громко икнул и заплетающимся голосом ответил:
— Я только... только хотел пропустить стаканчик за здоровье жены.
Он, шатаясь, вышел на лестницу, а Людвиг вошёл в комнату. Врач нервно расхаживал взад-вперёд.
— Как мама, господин доктор?
Врач остановился и невидящим взором уставился на Людвига. Затем он по-отечески положил ему руку на плечо:
— Людвиг, я... я был бы плохим врачом, если бы отказался от лечения, но дела твоей матери весьма неважные.
Людвиг вздрогнул, лицо его стало пепельно-серым.
— Но я могу и ошибаться. Это я так, на всякий случай...
— Сходить... за священником? — Мальчик решительно вскинул голову.
— Да, Людвиг. Пора её соборовать.
— Господина каноника нет дома, но он должен скоро вернуться. Какая у вас к нему нужда, месье Людвиг?
— Мне нужно, чтобы он совершил обряд соборования.
— Позволю себе спросить над кем? — Лакей удивлённо вскинул брови.
— Над моей матерью Магдаленой ван Бетховен. Господин каноник знает, где мы живём, — на Рейнгассе, в доме Фишеров. Только, пожалуйста, не тревожьте госпожу фон Бройнинг.
— Нет, нет, что вы, месье Людвиг, — шёпотом заверил лакей. — Впрочем, господин каноник через час уже будет на Рейнгассе. А я пока вызову служку.
Мальчик поспешил удалиться. Он шёл, не видя и не слыша ничего вокруг. В голове, как мельничные жернова, вертелись одни и те же слова: «Обряд соборования над моей матерью Магдаленой ван Бетховен... Обряд соборования над моей матерью Магдаленой ван Бетховен... Обряд соборования над моей матерью Магдаленой ван Бетховен...»
Ноги его постепенно словно налились свинцом. А куда он вообще забрёл? Неужели на толкучку? Вот одна из лавок старьёвщика, и что же перед ней выставлено?
Да это же вещи матери! Вот её красивый пеньюар, вот праздничное платье. Да кто же посмел отнести их старьёвщику? Он обернулся. Отец! Ну конечно же отец!
Он вспомнил слова доктора: «И это после всего того, что я вам вчера сказал...» Так, ясно, он воспользовался безнадёжным положением матери, залез в шкаф и...
Людвиг пощупал шелковистую ткань пеньюара. Отец решил, что матери вещи уже не понадобятся, а ведь у неё одно единственное праздничное платье.
На пороге лавки показался неопрятно одетый толстяк.
— Посмотрите, какой роскошный пеньюар, молодой человек.
— Да уж знаю. — Людвиг растянул рот в недоброй улыбке.
— Превосходный подарок для вашей матери.
— Разумеется, и платье тоже.
— А уж платье!.. — Старьёвщик в восторге даже облизнул грязные пальцы с обломанными ногтями. — Уж поверьте, молодой человек, на толкучке такие прекрасные вещи попадаются крайне редко. Вам очень повезло.
— Согласен, — кивнул Людвиг. — И сколько они стоят?
— Двадцать гульденов.
— Десять.
На толкучке даже из-за платьев матери нужно торговаться. Здесь постыдное поведение неизбежно, как и грязные тряпки и пальцы торговца. Сейчас он изобразит ужас.
— Но, молодой человек, я сам заплатил за них восемнадцать...
— Моё последнее слово: пятнадцать! Договорились? Хорошо, упакуйте и пришлите мне всё не раньше чем через два часа в дом пекаря Фишера на Рейнгассе.
— Может быть, молодой человек оставит задаток?
— Вот два штюбера. — Людвиг небрежно швырнул монеты на груду тряпья. — Меня зовут Людвиг ван Бетховен.
Старьёвщик даже вытаращил глаза от изумления:
— Выходит, вы сын...
— Того, кто продал вам эти вещи.
Уходя, Людвиг попытался вспомнить, кому он ещё давал свой адрес.
Он в раздумье остановился возле дворца. Так, правильно, это дом, где жила Элеонора, где он провёл столько прекрасных часов и где над порталом вырублена огромная каменная шляпа каноника. Никогда ещё у него не было так много свободного времени. Нужно подождать, пока из двери под каменной шляпой выйдут каноник со служкой и тогда... А пока приходится сдерживать себя и вести себя так, чтобы не выдать глазами своего горя.
Тут он вдруг увидел суетящихся возле пушек артиллеристов. Неужели курфюрст вдруг ни с того ни с сего решил устроить учения? Или они действительно откроют огонь?
Вполне можно было подождать дальнейшего развития событий. Мать уже не узнавала его, поэтому, наверное, не имело смысла стоять возле её кровати... Но ведь он никогда больше не услышит её дыхания, этих тихих хрипов, вырывающихся из её груди. Никогда его сверхчувствительный слух музыканта, сравнимый разве что со слухом какого-нибудь морского чудовища, не воспримет их... Нет, он и так слишком много потерял времени, и нужно, нужно спешить домой.
Он резко рванул с места, но резкий грохот за спиной отбросил его назад.
Над жерлами орудий сверкали молнии, от оглушительного рёва во дворце зазвенели стёкла, лёгкие Людвига словно наполнились сжатым воздухом. Земля задрожала под ногами, и тут загрохотали ещё и пушки на городских стенах.
Салют! Но в честь кого? Монсеньор не отправился в церковь, сегодня не его день рождения, и потом, без музыки, а значит, без Людвига никакое торжественное событие бы не обошлось. И уж точно смерть матери Людвига ван Бетховена не являлась поводом для траурного салюта.
После каждого выстрела канониры прочищали дула орудий, затем офицер взмахивал шпагой, и звучали новые залпы.
Но такого салюта курфюрст явно не был достоин. Такой салют могли дать только в честь короля! Но откуда здесь, в Бонне, мог взяться король? И потом, он, несомненно, сразу же бы узнал о его появлении.
Людвиг даже на всякий случай оглянулся, но вместо короля увидел городского сумасшедшего Штумфа, которого ни королевский салют, ни смерть матери — вообще ничто на свете не могло смутить. Он отбивал такт палкой, пел, орал, да ещё как орал...
А исполнял он написанное Людвигом для него сочинение. Штумф стоял, плотно зажав под мышкой ноты, и крик его был даже слышен сквозь грохот пушек.
Наконец прозвучал последний залп, и в наступившей тишине послышался чей-то тонкий, срывающийся голос:
— Тут... прибыл курьер из Версаля. Сестра монсеньора королева Мария-Антуанетта родила сына, и в честь дофина Франции был устроен салют.
— Да разве это салют, — презрительно махнул рукой Штумф, и на лице его появилось какое-то совсем уж безумное выражение. — Слишком мало пушек! Слишком мало выстрелов.
— Ты плохо считал, Штумф, — со смехом возразил ему один из прохожих. — Именно такой салют полагается давать в честь дофина.
— В честь дофина, может быть, но... — на лице Штумфа появилось подобие улыбки, он медленно снял грязную шляпу и чуть ли не до земли поклонился Людвигу, — но это не королевский салют в честь Людвига.
Люди вокруг захохотали, смуглое, изуродованное оспинами лицо мальчика исказила гримаса боли. Он повернулся и пошёл прочь.
Людвиг стоял в спальне матери и неотрывно водил рукой по её покрытому горячей испариной лбу. По дороге домой он случайно увидел, как полицейский собирается арестовать совершенно пьяного отца. Он даже подрался с ним, но в конце концов сумел избавить отца от увоза в участок. Теперь тот громко храпел на софе в музыкальной комнате.
Людвиг мельком взглянул на прорехи в куртке. Надо бы попросить Цецилию или госпожу Фишер заштопать их. Ведь мать уже никогда...
Во дворе братья играли с Готтфридом Фишером. Они раскачивали его на качелях так, чтобы он каждый раз успевал толкнуть ногой крышу курятника. Они уже забыли о бессмысленно мычащем отце, которого Людвиг кое-как втащил в дом, и ничего не знали о предстоящем визите каноника. Потом можно будет позвать их наверх, пусть помолятся, пока священник совершит обряд соборования. А пока пусть веселятся.
Он вдруг задрожал, по коже точно пробежал озноб. Каким же одиноким он чувствовал себя, и это одиночество холодом обжигало его. Что проку от высокой должности и золотой шпаги? Всё оказалось совершенно бессмысленным. Он ничего не сможет изменить, ибо он сын пьяницы и лицо его и фигура отмечены каиновой печатью...
— Людвиг ван Бетховен!
— Да?
Кто-то позвал его. Только вот кто? Здесь, в спальне, кроме едва дышащей матери, никого не было. Наверное, он ослышался.
Вот уже за окном начался закат. Вскоре солнце скроется за холмами на противоположном берегу огромной сверкающей реки. От порывов вечернего ветра зашуршали ветки деревьев...
— Я здесь!
Он вновь оглянулся. Кто, кто его звал? Вдруг он всё понял.
Нечто неведомое подошло к нему и с улыбкой встало рядом. Слова его звучали тише, чем шелест ветра, и было непонятно, с приказом или посланием оно обращается к нему. Во всём есть свой смысл: и в том, что ты сын пьяницы, и в твоём смуглом, с крупными оспинами лице, и даже в каиновой печати. И не будет тебе приюта на земле! Но ты не только отверженный, ты ещё и посланец.
Заходящее солнце словно брызнуло пламенем, вечерний ветер завыл, к этим звукам почему-то примешался шум орлиных крыльев, и всё вместе воспринималось Людвигом теперь как музыка.
Это была очень печальная музыка. У него даже выступили слёзы на глазах, но одновременно она несла в себе огромный заряд утешения. Тут он внезапно где-то за порогом мыслимого и сущего увидел растянутые золотые и тёмные нити, которых никак нельзя было коснуться. Послышался глухой гул фанфар, похожий на стуки в ворота тайной обители жизни и смерти. К ним присоединились кларнет и фагот, затрубили трубы и, наконец, одиноко, величественно заиграла скрипка. Музыка сверкнула нестерпимым блеском, и он закрыл лицо руками.
— Людвиг.
Голос словно прозвучал из потустороннего мира. Он встал на колени перед кроватью, и сердце бешено затрепыхалось в груди, когда мать протянула к нему руку.
— Мама, ты узнаешь меня?
Она удивлённо вскинула брови и с неодобрением в голосе спросила:
— А... почему... я... не должна узнать тебя?
Незаметно вошедший в комнату доктор Рёриг сильной рукой отодвинул Людвига в сторону, долго стоял, склонившись над кроватью, а потом воскликнул:
— Беги отзывай священника. Мать будет жить, и, надеюсь, долго. Свершилось чудо. Истинное чудо, не будь я доктор медицины Иоганн Непомук Рёриг.
Часть 2 «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ»
Он сидел в подчёркнуто небрежной позе, заложив ногу на ногу и покачивая носком. Время от времени он скучающе барабанил пальцами по украшавшей софу голове дельфина, переводил глаза с плафона на сидевшего у рояля пианиста и вновь пристально всматривался в зеркало.
Толстые губы и смуглое, с оспинами лицо. Взлохмаченные чёрные волосы и наморщенный лоб. Колючий взгляд маленьких серо-голубых глаз, фигура тоже не слишком импозантная, а чересчур выступающие вперёд зубы вполне подошли бы щелкунчику. В салонах считали, что он напоминает хищного зверя. В салонах.
Музыкальная Вечерняя академия, званые вечера у князя Лихновски. Дамы в роскошных платьях обмахивались веерами, так как в летний зной при горящих свечах в помещении было невыносимо жарко. Кавалеры в париках и фраках с накрахмаленными манишками обливались потом.
Он с удовольствием потянулся. В своей старой потрёпанной одежде он чувствовал себя очень хорошо. Естественно, в Бонне он запихнул в дорожную сумку парик, но никогда им не пользовался. Зачем, ведь у него есть свои волосы. Единственное, что он приобрёл в Вене для танцевальных курсов, — это шёлковые чулки до колен. Безумная затея — ведь ноги его совершенно не годились для танцев.
Господин аббат Гелинек продолжал играть свою сонату. Он считался одним из лучших пианистов. К тому же охотно пользовался славой друга Моцарта, притязая быть его духовным наследником в игре на рояле.
Чушь. Моцарт играл совсем по-другому: более изящно и отрывисто. И как ни пытался Гелинек ему подражать, у него ничего не получается.
Впрочем, там в кресле сидит ещё один человек — невысокого роста и тоже плохо сложенный. Обращали на себя внимание большой нос и смуглое, с оспинами лицо. Из-за них князь Эстергази[28] при первой встрече принял его за Моцарта. Волосы под белым париком давно поседели, на смуглом, как у мавра, лице застыло добродушное выражение. Это — Йозеф Гайдн.
Рядом с ним сидел господин Альбрехтсбергер[29]. Знаменитого теоретика и капельмейстера собора Святого Стефана в этой музыкальной пьесе интересовал исключительно контрапункт. А господин придворный капельмейстер Сальери[30]? Для него всё сводилось только к итальянскому бельканто. Но разве в музыке можно ограничиваться лишь этим? Месье Антон Эберт! Его музыка была такой же вялой, как и он сам, но зато в жизни он буквально летел от успеха к успеху.
Тут что-то заставило его повернуться. Молодая очаровательная княгиня Лихновски не сводила с него глаз. В её улыбке явственно проглядывал упрёк, и он его тут же понял: «Вы вновь предаётесь еретическим размышлениям».
Он изобразил на лице раскаяние, выпятив толстые губы.
Наконец-то! Буря оваций. Аббат встал и зацепился краем шёлковой сутаны за рояль.
— Кто последует? Господин Эберт?..
— После столь великого мастера?
— А вы, господин ван Бетховен?
— Благодарю, — небрежно бросил он.
— Вы ещё очень молоды, Бетховен, — аббат тщательно сложил носовой платок, — и потому я готов кое-что показать вам или объяснить.
— Благодарю. Однако...
Ситуация доставляла Гелинеку огромное наслаждение. Этот юноша, — а Лихновски, жившие с ним в предместье Альсвер в доме книгопечатника Штрауса, утверждали, что он тоже превосходный пианист, — так вот этот Бетховен вновь будет вынужден признать своё поражение, и столь полное, что никогда уже больше не будет допущен в круг столь высоких особ.
Кто-то прошептал рядом с ним:
— Людвиг...
Он увидел княгиню Марию Кристину, чуть помахивающую двумя веерами.
— Я была бы очень рада, если бы вы как мой рыцарь...
Людвиг мгновенно вскочил с места и с притворно скромным видом встал возле рояля.
— Не соблаговолит ли достопочтенный аббат подсказать мне тему для фантазии?
— Ну что ж, молодой человек, как говорится, хочешь научиться плавать, не бойся прыгать в холодную воду. Желаете лёгкую или сложную тему?
В маленьких колючих глазах Людвига сверкнули огоньки.
— Наверное... лучше лёгкую.
— Прекрасно, — с наигранно слащавой предупредительностью в голосе ответил аббат. — Тогда возьмём начало гаммы до мажор.
Он начал играть, но тут князь Лихновски своим знаменитым на всю Вену басом резко возразил:
— И это, Гелинек, вы называете лёгкой темой?
Людвиг сидел у рояля, его мощная грудь вздымалась от тяжёлых вздохов. Он коснулся клавиш пальцами правой руки, потом пальцами левой, и тут его охватил страшный гнев. До чего ж противен этот надменный аббат с его слащавой манерой. А как он похвалялся своей виртуозной техникой! Безусловно, без неё не обойдёшься, но разве всё сводится только к ней одной?
Но почему князь Лихновски, который, безусловно, желал ему победы в этом турнире, вдруг сдвинул брови? Смех, да и только, ему просто стало страшно за свой рояль из знаменитой мастерской Зильбермана. Разумеется, когда начинаешь играть, не слишком заботишься о сохранности инструмента. Но ничего, ничего, так, попробуем даже из столь жалкой темы сделать музыкальную пьесу наподобие только что сыгранной аббатом в шёлковой сутане его так называемой «Большой сонаты». Можно даже доставить себе удовольствие и продемонстрировать публике её полную никчёмность.
Тут он вспомнил ещё кое о чём. Гелинек играл отрывисто а-ля Моцарт, а поскольку Людвиг играл совсем по-иному, они вполне могут предположить, что лучше он просто не может. Эти глупцы всерьёз утверждают, что он испортил себе руки органом, не понимая, что на самом деле он хотел найти новую манеру игры на органе.
Нет, он будет играть именно как Людвиг ван Бетховен, как рыцарь своей дамы. Он стал поклонником княгини Марии Кристины с первого дня их знакомства и с тех пор хранил в сердце своём её красоту, очарование и печаль из-за того, что брак её оказался несчастливым.
Несчастливым из-за князя Карла, хотя он...
Вон он стоит с подчёркнуто безучастным видом, а ведь в душе, безусловно, желает победы именно ему, Людвигу.
Голова закружилась, глаза подёрнулись туманной пеленой, он заставил себя извлечь из рояля последние пьяняще-ревущие звуки и в диссонанс им закончил вариацию мелодической фигурой.
Она встала рядом и помахала над ним веером.
Аббат крадущейся походкой удалился, сказав на прощанье, что «с вами лучше не связываться. В вас словно вселился дьявол».
Через несколько минут господин Гайдн сказал:
— Людвиг, я хочу непременно ещё сегодня услышать вашу музыку.
В нём всё внушало уважение: и косичка на парике, всегда точно ложившаяся на середину воротника безупречно сидящего фрака, и всегда пахнущее свежестью жабо, и даже отвислая нижняя губа, ничуть не портившая его добродушное смуглое лицо.
— Ну так как, бахвал?
Для Гайдна подобное обращение символизировало доброе и дружеское отношение.
— Иначе я вообще бы сюда не пришёл, бахвал. В Лондоне от меня ждут шесть симфоний, а я ещё никак не закончу третью. Я бы мог взять вас с собой в Лондон. Как полагаете, ваш опус подходит для англичан? И вообще будьте любезны рассказать о нём подробнее.
— Он представляет собой три фортепьянных трио, маэстро.
— Вот как? Ну, а где же исполнители струнных инструментов?
— Они уже ждут, — улыбнулся Людвиг. — Заходите, Игнаций и Николас.
Первый из них был сыном преподавателя Венского реального училища Шуппангера, под началом которого Людвиг намеревался восполнить пробелы в своём школьном образовании. Высокий толстый мальчик оказался весьма одарённым скрипачом.
Маленькому и тощему как жердь Николасу Крафту исполнилось всего четырнадцать лет. Было смешно и трогательно смотреть, как он, пыхтя и надуваясь, тащит свою виолончель. Князь Карл лично подвинул пюпитры и своим набатным голосом заявил:
— Мадам и месье! Воистину мы, видимо, в преддверии исторического события. В городе, знавшем Моцарта и глубоко почитающем маэстро Гайдна, городе, над которым сияют звёзды других знаменитостей, перед нами предстал молодой композитор Людвиг ван Бетховен, только что показавший себя настоящим виртуозом игры на рояле. Сейчас вы прослушаете его сочинение.
Людвиг повернулся и увидел, что оба мальчика широко раскрытыми глазами смотрят в ноты. Он прекрасно понимал их состояние. Нельзя допустить ни одного фальшивого звука, чтобы не навредить Людвигу, которого они просто боготворили.
После первого трио, когда подстраивались струнные инструменты, Гайдн сдавленным от волнения голосом произнёс:
— Могу сказать только, что можно больше не скорбеть о безвременно ушедшем от нас гении Моцарта. Он воплотился в вас, бахвал.
Гайдн опустил голову и недоверчиво, даже с каким-то чувством стыда взглянул на свои руки с набрякшими старческими венами. Он вспомнил слова, которые граф Вальдштейн, прощаясь с Бетховеном в Вене, занёс в книгу памятных записей: «Усердие позволит вам принять гений Моцарта из рук Гайдна».
Первый же резкий аккорд вызвал бурю аплодисментов.
Внимание!
В глазах его сверкнула молния, в них читалась неприкрытая угроза: «Только попробуйте ещё раз так же вяло играть! Я с вами больше нянчиться не буду!»
Они прекрасно знали, что творится сейчас в его душе. Это трио отличается от двух предыдущих. Ещё на репетиции он сказал им: «Это, собственно говоря, моё первое произведение».
Начали!
И тут вдруг каким-то непостижимо-дьявольским образом холодные маленькие серо-голубые глаза Людвига сделались огромными и чёрными.
Игнаций с такой силой рвал смычком по струнам, что измученная скрипка порой стонала. Николас пыхтел, как котёл на огне, по его лицу мелькали огненные блики...
Людвиг чуть улыбнулся им: хорошо, мальчики, хорошо. А ну-ка попробуем заставить скрипку звучать ещё громче. Вот так...
Теперь он не мог своих музыкантов даже взглядом удостоить...
После окончания трио прошло уже несколько минут, но почему господин Гайдн молчит? Ведь все вокруг ждут его оценки.
Гайдн сидел, откинувшись на спинку кресла, и нервно потирал подлокотники. Наконец он выпрямился и тихо спросил:
— Последнее трио вы также хотите отдать в типографию?
Глаза Людвига опять стали маленькими, серо-голубыми и холодными.
— Разумеется.
— Я бы на вашем месте этого не делал.
— Но его уже печатают, господин Гайдн.
— Естественно, я не навязываю вам своего мнения, господин ван Бетховен.
— А это бесполезно.
Ох уж эти его внезапные приступы гнева! Все вдруг почувствовали: произошло нечто, развеявшее царившую здесь атмосферу тепла и уюта.
Антон Эберт резко шагнул вперёд. Он полагал, что теперь ему не придётся расплачиваться за чрезмерную самоуверенность.
— Вам удалось победить Гелинека, Бетховен. Но если последнее трио и есть ваш новый самобытный стиль, я бросаю вам вызов уже как композитору. Попробуйте написать симфонию. Полагаю, вы примете мой вызов только в том случае, если всерьёз намереваетесь покончить с собой.
Эберт широко улыбнулся и с видом победителя отошёл в сторону.
Душная жаркая ночь наконец разразилась дождём, и с ветвей платанов непрерывно капало.
Никогда ещё ничего подобного с ним не случалось. Даже пережитое в Амстердаме не шло с этим ни в какое сравнение. Ведь если там была просто выходка глупого мальчишки, то ныне его оскорбил мудрый, добрый, великодушный Йозеф Гайдн, которого он считал высшим авторитетом. А ведь своим последним произведением он доказал, что вышел за рамки ученичества.
Казалось, тайна взирала на него подобно этим надгробным камням, зыбко очерченным в ночной мгле.
Он думал так напряжённо, что даже затрещала голова. Зачем он забрёл на кладбище? Ни тайна, ни надгробные камни не давали ответа. Ну хорошо, ладно, вернёмся к недавнему эпизоду. Неужели господин Гайдн с его чуть покачивающейся, украшенной косицей парика головой не понял его композицию? Да, согласен, его язык необычен, но одновременно понятен, как букварь. А ведь Гайдн — нужно отдать ему должное, — пусть по-своему, понимал язык любой музыки. Неужели он просто разонравился ему?
Он прислушался, будто ожидая ответа, но услышал только учащённое биение своего сердца. А с ветвей платана, под которым он укрылся, всё капало и капало.
Так, вроде бы это кладбище Святого Марксера? Верно. Эдакая общая могила, куда без разбору бросали бедняков и тех, чьи имена так и не удалось установить. Может быть, его когда-нибудь тоже похоронят здесь.
А чья это тёмная спина вдруг показалась во мраке? Неужели это он? Прекрасно, сейчас я обращусь к нему с речью.
— Извините, пожалуйста. — Он вежливо поклонился. — Я ещё в Бонне твёрдо решил по прибытии в Вену первым делом нанести визит именно сюда, но, сами понимаете, постоянно что-то мешало. Правда, сейчас не слишком удобное время, но мы творцы... — Он смешался, понимая, что нужно сразу поправиться и не ставить себя с ним на одну доску. — Разумеется, мне далеко до вашего гения, вы написали «Волшебную флейту» и «Симфонию Юпитера», а я пока ещё не отважился даже приступить к созданию симфонии. А ещё вы написали концерт для скрипки ля мажор, мне его играл мой кузен и прекрасный скрипач Франц Ровантини. Неужели в Зальцбурге вы и впрямь ели за одним столом с прислугой? Извините, это действительно вы, а это действительно ваша могила? — Он снова поклонился. — Впрочем, меня зовут Людвиг ван Бетховен, и я имел счастье познакомиться с вами во время тогдашнего короткого визита в Вену, но вы, конечно, не запомнили моё имя. И конечно, вы знаете господина Йозефа Гайдна лучше и дольше, чем я. Не хотелось бы говорить о нём плохо, но скажите, как по-вашему, он способен на зависть? Прошу прощения, я, разумеется, не вправе задавать столь бестактные вопросы. И вообще не должен вас ни о чём спрашивать. Ибо вы — гений солнца, а кто я? И уж если быть до конца объективным по отношению к себе, то я назвал бы себя гением тьмы или печали. А всему виной тяжёлое детство, уродливая внешность и многое другое. Но я не хочу докучать вам перечислением моих бед. Естественно, я также стремлюсь к солнцу и прошу вас поверить мне. Я вообще немножко сумасшедший, иначе я не прибежал бы посреди ночи на вашу могилу за советом. Но может быть, это всё-таки не ваша могила? Увы, никто не знает, где покоится ваше тело. Ну всё, всё, не хочу вам больше надоедать. Нужно всё-таки хоть какую-то гордость иметь.
Он вслушался в темноту, и вдруг к мерному постукиванию капель о землю примешались ещё какие-то, похожие на голоса звуки. Тогда он стремительно бросился прочь мимо статуи ангела с влажно поблескивающими в темноте позолоченными крыльями.
В городе призраков спугнули тускло освещённые окна домов. Но благая весть, посылаемая этим светом из людских жилищ, не только не доходила до Людвига, но, напротив, превращала его в ещё большего изгоя.
Какими же неверными и ненадёжными оказались они все... Даже княгиня предала своего рыцаря.
Перед Дворцом правосудия горели факелы, бросая дымные отсветы на портупеи, треуголки и обнажённые шпаги полицейских, а также на бесформенные шляпы щёголей и чепчики их хихикающих подружек. Интересно, что побудило их в столь поздний час торчать у позорного столба?
На сколоченном из неотёсанных досок помосте стояли два якобинца с табличками на груди. Позади в нише возвышалась каменная статуя Фемиды с мечом в правой руке и повязкой на глазах. Тем не менее она была очень похожа на рыночную торговку.
Людвиг уже видел обоих мятежников днём, но сейчас, когда пламя факелов то ярко вспыхивало, то едва не угасало, это зрелище производило особенно жуткое впечатление.
Они оба промокли насквозь, волосы прилипли ко лбу. Порой их гигантские тени ложились на Дворец правосудия с его высокими узкими окнами. Затем всё обретало прежние очертания, и они вновь оказывались обычными людьми. Юношу уже шатало от усталости, старик же казался ещё более неподвижным, чем статуя за его спиной. Голова его была повёрнута так, словно он вслушивался в темноту переулка. Неужели он пытался уловить в ней чеканную поступь батальонов, марширующих под доносившиеся из-за реки звуки «Марсельезы»? Но ведь здесь не было ни широкой реки, ни отблеска бивачных костров в её бурных водах.
Грохот почтовой кареты заставил Людвига отвлечься от воспоминаний о Бонне с его церквами, где он играл на органе, и последнем пристанище отца и матери.
Их семья распалась самым отвратительным образом. Мать умерла от чахотки, но ещё раньше нечто похожее на медленно действующий яд полностью испортило их отношения. Почему? Он и сам толком не знал. Может быть, он сильно изменился, и мать перестала понимать его. Что же касается отца, то в Бонне его за беспробудное пьянство лишили родительских прав. После его смерти курфюрст, поглаживая свои отвислые, как у бульдога, щёки, меланхолично сказал: «Какая потеря для акцизов на водку».
Облегчённо вздохнуть и хоть немного забыться он мог тогда только в доме Бройнингов. Ибо там бывал также коаудитор курфюрста молодой граф Вальдштейн, слывший большим ценителем не только музыки, но и вообще изящных искусств. Такого рода увлечения побудили обывателей, боявшихся всего на свете, шёпотом обвинять его в легкомыслии, могущем повлечь за собой весьма серьёзные последствия.
Людвигу же неожиданный взлёт Вальдштейна принёс только благо. Он получил возможность впервые посетить Вену. Правда, тогда ему пришлось срочно вернуться назад — к смертному одру матери — и сразу же окунуться во всю эту домашнюю грязь.
Но разве так хорошо запомнившаяся вторая поездка в Вену не была чистейшей воды авантюрой? Получивший отпуск за свой счёт придворный музыкант отправился туда, оставив братьев на попечение господина Риза, у которого он взял ещё несколько уроков игры на скрипке. Без особой пользы, правда, но это уже выяснилось, когда он в восстановленном здании Национального театра какое-то время изрядно помучился с альтом.
В Национальном театре ставили оперы и драмы, но, как стало понятно чуть позже, самый грандиозный спектакль был устроен во Франции.
Ох уж этот Евлогий Шнайдер, которого курфюрст пригласил преподавать художественную литературу во вновь открывшийся Боннский университет, хотя этот бывший монах-францисканец из Вюрцбурга прямо-таки воплощал собой ненавистное вольнодумство! Но у монсеньора были свои основания для такого, на первый взгляд странного поступка. Подобно своему покойному брату императору Австрии Йозефу, он хотел с помощью кое-каких послаблений отвести от своих владений угрозу надвигавшегося на них французского исполина.
Людвиг, естественно, также записался на лекции Шнайдера и порой даже появлялся в аудитории в парадном придворном платье. И если у Христиана Готтлиба Нефе он учился музыке, то Евлогий Шнайдер воспитывал в нём бунтарство во имя прав человека.
Некто Руже де Лиль написал для отправленной на борьбу с войсками интервентов и отрядами княжеских наёмников Рейнской армии гимн[31], под звуки которого добровольцы из Марселя вступили в Париж и были встречены ликующими криками толпы.
Профессор пропел ему тогда эту песню:
Alions, enfants de la patrie! Ze jour de gloire est arrive[32]...В каждой её строке звучал гнев, упорство и готовность умереть за свободу.
Уже позже он вновь услышал эту песню в ту памятную ночь, когда на другом берегу Рейна бивачные костры сверкали в ночи, словно звёзды...
Почтовой карете, в которой ехал Людвиг, пришлось сделать крюк, чтобы добраться до ближайшей переправы через Рейн. Кучер старался беречь лошадей, колёса жалобно поскрипывали, и лишь в Кобленце карета вдруг во весь опор понеслась по трапу речного судна.
Ожидания выставленного в Вене у позорного столба мятежника наверняка окажутся оправданными. Добровольцы из Марселя в один прекрасный день войдут в Вену. Уже пал Тулон — легендарная крепость, построенная не менее легендарным Вобаном и считавшаяся неприступной. Однако её ухитрился взять штурмом некий французский офицер. Из газетных сообщений следовало, что имя его — Наполеон Бонапарт, что он невысокого роста и что ему только двадцать четыре года. Всего на год старше Людвига. Далее газеты писали, что Конвент вот-вот присвоит ему звание генерала.
Ну почему его, Людвига, в такое время угораздило стать всего лишь музыкантом, а не, скажем, солдатом?
Всего лишь музыкантом? Так, может быть, стоит произвести революцию в области музыки?..
Эта мысль вполне в духе бахвала. Так, наверное, сказал бы Вобан музыки — господин Гайдн, который, строя из своих симфоний, квартетов и трио самые настоящие фортификационные сооружения, тоже считает себя непобедимым. Но может быть... может быть, он также заблуждается?
Возможно, последнее трио до минор Людвига — это его Тулон, и он уже вывесил своё трёхцветное знамя над бастионами традиционной музыки?
Пока он не смог найти ответа на этот вопрос.
Время подобно полёту птицы — взмах крыла, стремительное скольжение по небу, и вот уже нет ничего.
Как же он истосковался по вестям из родного Бонна. Но нет, вместо того чтобы беседовать с друзьями, нужно идти на этот проклятый концерт.
Людвиг встал, подошёл к роялю, взял несколько аккордов, вернулся к письменному столу и окунул перо в чернильницу.
— Эй, Франц, ну-ка принеси мне ещё одну пилюлю!
Молодой врач, менее часа назад прибывший в Вену, скорчил недовольную гримасу:
— Ты их ешь как конфеты. По-прежнему ни в чём меры не знаешь. И всё равно я ужасно рад встрече с тобой, старина Шпаниоль.
— Неужели Элеонора действительно так радовалась моей дедикации?[33] — Людвиг широко улыбнулся и щёлкнул пальцами. — Впрочем, наверное, мне не следовало так неуважительно называть твою невесту фрейлейн фон Бройнинг. Извини меня.
— Мы готовы простить любые твои причуды. Кстати, Леноре интересуется, как продаются твои вариации?
— Кому нужны композиции некоего господина Людвига ван Бетховена? — Он пренебрежительно помахал пером. — И потому я хочу подвести под ними черту. Вот так, например!
Он вывел на нотной бумаге линию, и Вегелер удивлённо спросил:
— Ты серьёзно?
Он подошёл поближе и нервно забарабанил пальцами по столешнице:
— Какая досада, Людвиг, что приход французов лишил меня должности ректора Боннского университета. Иначе я бы явился сюда в мантии с золотой цепью на груди и вручил бы заверенную печатью грамоту о том, что такого идиота, как ты, я в жизни своей не встречал. Или, может, подождём, пока ты снова придёшь в нормальное состояние?
Молодой врач обнял друга и вопросительно посмотрел на него.
— Здесь внутри бушует пожар. — Людвиг прижал руки к вискам, — но он отнюдь не вдохновляет меня на сочинение музыки, а напротив... Ой как болит голова! Дай мне ещё таблетку.
— Возьми, но учти, это точно последняя. Ты и так ходишь, словно лунатик.
— С моей грудной клеткой я могу принять лекарства в количестве, способном убить лошадь. Ну почему, почему так болит голова?!
— Видимо, потому, что на дворе мерзкая весенняя погода.
— А может, из-за насморка, который я подхватил несколько недель тому назад. — Людвиг брезгливо поморщился. — До чего ж горькая дрянь!
В марте сумерки всё ещё сгущались рано, и потому в комнате вскоре стало темно.
— Зажечь свет, Людвиг?
— Нет!
Ответ прозвучал так грубо, что Вегелер не отважился даже подбросить в почти уже погасший камин новое полено. Людвиг встал, зажав перо зубами, подошёл к роялю и сыграл несколько пассажей. Затем приподнялся, швырнул перо на полированную крышку рояля и забормотал нечто невнятное — может, заклинание или какую-нибудь магическую формулу, — обращаясь к смутно белеющему в темноте рыхлому листу нотной бумаги.
— Ну наконец-то. — Он облегчённо вздохнул. — Fine[34], но должен признаться, этот концерт си-бемоль мажор славы мне не прибавит.
— А теперь черёд рассыльного. — Вегелер мгновенно вскочил с места, отнёс ноты в соседнюю комнату и, вернувшись, удивлённо заметил: — Они строчат перьями так, что дым идёт. У тебя здесь настоящая мануфактура.
— Так будет и дальше. — Людвиг вновь сидел за роялем, стараясь, однако, к нему не притрагиваться. — Ты находишь моё состояние плачевным, правда, Франц? Но виной этому отнюдь не головная боль, а твой визит. Ты ведь приехал из моего родного города. Подумать только, в двадцать девять лет стать ректором Боннского университета. У меня поистине выдающиеся друзья.
— Были когда-то такими, — угрюмо буркнул Вегелер. — Однако всё наше величие поблекло под звуками «Са via» и «Marseillaise»[35]. Остаётся лишь радоваться тому обстоятельству, что революция, подобно Сатурну, пожирает собственных детей. Ты, вероятно, уже знаешь, что Евлогия Шнайдера отправили на гильотину.
— Разумеется, — саркастически улыбнулся Людвиг. — А здесь, в столице Священной Римской империи, продолжают вешать.
— Ты неисправим.
— Как поживает Зимрок? — Людвиг никак не отреагировал на его слова.
— Издаёт музыкальную литературу. В наши дни это требует огромных усилий. Как бы то ни было, он очень благодарен тебе за письмо.
— А Нефе? Хотя нет, подожди, не рассказывай мне сегодня ничего о Бонне. Ведь там для меня по-прежнему дом родной, а здесь — чужбина, но о Лихновски я ничего плохого не могу сказать.
— Как ты вообще оказался у них?
— Совершенно случайно, хотя граф Вальдштейн дал мне их адрес. Я снял мансарду в доме книгоиздателя Штрауса, и когда Лихновски услышали как-то мою игру на фортепьяно — должен сказать, что князь сам весьма недурно играет, — то взяли меня к себе жить. И с тех пор я блистаю, понимаешь, Франц, блистаю своим искусством в салонах и дворцах Кински, Фризов, Вальдхеймов, Свитенов и многих других.
Тут вдруг распахнулась дверь, и комнату заполнил громовой голос Лихновски:
— Подумать только, этот мужлан даже свет не удосужился зажечь! Надеюсь, господин доктор, вы не станете винить в этом несчастного Лихновски.
Он позвал лакея, который тут же принёс в комнату светильник.
— Завтра репетиция, Бетховен. Оркестр будет выступать здесь. К сожалению, мой настройщик заболел, никакого другого к столь дорогостоящему инструментуя просто не подпущу.
— Тогда я транспонирую концерт на полтона выше.
— Вы слышите, доктор? — Князь недоумённо покачал головой. — Он собрался транспонировать целый фортепьянный концерт, как будто это так просто. Впрочем, Бетховен, я уже настоятельно просил одного из критиков непременно упомянуть в рецензии вашу знаменитую фамилию. Ну пойду побеспокоюсь об афишах, а потом немедленно садимся за стол господин доктор.
С этими словами он снова покинул комнату.
Людвиг какое-то время стоял в раздумье, затем сел к секретеру и начал лихорадочно что-то черкать на листе нотной бумаги. Через несколько минут он как одержимый бросился к роялю.
— Сейчас я тебе спою, Франц. Мой ужасный голос тебе уже знаком. Посмотри, хватит ли огня в камине, чтобы потом, если потребуется, сжечь эту халтуру.
Он исполнил прелюдию, потом ещё раз окинул глазами комнату.
— Не огорчайся, Франц. Это всего лишь коротенькая песенка на слова Маттисона, называется «Аделаида».
Людвиг, как разъярённый зверь, бегал взад-вперёд за кулисами Императорско-королевского придворного театра. Он втянул голову в плечи, выпятил грудь и держал руки за спиной Он едва не сбил с ног импозантного мужчину, который тем не менее любезно улыбнулся ему и спросил:
— Сценическая лихорадка, господин ван Бетховен?
И лишь когда он ушёл, Людвиг вспомнил, что это был член правления Музыкального общества. Что он сказал? Сценическая лихорадка? Смешно!
Музыканты уже расселись на сцене, партер заполнился публикой, и даже в обычно занавешенных портьерами с золочёной бахромой ложах не было ни одного свободного места.
Зрители бурной овацией проводили господина Гартелльери, поблагодарившего их низким поклоном. Только что исполнили часть его симфонии, представлявшей, в сущности, лишь подражание Моцарту. Тем не менее аплодисменты долго не смолкали, и, значит, у него, Людвига, нет никаких шансов... Ведь афиши широко оповещали о симфонии господина капельмейстера Гартелльери и его грандиозной оратории «Царь Иудейский». Чуть ниже небрежный мазок кистью и неясные письмена, оповещающие почтеннейшую публику о фортепьянном концерте некоего Людвига ван Бетховена. Всё это устраивалось якобы в пользу вдов и сирот членов Музыкального общества, но на самом деле господин Сальери просто решил почтить своего любимого ученика, двадцатитрёхлетнего вундеркинда Гартелльери. Да какой он вундеркинд!
Жаль, очень жаль, что его фортепьянный концерт так далёк от совершенства. А ведь прошло уже почти двадцать лет со времени его первого публичного выступления тогда на Штерненгассе в Кельне. Вообще-то говоря, для пианиста-виртуоза довольно постыдный фактор.
Он вновь начал бегать за кулисами взад-вперёд и вспомнил, что никак не мог завязать галстук. Долго мучился с ним, пока Мария Кристина не подошла к нему и не сказала:
— Позвольте вам помочь, господин ван Бетховен.
Она умело повязала ему галстук, он поцеловал ей руку и уже хотел было коснуться губами её соблазнительно приоткрытого рта, как вдруг в комнату вошёл князь Лихновски.
— Сразу предупрежу вас, Бетховен, что при первом же вашем появлении на сцене грянет гром аплодисментов. Я желаю устроить эдакий триумф в вашу честь.
Он говорил, как всегда, невыносимо громко, страшно гордясь собой, и тем не менее был искренен в проявлении дружеских чувств. В этих условиях искать благорасположения Марии Кристины было бы, попросту говоря, бесчестно. Пусть даже их брак был чистейшей воды фикцией, пусть...
— Впрочем, Бетховен, в ложе рядом со мной будет сидеть Магдалена Вильман.
Ах, ну да, в Бонне он был какое-то время влюблён в эту певицу, но расстался с ней без сожаления, и потом новая встреча в Вене, где она уже была примадонной. Здесь он сделал ей предложение и получил решительный отказ. «Мой милый Людвиг, — сказала она тогда, — в Бонне я, не раздумывая, согласилась бы, но здесь я изменила мнение о тебе. Ты для меня слишком невзрачен и... слишком безумен».
Конечно, в какой-то степени Магдалена мстила ему, ибо в Бонне он изменил ей. А в остальном? Ведь он хотел не просто жениться на ней, нет, ему нужен был кто-то рядом, постоянно напоминающий о Бонне. Нет, очень хорошо, что она отказала ему.
На сцене кто-то громко объявил:
— Господин ван Бетховен!..
На всплеск оваций он ответил сдержанным полупоклоном, немедленно сел за рояль и, сыграв трезвучие, дал оркестру возможность ещё раз настроить и проверить инструменты. Капельмейстер Гартелльери кивком выразил готовность начать играть.
Нет! Вторые скрипки ещё не настроены, не говоря уже о виолончели!
— Гартелльери!..
Капельмейстер уже поднял дирижёрскую палочку.
— Запомните, Гартелльери: от вас требуется только вести голоса в соответствии с разложенными на пультах нотами. Всё остальное вас не касается. — Он говорил с капельмейстером нарочито пренебрежительным тоном. — Я же буду импровизировать.
Он вернулся к роялю, Гартелльери пожал плечами, пошептался с музыкантами и согласно кивнул. Они уже привыкли к выходкам этого шута горохового Людвига ван Бетховена.
Нет, пальцы его больше не дрожали. Наоборот, они отлично повиновались ему. Теперь Людвиг сумеет подчинить себе даже то таинственное и непостижимое, которому он сознательно бросил вызов.
Он сразу почувствовал, что сегодня играет с особым вдохновением, ибо все сомнения разом куда-то исчезли.
Потом он вдруг понял, что черпает своё вдохновение отнюдь не из сильных порывов ветра, не из потрескивания дров в огне и не из шума орлиных крыльев. Нет, он просто способен вдохновиться сухими текстами учебников Иоганна Йозефа Фукса и Кирнбергера.
Людвиг вздрогнул и откинул голову, ибо мозг снова будто пронзило раскалённым кинжалом. Он вновь испытал невыносимую боль, впервые начавшую мучить его несколько дней тому назад.
До сознания Людвига постепенно дошло: уши, его замечательные уши. Они вдруг утратили способность воспринимать звук. Случилось самое страшное. Теперь у него остались только глаза, которыми он в отчаянии взирал на окружающий, разом изменившийся мир.
Дальнейшее сидение у рояля теряло всякий смысл. Теперь нужно было встать, спрыгнуть со сцены и... и бежать туда, где можно будет хоть немного смягчить невыносимые боли.
И тут он вдруг услышал музыку, но играл её вовсе не оркестр. Её донесло к нему дуновением постепенно усиливающегося ветра. В уши вновь ворвался шум крыльев его орлов, который сегодня был сильнее, чем когда-либо. Он понял, что они принесли ему горестную и вместе с тем утешительную весть.
Весть?..
У Людвига не было времени произнести вслух эти слова. На него повеяло дыханием «великого духа», и он почувствовал себя уносимым бурей листком. Вновь заиграл оркестр, и Гартелльери, этот ни о чём не догадывающийся глупец, счёл необходимым даже махнуть в его сторону рукой.
Князь Лихновски наполнил до краёв бокалы и, как всегда, громко сказал:
— Голосом, который называют «Иерихонской трубой из Вены», я объявляю: Бетховен сегодня играл так, что вполне может быть удостоен короны. Так выпьем же за неё!
Людвиг протянул к камину дрожащие руки и вдруг снова приложил их к вискам. Раскалённое лезвие вновь начало тихонько покалывать их.
— Разумеется, я имею в виду не терновый венец, — улыбнулся князь. — Я пью за вашу грядущую славу, за ваше счастье.
— Опять болит голова, Людвиг? — участливо спросил Вегелер.
— У вас что-то с ушами, господин ван Бетховен? — присоединилась к нему Мария Кристина.
Он вздрогнул, и от неукротимого гнева его лицо покраснело. Он как-то сразу люто возненавидел эту влюблённую кошку, которая не только случайно затронула его больное место, но и объявила о нём на весь мир.
Он смерил Марию Кристину презрительным взглядом.
— Но мне ещё на концерте показалось...
— Что именно тебе показалось, Мария Кристина? — осведомился князь, в глазах Людвига теперь ничем не отличавшийся от недалёкого, добродушного, заросшего жиром крестьянина. — Я, например, ничего не заметил.
— Значит, я ошиблась, — дрожащим голосом ответила Мария Кристина.
— Полностью согласен с вашей супругой, ваше сиятельство.
Он никогда ещё с такой издёвкой не обращался к князю. Мария Кристина даже побледнела от полученного ею нового удара от любимого. Но он ничего не мог с собой поделать — теперь уже не один, а множество маленьких кинжальчиков буравили его мозг, не давая возможности ясно мыслить и вообще лишая его разума.
Лакей начал расставлять тарелки с едой в соответствии с давно укоренившейся традицией. Сперва он подал суп хозяйке дома, затем князю и уже потом Бетховену.
Людвиг в ярости вскочил и покинул комнату. Лихновски повернулся к Вегелеру:
— У него, вероятно, желудочные колики, доктор?
— Нет, — грустно усмехнулся Вегелер. — Я знаю моего доброго друга Людвига несколько дольше, чем вы, ваше сиятельство. Его очень часто прямо-таки трясёт от ярости, и моя тёща, госпожа фон Бройнинг, называет такое состояние приступами бешенства. Тут может помочь только одно лекарство — снисхождение. Постепенно Людвиг приходит в себя, искренне раскаивается за своё поведение и просит прощения.
— И такие приступы продолжаются довольно долго? — еле слышно спросила Мария Кристина.
— К сожалению, Очень долго, ваше сиятельство.
На следующий день Людвиг вновь появился в доме Лихновски и, узнав, что князь и доктор Вегелер уехали в город, попросил отвести его к Марии Кристине.
— Всего доброго, ваше сиятельство. Благодарю вас и вашего супруга за оказанное гостеприимство.
— Оказанное?..
— Я уезжаю от вас. Подённый слуга как раз сейчас пакует мой скарб.
— Людвиг! Вы попросту бежите!..
— Я?.. — Он встрепенулся и с каким-то испугом посмотрел на неё. — Но от чего или от кого?
— Может быть, от меня?
Наверное, она хотела этими словами удержать его. Поэтому Людвиг в отчаянии опустил голову и тихо сказал:
— Да нет, Мария Кристина, не от вас. Я бегу от себя самого. Если можете, простите меня.
После его ухода княгиня долго сидела неподвижно, глядя прямо перед собой. Сгущавшиеся за окном сумерки казались ей столь же непроницаемыми и пугающе-таинственными, как и окружавший Людвига мистический ореол.
Тереза и Жозефина хихикали, как школьницы, и графиня Анна Барбара заставила себя укоризненно взглянуть на дочерей.
В трюмо на противоположной стене отразился модный шиньон, умело собранный парикмахером. Он, однако, совершенно не подходил к искажённому мучительной гримасой лицу. А может быть, всему виной была эта ужасная мигрень.
— Жозефина! И ты, Тереза!
Тереза тут же приняла нужную позу. Она была самым старшим ребёнком в их семье и отличалась спокойным нравом. Сегодня на ней было простое ситцевое платье. Вуаль она завязала на затылке узлом так, чтобы конец её опускался до стягивающего бёдра широкого шарфа. Тереза страдала от небольшого искривления позвоночника, и этого увечья никто не должен был заметить.
Жозефина сразу же почувствовала угрозу, прозвучавшую в словах матери. Ведь она назвала её не «Пепи», а именно Жозефиной. Но она была слишком возбуждена открывшейся за окнами гостиницы «У золотого грифа» картиной майского утра. Красота его заставила её дрожать от возбуждения, её тёмные глаза на очаровательном лице сверкали, а на лоб кокетливо ниспадала одинокая прядь.
Она спрыгнула со стула и низко склонилась перед матерью с грацией опытной придворной дамы и приложила руку к сердцу.
— Не могу не выразить сожаления, ваше превосходительство, что меня отзывают в мой кабинет по изучению изящных искусств.
Она очень хорошо подражала недавно покинувшему комнату придворному скульптору Мюллеру. Вчера они посетили только что открывшуюся и уже успевшую наделать много шума его галерею возле Красной башни. Их привели к чрезвычайно, даже слишком изящно одетому господину, представившемуся им придворным архитектором Мюллером, владельцем кабинета изящных искусств, создателем прекрасных восковых фигур, многие из которых были изготовлены по античным образцам. Под конец он предложил дамам показать не только свою галерею, но и сводить их на экскурсию по Вене.
Адальберт Рости захлопал в ладоши. В своё время он учился вместе с Францем Брунсвиком в школе, неоднократно проводил каникулы в замке Мартонвашар и считался уже чуть ли не членом семьи.
— Великолепно! Тебе пора выступать на сцене, Пепи.
Она медленно подошла к двери. Вид у неё был весьма величественный и вместе с тем довольно смешной. Рости пришёл в большой восторг.
— Браво! Ну просто раненая утка.
— Жозефина! Рости! — Из уст матери на них вылился поток французских слов. — Не забывайте, что мы находимся в наиболее изысканной гостинице Вены. И пусть сейчас в столовой никого нет, всё равно Янош может в любую минуту зайти.
Девочка присела на стол и, изобразив на лице раскаяние, отпила глоток шоколада.
— Мама, я знаю, что ни к чему не пригодна, а уж Рости... Правда, Рости? Уж прости нас обоих.
— Хорошо, Пепи. Какие у вас на сегодня планы?
— Я лично уже безумствую в предвкушении нашей первой экскурсии по Вене. Подумать только, огромный город, двести тысяч жителей! А собор Святого Стефана, а Пратер, а Шёнбрунн... а ещё... — Тут она вскочила и закрутилась на одном месте. — ...А ещё я хочу, чтобы нас отвели к Бетховену.
— Как же вы с ним все носитесь, с этим Бетховеном. — Графиня задумчиво покачала головой. — Он действительно превосходный пианист, Рости?
— Мне трудно судить, ваше сиятельство. Единственное, о чём я хотел бы предостеречь вас, так это от намерения вызвать его в гостиницу, пусть даже такого класса, как «У золотого грифа». Насколько я знаю, он никогда не позволит себя унизить.
— А ты его знаешь, Рости?
— Как же ты меня испугала, Пепи. — Он тщетно пытался унять дрожь в пальцах. — Набросилась на меня, как ястреб на добычу. Я лишь имел счастье видеть и слышать его.
— Он красив?
— Увы, очень уродлив.
— Жаль, но, по здравом размышлении, это ничего не значит. Красавцы мужчины обычно слишком тщеславны и любят только себя.
— Уж больно ты мудрая в свои восемнадцать лет.
— В девятнадцать, Рости. А сколько ему лет?
— Где-то около тридцати.
— Отличный возраст. Как раз пора стать мужчиной. А что ты ещё знаешь о нём?
— В нём есть какая-то трагическая тайна. Точно не скажу, но вроде бы он ненавидит людей.
— Ой, как интересно! Я уже заранее влюбилась в него...
— Пепи!.. — Графиня снова с укором посмотрела на неё. — Не говори глупости, дитя моё.
— Тогда тебе придётся иметь дело с множеством соперниц, — засмеялся Рости, — ибо его демонизм просто сводит красавиц с ума.
— Я лично не боюсь. — Жозефина посмотрела на себя в зеркало. — Мы ещё никогда не боялись соперниц, правда, сестра?
— Чего только тебе в голову не взбредёт... — пробормотала Тереза.
— Вот именно, «взбредёт в голову». Не забудь, дорогая сестричка, что меня прозвали гениальным отпрыском семьи Брунсвик. Мама, ты пойдёшь с нами?
— Ну уж если вы так настаиваете, дети. Надеюсь, ты не возражаешь, Тереза?
— Ну что ты, мама, только... он ведь захочет увидеть, на что мы способны. И что мне ему сыграть? Его сонату? Да об одной только мысли об этом у меня руки трясутся.
— А у меня нет. — Жозефина встала перед трюмо и как-то особенно лихо завила свой локон. — Я сыграю ему своё любимое произведение. Спою фортепьянным голосом трио для фортепьяно до минор. Думаю, он будет восхищен.
— А кто ещё споёт? И где скрипка и виолончель?
— Какая же ты трусиха, Тереза! Неужели не подпоёшь? Янош!..
— Да, сударыня? — в дверях немедленно появился лакей.
— Немедленно надеть парадную ливрею! — приказала она. — Ты понесёшь мои ноты, Янош. Я не против, если с нами пойдёт также Бранка. Только соблюдайте расстояние в шесть шагов. И чтоб лица были — как из морского дуба. Вы ведь не просто лакеи, вы сопровождаете царицу Савскую, которую изображаю я. Кинжал у тебя с собой?
Янош кивнул и вопросительно посмотрел на неё.
— Кто его знает, может, он не только ненавистник людей, может, он ещё и людоед. Защитишь меня?
— Да я готов жизнь за вас отдать, сударыня! — Глаза старика венгра сверкнули огнём.
— Пока не нужно. — Жозефина обнажила в улыбке ослепительно белые зубы. — Пойдёшь с нами, Рости?
— У меня, к сожалению, лекция.
— Отлично. Я иду охотиться на мужчин, и мне не нужны свидетели. Особенно если они тощие мальчики.
— Ты ведьма...
Жозефина небрежно махнула ладонью.
— Успехов в учёбе, Рости!
Дом на Санкт-Петер-платц не отличался красотой. Штукатурка на стенах осыпалась, во многих местах зияли провалы, а распахнутая входная дверь с вытоптанным порогом походила на скривившийся в уродливой гримасе рот.
Их глаза после яркого солнечного света с трудом привыкли к царившей в прихожей темноте. Подниматься на четвёртый этаж по узкой, неудобной лестнице мешал к тому же затхлый воздух.
Лакей и служанка тяжело ступали впереди, шедшая следом графиня Брунсвик внезапно остановилась:
— Здесь прямо-таки лестница в небо! У меня может сердце не выдержать. Ты опять втравила нас в авантюру, Пепи.
— Я чувствую себя так, словно иду к зубному врачу, — робко откликнулась Жозефина. — Мне очень страшно.
В коридоре, куда выходило много дверей, было также темно. Отчётливо слышалось жужжание бьющейся о стекло мухи.
— Надеюсь, его нет дома, — прошептала Жозефина.
— А кто меня называл трусихой?
Тут за одной из дверей мощно прозвучали несколько аккордов, и опять стало тихо.
— Постучи, — сказала графиня.
Тереза постучала, но в комнате никто не откликнулся.
— Да нет, он здесь. — Тереза кивком подозвала сестру и ткнула пальцем в табличку на плохо выкрашенной двери. — Небось сам написал.
Тут дверь внезапно распахнулась, и из большой, ярко освещённой солнцем комнаты свет хлынул прямо в коридор, озарив чуть наклонившуюся девичью головку. За порогом обозначился силуэт мужчины, чьи всклокоченные волосы отбрасывали на окно причудливую тень.
— Господин ван Бетховен... — любезно начала графиня.
— Кто вам нужен? — грубо прервал её человек, голос которого напоминал скрежет опускаемой решётки. Маленькие глазки смерили враждебным взором трёх дам и их сопровождающих. Внезапно Бетховен без видимых причин изменил своё поведение и вежливо сказал:
— Я — Бетховен. Чем могу служить? Заходите, пожалуйста.
Он вихрем ворвался в комнату и сбросил со стульев носовые платки, табакерку, халат и несколько галстуков.
— Позволю себе предложить дамам сесть. Прошу прощения за беспорядок, но подённый лакей приходит, когда ему вздумается — раз в два, а то и в три дня. Сам же я человек неопрятный.
— В свою очередь, мы также просим прощения за вторжение... — Графиня осторожно коснулась платком носа и краешков рта.
— Позволь мне сказать, мама, — поспешила вмешаться Тереза, заметив на лице матери отчуждённое выражение. — С вашего разрешения, я сразу же расскажу генеалогию нашей семьи, чтобы потом не было никаких недоразумений. Мы родом из Венгрии. Наш отец — его сиятельство граф Брунсвик — занимал весьма высокую должность, и потому к нашей маме также следует обращаться «ваше сиятельство». Мыс сестрой можем обойтись без титулов.
— Очень мило с вашей стороны, сударыня.
— Отец умер, иначе он также был бы здесь. — Она мельком взглянула на развешанные на стенах картины и гравюры. — Собственно говоря, он ценил только четырёх композиторов. Трое из них уже изображены здесь — Гендель, Бах и Моцарт. Но где же самый его любимый из них — Людвиг ван Бетховен?
— Я?.. — На кофейно-смуглом лице выступил яркий румянец.
— Он познакомил мою сестру Жозефину и меня — имя моё Тереза — со всеми вашими композициями. Я ещё забыла сказать о моём брате Франце, который довольно хорошо играет на виолончели. И потому мы просим вас дать нам несколько уроков.
— Выходит, сударыням пришлись по вкусу мои сонаты?
— Да вообще-то... — ответила Тереза, — исполняю сонаты больше я. Жозефина играет ваши трио для фортепьяно, особенно до минор.
— Не может быть. — Бетховен резко повернулся к Жозефине: — Ведь его отверг сам Гайдн!
— Меня это ни в малейшей степени не интересует, — надменно бросила в ответ Жозефина. — С некоторых пор я многое оцениваю сама.
— Да...
В душе у неё всё ликовало. Как же изменились его глаза! Они от смущения и расширились, и потемнели. И смотрел он на неё как на настоящее чудо.
Тереза! Она решила вновь напомнить о себе, села за рояль и тяжело вздохнула:
— Вы, безусловно, хотите немного испытать нас?
— Ну нет, конечно, разве что несколько тактов.
Щёки Терезы пылали, пальцы быстро бегали по клавишам. Пусть не спешит, Жозефина вовсе не собирается брать уроки у её кумира. В конце концов, в Вене есть и другие виртуозы пианисты, например, ученик Моцарта господин Вольфль.
— Благодарю, сударыня, достаточно. Я беру к себе в ученицы.
— А ты, Пепи? — Тереза отошла от рояля.
— Очень жаль, но у меня приступ мигрени.
— Сестра играет гораздо лучше меня, — ехидно улыбнулась Тереза, — но когда не хочет, говорит, что у неё мигрень.
— А может, вы нам тоже что-нибудь сыграете? — с не менее коварной улыбкой спросила Жозефина.
— Может быть, мою недавно сданную в типографию сонату? — Он сел за рояль и с хрустом размял пальцы. — Я назвал её «Патетической»... Ах нет, ничего не получится. Инструмент слишком расстроен. Но дело не в этом. Где живут дамы?
— «У золотого грифа».
— Я готов завтра в девять прийти туда и начать занятия. Вас это устроит?
— По-моему, ты ещё не спишь, Тереза?
— Да, Пепи.
— И поэтому я захожу к тебе, словно леди Макбет[36] после жестокого убийства, в ночной рубашке с горящей свечой в руке. Я хочу пожелать тебе спокойной ночи и вообще помириться с тобой.
— Что случилось, Пепи? Может, присядешь?
— Охотно. — Жозефина осторожно села на край кровати. — Когда мы в последний раз целых два часа обижались друг на друга? Я даже не помню. — Она покачала свечой и задумчиво взглянула на колыхнувшееся пламя. — Я лучше буду брать уроки у господина Вольфля. Знаешь, я не завистлива и не тщеславна, но это меня сильно задело.
— Что именно?
— Милая, я пришла не затем, чтобы попрекать тебя, все, забыли об этом.
— Нет, Пепи, так не пойдёт. — Сестра рывком приподнялась в кровати. — Ты сегодня не давала ни малейшего повода для упрёков в высокомерии. Напротив...
— Напротив... — Глаза Жозефины вновь сверкнули недобрым блеском. — Не хочу говорить, как ты себя сегодня вела.
— Нет, скажи.
— Как базарная торговка, навязывающая свой товар. Ты не давала ему возможности даже взглядом меня удостоить. Меня волнует отнюдь не господин ван Бетховен, нет, мне горько из-за того, что сестра предала меня.
— Ты с ума сошла, Пепи. — На губах Терезы мелькнула странная улыбка. — Нет, не так. У тебя просто глаз нет, а у него есть. Он сразу заметил, что я... калека.
— Не говори так, не делай мне больно. — Жозефина крепко обняла сестру.
— Нет, Пепи, я вынуждена говорить об этом. Уж я-то знаю, что такое быть калекой, и потому твёрдо решила помочь моим ещё более изувеченным братьям и сёстрам. А ведь он глухой, но может читать по губам. Вот потому-то я и кричала, как базарная торговка.
На её красивом, с классическим профилем лице появилось выражение обречённости. Затем она чуть растянула рот в хитрой усмешке:
— Видишь, я даже сумела обмануть свою чрезмерно умную сестру Пепи, которая всё видит, как василиск.
— Извини меня, Тереза. — Жозефина закрыла лицо руками. — Я не имела права так плохо думать и говорить о тебе и о нём.
— А вот это не надо. — Тереза на какое-то мгновение задумалась, затем в голосе её зазвенела сталь. — Он всё время глаз не сводил с моих губ, ибо иначе бы он ничего не понял, но вообще-то, кроме тебя, для него в комнате никого не существовало. И потому тебе действительно лучше брать уроки у господина Вольфля.
— Но почему?
— Ты без всякого умысла можешь сделать его ещё более несчастным.
Кожа на лбу сестры собралась в мелкие морщинки, она тихо рассмеялась:
— Ты просто Кассандра и Пифия семьи Брунсвик. Я уже привыкла ко многим твоим предсказаниям, но последнее твоё изречение мне совершенно непонятно.
— Пойми, он тщательно скрывает свою глухоту, подобно мне, прячущей своё не слишком сильное увечье под шарфами и поясами. И вот теперь мы проникли в его тайну.
Жозефина напряглась и вдруг судорожно зарыдала, приговаривая:
— Несчастный, какой несчастный человек...
На следующее утро Тереза совершила ответный визит. Она внезапно открыла дверь, соединявшую их комнаты, и застыла на пороге.
Было ещё очень рано. В широко распахнутое окно, возле которого Жозефина сонно щурилась в лучах утреннего солнца, доносилось чириканье первых воробьёв.
— Что ты так скрипишь зубами, Пепи?
— Пожалуйста, не мешай мне. Я недавно прочла очень мудрую книгу под названием «Noblesse oblige»[37]. Вот и меня мой титул ко многому обязывает. Сейчас я хочу заштопать дырку. — Она с силой дёрнула нить. — Я обратилась к Аристотелю, Архимеду, Платону, Сократу и Гомеру, одним словом, ко всем запомнившимся мне философам и мудрецам. Я спросила их: «Месье, что делать, если кто-то обольёт моё ситцевое платье шоколадом или малиновым соусом?» Философы, застыв в недоумении, дружно покачали головами, и только сведущий в законах Солон изрёк: «Тогда всемилостивейшей сударыне надлежит три дня оставаться в постели, пока платье не будет вымыто, высушено и выглажено». Я спросила: «А если тем не менее пятно останется?» Мудрый Солон долго смотрел на небо, а потом заявил: «Ответ знают только звездочёты».
— Что там у тебя в голове творится, Пепи? — рассмеялась Тереза.
— Очень многое, сестра. Я хочу иметь новое платье, и не из жалкого дешёвого хлопка. И я хочу знать, о чём думает наша мама. Уж больно она надменная.
— Пепи...
— А разве не так? Мы въехали вчетвером в Вену в сопровождении двух вооружённых до зубов людей. За столом нас обслуживают наши лакеи, ибо обычные официанты для её светлости и её не менее высокопоставленных подруг не подходят. При этом у нас гардероб как у нищих, и высокородная графиня Жозефина фон Брунсвик вынуждена собственноручно штопать единственное платье.
— Может быть, мама руководствуется вполне разумными соображениями. — Тереза в раздумье приподняла плечи. — Может быть, вся эта показная роскошь с лакеями, экипажами и проживанием в «Золотом грифе» делает для неё возможным переговоры с кредиторами и банкирами... А если ничего не получится? Ты можешь предугадать наше будущее, Сивилла?
— Сейчас нет, Пепи.
— А я попробую. Сперва мы продадим лошадей и экипажи вместе с Яношем и Бранкой, чтобы оплатить гостиничный счёт. Потом вернёмся пешком в Мартонвашар, где отцовский замок уж точно будет продан с аукциона. Знаешь... — Она задумчиво прикусила губу.
— Я тебя внимательно слушаю, — улыбнулась Тереза.
— Пожалуй, если я останусь здесь, возвращение обойдётся дешевле. Конечно, ни о каком замужестве даже речи быть не может. Брак по расчёту мне не по душе. Вчера ты, моя дорогая Тереза, предположила, что я влюбилась. Хотелось бы, но вряд ли. Он же уродлив, как ночная тьма. Так сказала мама. — Она пренебрежительно хмыкнула. — Но разве тьма уродлива? Поэты и влюблённые так не считают. Значит, эта причина отпадает. Второе: он принадлежит к не слишком чтимому сословию музыкантов. Был бы он хотя бы бедным надворным советником. И наконец, в-третьих: ты всерьёз полагаешь, что он в меня влюбился?
— Я... я этого опасаюсь, Пепи.
— И это говорит моя сестра! Прекрасно, значит, ни о какой взаимной любви даже речи быть не может!
— А я так не считаю. И вообще, когда встречаются две такие сильные личности...
— Ты меня вгоняешь в краску, Тереза! — выкрикнула Жозефина. — Я даже палец себе уколола! Сильная личность! Ты даже не представляешь себе, каким ничтожеством я сама себе кажусь в его присутствии. И потом, любовь — это нечто иное.
— Глупышка, — хихикнула Тереза, заметив весёлые огоньки в глазах сестры.
— А ты вспомни историю с нашим капелланом. Чтобы пробудить в нём любовь, я вставила иголку в его сиденье в исповедальне. Как же он заорал! А вообще, ты знаешь, что я уже целовалась с мужчиной.
— Ты, Пепи?
— Да, несколько лет тому назад с Яношем. Я уже в юные годы была сильно испорчена. — Она резко поднялась с места и задёрнула штору. — Ох уж этот старый полоумный развратник. Видел бы он меня сейчас полуголой!
— Ты имеешь в виду господина придворного архитектора Мюллера? — осторожно осведомилась Тереза и, чтобы скрыть дрожь в теле, отошла к окну.
— Этот увядший трубадур действует мне на нервы. Вполне возможно, что уже завтра утром он начнёт у моих окон петь серенаду. А как он на меня похотливо смотрит. Отвратительно. Но я не хочу ни на кого злиться. А хочу я сесть к роялю и упражняться, упражняться, упражняться. Надеюсь, ты мне одолжишь подаренную им «Патетическую сонату». Я хочу сделать ему сюрприз.
Лакеи уже ждали графиню, и она перед тем, как покинуть гостиницу, решила заглянуть на минутку в музыкальную комнату, откуда доносились бравурные звуки.
— Пепи!..
— Проклятье! До мажор! Это же самое трудное.
— С тобой стало невозможно разговаривать, Жозефина.
— Знаю, мама, но ничего не могу с собой поделать.
— А где Тереза?
— Где-то там.
— Поскольку я не могу быть рядом с вами, когда придёт учитель музыки...
— Кто? О Господи!
— ...вы должны встретить его вместе. Ты понимаешь меня?
— Конечно, мама. Можете быть совершенно спокойны. Я присмотрю за Терезой.
Сестра появилась сразу же после ухода графини, и Жозефина встретила её словами:
— Запомни, я обещала маме не оставлять тебя с господином ван Бетховеном наедине. И не вздумай что-нибудь выкинуть. Я тебе все волосы выщиплю.
— Слышишь? На колокольне собора Святого Стефана пробило девять.
— Любопытно, насколько он пунктуален, — высокомерно произнесла Жозефина. — Если нет — значит, у него нет никаких шансов.
— Слышал бы он тебя сейчас...
В коридоре послышался скрипучий голос:
— Мне к благородным девицам Брунсвик.
— Пепи!..
Но она уже спряталась в небольшой нише рядом с музыкальной комнатой.
— Доброе утро, сударыня, — учтиво поклонился Бетховен. — Вы желаете в одиночестве брать уроки музыки?
— Нет-нет, только вместе с сестрой. Она где-то здесь.
— Прошу простить меня за некоторый беспорядок в одежде. — Он снял шляпу и пальто и попытался пригладить непокорную гриву волос. — После вашего ухода я фактически не вставал из-за рояля.
Беспорядок во внешности?
Он был одет по самой последней моде. Сшитый из тончайшего сукна сюртук до колен, правда, галстук несколько небрежно повязан.
— Дамы принесли мне счастье. В последние дни я очень страдал от... от ужасного душевного расстройства. Мой близкий друг уехал в Курляндию, работа не ладилась...
Непостижимая перемена произошла в его глазах! Какое невыносимое одиночество выражали они, но затем вдруг сверкнули задорным юношеским блеском.
— Я понапрасну исписал совершенно неимоверное количество превосходной нотной бумаги, и... вчера в полдень звуки разлетелись, как пчёлы.
Только сейчас Тереза заметила у него под глазами чёрные круги:
— Вы так и не ложились?
— Нет. — Он скривил побитое оспинами лицо в улыбке, больше похожей на гримасу. — Но зато готова первая часть моей Первой симфонии. А... другая сударыня не придёт?
— Моя сестра Жозефина? Нет, почему же. — Тереза вскинула брови и последние фразы произнесла так, чтобы их точно услышали за альковом: — Если она в ближайшее время не появится, я сама приведу её. А пока не желаете ли присесть, господин ван Бетховен?
— Благодарю. А вы не желаете познакомиться с первой частью моей симфонии?
— О, это большая честь для меня.
Несколько минут он играл, а затем недовольно буркнул:
— Нет. Фортепьяно не позволяет полностью выразить разнообразие оркестровки.
Он вновь плавно опустил пальцы на клавиши. Через несколько минут Жозефина лёгкими неслышными шагами подбежала к роялю, и словно солнечный луч внезапно озарил эту полную мотивами безнадёжной горечи музыку.
Непонятно было, как он угадал приближение Жозефины. Во всяком случае, он вдруг отдёрнул руки и рывком встал со стула:
— И вот и вторая сударыня. Мы начинаем.
— А вы не хотите продолжить? — спросила Жозефина.
Ответа на свой вопрос она так и не получила. Он резко дёрнул головой и воскликнул:
— Только не бойтесь сфальшивить. Я тоже не без греха. Даже у Моцарта я нашёл фальшивые тона. Безупречно играют только пианисты, но они ничем другим и не занимаются. Начинайте, сударыня. Стоп! Вы играете в старой манере растопыренными пальцами. Ну-ка соберите их... Ещё больше. — Он подошёл и сам согнул Терезе пальцы.
— Но так очень трудно.
— Это с непривычки. А пока играйте только правой рукой. Я левой сыграю октавой ниже.
Через какое-то время Бетховен спросил:
— Вы не устали, сударыня?
Тереза мельком взглянула на стоявшие на каминной полке часы и испуганно встрепенулась:
— Господи, прошло уже два часа! Извините, господин ван Бетховен, но было так увлекательно, что я забыла обо всём на свете. Надеюсь, вы дадите также урок моей сестре Жозефине?
— Для этого я и пришёл.
Когда Жозефина села к роялю, поведение Бетховена сразу же изменилось. Теперь он говорил подчёркнуто сухим тоном: — Угодно ли сударыне воспользоваться моими услугами как преподавателя фортепьянного трио до минор?
Это прозвучало как вызов, и Жозефина приняла его. Глаза её сверкнули, но голос был строгим и равнодушным.
— Нет. Разрешите обратиться к вам со следующей просьбой. Моя сестра дала мне сонату под названием, если не ошибаюсь, «Патетическая», и если вы не против...
— Ну, разумеется, нет. — Он поклонился и мельком взглянул на Терезу. — Таким образом я смогу впервые услышать свою сонату в чужом исполнении.
«Нет, я точно обезумела, — подумала Жозефина. — Следовало бы, как и сестра, предложить сыграть чужое произведение, например, сонату Филиппа Эмануэля Баха[38]. А на его поле меня ждёт неминуемое поражение. Но может, всё же рискнуть?..»
Она вдруг вспомнила бурные воды реки и Яноша, бегущего по берегу с криком: «Сударыня! Сударыня!» Он в ужасе заламывал руки, наблюдая, как лихо она переплывает реку верхом на лошади, не боясь пучины, грозящей их поглотить. Тогда она тоже очень многим рисковала, но зато какой триумф ожидал её в конце...
Она поставила папку с нотной тетрадью на пюпитр, раскрыла первую страницу, затем вторую, третью, и полились тяжёлые торжественные звуки. Именно такой и должна быть мелодия, пронизанная духом борьбы с неизлечимым пороком, — печальная, весёлая, снова печальная и внезапно превращающаяся в вихрь.
Когда она закончила, он не произнёс ни слова. Лицо его покрылось серыми пятнами, он глубоко вздохнул, напомнив ей стенания и вздохи Яноша.
Потом он кое-что объяснял Жозефине, ни разу не коснувшись её рук и пальцев.
На пороге возникла тощая как жердь Бранка. Откуда она вообще взялась?
— Чего тебе? — резко спросила Жозефина.
— Её сиятельство просит передать, что вернётся позднее и всемилостивейшие сударыни могут пообедать без неё.
— Пообедать? Неужели уже три часа? — Она резво спрыгнула со стула. — Скажите, господин ван Бетховен, вы хоть завтракали?
— Завтракал? — Он задумчиво потёр лоб. — По-моему, нет. Будьте любезны, сударыня, давайте попробуем ещё раз это место...
— Ну уж нет. — Жозефина решительно захлопнула крышку рояля. — Мы с голоду умрём! Сегодня ты хозяйка, Тереза! Эй, Бранка, быстро накрой в саду стол на три прибора.
Перед едой обе девушки ещё раз поднялись в свои комнаты, чтобы умыться и причесаться. Жозефина крикнула сквозь приоткрытую дверь:
— Знаешь, о ком я думаю, Тереза? О Казимире!
— О нашем бывшем мальчике-садовнике?
— Да, ибо он был первым существом мужского пола, признавшимся мне в любви. Мне тогда было лет десять — одиннадцать, а ему, кажется, тринадцать. Он ворвался ко мне с искажённым лицом, швырнул на стол букет роз и тут же исчез. По-моему, господин ван Бетховен такой же неотёсанный мужлан, и, если я действительно в него влюблюсь, мне будет очень тяжело. Я ведь весьма своенравное создание.
— И благородное...
— Сильно сомневаюсь. Сама себя я считаю эдакой бесстыжей тигрицей. Что ты скажешь относительно моей последней выходки? У меня даже руки дрожали. Интересно, почему он так резко отказался играть в моём присутствии?
— Во всяком случае, набросок сонаты был предназначен именно для тебя.
— Неужели? — Жозефина насмешливо скривила губы. — Неужели ты всерьёз полагаешь, что я этого не заметила? Запомни, Тереза, от меня ничего ускользнуть не может. Ну ты ещё не готова? Как же ты любишь копаться!
Она кинула пудреницу на туалетный столик и демонстративно отвернулась.
«Глупышка, — с нежностью подумала Тереза. — Кое-что ты всё-таки не заметила».
Она кивнула своему отражению в зеркале и быстро набросила на плечи шарф.
Графиня Брунсвик объявилась лишь под вечер в сопровождении невысокой, полной, оживлённо жестикулировавшей дамы. Сзади на почтительном расстоянии шествовала величественная, несколько сутуловатая фигура придворного скульптора Мюллера.
Девочки бросились навстречу даме с криком:
— Тётя Финта! Тётя Финта!
— Сейчас вы делаете вид, что готовы от любви прямо-таки растерзать меня, — маленькая полная дама с негодованием отмахнулась от них, — но ещё два дня назад вы даже не вспомнили, что здесь, в Вене, живёт бедная одинокая тётя Финта! Ну хорошо, ладно. — Она поцеловала Терезу в щёку и прищурилась. — А это ещё кто такая? Помнится, лет семь назад в Мартонвашаре у вас, кроме Франца и Каролины, в семье было ещё малокровное невзрачное существо по имени Пепи. Она дёргала себя за косы и постоянно просила у меня шоколад.
— Это моя любимая тётя, — жалобно произнесла Жозефина, — а это господин ван Бетховен.
— Кто-кто?
С этими словами графиня Элизабет фон Финта, урождённая фон Брунсвик, доверительно взяла его под руку и отвела в сторону.
— Очень хорошо, что я вас встретила, молодой человек. Нам вместе нужно помочь моим племянницам, этим невинным провинциальным овечкам, открыть глаза на мир. Я, к примеру, могу предложить выезды за город и танцевальные вечера в моём доме. Как вам моё предложение?
— Меня оно полностью устраивает, госпожа графиня. — Бетховен улыбнулся, ему нравилась её несколько ироническая манера выражать свои мысли.
— Девочки, а вам уже известен самый модный танец — галоп?
— А что это такое, тётя Финта? — восторженно спросила Жозефина.
— Сами видите, господин ван Бетховен, что этим достойным сочувствия созданиям из диких венгерских лесов не хватает образования. Прямо скажу вам, медведи и волки запросто подходят там к кухне. И разумеется, именно вы должны заполнить пробел в их образовании, обучив галопу.
— Но я его и сам не знаю.
— Господин ван Бетховен! И это вы говорите перед провинциальными девицами, считающими нас, столичных жителей, едва ли не высшими существами? Не слушайте его, девочки. Кстати, я недавно имела честь ещё раз прослушать фортепьянное трио, впервые исполненное вами в присутствии князя Лихновски. Разумеется, наилучшая его часть — до минор. Такого ещё не было, и я понимаю, что вы горды этим и не слишком хорошего мнения о господине Гайдне. Что ты вылупила глаза, Пепи? Лучше прослушай трио ещё раз.
— Я раздобуду ноты, госпожа графиня, — торопливо заметил Бетховен.
— Прекрасно, а затем советую тут же заглянуть к князю, чтобы кто-то заменил вас за роялем. Ибо мне долго не удастся снять кухонный фартук: надо приготовить гору бутербродов для пикника.
— И когда же нам начнут преподавать галоп? — осторожно осведомилась Жозефина.
— Тебе нужно всё сразу, — с упрёком взглянула на неё тётя Финта, — к тому же ты ещё и страшная эгоистка. Не раньше сегодняшнего вечера.
— О, милая, славная тётя Финта!
— Конечно, если маме это удобно. Или ты слишком устала после всей этой беготни, Анна Барбара?
Графиня Брунсвик с тяжёлым вздохом откинулась на спинку стула, и господин Мюллер тут же оказался рядом с ней:
— Позвольте, я подложу вам подушку, ваше сиятельство.
— Вы очень любезны, господин придворный скульптор. — Она чуть приподнялась и опустилась на подушку. — Нет, Элизабет, я вопреки ожиданиям не слишком измучилась. Перед господином придворным скульптором все двери распахивались как по волшебству, он достал для нас билеты в театры и галереи, мы увидели много интересного.
— Не стоит даже упоминать мои скромные услуги, — энергично запротестовал господин Мюллер. — Просто за время долгого пребывания в Вене у меня появились кое-какие связи. Позволю себе пригласить дам совершить сегодня вечером короткую экскурсию в мою галерею. Я намерен преподнести вам маленький сюрприз.
— Вы имеете в виду ярко освещённые верёвки с нанизанными на них бисеринками? — небрежно бросила через плечо графиня Финта. — Это ведь, кажется, ваше изобретение?
— Истинно так, госпожа графиня.
— Что ж, дети, могу подтвердить, что это довольно красивое зрелище.
Бетховен чуть наклонил голову, прислушиваясь к прозвучавшим за окном ударам колокола собора Святого Стефана, и тихо, но твёрдо сказал:
— Нотные магазины сейчас закроются! И потом, я забыл, что мне сегодня нужно дать урок ещё одному ученику. До свидания!..
— Как «до свидания»?! — Жозефина даже всплеснула руками от удивления. — Нет-нет, постойте! Тётя Финта, когда? В девять? Значит, сегодня в девять, если вы о нас, конечно, не забудете.
— Надеюсь, нет. — Бетховен чуть улыбнулся краешками губ и буквально пулей вылетел из ворот сада.
— Вы нас тоже покидаете, господин придворный скульптор? — со вздохом сожаления спросила графиня Брунсвик.
— Я бы хотел всё тщательно подготовить, ваше сиятельство, и потому низко припадаю к вашим ногам.
Он поклонился и направился к выходу, неся свою шляпу и трость, словно символы королевского достоинства. Графиня Анна Барбара пристально посмотрела ему вслед.
— Уж больно он любезен. Ты, конечно, его тоже пригласила, Элизабет?
— А зачем, Анна Барбара? Он уже давно не танцует, и потом, Йозеф его терпеть не может. Впрочем, я тоже. Господин придворный скульптор! Что это вообще такое? Что это за звание? Йозеф говорил, что это лишь Эолова арфа, которая висит на ветру и отзывается на все звуки. Разумеется, его восковые фигуры, за которые он, кстати, берёт огромную цену, просто превосходны, но этого явно недостаточно для того, чтобы внушить к себе симпатию. И Йозеф, который много лет прослужил в гвардии и потому так и не мог отвыкнуть от крепких выражений, всегда говорил, что он шулер не только в картах, но и в жизни.
— Пока же он жертвовал своим временем ради нас отнюдь без всякой корысти, — возразила графиня Брунсвик.
— Позволю себе в этом усомниться, Анна Барбара. У тебя такой здравый, светлый ум, но ты прямо-таки растаяла перед ним. Может даже прийти такая странная мысль...
— Элизабет!..
Графиня Анна Барбара резко встала, намереваясь уйти в дом. Перед террасой она оглянулась и раздражённо воскликнула:
— Помоги мне собраться, Тереза!
Графиня Финта тихо рассмеялась вслед свояченице.
— Тем не менее мы никому не позволим испортить себе настроение, Пепи. Но наша славная мама...
— Если бы она вдруг безумно влюбилась в господина скульптора, произошла бы страшная трагедия, — с наигранным сожалением произнесла Жозефина, — поскольку он — мне, право, даже неловко это произносить — влюбился в меня.
— В кого?..
— В меня. — Она присела в полупоклоне. — Правда-правда, именно я — его избранница. Сегодня ещё шести утра не было, а он уже прогуливался под моими окнами.
— Ты вконец сошла с ума, Пепи.
— Уж точно нет, тётя Финта.
— Тогда он сошёл с ума... Да расскажи я такое дяде Йозефу, он бы хохотал три дня или пришёл бы в дикую ярость из-за того, что эта старая похотливая лиса хочет достать слишком высоко висящий для неё виноград, и расколотил бы, пожалуй, мою вазу. Мужчинам никогда нельзя доверять. Бетховен тоже не исключение. Женщины вообще легковерны и летят в их объятия, как бабочки на огонь.
— А знаете, тётя Финта, я, видно, напрасно просила его сыграть мне...
— Что? — Она присвистнула сквозь зубы и громко рассмеялась. — Слышишь, я свищу, как венский уличный мальчишка. Неужели он всерьёз влюбился в тебя? Тогда будь с ним поосторожнее, не разрывай ему сразу сердце. Знаешь, эта история с его ушами... — Графиня Финта приложила палец к губам. — Он плохо слышит, но даже не предполагает, что мы все знаем об этом. Конечно, он отнюдь не образец мужской красоты, даже напротив, но под этой грубой оболочкой скрывается доброе сердце. Я бы не раздумывая отдала ему в жёны любую из моих дочерей, но с условием, что она станет ему в жизни поддержкой.
— И всё-таки почему он не хочет играть в моём присутствии?
— Если я не ошибаюсь, — тётя Финта повела плечами, — он действительно в тебя влюбился... Может, он просто не захотел сразу ослепить своим божественным даром. Впрочем, все мужчины уверены в неотразимой силе своего божественного блеска, даже если такового у них нет.
Ровно в полночь во всех церквах города ударили в колокола, торжественно возвещая о пределе, за которым новое время начнёт обретать своё лицо.
Но они сейчас были просто не в силах предаваться меланхолии или философским размышлениям, ибо их душил смех.
Тереза первой сделала паузу, чтобы перевести дыхание, и, отдышавшись, спросила:
— А над чем вы, собственно говоря, хохочете?
Вопрос вызвал у них новый приступ смеха. Их смешили и собственные тени, которые при ходьбе в лучах уличных фонарей то уменьшались, то, напротив, принимали немыслимо огромные размеры, и майские жуки, словно крошечные планеты вокруг солнца крутившиеся у фонарей.
Наконец Бетховен с глубокомысленным видом приложил к губам набалдашник трости.
— А не стоит ли нам порадовать достопочтенного графа и госпожу графиню Финту исполнением оперы?
Девочки пришли в полный восторг, и Жозефина заявила:
— А затем мы устроим нечто подобное под окнами мамы. Что будем петь?
— Есть только одна достойная композиция. — Бетховен медленно покачал головой. — Я имею в виду канон, перемежаемый нашим «ха-ха-ха-ха» по поводу майских жуков.
— А ещё есть кошка. — Жозефина показала на дерево, с которого доносилось громкое «мяу».
— Отлично, сударыня. Это будет произведение, пронизанное духом живой природы, и не хватает только поэтического текста драматического или лирического свойства для подкреплённого хором главного голоса.
— Уж об этом я позабочусь, — громко объявила Жозефина. — Я сочиняю по меньшей мере не хуже господина фон Гёте, но уж точно быстрее, чем он. Подождите! Вот, пожалуйста! — Она выразительно, чётко выговаривая каждый слог, продекламировала: — Приветствуем вас, господин граф, а также и вас, госпожа! Ха-ха-ха-ха! Ж-ж-ж-ж! Мяу!
— Браво! — Бетховен сорвал с головы цилиндр и низко поклонился. — Гениально!
— Ну, естественно, гениально, господин ван Бетховен, и причём, учтите, это всё экспромт. Потом я придумаю также экспромтом отдельный вариант для мамы, но вам придётся положить мои стихи на музыку.
— Ну если только для этого хватит моего скромного дарования. — Он на мгновение задумался, а затем сунул руку в цилиндр. — Если мне сейчас удастся один трюк. — Он сделал вид, что читает с листка: — Канон на стихи благородной девицы Жозефины фон Брунсвик. Попрошу вас, дамы, стать возле меня полукругом. Сейчас я распределю голоса. Надеюсь, сударыня Финта не откажется исполнить хор «ха-ха-ха»? А мы можем попросить Яноша и Бранку спеть хором партию майских жуков?
— Конечно. — Жозефина жестом подозвала лакея и служанку: — Запомните, вы теперь майские жуки.
— А что остаётся мне? — спросила Жозефина.
— Ты будешь петь за кошку.
— Господин ван Бетховен!
Он не обратил ни малейшего внимания на её слова.
— Начинаем репетировать. Я тихо напеваю: «Ха-ха-ха!» Прошу вас, благородные девицы Финта.
— Ха-ха-ха!
— А теперь Янош и Бранка: «Ж-ж-ж„.» А где же кошка?
— Мяу...
— Вынужден вас прервать. — Бетховен раздражённо ударил тростью по фонарному столбу. — У кошки слишком мало экспрессии. А ну-ка ещё раз.
Тут Жозефина не выдержала и, дрожа от возмущения, сделала шаг вперёд:
— Получается какой-то траурный марш, господин ван Бетховен, ибо как капельмейстеру вам никак не удаётся нас воодушевить. В лучшем случае вы способны исполнить партию кота, а я лично готова продемонстрировать, какие звуки способен извлечь из оркестра настоящий капельмейстер.
— Очень любезно с вашей стороны, сударыня. — Бетховен поклонился с видом человека, покорившегося обстоятельствам. — Вот вам дирижёрская палочка.
— Зачем мне эта дубинка, — презрительно отмахнулась Жозефина и подняла руки. — Следите за моими пальцами. Указательным я дирижирую теми, кто исполняет «ха-ха-ха». Средним даю сигнал майским жукам, а если я скрючиваю мизинец... я его правильно скрючиваю, господин ван Бетховен? Так, как вы учили?
— Превосходно, сударыня.
— Меня это радует. — Она ехидно улыбнулась. — Не правда ли, я оказалась весьма способной ученицей? Итак, если я скрючиваю мизинец, значит, ваша очередь. Внимание... Начали!
— Ха-ха-ха! Ж-ж-ж! Мяу!
— Господин ван Бетховен! — тяжело вздохнула Жозефина. — Ощущение, что мяукает полудохлый кот. Нет, темпераментный кот должен ещё плеваться и шипеть. Вот так примерно: «Ф-ф-ф, мяу-у-у». Какой-то вы не слишком музыкальный.
— Да, я сам понимаю, — смущённо пробормотал Бетховен. — Право, не знаю, стоит ли приводить единственную оправдательную причину. Ведь все мои преподаватели как-то не удосужились обучить меня партии поющего кота. Может быть, сударыня будет настолько любезна, что займётся мною?
— Охотно. Ф-ф-ф, мяу!
— Ф-ф-ф, мяу!
— Уже лучше, господин ван Бетховен, только требуется ещё украсить «мяу» колоратурой.
Внезапно она широко раскрыла глаза, быстро подошла к Бетховену и взяла его за руку, как бы желая найти у него защиту. Он почувствовал, что Жозефина вся дрожит.
— Пожалуйста, отведите меня в гостиницу, господин ван Бетховен. — На её лице появилась вымученная улыбка. — Не знаю, почему я так испугалась, когда он, словно призрак, почти бесшумно вышел из тёмного переулка. Убеждена, что он долго наблюдал за нами. Нет, так дальше невозможно. Я непременно в самых резких выражениях поговорю с мамой об этом господине придворном скульпторе.
Он решил немного пройтись. Во всём теле чувствовалась усталость после бессонной ночи. Спать ему сегодня осталось лишь несколько часов, ибо он непременно должен был принять участие в этой затее. Однако ему было жаль тратить драгоценное время на сон, а комната, отделённая от остального мира круглой, как скала, винтовой лестницей, вдруг показалась ему тесной клеткой.
На шёлковой занавеске плясали три золотых пятна. Жильцы уже уснули, и лишь часовой беспокойно расхаживал взад-вперёд.
Возможно, из Франции от Бонапарта прибыли курьеры, и теперь его юный посол Жан-Батист Бернадот[39] внимательно изучал полученные депеши.
Бонапарт, Арколе[40] и Риволи! В Арколе Бонапарт, уже главнокомандующий французской армией, во главе своих ринувшихся в атаку солдат со знаменем в руках под градом пуль перешёл мост, а после битвы при Риволи продиктовал в Кампоформио[41] побеждённой Австрии условия мирного договора. Его посланец, будучи сам генералом революционной армии, вполне мог занять дворец в Хофбурге, однако он удовлетворился обычным домом. Он по-прежнему ощущал себя сыном скромного адвоката, который никогда не мог похвастаться наличием богатых клиентов.
Он, Бетховен, как-то сказал ему:
— Вы редко носите шитый золотом мундир, генерал.
Он никогда не забудет ответной улыбки Бернадота.
— Я предпочитаю носить в голове нашу идею.
Правда, у Австрии тоже была своя идея. Множество добровольцев стекалось под её знамёна, и Йозеф Гайдн как патриот в час величайшей опасности для отечества написал свою наиболее пламенную песню «Боже, храни императора Франца»... Даже он, Бетховен, внёс свою лепту в патриотический подъём, создав две композиции.
Интересно, закончил ли уже Родольф Крейцер[42] свои упражнения? Бернадот позволил себе единственную роскошь — он взял с собой этого профессора Парижской консерватории и поистине выдающегося скрипача. К тому же он оказался весьма обходительным и скромным человеком.
— Qui vive?[43]
Окрик часового прозвучал как выстрел. Солдату не понравилась поза человека, прислушивавшегося неизвестно к чему, и он перешёл через улицу.
Внезапно озорное настроение накатило на Бетховена, словно волна, и он решил проверить, какое впечатление произведёт его паспорт. Он вынул из бумажника белую карточку и протянул её часовому сперва пустой, а затем заполненной стороной.
Солдат мгновенно взял ружьё «на караул» и даже застыл от изумления, не сводя широко раскрытых глаз с лица штатского, которого он, согласно строгому приказу, был обязан приветствовать как генерала.
Бетховен улыбнулся и пошёл дальше. Бедный солдат ещё долго будет ломать голову, но, конечно, так и не догадается, что «на караул» он взял, приветствуя такую великую силу, как музыка.
После Кампоформио географическая карта сильно изменилась, и короны действительно теперь валялись в пыли, — но только не корона её величества музыки и уж тем более не в этом проникнутом её духом доме, где бывали многие нотабли[44] Вены. Ни у кого больше не было такого паспорта.
Здесь, в Вене, обычно музыкантов не причисляли к нотаблям. Им разрешалось услаждать своим искусством общество в благородных домах, а как только рояли смолкали, сразу же давали понять, что они люди из низшего сословия, попросту говоря, плебс, зарабатывающий себе на жизнь уроками и сочинением музыки. Исключения только подтверждали правила.
Тут он вспомнил о Жозефине. Ему казалось, что он знает её миллион лет и ощущает как вторую, лучшую половину своего «я». Но ведь она также принадлежала к знатному роду — его первая в жизни и самая сильная любовь. Выходит, его ждёт отказ...
Наконец он добрался до своей квартиры, зажёг свечи, и их отблеск отразился в лежащей на комоде золочёной табакерке. Он порылся в ящике письменного стола и извлёк оттуда изящную коробочку, подаренную ему принцем Луи-Фердинандом Прусским, сразу напомнившую о гастролях в Праге, Берлине, Дрездене, Лейпциге и Нюрнберге. В Берлине принц позволил себе сыграть на рояле, и Бетховен тогда ещё похвалил его:
— Вы играете не как принц или король, а как настоящий и весьма одарённый музыкант.
Воспоминания грели душу, но было это очень давно, и мир этот уже безвозвратно погиб.
Остались только глаза девушки.
День ничем не отличался от остальных, за исключением тех часов, когда в ушах вновь мягко зашелестел ветер и в глазах заплясало пламя, яркими бликами показывая ему путь... Но куда?
Эта девушка была также подобна пляшущим огненным языкам, и куда же она его приведёт?
Он уже привык платить за свои мечты одну и ту же цену, ибо всё всегда заканчивалось его полным одиночеством.
Каждое утро в пять часов от «Золотого грифа» отъезжали кареты, направляясь в Аугартен, Дорбах или Пратер. Там накрывались столы для завтрака и звучал весёлый смех. Около одиннадцати все снова возвращались в Вену, потому что ни в коем случае нельзя было пропускать уроки. Вечерами они посещали кондитерскую близ Грабена, ели мороженое, любовались майскими жуками, с громким жужжанием пролетавшими над столами, а над примыкавшим к кондитерской садом синел купол начинающейся ночи.
Как-то в перерыве между уроками Тереза робко пробормотала:
— У меня к вам просьба, господин ван Бетховен.
— Да, сударыня. — Он чуть наклонился вперёд и замер в ожидании.
— Наш покойный отец, которому мы, собственно говоря, и обязаны своим пребыванием в Вене... А вообще это были для нас незабываемые дни...
Бетховен сразу понял, что она произносит слова прощания.
— Так вот, отец однажды собрал всех нас, сыграл вашу сонату и сказал: «Дети, в этой музыке есть нечто особенное не только в музыкальном, но и в человеческом отношении, и если вам когда-нибудь доведётся встретиться с господином ван Бетховеном... (отец уже тогда был тяжело болен) ...то попросите его вступить в нашу «Республику друзей человека». Это Пепи придумала название.
— Радуйтесь, что я его придумала для вас. — Жозефина стояла у окна и перебирала пальцами бахрому на шторах. — Мне оно нравится гораздо больше, чем провозглашённое во Франции: «Все люди братья». Оно гораздо более революционно, ибо речь здесь идёт не о званиях и сословиях, а о человеке.
— Да, — кивнула Тереза, — папа, подобно Диогену с его фонарём, тоже всегда искал человека. Ну так как, господин ван Бетховен? Вы согласны исполнить желание нашего покойного отца и тем самым оказать нам большую честь? Разумеется, последнее слово остаётся за моим старшим братом Францем как главой семьи и вам ещё придётся съездить в Мартонвашар, где состоится торжественная церемония приёма. Там так красиво, мы могли бы целый день напролёт музицировать.
— Ну если вы считаете меня достойным вашего сообщества. — Он поклонился и поцеловал ей руку. — А когда сударыни изволят ехать?
— В воскресенье, не правда ли? — Тереза внимательно посмотрела на сестру. — Мама ведь говорила про воскресенье?
— Верно, рано утром в воскресенье, а сегодня среда. — Жозефина звякнула прикреплённым к бахроме колокольчиком.
— Выходит, мы ещё три дня пробудем в Вене, а за это время небо может обрушиться на землю, а та, в свою очередь, разверзнуться. Может, мы продолжим урок, господин ван Бетховен? Теперь моя очередь. Слушай, Пепи, давай уже сейчас от имени нашего брата примем господина ван Бетховена в «Республику друзей человека».
— Я не вхожу в неё. — Кожа на лбу Жозефины собралась в мелкие складки, она с оскорблённым видом намотала на палец завиток волос. — Вы забыли включить меня в её состав, и потому мне слово «дружба» не нравится.
— Это позор, — сказала Жозефина. — Из-за всей этой суматохи я так и не успела посетить собор Святого Стефана.
— Как, вы там ещё не были, сударыня?
— Нет и потому чувствую себя варваркой.
— У нас ещё есть время. — Бетховен вынул из кармана часы. — Может быть, заглянем туда? Я хорошо знаю собор, но, конечно, разглядывал его в основном с хоров. Я иногда здесь играл, упражнялся и фантазировал. И потом, здесь великолепный орган. У меня даже остались ключи от него...
— Точно. Вы ведь и на органе виртуозно играете, господин ван Бетховен.
— Виртуозно? — Он равнодушно повёл плечами. — Не знаю, но игра на нём требует больших усилий...
Они вошли внутрь собора. Служитель хриплым голосом объяснял группе иностранцев смысл изображений на стенах и алтарях. Наверху Жозефина подошла к ограждению и окинула восхищенным взглядом неф. Вдалеке под теряющимися в высоте сводами поблескивало багровое пятнышко. Там перед главным алтарём горел вечный огонь.
— Боже мой...
— Я так и знал, что вид отсюда произведёт на вас сильное впечатление. Я лично не любитель каменных крыш, куполов, сводов, монументов и прочих творений рук человеческих. Природа мне представляется более достойной почитания. В лесу я однажды прошёл сквозь такие огромные, образованные деревьями врата, что эти здесь кажутся просто смешными.
— Здесь невольно проникаешься благочестием, и потом... Надеюсь, господин ван Бетховен сыграет для меня.
Его лицо сразу помрачнело, он резко ответил вопросом на вопрос:
— А кто мне будет нажимать на педали?
— У меня ещё остался дукат, я хотела ещё купить какую-нибудь безделушку на память о Вене. Думаю, если я предложу эти деньги служителю, он не откажется. Позвать его?
— Нет, сударыня! — Он умоляюще вскинул руки.
— Вы для всех готовы играть, только не для меня... Проси, умоляй, никакого толка.
Он почувствовал себя мальчишкой, пойманным на краже яблок, втянул голову в плечи и робко взглянул на неё. Она поняла, что игра становится опасной, и даже физически ощутила, как неровно, с перебоями бьётся его сердце, но её женское естество требовало продолжения.
— Вы играли для Терезы, для её подруг и, насколько мне известно, даже для княгини Лихновски, но это, правда, было давно. Но я, конечно, слишком ничтожна для вас...
— Сударыня...
Сейчас здесь она, в этом простом платье, казалась ему дороже всех святых, чьи мантии сверкали золотом и серебром. Может быть, всё-таки уступить, чтобы не выглядеть в её глазах упрямцем или даже невоспитанным человеком. Но с другой стороны...
— Извините, сударыня, но...
— Это ваше окончательное решение?
— Да.
Её глаза словно подёрнулись дымкой, она так тряхнула головой, что запрыгали завитки волос.
— Нет, вы будете играть! Женщина должна уметь настоять на своём. Я хочу услышать торжественное богослужение... скажем, в честь моей помолвки. Правда, я ещё не знаю, когда выйду замуж. Но венчаться я буду вон там, внизу у алтаря. Могу я попросить вас, господин ван Бетховен, сыграть для... для вашей невесты?
Он недоумённо посмотрел на неё. Жозефина издала тяжкий вздох:
— Как же мне с вами трудно. Бедная, слабая, дрожащая девушка сперва просит сыграть ей, потом — вашей руки, но при условии, что вы будете добры к ней. Вы хоть немного меня любите?
Он продолжал молча смотреть на неё.
— Господин ван Бетховен, я здесь, в далеко не самом подходящем месте, объяснилась вам в любви. Вы же молчите как рыба. И всё же я попрошу вас высказаться относительно моего предложения.
— Но я... — он даже не знал, что сказать, — ...так уродлив.
— Ну, разумеется, вы далеко не красавец, — она оценивающе взглянула на него, — но я, по-моему, вполне мила. Для нас обоих этого вполне достаточно.
— А?.. — Лицо его выражало сплошную муку.
— Ваша глухота? Она пройдёт. Моего слуха также хватит для нас обоих. Есть у вас ещё какие-либо веские причины? Тогда юная баронесса фон Брунсвик готова там внизу сказать вам «да».
Она вплотную подошла к нему и с откровенным вызовом спросила:
— Ну, может, вы, наконец, поцелуете меня? Здесь же никого нет.
Он в страхе отвернулся и беспомощно посмотрел на орган.
— Или ты сперва хочешь сыграть?
— Да... да!
Он был очень благодарен ей за отсрочку, позволяющую хоть немного осознать вдруг свалившееся на него немыслимое счастье и привести в порядок низвергнутый в хаос внутренний мир. Он быстро спустился в неф и обнаружил служителя, с важным видом объясняющего что-то группе иностранцев. Вскоре тот уже стоял на хорах, а затем скрылся за органом. Жозефина победно вскинула голову, а когда Бетховен закончил играть, медленно встала на колени на органной скамье.
— Таких почестей ещё не воздавали ни одной королеве. Что ты играл?
— Я?.. — Он задумчиво потёр лоб. — Если б только знать...
— Людвиг, когда ты это сочинил?
— Что? Я просто играл.
При выходе из церкви иностранцы почтительно расступились перед ними и выстроились шпалерами. Кое-кто из них даже поклонился. Жозефина сдержанно кивнула в ответ.
— Они тебя знают? — спросил он.
— Меня? Откуда?
— Но тогда почему?..
Она взяла его под руку и нежно прижалась к нему.
— Такой талантливый и такой глупый.
— Мы могли бы довериться Терезе, Людвиг, а также моему брату Францу. Наша младшая сестра Каролина чересчур болтлива, но Франц станет тебе добрым другом. — Она помолчала немного, а потом горько усмехнулась: — Теперь ты хоть понимаешь, почему на меня не действует слово «дружба». Тогда у тебя был такой вид, словно ты проглотил навозную муху. Ты меня вообще-то любишь? Ты даже толком не сказал, что я тебе нравлюсь. Для женщин это — как вода для цветов. Ты слушаешь меня?
— Я внимаю каждому слову. Просто я размышляю. Почему ты любишь меня?
— Что за вопрос? Я и сама не знаю, но ничего изменить не могу. Может, я руководствуюсь практическими соображениями: дескать, потом меня будут бесплатно обучать игре на фортепьяно. Мы столько денег сэкономим!
— Ты — чудо.
— Полностью с тобой согласна. — Она дёрнула его за рукав, заставляя остановиться перед витриной. — Что ты видишь там?
— Тебя.
— Только меня? А разве ты не замечаешь, какое там у тебя просветлённое и красивое лицо? Видишь, как просто сделать себя красивым.
— Любимая, как бы я хотел поцеловать твой локон и твой лоб. Ведь за ним такие мысли рождаются.
— Только их?
— Нет, рот тоже.
Когда Жозефина осторожно открыла дверь в музыкальную комнату, Тереза уже сидела за роялем, уставясь невидящим взором в клавиши.
— Ты злишься потому, что мы опоздали?
— А вы разве опоздали?
— Мы прошлись по ярмарке и заглянули в собор Святого Стефана. Принесли тебе пряничное сердце. — Тут Жозефина насторожилась и нерешительно спросила: — Что с тобой, Тереза? Что случилось? Где мама?
— Там у себя наверху. — Тереза равнодушно повела плечами. — Внезапно вернулась из города и запёрлась в своей комнате. Потом позвала меня. Очень плохие новости. Могу я?..
Тереза внимательно взглянула на сестру, потом перевела взор на Людвига. Жозефина всё поняла и, глядя в её умные глаза, ответила:
— Ну, конечно, ты теперь спокойно можешь говорить в его присутствии. Неужели нам придётся продать Мартонвашар, чтобы покрыть долги?
— Если получится...
— Ясно одно. — Жозефина отошла на два шага в сторону. — Если вы, господин ван Бетховен, рассчитываете на богатое приданое, вас ждёт горькое разочарование. Я не сказочная принцесса со своим замком. Можете взять своё согласие обратно.
— Могу я в присутствии вашей сестры дать окончательный ответ? — Он чуть наклонил голову. — Я так счастлив, узнав, что за тобой ничего нет. И если ты готова выйти за меня замуж, считай, что я твой навеки.
Он чуть коснулся губами её щеки. Жозефина улыбнулась:
— Знала бы ты, Тереза, как трудно заставить этого человека себя поцеловать. Могу я подняться к маме?
— Нет. У неё сейчас господин придворный скульптор Мюллер.
— Что же нам тогда делать, Людвиг? Может, сходим погуляем и послушаем музыку? Или приступим к занятиям?
Нет, Тереза, ты просто обязана уступить мне место за роялем. Я сыграю великолепно. В день помолвки у меня и без того превосходное настроение, и потом... Я вспоминаю герцогиню. Она готовилась к балу и внезапно получила дурную весть. Тогда она сказала: «Очень жаль, но плакать я смогу только завтра».
Час она увлечённо играла, но потом всё же была вынуждена прерваться, ибо графиня Анна Барбара, видимо, серьёзно заболела. Сперва к ней позвали Терезу, потом Жозефину. Через несколько минут она вернулась в музыкальную комнату.
— Я знаю, что с мамой. На всякий случай я вызвала врача. Людвиг, дорогой, пойми меня правильно. Маме сейчас нельзя оставаться одной.
— Конечно, конечно. — Он встал. — Что с ней?
— Я не хочу ничего от тебя скрывать, любимый. Она... она ужасно встревожена.
Тут на пороге появился Янош:
— Её сиятельство просит обеих сударынь немедленно подняться к ней.
— Хорошо, Янош. Иди первой, Тереза.
Она дождалась ухода сестры и вновь повернулась к Бетховену:
— Огромное тебе спасибо, Людвиг. Я никогда не слышала более прекрасной музыки.
— Ты моя вечная возлюбленная. — Он осторожно привлёк её к себе.
— Как ты сказал? Ты слишком высокого мнения о себе. Тогда ты также должен быть вечен. Уж об этом я позабочусь. Когда мы поженимся, я каждое утро рано-рано буду дёргать тебя за волосы и восклицать: «Вставайте, господин Людвиг ван Бетховен! Начинайте трудиться, чтобы сделать ваше искусство бессмертным! Сони на такое не способны».
Она крепко поцеловала его и захлопнула за собой дверь.
Вскоре в гостинице объявился полковник лейб-гвардии его императорского величества граф Йозеф фон Финта. Он был одет в мундир с регалиями и позументами, держал под мышкой треуголку с плюмажем, а другой рукой поддерживал под локоть графиню Элизабет. Они оба искренне хотели помочь, но ничего не могли сделать.
Графиня Анна Барбара неподвижно лежала, равнодушно глядя в потолок. Время от времени её начинало трясти, и тогда врач подносил ко рту графини сильнодействующее лекарство, которое, однако, не могло вернуть ей силы. Она по-прежнему пребывала в полуобморочном состоянии.
— Выпейте, мама. — Тереза подносила к её губам стакан.
Графиня послушно пригубила отдающую горьковато-пряным запахом жидкость.
Граф Финта подул на пышный плюмаж своей треуголки и глазами дал понять жене, что им здесь больше делать нечего. Она согласно кивнула в ответ.
Жозефина проводила их и, вернувшись, услышала, как мать сказала Терезе:
— Деточка, подойди к окну и посмотри, не идёт ли кто.
— Нет, никого, мама.
Уже стемнело, и Жозефина спросила:
— Может, зажечь свет, мама?
— Нет, ради Бога, нет! Я очень устала и хотела бы заснуть. А вы стойте у окна и не сводите глаз с улицы. Обещаете? Тогда я точно засну. Да, и скажите Яношу, что, если появится господин Мюллер, пусть мне немедленно доложат. Даже если это произойдёт глубокой ночью.
Когда мать заснула, Жозефина шепнула сестре:
— Я так боюсь за Людвига... Больше, чем за себя.
— Уже светло. — Жозефина окинула сонным взглядом комнату. — Сколько времени?
— Девять часов, счастливый сурок. Я уже хотела разбудить тебя.
Жозефина спрыгнула с кровати, раздвинула шторы и прищурилась, глядя на залитую солнцем улицу.
— Как там мама?
— Ей гораздо лучше. Господин Мюллер, кажется, принёс ей добрую весть.
— Тогда я резко меняю своё отношение к нему. — Жозефина растёрла лицо водой. — Этот несносный субъект, видимо, умеет творить чудеса, и, если Людвиг не будет против, я подарю ему в знак благодарности пряничное сердце. Во сколько он пришёл?
— В семь. Тебе, наверное, придётся принять участие в семейном совете.
— Я понимаю в купле-продаже столько же, сколько телёнок в алгебре. — Жозефина тщательно причесалась и взглянула в зеркало. — Я умею ездить верхом, танцевать, смеяться и неплохо играю на фортепьяно. Так сказал вчера Людвиг. Ох уж мне этот несносный человек! Из него каждый комплимент нужно клещами вытаскивать. Скажи, Тереза, мы сможем сохранить Мартонвашар? Я так хочу прогуляться с Людвигом по парку, показать ему дом...
— Не знаю, Пепи. Мама сказала вчера: «Позови Жозефину, наше будущее теперь зависит только от неё».
Тереза уже начала терять терпение, долгое ожидание выматывало нервы, но тут, наконец, вернулась Жозефина.
— Пепи!.. Господи, что с тобой?
Сестра, казалось, даже не слышала её. Она металась по комнате, как загнанный зверь, потом вдруг покачнулась, подбежала к окну, распахнула его и тут же снова закрыла. Затем она истерически рассмеялась и закричала:
— Янош! Где Янош?
— Я сейчас приведу его, Пепи.
— Да, да, и потише, чтобы мама не слышала.
Она бросилась на кровать Терезы, громко всхлипнула и снова рассмеялась.
— Наша мама! Графиня Анна Барбара Брунсвик! Её сиятельство! Noblesse oblige! Тереза, ну где же Янош?
Наконец старик лакей вытянулся в струнку возле кровати. Он взглянул на Жозефину и побледнел как мел, однако голос его оставался ровным и спокойным:
— Чего изволите, сударыня?
— Я прошу, я умоляю, — она вдруг бросилась ему на шею, — защитить меня, Янош. Обними, обними меня.
— Сударыня...
— Нет, нет! — Она резко оттолкнула его. — Ты всего лишь лакей, но я, уроженка знатного рода, не стою тебя. Извини, что коснулась тебя своими грязными руками. И его, его я тоже испачкала, и теперь я больше не имею на него права и словом с ним не обменяюсь. Но ты должен сходить к нему.
— К кому, сударыня?
— К господину ван Бетховену, к кому же ещё? — Она даже разозлилась на преданного лакея за его бестолковость. — Ты знаешь, где он живёт. Помнишь, ты сопровождал нас туда. И скажи ему... А что тебе ему сказать? Скажи ему, что... сегодня уроки отменяются. Дескать, тут такое случилось... нет, этого ты ему не говори. Только про уроки, понял? И пусть он сегодня не приходит в «Золотой гриф». Я сама к нему приду. Скажем, вечером, даже очень поздним, когда все спят и воры выходят творить свои тёмные дела. Ты одолжишь мне свою накидку, Тереза? Ты всё понял, Янош? — Она гневно топнула ногой. — Как, ты ещё не ушёл? Иди к этому убогому нищему музыканту и не забудь поклониться ему. Я бы отвесила ему гораздо более глубокий поклон, чем ты или кто-либо другой, но...
После ухода расстроенного, ничего не понимающего Яноша Жозефина презрительно скривила рот:
— Во сколько ты меня оценишь, Тереза? Всю меня целиком и полностью? Дукатов эдак в тысячу, не более, правда? И виной всему это жалкое ситцевое платье с наспех зашитым рукавом. Так вот, меня продали за сорок тысяч дукатов, и теперь у нас будет роскошная жизнь. И пусть меня тошнит от этого стареющего... ну ты сама понимаешь кого, пусть. Ведь на карту поставлена честь всей графской семьи Брунсвик. Но он тоже... он тоже виноват.
— Кто? — Тереза своим вопросом хотела лишь немного успокоить сестру.
— Этот самый Бетховен. Почему всего лишь Богом одарённый музыкант? Смешно! А ведь речь идёт о дукатах. Если бы он смог предложить большую сумму... — Жозефина ткнулась лбом в крестовину оконной рамы и тихо всхлипнула. — Теперь я знаю, почему мы должны были неотрывно смотреть на улицу. Только я не имею права говорить об этом. Честь рода... Смешно. Её сиятельство заставила меня поклясться на Библии.
— Пепи... — Тереза наконец решилась обнять сестру за плечи. — Может, всё же объяснишь, что случилось?
— А ты ничего не поняла? Извини. Нет, я не могу, я дала клятву, но вот представь себе, я вхожу в комнату к маме, а там уже сидит весь такой расфуфыренный, надушенный господин Мюллер. — Она даже поперхнулась при упоминании его имени и долго кашляла, держась рукой за горло. — Он почтительно приветствовал меня, и мама торжественно сказала: «Позволь представить тебе графа Дейма, камергера его величества».
— Кого?
— Понимаешь? По-моему, у меня было такое же глупое лицо, как у тебя сейчас. Оказывается, граф Дейм много лет назад отказался от своего титула и стал носить простую фамилию Мюллер. Он был замешан в какую-то историю с дуэлью, много лет жил в Голландии и Италии, а потом вернулся в Вену. Вчера император дал ему аудиенцию и вернул прежний титул.
— Сказка, да и только!
— Водевиль! Получается, он самый настоящий чародей! И, уже будучи графом Деймом, он попросил моей руки. Я смеялась, кричала, но ты знаешь наше ужасное положение, и потому мне пришлось сказать «да». Мы же не можем отправить маму в тюрьму. Остаётся только добавить, что мой будущий муж крайне нетерпелив и уже через четыре недели я стану графиней Дейм.
— Бедняжка!
Жозефина покорно склонила голову, но внезапно вскинула её и рухнула перед сестрой на колени.
— Но я не хочу, не могу... и потом, что скажет он? Я умоляю тебя, Тереза, ты была всегда очень добра ко мне. Спаси меня. Выйди за графа Дейма. Хорошо? Ну, пожалуйста, Тереза.
— Ты же знаешь, Пепи, как я люблю тебя, — она прижала сестру к себе, — но я... я выдам тебе одну тайну. Я тоже люблю его как женщина мужчину.
— Людвига?
— Да, Пепи. — Голос Терезы задрожал от волнения. — И я желаю вам обоим счастья. Поверь мне, Пепи. Только...
— Понимаю. — Жозефина тихо всхлипнула. — Я тоже понимаю. Ты, как всегда, права. Ты такая умная, добрая, но граф Дейм хочет меня, а не тебя...
Всё теперь было совершенно по-другому.
Тогда во время первого визита ноги у неё словно налились свинцом и пришлось медленно взбираться по ступеням. Теперь же ночью, при блёклом лунном свете, она легко взбежала по винтовой лестнице, ибо чувствовала себя здесь уже как дома и не хотела нигде задерживаться.
При свете луны замочная скважина казалась золотой. Она постучала и, не дожидаясь ответа, вошла в комнату.
— Добрый вечер, Людвиг.
Как хорошо, что её голос не дрожал. Она видела, насколько он огорчён, и не хотела доставлять ему новые неприятности.
— Не обращай внимания на столь холодное приветствие. В наших отношениях ничто не изменилось. Или ты другого мнения? Да нет, нет. Иначе бы я не смогла полюбить тебя.
Она сняла плащ, одолженную Терезой вуаль и поправила причёску.
— Очень хорошо, что я заранее написала тебе. Не стоит тратить времени на долгий разговор. Я пробуду у тебя столько, сколько ты захочешь. Скажем, пока не начнёт светать. В шесть мы уезжаем.
— Уже утром?..
— Понимаешь, это новое расписание... — Она прервалась и начала торопливо расхаживать взад-вперёд. — Какой же у тебя здесь беспорядок! Ты только посмотри на ноты! Конечно, Микеланджело тоже был очень неаккуратным человеком, но это тебя никак не оправдывает. Почему на клавишах валяется гусиное перо? Нет-нет, не бойся, я только немного наведу порядок. Разложу ноты. Ой какие красивые розы! Поставь их в прозрачную вазу. Жёлтые розы! Мой любимый цвет!
Она не могла позволить себе зарыдать во весь голос и потому, чтобы отвлечься, заставила себя говорить совершенно банальные вещи:
— А почему ты так небрежно швырнул сюртук на стул? Смотри, у него вот-вот оторвётся пуговица. Немедленно дай мне нитку с иголкой! Или тебя такие мелочи не волнуют?
Он поставил на стол маленький ящик, она села на софу, придвинула к себе светильник, и вдруг лицо её озарилось улыбкой.
— Сядь рядом, Людвиг, и смотри на меня.
Окончив пришивать пуговицу, она аккуратно повесила сюртук на спинку стула.
— Вот и всё. Но если ты его утром наденешь...
Он невидящим взором смотрел на догорающие свечи:
— Да, именно так. А где ты будешь утром?
— Ну, где-нибудь. Какая разница.
— А он...
Она сразу всё поняла:
— Нет! То есть мне всё равно. Ведь сейчас я с тобой.
— Пока со мной.
— Я всегда буду с тобой, Людвиг. — Она отчаянно затрясла головой. — Ты даже представить себе не можешь, как я тебя люблю! Это не пустая болтовня, это моя судьба.
Тело её судорожно задёргалось, из глаз полились слёзы. Он ласково погладил её по голове:
— Не печалься, любимая, иначе я...
Она немного успокоилась, вытерла слёзы и тихо сказала:
— Людвиг, время идёт, а нам ещё нужно кое-что обсудить. Позволь узнать, каковы твои дальнейшие намерения?
— Я... я вскоре начну работать над Второй симфонией.
— Очень хорошо. Это меня радует.
Он почувствовал колебание в её голосе и осторожно спросил:
— Что тебя ещё интересует?
— Извини за нескромность... Да, именно нескромность, но у меня впечатление, что я... Я могу попросить... попросить тебя посвятить мне одно из твоих сочинений. Только чтобы никто... никто...
— Я уже думал об этом. — Он нежно прижал её к себе. — Всё очень просто. Твоё новое, так ненавистное мне имя — «графиня Жозефина Дейм», — естественно, нигде не может быть упомянуто. Но я могу посвятить свою композицию всем, и если ты встретишь на ней чьё-либо имя, то поймёшь всё правильно.
— Но я хочу услышать его...
Она прервалась и посмотрела на быстро капающий со свечи воск. Ей вдруг страстно захотелось, чтобы мучительный миг расставания был уже позади.
За окнами забрезжил свет, и Жозефина встала с софы.
— Мне пора.
Он помог ей надеть накидку и поцеловал в лоб.
— Благодарю тебя!
— За что?! Ведь я принесла тебе несчастье.
— Нет... за то, что я всегда буду любить тебя.
— Людвиг...
После её ухода он ещё долго ощущал на губах горечь прощального поцелуя. «Будь что будет, — подумал он, — пусть я глухой, пусть... Нет, я не глухой... Я обещал посвятить ей симфонию и не могу нарушить слово».
Он сел за рояль и пробежал пальцами по клавишам. Жильцы, снимающие внизу квартиры, наверняка возмутятся. Дескать, их разбудили, нельзя так рано играть на рояле и всё такое прочее, но сейчас его это совершенно не волновало. Сейчас ему как никогда нужен был его незримый помощник, и ему даже показалось, что он уже стоит рядом с ним. Ну почему он молчит, почему у него глаза словно затянуты паутиной?
Он попробовал ещё раз. Нет, ничего не получается, и неизвестно, получится ли.
Он надел шляпу и выбежал на улицу. Карета как раз проехала мимо. Он низко поклонился ей вслед.
Он не помнил, по каким улицам блуждал и сколько прошло времени после её отъезда. Уже на обратном пути он внезапно остановился, услышав за спиной возглас:
— Месье ван Бетховен!
Посол Франции генерал Бернадот махал ему из окна.
— У вас не найдётся немного времени? Я бы хотел на прощанье пожать вам руку.
— Вы тоже уезжаете?
— Тоже? А кто ещё уехал? Ну не важно. Зайдите ко мне. Я вам сейчас всё расскажу.
В гостиной среди беспорядочно сдвинутой мебели двое упаковщиков заколачивали ящики. Бернадот сразу же провёл Бетховена в свою библиотеку.
— Здесь нечто вроде оазиса. Но после моего отъезда его также превратят в пустыню. Мне ещё предстоит нанести ряд прощальных визитов, большей частью к людям, к которым совершенно не хочется проявлять почтение. Это самое ненавистное в не слишком чистом ремесле, именуемом дипломатией. — Он окинул Бетховена озабоченным взглядом: — Что с вами?
— Ничего! И вообще я не хочу об этом говорить!
В словах Бетховена прозвучал откровенный вызов. Худощавый молодой генерал добродушно улыбнулся:
— Я вполне понимаю ваше состояние, но такие часы бывают в жизни каждого, дорогой друг. Вы позволите мне вас так называть? Ведь нас обоих сближает любовь к музыке. Садитесь, ну садитесь же. И выпейте немного. Это вам на пользу пойдёт.
Бернадот наполнил два хрустальных бокала золотистой жидкостью.
— За искусство! За нашу любимую музыку, которая снимает любую боль и всегда звучит сильнее и убедительней любой канонады. За ваше здоровье, Бетховен.
— И за ваше тоже...
— Итак, я уезжаю сегодня вечером. — Бернадот поставил пустой бокал на письменный стол. — Сперва мой путь лежит в Париж. Уж не знаю, куда меня направят потом. Солдат — что лист на ветру. Впрочем, Родольф Крейцер уехал ещё две недели тому назад со всеми скрипками и каденциями. Он очень хотел проститься с вами, но вы же на целых три недели исчезли с лица нашей довольно беспокойной матушки-земли.
— Меня так долго не было?.. — удивлённо спросил Бетховен.
— Да, а мне очень хотелось побеседовать с вами. — Бернадот помолчал немного, на мгновение задумался. — У меня к вам просьба. У нас во Франции в настоящее время нет сколько-нибудь выдающегося композитора. Меуль?.. Но у него не хватает дыхания... — Он неожиданно повернулся и показал на стену: — Знаете эту картину? Она произвела на меня очень сильное впечатление, и я попросил снять копию.
— Бонапарт? — Бетховен прищурился, всматриваясь в изображение.
— Да, Бонапарт со знаменем революции на Аркольском мосту близ Вероны. Правда, скажем прямо: художник несколько идеализировал его образ. — Бернадот презрительно скривил губы. — Да его ведь там не было. Генеральский шарф не может развеваться согласно академическому канону, и знамя тоже так не вьётся на ветру. Краски к тому же неудачно подобраны. И вообще отразить стремление героя поднять знамя нового, лучшего мира способна, на мой взгляд, только музыка.
— Вероятно...
— Вы согласны со мной? Бетховен, я представляю здесь не только Францию, я представляю здесь нашу Революцию. Чувство такта побуждало меня избегать любых разговоров на политические темы. И потом, я не настолько безумен, чтобы стремиться привлечь на свою сторону поборников феодальной системы. Ох уж эти сиятельные особы с их вежливыми улыбками! Представляю, какой страх в душе они испытывали передо мной. Надеюсь, Бетховен, вы не настолько наивны, чтобы полагать, будто революции есть плод деятельности нескольких злоумышленников. Нет, народ нужно долго и сильно мучить, лишь тогда он восстанет. Вы должны это понимать, Бетховен, и я вам прямо скажу: вы один из нас.
— А если так?..
— Тогда... тогда напишите симфонию об этом знаменосце. — Бернадот улыбнулся. — Я вам даже название предложу: «Героическая симфония». И если вы согласитесь, знайте: это будет моим наивысшим достижением. Ничего большего я бы в Вене всё равно не добился.
— Этот ваш Бонапарт, — брезгливо поморщился Бетховен. — Он для меня всегда был как бельмо на глазу.
— Но почему?
— Ну уж если до конца быть честным, из зависти. Звучит странно? Уж слишком быстро он достиг славы. Он всего на год старше, чем я, но уже гораздо ближе к звёздам.
— Так сделайте один гигантский шаг и встаньте вровень с ним! «Героическая симфония»! Неужели вас не пьянит эта мысль?
Их беседу прервал камердинер:
— Карета подана, генерал.
— Как мне надоела эта обязательная форма, — тяжело вздохнул Бернадот. — Шитый золотом сюртук и шляпа с плюмажем.
Камердинер помог ему переодеться.
— Да ещё эта украшенная сапфирами сабля, Арман. — Он искоса взглянул на Бетховена. — Мир всё ещё желает обманываться ложным блеском, но мы это изменим. Для нас главное — человек, а не его одежда или кошелёк. Арман, ты приготовил список лиц, которым я должен нанести прощальный визит?
— Прошу вас, генерал. — Камердинер протянул ему лист бумаги.
— Так, правильно, сперва к графу Фризу. Поедемте со мной, Бетховен, чтобы я не почувствовал себя одиноким. — Бернадот прислушался к бою часов. — И потом, там будет Даниэль Штайбельт[45].
— Да это же...
— Да, это ваш собрат по ремеслу, превосходный пианист и довольно известный композитор. Подобно Калиостро, он умеет сводить людей с ума, и потому его выступления я называю «сеансами». Но Штайбельт морочит голову совсем иначе, и в тюрьму он не попадёт. К сожалению, убить его тоже не убьют. Согласны поехать со мной, Бетховен?
Даниэль Штайбельт добился в Париже поразительных успехов. С ещё большим триумфом его встретили в Праге. По пути он подцепил праздношатающуюся по европейским городам англичанку, и теперь мадам Штайбельт — так она стала называть себя — аккомпанировала ему на тамбурине. Сам он прекрасно владел техникой игры на фортепьяно, и это наложило неизгладимый отпечаток на его композиции. Кроме того, господин Штайбельт торговал «настоящими цыганскими тамбуринами» — по дукату за каждый, — а «мадам» учила обращаться с ними. Приобщение к этому мистическому обряду стоило двенадцать дукатов.
Бетховен и Бернадот приехали к началу второго отделения. Ошеломлённый граф Фриз еле слышно прошептал:
— Как? Не может быть! Ваше превосходительство почтили нас своим визитом в день отъезда! Там впереди есть несколько мест для почётных гостей. Вы знаете где, Бетховен.
— Да, я знаю где.
Внезапно он почувствовал, что знает не только где расположены эти места, но и вообще обо всём на свете. Он несколько раз моргнул, словно в глаза ему слепил яркий свет...
Граф Фриз был типичным нуворишем, ибо его родители ещё недавно расхаживали с лотками по улицам Вены. Поэтому он стремился поразить воображение толпы безумной роскошью. Сейчас за дукаты можно купить всё, даже твою вечно любимую женщину. За восемнадцать тысяч гульденов такие люди, как граф Фриз, позволяли себе ярко освещать свои музыкальные залы даже днём. Его дворец стоил не меньше ста тысяч дукатов, а за миллион даже человек низкого происхождения, как, к примеру, Бетховен, мог купить себе дворянский титул.
Non olet! Он вспомнил знаменитое изречение императора Веспасиана, который очень нуждался в деньгах и потому обложил налогом общественные уборные. Его сын брезгливо поморщился, но Веспасиан лишь рассмеялся в ответ: «Non olet!» Деньги не пахнут!
Весь зал был пропитан ароматом необычайно дорогих духов, но...
Кто-то с удивлением посмотрел на него. Почему?
Ах, ну да, он всё ещё шевелил губами. Несомненно, он говорил сам с собой, так он часто поступал, когда оставался один. Один? Скорее уж одинокий...
Он попытался привести в порядок свои хаотически бродящие в голове мысли. Вот, к примеру, госпожа фон Бройнинг. Дворянское звание не мешает ни Леноре, ни горячо любимому мной Стефану называть её самым красивым именем: Мама.
Однако можно попытаться назвать женщину ещё более красиво. Например, «вечно любимая». И тогда она превзойдёт и вас, уважаемая госпожа фон Бройнинг, и вас, граф Вальдштейн, и даже...
Он окинул взглядом зал. Необычайно элегантный господин и был, по-видимому, тем самым Даниэлем Штайбельтом. Кто-то из гостей подошёл к нему, он удивлённо вскинул брови, мельком посмотрел на дверь, возле которой сидел Бетховен, и сразу же отвернулся. Вероятно, он не посчитал его достойным соперником.
— Надеюсь, Бетховен, вы не собираетесь помериться силами со Штайбельтом?
— Я?..
— Очень хорошо. Этот Штайбельт превосходно владеет новым приёмом — так называемым тремоло[46].
— Меня это нисколько не смущает, но я... я не умею танцевать с тамбурином.
— Прошу вас, Бетховен, перестаньте насмехаться надо мной.
Тут Даниэль Штайбельт поклонился, услышав гром аплодисментов, откинул полы фрака и сел за рояль. Ещё более бурной овацией зал встретил появление стройной женщины в цыганском одеянии, туго облегавшем пышное тело.
В общем и целом это было довольно увлекательное зрелище. Своеобразный шотландский танец, только вместо волынки тамбурин. Опять же: non olet! И уж тем более для этой расфуфыренной салонной публики. Он вдруг отчётливо услышал звонкий смех Жозефины, и перед глазами заклубилась пыль из-под колёс удалявшейся кареты... Он в очередной раз посмотрел на себя со стороны. После долгого хождения по улицам волосы ещё более растрепались, а распустившийся узел галстука он конечно же забыл снова завязать. Разумеется, Бернадота это нисколько не покоробило, посол в генеральском звании спокойно появился рядом с ним в высшем свете, но ведь он был одним из тех французских революционеров, которые в глазах венских аристократов уже по определению не могли отличаться изысканным вкусом и благородными манерами.
Он прислушался к звукам тамбурина, повторяя: чинг-чинг-чинг! Отлично! Вконец измученный французский народ восстал и отправил своих мучителей и изменников делу революции на гильотину. Чинг-чинг — лязгает её топор. Так, и теперь тремоло. Это уцелевшие жалобно оплакивают последствия своих деяний. Чинг! Чинг!
Чем здесь так воняет? Дорогими духами? Но к нему примешивается невыносимый запах пота. Откуда он здесь? Ведь потом пахнет труд, а эти надушенные руки никогда не трудились. Так мог думать только плебей. А он и есть плебей, и нечего тут стесняться. Чинг-чинг!
Его глаза расширились, словно он вдруг поразился непостижимому чуду. Даже искренняя святая любовь не должна стать препятствием на пути к великой цели — борьбе за справедливость и счастье всего человечества.
Эта мысль, как вспышка молнии, ярко сверкнула в его голове. Звучат трубы, бьют барабаны, и звучит призыв идти вперёд через мост со знаменем в руках! Он вспомнил песню революции — «Chant du départ»[47], написанную Меулем на слова Йозефа Шенье[48]. Бернадот прав. Меулю не хватает дыхания. Ничего, он сейчас привнесёт в его песню своё дыхание.
La victoire en chantatn nous ouvre la barriere, La liberte guide nos pas, Et du Nord, du Midi la trompette guerriere.И пусть те, кто собрался здесь, и всё-всё-всё запишут в свои книги для памятных записей: «Победа с песней открывает нам врата! Свобода окрыляет нашу поступь! От Севера до Юга фанфары возвестили о начале борьбы».
Хорошо сказано! Он подумал, что его музыка сделает борьбу ещё более решительной...
Теперь тремоло и чинг-чинг! И снова:
La victoire en chantatn nous ouvre la barriere, La liberté guide nos pas.Маршируют солдаты! Маршируют солдаты! Вы слышите? Вы...
Et du Nord, du Midi la trompette guerriere A zonne l’heure des combats.— Что это... Что это, Бетховен? — незаметно подошедший Бернадот удивлённо посмотрел на него.
— Что?.. Ах да... Наброски к будущей «Героической симфонии». Можете передать их господину Бонапарту.
Его братья! Они последовали за ним в Вену! Дескать, кровные узы и всё такое прочее. На самом деле они считали его чем-то вроде золотого гуся, которого необходимо ощипать догола. Вели они себя всё более и более дерзко.
Иоганн устроился подручным в аптеку «У Святого Духа». Карла взяли кандидатом на должность сборщика налогов.
— Дай нам двоим сорок гульденов, Людвиг. Как только меня возьмут в штат, я верну тебе эту жалкую подачку.
— Где я их тебе возьму?
— Действительно, Иоганн, он же гол как сокол. — Карл ловко выдвинул ящик секретера. — Может, под нотами есть что-либо ценное? Так, оратория «Христос у Масличной горы». Кому это нужно? А к симфонии, на которой можно хоть немного... ты даже не приступал. Конечно, все эти дни ты проводил с дамами из высшего общества. На твоём месте, Людвиг, я бы не позволял себе такие выходки. Две сонаты для скрипки! Сонаты для фортепьяно! Впрочем, Людвиг, устрой мне ученика.
— Я тебе уже стольких устроил.
— Но мне нужен один и вполне определённый. Правда ли, что эрцгерцог[49] Рудольф хочет брать у тебя уроки?
— Ходят такие слухи.
— Так направь его ко мне. Во-первых, я чиновник с видами на будущее, а во-вторых, бесспорно куда более способный преподаватель игры на фортепьяно, чем ты.
— Вне всякого сомнения. — Людвиг согласно кивнул. — Вот только захочет ли он брать у тебя уроки?
— Этот ответ ещё раз свидетельствует о твоём несносном характере, — мрачно заметил Карл. — Пошли, Иоганн.
Бетховен постоянно менял квартиры и метался от Понтия к Пилату, словно и впрямь унаследовал от отца неудержимую тягу к перемене мест.
В Бонне мальчишки кричали ему вслед «Шпаниоль». Теперь же они шептали за его спиной: «Вот идёт глухой Бетховен! Глухой музыкант!»
Глухой? Нет, не глухой, хотя порой казалось, что у него в голове поселился сам сатана. То в мозг впивались острые иглы, то в виски били звонкие молоточки. Затем он вновь слышал её лёгкие шаги на лестнице, и вновь уши его словно замуровали...
Он зажёг свечи и откинул голову набок.
— У меня для тебя есть кое-что, Жозефина.
Не дождавшись ответа, он заорал:
— Госпожа графиня Дейм!..
Он увидел в зеркале свои шевелящиеся губы, почувствовал, как судорожно дёрнулась гортань, но не услышал ничего. Дьявол в очередной раз залепил ему уши смолой!
Он ударил кулаками по клавишам. Ничего. Тогда он схватил скамейку для ног и обрушил её на крышку рояля с криком:
— Соната для скрипки номер шесть! Номер шесть! Адажио-мольто экспрессиво![50] Ничего! Ничего, ничего!..
Наконец дьявольская смола в ушах начала медленно таять, и он услышал, как внизу к подъезду подъехала карета. На лестнице загремели шаги. В дверь постучали.
В комнату вошёл офицер в дорогой, подбитой мехом и шитой золотом гусарской венгерке. Его сопровождала молодая дама.
— Прошу прощения за мою вызывающе роскошную одежду, — извиняющимся тоном сказал офицер. — Она обязательна для придворных визитов, но я рад, что могу в ней выразить своё глубочайшее уважение к вам, господин ван Бетховен. — Он низко поклонился. — Я — Франц Брунсвик. Передаю вам горячие приветы от моей сестры Терезы и... от Жозефины. Заодно я привёз вам новую ученицу. Позвольте представить: моя кузина Джульетта Гвичарди.
— Надеюсь, вы не откажетесь давать мне уроки, господин ван Бетховен, — улыбнулась Джульетта. — Но почему вы на меня так смотрите?
— Мой Бог, какое поразительное сходство с... — он чуть было не сказал «Пепи», — с графиней Дейм!
Брунсвик провёл ладонью по тёмным вьющимся волосам. На тонком с благородными чертами лице выделялись умные глаза. Вообще весь его облик невольно заставлял окружающих соблюдать дистанцию. Лишь его чуть приплюснутый красноватый нос — то ли следствие чрезмерной любви к токайскому вину, то ли загара, то ли действия ветров — свидетельствовал о том, что молодой офицер в кругу своих вполне мог быть добрым, славным малым.
Он небрежно сбросил венгерку на возвышавшуюся на рояле гору нот.
— Ещё раз прошу прощения, господин ван Бетховен, но Тереза и Пепи говорили, что я могу чувствовать себя здесь как дома. — Он показал на стул. — Садись, Джульетта, Цирцея[51] нашей семьи, и вам я также посоветовал бы хоть ненадолго присесть. Кстати, поскольку вы являетесь членом нашего «Общества друзей человека», забудьте, пожалуйста, о моём графском титуле.
— А как мне вас называть?
— Просто Франц и, естественно, на «ты». — Брунсвик снова поклонился. — Могу я называть вас Людвигом?
— Конечно, Франц, — взволнованно ответил Бетховен.
— Ну, а теперь несколько слов о тебе, моя очаровательная кузина. У тебя есть метр, Людвиг?
— Зачем он тебе? — Ну просто как с Пепи, никогда не знаешь, что ему в голову придёт.
— Зачем? Иначе тебе просто не измерить её титул. Помимо тёти Финты, у моего отца была ещё одна сестра. Она вышла замуж за — извини, я наберу в грудь побольше воздуха — за графа Франца Йозефа Гвичарди, действительного камергера его императорского и королевского апостолического величества, советника губернского правления и директора канцелярии в Триесте. В настоящее время дядюшка Гвичарди вместе с тётушкой Сусанной и их очаровательной семнадцатилетней дочуркой Джульеттой прибыли в Вену, и посему титул у него нынче, слава Богу, уже не такой сложный. Он стал просто действительным надворным советником. Ну а у тебя какой титул, Людвиг? Тебе ведь нечего предъявить, кроме симфонии, септета, трио и различных сонат?
— Я в Вене недавно слушала господина Вольфля. — Губы Джульетты тронула улыбка. — Неужели вы смогли победить даже такого виртуоза, господин ван Бетховен?
— Сударыня... — неохотно отозвался Бетховен. — Победить Вольфля нельзя, ибо он — истинный и лучший ученик Моцарта.
— Но ведь говорят...
— Техникой он владеет гораздо лучше меня. У него совершенно немыслимые пальцы, они вполне способны охватить даже дециму. Но в итоге он обнял меня и сказал: «Вы победили». Очень благородно с его стороны.
— Мне всё уже рассказали. — Джульетта медленно покачала головой. — Нет, господин Вольфль сказал: «У вас, Бетховен, есть то, чего нет у меня. Вас можно сравнить только с Моцартом, правда, его талант был несколько иным. Из нас двоих вы лучший, Бетховен».
— Это было ясно с самого начала, — пробормотал Франц. — Можно лишь посочувствовать славному Вольфлю.
— У вас сейчас такой таинственный вид, Франц. — Джульетта внимательно посмотрела на кузена. — Во всяком случае, я с удовольствием стала бы свидетелем их состязания.
— А если бы ты ещё досталась победителю в качестве приза... — Брунсвик мечтательно закатил глаза.
В ответ Джульетта лишь обнажила в улыбке ослепительно белые зубы.
— Когда же ты, наконец, приедешь в Мартонвашар, Людвиг? — поспешил Брунсвик сменить тему разговора. — Там сейчас так музицируют! Ну, хорошо, Джульетта, давай покажи, на что ты способна, а то маэстро ещё, чего доброго, откажется с тобой заниматься.
— Не нужно. — Бетховен вяло махнул рукой. — Рекомендации вашей семьи вполне достаточно. Я готов, сударыня, заниматься с вами два раза в неделю... Вот только где?
— Ну, раз в неделю папа, несомненно, разрешит мне пользоваться экипажем для поездки в Унтердёблинг.
— Этого вполне достаточно, сударыня. Ибо раз в неделю я всегда приезжаю в Вену. Будем попеременно заниматься то тут, то там.
— Я совсем забыл спросить тебя об одной вещи. — Брунсвик с размаху хлопнул себя по лбу. — Пепи просила узнать, закончена ли уже некая грандиозная фортепьянная соната? У неё ещё такое итальянское название.
— Даже не знаю, что сказать. — Неужели Жозефина имела в виду «Аппассионату»? — Я недавно написал сонату до-диез, но назвать её следовало бы скорее уж «Лимонадной сонатой». — Бетховен вдруг разозлился на себя и собеседника и крайне раздражённым тоном добавил: — Я уже где-то играл её, и некий любитель говорить излишне красиво сказал, что её первую часть — адажио — можно сравнить с отблесками лунного света в водах Фирвальдистетского озера. Пошлость и безвкусица распространяются подобно эпидемии. Мою несчастную сонату до-диез с тех пор в салонах иначе как «Лунной» не называют. Таким образом, я написал «Сонату в беседке» и «Лунную сонату», хотя ещё ни разу не пил лимонад в беседке при свете луны. Может, сыграть её, Франц, чтобы ты дома мог рассказать о ней? У меня пока ещё нет копии.
Сыграв заключительный аккорд, Бетховен спросил:
— Вы ощутили в первом пассаже отблеск лунного света?
— А кому, собственно говоря, посвящена соната, господин ван Бетховен? — после короткого молчания деланно равнодушным тоном осведомилась Джульетта.
Он резко повернулся:
— То есть для кого она написана, сударыня? Да никому не посвящена.
Она чуть вскинула брови:
— Вот как?
Прошёл почти месяц. Во время одного из уроков Джульетта сидела за роялем. Он расхаживался взад-вперёд, приговаривая:
— Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Это один из простейших четырёх с четвертью тактов. Сперва алла браве[52], а потом снова...
Уроки длились не очень долго. Бетховен в душе не переставал поражаться поразительному сходству Джульетты с Жозефиной. Но характеры у них были разные. Джульетта, это дитя, действовала на него успокаивающе. Нет, он неверно выразился, семнадцатилетнюю дочь итальянца и венгерки уже никак нельзя было назвать ребёнком.
Никогда бы он не согласился давать ей уроки в своей квартире. К тому же Джульетте очень понравилось ездить в карете в Унтердёблинг. Разумеется, он дал графине слово, что на уроках всегда будет присутствовать подённый лакей, но сегодня его почему-то не было. То ли отправился за покупками в Вену, то ли «дитя» намеренно куда-то отослало его.
— Остановитесь, сударыня.
— Я опять провинилась?
— Пальцы. Ваша прежняя ошибка.
Она напрягла кончики пальцев.
— Ещё сильнее.
— Каким... тоном вы со мной разговариваете, господин ван Бетховен?
Сейчас она вновь надменно смотрит на него, но порой она ласкалась, как влюблённая кошка. Вообще она вела себя совершенно непредсказуемо. Не будь она родственницей Брунсвиков... Он не выносил высокомерных дворян и уж точно сумеет поставить на место эту особу с графским титулом и кошачьими повадками.
— Играйте! Продолжайте играть! Я придержу ваши руки.
— Вы их ещё в тиски зажмите, — воркующим голосом сказала она.
— Продолжайте играть!
Через несколько минут он почувствовал неудержимое влечение к ней и во избежание соблазна убрал руки.
Глаза Жозефины — хотя нет, это же не Жозефина — выражали откровенное разочарование. Или он ошибался?
Она встала и подошла к открытому окну.
— Вы только посмотрите, господин ван Бетховен, как крепко спит мой кучер. Эй, Жан! Нет, ничто на свете не может его разбудить. И потом, грешно было бы прерывать его сладкий сон. Уж не знаю, что может сниться такому счастливому человеку...
Почему-то у него вдруг сразу стало тревожно на душе. Беседа вдруг приняла неожиданный оборот.
— Вы так и не открыли мне, какому... призраку вы посвятили сонату до-диез.
Она как бы показывала ему, что лгать дальше бессмысленно.
— Жозефина не призрак.
— Вы не ошиблись, — после недолгого раздумья ответила она. — Она существо из плоти и крови, более того, она даже готовится стать матерью.
— Что?..
— Разве Франц вам ничего не сказал? Она ждёт ребёнка.
— Ложь!
— Говорите, пожалуйста, тише, чтобы не разбудить кучера. — Она закрыла окно. — Почему ложь? Она ведь замужем.
— Зачем... вы это мне говорите?
Она ехидно улыбнулась:
— Мне просто хочется совершить подлость по отношению к Жозефине.
— Но почему?
— Но почему? — повторила она вслед за ним.
Он рванулся к ней:
— Джульетта!
— Вы хотите сделать мне больно? — Она вздохнула и отвернулась.
— Не тебе, а Жозефине! — выкрикнул он с искажённым от ярости лицом. — Уходи, влюблённая кошка.
— Ты хочешь... отомстить мне? — Она с любопытством посмотрела на него.
Он схватил её на руки и понёс в спальню. Она ещё успела срывающимся от волнения и страха голосом пробормотать:
— Не заблуждайся, Людвиг, я ведь также могу отомстить... Я ведь тоже не призрак.
За окном кто-то пронзительно свистнул. Так в Бонне свистел тот из них, кого они ставили на стрёме, когда лазали за яблоками в чей-нибудь сад. Но откуда здесь, в Вене...
Он подошёл к окну и увидел внизу юношей. Более старший на вид усердно подражал дрозду.
— Как же ты меня напугал, мерзавец! — закричал Бетховен. — Ещё немного, и я бы выпрыгнул в окно, чтобы не попасть в лапы полиции! Стефан, и ты, Фердинанд Риз! Ну что же вы?
Стефан фон Бройнинг задорно рассмеялся:
— А ну-ка угадай, откуда мы приехали. Не поверишь, из Бонна. Где бы нам хоть ненадолго присесть?
— На скамью.
— Да, господин ван Бетховен, мы очень устали. Мы скоро пойдём дальше, ибо вам нынче не до нас, грешных, вы всё больше с графами да князьями общаетесь, и потому едва ли странствующие музыканты встретят у вас достойный приём.
— Я тоже музыкант. — Бетховен с недобрым прищуром нацелился взглядом в переносицу Стефана. — Считаю в ритме анданте[53], и если вы при счёте «три» не подниметесь ко мне... Раз... два.
При счёте «три» он уже сжимал Стефана в своих объятиях:
— Стефан!..
— Людвиг!..
— Почему у вас такой глуповато-почтительный вид, Фердинанд?
— Он хочет брать у тебя уроки игры на фортепьяно, но боится отказа.
— Я откажу Ризу? Я же под началом его отца корябал смычком по струнам... Нет, никогда!
— Прежде чем ты задушишь меня в объятиях, Людвиг, — простонал Стефан, — я хотел бы ещё успеть передать тебе привет от моей матери, Элеоноры, шурина и вообще всех-всех-всех...
Тяжело отдуваясь, он отошёл назад и вытер платком взмокший лоб.
— Ты ещё довольно молод, Стефан, — с нескрываемым злорадством произнёс Людвиг, разглядывая земляка, — но волосы на висках уже сильно поредели. Много думаешь или ведёшь развратный образ жизни?
— И то и другое, Людвиг. Много думаю о твоём развратном образе жизни. В Бонне только и разговоров о покорённых тобой сердцах принцесс и графинь. Вроде ими даже можно мостить венские улицы. Кстати, о какой такой «очаровательной девушке» ты написал Францу Вегелеру? Она, конечно, тоже принцесса?
— Нет, но благородного происхождения.
— Ясно. — Бройнинг откашлялся. — Леноре посылает тебе жилет из заячьей шерсти, а мать просит узнать, приедешь ли ты когда-нибудь в Бонн и сыграешь ли у нас, к примеру, вариации на тему «Марш Дреслера». Она всегда вспоминает о них, вытирая с рояля пыль.
— Вы знаете эти вариации, Фердинанд?
— Они даже засели в моих пальцах, только...
— Достаточно. Сыграйте, доставьте мне удовольствие. У меня с ними связаны очень приятные воспоминания.
Через несколько минут Бетховен со стоном закрыл лицо руками.
— Пресвятая Богородица! Нет-нет, извините, это у меня случайно вырвалось. Неужели я мог сочинить такую халтуру?! Позвольте-ка мне сесть за рояль, Фердинанд. Хочу доказать самому себе, что продвинулся достаточно далеко.
У рояля он вдруг резко повернулся:
— Да, а какова, собственно говоря, цель твоей поездки сюда, Стефан?
— Хочу насладиться воздухом Вены и заодно стать великим человеком.
— Воздух Вены. Им можно наслаждаться бесконечно. Что же касается великих людей... Моцарта, например, здесь похоронили в могиле для бедных. Возможно, тебя ждёт такая же судьба. В Вене я считаюсь выдающимся пианистом, и всё же я хотел бы ещё раз полной грудью вдохнуть сырой воздух Бонна.
— Что вы тут делаете? — Он смерил взглядом подённого лакея, который стоял на коленях перед печкой и соскребал со стенок сажу.
— Хочу протопить комнату, господин Бетховен.
— Ночью?
— Уже утро.
— Можете идти, сегодня вы мне больше не нужны. Убытки я вам оплачу.
Бетховен посмотрел лакею вслед. Он оказался прав. Уже действительно почти утро. В комнате царили предрассветный полумрак и полнейший хаос. Расплывшиеся, полусгоревшие свечи, груды нот, писем и книг на рояле и полу. Погнутый нож, кусок копчёной колбасы и надрезанный кусок сыру. Клавиши рояля обсыпаны табаком. На стуле рядом с засохшей лужицей соуса несколько пустых бутылок. В этом хаосе он вдруг почувствовал себя человеком, напрасно ищущим выход из лабиринта...
Нет, так нельзя. Первым делом раздавил недогоревшие свечи. Тонкие струйки дыма, клубясь, поднялись к потолку, он закашлялся и открыл окно.
Холода он не чувствовал. Серый сюртук из мягкой шерстяной ткани надёжно защищал его, но зато каким удивительно ясным и чистым стал воздух в комнате, как великолепно очищал он не только голову, но даже тело. Человек — особое существо. Иначе такая сильная любовь, сгорев подобно свече, оставила бы от него только мерзкий клубящийся дым.
Эти номера журналов на полу с критическими отзывами на его произведения — что искал он в них? Связи с Бонапартом, Первым консулом Французской республики, с которым он хотел сравняться, написав «Героическую симфонию»? Но сперва он оказался в республике музыки, обезглавил которую, правда, не парижский палач Анри Сансон, а анонимные рецензенты из лейпцигской, пользующейся весьма солидной репутацией «Всеобщей музыкальной газеты».
В печь! Он собрал все номера. Как там писал один из этих: «Господин ван Бетховен превосходно владеет техникой игры на фортепьяно и уже стал довольно известен, однако не ясно, получится ли из него столь же удачный композитор».
А как оценил другой осёл его фортепьянные и скрипичные сонаты? «Для них характерны бунтарство, стремление к редким модуляциям, отвращение к обычным сочетаниям и обилие трудных пассажей. Но в них нет места ни природе, ни истине. Вступит ли когда-нибудь господин ван Бетховен на путь, предопределённый естественным ходом вещей?»
Ну почему эти тупицы всё искажают? Пустота, искусственность — у них следование духу природы, а рождённое в муках — нечто затруднительное для восприятия или просто противоестественное.
— Что вы тут сжигаете, господин ван Бетховен?
— Крумпхольц! Доброе утро! Я проверяю, способна ли моя печь поглотить дерьмо. Оказывается, способна. Как обстоят дела со скрипичными голосами?
— Да не очень хорошо, — помедлив, ответил долговязый, худой как жердь скрипач. — Не получается что-то с вашей «Весенней сонатой». Я сижу за третьим пюпитром от второй скрипки и потому спросил также Шуппанцига. Он присоединился к моему мнению.
— Понятно. — Отблеск огня сделал лицо Бетховена ещё более красноватым. — Да неужели вы полагаете, что ваши жалкие скрипки... Извините, Крумпхольц, я не хотел вас обидеть. Вы никому не рассказали о том, что я тайно беру у вас уроки игры на скрипке и вообще?.. — Бетховен понизил голос и протянул скрипачу несколько нотных листов: — Вот гонорар за ваши уроки, и, желая доставить вам радость, я напишу для вас сонату для мандолины, ибо вы поистине виртуозно играете на этом инструменте. Наверное, лучше всех в Вене.
Он резко повернулся к двери:
— Войдите...
— Извините, господин ван Бетховен, что я потревожил вас в столь ранний час... — Молодой купец-еврей с бледным лицом и грустными глазами вежливо наклонил голову. — Но я хочу принести вам извинения. Эти субъекты из «Всеобщей музыкальной газеты» пишут такую чушь.
— Ни слова больше, Эппингер, — недовольно пробурчал Бетховен.
— Что вы обсуждаете? — робко спросил Крумпхольц.
— Одну рецензию, — зло усмехнулся Бетховен. — Потому-то сегодня я и занялся их инвентаризацией. Нам всем дали соответствующую оценку в критическом отзыве. Там похвалили девять вариаций для двух скрипок Шуппанцига. Я от души завидую ему! Столь же хвалебную оценку получили фортепьянные вариации господина Филиппа Фройнда. Так же благосклонно был упомянут наш славный Генрих Эппингер с его вариациями для скрипки и виолончели. Соната некоего господина, скрывавшегося под инициалами А. В., была названа просто превосходной и рекомендована для исполнения дамам, а относительно моей скромной особы было прямо сказано: «Его вариациям никак нельзя дать положительную оценку. Тирады слишком неблагозвучны, а непрекращающиеся полутона в сочетании с басом звучат особенно неприятно».
— Мне так неудобно, господин Бетховен, — растерянно пробормотал Эппингер, — ведь я всего лишь дилетант.
— Вы ещё и глупец, Эппингер, — рявкнул на него Бетховен. — Многие профессиональные музыканты, даже выдающиеся пианисты и композиторы, на мой взгляд, просто вечные жалкие дилетанты и, напротив, есть любители, которых можно назвать настоящими музыкантами. К ним относитесь и вы, Эппингер, только не как композитор, а как скрипач.
В дверь постучали. Бетховен, тяжело вздохнув, произнёс: — У меня сейчас урок. Очень тяжкое бремя для профессионального музыканта.
— Значит, ты и есть тот самый юный виртуоз, о котором говорил Крумпхольц. Как тебя зовут?
Лицо мальчика стало бледным как мел.
— Карл... Карл Черни[54].
— А сколько тебе лет?
— Десять.
— И в таком возрасте ты уже публично исполнял в Леопольдштадтском театре концерт для фортепьяно до минор Моцарта?
— Да... — еле слышно выдохнул мальчик, нервно теребя кончики пальцев.
— Оставь их в покое, они тебе ещё пригодятся.
Бетховен говорил так резко вовсе не потому, что мальчик не пришёлся ему по душе. Напротив, он ему очень понравился, но его облик пробудил такие яркие воспоминания, что они даже подействовали на его тон.
Интересно, сверкают ли его глаза сейчас таким же дьявольским блеском, как когда-то в доме Христиана Готтлиба Нефе? С тех пор прошло целых полжизни одного поколения. Точно так же, как когда-то у него, у юного любителя музыки трепещет сердце, ибо от решения Бетховена зависит его дальнейшая судьба.
Его вдруг охватило неодолимое желание схватить мальчика за волосы и отвести к роялю. Именно так он и поступил.
— В тех местах, где необходим аккомпанемент, я дополню мелодию левой рукой.
Дрожь прошла по телу мальчика, он начал играть, и Бетховен поразился ловкости его маленьких пальчиков. Фердинанду Ризу никогда не достичь такого уровня, какие бы драконовские методы он, Бетховен, ни применял на уроках.
Ах ты проказник! Среди тысячи учеников едва ли можно найти одного с такими способностями.
Поэтому Бетховен, небрежно сыграв несколько аккордов, взглянул на календарь-памятку и отрывисто сказал:
— Вторник и пятница тебя устроят, Карл? Хорошо, тогда в эти дни я жду тебя» у себя ровно в пять часов. Ты ещё ходишь в школу? Занимайся там прилежно, это тебе в жизни пригодится.
— Речь не о школе, — вмешался в разговор Венцель Черни. — Сбылась твоя мечта, мой мальчик. Ты стал учеником знаменитого пианиста Людвига ван Бетховена.
По щекам маленького Карла медленно текли слёзы.
Джульетта Гвичарди ловко натянула перчатки. Она не сводила глаз с Бетховена, казалось, полностью занятого исправлением оркестровой партитуры.
— Это ведь твоя Вторая симфония, не так ли, Людвиг? Я думала, она уже готова.
Её легкомыслие уже не раз приводило Бетховена в ярость. Ведь по-настоящему её никогда не интересовало, чем он занимается.
Он вычеркнул несколько нот и заменил их другими.
— Кстати, Джульетта, я послал тебе Рондо соль мажор. После отделки я посвящу его тебе.
— Очень милая вещица, — она быстро напудрила нос, — но какая-то безличная.
Он сразу же прицепился к этому слову:
— Верно. Мне сейчас нужно что-то безличное. Графиня Лихновски, сестра князя, оказала мне любезность. Позволь мне посвятить ей Рондо.
— А я...
— Ты внакладе не останешься. У меня много других произведений. Выбери себе что-нибудь подходящее.
Она сделала вид, будто погрузилась в раздумье.
— Тогда я выбираю «Лунную сонату».
— Вот как? — Он медленно повернулся. — Тебя привлекло название или... или это связано с Жозефиной?
— Наверное, и то и другое. — Она чуть улыбнулась краешками губ.
— Ты не вправе ничего отнимать у Жозефины.
— Женщине больно такое слышать. — Она приложила платок к глазам.
— Не устраивай, пожалуйста, театр, Джульетта. Хотя, понимаю, так легче сообщить мне кое о чём...
— О чём? — Она посмотрела на него расширенными глазами.
— Я всё знаю, Джульетта. — Он чуть приподнял и опустил плечи. — Не бойся и отойди от двери. Когда ты выходишь замуж?
— Довольно скоро.
— Таково желание Галленберга?
— Разумеется, он безумно влюблён, и потом... мои родители также хотят этого брака.
— Твои родители?
— Да, они говорят, ты пока ещё не признан как музыкант, Галленберг же граф, и все утверждают, что он весьма талантливый композитор. Мне же, как и Жозефине...
— Не стоит её сюда примешивать, — мягко возразил он. — По-моему, мы уже всё друг другу сказали. Или нет?
— А «Лунная соната»! Ты не забыл, что обещал посвятить её мне?
— Я всегда держу слово, Джульетта. Если хочешь, можешь даже распустить в салонах слух о несчастном композиторе низкого происхождения, который был безумно влюблён и потому написал в твою честь сонату. Люди любят такие слезливые истории.
Он вновь склонился над партитурой, но внезапно резко вскочил и обернулся. Когда же он в последний раз ел?
Комната была пуста.
Город он покинул без всякого сожаления, взяв с собой только самые необходимые вещи. Дом, в котором он снял на лето квартиру, походил на замок или, скорее, даже на караульное помещение у ворот замка. Это было здание с двумя пристройками. В середине арка, производившая довольно мрачное впечатление. Однако, пройдя её, можно было попасть на весьма опрятный хозяйственный двор.
Распаковать вещи, кое-как устроиться и работать, работать, работать... Прошло несколько недель, и вдруг однажды кто-то пропел у порога его комнаты мелодию основной темы его Второй сонаты.
Бетховен рывком распахнул дверь. Его лицо сразу же помрачнело и живо напомнило грозовую тучу.
— Ля мажор, а не до Мажор, господин слуга с графским титулом! И он ещё осмеливается играть на виолончели! Взяли бы лучше вместо неё жареного гуся или тушу оленя!
Его сиятельство Цмескаль фон Домановец, чиновник придворной венгерской королевской канцелярии, вытер платком лоснящееся добродушное лицо и хитро подмигнул, показывая на зажатую под мышкой коробку.
— Не соизволят ли его превосходительство расписаться в получении, чтобы я как можно скорее смог отряхнуть со своих ног пыль этого разбойничьего логова?
Вместо ответа Бетховен рывком втащил приятеля в комнату.
— Ох-ох-ох! Все вам кланяются, желают здоровья и всё такое прочее. А как вообще обстоят ваши дела?
— Хорошо. — Прозвучало, правда, не слишком убедительно.
— Тем не менее я полагаю, что ваше изгнание сюда объясняется причудами доктора Шмида.
— Цмескаль!
Граф успокаивающе помахал гусиным пером:
— За исключением немногих ваших друзей, которых можно перечесть по пальцам, никто не знает ни о докторе Шмиде, ни о болезни ваших ушей.
— Боюсь, вы нагло лжёте, Цмескаль.
— Разумеется, но пусть вас это не тревожит. У вас ещё бывают видения?
— Уже довольно долго не было, хотя недавно...
— Вы гипохондрик, Бетховен. Выкиньте этих сверчков из головы.
— Не знаю, Цмескаль. Доктор Шмид постоянно возвращается к этой теме. Ему кажется, что он делает это тактично и незаметно, но я всё замечаю. Он спрашивает, как я сплю ночью, не тревожит ли меня стрекотание сверчков. Тебе он ничего толком не скажет, но означать это может только одно: моё состояние вскоре ухудшится и я окончательно потеряю слух.
Послышался стрекочущий звук. Бетховен тут же окинул взглядом комнату.
— То ли я страдаю манией преследования, то ли здесь действительно завелись сверчки?
— Я такие вещи проделывал с моей тёткой — упокой, Господи, её душу. — Цмескаль скорчил пренебрежительную гримасу. — Стоило ей даже ночью в лютый мороз услышать за окном стрекотание саранчи, как она тут же вставала и отправлялась в заснеженный сад на поиски насекомого. Я же спокойно вытаскивал из-под подушки ключ от кладовой и набивал живот вареньем и фруктами.
— Вы пройдоха, Цмескаль. — Бетховен грустно улыбнулся, — но человек очень славный.
— Как вам угодно, ваше превосходительство, но знайте, что к этому пройдохе вы можете приходить хоть каждое утро. — Цмескаль вытащил из коробки несколько гусиных перьев. — Их хватит вам на десять симфоний. В остальном же я полагаю, что доктор Шмид поступил глупо, ограничив ваш круг общения. Вы — человек, Бетховен, а человек, как никакое другое живое существо на свете, нуждается в общении с себе подобными.
Он немного проводил Цмескаля, а потом обессиленно рухнул на траву на опушке рощи. Согретая солнцем земля источала тёплый пряный аромат, и на душе стало спокойно. Веки сомкнулись, он лежал в полудрёме и вспоминал свои детские игры.
Он вновь превратился в Гулливера, попавшего в страну лилипутов, в глазах которых травинки выглядели мощными стволами деревьев, а снующие вокруг муравьи и крошечные жучки — огромными чудовищами.
— Ти-ти-ти!..
Прямо на ветку уселась иволга. Звуки её пения были удивительно приятны, и одновременно в них звучал какой-то вызов. На фоне пламенеющего заката Бетховен даже воспринял пение птицы как своего рода серенаду.
— Ти-ти-ти!..
Бетховен осторожно взял свой альбом. Нет, эти звуки он непременно должен выразить в нотах. В его собрании они пока отсутствовали, хотя Бетховен записывал нотами даже шум крыльев перепела и журчание ручья. Возможно, всё это пригодится ему для написания симфонии, хотя сама идея была ещё более расплывчатой, неопределённой и смутной, чем медленно поднимающиеся над лугами клубы тумана. Вторая симфония была уже готова, и он уже думал о следующей, с гордым названием «Героическая».
— Ти-ти-ти! Ти-ти-ти-таа!..
Ну хорошо, он записал эти звуки, собрав, если так можно выразиться, последний урожай. Ибо в этом году птичьи голоса замолкнут и, вполне возможно, — тут лицо его помрачнело — к началу нового он уже ничего не будет слышать.
— Ти-ти-ти-тааа!.. Ти-ти-ти-та!
Иволга пела в тональности до мажор. Поразительно. Если бы ещё удалось превратить её в тональность до минор, он воспринял бы происходящее как знак судьбы, от которой ещё никому не удавалось уйти. Но иволга по-прежнему продолжала насвистывать:
— Ти-ти-та! Ти-ти-ти-таа!..
Ну хорошо, дружок, ты убедил меня. Значит, выбираем до мажор. Точно до мажор.
Этот чёртов Цмескаль, конечно, славный малый, но он разбередил рану, сказав правду.
Он, Бетховен, действительно нуждается в общении. Он готов быть доброжелательным ко всем и взамен хотел бы только такого же отношения к себе. Роль отшельника ему совершенно не подходит. Одиночество приносит ему только новые страдания...
Так, может быть, вернуться в Вену? Нет. Слишком быстрая смена обстановки пользы не принесёт. Уж лучше навестить выехавших за город друзей.
Решено, завтра он отправится к ним!
Однако это «завтра» никак не наступало, ибо каждое утро он постоянно уходил с головой в работу.
Однажды вечером он вышел из дома, собираясь отправиться на прогулку. Внезапно он замер в глубоком раздумье.
Мальчик по имени Франц Грильпарцер[55], живший с Бетховеном в одном коридоре, испуганно наблюдал за ним из воротной ниши.
— Франц...
— Да, господин ван Бетховен?
— Как у нас дела, Франц? — Он горько усмехнулся. — Опять небось сочинил что-нибудь?
— Нет, господин ван Бетховен.
— Можешь утешить себя тем, что у меня пока тоже ничего не получается. Спокойного тебе сна, Франц. Мне же предстоит долгая дорога. До Вены путь не близок.
— Как, вы хотите прямо ночью отправиться в Вену?
Вместо ответа Бетховен махнул на прощанье рукой. Вскоре он вышел на просёлочную дорогу и словно растворился в сгущавшихся сумерках.
Минула полночь, когда он, наконец, с нетерпением дёрнул за шнур колокольчика. Немного подождав, он, словно нетерпеливый студент, принялся выбивать тростью искры из булыжной мостовой.
Наконец дверь открылась. Правой рукой доктор Шмид кое-как запахнул халат, а левой поднёс светильник к лицу незваного гостя.
— Это вы, Бетховен?
Тот ловко крутанул трость и подчёркнуто вежливо снял шляпу.
— Примите уверения в совершеннейшем моём почтении к вашим знаниям, доктор. На этот раз вы поставили превосходный диагноз.
— Что-нибудь случилось?
— Да нет, я просто пришёл к вам с прощальным визитом, ибо я совершенно здоров. Остаётся лишь рассчитаться с вами. За ночной визит, естественно, полагается повышенная плата.
Он прошёл в кабинет. Доктор Шмид проследовал за ним, качая головой.
— Вы сегодня такой...
— Какой? Слишком развязный?
— Если так можно выразиться... С кем вы общались? С этим полоумным бароном фон Цмескалем?
— Отнюдь. — Бетховен сел в кресло с высокой спинкой, с наслаждением вытянул ноги и принялся постукивать по ним тростью. — Нет, думать по-иному меня побудил некий юный поэт.
— Кто?..
— Его зовут Франц Грильпарцер.
— Такого не знаю. — Врач осторожно поправил пенсне. — Даже никогда не слышал о нём.
— Это не имеет значения. — Бетховен небрежно махнул рукой, — но, уверяю вас, вы ещё услышите. Благодаря ему у меня в голове созрел грандиозный замысел, не знаю, право, хватит ли таланта превратить его в музыкальное произведение. Ну ладно, не будем отвлекаться от темы. Итак, доктор, я часто ругал и проклинал вас, но сейчас вы видите перед собой раскаявшегося грешника, чистосердечно заявляющего: я здоров. Какими бы абсурдными ни казались ваши методы лечения, они дали хороший результат.
— Вот видите! Я всегда это говорил, но вас же не переубедишь. Вы оказались самым сложным из всех моих пациентов.
— Должен признаться, что по части веры в медицину я был просто неисправимым язычником.
— Теперь вы, надеюсь, исправились?
— Полностью.
— Это радостное событие стоило мне испорченного сна, — весело улыбнулся врач. — Я действительно достаточно часто и весьма основательно обследовал ваши уши и лишь в целях профилактики и для вашего собственного успокоения рекомендовал капать в них миндальное масло и принимать ванны в сидячем положении.
— Вот именно, Шмид, это главное. — Бетховен выбросил вперёд указательный палец. — Похоже, существует прямая связь между задней частью тела и слуховым органом, так сказать, между южным и северным полюсами.
— Перестаньте издеваться надомной. Вы не только невежда во всём, что касается медицины, вы ещё и истерик. Помните, что я вам уже давно сказал: хотя кое-какие болезненные явления имеют место, нет никаких поводов для серьёзного беспокойства.
— Но вообще вы обращались со мной как-то уж очень осторожно. — Бетховен набрал в грудь побольше воздуха, — ходили вокруг да около, словно кошка, а я — миска с горячей кашей. Но ведь я всё-таки не самый глупый человек на свете. Скажите прямо, если я вдруг перестану слышать стрекотание кузнечиков, это значит?..
— То есть высокие тона? — Доктор Шмид испуганно вытянул перед собой ладонь. — Хватит пугать себя и других, Бетховен! Это значит, что я уже ничем не смогу помочь вам. Ваша мать умерла от чахотки, значит, у вас дурная наследственность и, выражаясь понятным для дилетанта языком, вы можете заболеть чахоткой слуха или мозга. Тогда нить вашей жизни оборвётся самое большое через год.
— Извините меня. — Бетховен поднял с пола цилиндр и тщательно вытер его рукавом.
— За что? — удивился врач.
— За то, что я ломал перед вами комедию. Однако благодаря ей я узнал правду о своей судьбе. Спокойной ночи.
Начать трудиться?..
Многое начато, но ничего не кончено. Так что же сперва?
«Героическая симфония»! Было бы чистейшей воды безумием думать только о ней. Он метался по комнате, как разъярённый зверь, то и дело хватая различные предметы.
«Настоящий отец, — эти слова он слышал ещё в детстве, — обязан вовремя составить завещание на всё своё имущество».
Так что же он может передать по наследству? Может быть, роскошные смычковые инструменты, подаренные ему князем Лихновски? Он распахнул крышку ящика и сразу увидел покрытую ярким лаком скрипку, изготовленную Гварнери[56] ещё в 1718 году. Не меньшим шедевром была скрипка Николо Амати[57], относящаяся к 1669 году, с чуть выпуклым корпусом и отличавшаяся сладковатым звучанием.
Какое же у него ещё есть недвижимое имущество?
Договоры с издателями с финансовой точки зрения не представляли собой лакомого куска для наследника. Но кто же мог считаться таковым у него?
Его братья?
У него не было особых оснований испытывать к ним дружеские чувства, но всё же это были его братья.
Карл?.. В его жизни произошли большие перемены. В последнее время ему грех было жаловаться на жизнь, но вот Иоганн...
Он взял большой жёлтый лист канцелярской бумаги и начал писать:
«Бетховен
Моим братьям Карлу...»
Он намеренно оставил свободное место. Уж очень ему не хотелось вписывать сюда Иоганна. Стоило ему представить себе фигуру брата с отвислыми плечами и надменной улыбкой, вспомнить, что ещё несколько дней назад он прямо-таки довёл его до белого каления...
Перо вновь забегало по бумаге.
«О люди, считавшие меня злобным упрямцем или мизантропом, вы не знаете тайную причину моего необычного поведения. С детства я был настроен весьма благожелательно по отношению к людям и был способен даже к добрым жестам, но с шести лет я страдаю от неизлечимой болезни, состояние моё всё ухудшается из-за неправильных действий бездарных врачей. Надежды на исцеление у меня почти не осталось. Вы даже представить себе не можете, люди, что значит постоянное чувство одиночества. Я всё время пытаюсь встать выше своих страданий, и порой у меня это получается. Я не могу заставить себя сказать собеседнику: «Говорите громче, я плохо слышу», — но как же могло случиться так, что я...»
Нет, при всём при том он, несмотря на страшные мучения, цеплялся за жизнь. Не будет преувеличением сказать: дьявол порой залепливал ему уши воском так, что он становился совершенно глухим...
Он задумался, а потом принялся писать дальше:
«...был вынужден признаться в своём слабоумии, я, который обладал умом более совершенным, чем многие мои товарищи по профессии. Я просто поддался минутной слабости и потому прошу простить меня. Я не могу себе позволить отдохнуть среди людей за приятной, умной беседой, нет, я вынужден жить как в изгнании...»
Он писал и писал, стремясь выразить на бумаге одолевавшие его душевные и телесные муки. Сколько ему ещё осталось? Год? Нет, так долго он не выдержит. Так, может быть, самоубийство было бы наилучшим выходом?
Он напрягся, стиснул зубы и подписал:
«Хейлигенштадт
6 октября 1802
Людвиг ван Бетховен».
Затем он капнул на бумагу горячим воском и приложил к нему свою печать.
Итак, он снова поселился в Вене, на этот раз на Петерсплац, рядом с караульным помещением. Естественно, его пристанище располагалось на самом верхнем этаже.
Холодный ноябрьский дождь выплёскивался из сточных желобов, крупными каплями стекал по оконному стеклу. Площадь покрылась первым лёгким снежком.
Состояние его слуха равномерно, с дьявольской точностью, ухудшалось. Он стремился трудиться вдвое больше, чем обычно, чтобы полностью использовать оставшееся до рокового часа время.
Его «Героическая симфония»! Сколько он уже размышлял о ней, сколько ломал голову. Увы, но произведение искусства и размышления о нём суть разные вещи.
Тем не менее он не мог упрекнуть себя в безделье. На рояле и полу музыкальной комнаты громоздилось множество композиций. Кое-какие из них Карлу уже удалось пристроить.
Никаких записей относительно своих дел он не вёл. Зачем? После скрипичной сонаты в соль мажоре с оркестром он написал ещё скрипичную сонату в фа мажоре. А может, наоборот? У него была плохая память на даты. Гораздо лучше он запоминал тональности. Тут он наткнулся на фортепьянную сонату, копию которой хотел послать Жозефине. Пусть не опасается, что со слухом у него стало совсем плохо.
Правда, теперь он воспринимал только прежний уровень. Ля-бемоль мажор? Именно в этой тональности он напишет скерцо, превратив ритм в самую настоящую вакханалию, чтобы она явственно ощутила его бодрость и уверенность в себе.
Перо вывело на листе жирную ноту, и в тот же миг за окном послышался медный перезвон. Как обычно, в полдень ударили колокола в соборах Святого Петра и Святого Стефана.
Он встал и подошёл к окну. С высоты птичьего полёта люди на Петерсплац походили на крошечных букашек. Если бы они вдруг спросили его, почему он выбрал такую неудобную квартиру на четвёртом этаже в доме между двумя колокольнями, где ежедневно регулярно звонили на рассвете, в полдень и вечером?.. Что бы он им тогда ответил?
Этот звон утешал и вдохновлял его. Перед силой колоколов расступалась незримая стена, отделявшая его от мира.
Он глубоко вздохнул и вдруг даже задрожал от радости. Как же всё-таки здорово заручиться помощью таких могучих неодолимых союзников.
Квартира была в новом доме, принадлежавшем купцу Циттербарту. Тот, обладая огромным количеством денег, не проявлял к ним особого интереса, отдавая предпочтение театру, в котором ровным счётом ничего не понимал. Его причудой умело воспользовался наделённый коммерческой жилкой автор либретто «Волшебная флейта» господин Шиканедер. Он посоветовал купцу вложить несколько сот тысяч талеров в строительство нового венского театра.
В ушах сатана, блюдя традицию, вновь устроил адский шум. Бетховен принялся нервно расхаживать взад-вперёд. В комнате постепенно становилось темно. Ему очень нравился полумрак — ведь именно тогда начинали пробуждаться боящиеся света совы.
Очевидно, его сегодняшние ожидания были совершенно напрасными. Шум в голове заглушал остальные звуки, однако внезапно ему почудился какой-то сигнал. Словно где-то совсем рядом прозвучало нечто похожее на хорал. Он прислушался, и выражение лица его стало надменным. Теперь он сможет прорваться даже сквозь рёв Левиафана.
Только тихо! Осторожно, очень осторожно, чтобы ничего не пропустить мимо ушей! Вроде бы сатана на какое-то время оставил его в покое.
До мажор? Нет... нечто схожее с хоралом, но лучше в тональности ля мажор?
Осторожно, крайне осторожно, пусть он ничего не слышит, пусть, достаточно просто суметь выбрать нужный аккорд.
Он повторил: ля — ми — до-диез — ля! Затем пьяно[58]: соль — фа-диез, соль — си!.. Звуки из сочинения Родольфа Крейцера, которому он хотел посвятить свой опус?.. Итак, скрипка как бы с трудом играет мелодию, затем соло на рояле.
Теперь ему был нужен свет, чтобы записать нотные знаки, огненными письменами ярко вспыхнувшие у него перед глазами.
Хорошо, пусть будет хорал, если вам так угодно назвать его! Нужно достойно встретить вызов, а потом...
Он никак не мог решиться, долго стоял в раздумье, и на это были достаточно веские основания.
А может, просто набраться мужества и изо всех сил ударить в мерзкую рожу того, кто вновь вежливо постучал в его голову. Пусть это даже сам сатана!
Престо!.. Раллентандо![59]
Ещё раз! И ещё раз раллентандо с фортепьянным кадансом, который он уж точно исполнит на концерте!..
Злобный дьявол-мучитель заблуждается, если думает, что ему удалось одержать над композитором победу! Нет, ничего у него не получится! Итак, заново! Престо! Крещендо[60]! Сфорцандо[61]! Сфорцандо! Нет, рояль играет слишком медленно! Тогда пусть будет скрипка! На ней исполнит сфорцандо! Аккорд, а затем пиццикато[62]! И ещё раз сфорцандо!..
Тут вторая часть молнией сверкнула перед его глазами. Клубок постепенно распутывался сам собой. Это будут прекрасные вариации, а уж третья часть...
Гм, неплохая мысль. Он заимствует её из Шестой сонаты для скрипки, которую собирался посвятить российскому императору. Однако она показалась чересчур помпезной. Да, попытка была неудачной. Он даже крейцера не заработал.
Внезапно Бетховен почувствовал себя совершенно разбитым. Правда, внутри всё дрожало и звенело, как натянутая струна, но Бетховен знал, что это скоро кончится и тогда он будет лежать неподвижно и даже слова не сможет сказать. Эдакий бессловесный, бесполезный чурбан.
Ничего не поделаешь, он уже наполовину оглох, и душевный порыв, заставивший его, подобно Прометею, красть у богов огонь, обернулся изрядно досаждавшими ему в последнее время желудочными коликами. Интересно, в них тоже есть какой-то тайный смысл?
Он подошёл к окну как раз в тот момент, когда мимо с гордым видом проходил Карл Черни. Видимо, он шёл к пекарю.
— Эй, бездомный щенок, ну-ка поднимись ко мне!
На пороге мальчик вежливо поздоровался:
— Доброе утро, маэстро.
— Для меня оно началось ещё вчера вечером. У тебя хорошие ноги?
— Куда прикажете сходить, маэстро?
— И ты не боишься Чёрного человека?
— Кого-кого?
— Скрипача Брайдтауэра. Он ведь мулат. Сбегай в «Золотой гриф» и вытащи его из постели за смуглые ноги, а потом схвати за курчавые волосы так, как я хватаю тебя сейчас за твои космы, и приволоки сюда, понял? Он должен опробовать новую скрипичную сонату для нашего концерта. Можешь также присутствовать.
— И слушать, маэстро?
— А как же? Или ты хочешь полировать смычок господина Брайдтауэра? Мне очень важна твоя оценка, Карл. Сегодня ночью я написал скрипичную сонату для Родольфа Крейцера, вот мы её и вставим в концерт. Как, ты ещё здесь?
Зал в Аугартене был переполнен. Музыкальные утренники, начинавшиеся обычно в восемь часов, пользовались огромной популярностью. Был прекрасный солнечный майский день, и публика валом валила на концерт, привлечённая славой молодого скрипача-мулата Джорджа Брайдтауэра, которого газеты называли «любимцем лондонских салонов».
От кружившихся вокруг его имени слухов веяло жарким дыханием африканской саванны, где бродили стада жирафов и слонов, а по ночам всё заглушал свирепый львиный рёв. Отец Брайдтауэра был самым настоящим негром, а мать — белой женщиной. Принц Уэльский отправил своего концертмейстера в отпуск, чтобы тот принял целебные ванны в Теплице и Карлсбаде. Заодно чернокожий виртуоз посетил Вену. Сейчас этот среднего роста мулат с подчёркнуто скромным видом стоял на подиуме. Его грустные глаза с бесконечной тоской смотрели куда-то вдаль.
Вот он несколько раз прошёлся пальцами по скрипке и крепко прижал её к подбородку.
Но Бетховен выжидал, лишь заметив внизу какое-то движение, провёл одной, потом другой рукой по всклокоченным волосам. Затем он поймал взгляд Жозефины и многозначительно улыбнулся, давая понять, что сегодня они играют для неё.
Жозефина согласно кивнула.
Глаза Бетховена расширились, потемнели, и он сделал знак скрипачу.
От напряжения его лицо исказила судорога. Он глубоко вздохнул.
Из-под пальцев плавно полились звуки. Он выдержал, он смог преодолеть себя, и теперь нужно приготовиться к безумной охоте за мелодиями.
Так, теперь раллентандо... Он играл совершенно раскованно, забыв о своём недуге, он был весь порыв вперёд. Его могучие, похожие на звериные лапы руки то с силой ударяли по клавишам, то, наоборот, ласково прикасались к ним. Что там себе позволяет этот субъект со своей скрипкой? Почему он никак не угонится за ним? Ну наконец-то чернокожий понял, как надо играть. Это на репетиции он мог позволить себе лениться, а на концерте...
Маленький Карл Черни стоял прислонившись к стене. Рядом на стуле сидел его отец.
— Батюшка...
— Тише, Карл, чего тебе?
— Батюшка, вон там, — мальчик вытянул дрожащую руку, — мой учитель. Он всё это сам сочинил... А я его ученик...
— Я знаю, Карл.
— Батюшка, мой учитель вчера очень хвалил меня, и между собой... мы называем его сочинение «Крейцеровой сонатой».
Раздражённые взгляды отнюдь не смутили мальчика. Через какое-то время он начал снова:
— Сейчас учитель закончит, и тогда...
Его глаза засверкали, он заранее сблизил ладони, чтобы зааплодировать первым.
Внезапно он замер, недоумённо поводя головой: хохот, свист и улюлюканье заглушили несколько хлопков.
— Батюшка... они же смеются над ним.
Рядом кто-то с откровенной издёвкой произнёс:
— Мой свояк Моцарт никогда не позволил бы себе написать такую чушь.
Другой не менее издевательским тоном сказал:
— Это всё, наверное, потому, что он наполовину глухой и не может уследить за звуками. Мы должны громче смеяться и свистеть, иначе он не услышит.
Князь Лихновски смущённо взглянул на Цмескаля, тот в ответ лишь беспомощно пожал плечами, и только Франц Брунсвик знал, что нужно делать.
Он ловко вспрыгнул на подиум, одёрнул венгерку, ободряюще похлопал по плечу Брайдтауэра, низко поклонился Бетховену и заключил его в объятия.
От неожиданности в зале смолк шум. Через несколько минут в тишине особенно отчётливо прозвучал надменный женский голос:
— Франц!
— Да, Жозефина?..
— Я хочу только сказать, что горжусь тобой, Франц.
Карл ван Бетховен пришёл к единственно возможному, по его мнению, выводу: Людвиг так и останется наивным мальчиком, ничего не понимающим в этом мире, и потому за все его дела возьмётся он, Карл, надежда их семьи, а ныне старший сборщик налогов его императорского и королевского величества, с патентом, скреплённым гербовой печатью. Вот так-то! Иоганну же дальше аптекаря не продвинуться.
Нет, Людвиг у них, конечно, гений, но уж больно непутёвый. На что он только тратит свою воистину драгоценную жизнь?! Сперва мечтал сочинить оперу, воплотившую бы в себе идеалы человечества. Нет чтобы написать оперу, которая принесла бы хороший доход. Оказывается, на такие уступки он не способен.
А теперь ещё полный провал с сонатой для скрипки ля мажор, посвящённой Родольфу Крейцеру. Что за вздорная мысль заменить скрипкой и пианино целый оркестр!
Он пробежал глазами нотные листы «Крейцеровой сонаты» и тяжело вздохнул. Он, Карл ван Бетховен, сочинит её заново, невзирая на весьма обременительные обязанности чиновника на императорской службе.
А как прикажете поступить? Как бы там ни было, но Людвиг его брат, а братья должны помогать друг другу. Издатель Зимрок в Бонне уже проявляет нетерпение, но предложить ему можно лишь изменённый вариант скрипичной сонаты, а может быть, симфонию, и то при условии, что Людвиг заставит себя написать её.
Карл взял чернильницу, бумагу и перо.
Как же обратиться к издателю?
Зимрок, правда, знал братьев Бетховен, когда они ещё бегали с сопливыми носами, но теперь Карлу, как старшему сборщику налогов, надлежит держать дистанцию, и потому лучше обратиться к нему по всем правилам этикета.
Он вывел первую фразу, и перо сразу же легко побежало по бумаге.
«Глубокоуважаемый господин!
В настоящий момент фортепьянные концерты, как, впрочем, и инструментальные произведения, аранжируются под надзором весьма одарённого композитора. Последние уже вполне пригодны для исполнения на фортепьяно как под аккомпанемент, так и соло...»
Сзади кто-то спросил:
— Скажите, господин ван Бетховен здесь?
Карл медленно повернулся. Его лицо приняло недовольное выражение. Он нарочито медленно поигрывал цепочкой своих золотых часов.
— Нет, его здесь нет.
Право, этот Стефан фон Бройнинг вконец обнаглел. Можно подумать, что на свете есть только один Бетховен.
Игнаций фон Гляйхенштейн, друг и почитатель Бетховена, познакомивший с ним Бройнинга, подтверждающе кивнул:
— Что я тебе говорил, Стефан? Он, конечно, забыл. Сейчас он, наверное, у Цмескаля или даёт уроки. Мы условились с художником именно на этот час. Господин ван Бетховен согласился ему позировать. Ну ничего не поделаешь, в полдень придём ещё раз.
— Меня это не касается, — холодно бросил в ответ Карл ван Бетховен, — но должен предупредить, что в настоящее время ни о каком позировании даже речи быть не может.
— Но почему? — недоумённо спросил Бройнинг.
— Потому что мне и моему брату придётся много и напряжённо трудиться. Нам нужно переделать его скрипичную сонату ля мажор и другие сочинения.
Стефан фон Бройнинг на мгновение задумался, а потом расхохотался во весь голос:
— Не смешите меня, господин старший сборщик налогов. Или вы чрезвычайно много возомнили о себе, или, наоборот, у вас в голове чего-то не хватает. Мне трудно судить...
— Господин фон Бройнинг!
— Господин старший сборщик налогов! Вы уже расставили свои рисовальные принадлежности, господин живописец?
Они не спеша удалились. Карл ван Бетховен мрачно посмотрел им вслед, дописал письмо и запечатал конверт. Потом он тщательно застегнул мундир, ибо считал должным являться на почту в подобающем для императорского чиновника виде. Ничего хорошего он от брата не ждал. Как известно, неблагодарность правит миром.
Он предугадал реакцию брата на своё великодушное предложение. И хотя он ни словом не упомянул о письме господину Зимроку, а лишь тактично намекнул на свою готовность снять с плеч любимого брата бремя непосильного труда, Людвиг тут же швырнул ему в голову ключом. Так он недавно поступил и с кельнером в ресторане «Лебедь».
Но перед ним он хотя бы извинился позже. Его, Карла, он к тому же обозвал «судебным исполнителем, страдающим манией величия».
Ну как можно быть столь невоздержанным на язык?
Да неужели он не понимает, что в таком виде сонату не будет исполнять даже сам Крейцер, которому она, собственно говоря, и посвящена. Профессор Парижской консерватории и личный концертмейстер Бонапарта уже «вежливо поблагодарил и отказался». Об этом Карлу стало известно из совершенно надёжных источников. А ведь требовалось внести всего лишь незначительные исправления.
Интересно, чувствует ли себя Людвиг лучше, переехав к Бройнингам? Они занимали две квартиры с общим коридором и обходились одной кухаркой. А ведь Людвиг болен, тяжело болен, и ни один врач пока не в состоянии установить причину болезни. Пациента почему-то лихорадило, но к утру он обычно успокаивался, а вечером всё начиналось заново. Порой его состояние внушало самые серьёзные опасения. Но он, Карл, знал об этом только по слухам или от Иоганна, который в аптеке иногда ему выписывал рецепты. Да, Людвига никак нельзя было назвать настоящим братом.
Между тем ситуация складывалась очень тревожная. Утренние визиты доктора Шмида завершались обычно довольно туманными речами о кризисе, после которого якобы больной или пойдёт на поправку, или... Ко всему прочему, Людвиг остался в квартире один. Он никого не терпел рядом с собой, ибо не желал, чтобы знали, что он серьёзно болен. В лучшем случае он пускал к себе юного Карла Черни. Гляйхенштейн уехал, Цмескаль, равно как и Бройнинг, целыми днями пропадал на службе.
— Маэстро! Я прошу вас, дорогой маэстро!..
— Ты ведёшь себя неразумно, Карл, хотя я очень люблю тебя! — Голос Бетховена был подобен раскату грома. — Пойми, если мертвецы не придут ко мне, я буду вынужден сам отправиться к ним.
Карл Черни задрожал от страха. Эти страшные речи и сам маэстро, спокойно, с достоинством готовящийся пойти к мертвецам. Нет, пока он неторопливо надевает халат, нужно ринуться вниз по лестнице и...
Температура явно повысилась, и маэстро просто бредил. Хоть бы скорее пришли господин фон Бройнинг или господин Цмескаль.
— Карл!.. — Голос Бетховена прозвучал резко и требовательно. — Ты ведь хочешь стать настоящим музыкантом, не так ли? В высшей степени безумное желание, Карл. Выбери себе лучше другую профессию. — Бетховен прищурился. — Небось думаешь, что я это в бреду говорю? Угадал, мальчик. Тем не менее я полностью отдаю себе отчёт в своих словах и потому хочу преподать тебе маленький урок. Ты боишься меня? Запомни, с этого всё и начинается. Истинно великие музыканты всегда внушают страх, ненависть или презрение. Уж поверь мне, ты сам будешь в тягость. — Бетховен вздохнул и сел за рояль. — Для меня сейчас главное — найти нужную октаву. Подожди, кажется, я её нашёл.
— А что вы вообще ищете, маэстро? — осторожно спросил мальчик, желая отсрочить жуткое событие.
— Странный вопрос. Может быть, тень, блуждающую в царстве мёртвых. А может, и нет. Кто мне ответит? — Он рассмеялся. — Ты снова боишься, Карл, не отрицай, боишься. Истинный талант должен непременно поддерживать отношения с мертвецами и даже с самим сатаной, какое бы обличье он ни принимал.
Он заиграл, напевая скрипучим голосом «Прощальную песню»:
— «La victoire en chantant nous ouvre la barriere». Нет, преграды остаются! Даже вам, достопочтенный адмирал Горацио Нельсон[63], не суждено приказать канонирам на «Виктории» пушечным огнём смести все преграды.
Он пренебрежительно махнул рукой, как бы показывая, что ему неприятны дальнейшие рассуждения на эту тему.
— Разумеется, мне известно, что вы погибли в морском бою. И мы — надеюсь, вы понимаете меня, адмирал? — когда-нибудь встретимся на мосту между жизнью и смертью. Впрочем, нет, «Chant du depart» никак не может стать для нас связующим звеном, ибо вы принадлежали к враждебному лагерю. Но разве для нас троих это имеет значение? Я имею в виду Бонапарта, вас, Горацио Нельсон, и себя, Людвига ван Бетховена. Зачем вам примыкать к какому-либо лагерю?
Карл Черни в ужасе зажал рот руками.
Внезапно Бетховен застонал, оскалил зубы и как разъярённый зверь набросился на рояль. Рамм!..
— Вот, вот каким должен быть заключительный аккорд. — Его грудь вздымалась, как кузнечные мехи. — Я нашёл решение! Повторяю!
Он сыграл ещё раз заключительный аккорд, внимательно прислушиваясь к звукам.
— Вот... вот... вот, наконец выстраивается мост... Рамм... та-та-та-тара... Рамм!! Татата-тарара... Карл, ну-ка быстро зажги свечи! Неси скорее нотную бумагу и карандаш! Почему у тебя так дрожат руки, дурачок? Боишься света? Держи подсвечник выше, ещё выше! Ещё два-три нотных знака, и всё.
Он ещё раз сыграл мелодию.
— Что это, маэстро? — еле слышно спросил Карл.
— Разве я тебе не сказал? Извини, мой мальчик. Это начало траурного марша из «Героической симфонии».
На следующий день, как обычно, с визитом пришёл доктор Шмид.
— Бетховен, вы что, совсем утратили разум?
— Очевидно, ещё нет, — с несвойственной ему мягкостью ответил Бетховен. — Иначе я не сидел бы здесь.
Он приложил к уху слуховой рожок, едва не упёршись огромным раструбом в лицо врачу, и нетерпеливо спросил:
— Вы хоть знаете, как по-латыни называется моя болезнь?
— Бросьте валять дурака!
— Ах, вот как вы называете мою любознательность! Тогда я в отместку выброшусь из окна.
— Чёрт бы вас побрал, Бетховен.
— Он этого даже с вашей помощью не сделает, господин профессор, — скорбно вздохнул Бетховен.
Сейчас они походили на двух собак, скалящих зубы и угрожающе рычащих друг на друга.
После ухода врача Бетховен вытащил черновые записи Третьей симфонии. Их уже Накопилось достаточно. Кое-что могло пригодиться, остальное пойдёт только на растопку.
Странно, что, несмотря на лихорадочное состояние, заметки были написаны чётким и ясным почерком, словно он находился в здравом уме и твёрдой памяти. Он вспомнил, что называл Горацио Нельсона покойником. Действительно, ходили слухи, что он погиб в битве при Абукире, но ведь с тех пор прошло уже несколько лет. В его воспалённом воображении всё перемешалось — битва при Абукире, слухи о смерти прославленного флотоводца и недавно опубликованное в газетах сообщение о том, что он вывесил свой адмиральский флаг на «Виктории».
Вдруг его охватило беспокойство, сменившее прежнее лихорадочное состояние. Он с трудом дождался появления Бройнинга.
— Где я нахожусь? Какой тут номер дома, Стефан?
— У тебя по-прежнему голова кругом идёт, Людвиг. — Бройнинг искоса взглянул на него. — Овердеблинг, четыре. У подъезда ещё висит табличка с именем наймодателя. Чтобы сразу снять все подозрения: перед твоими окнами сады, виноградники и плодородные поля... Да ты меня совсем не слушаешь, Людвиг?
— Ты не мог бы сбегать к Штейну, Стефан, и уговорить его доставить мне в Деблинг рояль. Я боюсь везти туда свой инструмент. Не хочется терять понапрасну время. Когда вы закончите разрабатывать план новой войны, я вернусь уже с готовой симфонией.
— Нет, мы сделаем по-другому. Я арендую у Штейна рояль и вновь поплетусь на службу, а ты немедленно ляжешь в постель.
Скрип ключа в замке прозвучал холодно и безжалостно. На лестнице загремели шаги Бройнинга.
«Он — настоящий друг, — подумал Бетховен, — но, увы, у него не женские руки. Хотя, может быть, они мне тоже не нужны, как не нужна дружба доброго, славного Цмескаля. Нет, моим другом, наверное, может быть только великое святое чувство полного одиночества, если, конечно, это можно назвать дружбой».
Вещи, которые он взял с собой, должны были сохранить ощущение связи с прежним окружением и заставить забыть о том, что вскоре ему предстояла встреча с чужбиной. Именно такой, в сущности, стала для него теперь Вена.
Так пусть же с гравюр за ним наблюдают Гендель и Бах — его строгие и взыскательные критики, — пусть на стене висит копия знаменитой картины Давида, изображающей клятву Горациев. Фригийский колпак он тоже взял с собой, равно как и своих «старейших учителей и друзей из Эллады» — Гомера, Платона и Плутарха. Он располагал также целой кипой нотной бумаги и целой кучей перьев, лично нарезанных для него Цмескалем, с его вечной улыбкой на круглом лице...
— Пожалуйста, обрати внимание, Людвиг! Это перья трёх гусей, героически отдавших свою жизнь ради этой великой цели. Третьим из них ты можешь написать свою Третью симфонию под гордым названием «Героическая», и, если пожелаешь, я могу даже изготовить для тебя красные чернила из гусиной крови. И если это всё не поможет, значит, ты и впрямь утратил вдохновение и ни к чему более в музыке не пригоден.
Интересно, почему на сей раз перед работой на душе у него было как-то особенно торжественно? Разумеется, симфония должна была получиться совершенно необыкновенной, но ведь это ещё не причина...
Странно также, что у него вдруг куда-то пропало честолюбие. Что ему теперь Аркольский мост, по которому Бонапарт когда-то пробежал под градом пуль, что ему, в конце концов, сам Бонапарт, ставший Первым пожизненным консулом Франции?.. А ведь как когда-то он мечтал уподобиться ему и носить гордый титул «Первого консула музыки». Эти мечты казались ему теперь какими-то очень уж низменными, почти не достойными его...
А может быть, всё дело в том, что он ныне на рубеже сорока и какой-то жребий должен уже окончательно выпасть ему? Нет, тоже не то...
Герой со знаменем бросился вперёд. Свист пуль не остановил его. Он лишь чуть повернул голову, но не назад, а вбок, а шпага его неизменно указывала путь в новый, лучший мир. Обернувшись, он хотел убедиться, что соратники не покинули его...
Так изменились их лица или он просто вдруг увидел страшное прошлое этих солдат, побудившее их штурмовать мост?
Ткачи больше не следят, скрючившись у своих станков, за челноками, скользящими быстро и неудержимо, нынче они ткут свободу и человечность...
Крестьяне оставили свои плуги. Но настанет день, и заброшенные поля заколосятся новым урожаем, взойдут пышные хлеба, и женщинам и детям не придётся изнывать на мучительной барщине, нет, они будут сытыми и свободными. Так вперёд же со знаменем в руке!
Ты падаешь на землю, брат? Где твоё знамя? Нет, нельзя останавливаться. Рабочие фабрик и мануфактур должны всегда стремиться вперёд мощным неудержимым потоком...
И теперь, выходит, он должен это всё положить на музыку?
Солнце медленно опустилось за горизонт. Вскоре наступит час, когда можно будет зажечь свечи, и их огоньки возвестят о его готовности приступить к работе... О, это непостижимое величие ночи!
Он долго сидел у рояля, глядя на пламя свечи, и чего-то ждал. Чего только?
Когда с глаз спала пелена, он увидел в окне сидевшего на дереве чёрного дрозда. Тот пел свою вечернюю песню перед тем, как заснуть, засунув голову под крыло. Иногда птичка, раскрывая клюв, чуть наклонялась вперёд. Кому она кланялась? Мерцающей звезде?
Вдруг она, словно испугавшись чего-то, замолкла и бесшумно скрылась в гуще кроны, которая всё больше и больше погружалась в темноту.
Но его это уже не интересовало. Прислушавшись к птичьему щебетанию, он сыграл два аккорда, сразу же остановившись на аллегро бриозо[64]. Стена, мешавшая ему, рухнула, и он обрадовался этому, как ребёнок.
Ты испугался, маленький дрозд? А у меня страх пропал, и я теперь понимаю, зачем ты явился ко мне вместе со звездой.
Когда дело дойдёт до главной темы, пусть приглушат звук виолончели, ибо здесь нужны резкие, синкопические сфорцандо всего оркестра. И пусть эти режущие слух, стонущие аккорды диссонансом затронут основу органного пункта, пусть! Теперь духовые инструменты, но фортиссимо[65], и пусть первыми звучат валторны и трубы!
Нет, слабо, слишком слабо! Утроить, всё утроить! Титаны бросаются не галькой, а обломками скал! Вот именно, пусть звучит втрое громче!
Ночь молчала, на небе сверкали золотые и серебряные искры. Может быть, за окном кричала сова, но он ничего не слышал. Сегодня уши его словно запечатали воском, и даже сфорцандо отзывалось только глухим жужжанием.
Слуховые рожки не помогали, и он взял им самим придуманный инструмент. Это была палочка из твёрдой древесной породы. Один её конец он зажал в зубах, другой воткнул между клавиш. Тем самым звуки через рот достигали ушей.
Но сегодня даже он не помогал. Всё вокруг словно окуталось глухой завесой молчания, но он всё равно играл, свистел, хрипел, выл, брызгал чернилами на линованную бумагу, взывал к ночи, которая не отвечала ему, разговаривал со звёздами, которые не обращали на него ни малейшего внимания, а в промежутке давал указания музыкальным инструментам: «Литавры! Бим-бум! Теперь трубы! Потом гобои со скрипками! А где призывный зов рога? Пусть он звучит громче! Ещё громче».
Его лицо конвульсивно дрожало от возбуждения.
«Нет, на такой диссонанс, кроме меня, пока ещё никто, — он надрывно закашлялся, — никто не отважился».
Жизнь казалась пёстрой мозаикой, порой распадавшейся на мелкие камушки. Но иногда она представлялась ему муравейником, куда он сунул голову и сразу же потерял время и силы в потоке мелких незначительных эпизодов.
«Героическая симфония» была в основном готова. Так ли это на самом деле? Как легко жилось на свете его знаменитому сопернику аббату Фоглеру[66]. Он мог, не стесняясь, небрежно обронить в разговоре, что создал «новое, ещё более совершенное произведение». Бетховен никогда не употреблял таких слов. Он предпочитал держаться скромно, просто «писать» свои сочинения и радоваться в душе, когда заканчивал их и передавал копиистам.
Впрочем, из Деблинга он привёз ещё фортепьянную сонату фа мажор. Он сочинил её во время прогулки с Ризом, и дома, даже не сняв шляпы, тут же уселся за рояль, сыграл сонату в бешеном ритме и тут же для уверенности записал её.
Сейчас он был как выжатый лимон и нуждался лишь в покое. Но где его взять, покой?
Как же ему мешали мелочи жизни! Квартира, которую ему раздобыл Риз, казалось, удовлетворяла самым строгим требованиям. Она располагалась на четвёртом этаже в доме неподалёку от Молочного бастиона и была очень уютно обставлена. Но владеть одновременно четырьмя квартирами было для него не просто непозволительной роскошью, нет, это было чистейшей воды безумием. Риз возлагал всю вину на Бройнинга, а тот, в свою очередь, предъявлял претензии к Бетховену. Опять эти свары, раздоры и прочие неприятности.
А тут ещё эта опера, которую следовало написать чуть ли не за ночь. Какая-то нелепая история о пребывании Александра Великого в Индии! Он уже, правда, попытался придумать нечто вроде ансамблевого пения на эту тему, но ничего путного не вышло.
Итак, четыре квартиры и непримиримая вражда с Бройнингом, из-за которой он очень страдал, и опера, которую ему как фокуснику предстояло вытряхнуть прямо из рукава. Эти люди полагали, что создать оперу для него пара пустяков. Ох уж этот интендант[67] барон фон Браун и его окружение. О чём они только думают?
Он вновь услышал предостерегающий голос, прозвучавший откуда-то из глубин памяти и напомнивший ему о далёком детстве, когда он играл на клавесине, который теперь сравнивал с увеличенной в размерах доской для рубки мяса.
А сказано ему было следующее: «Тебе никогда не удастся превзойти великого создателя ораторий Генделя. Не забудь также имя величайшего оперного композитора. Вспомни Моцарта».
Но барон фон Браун упорно настаивал на своём, а секретарь придворного театра господин фон Зоннляйтнер не только обнаружил вместе с Трейчке нужный текст, но ещё и переработал его, Написан он был французом по имени Буйи, на музыку его положил сам месье Гаво[68], и постановка уже с успехом прошла на сценах многих театров. В свою очередь, итальянец Фернандо Паэр также обратился к этому либретто. В его варианте опера называлась «Леонора», Гаво назвал своё произведение «L’amour conjugal» — «Супружеская любовь». Зоннляйтнер и Трейчке дали ей название «Фиделио».
Но «Леонора» ему гораздо больше нравилась. Когда-то в Бонне он обещал юной Леоноре написать в её честь увертюру. С тех пор минула чуть ли не вечность. Неужели это случайно совпало?
Впрочем, тогда Элеонора упомянула имя Монсиньи, а по сравнению с этим Голиафом в музыке он выглядел Давидом[69], но только без пращи и камня.
Тут на пороге возник Цмескаль. Доброго славного сибарита явно мучило любопытство, но начал он очень официально и, по обыкновению, довольно брюзгливым тоном:
— К сожалению, вы не ходите в церковь, господин ван Бетховен, и тем самым лишаете себя великолепного зрелища. Недавно в соборе Святого Стефана состоялось венчание Джульетты Гвичарди с графом Галленбергом, но это ещё не всё...
— Ну говори же...
— Во время торжественной церемонии исполняли музыку графа, что было воспринято как небесная кара.
— Меня это не интересует.
— А я думал, ты придёшь в ярость и из ревности перережешь ему горло. С каким бы удовольствием я посмотрел на его муки. Да, и ещё: по моему настоянию Лобковиц усилил состав оркестра, который будет исполнять твою симфонию. Только он просит узнать, когда ему доставят партитуру.
— Выходит, Лобковиц полагает, что «Героическая симфония» предназначена именно ему? По-моему, его сиятельство заблуждается.
Чуть позже он вышел на улицу, сразу окунувшись в словно ожидавшую его темноту. Бог с ней, Джульеттой, но почему так долго нет писем от Жозефины?
Никак у него не получалось закончить «Фиделио». Наконец Бетховен разорвал в клочья наброски и почувствовал, что освободился от чего-то непонятного, упорно завлекавшего его на ложный путь.
Между тем накануне вечером он взялся за работу в превосходном настроении. Из Шотландии, точнее из Эдинбурга, пришло послание от издателя, выразившего интерес к его композициям. Он предлагал ему положить на музыку шотландские народные песни.
Ничто не изнуряло его так, как бесполезный труд. Ну где, где его ошибка, что мешает ему продвинуться дальше?
Но было бессмысленно и дальше ломать над этим голову, ведь в искусстве нельзя ничего достигнуть с помощью математических методов. Он ещё раз усталым взором пробежал строки либретто.
Любовь, брак, верность, жена, готовая пожертвовать собой ради мужа...
До глубины души трогательная история, но для него не более чем упражнения по теории композиции.
Цмескаль! Вот кто ему сейчас нужен!
Ноты Третьей симфонии, именуемой «Героическая», ему недавно принесли от копииста. Посыльный просто сиял от радости...
Он же был очень мрачен, но преодолел себя и внимательно просмотрел два увесистых манускрипта. Цмескаль должен отнести их Лобковицу — непонятно, впрочем, откуда у этого транжиры с княжеским титулом такой жадный интерес к его творениям. Его никак нельзя объяснить страстной любовью к музыке. Князь прекрасно знал, кого именно прославляла и воспевала симфония, но это его нисколько не смущало. Если за деньги можно купить любовь прекрасных женщин, и породистых, неизменно побеждавших на скачках лошадей, и дорогие картины, то почему бы не купить выдержанную в совершенно новом духе музыку, пусть даже она посвящена тому, кто обрёк на гибель это полубезумное общество. А может быть, он просто не хотел уступать другим бездумно тратящим огромные деньги богачам — графу Разумовскому, например, или банкиру Вюрцу? Правда, ходили слухи, что Лобковица вскоре объявят недееспособным, и, возможно, именно поэтому он как бы стремился успеть первым связать своё имя с новой симфонией, тем более что другой манускрипт вскоре наверняка отправится в Париж.
Титульный лист оставался чистым. Так кому же посвятить её?
Ослепительно белая бумага неудержимо манила, и он даже выдавил на лице улыбку. Он вдруг почувствовал себя маленьким мальчиком, пожелавшим доказать своё умение рисовать или писать. Правда, в данном случае у него был гораздо более торжественный повод. Он на мгновение задумался, а потом вывел на листе: «Посвящается Бонапарту».
Буквы получились очень чёткими, и как-то захотелось добавить ещё что-нибудь. Знаменосцу свободы?
Нет, слишком витиевато, а тут требуется скромность. Речь идёт о слишком грандиозном деле. Какой, впрочем, наилучший девиз искусства?
Брату рода человеческого? Нет, слишком расплывчато и сентиментально.
Нужно подождать, пока в голову придёт нужная мысль.
Чтобы внести хоть какую-то ясность, он поставил на листе свою печать: «Людвиг ван Бетховен» и вспомнил, что по-итальянски его имя звучит «Луиджи». Так звали брата полководца, одержавшего столько побед в Верхней Италии.
Бонапарт и Бетховен. Вот два краеугольных камня. Остальное имело второстепенное значение, хотя...
Оба внушительных манускрипта лежали на рояле, он сам сидел неподвижно, зажав в пальцах гусиное перо. Почему-то вспомнились юность, детство, в котором было так мало радостей и так много горьких переживаний...
Каинова печать на его смуглом лице, неуклюжая фигура, крупные оспины... Поэтому сверстники, конечно, избегали его. А тут ещё отец-пьяница, лишённый родительских прав. Но даже будь Иоганн ван Бетховен совершеннейшим трезвенником, всё равно его сыну уготовано место среди «плебейского сброда». Пришлось проделать очень долгий путь, прежде чем он умом и сердцем осознал, что у этих людей тоже есть знамя, здесь, в тёмной комнате — Бетховен положил руку на партитуру, — оно, как на ветру, на штормовом ветру, развевается от его дыхания.
Составленное в Хейлигенштадте завещание лежало в секретере. Вывод врача был подобен граду шрапнели, но теперь он рассматривал завещание только как своего рода предупреждение в надежде, что такие минуты слабости больше не повторятся. Жозефина! Их жестоко разлучили, но здесь тоже далеко не всё так просто, как дважды два. Но вернёмся к Бонапарту. Бернадот подчёркивал, что триколор — это цвета свободы, равенства, братства. Но почему, почему его, Бетховена, друзья воспринимают его страстную приверженность французскому знамени как причуду, как признак сильного переутомления.
«Маленький капрал». Так солдаты любовно называли Бонапарта, несмотря на его генеральский мундир и звание Первого консула. Ведь он по-прежнему оставался для них просто капралом, по-товарищески спавшим с ними у лагерных костров и точно так же, как они, кутавшимся в шинель под холодными звёздами или густыми хлопьями снега. Главное, что он был скромен и по-человечески относился к солдатам.
Так, может быть, отразить в посвящении именно эти его качества?
Риз вбежал в комнату и, отдышавшись, крикнул прямо с порога:
— Срочная... депеша... из Парижа, маэстро!.. Бонапарт стал императором.
— Кто?.. — Бетховен удивлённо наморщил изъеденный оспинами лоб.
— Он именуется теперь Наполеоном Первым. Франция больше не республика. Он сам себя провозгласил императором.
— Не нужно так глупо шутить, Фердинанд. — Смуглое лицо Бетховена даже посерело. — Тем более что вы выбрали крайне неудачный момент. Только что мне принесли копии симфонии. Вы можете сравнить их с оригиналом.
— Значит, это и есть «Героическая симфония», маэстро. — Риз робкими шагами приблизился к роялю.
— Только вот титульный лист вам придётся заменить, друг мой, — прозвучал басовитый барственный голос Риза. — Его величество император Франции Наполеон Первый вряд ли одобрит такое простецкое обращение к нему. Он уже никому не позволит называть себя Бонапартом. — Уголки тонких губ Цмескаля опустились, обозначив снисходительную усмешку. — А вообще почему у тебя дела должны идти лучше, чем у меня, Людвиг? Мне эта история стоила роскошных пряжек на башмаках. У меня их ловко срезали в толпе возле афиши.
Он тяжело опустился на стул, кряхтя вытянул ноги и несколько минут с нескрываемым сожалением разглядывал башмаки.
— Что молчишь, Людвиг? Между тем меня, несмотря на понесённый ущерб, по-прежнему одолевает жажда знаний. Я говорю это вполне серьёзно. Я — человек терпимый, особенно если речь идёт о политических взглядах. И потом, один любит блондинок, другой — брюнеток, и нечего постороннему вмешиваться в чужие дела, а уж тем более лезть с непрошеными советами. Но я никак не могу понять смысл происшедшего во Франции. Сперва они отправили на гильотину короля, его родню и дворян...
— Полагаешь, незаслуженно?..
— Хорошо, хорошо, не будем спорить на эту тему, но теперь у них вновь появляется король, пардон, император, который, как сказано в афише, по поводу коронации присвоил высшие дворянские титулы многим своим сановникам. И как тут быть с так называемыми правами человека?
— Он попрал их ногами.
— Но зачем вся эта церемония? Коронация и так далее. Ведь он вроде бы считался настоящим революционером?..
— Он всё время оставался просто капралом, — угрюмо буркнул Бетховен. — Мелким, достойным презрения человечишкой с душой капрала.
Дрожащей от ярости рукой он схватил партитуру.
— Людвиг!
— Маэстро!
Цмескаль и Риз почти одновременно вскочили, готовые броситься к нему.
— Вы полагаете, что из-за этого жалкого капрала я способен уничтожить хоть одну ноту из своей симфонии? — Бетховен дико расхохотался и затрясся всем телом. — Я только вырву запятнанный недостойным именем титульный лист.
Он разорвал его на мелкие клочки и с наслаждением принялся топтать их ногами.
— Вот тебе моё верноподданническое посвящение к коронации, изменник!
Потом он буквально вытолкал Цмескаля и Риза из комнаты, заставил себя успокоиться, сел за рояль, взял зажатое между клавишами и крышкой либретто «Фиделио» и принялся небрежно листать его.
Через некоторое время он начал вникать в смысл прочитываемых слов.
— О Боже! Какая тьма здесь! Какая жуткая тишина!
Кто это сказал? Флорестан, ну да, конечно, вокруг него царила именно такая атмосфера.
Следующая страница перелистнулась как-то сама собой, и он услышал ликующий возглас негодяя Пизарро: «Добился я триумфа!» Ну да, клятвопреступник-капрал также добился триумфа, объявив о своей коронации.
Снова Флорестан? Нет, это министр, едва ли не с ужасом разглядывающий освобождённого им из тюрьмы и спасённого от смерти Флорестана.
Он тот, кого уже считали мёртвым? Тот рыцарь, что за правду Был готов сражаться?А что он чуть раньше сказал узникам? Он обратился к ним с прекрасными, искренними словами:
Не долго вам терпеть, пора уж Встать с коленей, Любая тирания мне чужда, Так пусть же брат отыщет братьев И с радостью поможет им.Его мозг вновь словно пронзил раскалённый кинжал. Он вздрогнул, сгорбился и выставил перед собой руки, будто прикрываясь щитом.
Нет, ты слишком рано празднуешь триумф, Пизарро! Есть ещё люди, готовые «сражаться за правду».
Он чуть привстал и еле слышно повторил несколько раз:
Так пусть же брат отыщет братьев И с радостью поможет им.Часть 3 «...ВЕЧНО ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА...»
В Вене по-прежнему жила Жозефина — женщина, которую он когда-то назвал «вечно любимой».
Была ли она по-прежнему такой? Пока он ещё не мог твёрдо ответить на этот вопрос. Она жила вместе с Терезой в большом доме неподалёку от Красной башни. Кроме того, сёстры стали попечительницами расположенного под ними кабинета восковых фигур.
Графиня Тереза фон Брунсвик и графиня Жозефина фон Дейм попеременно сидели за кассой заведения, уже утратившего прелесть новизны. Кабинет восковых фигур был составной частью галереи Мюллера, владелец которой за ночь вдруг превратился в камергера его величества императора Австрии графа Дейма. Это уже само по себе представлялось многим каким-то жутким фарсом.
Его сиятельство граф Дейм! Он предложил обременённой долгами графине Брунсвик целых сорок тысяч дукатов за Жозефину, в то время как он, Бетховен, ничего не мог дать, кроме нотных листов.
Но Дейм, этот авантюрист и обманщик, уже скончался. Разумеется, титул его был подлинным, как, впрочем, и звание камергера, но с дукатами дело обстояло гораздо хуже. Жозефина напрасно пожертвовала своей любовью. Покойный супруг помимо четырёх детей оставил ей в наследство изрядное количество долгов.
Сейчас они молча смотрели друг на друга. Нет, нет, ничто не умерло и не покрылось могильной твердью. Вид его вызывал сострадание, он уже хотел было сделать шаг вперёд и заключить любимую женщину в объятия. Однако он подавил в себе это желание, коротко поклонился и вежливо спросил:
— Желаете брать уроки игры на фортепьяно, госпожа графиня?
Она не только не ответила ему в таком же тоне, нет, она мгновенно превратилась в прежнюю Жозефину, весьма обеспокоенную его состоянием:
— Как ты себя чувствуешь, Людвиг?
Она тут же поняла бестактность своего вопроса и поспешила сменить тему:
— Расскажи, пожалуйста, над чем ты сейчас работаешь?
— Я пишу оперу.
— А на какой сюжет?
— Вообще-то у нас не принято рассказывать содержание оперы или пьесы.
— Разумеется, и всё же... попытайся, Людвиг. Ну, пожалуйста.
— Опера называется «Фиделио», ибо её главная героиня — верная жена.
— Вот как? — Она нервно мяла в руках кружевной платок. — Верная жена? Продолжай, Людвиг.
— Её мужа Флорестана жестокий губернатор Пизарро бросил в тюрьму, и Элеонора, переодевшись в мужское платье и назвавшись Фиделио, устраивается садовником в тюремный сад. Действие происходит в Испании и в прежние времена, хотя произвол творится повсюду и в наши дни.
— Ну дальше, дальше...
— Естественно, она спасает любимого мужа, бросившись с пистолетом в руке между ним и губернатором. Министр освобождает Флорестана из тюрьмы, чтобы он вместе с вечно любимой Элеонорой вновь смог вернуться к прежней жизни.
Тут он понял, что его слова могут быть восприняты как намёк, и поспешил добавить, скривив в гримасе лицо:
— Естественно, Леноре, это всё несколько театрально — любовь, верность — и довольно неправдоподобно. На сцене образы, порождённые поэтической фантазией.
Тем самым он лишь ухудшил ситуацию и оказался слишком неуклюжим, чтобы выпутаться из сплетённых им самим сетей.
Достаточно ли красноречивым был обращённый к ней взгляд? Ведь он глазами просил помочь ему.
— Извини, Людвиг. — Она робко и чересчур поспешно улыбнулась. — Я даже не предложила тебе стул. Садись, пожалуйста.
— Может быть, лучше начнём занятия?
— Как тебе угодно. — Она медленно подошла к роялю. — Но тебе придётся со мной изрядно помучиться. За эти годы я многое забыла. Что я обычно играла? В основном детские песни. «Спи, милый принц, спи» Моцарта, к примеру.
Похоже, она предприняла попытку к сближению, но он решил пока не поддаваться.
— Это не Моцарт, но настолько прекрасно, что вполне могло быть написано им. Позволь, я послушаю тебя. Мне нужно получить представление о твоих возможностях.
Как только она начала играть, в дверь кто-то заскрёбся, видимо пытаясь дотянуться до ручки. Затем в комнату вбежал маленький мальчик.
— Нам ещё не пора спать, мамочка?
— Нет, Фрицель. Это господин ван Бетховен, о котором я, если помнишь, вам рассказывала. Протяни ему ручки и сделай книксен.
— Ну, месье. — Бетховен взял малыша на руки. — Мы тоже обладаем музыкальными способностями?
Мальчик доверчиво посмотрел на него, глазки засверкали, он зашевелил крохотными губами.
— Я бы хотел стать таким же... таким же, — он пока ещё с трудом выговаривал это слово, — ...таким же виртуозом, как ты.
— Дурачок! — засмеялась Жозефина. — Ничего у тебя не получится.
— Как ты сказала? Дурачок? — Бетховен задумчиво наморщил лоб. — Меня в своё время тоже так называли, говорили, что у меня нет музыкальных способностей, но ведь решаем в конечном итоге мы сами, не правда ли?
Мальчик обнял Бетховена за шею.
— А теперь иди, Фрицель, у твоей мамы сейчас урок.
Проводив сына Жозефины, Бетховен повернулся к ней и с улыбкой сказал:
— Ну что ж, давай отважимся и попробуем нечто более трудное, чем детские песни.
— Давай. Я просто постеснялась сказать правду. Вообще-то я довольно много упражнялась.
Он стоял рядом с ней, внимательно наблюдая за манерой игры. Она знала, что творится в его душе и почему он держится так подчёркнуто деловито, как бы отгораживаясь от неё незримой броней. А может быть, он так тщательно следит за её пальцами потому, что уже совсем не доверяет слуху?
— Людвиг, я всегда любила только тебя! Если бы ты знал, как я тосковала по тебе! Так, может быть, если ты тоже по-прежнему любишь меня, а это наверняка так, давай я выведу... выведу тебя из тьмы страданий и одиночества.
— Стоп! Тут нужно по-другому.
Он чуть наклонился и быстро пробежал пальцами правой руки по клавишам.
— Поняла? Давай сделаем проще.
«Действительно, почему бы нам не сделать проще», — подумала она и прижалась губами к его ладони.
— Жозефина!..
Она резко повернулась.
— Что тебе нужно, Каролина?
— Я хочу лишь поздороваться с господином ван Бетховеном. — Сестра медленно вошла в комнату. — И больше мне ничего не нужно, Жозефина. Мне и впрямь ничего больше не нужно...
Через какое-то время душа вновь опустела, и он всё чаще стал посматривать на правую ладонь, словно пытаясь отыскать на ней след поцелуя.
Он считал, что как настоящий мужчина обязан позаботиться о любимой женщине и потому должен работать и зарабатывать деньги. Роль нахлебника его совершенно не устраивала. А ведь именно им оказался граф Дейм, ловко вкравшийся в доверие к семье Брунсвик.
Однако на премьеру «Героической симфонии» в Венский театр он отправился в превосходном настроении, не подозревая, что 7 апреля 1805 года станет едва ли не самым чёрным днём в его жизни.
И виной этому был вовсе не певец Майер, свояк Моцарта, хотя свою долю упрёков он, безусловно, заслужил, и не прочие соперники, которых зависть заставляла слетаться на его премьеры, как мух на мёд.
Уже при первых звуках рогов, создававших, по его мнению, тот самый пугающе-великолепный диссонанс, на галёрке послышался смех и шум. Кто-то на весь зал произнёс: «Плачу крейцер, лишь бы они прекратили играть». А потом пошли рецензии — и какие! Одна публикация в лейпцигской «Всеобщей музыкальной газете» чего стоила!
После нескольких «утешительных» слов в ней прямо говорилось: «Поразительно буйная фантазия! Однако блистательный талант создателя симфонии кружит ему голову, заставляя отказываться от соблюдения каких бы то ни было канонов! Слишком много чересчур резких, причудливых звуков! Очень многого не хватает в симфонии для удовлетворения общественного вкуса».
В отправленном в Прагу сообщении симфонию даже охарактеризовали как «губительную для общественных нравов».
Оставалось только пожать плечами... и продолжать трудиться дальше.
Но кто скажет, зачем он вдруг вытащил на свет Божий свои старые наброски к «Аппассионате»? Ведь после встречи с Жозефиной он сел к роялю, чтобы написать «Песнь к надежде», но «Аппассионата» вновь всё накрыла чёрным покрывалом. Соната его страсти...
Аллегро ассаи[70]! Потом анданте кон мото[71]! Вера и утешение, в которых он так нуждался. Ну хорошо, пусть будет так. Возврат к пунктирным ходам басов. Главное — не быть полностью уверенным в себе и никогда не сомневаться до конца...
Стоп! Вот тут неверно! Два диссонирующих аккорда, словно сыгранные на расстроенной арфе. А что потом? Победное звучание фанфар!
Победа, всегда приходящая с бурей, скрывающей украшенные траурным крепом флаги!..
Позднее он отправился к Стефану фон Бройнингу. Он по-прежнему злился на него из-за давней истории с четырьмя квартирами и хотел разобраться прямо на месте.
Дрожа от возбуждения, он поднимался по лестнице, и на каждой ступеньке злость всё более одолевала его. Наверху он с силой постучал тростью в дверь и, не дожидаясь ответа, вошёл в комнату. Удар захлопнувшейся за ним двери походил на выстрел.
Бройнинг как раз собирался ужинать. Он небрежно повёл рукой, указывая на место рядом с собой:
— Добрый вечер. Садись. Хочешь есть? Вот тарелка.
— Стефан, я пришёл, чтобы извиниться перед тобой. К этим четырём квартирам ты не имеешь никакого отношения, и только моя бесхозяйственность...
— Оставь, Людвиг...
— Пожалуйста, не перебивай. — Бетховен с вызывающим видом сдвинул цилиндр на затылок и взмахнул тростью. — Я был не прав и вёл себя как последний невежа. Согласен?
— Не будем больше об этом. — Бройнинг стремительно встал и напрягся, как бы готовясь к прыжку. — Только успокойся и не бей фарфор на столе. Лучше отдай мне трость, сними шляпу, как принято в приличных домах, и садись.
— Если бы ты знал, Стефан, как я потом раскаивался за своё поведение.
— Представляю. А почему ты раньше не пришёл?
— Если уж быть до конца честным... — Бетховен на миг задумался, — музыка заставила меня забыть обо всём.
— Ну и ладно. — Стефан наполнил бокалы. — За твоё здоровье, Людвиг, и, пожалуйста, восприми мой тост как комплимент. Второго такого безумца я ещё не встречал.
— А ты мой лучший друг, Стефан.
Чуть позже Бетховен спросил:
— Скажи, Стефан, каковы свежие политические новости? Ожидается ли буря?
— Даже если бы я и знал что-либо, всё равно тебе не сказал бы. — Стефан повертел сильными пальцами тонкую ножку бокала, — но я действительно ничего не знаю. Но если тебя интересует мнение не Придворного Военного совета, а моё — да, буря неминуемо разразится.
— И кто же войдёт в новую коалицию?
— Австрия, Россия и Англия...
— Это сильный союз?
— Нет, я настроен довольно скептически по отношению к нему. У Англии практически нет сухопутных войск, она — морская держава. Здесь мы спокойно можем положиться на Горацио Нельсона. Участие Пруссии пока под вопросом, и неопределённое положение сохранится довольно долго. Мелкие германские государства, как обычно, не могут договориться между собой...
— Выходит, изменнику легко удастся одержать победу. — Бетховен с наслаждением затянулся и выпустил из чубука густой клуб дыма. — Ему остаётся только льстить человеческому тщеславию и, словно пироги, печь маршалов, князей и королей, чтобы затем держать их у себя на плечах, как охотничьих соколов! Но давай поговорим о чём-нибудь другом. Как хорошо иметь такого друга, как ты, Стефан!
Урожай винограда давно собрали, косы с шелестом подсекали спелые колосья.
Он сидел и вспоминал, как начинался этот год. Весна в Гетцендорфе. Жозефина также выехала за город, поскольку сельский воздух был необходим для поправки её пошатнувшегося здоровья.
Как приятно было гулять вдвоём, когда он, устав от работы над «Фиделио», бежал к Жозефине, чтобы потом, почерпнув силы из загадочного источника, с удвоенной энергией браться за оперу.
Это произошло уже на исходе лета. Около полудня она прислала ему короткую записку:
«Каролина приехала с визитом. Через два-три часа она уедет обратно в Вену, и тогда я зайду за тобой».
Она знала, что встречи с её сестрой были ему неприятны. Каролина не отличалась умом, зато сверх всякой меры гордилась своим происхождением и, в отличие от Терезы или Франца, пыталась встревать в отношения Жозефины и музыканта из бюргерского сословия.
Тереза и Франц предупредили его, и с тех пор он воспринимал присутствие Каролины как угрозу. Яркий солнечный свет словно омрачила туча на небе. Перед ним предстало угловатое жёсткое лицо женщины, упорно отказывавшейся называть себя его свояченицей.
Ослепительная зелень листвы, пёстрый и загадочный мир, но самым таинственным в нём было существо, медленно идущее сейчас рядом с ним.
Жозефина улыбнулась, и в её глазах он прочёл вопрос: «Куда ты меня ведёшь?»
Однако она уже знала ответ, ибо они шли к их любимому месту, обнаруженному Бетховеном совсем недавно. Оно представляло собой склон виноградника, где можно было укрыться в лощине, огороженной куском стены. Ветви орешника закрывали даже кусок неба, по которому медленно ползло маленькое облачко.
Он долго смотрел куда-то вдаль, морщил лоб и пощёлкивал пальцами.
— О чём ты думаешь, Людвиг?
— Что такое мои квартеты, фортепьянные сонаты и даже «Героическая симфония» по сравнению с твоим платьем. — Он хмуро покачал головой. — Надеюсь, ты правильно поняла меня, любимая?
Официальный срок траура давно истёк, но лишь сегодня она позволила себе надеть пёстрое платье, цвета которого встревожили его, ибо они устраняли незримое препятствие, создаваемое чёрным крепом.
— Его мне привезла сестра. Она, кстати, помолвлена и вскоре выйдет замуж.
— Естественно, за человека её круга?
— За графа Телеки. Но даже графу не дано сказать такие красивые слова. Правда...
— Что?..
Она лежала рядом с ним на траве, глядя большими тёмными глазами на листья орешника.
— Ты по-настоящему любишь, Людвиг?
— Лепи!..
— Тогда забери меня в свой мир.
Он повёл рукой, как бы отметая всё наносное и враждебное, способное повредить их чувствам.
— Я жду, Людвиг.
— Хорошо, и теперь ты можешь быть уверена, что трубы в моём «Фиделио» возвестят не только о прибытии министра, но и о нашей свадьбе.
Она мгновенно вскочила, по лицу её мелькнула тень недовольства.
— Пойдём, Людвиг. Мне холодно.
— Холодно? — Он удивлённо ощупал землю, прямо-таки дышащую жаром.
Впоследствии в его памяти часто вставала эта сцена, обраставшая постепенно всё новыми и новыми подробностями. Она действительно чего-то ждала, но Бетховен разочаровал её. А он никак не мог привести её в свою двухкомнатную квартиру, где царил полнейший беспорядок, как бы символизировавший собой беспорядочную жизнь неимущего музыканта. Жозефина была настоящим сокровищем, и предлагать ей жить с ним было чистейшей воды варварством. Всё равно как ставить роскошное блюдо севрского фарфора в ветхий кухонный шкаф с рассохшимися дверцами...
На следующий день Жозефина уехала в Вену, а потом вернулась в Мартонвашар.
Он сам тоже вскоре перебрался в свою венскую квартиру, где всё, как и прежде, шло своим чередом: упорный труд, разного рода неприятности, редкие визиты ещё не уехавших на войну друзей.
Вот только Жозефина не появлялась.
Бетховен выглянул из окна четвёртого этажа на улицу, где царила странная в это время тишина.
Он презрительно выпятил губы. Двух-трёх тревожных новостей оказалось достаточно для того, чтобы загнать в дома трусливых обывателей. На дворе 13 ноября 1805 года от Рождества Христова, и всего лишь три недели тому назад жители Вены вели себя совершенно по-другому. Криком орла, устремившегося на замершую в страхе добычу, над городом гремело одно слово: Трафальгар! Венцы радостно набивали брюхо пивом и сардельками и, подобно Горациям с известной картины, торжественно клялись, что уж теперь точно настал конец корсиканцу и его армии. Уж теперь точно можно будет спать спокойно.
Трафальгар! Нельсон не просто нанёс сокрушительное поражение французскому и испанскому флотам, он навсегда покончил с морской мощью этих стран, но, правда, ценой собственной жизни. На этот раз слухи о его гибели полностью подтвердились.
Удивительно, но, ещё не зная о его смерти, он приступил к написанию траурного марша, составлявшего одну из частей «Героической симфонии». Он ещё раз убедился: искусство обладает даром предвидения. Теперь он решил не посвящать своё произведение какому-либо конкретному лицу, а просто вывел на титульном листе: «Посвящается чествованию памяти великого человека».
Имел ли он в виду Нельсона?
Он почему-то вспомнил слова художника Александра Макко: «В жизни бывают периоды, пережить которые хочется как можно быстрее».
Он раскрыл блокнот с записями голосов птиц, которые уже давно не слышал. Сейчас над головами обычно раздавалось только карканье ворон.
Но зато он их всех запечатлел в своей записной книжке: чёрного дрозда, зяблика, так ловко чистившего клюв, иволгу и издающего заливистые трели соловья.
Птицы были единственными музыкантами, которых он мог слышать. Кроме того, их репертуар отличался поразительной простотой, и, по его мнению, композиторам следовало усвоить именно такую манеру. Но тогда рецензенты из лейпцигской «Музыкальной газеты» и прочие невежды вновь заговорят о «достойном презрения нарушении канонов».
Он замер, держа записную книжку в вытянутой руке. Что там за шум на улице? До Масленицы ещё далеко, а в ноябре обычно не устраивают маскарады.
Послышался громкий цокот копыт. Или это ему только послышалось? Если нет, значит, в город вошла французская кавалерия. Он заткнул уши и замотал головой. Неужели они осмелились исказить слова «Прощальной песни»? Затем загрохотали сапоги и залязгали о мостовую колёса. Он подбежал к окну и увидел маленького тамбурмажора, лихо выбивающего палочками дробь на огромном, висевшем у него на боку барабане. Дурачок, ты, как я когда-то, встал не под те знамёна. Разве ты не видишь, что эти раздуваемые ветром, обожжённые солнцем стяги подобны болотным огням, заманивающим путника в трясину. Солдаты схожи с марионетками, которых дёргает за нитки невидимый кукловод, а генералы в их роскошных, увешанных орденами мундирах, с леопардовыми шкурами на плечах напоминают обезьян, которых в детстве водили по боннским улицам савояры. Надо же, как легко люди покупаются на такую мишуру!
В едущих впереди генералах он сразу узнал знакомых ему по картинам Мюрата и Ланна[72]. Жалким ничтожествам, восседавшим на троне Австрийской империи, сильно повезло. Четыре дня тому назад императрица простилась со своими любимыми венцами, готовящимися стойко выдержать грядущие испытания. Вслед за ней, подобно хвосту кометы, последовали высокородные дворяне и банкиры. В столице остался только, как всегда, обманутый простой народ...
Французский арьергард вошёл в город.
Надо же, мамлюки! Без их экзотического великолепия триумф Бонапарта был неполным.
Стремительно выбежавшая из караульни городская стража тут же взяла свои мушкеты «на караул», а высыпавшие из домов обыватели принялись приветственно махать руками. Вдруг он понял, что они так радостно выкрикивают: «Vive l’impereur!»[73]
Он криво усмехнулся и представил себе, какое у него сейчас уродливое лицо. И ради них отдал жизнь такой герой, как Горацио Нельсон. Эти ублюдки, эти жирные бюргеры, ещё четыре дня назад проливавшие крокодиловы слёзы по поводу отъезда их величеств, пожелавших укрыть в безопасном месте свои драгоценности, теперь вопят во всё горло: «Vive l’impereur!» Да здравствует император! Ничего не скажешь, у таких Божьей милостью коронованных особ должны быть именно такие подданные, с жалкими бюргерскими душонками. Пиво, сардельки, весёлые зрелища и забота о собственном благополучии — больше их ничто не интересовало. Воистину правдиво выражение: «В Вене никто никуда не годится — ни император, ни чистильщик обуви».
Взгляд Бетховена остановился на медленно разворачивающейся открытой карете. В этой неторопливости чувствовалось подчёркнутое презрение к выплеснувшейся на улицы толпе. В карете сидел он и, не обращая ни малейшего внимания на окружающих, внимательно изучал разложенную на коленях карту.
Что ж, очень рад встрече с тобой, маленький капрал. Но для меня ты не император, а предатель.
Но предал ты не плебс, пропади он пропадом, какого бы ни был происхождения, нет, вы предали идею, месье.
Бетховена бил нервный озноб. Неужели никто не выразит изменнику протест?!
Что лично он может сделать как музыкант? Но не зря же он сжимает в потной ладони блокнот с записями птичьих голосов. Он сел за рояль. Тититита! Тититита! Но к сожалению, ваше величество, до минор звучит по-другому. Том-том-том-том! Том-том-том-таа! Так гремят фанфары, так судьба стучит в ворота, и после Четвёртой симфонии я напишу Пятую так, что вы, ваше величество, почувствуете: судьба постучалась и в ваши ворота, пусть пока только тихо-тихо. Этого не удастся избежать никому.
Он ткнулся пылающим лбом в холодное стекло и вспомнил, что сегодня непременно должен присутствовать на репетиции «Фиделио». Интендант фон Браун обещал ему доходы от первых десяти представлений, и тут, несомненно, набежит такая сумма, что он сможет позволить себе жениться. Это его Трафальгар, а победа будет называться Жозефина.
— Император поселится в Шёнбрунне.
А почему нет. Даже бывшие революционеры, став императорами, поселяются в подобных дворцах.
— Генерал Улен конфисковал для своих нужд дворец Лобковица. В городе вообще будут расквартированы только генералы. Император поступил весьма великодушно. Офицеров и солдат разместят в пригородах.
Ничего не скажешь, весьма великодушно! Просто младшим офицерам и солдатам, представлявшим в глазах императора, в сущности, «плебейский сброд», полагается только охапка соломы в каком-нибудь сарае. Тем не менее ради него они готовы в огонь и воду. Вот и пойми человеческую душу.
Венские красавицы тоже поспешили проявить великодушие. Многих из них уже видели прогуливающимися под руку с французскими офицерами.
Репетиция была в самом разгаре, и выполнявший обязанности дирижёра скрипач Клемент как раз собирался вытереть обильно струящийся по лбу пот.
— Мадемуазель Мильдер, пожалуйста, ещё одну партию, и вы, господин Майер, тоже.
Певица Мильдер, исполнявшая роль Элеоноры — Фиделио, гневно топнула ногой:
— Мою партию невозможно исполнить. Её нужно изменить.
— Я поговорю с господином ван Бетховеном, — согласно кивнул Клемент. — Но сейчас я очень прошу вас, мадемуазель Мильдер, и вас, господин Майер...
Через какое-то время он снова раздражённо опустил дирижёрскую палочку:
— Господин Майер, мне очень жаль, но вы опять сфальшивили.
— Я?! — возмущённо воскликнул Майер. — Да здесь вся музыка фальшиво написана!
Музыканты дружно рассмеялись, кое-кто даже зааплодировал. Несколько скрипачей тут же принялись корябать смычками струны и устроили настоящий кошачий концерт. Трубачи, в свою очередь, протрубили диссонанс из «Героической симфонии».
— Прислушайтесь к мнению остальных, господин Клемент. — Майер дрожащей рукой показал на оркестровую яму. — Я до конца дней своих не устану повторять, что мой покойный свояк никогда бы не позволил себе написать такую мерзость, лишь по недоразумению именуемую музыкой.
В зрительном зале было темно, и никто не заметил появления Бетховена.
Этой Мильдер ещё даже нет двадцати, а она уже изображает из себя примадонну. Да перед любым известным оперным композитором, скажем, перед тем же аббатом Фоглером, она бы ползала на коленях.
А исполнитель роли Пизарро Майер получил известность исключительно как свояк Моцарта. Других талантов за ним вроде бы не числится.
Стефан фон Бройнинг положил Бетховену руку на плечо и величественно повёл головой в сторону двери. В фойе взад-вперёд расхаживался взволнованный Зоннляйтнер. Заслышав их шаги, он обернулся и глухо пробормотал:
— Мы с Трейчке, как полагается, представили либретто в цензуру, но не учли злобы и коварства ваших соперников. Кто-то из них начал заранее плести хитроумную интригу, и в итоге нам разрешили исполнять со сцены только музыку. Надеюсь, вы понимаете, куда именно нацелен удар?
— Что же такого предосудительного нашли в либретто? Вроде вполне невинный текст, ничего подозрительного.
— А образ губернатора Пизарро, в нарушение всех законов бросающего Флорестана за решётку? Впрочем, господин ван Бетховен, почему бы вам не обратиться лично к императору?
— К какому именно?
— К Наполеону.
Бетховен изобразил на лице раздумье и через минуту-другую твёрдо сказал:
— Неплохая мысль, но у творческого человека должен быть хоть какой-то характер.
— Что я вам говорил, Зоннляйтнер? — сочувственно улыбнулся Стефан фон Бройнинг. — У моего друга Людвига много недостатков, но никто не упрекнёт его в слабоволии. Он никому не привык кланяться. Так пусть же за дело возьмутся оба сведущих в юриспруденции проныры, я уже вижу свет в конце пещеры, только до него ещё нужно докопаться. А теперь, Людвиг, ну-ка быстро возвращайся к Клементу, а то они ещё, чего доброго, убьют его. Это не репетиция, а поле боя, где друг против друга выкатили заряженные пушки канониры Майер и Бетховен.
Через две недели Людвиг сидел в квартире Лихновски на софе, подложив левую ногу под правое колено, и растирал берцовую кость так, как это обычно делают страдающие ревматизмом.
— Ну всё, конец. Опера выдержала только три представления. Полный провал, Стефан...
Бройнинг стоял у окна, глубоко засунув руки в карманы.
— Да?
— Я рассчитывал за счёт «Фиделио» не только поправить свои финансовые дела, но ещё и жениться.
Стефан равнодушно пожал плечами.
— Впрочем, я от души благодарен тебе за разбросанные в театре листы с твоим стихотворением.
Он встал в позу и с пафосом прочёл:
Приветствую тебя, вступившего на путь великий, Услышь же голос громкий знатока И робость в сердце ты преодолей!— На этом «великом пути» я уже ухитрился поскользнуться и разбить нос. — Он хрипло рассмеялся. — Только три вечера. На первом представлении хотя бы присутствовали французские офицеры с их венскими приятельницами, на втором зал был наполовину пуст, а про третье лучше умолчать. Что, впрочем, говорят французы о «Фиделио», Стефан?
— Они выражаются примерно теми же словами, что и рецензент «Элегантного мира». Дескать, истец не в состоянии написать оперу.
— А Моцарт?
— Если исходить из этого посыла, он тоже.
— Неверно! Я сейчас прочту тебе отзыв из «Прямодушного». — Бетховен вытащил из кармана газету. — Слушай. «Новая опера Бетховена «Фиделио, или Супружеская любовь» мне не понравилась. Музыка совершенно не оправдала ожиданий как знатоков, так и любителей. В ней отсутствует то искреннее, яркое выражение страсти, которое так привлекало нас в произведениях Моцарта и Керубини[74]...» И так далее. Выходит, немецкий композитор всё-таки способен создавать оперы. Правда, жизнь у него была уж больно нелёгкая и завершилась общей могилой для бедных. И потом, насколько я знаю, императорский двор запретил ставить на сцене «Волшебную флейту». Так вот: моя опера написана по-другому, ибо времена изменились, но люди в отношении музыки полагают, что живут ещё в прежнем мире. — Он взмахнул рукой, как бы отметая возможные возражения. — Что же касается Керубини, то ты прекрасно знаешь, Стефан, что я очень ценю его не только как композитора, но и как человека, и чувство зависти мне незнакомо, но, поверь, не будь он итальянцем, немцы относились бы к нему совсем по-иному. — Он недобро прищурился. — А зачем, собственно говоря, ты притащил меня сюда? Хочешь устроить торжественные поминки по «Фиделио»? Или общественный суд надо мной? Кто ещё придёт?
— Драматург Коллин, чья трагедия «Кориолан» произвела на тебя такое сильное впечатление, Трейчке, твой дирижёр Клемент, исполнитель партии Флорестана Рёкель...
— А с какой целью?
— Мы бы хотели предложить тебе произвести кое-какие изменения.
— Вы — мне? А что, все уже в сборе?
— Думаю, да.
— Тогда пусть заходят! — Бетховен рывком распахнул дверь. — Прошу вас, дамы и господа! Смелее, Коллин! Я хочу написать увертюру к вашему «Кориолану» и потому нуждаюсь в подробностях. Рад вас видеть без дирижёрской палочки, Клемент. У вас, мой славный Рёкель — Флорестан, такое лицо, словно вы ещё сидите в тюрьме.
Он сделал шаг вперёд и низко поклонился княгине Лихновски:
— Полагаю, что вижу в вашем лице исповедника или, точнее, исповедницу, пришедшую проводить меня в последний путь. Но любой преступник будет только рад, если на эшафот его возведёт женщина такой божественной красоты.
— Надеюсь, это продлится не долго, Бетховен? — пророкотал своим ничуть не утратившим силы густым басом князь Лихновски. — Я сильно проголодался и приказал повару через два часа приготовить ужин.
Он помялся немного и, сев по традиции первым за рояль, добавил со смущённым видом:
— Кстати, вы знаете последнюю новость? Французы начали покидать город. Наполеон спешно выехал из Шёнбрунна, очевидно, потому, что к Вене приближаются союзные войска.
— Нет, ваше сиятельство, я располагаю другими сведениями, — глухим, каким-то неживым голосом произнёс Бройнинг. — Оба императора — Александр и Франц — сосредоточили свои силы в Моравии, а точнее, близ Аустерлица, и у меня создалось впечатление, что Наполеон просто двинулся им навстречу.
— Выходит, нас ожидает встреча трёх императоров, — с беззлобной усмешкой проговорил Коллин.
— Если угодно, можете называть так предстоящее сражение. Но пока давайте начнём битву с нашим славным Людвигом. Может быть, ваше сиятельство соизволит пустить в ход тяжёлую артиллерию?
Лихновски робко взглянул на софу, где сидели Бетховен и его жена:
— Так я рискну?..
— Рискуйте, ибо я... — Мария Кристина кокетливо улыбнулась и положила ладонь на руку Бетховена, — удерживаю противника.
На партитуре обозначили соответствующие места, и князь опустил руки на клавиши. Время от времени Рёкель пел отрывки из арий, и, если он оказывался не в состоянии взять какую-либо ноту, Клемент восполнял недостаток игрой на скрипке. Они спорили, ругались, принимали решения и снова отвергали их, пока не пришли к компромиссу, и Бетховен радостно шепнул княгине:
— Ну наконец-то я могу со спокойной душой вернуться домой. По-моему, я здесь больше не нужен. Хотя нет, подождите.
Он встал с софы, подошёл к роялю и сыграл одной рукой.
— А теперь, может быть, господа позволят мне сесть за рояль. Я хочу предложить им нечто иное, но для этого мне требуются обе руки.
Вопреки обыкновению в его голосе совершенно не чувствовалась издёвка, смуглое лицо не подрагивало, что обычно выдавало прилив бешеной энергии. Своим поведением он, казалось, напротив, стремился успокоить окружающих.
— Слышите адажио? Это атмосфера тюрьмы, где жизнь нарочито замедленна, а все чувства притуплены. А теперь аллегро. Так стремительно зарождается у Леоноры мечта о спасении Флорестана.
Он замолчал, подумав, что, может быть, Жозефина тоже когда-нибудь придёт и спасёт его.
Он продолжал играть, стремясь выразить в звуках удары судьбы в ворота. Права человека выше прав любого, даже самого могущественного императора. Так пусть же распахнутся ворота Бастилии, иначе я выбью их!
Он играл и играл, быстро наращивая темп, а потом вдруг обмяк и лёг грудью на рояль, бессильно свесив руки.
Мария Кристина осторожно подошла сзади и коснулась губами его буйной шевелюры.
— Увы, но это лишь слабая замена лавровому венку, полагающемуся вам за столь великолепную увертюру. Вы создали настоящий шедевр.
— Что вы сказали? — Бетховен прижал руки кушам. — Лавровый венок? Шедевр? Эх, будь я итальянец или француз!.. — Он встал и согнул спину в низком поклоне. — Ну разве я не достоин похвалы? Блудный сын вернулся и теперь, раскаявшись, пытается вернуть свою, казалось бы, уже безвозвратно потерянную репутацию. Полагаю, князь, что, подобно библейскому персонажу, вы также можете забить упитанного тельца. Я сильно проголодался. А собственно говоря, сколько времени?
— Час ночи.
Бетховен устало закрыл глаза и отвернулся.
Развитие событий полностью подтвердило правоту Бройнинга.
Решающее сражение действительно произошло неподалёку от Аустерлица[75]. Бетховен довольно равнодушно воспринял сообщение о нём. Ну хорошо, пусть изменник нанёс поражение его нации, но разве представители этой нации, в свою очередь, не громили и не унижали его? Пока в общественном мнении не произошло никакого перелома. Поддержку он, как и прежде, мог снискать лишь у нескольких друзей и восторженных поклонников.
Аустерлиц! Французы захватили свыше ста пятидесяти пушек, им достались все знамёна русской гвардии, они взяли в плен двадцать генералов и тридцать тысяч солдат и офицеров. Более двадцати тысяч трупов остались лежать на поле битвы.
Император Александр бежал в Россию. Император Франц был вынужден вернуться в Вену и жить на правах арендатора в своём собственном дворце, куда снова торжественно въехал корсиканец.
Наполеон назвал Аустерлиц своей самой «прекрасной битвой». Видимо, для него не было более прекрасного зрелища, чем остекленевшие глаза десятков тысяч ещё недавно здоровых, полных сил людей.
Когда появился Бройнинг, Бетховен закричал, срывая на нём злость:
— Ты редкостный лентяй, Стефан! Мне нужно либретто, понимаешь, либретто! Вы же себя выставляете в смешном виде. Да ваш Придворный Военный совет можно спокойно закрыть, вы там всё равно позволяете себе только шушукаться за хорошо обитыми дверями. Ты принёс текст?
— Да! — Высокий, рослый Бройнинг встал на цыпочки и несколько свысока посмотрел на Бетховена.
— Большое спасибо, Стефан. А теперь, пожалуйста, убирайся к чёрту.
— А я уже у него.
— Стоп! Подожди минутку! Ты, кажется, принёс мне очень хорошую вещь. Отличный текст, Стефан. Как, ты ещё здесь?
Иногда его охватывали приступы безудержного веселья. Обычно это случалось, когда у него всё ладилось, и смех он воспринимал как своего рода доброе знамение...
Как-то в конце января пришёл Лихновски и сразу же обрушил на него поток слов:
— Бетховен, я пришёл к вам по поручению жены. Вы так давно не показывались у нас. Нельзя так долго сидеть взаперти, иначе вы погубите себя. Нужно сделать небольшой перерыв. Французы расположились в моём имении и в замке Грэц. Я собираюсь туда и хочу взять вас с собой.
— Подождите немного. — Бетховен сыграл несколько аккордов, затем взял нотный лист. — Слушайте, а где Риз? — Он смущённо улыбнулся и провёл ладонью по лицу. — Я действительно нуждаюсь в хорошем отдыхе. Совсем забыл, что Риз получил призывную повестку и уже давно находится в Бонне.
— А вообще, зачем он вам, когда здесь я. У меня карета внизу.
— Было бы очень мило с вашей стороны отвезти эту гору нот Клементу и копиистам. А когда ваше сиятельство собираетесь отбыть в Грэц?
— Через четыре-пять дней. А как ваши успехи? Хоть продвинулись?
— Не то слово! Я уже закончил второй вариант «Фиделио».
— Бетховен!..
Непрерывно валивший с неба густой снег превратился в дождь, яростно барабанивший по крыше кареты.
Судя по встретившему их колокольному звону, в деревушке или, вернее, небольшом городке Грэце было не менее трёх церквей. Дома здесь были низкие, крытые соломой, в окнах мелькали блёклые огоньки и ритмично дёргались силуэты людей. В Грэце жили в основном ткачи.
В воздухе сильно пахло хмелем — видимо, неподалёку находилась пивоварня, — и громко тявкали собаки, а местные жители, проходя мимо замедлившей ход кареты, низко кланялись и спешили удалиться.
— Вы не устали, Бетховен? — спросил Лихновски.
— Нет. Я как раз сочинил две превосходные фиоритуры для моей новой симфонии.
— Для Четвёртой?
— Да нет, уже для Пятой. Я умудряюсь готовить сразу в нескольких горшках.
— Снова на героическую тему?
— Просто несколько вариаций, обыгрывающих пение иволги.
— Странные у вас мысли, Бетховен.
Карета остановилась перед замком. В окнах, за неплотно задёрнутыми шторами, метались огни свечей. Они миновали выстроившихся рядами лакеев и горничных с согнутыми в низком поклоне спинами. В огромной прихожей вполне можно было разместить маленький дом. Бетховен окинул беглым взглядом выложенные деревянными панелями стены, украшенные картинами в золочёных рамах и многочисленными оленьими рогами, и подумал, что источником этого богатства здесь также послужили пот, слёзы и нужда окрестных обитателей.
— Добро пожаловать, ваше сиятельство. Добро пожаловать, достопочтенная госпожа графиня. — Человек в охотничьей куртке, несмотря на породистое лицо, явно принадлежал к служивому сословию. Произнося традиционные слова приветствия, он вновь танцующей походкой отошёл назад и замер в ожидании приказаний.
— Что нового, граф? — Лихновски повелительно взмахнул рукой и повёл головой, разминая затёкшую шею.
Неужели этот человек и впрямь носит графский титул? Тогда почему князь так пренебрежительно обращается с ним?
— Нам очень повезло, ваше сиятельство. У нас на постое не какие-нибудь там нижние чины, а полковник и десять офицеров. — Камердинер с графским титулом многозначительно повёл глазами в сторону широкой лестницы, ведущей в залы. — Сейчас они изволят ужинать.
Очевидно, французы не закрыли дверь в обеденный зал. Во всяком случае, сверху доносились смех и фальшивые аккорды исполняемого на пианино туша.
Уже далеко за полночь Бетховен стоял в отведённой ему комнате у раскрытого окна и смотрел в ночную тьму. Когда по коже пробежал озноб, он подбросил в камин полено и устремил взор на потрескивающие в пламени дрова. Князь своим поведением окончательно испортил ему настроение.
Если в Вене он был подчёркнуто любезен и обходителен, а по отношению к Бетховену просто проявлял дружеские чувства, то в своих владениях эта жирная туша с наполовину облысевшей головой вела себя настоящим барином, заставляя вспомнить легенду об Антее, которому прикосновение к матушке-земле давало новые силы. Правда, в данном случае сила оказалась какой-то уж очень омерзительной. Даже очаровательное лицо Марии Кристины приняло надменное выражение и стало холодным, словно выточенным из мрамора.
Нет, в обеденный зал он не пойдёт и с французами общаться не будет. Отвращение и гнев заставили его забыть о еде. Он раскурил трубку и вынул из дорожной сумки пачку исписанных нотных листов. Он хотел внести в нотную запись «Аппассионаты» исправления, а уже потом отправить её Жозефине.
Тут в дверь осторожно постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату с поклоном вошёл камердинер с графским титулом. Как уже успел выяснить Бетховен, это был управляющий. Подобострастный с графом, с Бетховеном он держал себя просто холодно-вежливо.
— Его сиятельство ждёт.
— Чего именно?
— Он желает, чтобы вы в присутствии французских офицеров сыграли на пианино.
— Уже слишком поздно.
— Не понял вас.
— Говорю, время позднее. — Бетховен принялся внимательно рассматривать чуть подрагивающие ладони. — Передайте Лихновски, что мои пальцы устали и пошли спать.
— Чтобы я передал такое их сиятельству...
— Значит, не можете?
— К тому же у меня приказ...
Бетховен нарочито протяжно зевнул и снял со спинки стула сюртук.
— Ну, раз приказ... Тут уж ничего не поделаешь.
В обеденном зале он ещё раз убедился в разительной перемене, произошедшей с князем. Лихновски изрядно выпил и теперь откровенно старался угодить победителям при Аустерлице. Заплетающимся языком он произнёс:
— Нет, mon cher[76] лейтенант, князь Карл фон Лихновски почтёт за честь налить вам ещё вина.
Он поднял свой бокал и посмотрел на французских офицеров.
— А за что мы пьём? Вы действительно убеждены, месье, что Мария-Луиза понравилась великому императору? Но эрц... эрцгерцогиня ещё слишком мала, ей всего... всего четырнадцать лет, и потребуется много времени, чтобы разжечь в ней страсть. Итак, за первую брачную ночь великого императора с юной принцессой Марией-Луизой. За победителя в битвах и постелях!
Он громко рыгнул и даже поперхнулся, увидев Бетховена.
— Это... это мой пианист. Это, мой милый полковник, Людвиг ван Бетховен. Сейчас вы убедитесь, — он надул губы и приложил к ним кончики пальцев, — что князь Лихновски привёз вам из Вены настоящее сокровище. В му... музыкальном смысле, разумеется.
Кто же на его глазах точно так же, с наслаждением целовал кончики своих пальцев?
Ах, ну да, старьёвщик в Бонне. Лихновски ведёт себя примерно так же, только вместо всякого гнусного тряпья навязывает покупателям, то есть французам, его, Бетховена, несравненный дар. Он чувствовал себя на удивление спокойно, хотя понимал, что такое состояние у него обычно предшествовало вспышкам дикой ярости.
— Полковнику придётся лишь полюбоваться сокровищем.
— Что такое? Почему?
— Потому что у меня нет намерения исполнять сегодня что-либо.
— Зато у меня есть намерение заставить вас играть. — Лихновски сокрушённо помотал головой, пытаясь скрыть растерянность. — Я как владелец замка дал слово месье полковнику. Как князь...
Бетховен почувствовал, что его начинает захлёстывать волна безудержной ярости. Он небрежно махнул рукой:
— Князь? Этот титул вы приобрели исключительно по праву рождения, а значит, волею случая. Князей на свете тысячи, а вот Людвиг ван Бетховен один.
В коридоре он с облегчением вздохнул. Ушёл он спокойно, даже не хлопнув дверью, и ничуть не раскаивался в своём поведении. Князь же вёл себя сегодня как настоящая скотина...
Войдя в комнату, Бетховен чуть улыбнулся и решил, что утром, когда у них в головах осядут винные пары...
Тут в дверь забарабанили кулаки.
— Строптивый пианист подлежит аресту! Немедленно откройте!
Он даже не пошевелился.
— Если этот наглый субъект не откроет, придётся взломать дверь.
Пьяные, как правило, очень упрямы и не отвечают за свои поступки. В этом состоянии князь ничем не отличался от своего покойного отца. Лихновски всей своей огромной тушей навалился на дверь, выкрикивая:
— Раз... два...
Что ж, хотя он, Бетховен, и не отличается атлетическим сложением, у него хватит сил, чтобы достойно встретить его сиятельство.
Когда дверь слетела с петель и Лихновски тяжело перевалился через порог, Бетховен с лёгкостью взметнул над головой огромный стул, на полированных ножках которого тут же заиграли отблески пламени.
Французские офицеры оттащили Лихновски и буквально выволокли его из комнаты. В дверном проёме сразу же появилась Мария Кристина в ночной сорочке:
— Что случилось?
Тело её сотрясала дрожь, бледное от ужаса лицо больше не казалось выточенным из мрамора.
Бетховен молча сложил свои вещи в дорожную сумку и, обойдя княгиню, торопливо зашагал к выходу.
Всю ночь его мучили желудочные колики, а дьявол неустанно залеплял ему уши воском. Он лежал, страдая от головной боли, и думал, что Жозефина пишет ему всё реже и реже, а тон её писем — всё холоднее и холоднее. Он встал, подошёл к секретеру, задумчиво посмотрел на мерцающие огоньки свечей, а потом прочёл в лежащей под стеклом нотной тетради древнеегипетскую надпись: «Никто из смертных ещё не приподнял мой покров...»
Есть ли тут хоть какой-нибудь смысл? Или это просто выспренняя чушь?
Он приподнял стекло и закрыл нотную тетрадь. В ней была записана увертюра Меуля, которой предполагалось открыть сегодняшний концерт.
Две недели назад жители вновь устроили на улицах танцы. На этот раз буйное ликование вызвали у них названия двух городов: Йена и Ауэрштедт[77]. Если австрийцам пришлось примириться с поражением при Аустерлице, почему у пруссаков дела должны обстоять лучше? Тем более что армии южно- и западногерманских государств, объединённых корсиканцем в Рейнский союз, участвовали в войне на стороне французов. Немцы сражались с немцами...
Так, на размышления уже не оставалось времени, он тщательно повязал галстук и, смотрясь в зеркало, заодно заглянул в висевший за спиной календарь.
Двадцать пятое декабря. Рождественские дни.
Тридцать лет назад отец подарил ему маленькую скрипку, потом большую, струны которой он так часто орошал слезами. Он проклинал этот дьявольский инструмент и долго не мог примириться с ним... Внезапно он замер, уставившись невидимым взором в зеркало. О Боже праведный, он забыл дать просмотреть нотные записи брату Карлу. Он чуть улыбнулся, вспомнив ответ Зимрока на тогдашнее письмо Карла: «Глубокий уважаемый господин старший сборщик налогов! Как прежде, так и теперь я твёрдо убеждён, что Людвиг сам написал свои произведения».
Вот так-то вот, брат, хочешь плачь, а хочешь смейся, но этот скрипичный концерт я тоже написал без чьей-либо помощи.
Когда Бетховен вошёл в зал и стремительно направился к своему пульту рядом с оркестром, он с вызывающим видом поднял голову, чтобы лучше слышать. Он не желал больше скрывать свой недуг.
При его появлении никто не зааплодировал. Ничего удивительного. После провала «Фиделио» его репутация, казалось, уже была безнадёжно испорчена.
И очень хорошо, что сидевшие в зале несколько друзей не встретили его аплодисментами. Их жидкие хлопки на фоне всеобщего молчания он бы воспринял как насмешку.
За оркестром, скрестив на груди руки, стоял второй капельмейстер Зейфрид. Он дружелюбно кивнул Бетховену, как бы говоря: «Не стоит волноваться, я жду появления Клемента, ведь сегодня он впервые публично сыграет на скрипке, я же буду дирижировать и уж точно вас не подведу». Бетховен в ответ опустил и поднял веки: дескать, а я и не волнуюсь.
Через несколько минут Клемент вышел из гримёрной, зажав скрипку под мышкой левой руки и ловко подбрасывая правой смычок. Публика встретила любимого капельмейстера, готового стать не менее любимым виртуозом скрипичной игры, бурей аплодисментов. Он низко поклонился и ещё раз проверил, как натянуты струны. Почти в тот же миг Зейфрид упругой походкой взошёл на подиум, послюнявил пальцы, чтобы быстрее перелистывать ноты, и замер в напряжении у пюпитра. Клемент кивнул ему, и второй капельмейстер тут же воздел руки вверх. Музыканты затаили дыхание. «Осторожнее, милый Зейфрид, — умолял его про себя Бетховен. — Пожалуйста, не забывай древнее изречение: «Ни один смертный не смог поднять покров моей тайны...»
Дирижёрская палочка легко скользнула вниз.
«Хорошо, Зейфрид, хорошо». Бетховен крепко сжал мочки ушей. Литавры звучат просто великолепно. Он видит это по движению рук музыкантов.
«Гобои, кларнеты, фаготы — мягче, Зейфрид, мягче».
Крещендо и форте. Даже он с его слухом ощутил поразительную мощь музыкальных звуков. «Теперь тихий шелест скрипок! Дж! Дж! Дж! Тихо, очень тихо! Вступают вторые скрипки. Звучат басы, потом соло на скрипке...
Опять громоподобные звуки, и снова легко и нежно, друг мой, легко и нежно. Духовики, я прошу вас, играйте нежно, очень нежно, я слежу за вашими губами. Пусть сперва будет грустно и тоскливо, а потом прозвучит утешающая мелодия, будто лёгкий дождик после палящей жары...»
На неподвижном, словно отлитом из бронзы лице Бетховена двигались только глаза. «Ну давайте же, Клемент, поднимите скрипку к подбородку.
Так, хорошо. Генуто и меццофорте. Крещендо и сфорцандо. Ещё сильнее.
У вас есть возможность стать истинным кесарем от музыки, Клемент, не упустите своего счастья. Я ведь всегда говорил вам: музыка должна жечь огнём сердца и умы!
Но не только. Она должна ещё и утешать, пусть даже одновременно навевая грусть. В этом я убедился на собственном опыте. Она способна успокоить человека, а потом вновь громом литавр звать его на борьбу.
Ларгетто[78]. Прекрасно. Теперь каданс, а потом сразу рондо. Аллегро джокозо[79]. Ну ты же можешь взять ещё более стремительный темп, Зейфрид.
Пианиссимо![80] Умоляю: пианиссимо. Я не должен сейчас вообще ничего слышать, а ко мне какие-то звуки прорываются!
А теперь ещё раз, Клемент! От пианиссимо в четыре такта к фортиссимо. Аккорд! Ещё аккорд! Рамм! Вамм! Отлично, Клемент!»
Шквал аплодисментов такой, что может не выдержать потолок. Восторженные, почти истеричные выкрики. Особенно выделяются резкие женские голоса:
— Клемент! Клемент!
Оркестр и дирижёр также снискали похвалу публики:
— Браво, Зейфрид! Браво, тутти[81]! Зейфрид! Зейфрид!
Капельмейстер вдруг отшвырнул дирижёрскую палочку.
Его жест означал: а при чём здесь я? В чём моя заслуга? Вон внизу стоит тот, кому вы всем этим обязаны!
— Жаль, что такой виртуоз, как Клемент, не выбрал более достойное сочинение, — отчётливо прозвучал чей-то скрипучий голос.
Кое-кто из публики поспешил поддержать его:
— Совершенно верно! Такой талант должен обладать более изысканным вкусом.
Стремясь перекричать расшумевшихся зрителей, Зейфрид несколько раз воскликнул:
— Бетховен!.. Бетховен!..
Он улыбнулся, дружелюбно кивнул второму капельмейстеру и медленно покинул зал.
Внезапно она возникла на пороге его комнаты.
Он медленно повернулся и, не вставая из-за рояля, устремил на неё удивлённый взгляд. Неужели она ему только привиделась? Он посмотрел на лежащий на рояле нотный лист. «Радостные ощущения от встреч в загородной глуши...» Ну, конечно, он постоянно думал о ней, вспоминал дни, проведённые в Гетцендорфе... Вполне возможно, что звуки и воображение оживили её образ...
Он заметил тающие снежинки на её подрагивающих веках, меховой шапочке и плаще. Ну да, разумеется, на дворе разгар зимы, и снежные кристаллики сверкают на солнце.
Её тёмные глаза сегодня казались больше, чем обычно. Может быть, след тайных душевных страданий, из-за которых и лицо её заострилось, а щёки впали?..
— Почему ты вчера не пришёл, Людвиг?
— Куда?
— Разве Гляйхенштейн тебе ничего не сказал?
Он отрицательно покачал головой.
— Он должен был передать, что тебя ждут на концерте. И я... я тоже тебя ждала. Был накрыт праздничный стол, я зажгла много, очень много свечей...
— Теперь я понимаю, почему Гляйхенштейн ничего мне не сказал, — подумав, через некоторое время произнёс Бетховен. — Потому что он настоящий друг.
— Какие же вы всё-таки, мужчины, глупцы, — несколько фальшиво улыбнулась она. — И ты, Людвиг, тоже. Думаешь, мне доставляет большую радость называть так великого пианиста и композитора?
— Что ты сказала?
— Совершенно не важно, что пишут эти болваны критики, — не слушая его, продолжала она. — А здесь я для того, чтобы вручить тебе рождественский подарок. — Её маленькие ручки долго рылись в муфте. — Мы с Гляйхенштейном приехали в одной почтовой карете. Детям нужен отдых, и поэтому мама и Тереза ещё сегодня ночью отбудут с ними в Карлсбад, а оттуда в Теплиц. Может быть, они проведут там целый год. Но кто-то должен остаться здесь и позаботиться о галерее и комнатах. Я решила принять на себя эту жертву. Надеюсь, ты не считаешь меня плохой матерью, Людвиг?
Слышал ли он её? Понимал ли сообщение, которое она считала своим подарком ему?
— Где ты так долго пропадала? — чуть насмешливо спросил он.
— Это упрёк? — Она как-то сразу оживилась. — Нет?.. Я очень разочарована, Людвиг.
Бетховен, казалось, совсем пал духом. Он беспомощно завертел головой, как бы ища доброго совета. Но в комнате, кроме них двоих, никого не было. Так, может, обратиться за помощью к музыке?
— Я наконец закончил сонату.
— Какую именно?
— «Аппассионату». Сейчас я исполню её. Я ведь даже не знал, куда её тебе послать. Где ты была?
— Если честно, Людвиг, то мысленно всегда рядом с тобой, а так очень далеко.
— Я помню, как ты слушала «Аппассионату» в «Золотом грифе», — потрясённо проговорил он. — Теперь моё сочинение, если так можно выразиться, стало гораздо более зрелым.
Бетховен заиграл, стараясь передать музыкой, как отчаянно и самоотверженно он боролся за неё, как мучительно все эти годы вспоминал о ней.
У неё на глазах выступили слёзы. Она тихо всхлипнула и подошла к нему.
— Могу я высказать своё мнение?
— Ты? Конечно, пусть даже не слишком лестное для меня, — удовлетворённо кивнул он.
— Соната навевает слишком мрачные мысли, лишает последней надежды. Я ещё тогда в «Золотом грифе» хотела тебе это сказать. Разумеется, сама соната просто изумительная, но сейчас я хочу поговорить о другом. Ведь ты мне даже руки не протянул, Людвиг. Или ты хочешь меня сперва поцеловать?
Он осторожно заключил её в объятия.
— Ты моя вечно любимая женщина...
— Ты придёшь сегодня вечером? — Она провела языком по его губам. — Я буду ждать. Зажечь побольше свечей или?..
— Нет. Только одну.
Он трудился теперь особенно упорно и настойчиво и напоминал самому себе таран, которым в старину взламывали ворота и стены вражеских городов.
Он тоже должен взломать стены города, в котором его ждала любимая женщина, олицетворявшая для него высшее счастье. Как-то вечером она ласково погладила его по лбу:
— Какие у тебя странные оспины, Людвиг. Я чувствую, что в душе твоей уже давно поселилась тревога, и хочу хоть немного успокоить тебя.
Да, он никак не мог обрести покой и даже не надеялся на это.
Он писал в дирекции различных театров, предлагая себя на должность заведующего музыкальной частью. Везде отказ. Ах, если бы не «Фиделио»...
Скрипичный концерт — и снова неудача. Может быть, имело смысл аранжировать его как фортепьянный концерт? Но тогда это была бы чистейшей воды подёнщина.
Правда, сейчас его манила цена. Ради неё стоило предпринять любую попытку.
«Пасторальная симфония» — мечта и реальность, воспоминание и день нынешний, а заодно и будущее, — она открывала ему путь в страну обетованную, куда он мог прийти рука об руку с Жозефиной. Он насвистел трель соловья, но так и не понял, правильно уловил её или нет. Он высунул голову в окно и не обнаружил поблизости ни одного соловья, хотя обычно они сидели чуть ли не на всех деревьях. Присутствие соловья раздражало его, он видел в нём какой-то зловещий символ.
Нет, он не прав, ни одно живое существо, кроме человека, не несло в себе зловещего начала, и потому его частые визиты к Жозефине, а её — к нему кое-кому очень не понравились. Ради неё он отправился в Баден и Хейлигенштадт, где им, подобно боящимся света насекомым, пришлось встречаться в темноте.
— Я не помешал, Людвиг?
Он так задумался, что не заметил, как в комнату вошёл Франц Брунсвик.
— Мне сейчас все мешают, — лукаво взглянул на него Бетховен. — Ведь одной рукой я сочиняю «Пасторальную симфонию», а другой — заказанную князем Эстергази мессу до мажор. Он хочет, чтобы её исполнили в день ангела супруги в Эйзенштадте. Но что с тобой, Франц? У тебя сегодня такой торжественный вид.
— Да, Людвиг. Скажи мне откровенно как мужчина мужчине, как близкий друг близкому другу: ты искренне любишь Жозефину? И готов ли ты жениться на ней?
— Франц! Если ты в чём-то подозреваешь меня...
— Не говори глупости. Но если ты её любишь, то немедленно женись на ней! Вчера приехали мама и Тереза. — Франц помедлил немного, а потом негромко продолжил: — Сестра заодно с нами. Она желает счастья и Жозефине, и... ещё в большей степени тебе. Она — самый лучший член нашего «Общества друзей человека». Ты понял?
Бетховен кивнул и с тревогой посмотрел на Франца:
— А Жозефина?..
— Речь сейчас не о ней, — холодно, с достоинством проговорил Брунсвик. — Очень многое, если не всё, зависит от мамы. Вчера она, не успев распаковать вещи, тут же обрушилась с нападками на Жозефину: дескать, она потеряла ещё один год, а молодость и красота не возвращаются. Короче, мама потребовала от Пепи снова выйти замуж, чтобы, помимо всего прочего, дети почувствовали мужскую руку. Иначе они вырастут балованными и невоспитанными.
— Вот уж не думал, что у меня руки воспитателя и педагога, — обезоруживающе улыбнулся Бетховен, рассматривая кончики пальцев. — Меня бы кто воспитал!
— Твоим воспитанием, я знаю женщин, займётся Пепи, — мягко, но очень серьёзно сказал Франц Брунсвик. — Поверь мне, я знаю женщин. Поверь мне, пока ситуация складывается не в твою пользу, но Жозефина просила передать, что твёрдо намерена как можно скорее вступить с тобой в брак, даже если мама будет против. Она даже готова хоть сейчас перебраться к тебе.
— Не следовало бы тебе это говорить, Франц. — Лицо Бетховена исказила нервная гримаса. — В данный момент я не могу жениться. Пойми, я нищий, Франц! — Перехватив недоумённый взгляд собеседника, он тяжело поднялся и прошёлся по комнате. — Знаешь, сколько я заработал на концертах по подписке у Лобковица? Даже боюсь назвать сумму, такая она маленькая. Я тружусь как вол и тем не менее влачу жалкое существование. Разумеется, у меня заключён договор с Клементом, но деньги поступают крайне нерегулярно. И в таких условиях должна жить Жозефина?
— А если вы переедете в Мартонвашар?
— Я? А в качестве кого? — в бешенстве закричал Бетховен. — Да там я буду получать милостыню! Жить на средства жены! Да меня там все презирать будут! Нет, я по-настоящему люблю Жозефину и потому никогда не пойду на такой шаг. А тебе, Франц, должно быть стыдно.
Брунсвик крепко обнял друга и прижался головой к его плечу.
— Скажу Пепи, пусть непременно дождётся. До свидания, Людвиг.
— Стой, Франц! — Бетховен схватил Брунсвика за плечи. — По-моему, такой сват, как ты, достоин вознаграждения. Но такой нищий музыкант, как я, может подарить только ноты. Могу я посвятить тебе фортепьянную сонату?
— Подумай лучше о свадебном подарке для Жозефины.
— Франц! Франц! — рассмеялся Бетховен. — К этому знаменательному дню я сочиню такое... Да я весь мир удивлю.
Месса до мажор в Эйзенштадте.
Стена, которую он так хотел взломать, чтобы попасть к Жозефине, в этом месте не поддалась.
Придворная церковь! Позолоченные изображения святых и чрезмерно роскошная церковная утварь. Сиятельные особы обоего пола. Быстрый поклон дароносительнице и обязательный книксен перед сильными мира сего. Запах ладана, смешанный с приторными ароматами духов и помады. Придворная церковь! Неужели Сын Божий согласился бы принять здесь смерть на кресте?
После торжественной мессы последовал вопрос князя, произнесённый пренебрежительным тоном в присутствии всех гостей и свиты:
— Опять вы всё сделали по-своему, дорогой Бетховен?
Гнилостный запах в кирхе, тоска и злость в душе, немедленное возвращение в Вену. Гонорар оказался гораздо меньше, чем он ожидал. Опустевшие, навевающие тоску поля, с которых уже собрали урожай. Руки, на которые наложили шины. Как же они болели! Неужели многолетняя игра на рояле действительно вызвала воспаление ногтевого ложа? И спасти пальцы теперь может только вмешательство хирурга?..
В Вене он узнал об отъезде Жозефины. Но куда и на сколько? В ответ Гляйхенштейн лишь пожал плечами:
— Ты сильно избил эрцгерцога.
— Кого?
— Своего ученика эрцгерцога Рудольфа.
— Ты с ума сошёл, Гляйхенштейн!
— Так они говорят.
— Кто? Придворные льстецы распускают слухи, ибо чувствуют себя особенно оскорблёнными. Послушай лучше, как всё было на самом деле. Я даю принцу уроки не только потому, что очень нуждаюсь в дукатах, нет, мы действительно испытываем друг к другу взаимную симпатию. Он очень одарённый, милый и скромный юноша, и его привязанность ко мне, ей-богу, дороже ста дукатов! Я так и сказал принцу, когда столкнулся с обер-церемониймейстером, сущим болваном в расшитой золотыми галунами ливрее.
— Как столкнулся?
— Уже на первом уроке. Я ведь раньше не бывал в Шёнбрунне, вот он и захотел научить меня правилам придворного этикета. Я только распахнул дверь в музыкальную комнату: «Давайте сразу условимся, принц. Я ведь здесь для того, чтобы обучать вас игре на фортепьяно, не правда ли? И пока у меня это получается лучше, чем у вас, так? Во всяком случае, я не собираюсь за сто дукатов целый час ползать перед вами на четвереньках».
— Какой же ты всё-таки стервец, Людвиг! — В глазах Гляйхенштейна заплясали весёлые огоньки. — Колючий как ёж.
— Принц это понял. Он сказал: «Оставьте его. Пусть он ведёт себя так, как считает нужным. Я лично горжусь таким учителем».
— А как насчёт побоев?
— Однажды я играл ему отрывок из моего фортепьянного концерта. Принц стоял рядом и сокрушённо покачивал головой: «Вы просто поражаете меня своим умением, маэстро. Умоляю, откройте мне тайну своего мастерства. Как вы научились ему?» И тут я решил не церемониться. «Охотно. Пожалуйста, сядьте за рояль, принц, и играйте гамму по квинтовому кругу. Начинайте с до мажор». Он сыграл, и я, нежно, очень нежно, спросил: «И это вы называете до мажор?» И ударил его по пальцам. «В своё время, — говорю, — меня били тростью, и не только по пальцам». Принц сначала испугался, а потом растрогался и схватил меня за руки: «Маэстро!..» К сожалению, один из придворных это видел...
После разговора с Гляйхенштейном прошло три дня. Он сидел, откинувшись на спинку резного стула и вцепившись руками в подлокотники. Ну почему, почему Жозефина уехала, даже не попрощавшись с ним? Гляйхенштейн предположил, что её сильно оскорбил его отказ немедленно жениться на ней. Она, дескать, сочла, что её унизили, оскорбили её женское достоинство... Да нет, чепуха. Иначе бы она уехала сразу, а не через несколько месяцев.
Нужно что-нибудь послать ей, напомнить о себе. Он пересел к секретеру, взял бумагу и с нарастающей злобой принялся рассматривать аккуратно отточенные гусиные перья. Как же неудобно держать одно из них в перевязанной руке. И как трудно ему подбирать слова. Нет, ноты ему писать гораздо легче. Так, может быть, лучше послать ей фортепьянную сонату, которую она сможет играть.
Сразу же определим тональность: ре мажор. Или нет, лучше до мажор. А в конце пусть будет нагромождение тонических аккордов и доминант. Пусть в них выразится горечь разлуки, как в звуках трубы в «Героической симфонии» выражалась бурная радость встречи...
Вдруг он быстро сдвинул веки, словно испуганный каким-то видением, отбросил перо и после некоторых размышлений сунул нотный лист в кипу возвышающихся перед ним нотных тетрадей.
— Ты непременно должен пойти туда, Людвиг.
— Нет, Стефан.
Бройнинг вновь принялся убеждать его:
— Ему ведь недолго жить осталось...
— И я то же самое говорю, — подтверждающе кивнул Гляйхенштейн.
— А я не хочу подвергаться унижениям.
— А я и не знал, Людвиг, что ты чего-нибудь боишься, — с вызовом заявил Бройнинг.
— Нет, я докажу вам, мерзавцы, обратное! — чуть ли не на весь дом закричал Бетховен. — Только поэтому я и пойду туда. Вам мои побудительные мотивы ясны?
Было 27 марта 1808 года. В начале апреля в Вене готовились торжественно отпраздновать семидесятишестилетие Йозефа Гайдна. В актовом зале университета собирались исполнить ораторию «Сотворение мира», считавшуюся одним из лучших произведений престарелого композитора. Ровно десять лет назад он положил на музыку текст итальянца Карпани.
Все трое пришли позднее, когда карета с укреплённым на запятках креслом уже остановилась возле здания университета.
Бетховен недовольно сдвинул брови, но Бройнинг жестом успокоил его. Он не мог в присутствии множества людей надрывно кричать, объясняя глухому другу, что происходит вокруг. Пусть лучше Бетховен своими глазами увидит, во что превратился человек, которого он в гневе навсегда вычеркнул из памяти. Даже запретил друзьям называть при нём его имя.
Гляйхенштейн стиснул зубы и болезненно поморщился — с такой силой Людвиг стиснул его локоть.
Беспомощному старику помогли выйти из кареты, посадили в кресло и понесли к распахнутым дверям. Стоило им переступить порог, как гулко загремели трубы, глухо зазвучали литавры и раздались выкрики: «Гайдн! Гайдн!» Музыканты подняли свои скрипки, гобои и фаготы, певцы и певицы, стоя, замахали нотами, а стоявший перед ними самый знаменитый композитор своего времени Сальери низко поклонился.
Слева и справа от кресла юбиляра с величественным видом заняли места князь Николаус Эстергази и его супруга. Бетховену сразу же вспомнился пренебрежительный отзыв высокородного бездельника на написанную им по его заказу мессу.
Но в данный момент это не имело никакого значения. Съёжившийся в непомерно большом кресле маленький хрупкий старик почти ничем не напоминал знаменитого Йозефа Гайдна. Его покрытое коричневыми пятнами морщинистое лицо было также изъедено оспинами, нос заострился, руки заметно дрожали. В этом помещении с выстуженными за зиму стенами мороз всегда задерживался надолго. От лютого холода Бетховена не спасал даже подбитый мехом плащ. Он искоса взглянул на Гайдна. На его голову, как и прежде, был надет аккуратно напудренный парик с косицей. Она чуть подрагивала, когда Гайдн наклонял голову, благодаря сиятельных особ, вереницей с поклоном проходивших мимо него. Первым конечно же шёл капельмейстер в имении «Эстергаза» Хуммель, ставший преемником Гайдна. Бетховен подумал, что композитор занимал эту должность ещё при покойном отце князя и что жизнь у него была очень нелёгкая. Он родился в семье каретных дел мастера, в которой помимо него было ещё одиннадцать детей, в детстве пел в церковном хоре в Вене, служил лакеем у учителя пения, неудачно женился и недавно потерял двух самых любимых братьев...
От этих грустных размышлений Бетховена отвлекло появление Эйблера. Ведь в мире музыки также существует табель о рангах. Эйблер всего лишь личный капельмейстер князя Эстергази и потому по статусу ниже капельмейстера придворной его императорского и королевского величества оперы Гировеца[82]. Последний настолько проникся значимостью занимаемого им поста, что не постеснялся, поздравляя Гайдна, вяло сунуть ему три пальца. Юбиляр радостно пожал их.
Сальери собрался было подать знак музыкантам, но Бетховен повелительным взмахом руки удержал его. Он подошёл к Гайдну, осторожно взял его руки и с поклоном поцеловал их.
— Бетховен, неужели это вы? Бетховен! Бетховен!
— Да, отец, это я. Простите меня, если сможете.
— Бахвал! Настоящий бахвал!
Гайдн прижал голову Бетховена к груди и начал водить рукой по его взъерошенным непокорным волосам.
— Нет, ну надо же, бахвал Бетховен...
Когда он убрал трясущуюся ладонь, Бетховен выпрямился и озабоченно посмотрел на юбиляра.
— Вам не холодно, отец?
— Если уж быть до конца честным... — Гайдн смущённо улыбнулся и кивнул, качнув косичкой парика.
Бетховен сорвал с себя плащ и набросил его на колени Гайдна.
— Но, сын мой...
— Прошу вас, отец…
— Сердечное спасибо.
Так, а теперь, господин сочинитель камерных опер Сальери, можете начинать. Но где же император Франц?
Неужели его величество не сочли нужным прийти и хотя бы поцеловать руки Йозефа Гайдна?
— Ты поступил очень порядочно, Людвиг.
— С чего ты взял?
— Ну как же? — после паузы проговорил Гляйхенштейн. — Граф Трухзес-Вальдбург передал тебе предложение короля Жерома переехать к нему в Капель, обещал должность капельмейстера, хорошее жалованье, а ты...
— У вас, по-моему, всюду шпики. — Бетховен поднял на собеседника внимательный, изучающий взгляд. — Но, к сожалению, вы неправильно истолковали свойства моего характера. Решили, что я руководствовался благородными мотивами, а это далеко не так. Я ведь и нашим и вашим. В Мадриде патриоты сражались за свободу Испании и сотнями гибли под пулями мамлюков Мюрата. Ну, хорошо, предположим, они бы победили. И тогда бы в страну вернулась инквизиция. Таковы были бы плоды их победы. Опять людей заставили бы целыми днями молиться и неустанно трудиться на богачей. Наполеон раздаёт своей родне троны европейских государств вместо того, чтобы нести народам свободу. И в этих условиях, выходит, я должен ехать к «королю-весельчаку»? Нет, я пока ещё не сделал окончательный выбор. Заберите партитуру дуэта и убирайтесь.
— Какого дуэта?
— Я привёз его из Хейлигенштадта, из загородной тиши, которая меня, однако, ничуть не успокоила. Вы ведь просили написать кое-что для исполнения на своей любимой виолончели. А у меня там выдались несколько часов, когда я всё равно ничем нужным не мог заняться.
Гляйхенштейн, шевеля губами, прочёл про себя посвящение: «Inter lacrimas et luctus» — «Среди слёз и страданий» — и подумал, что Людвиг наверняка вспоминал Жозефину...
— Понял, почему я это написал, — издевательским тоном произнёс Бетховен. — Захотелось блеснуть знанием латыни. Ну хорошо, а теперь я должен составить программу своих концертных выступлений, которые состоятся в конце ноября — начале декабря. Я хочу впервые исполнить мои Пятую и Шестую симфонии, а также фортепьянный концерт соль мажор.
Однако концерт в академии состоялся только в конце декабря, и привлечённые к участию в нём музыканты рассказывали небылицы о «наполовину глухом безумце», который устраивал скандалы чуть ли не на каждой репетиции и с которым ничего нельзя было поделать.
С другой стороны, нельзя было отрицать, что в его музыке гремели «барабаны судьбы», от которых дух захватывало даже у прошедших огонь и воду «ландскнехтов музыки». Это было настоящее чудо, и потому многие с нетерпением ожидали, что произойдёт 22 декабря 1808 года в Венском театре.
Сперва выяснилось, что зрительный зал почти пуст, что заполнены немногие ложи, а в партере унылый пейзаж оживляют лишь несколько пёстрых меховых плащей — помещение, казалось, заморозили навсегда. Интендант театра барон фон Браун намеренно не отапливал его, справедливо опасаясь, что сборы не покроют расходы на дрова.
Для Бетховена же пустой зрительный зал был показателен ещё в одном отношении. Он подтверждал его репутацию.
Ведь на премьеру пришли только непоколебимые «бетховианцы», а также небольшая группа тех, кому уже нечего терять.
И всё же, всё же... Он пружинистой походкой взошёл на дирижёрский подиум и коротко, чуть небрежно поклонился. Внимание! Начали! Моя Пятая симфония.
Монотонно загремели литавры — том-том-том! Том-том-том!
Ах, прохвосты! На репетициях они так упрямились, что он в ярости чуть не задушил их. Клементу и Зейфриду пришлось даже запереть его в артистической уборной! Но зато как великолепно, как слаженно играют они сейчас.
Вторая часть. Ему вовсе не потребовалось жестами обозначать её начало. Поразительно, какие чудесные звуки извлекали эти несчастные, забитые люди из своих инструментов. Просто бальзам на раны.
Последняя часть. Финал.
Он собирался прошептать: «Браво!» — как вдруг музыканты вскочили со своих мест и закричали: «Бетховен! Бетховен!» К нему потянулись руки, он сложил губы в подобие улыбки. Неужели они научились играть трудную для понимания, режущую слух музыку безумца Бетховена?
Он передал дирижёрскую палочку Клементу и ушёл за кулисы, чтобы размять для гибкости пальцы. Вернувшись на сцену, он сразу же подошёл к уставленному горящими свечами роялю, и на лице его появилось странное выражение. Он чувствовал себя «королём фортепьяно», обращающимся к подданным с тронной речью. Таковой он считал свой Четвёртый концерт.
— Готовы, Клемент? Хорошо. Аллегро модерато и дольче, дольче[83].
Он чуть наклонил голову, приближая ухо к клавишам. С такими квадратными ладонями и широкими подушечками пальцев, как у Клемента, только и играть «дольче». Он закрыл глаза, отчётливо представив себя сидящим за роялем. Но, увы, разговоры о глухом исполнителе окончательно отпугнули бы публику.
Сочиняя Четвёртый концерт, он постоянно думал об Орфее, спустившемся в подземное царство за своей Эвридикой и заворожившем обитавших там страшных богинь мщения своей волшебной музыкой. Он тоже Орфей, и вокруг него тоже парят тени, приближаясь всё ближе и ближе. Среди них и Жозефина, которую он также хотел извлечь из подземного царства невыносимой разлуки.
Так, а теперь рондо. Виваче! Виваче![84]
Он подался вперёд, непроизвольно махнул рукой, и светильники упали на пол. Двое хористов тут же бросились вперёд, чтобы поднять их, но Бетховен досадливо покачал головой, и они, подобно факельщикам, встали рядом с ним. Сфорцато и ещё раз эклат триумфалика[85].
Когда Шестая симфония закончилась и началось второе отделение, князь Лобковиц, понизив голос до хриплого шёпота, спросил сидевшего рядом гостя из Берлина:
— Для меня очень важна ваша оценка, господин Рейнхард.
Капельмейстер знал, что князь в каком-то смысле покровительствует Бетховену, и потому, поколебавшись, отозвался с любезной улыбкой:
— Так называемая пастораль настолько затянута, что у нас в Берлине или, к примеру, в Касселе её вряд ли решились бы исполнить для широкой публики. Ведь она по времени равна чуть ли не целому придворному концерту. То же самое можно сказать и о симфонии до минор. Разумеется, ваше сиятельство, в пасторали есть просто великолепные мысли и образы.
— А в симфонии?
— Могу лишь повторить свои слова. Что же касается фортепьянного концерта, то меня несколько смутил его чрезмерно быстрый темп. А этот прискорбный этюд с мальчиками и подсвечниками... Уж очень нелепо.
— По-моему, нам пора? — Лобковиц встал и сделал приглашающий жест.
— Да, ваше сиятельство. — Рейнхард также поднялся, — здесь невыносимо холодно, да, признаться, и довольно скучно. — Он окинул взглядом погруженный в темноту зал. — Остался один-единственный зритель. Любопытно бы узнать, кто он.
— Русский граф. — Лобковиц перегнулся через балюстраду. — Его имя... его имя... Правильно, Виховский.
— Получается, что по окончании концерта господин ван Бетховен поклонится одному зрителю. — Глаза Рейнхарда посуровели, губы поджались. — Если такое произойдёт, я, ваше сиятельство, больше ни одной ноты не напишу.
В Сочельник, предшествовавший новому, 1809 году, он приступил к партитуре нового фортепьянного концерта ребемоль мажор.
Неужели из-за этой академии с её дурной репутацией он должен вечно пребывать в летаргии? Он и так ничего не делал целых восемь дней. В уши к нему будто залезли крысы и начали прогрызать ходы к мозгу, живот словно набили раскалёнными углями. Временами он лежал на кровати, не в состоянии подняться, а тело его от диких болей в голове и желудке то сворачивалось в клубок, то снова распрямлялось. Признак старости? В тридцать восемь лет? У Баха многократное переписывание нот отняло зрение. Есть ли что-либо более губительное для здоровья, чем искусство? Но с этим никто не считается.
На грудь всё сильнее давила изнутри свинцовая тяжесть. Может, уехать к королю Жерому? Или лучше остаться в Вене? Он никак не мог сделать окончательный выбор. Конечно, став придворным капельмейстером, он сможет жениться на Жозефине, но при одном слове «двор» у него обострялись желудочные колики. «Завтра снова веселимся!» Неужели обманутые революционеры отдали свои жизни ради того, чтобы получивший вестфальскую корону младший брат Наполеона мог каждый день веселиться? Нет, даже ради любимой женщины нельзя отказываться от своих взглядов.
А Вена? Здесь правит окружённый старцами в напудренных париках император Франц. В его замках такие богохульные слова, как «свобода» и «человечность», нельзя произносить даже в подсобных помещениях.
В поисках ответа на щемящие душу вопросы: в чём смысл жизни? в чём причина его неудач? — он вдруг решил посвятить «Героическую симфонию» сестре.
Пьянящая торжественная импровизация фортепьянного соло концерта! Следом оркестр играет музыку, пронизанную непреклонной верой в победу! Затем... Затем марш! Непрерывный марш! Призывно гремят трубы, возвещая о начале вечной революции во имя добра и справедливости...
Работалось ему, как никогда, легко. Первая часть оказалась даже больше первой части «Героической симфонии». Си мажор поразил красотой даже его самого. А вокруг основной темы как бы вились триоли.
Один за другим слетали листки календаря, и вот уже на дворе середина февраля и нельзя больше откладывать занятия с эрцгерцогом Рудольфом. Ничего не скажешь, принц отличался добротой и искренностью, но дорога в Шёнбрунн представлялась Бетховену подъёмом на крутую гору — таких она требовала от него усилий. Он отправил эрцгерцогу чуть ли не дюжину записок, в которых объяснял невозможность дать урок самыми невероятными причинами. Сегодня принценова ждал его.
Бетховен тяжело вздохнул. Он сам себя называл «свободным музыкантом», но по-настоящему свободным можно стать, лишь избавившись от необходимости зарабатывать себе на жизнь. А так всё время приходится думать об этих отягощающих мозг и душу дукатах...
Но сегодня хоть выдался прекрасный день, Вена была покрыта сверкающим снежным покровом, и ослепительная голубизна неба как бы предвещала скорый приход весны.
Правда, в дворцовом парке его застигла метель, и, продираясь сквозь снежный вихрь, он принял окончательное решение. Прощальным взором окинул оба великолепных фонтана и почему-то вспомнил безумные цифры: в Шёнбрунне насчитывалось 1441 комната и зал и 139 кухонь. Они предназначались для одной семьи!
В одном из бесконечных, освещённых свечами в чёрных, инкрустированных канделябрах коридоров Бетховен встретил принцессу Марию-Луизу, о которой ходили довольно странные слухи. Неужели стоило верить бесстыжим пьяным речам в замке Грэц: дескать, его величество Наполеон пожелал развестись, чтобы затем...
Двоюродная бабушка этой очаровательной девушки, дочь австрийского императора Мария-Антуанетта была признана виновной перед французским народом и взошла на эшафот. Лившиеся с него потоки крови вознесли корсиканца на вершину власти. В результате он, некогда презираемый и отвергнутый высшим обществом, сам сделался императором Франции и собрался жениться на принцессе из дома Габсбургов. Что крылось за этим намерением: желание потешить своё самолюбие или хитрый расчёт?
При виде Бетховена принц немедленно захлопнул книгу:
— Вы очень редко появляетесь, маэстро. Не ученик ли этому виной? Если да, обещаю исправиться.
— Ваше императорское высочество...
— Ну зачем же так официально? Давайте, когда мы одни, обходиться без формальностей. Ну, рассказывайте!
— Первая часть фортепьянного концерта готова. Если вы не против, я сейчас сыграю её.
Бетховен сел за рояль, долго смотрел на клавиши и потом отрицательно покачал головой.
— Без оркестра вы не получите должного впечатления от концерта...
Он неопределённо повёл плечом и после некоторого колебания медленно встал.
— Должен признать, что это не основная причина. Сегодня мой прощальный визит к вам. Я решил принять предложение короля Жерома.
— Понятно. Вы уже написали ему?
— Ещё нет, но непременно напишу. Мне не остаётся ничего другого.
Он начал торопливо расхаживать по комнате. Развевались полы его голубого сюртука, сверкали начищенные до блеска медные пуговицы. Даже белые шёлковые чулки, новые туфли с пряжками подчёркивали его решимость.
— Я не могу больше оставаться в Вене, принц. Издатели вечно задерживают выплату гонораров, а деньги, которые я зарабатываю уроками и концертами-академиями, можно смело назвать чаевыми. Человек искусства, разумеется, не должен жить в роскоши, но хоть какой-то постоянный доход он обязан иметь.
— Я прекрасно понимаю вас, маэстро. — Грустные глаза принца словно подёрнулись пеленой.
— Скажу прямо, я отнюдь не в восторге от собственного выбора, но давайте утешим себя девизом моего будущего повелителя: «Завтра снова устроим веселье!»
— И вы настолько «развеселились», что теперь не в состоянии даже дать мне на прощанье последний урок?
— Увы, принц, мне нужно срочно в город.
— Вообще-то мне тоже. Позвольте вас подвезти, маэстро.
Принц дёрнул шёлковый шнур с колокольчиком, и на пороге комнаты немедленно возник лакей:
— Слушаю, ваше императорское высочество?
— Пожалуйста, подайте карету.
— Какую именно желают ваше императорское высочество? Запряжённую четвёркой или шестёркой лошадей?
— Двуконную, — принц поднял на лакея серьёзный взгляд, — и ни в коем случае не парадный экипаж.
Лакей с поклоном осторожно закрыл за собой дверь, и тогда Рудольф чуть снисходительно улыбнулся:
— Я, правда, как будущий священник не верю в разного рода приметы, но считаю, что, если хочешь нанести визит удаче, нельзя это делать сразу в запряжённом шестёркой лошадей парадном экипаже. — Он помолчал, а потом негромко, но веско произнёс: — Вот только удача всегда обходит меня стороной, маэстро.
Спустя несколько часов в квартиру Бетховена настойчиво постучали, и через несколько минут эрцгерцог Рудольф стоял у секретера, внимательно глядя на удивлённо вскинувшего голову Бетховена.
— Ваше императорское высочество изволили навестить меня? — Он хотел было встать.
— Нет-нет, сидите, сидите, маэстро. Письмо его величеству Жерому? — Снимая плащ, он невольно стряхнул серебристые капли тающего снега на бумагу, и чернила расплылись. — Полагаю, вам не следует отправлять его. Разрешите присесть? — Глаза юного принца сверкнули весёлым блеском. — Только, ради Бога, не спешите обрушить мне на голову стул. Я всё-таки веду себя более сдержанно, чем Лихновски. Сперва мы объявляем, что отныне вы находитесь под домашним арестом.
Условия самые благоприятные: вас не запрут в комнате или, скажем, в Шёнбрунне, не заточат в крепость, напротив, вам будет позволено давать концерты где угодно, даже во владениях его величества короля Жерома, едва не ставшего вашим совереном, но постоянным местом жительства нашего Людвига ван Бетховена останется Австрия, господин арестант. Когда я говорю «мы», то подразумеваю консорциум, в который помимо меня вошли также князья Лобковиц и Кински. Особенно я рад за Лобковица, ибо впервые этот мот потратил деньги разумно, а не выбросил их на ветер. Вместе с моим скромным вкладом причитающаяся вам в нынешнем году сумма составит четыре тысячи гульденов.
— Ничего не понимаю. — Бетховен осторожно поднёс ладонь к уху.
— Мне давно пора привыкнуть выражаться более ясно и чётко, иначе будущие прихожане ничего не поймут. — Принц недовольно покрутил головой. — Попробую ещё раз объяснить вам суть дела, маэстро. Вы будете получать от нас ежегодно упомянутые четыре тысячи гульденов за согласие остаться в любом из австрийских городов. Скажу откровенно, меня больше всего устроили бы Вена или то место, где я со временем получу посох архиепископа. Минуточку, я ещё не закончил. Эти деньги вы получите не за сочинение каких-либо композиций или уроки игры на фортепьяно, а исключительно за ваше присутствие в наших краях, маэстро, вплоть до скорбного конца. Нам просто захотелось сыграть злую шутку с господином Бонапартом и его многочисленной роднёй. У вас хоть немного улучшилось настроение, маэстро?
— Вы полностью изменили всю мою жизнь, ваше императорское высочество. — Бетховен смотрел на принца широко раскрытыми, полными слёз радости глазами. — Поверьте, я говорю совершенно искренне.
— Хорошо, хорошо, — с улыбкой прервал его эрцгерцог. — Я бы с великим удовольствием назначил вас императорско-королевским капельмейстером, но, к сожалению, это не в моей власти. А теперь позвольте мне сесть за рояль.
Вскоре лицо Бетховена выразило неподдельное изумление.
— Чёрт возьми... извините, принц, что вы играете?
— Вам моё произведение совсем не нравится? — В голосе Рудольфа звучало лёгкое раздражение.
— Вы... стали сочинять музыку?
— Да, и начал с марша.
— Что-что-что?
— Объявлен призыв богемского ландвера. В Вену поступают донесения о неслыханном воодушевлении. Так пусть же они двинутся против корсиканца под звуки моего марша.
Подумать только, получить в качестве первого взноса две тысячи гульденов! Две тысячи! Одновременно где-то в глубине души он ощущал неловкость. Внутренний голос как бы предостерегал его от этих огромных денег. Видимо, потому, что сочувствовавший революционным идеям и борцам за счастье человечества попадал таким образом в зависимость от титулованных особ. Но в этом несовершенном мире не обойтись без компромиссов, и потом, принц Рудольф — прекрасный человек. Но сейчас Бетховена гораздо больше занимала ситуация с почтой. Ну почему письма идут так долго?
Он также написал в Бонн, в прекрасный приход Святого Ремигия, прося прислать нужное для некоей церемонии свидетельство о крещении. Получив небольшой, но очень важный для него листок бумаги, он тут же отправился с гастролями в сражающуюся за свободу Англию и Испанию, где всё более усиливалась борьба против ненавистного корсиканца. Эти поездки ни в коем случае нельзя было откладывать, ибо глухота его чуть ли не с каждым днём усиливалась. Может быть, по пути в Испанию ему удастся заехать в Швейцарию и навестить временно поселившуюся там у сестры Жозефину, а заодно обсудить с Песталоцци[86] наиболее подходящие методы воспитания детей...
Его размышления прервал шумный приход Цмескаля. Граф подобно тамбурмажору размахивал своей бамбуковой тростью и непрерывно выкрикивал:
— Та-та-та-рам, та-та-та-рарара! Та-та-та-рарара! Д-дидел-дидел-дидел-ди!
— Рановато вы сегодня заглянули в ресторан «Лебедь», ваше сиятельство. Или на вас подействовали какие-то важные события?
— И он ещё спрашивает! Пока ваше превосходительство просиживали за роялем и попусту тратили драгоценное время, тирольцы принудили французов к капитуляции.
— И кто же возглавлял их?
— Андреас Хофер! А эрцгерцог Карл вступил с войсками в Баварию и принялся раздавать населению афиши следующего содержания: «Народы Германии! Настал час искупления! Австрия призывает вас выступить против тирана!» А эти стихи вы знаете, ваше превосходительство?
Цмескаль встал в позу и продекламировал:
Готов я кровь свою пролить, И душу я свою отдам, Тебя, отечество, спасу! Оно священно для меня! Я верен слову своему! Свободным станешь ты! Оковы мы с тебя сорвём!— Их написал недавно Фридрих Шлегель[87]. Богемский ландвер очень серьёзно готовится к предстоящим боям, и, скажу откровенно, не только он.
— А чем занят император Франц?
— Эрцгерцог Карл — вот истинно народный герой.
Он вновь запел, отбивая тростью такт:
— Том-том-том! Том-том-том!
— Опять фальшивите! — презрительно процедил сквозь зубы Бетховен. — Марш написан в фа мажор, а вы поёте в до мажор, ваше сиятельство граф-обжора.
— Что? Да я, можно сказать, впитал этот марш с молоком матери. Я в нём каждый звук нутром чувствую.
— И кто же написал его?
— Откуда мне знать. Старинные марши создаются обычно как-то сами по себе, без участия композиторов. Сейчас его распевает вся Вена. Сочинитель никому не известен. Небось сгинул во тьме веков.
— Лучшей похвалы для композитора просто не придумаешь, — засмеялся Бетховен.
— В каком-то смысле да.
— Ты меня неверно понял, граф-обжора. Марш написан четыре недели тому назад, и уже всем кажется, будто они чуть ли не с детства знают его.
— Уж не ты ли сам его сочинил?
— Вместе с эрцгерцогом Рудольфом. Будущий архиепископ долго барабанил по роялю, намереваясь создать марш для богемского ландвера. Я внёс свою лепту, и мы вместе с принцем отправились в Шёнбрунн подписывать указ.
— Я ещё раз совершенно официально спрашиваю вас, господин ван Бетховен. — Лицо Цмескаля застыло и напоминало теперь маску. — Вы утверждаете, что...
— Именно так.
— Тогда мне нечего добавить. Всего доброго.
Он стремительно, почти бегом покинул комнату. Бетховен задумчиво поглядел ему вслед. Видимо, народы и впрямь поднялись на борьбу с предателем, к которому он вновь стал испытывать определённые симпатии.
Понять себя он никак не мог.
Была уже почти середина мая, а он всё никак не мог получить необходимый для поездки документ.
Когда однажды вечером Бетховен, не выдержав, ворвался вихрем в почтовую контору, почтмейстер посмотрел на него так, словно он свалился с луны.
— Да из города ни одна мышь не прошмыгнёт и, надеюсь, ни одна кошка не проберётся в него. Мы полностью окружены.
Выходит, он попался на удочку, как последний простак.
Усталой шаркающей походкой брёл он по пустынным улицам. Случайно попадавшиеся по пути знакомые торопливо бросали две-три фразы и убегали прочь, спеша домой.
Проклятая война!
Все его друзья уехали — принц Рудольф вместе с императорской семьёй, Кински, Лобковиц, о котором он теперь часто вспоминая. Хотя нет, в Вене ещё оставался Стефан фон Бройнинг. Он ходил с понурым видом, не обращая ни на кого внимания, ибо никак не мог оправиться после смерти горячо любимой жены. А ведь женился он совсем недавно...
Что, неужели музыка? Та-та-рам! Тата-рам! Тата-рарара!..
Его марш... Значит, солдат ландвера вновь отправили сменить других на позициях или возводить укрепления. Эрцгерцогу Максимилиану было поручено защищать город от наступавших войск Ланна и Бертрана. Но как он мог отстоять Вену, имея в своём распоряжении лишь шестнадцать тысяч солдат линейных войск и ландвера вкупе с тысячью студентов и ополченцев? Под императорские знамёна призвали даже художников и музыкантов, которые умели обращаться с кистями и тромбонами, но никогда не держали в руках мушкеты.
И всё же если бы венскому гарнизону удалось продержаться хотя бы десять дней, к нему на помощь подошёл бы с главными силами кумир народа эрцгерцог Карл. Неужели император Франц и впрямь в душе завидовал своему брату?
Дома Бетховен подошёл к окну и не поверил своим глазам. Нет, это был не мираж Французы действительно уже подступили к стенам Вены и теперь, как и австрийские солдаты, копошились, подобно пчёлам, и рыли землю, словно неутомимые кроты. В городе строили редуты и баррикады, а на одной из его окраин французы по непонятной для Бетховена причине строили дом. Мундиры и шлемы с шишаками ярко сверкали в лучах заходящего солнца, с земли поднимались клубы пыли от штукатурки. Изредка слышались резкие хлопки, после чего один из солдат непременно вскидывал руки, как бы протягивая их к солнцу, и тяжело оседал вниз.
Проклятая война!
Вскоре город погрузился во тьму, прорезаемую светом факелов. Про сон стоило сегодня забыть. Может, вернуться к любимому занятию? Он вынул из секретера набросок «Прощальной сонаты» и отметил на ней день отъезда эрцгерцога Рудольфа.
Соната должна была состоять из трёх частей: «Прощание», «Время разлуки», «Встреча».
Бум!.. Бум!..
Нет, в эту ночь можно только продолжить работу над учебным пособием, которое он взялся составить для принца. В него должны были войти отрывки из сочинений Фукса, Кирнбергера, Тюрка, Филиппа Эмануэля Баха и из других доставивших ему столько мучений учёных трудов. Многое уже устарело, кое-что он сам отбросил за ненадобностью, ибо время никогда не останавливается.
За окнами каким-то ядовито-резким светом занимался новый день. Или это было что-то другое?
Раздался страшный грохот и треск. Дом, казалось, покачнулся. В оконных стёклах сверкнули красноватые вспышки. Стреляли то ли десять, то ли двадцать, а может, больше гаубиц. Вылетевшие из их жерл ядра уже пробили брешь в городской стене.
Кто-то распахнул дверь с безумным воплем:
— Немедленно спускайтесь в подвал! Мы оказались на линии огня, и снаряды могут залететь к вам в комнаты!
Видимо, сосед говорил совершеннейшую правду, и на какое-то мгновение Бетховен ощутил безумное желание узнать, что может учинить смертоносный снаряд в его квартире, показавшейся сейчас вдруг живым существом, которому не оставалось ничего другого, кроме как терпеливо ждать уготованной ему людьми участи.
Но его ноты, рукописи!
Его охватила дикая паника. Новый залп, нарастающий гул, ухающий разрыв и оглушительный треск. Он не мог оттащить свои нотные записи в подвал, для этого уже не было времени.
Но внутренний голос подсказал ему: нужно спасти нечто гораздо более ценное.
Взрыв сотряс дом, на пол со звоном посыпались осколки.
На лестнице он замер, беспомощно вертя головой. Что же он держал в правой руке? Ну хорошо, в левой он нёс свечу, а в правой... подушку!
Ну да, конечно, свыше тридцати лет минуло с тех пор, когда в Бонне в замке вспыхнул пожар, и тогда люди тащили из домов совершенно бесполезные и ненужные вещи. Так, может, ему выбросить подушку?
Вновь послышался угрожающий гул, завершившийся страшным грохотом. Осторожно, чтобы не выронить свечу, Бетховен стал спускаться по лестнице. Он поступил очень разумно, взяв с собой именно подушку. Она спасёт ему остатки слуха...
В подвале пахло плесенью, глаза щипало от сыпавшейся со стен штукатурки. Люди сидели, согнувшись, на ящиках и связках дров, на лицах была полная покорность судьбе. Кое-как одетые дети прятали головы в коленях матерей, их маленькие тела судорожно вздрагивали при каждом разрыве.
Всё-таки страх лишает человека разума! Именно сейчас он вспомнил песню, мучившую его ещё в Бонне. Все попытки аранжировать её потерпели полный крах. А теперь в его воспалённом мозгу под гром пушечных залпов вдруг зазвучало: «Радуйтесь Божьим знамениям, ибо прекрасны они...»
Ещё залп!
Неужели он сошёл с ума?
«Три произведения («Фиделио», «Христос на Масличной горе», «Месса до мажор») уже отосланы, теперь я хотел бы, разумеется, чтобы мне выплатили гонорар раньше, чем они прибудут в Лейпциг, так как я крайне нуждаюсь в деньгах...»
Он подчеркнул последние слова жирной чертой.
«...более того: мы нуждаемся в них гораздо больше, чем обычно, и виной всему проклятая война...»
Но всё было под большим вопросом. Неизвестно, прибудут ли его сочинения в Лейпциг, где находилось издательство музыкальной литературы «Брайткопф и Хертель». И даже если такое произойдёт, найдут ли там в столь трудное время возможность напечатать его произведения? И между прочим, проклятая война могла кончиться даже скорее, чем он успеет дописать фразу.
Завоёванная Вена должна была заплатить помимо двух миллионов гульденов ещё два миллиона франков, поставить Франции сто пятьдесят аршин полотна и двести тысяч аршин другой ткани. Нужно было срочно раздобыть спальные принадлежности для сорока тысяч человек и накормить лошадей овсом, коего требовалось семьдесят тысяч осьмин. Требовалось также десять тысяч вёдер вина, дабы утолить жажду господ офицеров. Для выполнения этих условий все владельцы домов и квартиранты обязаны были в принудительном порядке подписаться на заем.
Война выявила великое множество негодяев, которые зачастую вели себя гораздо более подло и мерзко, чем упоенные победой враги. Многие из них путём различных спекуляций подняли цены на хлеб до немыслимых высот и, без зазрения совести торгуя им, осеняли себя при этом крестным знамением. Внезапно пропали не только золотые и серебряные, но даже медные монеты. Оставалось только предположить, что бумажные деньги обесценятся быстрее, чем захудалый медный крейцер.
Проклятая война!.. Ведь в Асперне орлы корсиканца были уже ощипаны. В панике махая покрытыми пылью крыльями, они слетелись на расположенный посреди Дуная остров Лобау и напоминали теперь не гордых птиц, а жалких, попавших в ловушку крыс, которых только широкая полоса воды спасала от полного уничтожения.
Но почему же тогда император Франц не приказал атаковать их? Странно, очень странно. Неужели Цмескаль прав, утверждая, что он категорически запретил предпринимать какие-либо решительные действия? Но почему? Из зависти к брату? Или потому, что слепо следовал советам своего окружения? Во всяком случае, нельзя было не обратить внимания на слишком поспешную капитуляцию Вены. В июле французские офицеры вновь с наглыми улыбками прогуливались по её улицам.
Такова была расплата за кровопролитную битву при Ваграме[88], в которой эрцгерцог Карл потерпел поражение лишь потому, что у него оказались связаны руки. После перемирия в Знайме, окончательно развеявшего последние надежды на продолжение сопротивления, он сложил с себя полномочия главнокомандующего, и Наполеон вновь торжественно въехал в Вену. Судя по выражению его лица, он чувствовал себя повелителем Европы. Впрочем, так оно и было на самом деле.
Но самым непостижимым был рассказ о поведении императора Франца, которому совершенно не хотелось верить и о котором многие говорили, что это даже больше чем правда. Якобы он после битвы при Ваграме, радостно потирая руки, заявил: «Разве я не говорил вам, что конец будет именно таков? Теперь мы со спокойной душой можем вернуться домой».
Вот так себя повёл император Австрии и глава Священной Римской империи германской нации.
В один из августовских дней из заполонивших кухню Бетховена клубов дыма словно призрак возник директор театра Хартль со следующим предложением:
— А почему бы вам не написать музыку к сцене в пещере из «Макбета»? Ту, где ведьмы готовят своё варево. Чем здесь так воняет?
— Вы полный невежа, Хартль. — Бетховен, ковырявший вилкой в огромной сковороде, оскорблённо вскинул голову. — Я готовлю изысканное блюдо — жареную печень сдохшей французской лошади. Наш пострел, который везде поспел, я имею в виду Цмескаля, оказывается, располагает нужными связями даже на живодёрне. Вы хоть можете мне сказать, Хартль, сколько времени нужно готовить лошадиную печень? Час или два? Я жарю её уже полчаса, но она становится всё жёстче и жёстче.
— Похоже на маленькую чёрную змейку, извивающуюся в жире, — глубокомысленно произнёс Хартль и, приложив к губам набалдашник из слоновой кости, склонился над сковородой. — Это колёсная мазь?
— Возможно. А почему вы так стараетесь улучшить моё положение? Из симпатии ко мне?
— Мой дорогой, славный...
— Оставьте, Хартль! — с ехидством в голосе перебил его Бетховен. — Я прекрасно знаю, чем кончаются такого рода кантилены. И потом, лестью я сыт по горло. Скажите лучше, я должен буду играть или дирижировать бесплатно? Или от меня требуется ещё что-нибудь?
— Второго сентября академия...
— Концерт? В какое время?
— Я собираюсь устроить представление в пользу бедных актёров, вдов, сирот и ветеранов нашего Венского театра. Поймите, Бетховен, сейчас у французов очень много...
— ...награбленных денег. Довольно убедительный довод.
— Может быть, даже удастся убедить императора Наполеона милостиво согласиться занять ложу... Надеюсь, вы меня понимаете.
— Неплохая идея. — Глаза Бетховена сузились и полыхнули злым огнём. — А как насчёт программы?
— Всё на ваше усмотрение.
— Даже так? Тогда, может быть, возьмём в качестве прелюдии увертюру к драме Коллина «Кориолан»? Там, помнится, главный герой — изменник. В конце пусть прозвучит моя Пятая симфония, она также весьма поучительна, ну, а в середине как Piece de persistence[89] моя «Героическая симфония».
Хартль недоумённо вскинул брови и, видимо, хотел было возразить, но лишь пробормотал маловразумительные слова благодарности и поспешил откланяться. Бетховен проводил директора театра до порога.
— На сей раз я руководствуюсь не слишком благородными мотивами, друг мой. Пока я буду рвать зубами лошадиную печень, поразмыслите хорошенько над программой.
Маркиз де Тремон передал приглашение императору, но Наполеон накануне концерта отбыл в Париж.
Французы предпочли отправиться в Бургтеатр[90], где труппа одного из парижских театров ставила французские пьесы и оперы, и это, собственно говоря, было в порядке вещей.
Но немцы, которым гораздо более пристало посещать немецкие оперы или концерты немецкой музыки, также толпами устремились в Бургтеатр, показав тем самым, что полностью утратили чувство национального достоинства.
Бетховену пришлось дирижировать перед почти пустым залом. Через несколько дней он зашёл в книжную лавку и убедился, что на её прилавках нет ни одной немецкой книги. Проклятый венский сброд, разом позабывший имена Гёте, Шиллера, Лессинга и Иммануила Канта! Их словно никогда и не было на свете.
Он решил просмотреть свежие номера журналов и зашёл в кофейню. Господа французские офицеры курили, естественно, не доступный для простых смертных хороший английский табак. Изданные их повелителем законы предназначались вовсе не для них.
Теперь и здесь всё было устроено на французский манер. В верхнем углу каждой газеты красовался наполеоновский орёл, а французские офицеры гордо, как петухи, расхаживали между столиками, звеня саблями и шпорами, и преимущественно произносили только одно слово:
— L’empereur! L’empereur!
Бетховен, не помня себя, так сильно ударил кулаком по столу, что на нём подпрыгнули и задребезжали пустые чашки, и заорал, глядя прямо в лицо одному из офицеров:
— Да если бы я разбирался в стратегии так же, как и в контрапункте, вашему императору пришлось бы очень несладко! Я бы уничтожил его!
Французы шумно загомонили, перебивая друг друга:
— Что он сказал?
— Он оскорбил императора?
Один из офицеров поспешил успокоить своих собратьев по оружию:
— Не стоит обращать внимания на слова безумного музыканта Бетховена. — Он поднял бокал с шампанским. — Я пью за победу вашего контрапункта над пушками повелителя Европы!
Все дружно расхохотались, а Бетховен в ярости закричал:
— Я принимаю вызов! Что такое повелитель Европы по сравнению с повелителем всего мира?
Затем он буквально пулей вылетел из кофейни.
Это время называли «смертоносным миром», но, очевидно, оно несло смерть исключительно доброму и хорошему, давая жизнь всему подлому и злому.
Какие надежды он возлагал на своего ученика эрцгерцога Рудольфа! Он так хотел исполнить в Шёнбрунне свои Седьмую и Восьмую симфонии! Ничего не получилось. Помешали интриги и гнусное поведение обоих государей. Император Франц откупился от Наполеона своей дочерью Марией-Луизой[91] и отдал на расправу оккупантам героически сражавшегося с ними предводителя тирольских повстанцев Андреаса Хофера. В свою очередь, король Пруссии предал майора Шиля и его офицеров. В глазах Бетховена они были недостойны звания коронованных особ.
Со слухом дела обстояли всё хуже и хуже. Он уже почти смирился с этим, но теперь дьявол мучил и его тело. Компрессы из волчатника не принесли никакой пользы, равно как и пиявки, которых ему прикладывали за ушами и к животу. Затем доктор Мальфатти, его лечащий врач после смерти доктора Шмида, безапелляционно заявил:
— Пиявки сделали всё, что могли. Увы, но Борей[92] вам лютый враг.
Доктор Мальфатти брал за визиты весьма солидную плату и, наверное, мог придумать что-нибудь получше. В другое время года он, безусловно, возложил бы вину не на северный, а на западный ветер, именуемый Зефиром.
Не прибавила здоровья история с «Эгмонтом». Дирекция Венского театра пожелала создать музыкальное оформление не только для этой пьесы Гёте, но и для «Вильгельма Телля» Шиллера. Бетховен хотел написать музыку именно для неё, но тут ему дорогу перебежал гораздо более известный композитор господин Гировец, и сделал он это исключительно из зависти и подлости. Впрочем, точно так же поступил и камерный композитор[93] и придворный капельмейстер Сальери, издавший распоряжение, смысл которого уж никак нельзя было истолковать превратно.
Согласно ему, любой музыкант, хоть раз сыгравший произведение Бетховена, подлежал немедленному увольнению из оркестра господина Сальери без права приёма обратно.
От грустных размышлений Бетховена оторвал приход маленькой девочки, которая иногда приносила ему почту.
— Ты пришла с доброй вестью?
— Не знаю.
— Так, одно письмо из Фрейбурга в Брейзгау, значит, от близкого друга, а другое из Кобленца. Спасибо.
— Пожалуйста. — Она с поклоном присела, но не торопилась уходить.
— Ты свободна.
Девочка подёргала за кончики своих косичек.
— А, понимаю, ты хочешь есть, бедное дитя?
— Да.
Бетховен улыбнулся. Он любил детей, ибо они вели себя совершенно естественно, без всякой фальши. К сожалению, взрослея, они овладевали искусством лжи и притворства. Он вскрыл перочинным ножиком первый конверт и перехватил заворожённый взгляд девочки, устремлённый на стоящую на шкафу пёструю фарфоровую конфетницу.
— Возьми из неё сколько захочешь.
Он всегда держал для детей конфеты про запас, но, видимо, не только поэтому маленькие существа совершенно не боялись его.
Перебравшийся в Кобленц Шиндлер наконец-то прислал долгожданные документы.
Читая их, он недоумённо покачивал головой.
Оказывается, ему приписали дату рождения его покойного брата Людвига Марии, и теперь он может смело сбросить два года. Надо же, какой приятный сюрприз.
А что пишет ему бедолага Гляйхенштейн? Бетховен внимательно прочёл письмо, потом ещё раз пробежал его глазами и медленно опустил руку с зажатым в ней листком бумаги.
В своём последнем письме к нему Бетховен просил ничего не скрывать от него, и верный Игнаций именно так и поступил.
Нет, в этом мире у него не будет счастья. Нужно создавать свой собственный мир, преодолевая громоздящиеся на пути препятствия — откровенную вражду многих известных и влиятельных людей, почти полную глухоту, одиночество и ощущение бессмысленности своего дальнейшего земного бытия.
Туман, в котором он все эти годы искал свою «вечно любимую», наконец-то рассеялся.
Вдова графа Дейма ныне носила титул баронессы фон Штакельберг. Конечно, нищий музыкант по сравнению с её нынешним мужем, даже если он, по словам Гляйхенштейна, лицемер и ханжа, кажется полнейшим ничтожеством. Дворянский титул оставался таковым, невзирая на крайне сомнительные подчас методы его приобретения. Фриз стал графом за деньги, нажитые его родителями на торговле с лотка. Если же говорить о российском после графе Разумовском... Известно, что менявшая любовников как перчатки императрица Екатерина II наряду с Салтыковым, Понятовским, Потёмкиным, Орловым и различными лейб-гвардейцами затащила к себе в постель также братьев Разумовских, проявивших такую недюжинную мужскую силу, что её величество сочла их достойными высокого дворянского звания...
Он вскочил как ужаленный и уже хотел было разорвать в клочья, растоптать ногами свою «Прощальную сонату». Ведь именно так он поступил в своё время с титульным листом «Героической симфонии».
Ну нет...
Это был бы чисто детский поступок! Ведь сонату уже выгравировали на меди, хотя и дали ей режущее слух название «Les adieux»[94], поскольку французский дух заползал во все щели... И потом, он же посвятил её эрцгерцогу Рудольфу.
Нет, эту боль не вырвать из сердца и не растоптать ногами.
Отныне у него остались лишь музыка и любовь к человечеству. Правда, он далеко не всегда хранил верность знамени, на котором был начертан этот лозунг. Что ж, он всего лишь человек...
Сильную боль нужно выплакать. Слёзы навернулись на глаза, вызвав из глубин памяти картину далёкого детства. Похоронная процессия, он, робко жмущийся к могильной ограде, и красивая статная женщина с окаменевшим лицом. Госпожа фон Бройнинг, ставшая для него как бы второй матерью, ведёт за руку Элеонору...
Почему-то вспомнились стихи Гёте, к пьесе которого «Эгмонт» он написал музыку:
Душа людская С влагой схожа. Приходит с неба, Взмывает в небо. И вниз на землю Готова снова, — Вечно меняясь[95].Он зажёг только одну свечу и разложил вокруг неё книги так, чтобы отблеск падал на чистый нотный лист.
Ведь это касалось только его.
В уме уже родилась мелодия. Аллегро модерато — соль мажор, а голос пусть звучит как трель си...
Ми-ре-си?..
Ну хорошо, а какой для этого голоса должен быть аккомпанемент? Фортепьяно? Нет, оно... оно звучит слишком позёмному.
Ну конечно, конечно, скрипка.
Это будет его истинно «Прощальная соната». Моя вечно любимая женщина. Нет, он ни в чём не упрекает её. Напротив, пусть судьба хранит Жозефину, а он будет вечно благодарен ей.
Поко аллегро! Это внушает надежду и даже придаёт немного уверенности. Нет-нет, не зря ему вспомнились именно эти строки Гёте. Надеяться нужно только на себя, на свою душу, которая с влагой схожа, приходит с неба и взмывает в небо...
Теперь престо.
Изрядно возмужавший Карл Черни недоумённо смотрел на манускрипт, нижние ноты которого были присыпаны песком.
— Что это, маэстро?
— Ну-ка быстро за рояль! — зло выкрикнул Бетховен.
Он отложил манускрипт в сторону, медленно прошёлся взад-вперёд и уже более спокойным голосом произнёс:
— Скажи...
— Да, маэстро?.. — Карл уже сидел за роялем.
— ...Понимаешь, в эти дни в Гевандхаузе[96] впервые будет исполнен мой фортепьянный концерт ре-бемоль мажор, и я подумал, а может, венцы его тоже пожелают услышать. Как полагаешь, кто бы смог его исполнить?
— Никто, кроме вас, маэстро.
— Дурак!
Он заявил это так резко, что Карл понял: маэстро из-за своей глухоты уже не отваживается выступать на концертах.
— Может быть, господин Хуммель, маэстро?
— Которого считают своего рода Папой Римским среди пианистов? Нет, он засел в своём Ватикане, не замечая, что уже обнаружены новые пути, ведущие в Рим. Вольфль? Он играет исключительно Моцарта, а при всём моём уважении к гениальному композитору я бы всё-таки хотел ощутить в моём произведении частицу собственного духа. Ну напряги же свои молодые мозги, Карл. Выходит, ты никого больше не знаешь?
— Нет...
Наивное дитя! Даже не заметил в разговоре, что выбор учителя уже давно пал именно на него.
Бетховен вынул ноты фортепьянного концерта и начал лихорадочно перелистывать их.
— Естественно, технически это довольно сложно. — Он разложил перед Карлом на пюпитре ноты. — Ты исполнишь его!
— Я, маэстро? Но не на концерте же?
— Именно на концерте, если таковой состоится. Должна же мне быть хоть какая-то выгода или я напрасно так долго мучился с тобой? Начали!
Карл Черни набросился на клавиши, как хищный зверь на добычу, и уже после первых аккордов на лице Бетховена появилась довольная улыбка:
— Подожди, не торопись, мой мальчик. Никто не займёт твоё место, и потому играй спокойнее. Не забудь: первая партия — это героическая песня о победе сил добра, справедливости и красоты, которую мы, творцы искусства, должны всегда и всюду возвещать. Вообще даже с точки зрения композиции концерт проникнут революционным духом. Помни: начинаешь с импровизации. Ещё раз начали... Хорошо, но пусть звучит ещё торжественней, ещё бравурней.
Они так увлеклись, что даже не заметили появления Цмескаля, и граф был вынужден, деликатно кашлянув, напомнить о своём присутствии.
— Должен сообщить вам, что в Гевандхаузе фортепьянный концерт ре-бемоль мажор исполнил Иоганн Шнейдер...
— Кто такой?
— ...и даже «Всеобщая музыкальная газета» была вынуждена признать... Вот послушайте. — Он вынул из кармана газету и нараспев прочёл: — «...что этот концерт привёл многочисленных слушателей в неописуемый восторг». Словом, полный успех. Поздравляю! Поздравляю! — Он отложил газету и радостно всплеснул руками: — Надеюсь, господин композитор не забыл, что я самолично отточил гусиные перья, коими он писал ноты для концерта, и сделал это с особым тщанием? Когда мы услышим его в Вене?
— Вот именно, когда? Я уже два раза напрасно предлагал его. Но ничего, когда-нибудь у публики будет возможность сравнить прослывшего виртуозом господина Иоганна Шнейдера с моим любимым учеником Карлом Черни.
— Ну всё, мне пора. — Цмескаль помахал свёрнутой в трубочку газетой. — Я её вам после занесу.
— Куда изволите направить свои стопы, граф-обжора?
— На встречу с Фризом, Лобковицем и Разумовским. Пусть знают, что мои гусиные перья — самые лучшие.
Он захлопнул за собой дверь, но тут же вновь приоткрыл её, и по полному, с обвисшими щеками лицу расплылась довольная улыбка.
— Удача, как и беда, не приходит одна. Почтмейстер просил передать: господину ван Бетховену поступил денежный перевод на весьма солидную сумму.
— От Колларда-Клементи? Двести фунтов, которые я уже отчаялся дождаться?
— Именно так.
— Тогда я, учитывая нехватку денег и падение курса на бирже, просто самый настоящий набоб, — сказал Бетховен и прищурился, будто целясь неизвестно в кого. — Кажется, счастье вдруг нашло меня. Уж не знаю, стоит ли опасаться новых ударов судьбы?
Его всё время, как корку, выбрасывало на поверхность, словно кто-то не желал дать ему утонуть. Теперь следовало подвести некоторые итоги. Он отдал в театр партитуру музыки к «Эгмонту» и почти завершил работу над Седьмой симфонией. Оставалось выполнить заказ «венгерских усачей из Пешта» и написать музыку, посвящённую торжественному открытию там нового театра. Не отличавшийся изяществом слога, довольно пошловатый текст под претенциозным названием «Афинские развалины» принадлежал перу господина фон Коцебу[97].
Зря, конечно, он не проявил твёрдости и согласился принять этот заказ, но, с другой стороны, далеко не всегда нужно показывать характер. Заказ устроили ему друзья, искренне желавшие Людвигу ван Бетховену только добра, а господин фон Коцебу как драматург добился, к сожалению, гораздо большей известности, чем Гёте и Шиллер, вместе взятые.
А он как раз пытался положить на музыку стихотворение Гёте «Ты знаешь край».
Бетховен изменил последовательность аккордов и начал импровизировать.
Внезапно чьи-то женские руки, прохладные и вместе с тем на удивление приятные, закрыли ему сзади глаза.
Жозефина? Нет, точно не она.
Он крепко вцепился в эти ладони и резко повернулся.
— Кто вы?
Огромные карие глаза озорно сощурились. Почему она так фамильярно ведёт себя? Девушка была ему совершенно незнакома. Она держалась непринуждённо, словно у себя дома, сняла шляпу, небрежно бросила её на рояль и тряхнула головой, распуская по плечам длинные волосы. Красивое лицо сохранило по-детски невинное выражение, хотя, несомненно, ей было уже за двадцать. В своём длинном белом плаще она показалась Бетховену сиреной, очарованию которых, как известно, противиться почти невозможно.
— Как вы думаете, кто я? Нет, вряд ли вы догадаетесь, господин ван Бетховен. Я Беттина Брентано.
— Ах вот как!..
Это имя было ему хорошо знакомо. В доме покойного надворного советника Биркенштока, теперь принадлежавшего Брентано, он провёл незабываемые часы.
— Значит, вы фрейлейн Беттина Брентано из Франкфурта? Решили посетить Вену? Замечательно...
— Ну зачем так официально! Мои друзья обычно называют меня просто Беттиной, а мой лучший друг Гёте именует «дитём». Вы тоже можете так меня называть, господин ван Бетховен.
Ну да, конечно, с её детским личиком... Тем не менее довольно странное желание для уже взрослой девушки.
— Как поживает ваша золовка Антония и её очаровательный брат Франц? Я, признаться, давно не был в доме Брентано. Как-то всё не получается. Эрцгерцог Рудольф купил коллекции? Я постоянно забываю спросить его. Или дом Биркенштоков-Брентано по-прежнему представляет собой музей, где собраны роскошные гравюры на меди, карты древних государств и жёлтые одеяния китайских мандаринов?
— Это все вы можете там найти.
— А что поделывает моя любимица Макси?
— Она стоит у окна и ждёт.
— Чего?
— Вас, господин ван Бетховен. Впрочем, Франц и Антония объявили меня полной и к тому же чрезмерно самонадеянной дурой, когда я обещала им сразу же забрать и привести вас в наш дом. Они сказали, что вы стали настоящим отшельником и никого к себе не подпускаете. — Беттина лёгкой пружинистой походкой прошлась по комнате и как бы невзначай взглянула через плечо Бетховена. — Ой, вы пишете музыку к моему любимому стихотворению Гёте? Пожалуйста, спойте, господин ван Бетховен.
— Но у меня ужасный голос.
Он беспомощно улыбнулся, чувствуя, что готов покориться Беттине, ибо в ней была та самая искренняя женственность, которой ему так долго не хватало. Насколько он помнил, Беттина была невестой поэта Ахима фон Арнима, но сейчас это не имело никакого значения, ибо он воспринял её как волшебницу, своими чарами заставившую его забыть о постылом одиночестве.
Когда он закончил играть, она сказала, как бы судорожно глотая слёзы:
— Я даже всплакнула, господин ван Бетховен. Нужно непременно отослать вашу композицию Гёте. Поверьте, он тоже не выдержит.
Но глаза её оставались совершенно сухими, в них не было боли.
— Я положил на музыку ещё одно его стихотворение.
— Я их оба отошлю ему, господин ван Бетховен, но теперь нам нужно идти. Я сегодня устраиваю большой приём. — Заметив его колебания, она вкрадчиво спросила: — Или вы хотите жестоко разочаровать маленькую Макси?
— Нет-нет... — Присутствие Беттины кружило ему голову, её голос журчал, как ручей, проникая в самую душу и теплом разливаясь по всему телу.
— Но только снимите этот старый потрёпанный сюртук. Иначе мне будет стыдно показаться рядом с вами, господин ван Бетховен.
Он недовольно пробурчал в ответ и отправился переодеваться. Вскоре они вышли на улицу.
— Подождите. — Бетховен вдруг замер и отвернулся. — Давайте выберем другой путь.
— Но почему?
— Потому что я не хочу идти мимо собора Святого Стефана, где меня подстерегает, правда с добрыми намерениями, патер Вайс. Сей славный человек вбил себе в голову, что сумеет исцелить Людвига ван Бетховена, накапав ему в уши какой-то чудодейственный эликсир. Вряд ли это поможет.
Они свернули на другую улицу, и Бетховен снова остановился в нерешительности.
— Придётся сделать ещё больший крюк.
— Ещё один патер...
— Нет-нет, здесь другое, — торопливо прервал он её, не желая объяснять причины своего столь странного поведения: ни в коем случае нельзя было проходить мимо галереи Мюллера, так как Жозефина с мужем сейчас находились в Вене и встречаться с ними ему очень не хотелось.
Возле дома Бегтина Брентано схватила его за руку.
— Слышите? — Она забыла о его глухоте и говорила вполголоса, тем не менее Бетховен понял её. — Некая дама из приглашённых. Имени её я не знаю, но хорошо помню, как перед моим уходом она усиленно упражнялась на рояле, чтобы потом блеснуть своим искусством перед маэстро.
В этот дивный майский день все окна в доме были широко распахнуты. Из них доносились исполняемые в стремительном ритме пассажи и аккорды «Лунной сонаты».
Он недоверчиво посмотрел наверх, подавляя в себе желание вернуться, как вдруг из дверей к нему бросилась маленькая девочка в пёстром платьице.
— Дядюшка Бетховен!
— Макси! Я прихватил с собой твои любимые конфеты.
— Не хочу. — Маленькая хрупкая девочка решительно покачала головой.
— Но...
— Я хочу только к тебе, дядя Бетховен. Пойдём, там все уже ждут тебя, но сперва навестим моих кукол.
Между церковью Святого Карла и гостиницей «Под луной» находилась принадлежавшая Штейну фабрика роялей.
Бетховену очень нравились здесь запахи дерева и используемой для полировки морилки. Раньше он с удовольствием лично опробовал новые инструменты, но сегодня торопливо прошёл мимо, к стеклянной двери, за которой двигались чьи-то тени.
У него вызывала раздражение затея Штейна (или эта мысль пришла в голову его зятю Штрейхеру?) устроить здесь своего рода музей гипсовых масок, снятых со знаменитых музыкантов. Недавно профессор Клейн получил заказ на маску Гировеца, написавшего музыку к «Вильгельму Теллю».
Тут он в очередной раз вспомнил отзыв на неё рецензента «Всеобщей музыкальной газеты»: «Хорошо продуманная, она придаёт драматическим образам ещё большую выразительность». Ну хорошо, о Гировеце хоть что-то сказали, а о музыке к «Эгмонту» даже словом не упомянули. Видимо, решили избрать в отношении Бетховена тактику полного замалчивания.
Ладно, об этом потом, сейчас ему предстоял серьёзный разговор со Штейном.
— Господин Штейн, оказывается, некто Эрнст Теодор Амадей Гофман[98] написал о Пятой симфонии восторженную рецензию и даже заявил, что меня следует поставить в один ряд с Гайдном и Моцартом.
— Ради Бога, господин ван Бетховен, не произносите вслух имени этого безумного советника Берлинской судебной палаты и автора историй о всяких ужасах! Одну из них я забрал у своей дочери Нанетт и немедленно бросил в печь.
Бетховен поднялся по двум ступеням к двери с медной табличкой, на которой было чётко выгравировано: «И. Н. Мельцель». Она была открыта, и Бетховену не было надобности нажимать на ручку звонка, после чего из домика у притолоки, растопырив крылья, вылетал железный петушок и скрипуче выкрикивал: «Ку-ка-ре-ку!» В этой квартире неожиданности подстерегали на каждом шагу, ибо её владелец был превосходным механиком и любил подшутить над гостями. Например, посадить их на стулья, истошно вопившие от малейшего прикосновения к ним.
Пройдя сквозь длинный полутёмный коридор, Бетховен увидел ожидавшего его маленького суетливого человека в сером халате.
— Садитесь, господин ван Бетховен. Нет-нет, кресло обычное, можете быть спокойны.
Иоганн Непомук Мельцель[99] служил в Шёнбрунне придворным механиком. Эрцгерцог Рудольф вызывал его всякий раз, когда требовалось что-либо отремонтировать. В конце концов Мельцель скопил достаточно средств, чтобы открыть в доме Штейна мастерскую.
— Мой слуховой рожок готов, господин Мельцель?
— Придётся немного подождать. А пока я приготовил для вас сюрприз. — Он вытащил из ящика утыканный иголками небольшой валик. — Пружина заведена, несли повернуть рычажок...
— И что же тогда произойдёт с этим таинственным ящиком?
— Вы же знаете, мой отец был органных дел мастером в Регенсбурге, и я ещё в детстве научился изготовлять органы самых разнообразных конструкций. Отец сперва был очень недоволен, ибо считал, что я принижаю его ремесло, но потом смирился. Я ведь ещё могу обучать игре на фортепьяно, но предпочитаю зарабатывать на хлеб изготовлением и починкой механических изделий. Если мне удастся наладить эту вещь, я заработаю больше, чем вы со всеми вашими симфониями. Уж не обижайтесь за откровенность.
— Что вы, что вы, я прекрасно понимаю вас.
— Так вот, этот прибор может заменить не только трубача, но также барабанщика и литаврщика. Написали бы вы мне что-нибудь для него, господин ван Бетховен, но такое, чтобы душа от счастья пела, и побольше бум-бум-бум. Не смейтесь, я лучше вас знаю, что нужно людям, — добродушно проворчал Мельцель. — Ну ладно, сейчас я покажу вам небольшое приспособление. По-моему, оно вам очень пригодится.
— Каким образом?
— Несколько месяцев назад вы жаловались, что исполнители ваших произведений часто берут неправильный темп.
— Не часто, а всегда. Я должен задавать им его, но не знаю как. В партитуре написано «адажио состенуто», но один играет анданте, а другой — ларго[100].
— Так, может, сей небольшой инструмент вам и впрямь поможет. Надо бы, конечно, немного улучшить внешний вид.
Мельцель поставил перед Бетховеном небольшой ящик, имевший форму пирамиды. В середине в определённой последовательности размещались надписи: ларго, адажио, аллегро, престо, а справа и слева были обозначены линии и цифры. Над шкалой был установлен маятник со сдвигающимся грузиком.
— Название я ещё не придумал, — внёс небольшое уточнение Мельцель. — Хронометр не подходит, поскольку таковыми являются все часы. В общем, это метроном, но особый, позволяющий устанавливать ритм любого музыкального произведения. Я сейчас заведу его. Какой желаете темп?
— Медленное адажио.
— Прекрасно, сдвигаем рычажок, скажем, к отметке «сто двадцать» и...
Маятник закачался под ритмические звуки: так, так, так, так, пинг, так, так, так, так, пинг...
— Внутри ящичка звенит серебряный колокольчик в четыре четверти тона. Если угодно, можно задать престо в три четверти тона. Рычажок справа сдвигаем к цифре три, и тогда всё перемещается к отметке «двести». Уже почти престиссимо[101].
Пинггата! Пингтата!
— Превосходно, Мельцель! Позднее нужно лишь перенести цифры на ноты, чтобы музыканты знали, какой приблизительно темп хочет задать композитор... Может, вы дадите мне метроном с собой, господин Мельцель. Он будет моей... музой.
— Кем?
— Глупая мысль, разумеется, — смущённо улыбнулся Бетховен, — но мне кажется, он вдохновит меня при работе над Восьмой симфонией.
— Только ненадолго, господин ван Бетховен. У меня пока только один экземпляр, я хочу потом дать его посмотреть кое-кому из наших светлых умов.
После его ухода Мельцель долго сидел, погруженный в раздумья. Затем он встал, потрогал острые штыри на валике и принялся расхаживать по комнате, не замечая, что разговаривает сам с собой:
— Механический орган я сделаю, но как мне помочь Бетховену? Ведь он поистине великий композитор. Что, что бы мне такое изобрести?
Так-так-так...
Бетховен угрюмо посмотрел на метроном. Он мог отбивать такты торопливо или, наоборот, с тягучей медлительностью, но всё равно каждый удар его маятника отмерял заодно и время. Уходил в небытие один день, начинался следующий...
Так-так-так...
Одолеваемый тяжёлыми предчувствиями, Бетховен сильно стиснул губы. Пятнадцатого марта 1811 года в силу вступил так называемый «финансовый патент», лишивший его половины назначенной ему друзьями пожизненной пенсии.
Теперь он будет получать не 4000, а лишь 1360 гульденов. Это было чистейшей воды кражей, но только узаконенной государством.
Да и вообще из этой пенсии он тогда получил только половину суммы. Ныне же у прекрасной сказочной птицы под названием «надежда» окончательно подрезали крылья. Оставалось ещё ощипать её и...
Ко всему прочему, ему приходилось содержать семью брата Карла, которому, несмотря на громкое звание чиновника для особых поручений финансового ведомства, вполовину урезали жалованье. Жену его Бетховен терпеть не мог, но он не мог допустить, чтобы голодал его юный племянник, которого также звали Карлом. У Иоганна же дела, напротив, пошли в гору. Он никогда звёзд с неба не хватал, но весьма преуспел в перепродаже французских лекарств и стал владельцем аптеки в Линце.
Слух Бетховена всё более ухудшался, и он, по настоятельному совету врачей, отправился в Теплиц, где литрами пил целебную воду, закапывал её себе в уши и истратил на эти лечебные меры последние деньги.
— Ну и как вы себя чувствуете после Теплица, господин ван Бетховен?
— Во всяком случае, пребывание там мне ничуть не повредило, дорогой Мельцель. В будущем году я снова поеду туда. Врачи лечили меня лошадиными дозами. Мало того, что вода уже не лезла в меня, пришлось ещё облить себя ею с головы до ног. Они хотели направить меня из Теплица в Карлсбад, а оттуда куда-то ещё.
— Но выглядите вы хорошо.
— Что я вижу, дорогой Мельцель! Секретер, изготовленный в самом модном имперском стиле?
— Ну не совсем. — Мельцель скользнул по лицу Бетховена хитрым взглядом и показал настоявший посредине мастерской предмет, действительно внешне напоминавший конторку. — Не бойтесь, господин ван Бетховен! Мой музыкальный Гомункулус не взорвётся.
Мельцель нажал где-то сбоку на рычажок, и внутри секретера сильно заурчало.
Бетховен приложил ухо к секретеру и раздражённо отошёл. На его лице появилась недовольная гримаса.
— Не беспокойтесь, господин ван Бетховен, я налажу его. Позднее он будет заводиться совершенно бесшумно. А пока потерпите немного. Есть!..
— Боже правый! — От неожиданности Бетховен даже отпрыгнул назад.
Раздался трубный сигнал, и секретер затрясся, как бы радуясь своей способности издавать звуки такой мощи.
— Славный голос, не правда ли? — Мельцель с наслаждением потёр руки.
— Да это страшнее, чем гром французских пушек! Немедленно выключите сей сатанинский инструмент!
В ответ Мельцель заорал во всё горло, стараясь перекрыть трубный гул:
— Пока не могу! Сперва нужно встроить туда соответствующее приспособление. Татера-трарэрэ-трарэрэ! — Он с удовольствием подпел и, подойдя вплотную к Бетховену, вновь начал кричать: — Вы присутствуете при историческом моменте! Во всём мире нет второго такого механического трубача! Лишь вчера мне удалось найти счастливое сочетание сигнальной трубы и кузнечных мехов.
Наконец трубный сигнал замолк, внутри секретера что-то проурчало, и наступила тишина.
— Как вам моё изобретение?
— Возьмите топор и изрубите его на куски. — Бетховен обессиленно рухнул в кресло.
— Моего механического трубача? — Мельцель даже закатил глаза от возмущения. — А разве вы не видите возможности?..
— Не понимаю.
— Мы с этим моим изобретением перешли рубеж новой эпохи, оставив в прошлом куранты и им подобные вещи. Мой трубач — родоначальник грядущей плеяды самых разнообразных механических музыкальных инструментов.
— Но ведь он только «тэтерэта» может исполнять. Французский кавалерийский марш.
— Ничего, ещё будут «чингдара» и «бумбум». Я сделаю из него пангармоникон. Да-да, именно так я хочу его назвать, ибо это будет не просто механический орган, а целая система длиной десять — двенадцать футов и примерно столько же высотой. Не стоит так пренебрежительно относиться к моему пангармоникону, господин ван Бетховен. Напротив...
— Ну продолжайте, продолжайте, — весело проговорил Бетховен.
— ...вам следует как можно скорее воспользоваться им. Так попросите же у меня разрешения сочинить с его помощью композицию...
— По-моему, механический трубач выдул вам последние мозги, — холодно остановил его Бетховен.
Выходя из квартиры Мельцеля, Бетховен у входа в выставочный зал встретил Штейна, сразу попытавшегося придать своему простоватому лицу выражение восторга, смешанного со снисходительным упрёком. Золотая кольчужная цепь обтягивала пухлый обвислый живот так туго, что, казалось, должна была воспрепятствовать его дальнейшему разрастанию.
— Подождите минуточку, господин ван Бетховен. Я уже давно сделал заказ профессору Клейну и сейчас...
— Какой заказ?
— Ну как же, господин ван Бетховен. — Выпиравшее из-под сюртука брюхо заколыхалось от такого наивного вопроса. — Он же должен снять с вас маску. Без неё моё собрание будет неполным. Пойдёмте, я провожу вас.
Не дожидаясь ответа, он семенящими шажками поплёлся впереди. Бетховен покорно побрёл следом.
— Ну как вам образец моего нового рояля? Стоит лишь слегка коснуться клавиш кончиками пальцев, как они тут же начинают звучать.
— Прекрасно, — небрежно бросил на ходу Бетховен.
— Вам тоже нравится? Вот и его императорское высочество архиепископ Рудольф в полном восхищении.
Так вот где собака зарыта. Теперь всё ясно.
— Знаете, господин ван Бетховен, это пустое место на стене над роялем, как бы это выразиться, не красит нас. Надеюсь, вы вскоре сможете уделить немного времени профессору Клейну. Мой зять Штрейхер хочет выставить в своём салоне не только вашу маску, но, возможно, также и бюст. — Он искоса взглянул на хмурое лицо Бетховена и поспешил сменить тему: — Вы были у господина Мельцеля? Небось он показывал вам свои механические музыкальные инструменты. Что бы Мельцель там ни утверждал, полагаю, они никогда не смогут стать достойными соперниками фортепьяно, скрипкам или, к примеру, гобоям.
— Я не столь категоричен, — иронически улыбнулся Бетховен. — У механических музыкальных инструментов есть одно бесспорное преимущество.
— Какое же, господин ван Бетховен?
— Их... их легче учить.
— Только честно, Карл. Кактебе концерт ре-бемоль мажор?
— Он столь же великолепен, как и все остальные его сочинения, господин фон Цмескаль.
— Истинно так, но только с предыдущими композициями связаны ужасные воспоминания. Он совершенно прав, когда говорит о «проклятом венском сброде». Целых два года прошло после триумфа в Лейпциге, пока наконец...
Карл Черни легко коснулся его локтя, застегнул сюртук и поправил галстук.
— Я начинаю готовиться к выходу.
С лёгким шелестом раздвинулся занавес, и воцарилась тишина.
В Карле Черни произошла странная перемена. Он вышел на сцену, скромно поклонился, сел за рояль и неожиданно со всей силой двумя руками выбил аккорд ре-бемоль мажор, как бы бросая вызов публике и говоря ей: я здесь посланец великого Людвига ван Бетховена!
В эти минуты он вспомнил все и мысленным взором окинул путь, приведший его сюда.
Утром он посмотрел на календарь. Сегодня 12 февраля 1812 года. За окнами унылый серый день, и маэстро, остро чувствующему погоду, точно было не по себе. Но наверняка он пересилил себя, сел за рояль и на протяжении многих часов упражнялся, совершенствуя технику игры. Он делал так каждый день, стремясь передать рукам свойства слуха. Казалось бы, отчаянная и совершенно бессмысленная попытка, но маэстро невозможно было отговорить. И потому он ежедневно засовывал голову под сооружённое для него Мельцелем над роялем приспособление, по форме напоминавшее колпак. Правда, этот усилитель звуков ему ничем не помог. Но маэстро продолжал изнурять себя, действуя вопреки не только божественной, но и сатанинской логике.
Князь Лобковиц вёл чересчур роскошный образ жизни, буквально швыряя деньги на ветер, в результате на его имущество за долги был наложен арест, и Бетховен перестал получать его часть пенсии. Кински из милости пару раз подбросил несколько дукатов, и только эрцгерцог Рудольф регулярно вносил свою долю. Знай принц подлинную историю с маской, он, несомненно, купил бы вместе с ней тот рояль. А так маска лежала, заваленная всяким хламом, в доме Штейна, и владелец фабрики музыкальных инструментов затаил злобу на Бетховена.
Но может быть, ему, Карлу Черни, удастся сделать так, чтобы маска оказалась на давно подобающем ей месте?
Господин Зейфрид уже застыл в напряжении, подняв дирижёрскую палочку. Ну, пожалуйста, господин Зейфрид, начинайте.
Рамм!..
Уже после первого каскада звуков Карл Черни проникся уверенностью, что сегодня всё будет как нельзя лучше и маска займёт пустое место на стене.
Рамм!..
Дирижёрская палочка метнулась вниз, и оркестр возвестил гордую, героическую тему.
А теперь вторая тема — ми минор! Тут для него главное — не начать подпевать в приливе радостных чувств. Пунктирный ритм басов, потом переход к соль-бемоль мажор! Блистательно! Нет, ну надо же, чтобы такое могло родиться в человеческой голове! Трубачи... трубачи берут простейшие натуральные аккорды, но как они звучат! Победа! Победа!
Тише. Музыканты, играющие на смычковых инструментах! Играйте кон сордино[102]. Эту трогательную песню он сам сочинил, а я... я обрамлю её цепочкой триолей. Звучат фанфары, и цепочка, сотканная из поистине жемчужных звуков, порвалась, и разорвалась незримая нить, связующая сцену и зрителей. Как это произошло? Я... я не смог долго держать публику в напряжении.
Но ничего, господин Зейфрид, сейчас мы соединим оборванные концы, сейчас пойдёт рондо! Аллегро! А теперь всё зависит от вас, господин Зейфрид, от оркестра и от меня, его любимого ученика, одним словом, от всех нас. Сейчас докажу, что заслужил это почётное звание, сейчас любимый ученик сыграет для своего любимого учителя маэстро Людвига ван Бетховена!
В перерыве Карл Черни бросился в гардероб и попросил своё пальто.
— Ну скорее, пожалуйста, скорее.
Вторая часть программы должна быть выдержана в лёгком жанре, и потому он хотел как можно быстрее уйти. Тут кто-то похлопал его по плечу.
— Вы нас просто заворожили своей игрой, Черни. Жаль...
Новый драматург придворного театра Теодор Кернер был приблизительно одного возраста с ним. Рядом стояла его невеста Антони Адамсбергер, совершенно прелестное создание, исполнявшая в «Эгмонте» роль Клэрхен и певшая на сцене песни на музыку маэстро.
— ...Мне искренне жаль вас, Черни. Не только вы, но также Зейфрид и весь оркестр поистине превзошли сами себя. Но... — Кернер приподнял плечи, показывая, что у него нет слов описать всю безнадёжность ситуации.
— Я готов взять вину на себя, Кернер.
— Нет, никого из вас не в чем упрекнуть. Но налицо явный провал. Даже самые ярые поклонники Бетховена не отважились сдвинуть ладони. Кто... кто сообщит ему о случившемся?
— Господин фон Цмескаль уже пошёл туда.
— Я ему не завидую, — скорбно вздохнул Кёрнер. — Я уже сказал, что вашей вины здесь нет. По нелепой случайности музыкальный сумбур, именуемый фортепьянным концертом, вклинился между живыми картинами в исполнении Тро, Пуссена и Рафаэля, способными удовлетворить самый взыскательный слух, и игрой в четыре руки фрейлейн Зесси и господина Зибони. Верно, Тони?
— Бетховена всегда заносило слишком далеко. — Она пробежала тонкими пальцами по изысканному ожерелью. — Возьмём, к примеру, его музыку к «Эгмонту». Я предлагала сделать мелодию «Плача, ликуя...» более утончённой. Он мне прямо сказал: «Никаких мордантов». Представляете, он спутал это слово с мордентом[103]. Мне было так стыдно за него, господин Черни.
— «Крейцерова соната» провалилась, сегодня тоже неудача. — Карл Черни задумчиво склонил голову к плечу. — Мне тоже очень стыдно.
— Могу лишь повторить: вы ни в чём не виноваты, — утешающе заметил Кернер.
Сверху донёсся знакомый каждой женщине шум. Шварканье тряпки о пол, громкий плеск воды в ведре.
Она поднялась на последнюю ступеньку и сквозь приоткрытую дверь увидела рояль, другие музыкальные инструменты, секретер и аккуратно, что совершенно не свойственно Людвигу, разложенные кипы нот.
— Добрый вечер.
Мывшая пол приходящая служанка подняла голову:
— Добрый вечер.
— Могу я поговорить с господином ван Бетховеном?
— Нет.
— А когда он придёт?
— Не знаю. Он уехал сегодня ночью.
Не успела! А ведь она могла прийти ещё вчера вечером. Ох уж эта нерешительность, вечные сомнения — самая губительная черта её характера.
— А куда он уехал?
— А в чём, собственно, дело?
Служанка с подозрением посмотрела на неё. Странная особа, скрывающая, несмотря на жару, своё лицо под вуалью.
Незваная гостья правильно истолковала её взгляд и откинула вуаль.
— Собственно говоря, это не так уж важно. Господин ван Бетховен старый друг нашей семьи и был бы очень рад моему приходу. Я хотела пригласить его к нам.
Зачем она лгала, зачем? Ведь речь вовсе не об этом.
— Он вернётся через две-три недели. — Служанка, кряхтя, поднялась и выжидающе уставилась на неё.
— К этому времени нас уже не будет в Вене. Могу я оставить ему записку?
Лицо служанки смягчилось. В конце концов, почему бы хозяину не получить письмо от давней знакомой. Может, оно ему на пользу пойдёт?
— Вы можете написать ему в Теплиц. Врачи посоветовали господину ван Бетховену съездить туда на лечение. Два-три дня он пробудет в Праге, а потом сразу отправится в Теплиц.
— Я даже знаю, где он остановится и там и там. Ну хорошо, спасибо.
Служанка присела с поклоном. Дама попыталась улыбнуться, но лицо у неё оставалось грустным. «Выходит, страдают не только бедняки», — сделала для себя вывод служанка.
Нависшие над городом серые клочковатые тучи как-то незаметно налились тёмной влагой, а затем выплеснули её на городские улицы.
Он вспомнил, что туманная пелена дождя так же висела над Веной в день отъезда и что всю дорогу по крыше почтовой кареты били крупные капли. Теперь ливень застиг его в Праге.
Промокший насквозь плащ свинцовой тяжестью давил на тело. Он повесил его на вбитый в дверь крюк и окинул беглым взглядом комнату.
Из открытых окон сильно дуло, ветер заносил внутрь брызги дождя, но это его нисколько не тревожило. Эрцгерцог Рудольф, милый, славный принц! Без его помощи он никогда бы не смог приехать. Пусть даже поездка окажется напрасной, пусть...
В Теплице очень многие хотели исцелить болезнь, именуемую скукой. Но это к нему никак не относится. Он присел и вытянул усталые ноги. Бетховен опустил тяжёлые веки, и перед его внутренним взором мелькнуло лицо человека, с которым он сегодня вёл переговоры и который обещал ему попытаться вымолить у князя Кински хотя бы несколько гульденов или дукатов в счёт пресловутой пожизненной пенсии. Князь — мерзавец, и вообще всё вокруг мерзко и отвратительно. Нужда воистину заставляет идти на всё, и тут уж не до морали.
Он с усилием встал и раздражённо щёлкнул пальцами, глядя на голые стены. В снятом из экономии самом дешёвом номере он чувствовал себя, как в давно не мытой клетке.
Какой здесь затхлый, спёртый воздух! Треснувшая миска для умывания, кувшин с отбитым носиком, заляпанное маленькое зеркало, забрызганные чем-то бумажные изображения святых над убогой кроватью.
Ну ничего, осталась только одна ночь, он попросил вечно сонного слугу разбудить его в четыре часа, а в пять он уже будет сидеть в почтовой карете.
Услышав скрип открывающейся двери, он недовольно оглянулся и замер.
— Да это я, Людвиг. — Она с усилием улыбнулась. — Добрый вечер. Я приехала из Вены на почтовой карете. ...Ты не хочешь ничего сказать мне или... — Она в страхе распахнула сверкавшие завораживающим блеском глаза: — У тебя совсем плохо со слухом? Я пришла, чтобы попросить у тебя прощения, Людвиг, ведь все эти годы я не заботилась о тебе. И я чувствовала, что не обрету покоя в душе, пока не выскажу тебе всё. Знаешь, как тяжело говорить такое, особенно женщине.
Она говорила не умолкая, стремясь словесным потоком заглушить страх. Она очень боялась, что он выгонит её из комнаты, не дав сказать самые важные, самые нужные слова.
— Само решение поехать сюда далось мне очень нелегко. Ведь я замужняя женщина. О твоём отъезде я узнала от служанки. Но в Теплиц, в это захолустье, я не хотела ехать. Город маленький, пойдут сплетни. А Прага город большой... Ну вот, я всё сказала, ещё раз прости меня, Людвиг, я... я... я пойду.
Она закрыла лицо руками, повернулась к двери, и этот её жест наконец вывел Людвига из оцепенения.
— Жозефина! — Он схватил её за руку.
— Ты ещё помнишь моё имя, Людвиг? — еле слышно спросила она.
— Что с тобой? — Его глаза сверкнули холодной сталью. — Что они осмелились с тобой сделать?
— Ты так беспокоишься обо мне, Людвиг... Но знаешь, мне так хочется услышать из твоих уст слова, навсегда запавшие мне в душу. Я понимаю, что не имею права, и всё же...
— Ты моя вечно любимая женщина...
— Людвиг!
Она припала к нему и стала покрывать поцелуями смуглое, изъеденное оспинами лицо, а потом вдруг осела и сползла бы на пол, если бы он не подхватил её.
Некоторое время она лежала неподвижно на кровати и, лишь когда Бетховен легонько коснулся её волос, тяжело приподняла голову:
— Людвиг, можно я немного посижу здесь на стуле? Минуту-другую, не больше. Можно, Людвиг? Спасибо.
Она бросила затравленный взор на измятую постель, затем на щербатые половицы и вдруг со всхлипом произнесла:
— Как... как здесь хорошо...
— Здесь?
Она усердно закивала головой так, будто в её шее вообще не было позвонков.
— Да-да-да, Людвиг, конечно... именно здесь, но я лучше помолчу, и... и вообще я сейчас пойду... Я всё потеряла.
— И это говорит баронесса фон Штакельберг?
Улыбка проглянула на её лице, подобно солнечному лучу, робко показывающемуся из косматых туч, — из её, казалось, уже навсегда ими обоими забытого прошлого.
— Ты, наверное, будешь бранить меня, Людвиг. Но ведь я пришла к тебе с добрыми намерениями... А может, мне просто захотелось совершить легкомысленный поступок. — Она решительно тряхнула волосами. — Только не злись на меня... Знаешь, всю дорогу сюда я действительно чувствовала себя баронессой фон Штакельберг, но когда в этой захудалой гостинице я спросила, в каком номере ты живёшь, и коридорный, вытаращив свои глупые глаза, захотел узнать, кто я... Так вот, я повернулась к нему спиной и через плечо небрежно бросила: «Вы изволите разговаривать с мадам Жозефиной ван Бетховен». Я тебя сильно обидела, Людвиг? Прости меня.
— Жозефина!..
Она опустилась на пол и положила голову ему на колени.
— Нет-нет, не спорь, мне подобает именно такая поза кающейся грешницы. Потерпи немного, мадам ван Бетховен скоро вновь исчезнет из твоей жизни. Я искренне любила тебя, Людвиг, и потому... потому жестоко расплачиваюсь сейчас за то, что тогда не сказала «нет», когда меня просто-напросто продали.
— Не кори себя. Разве ты могла выйти замуж за бедного музыканта?
— А ты знаешь, что Штакельберг оказался ещё большим мошенником, чем Дейм? Эдакий святоша с молитвой на устах и без каких-либо угрызений совести. Он разорил не только меня, но ещё и Франца.
— Я кое-что слышал.
— В память о себе он оставил мне лишь двоих детей.
— Я знаю, Жозефина.
— Я очень люблю их, но Штакельберга я безжалостно выгнала из дома. Даже Тереза заклинала меня твёрдо стоять на своём. Между нами всё кончено, только он не даёт мне развода, и вот я пришла к тебе.
— Чем же я могу помочь? — вновь глубоко уйдя в себя, пробормотал Бетховен.
— А при чём здесь твоя помощь? Я пришла потому, что не могла не прийти. Я уже сказала, что виновата перед тобой, что не смогла быть рядом, когда ты так нуждался во мне...
— Ни у одной из близких мне женщин я не видел такого лица.
— Людвиг!..
— Да?..
— Ты можешь поцеловать меня на прощанье. И... и хотя я не достойна тебя, позволь мне всё же... ответить на твой поцелуй.
Он проснулся, так как над ухом кто-то удивительно знакомым голосом сказал:
— Доброе утро, Нептун.
Увидев недоумённое выражение на его помятом со сна лице, Жозефина поспешила пояснить:
— Когда Нептун выныривает из волн, у него, наверное, такие же всклокоченные волосы, как у тебя сейчас.
— Ты уже оделась?
— Я от счастья так и не смогла заснуть, Людвиг. — Она медленно подошла к кровати. — Сидела у окна и слушала щебетанье птиц. — Она наклонилась и прижалась лицом к его голове. — Мне пора. Его сиятельству супругу самое время подыматься с перин.
— Жаль, очень жаль, — озабоченно нахмурился Бетховен. — Но меня в Теплице ждёт господин Гёте. Хочет обсудить со мной музыку к «Эгмонту». Это очень важно. Как сегодня погода?
— Ну какая... — Она мельком посмотрела в окно. — Вроде солнышко, нет, уже надвигается тёмное облако. Что ж, давай прощаться. Такую встречу нельзя пропускать. Ничего-ничего, я снова стала стойкой и мужественной женщиной. Давай вставай, Людвиг, а я пойду позабочусь о завтраке.
Намыливая щёки и водя по ним остро отточенной бритвой, он недовольно разглядывал в зеркале своё лицо. Разумеется, он встретится с господином фон Гёте в Теплице, но только через несколько дней. Ну ничего, будем надеяться, что ему повезёт: один из пассажиров в последнюю минуту откажется от поездки и освободится место в почтовой карете.
К сожалению, его отъезд походил на бегство от Жозефины, что, в сущности, означало чудовищную неблагодарность. Она, безусловно, была готова стать его женой и ради этого подвергнуться нападкам людей своего круга. Они бы отвергли её, обвинили бы в прелюбодеянии, в разрыве священных уз супружества...
А он? Он никак не мог разобраться в своих чувствах и сильно страдал от этого. Может быть, в Теплице, на расстоянии, он сумеет ясной головой осмыслить происходящее и тогда...
Вошедшая в комнату Жозефина минуту-другую тяжело дышала, восстанавливая дыхание.
— Я уже успела сбегать за свежими булочками. — Она поставила поднос на стол. — Знаешь, коридорный спросил: «Мадам ван Бетховен тоже уезжает?» — и получил решительный ответ: «Нет!» Я могла бы какое-то время пожить в этой комнате, а потом мы бы встретились в Карлсбаде.
— Где? Здесь?
— Неужели ты ничего не понимаешь, Людвиг?
Он поднёс к губам её руку:
— Ты даже не представляешь, как я благодарен тебе.
Он покрыл поцелуями её ладонь и, ничего не соображая, как лунатик, потянулся к показавшемуся ещё более прекрасным лицу.
— Нам сейчас не до ласк, Людвиг. — Она удручённо вздохнула. — Почтовая карета ждать не будет.
— Слушай, а может, попробуем вдвоём убежать в Англию или ещё куда-нибудь? — с загоревшейся надеждой сказал он.
— Что тебе делать в Англии? Ты так талантлив, у тебя столько замыслов, а ты хочешь всё бросить, покинуть Вену... Ешь скорее. Через десять минут нам нужно уходить.
Вскоре у подножки почтовой кареты он торопливо записал её карлсбадский адрес и, не оглядываясь, с силой захлопнул за собой дверцу.
— До свидания, Людвиг! До свидания! — В её глазах блеснули слёзы. — Смотри не потеряй мой карандаш, разбойник.
Почтальон задудел в рожок, подавая сигнал к отправлению. Через несколько минут Бетховен почувствовал на себе удивлённые взгляды пассажиров. Оказывается, он непрерывно махал рукой, хотя и почтовая станция, и Жозефина уже затерялись вдали.
Затерялся ли с ней весь его мир?
Чем дальше он отъезжал от Праги, тем тягостнее ощущал свою утрату. Он тосковал по её стройному, превосходно сложенному телу, в котором к тому же жила такая добрая и преданная ему душа. Любовь, одна лишь любовь способна дать счастье, значит, он был счастлив, зная, что эта женщина не забыла о своей любви к нему.
Были ли у неё в жизни помимо двух супругов ещё и другие мужчины?
Он, правда, тоже вёл отнюдь не монашеский образ жизни. Но шестеро детей... Тут многое не ясно. А может, просто слишком поздно?
Нет, он непременно должен написать ей. Ведь сразу же после приезда из Праги он получил от неё письмо, и ему стало очевидно, что она лишь притворялась мужественной, уверенной в себе. Она была в таком отчаянии, что он счёл своим долгом утешить её. Пусть, прибыв в Карлсбад, она сразу же обнаружит его письмо.
Их судьба напоминала ему густо сплетённую паутину, в которой они запутались, словно мухи. Теперь они судорожно дёргались, предпринимая безнадёжные попытки освободиться...
Так где же найти слова, способные разорвать эту губительную сеть, вывести их из тёмного леса...
«6 июля, утро
Мой ангел, ты для меня всё, ты моё второе «я»... Хочу набросать несколько слов карандашом (твоим)... Откуда эта глубокая скорбь? Да, господствует железный закон необходимости! Неужели наша любовь может выстоять лишь ценой огромных жертв, неужели ты не можешь до конца принадлежать мне, а я тебе?.. Оглянись вокруг, посмотри, как прекрасна природа, и успокой свою душу. Любовь забирает её целиком, а ты часто забываешь, что я должен жить и ради себя, и ради тебя, и, воссоединись мы, ты воспринимала бы многое не так болезненно... Поездка проходила в ужасных условиях, я прибыл на место лишь вчера в 4 утра, ибо постоянно не хватало лошадей...»
Он исписал уже второй лист своим корявым почерком, который сам порой не мог разобрать. ...А совет найти утешение в прекрасной природе был жалким...
«...На предпоследней станции меня стали отговаривать ехать ночью через лес, но это лишь раззадорило меня. Расплата была ужасной, на просёлочной дороге сломалось колесо. С Эстергази, который ехал другим, обычным путём, случилось то же самое... Но у него было 8 лошадей, а у меня 4. Слава Богу, всё хорошо закончилось, и, надеюсь, мы скоро увидимся...»
Забывшись, он едва не поставил после этого предложения вопросительный знак.
«...Даже сейчас я не могу поведать тебе своих мыслей и переживаний, хотя они прямо-таки рвутся из груди. Ах, если бы наши сердца бились рядом... Но бывают мгновения, когда язык не в силах выразить многое, так будь же всегда верна мне, моё единственное сокровище, а об остальном пусть позаботятся боги.
Твой верный Людвиг».
Четыре листа! Он окинул их недоверчивым взглядом. Стиль неудачен, наверняка много ошибок, хотя он в своё время старательно изучал орфографию; Но дело не в этом. Письмо вышло каким-то... чересчур пустым.
Вечером он вновь положил перед собой лист бумаги и принялся писать:
«Вечером в понедельник,
6 июля
Представляю, как ты страдаешь, самое дорогое для меня существо... Только теперь я понял, что письма нужно отправлять ранним утром. Понедельник и вторник — единственные дни, когда почта уходит отсюда в К... Ты страдаешь, но помни, где бы я ни находился, ты всегда рядом, всегда в моей душе, я говорю с тобой, ибо без тебя для меня жизни нет!!! Люди преследуют меня своими благодеяниями то здесь, то там, но я их не заслужил...»
А может, лучше написать так: «Преследуемый надоедливыми людскими благодеяниями?..»
«...Когда люди унижают себе подобных... это очень мучит меня... и когда я размышляю о себе в масштабах Вселенной, я, которого уже называют «величайшим»... но на самом деле я ничтожен... однако и в этом заложено божественное начало человека... я плачу при одной мысли о том, что ты лишь в субботу получишь первую весточку от меня. Я люблю тебя гораздо сильнее, чем ты меня. Не таись от меня...»
Этот страх давно одолевал его, долгие недели, месяцы и даже годы клубясь в его голове, словно туман.
«...Спокойной ночи... Я здесь на лечении, принимаю ванны и потому должен вовремя ложиться спать. О Боже! Что это за жизнь, ты так близко и так далеко от меня! Но наша любовь подобна зданию, возведённому небесными силами, — она столь же неколебима, как небесная твердь».
Всё это пустые слова — «величайший», Вселенная. Нужно сказать что-то ласковое, нежное...
«Доброе утро, 7 июля
Ещё лёжа в постели, я полон мыслей о тебе, моя вечно любимая женщина. И эти мысли то радостные, то снова грустные, ибо не знаю, услышит ли судьба нас, а без тебя я жить не могу и потому твёрдо решил блуждать в чужих краях до тех пор, пока снова не окажусь в твоих объятиях и почувствую себя в них уютно, как дома. И тогда душа моя, окрылённая тобой, сможет воспарить в царство духов... Увы, по-другому не получится, но я верю, ты сможешь справиться с собой, ибо ты знаешь, как я верен тебе, и ни одна другая женщина не сможет завладеть моим сердцем — никогда, никогда... О Боже, почему нужно разлучаться, когда мы так любим друг друга. Между прочим, в В. у меня по-прежнему много забот, но твоя любовь делает меня одновременно счастливейшим и несчастнейшим человеком. В мои годы я нуждаюсь в спокойном, уравновешенном образе жизни, а могу ли я вести такой при наших отношениях? Мой ангел, я только что узнал, что почту отсюда отправляют каждый день, а значит, ты сразу же получишь моё письмо. Сохраняй спокойствие и помни, что лишь бесстрастно спокойный взгляд на наше бытие поможет нам вместе достичь нашей цели и жить вместе. Люблю, тоскую по тебе, будь счастлива и не суди ложно о самом верном тебе сердце любящего тебя Л.
Вечно твой — вечно твой — вечно наш».
Его глаза превратились в узкие щёлочки. Пустые фразы, к которым он испытывал отвращение, как только они вошли в моду, и их стали употреблять к месту и не к месту, изливая на бумаге душу. Нет, он не станет отсылать эти десять записок. Тут нужны совсем другие слова, нужно говорить более по-мужски, предстать в её глазах истинным мужчиной.
Никогда ещё ему не приходилось сочинять столь сложной «композиции», и даже «великий дух» не мог ничем помочь.
— Изволили в такую рань выйти на прогулку, мадемуазель Зебальд? Для вас уже пропели петухи? Сейчас только начало одиннадцатого. Спешите на свидание? Смею надеяться, со мной?
— Господин ван Бетховен...
Он поклонился с чрезмерной учтивостью:
...которого при всём желании Забыть вам уж никак нельзя.— Господин ван Бетховен, — в словах девушки слышалось раздражение, — вам не следует присылать мне записки с такими стихами. Мама просто возмущена.
— Кто? Мама? — рассмеялся Бетховен. — Но согласен, записки могут дать повод для недовольства. Объясните всё... моей болезнью.
Бетховен завязал знакомство с молодой певицей из Берлина ещё в прошлом году и сразу начал разыгрывать из себя чересчур галантного поклонника и рыцаря — роль, которую он был вынужден взять на себя из-за слишком большой разницы в возрасте. Он не отрицал, что его влекло к ней. Она была молода и хороша собой. И почему бы ему не поклоняться её молодости и красоте.
— Лечение не помогло? — Амалия Зебальд робко и одновременно испытующе взглянула на него.
Он по привычке приложил ладонь к уху, разбирая слова по движению губ.
— К лечению претензий нет, но сложность в том, что господа врачи никак не выговорят греческое или латинское название моей болезни или, вернее, болезней. Таким образом, я неизлечим. Кого вы высматриваете? Я мешаю?
— Нет, — она смущённо опустила глаза, — и, откровенно говоря, я пришла сюда из любопытства. Высокопоставленные особы обычно стараются принимать ванны пораньше, чтобы избежать докучливых взглядов.
— Кого вы имеете в виду?
— Императора Франца с супругой и несчастную французскую императрицу Марию-Луизу.
— Ах, она тоже здесь?
— Прибыла позавчера.
— Ну да, её сиятельный супруг двинулся со своей армией походом на Россию. Она, несомненно, заболеет от тоски, ибо уже успела полюбить этого субъекта.
— Кого?
— Она почитает его как архангела Гавриила. Уж я-то знаю. А этот её крошка, король Рима, тоже здесь? Нет-нет, ребёнок ни в чём не виноват, но ему уже довелось пережить столько бед. Одна только музыка, написанная к обряду его крещения графом Галленбергом, супругом баронессы Джульетты Гвичарди, чего стоит.
— Появились господин Меттерних[104] и ещё много аристократов и дипломатов.
— Ах, вот как? Ну что ж, высокопоставленные особы здесь, в Теплице, как и всюду, так же будут купаться в политике, но сейчас они меня не интересуют. В сущности, это обычные люди и, даже если бы их вообще не было, человечество не много бы потеряло. Конечно, мои слова не относятся к эрцгерцогу Рудольфу, которого я надеялся назвать своим учеником. Вы не желаете пройти со мной?
— Куда?
— К Гёте.
— Он готов вас принять?
— Очевидно, у него есть желание познакомиться с «диким медведем и безумным человеком». Полагаю, ему обо мне так рассказывали. Я же представляю собой целый набор извращений. Когда мы вновь соберёмся на прогулку, Амалия?
— В три часа.
— Простите, но это не моё время, я предпочитаю прохаживаться сразу после еды.
— Ну хорошо, в два часа.
— Здесь и при любой погоде.
— Слушаюсь и повинуюсь, мой повелитель. — Амалия Зебальд сделала книксен, в глазах её вспыхнули весёлые огоньки. — Я с нетерпением жду рассказа о Гёте.
Человек, похожий на камердинера, смерил его внимательным взглядом, видимо решая, к какой категории людей отнести эту странную личность. К его превосходительству ходит столько народу.
— Вам назначено?
— Господин фон Гёте знает, что я приду к нему.
Поставщик, желающий предложить свой товар? Торговец произведениями искусства? Но скорее всего, просто безработный актёр. Если они не слишком талантливы, то обычно ведут себя подчёркнуто развязно.
— Ваше имя?
— Бетховен.
— Я доложу о вас.
Бетховен сел в плетёное кресло и выжидающе уставился на закрытую камердинером дверь. Он очень надеялся, что она сейчас откроется и господин фон Гёте...
Он постучал бамбуковой тростью по туго обтянутой брючиной ноге, смахнул несколько пылинок с коричневого сюртука, откинулся на спинку кресла и блаженно зажмурился на солнце. Откуда-то издалека ему вдруг послышалась увертюра к «Эгмонту» и вспомнилось письмо, датированное 12 апреля 1817 года: «Ваше превосходительство, Беттина Брентано твёрдо заверила меня в том, что вы готовы оказать мне дружеский приём. В противном случае мне остаётся только с чувством глубокого восхищения думать о ваших великолепных творениях. Надеюсь, вы уже слушали музыку к «Эгмонту»...» И подпись: «Вашего превосходительства искренний почитатель Людвиг ван Бетховен».
Это было действительно так, и он был даже вынужден два раза переписывать письма, поскольку Цмескаль постоянно находил в них орфографические ошибки, что потребовало немалых усилий, но, в конце концов, нельзя же человеку, которому почитатели уже присвоили титул «короля поэтов»...
— Его превосходительство ждёт вас.
Стоявший посреди комнаты Гёте поразительно напоминал статую одного из античных богов или бюст Гомера. Нет, у Гомера лицо было покрыто морщинами, отливающий же бронзой лик Гёте как-то удивительно сглаживался выражением мудрости и ощущением полнейшей гармонии внутреннего мира. Безупречно белый галстук — Бетховен невольно схватился за свой и убедился, что он небрежно повязан и сильно измят. Светло-голубой сюртук без малейшей пылинки и величественный жест красивой руки. Куда бы спрятать свои толстые короткие пальцы?
— Не желаете ли присесть, господин ван Бетховен? Вон там, на софу?
— Если позволите... Благодарю.
Титан?.. Да нет, он не слишком высокого роста, однако от обычного человека его отделяет непреодолимая пропасть.
У Бетховена перехватило дыхание. Он понял, что перед ним Аполлон, милостиво согласившийся прогуливаться среди людей и одновременно пребывающий на своём недосягаемом для простых смертных Олимпе.
Кто он по сравнению с ним?
Аполлон любезно присел рядом с Бетховеном на софу.
— Я не хочу долго занимать драгоценное время вашего превосходительства и намерен лишь выяснить, получили ли вы наконец ноты моей увертюры к «Эгмонту» от «Брайткопфа и Хертеля».
Олимпиец ответил, и речь его текла плавно, ни разу он не повысил и не понизил приятного, звучащего в миноре голоса. Бетховену вовсе не потребовалось напряжённо всматриваться в равномерно двигающиеся губы.
— Ноты, к сожалению, я пока не получил, но с нетерпением ожидаю возможности услышать музыку в исполнении нашей театральной капеллы в Веймаре. Убеждён, она доставит мне наслаждение.
Сказано не слишком много и не слишком мало. Каждое слово тщательно взвешено и пронизано душевной гармонией.
Вроде бы без всякого повода Бетховен вдруг поднёс ладонь к уху и прохрипел:
— Будьте любезны, говорите громче. Я плохо слышу, ваше превосходительство.
Гете не выказал ни малейшего смущения по поводу столь неожиданной выходки. Его тёмные глаза чуть расширились, в голосе прозвучало искреннее сочувствие.
— Кто-то мне уже говорил об этом, господин ван Бетховен. Но внешне вы такой собранный, такой сильный...
— Внешнее впечатление обманчиво, ваше превосходительство. Я наполовину глухой и потому плохой собеседник. Для музыканта же это просто немыслимо. Но постепенно все привыкают и к моей глухоте, и к оспинам на моём лице. Взгляните на мои короткие, плоские пальцы. Они непригодны для игры на фортепьяно, а ведь я избрал именно этот инструмент.
Он сам не понимал, почему стремился противопоставить совершенству и гармонии своё уродство и неполноценность. Одновременно он ощутил холодное дыхание бури и вспомнил слова Ахилла, сказанные при встрече с Гектором: «Ну наглядись на меня вдоволь...»
Он мысленно повторил их, и вдруг в его голове зазвучало: пинг-так, пинг-так! Именно такие звуки получались при ударе молота по наковальне; и вот из своей мастерской, вытирая руки об испачканный сажей фартук, прихрамывая, вышел совсем другой бог — уродливый Гефест.
Он искоса взглянул на Олимп, щурясь от непривычного солнечного света. Ведь его мастерская, в которой он ковал также сверкающие звёзды, располагалась на дне вулкана Этна, из чрева которого в солнечный мир Аполлона взметались временами чёрные столбы дыма и огромные каменные глыбы.
Но не только этот художник являлся братом Аполлона. У него был ещё брат. Зевс зачал его от дочери фиванского царя Семелы и, явившись к ней в сверкании молний, испепелил её, но спас ещё не родившегося младенца, зашив себе в бедро.
Эй-ой! Эй-ой! Менады и демоны сопровождали запряжённую пантерами колесницу Диониса. Эй-ой, эй-ой и так-так-так! Разве под тиканье метронома Мельцеля в Восьмой симфонии не били фонтаны вина, хотя его, Бетховена, сердце словно когтями пантеры разрывалось от страданий? Эй-ой, эй-ой — доспехи Ахилла, выкованные для него Гефестом! Ну, давай, насмотрись досыта.
Теперь он вдруг почувствовал раскаяние и робко, с сознанием собственной вины спросил:
— Может быть, господин фон Гёте разрешит доставить ему удовольствие? Друзья утверждают, что я неплохо играю на фортепьяно. Правда, противники, которых у меня гораздо больше...
Великолепной формы ладонь легла на его грубую руку.
— У всех у нас гораздо больше врагов, чем друзей. — Аполлон снисходительно улыбнулся. — Я предпочитаю всегда оценивать себя сам, и это, как ни странно, приносит мне удачу. Вам не слишком наскучит мой рассказ об этом?
— Ваше превосходительство...
— Так вот, Фридрих Якоби, президент академии в Мюнхене, году эдак в восьмидесятом осудил мои поэтические опыты, назвал меня хвастливым мерзким щёголем и навсегда повернулся ко мне спиной. После столь категоричного заявления его примеру последовали остальные добропорядочные люди нашей нации. Таким образом они дают понять, что вы к этой категории не относитесь.
— Ну это я перенесу, — проворчал Бетховен. — В восьмидесятом году? Именно тогда мой первый публичный концерт закончился полным провалом.
— Слушайте дальше. Я попросил Иоганна Генриха Фосса просмотреть моего «Рейнеке-лиса», и он вымарал мне чуть ли не каждый гекзаметр. Клопшток — чувствуете, господин ван Бетховен, какие громкие имена, — очень резко отозвался о моей «Ифигении», а господин Иффланд оценил её как совершенно банальную вещь. Вам известна эта драма?
— Увы, нет, ваше превосходительство.
— Ценю краткие и правдивые ответы. — В глазах Гёте не мелькнуло даже тени недовольства. — В свою очередь, должен признаться, что и я не слишком знаком с вашей музыкой.
Оба они почти одновременно доброжелательно улыбнулись друг другу.
— Впрочем, я сегодня случайно вспомнил отзыв господина Франца фон Шпауна о «Фаусте»: «Мало-мальски сведущий в технике версификации должен признать, что господина Гёте никак нельзя отнести к мастерам стихосложения. Особенно убогим представляется пролог». Извините, я говорю достаточно громко?
— Я понимаю каждое слово вашего превосходительства. Только не сочтите это за лесть.
— Вижу-вижу, но слушайте дальше: «Несчастный-фауст несёт какую-то околесицу, да к тому же ещё безобразно зарифмованную. Напиши я столь плохие стихи, мой домашний учитель беспощадно выпорол бы меня. Бред больного не так утомителен, как пресловутый «Фауст» Гёте».
— И такое сказать о вашем едва ли не лучшем произведении. — Бетховен с трудом дождался конца фразы. — А ведь я мечтаю написать к нему музыку, которая бы... — Он замялся, подыскивая подходящее выражение: — Нет, уж мой домашний учитель за неё бы меня пальцем не тронул! Он уже давно в могиле, и я сочту за честь назвать вам его имя: Христиан Готтлиб Нефе.
— Что ж, иметь такого выдающегося учителя — это действительно большая честь для вас.
— Как же я благодарен Беттине Брентано... — Он тут же поспешил поправиться: — Госпоже фон Арним за то, что она принесла мне тогда «Фауста».
Ему показалось, что глаза Гёте на мгновение словно подёрнулись пеленой недовольства, и он тут же смущённо замолчал.
— Я уже писал вам, что с удовольствием послушал бы вашу музыку, господин ван Бетховен.
— Может быть, сегодня вечером? — Бетховен встал и почтительно наклонил голову. — Мой рояль к вашим услугам.
— Хорошо, сегодня вечером. В восемь часов, если вы не возражаете?
— Когда вашему превосходительству будет удобно... Я всю вторую половину дня буду дома.
— Ну это уже ни к чему, господин ван Бетховен, — задумчиво усмехнулся Гёте и осторожно коснулся его локтя узкой аристократической ладонью. — Служба при дворе приучила меня всегда приходить в точно назначенное время. До свидания.
— До свиданья, ваше превосходительство.
На обратном пути Бетховен лихорадочно размышлял над тем, что именно следует ему сегодня сыграть. Лучше всего подошла бы импровизация, скажем, прелюдия к «Фаусту», схожая по мощи с извержением Этны. Он даже зажмурился от такого смелого сравнения.
Но тут он вспомнил недовольство, мелькнувшее в глазах Гёте при упоминании Беттины. Видимо, и впрямь её мать в молодости была любовницей Гёте, и теперь... Ну хорошо, забудем о сплетнях.
Как доброжелательно обошёлся с ним этот великий человек, с каким пониманием отнёсся к нему. Бетховен вдруг почувствовал себя безмерно счастливым и, словно заяц, перепрыгнул порог своего дома.
Разумеется, господин Мельцель превосходно разбирался в механике, но по части выуживания денег из чужих карманов он оказался настоящим виртуозом.
В страшную зиму 1813 года, когда замерзшие воробьи падали на мостовую, он, вопреки здравому смыслу, устроил выставку в неотапливаемом зале.
Знакомые предостерегали его:
— Кто же захочет, чтобы его постигла судьба армии Наполеона в России.
В ответ маленький юркий человечек лишь снисходительно улыбался:
— Не беспокойтесь! Уж я найду способ обогреть своих посетителей.
И что бы вы думали, нашёл, и гульдены посыпались в его кассу.
— Для вас, господин ван Бетховен, я, разумеется, приготовил бесплатный билет и попросил бы прийти вечером где-нибудь без четверти десять. Сегодня я даю последнее представление, а потом хотел бы показать вам кое-что в моей мастерской.
Просторный зал был переполнен. Бетховен даже мечтать не мог о том, чтобы на его концерте собралось столько публики. Посетители внимательно осматривали мраморные статуи и бронзовые бюсты, с криком отдёргивали руки от электрической машины и догадывались, что их ещё ждёт главный сюрприз.
Мельцель кивнул своему помощнику, и в тот же миг почти все свечи погасли. Он сам сел за рояль, стоявший перед уже хорошо знакомым Бетховену ящиком, снова подал знак.
Помощник раскрыл занавес, и перед глазами изумлённой публики предстала диорама размером с небольшую сцену, изображавшая пожар Москвы 15 сентября 1812 года. Подрагивающие отблески пламени на прозрачных кулисах создавали ощущение реальности.
Окружённые изгородями домики и сараи на заднем плане, грязная просёлочная дорога вдоль реки, куча трупов, груда развалин и несколько французских солдат, прикрывавших ладонями лица, — всё создавало ужасную картину катастрофы, обрушившейся на Москву прошлой осенью. Вдалеке возвышались величественные, нетронутые огнём башни Кремля.
Посетители заворожённо смотрели на сцену. Изображённый эпизод был одним из самых важных в цепи хорошо знакомых им событий. Корсиканец выиграл в России несколько сражений, но в конце концов на Березине фортуна изменила ему. Наполеону, правда, удалось переправиться через реку, но её берега была завалены трупами солдат Великой армии. Ранее они, усталые и измученные, рвались к Москве в надежде отдохнуть там, переждать зиму и, возможно, дождаться победоносного окончания войны. Но однажды ночью багровые огни пожара окрасили ночную тьму...
По слухам, генерал Кутузов лично распорядился поджечь Москву и в пламени погибли богатые трофеи Великой армии и её надежды на хотя бы относительную передышку. Император оцепенело смотрел на огненные сполохи.
Он тайно вернулся в Париж, а вслед за ним, едва передвигаясь и с трудом отражая атаки казаков, брели его уцелевшие солдаты. А ведь такого лютого мороза в России не было с незапамятных времён.
Послышался громкий треск, и пангармоникон начал издавать громкие трубные звуки: татера! Трара! Трара! Это было не что иное, как французский кавалерийский марш, Мельцель весело подыгрывал ему на рояле.
Звуки становились всё более хриплыми, наконец внутри механического органа сильно громыхнуло и наступила тишина.
— Уважаемая публика! — Мельцель отвесил низкий поклон. — Дамы и господа! Прошу прощения за постигшую меня неудачу. В моём пангармониконе что-то испортилось, и пока я никак не могу устранить недостаток. Но надеюсь, что хотя бы картина пожара Москвы вас не слишком разочаровала. Правда, марш кавалерии нашего великого союзника императора Наполеона должен был, бесспорно, прозвучать с большим воодушевлением. Увы, но у механизма нет разума, и потому не судите меня слишком строго.
Все всё прекрасно поняли. Никто из посетителей даже бровью не повёл. Ведь генерал Йорк уже подписал в Таурогене конвенцию с русскими.
А как поведёт себя Австрия? Кто способен разгадать хитрые замыслы господина Меттерниха?
Во всяком случае, в зале наверняка находились его шпики. Тут нужно было быть очень осторожным.
После недолгого молчания публика начала расходиться.
Луна заливала мертвенно-бледным светом пустые окна фабрики по производству фортепьяно. Мельцель открыл дверь и серьёзным тоном произнёс:
— Постойте пока, господин ван Бетховен. Я сейчас зажгу фонари, а вы прикройте дверь, чтобы не возникло сквозняка.
Когда в маленьком стеклянном ящике вспыхнуло пламя, Мельцель как-то сразу устало сник и прислонился к столу.
— По-моему, мне не в чем себя упрекнуть. Как вы знаете, я тоже патриот. Так почему же не заработать на ненависти к корсиканцу? — Он вытащил из-под плаща объёмистый кожаный кошель. — Позвольте, я произведу хотя бы приблизительный подсчёт своих доходов.
Кучки гульденов росли одна за другой, и у Бетховена даже расширились глаза от изумления.
— Кончатся они когда-нибудь или нет?
— За вычетом всех расходов получается в общей сложности шестьсот семьдесят один гульден в день. Неплохо, неплохо, — нарочито сдержанно отозвался Мельцель.
— Нет, я всё-таки безнадёжный глупец. — Бетховен нахмурился и как-то боязливо отодвинулся от стола.
— Как композитор никоим образом, господин ван Бетховен. — Мельцель предостерегающе поднял указательный палец. — Вы же знаете, что каждую написанную вами ноту я ценю выше, чем все сочинения остальных венских композиторов. Но одного искусства мало, нужно ещё уметь его выгодно продать.
— Но как?
— Вот именно — как? Я знаю, что вас постоянно преследуют неудачи. Надо же такому случиться: князь Кински упал с лошади и сломал себе шею. А теперь скажите откровенно: как у вас с деньгами? — Бетховен промолчал, и Мельцель удовлетворённо кивнул: — Я так и думал. Позвольте предложить вам пятьсот гульденов...
— Мельцель! Но ведь я...
— Пангармоникон завтра вновь пополнит мой кошелёк. И потом, мне очень нравится название, которое выдали моему прибору — метроном. — Мельцель встал и взял со стола фонарь. — А теперь я хочу показать вам ещё более совершенный вариант механического органа. Вряд ли мне удастся создать что-либо лучшее.
Он поднёс фонарь к огромному шкафу в десять футов длиной и двенадцать футов высотой. Ширина же его составляла никак не меньше семи или даже восьми футов. Поверхность была расписана белыми и позолоченными арабесками.
— Не желаете ли что-либо сочинить для него, господин ван Бетховен?
— Вы серьёзно?
Сёстры не сводили глаз с Жозефины: широко раскрытые, обезумевшие от боли, воспалённые глаза, мелко подрагивающее тело.
— Сколько времени?
— Скоро десять, Пепи. — Тереза попыталась вытереть ей лоб и виски, но тут же получила сильный удар по пальцам.
— Вечера или утра?
— Вечера, Пепи.
— Выражайся точнее! — Жозефина метнула исподлобья откровенно враждебный взгляд. — Какое сегодня число?
— Восьмое апреля.
— А год?
— Тысяча восемьсот тринадцатый.
— Бог карает меня!.. — хрипло выкрикнула она, корчась от нового приступа боли. — За мои грехи... И ведь уже целый день, целый день! Ни один из моих прежних детей не причинял мне таких болей... Но всё равно, я заставила его гораздо больше страдать! Это возмездие! Возмездие! Господи, как же я себя безрассудно вела! Но как я рада этому ребёнку! Как я тоскую по нему! Тереза!..
— Да, Пепи?
— Завяжи мне рот, чтобы я не могла выкрикнуть его имя, а потом... потом уходи, Тереза, уходи... Я хочу остаться наедине с Марией. — Жозефина попыталась было улыбнуться, но тут же коротко вскрикнула от боли. — Даже если я сорву повязку, ничего, ничего... При ней я могу кричать всё, что угодно. Она ведь только по-венгерски понимает. И ещё... Даже если мне будет совсем плохо, не вздумай вызвать врача. Обещай мне.
— Я уже обещала тебе, Пепи, и сдержу слово.
— Спасибо, а теперь иди. Мария!..
Пожилая венгерка подошла к кровати, улыбка на её морщинистом лице выражала уверенность. Она помогала появиться на свет ещё детям графини Дейм, и вот теперь её призвали к госпоже баронессе Штакельберг.
Когда маятник пробил ровно десять часов, Мария открыла дверь в соседнюю комнату и сказала по-венгерски:
— Это девочка, милостивая сударыня.
— Ты снова счастливо перенесла роды. — Тереза постаралась вложить в эти слова всю нежность, которую испытывала к сестре.
Веки Жозефины дрогнули и тяжело приподнялись. Она еле слышно прошелестела губами:
— Нет, сейчас... сейчас всё только начинается, дорогая. Искупайте её и принесите ко мне.
Послышался громкий плеск воды, ребёнок тоненько пропищал, очевидно радуясь своему появлению на свет, а затем маленький свёрток осторожно положили рядом с Жозефиной.
— Очень сильный ребёнок, Пепи.
— А его ребёнок другим быть не может, — почти простонала Жозефина. — Но он рождён во грехе, хотя я себя грешницей не считаю.
— Я буду её очень любить, Пепи.
— Ты любишь всех моих детей, Тереза. — Жозефина подняла на неё тоскливые глаза, — но это дитя займёт особое место в твоём сердце.
— Да, Пепи, — облизав пересохшие от волнения губы, ответила сестра.
— Смотри, какой у неё пушок. — Жозефина ласково погладила новорождённую дочь по голове. — Надеюсь, ты даже без отца будешь счастлива. Зато у тебя будет настоящая мать.
— А может, Штакельберг всё же даст согласие на развод?
— Вряд ли. И потом... Я заметила это ещё в Праге и Карлсбаде... Людвиг любит меня, и тем не менее между нами пропасть. Пойми, это не его дети, они лишат его покоя, который ему необходим для творчества.
— А давай сделаем так, Пепи, — справившись с волнением, выдохнула Тереза. — Я возьму к себе детей Дейма и Штакельберга...
— И откажешься от собственной дочери? Нет, Тереза, я не согласна, я всё равно буду тревожиться за них. А его мы не будем беспокоить, пусть он никогда не узнает, что у него есть дочь, иначе...
— Если вспомнить, что он живёт лишь в нескольких шагах отсюда... Ты не слишком жестока по отношению к нему?
— В первую очередь по отношению к себе, Тереза. — Жозефина, с трудом приподнявшись, села, опираясь на спинку кровати. — Знаешь, как я назову его дочь? Минона.
— А почему?..
— Помнишь портрет дамы в старинном чепце, висевший в галерее предков в Мартонвашаре?
— Конечно.
— В роде Брунсвиков ею всегда очень гордились, и потом... согласно семейной легенде, её также зачали в грехе.
— Верно, — подтвердила Тереза. — Она незаконная дочь короля.
— И ты также королевская дочь в истинном смысле слова, моя маленькая Минона. — Жозефина нежно прижала свёрток к груди.
Бетховен вошёл, держа в правой руке цилиндр, а в левой — трость, и с поклоном произнёс:
— Ваше императорское высочество, прошу извинить за нарушение придворного этикета, но я сегодня перенёс солнечный удар.
— Я тоже чувствую себя неважно. — Эрцгерцог Рудольф пытливо всмотрелся в лицо Бетховена. — Пришлось изучать римское и церковное право и потому... Но ничего, этот летний день настолько хорош, что Виттория только улучшила радостное настроение.
Принц встал, прошёлся взад-вперёд, разминая ноги, и с силой провёл ладонью по узкому лицу, как бы снимая с него усталость и озабоченность.
— Народ и впрямь танцует на улицах, маэстро?
— И ещё как!
— Поймите меня правильно, маэстро. — Рудольф чуть усмехнулся и вновь заходил по комнате. — Разумеется, меня не может не радовать победа Веллингтона[105] при Виттории... И потом, испанцы после стольких лет героической борьбы против французских войск воистину заслужили её. Я даже надеюсь, — nomen en omen![106] — что после Москвы это явится следующим шагом на пути к окончательной виктории, но да простит мне Господь...
— Извините меня, принц. — Бетховен медленно отложил в сторону цилиндр и трость. — Об этом я как-то не подумал.
— А вы и не должны об этом думать, маэстро. Я бы и сам пустился в пляс, хотя сан архиепископа мне подобные выходки запрещает, если бы несчастная Мария-Луиза не была бы его женой. Политика — грязное дело, судьбы отдельных людей не играют в ней никакой роли...
Принц замолчал, и лишь через несколько минут Бетховен решился прервать тягостную паузу.
— Так, может быть, мы сегодня отменим урок?
— Нет, зачем же? — Глаза Рудольфа озорно блеснули. — Но сперва я хочу сам преподать вам небольшой урок, маэстро. Императрица не слишком хорошо отзывается о вас.
— Но почему?
— Вспомните о письме, отправленном вами в августе прошлого года из Теплица некоей госпоже фон Арним.
Бетховен недоумённо сдвинул кустистые брови:
— Да я уже с ней давно не переписываюсь, принц.
— Я так и предполагал, — с готовностью согласился Рудольф, — и тем не менее я должен прочесть вам письмо, своего рода corpus delicti[107].
— Моё письмо Беттине фон Арним от августа прошлого года? Да я вообще ничего не писал этой безумной бабе!
— Подождите, маэстро. Вышеупомянутая дама отправила «копию» своего письма князю Пюклер-Мускау, а он, в свою очередь, переслал её сюда. Я зачитываю: «Короли и князья могут присваивать людям звание профессора, но им не дано делать их великими, это удел духов, которые всегда выше светского сброда, и потому к ним нужно относиться с должным уважением...»
— Последняя фраза мне точно не принадлежит, — осторожно заметил Бетховен, — но вообще-то вполне возможно, что я высказывал нечто подобное Беттине Брентано, в замужестве фон Арним.
— Слушайте дальше: «Когда встречаются такая женщина, как я, и такой мужчина, как Гёте, то даже царственные особы должны чувствовать их величие. Вчера, возвращаясь домой, мы встретили всю императорскую семью...»
— В Теплице? Я её там никогда не видел.
— Поскольку вы всегда старались избегать встречи с ней. — Не переставая улыбаться, Рудольф медленно покачал головой. — А теперь я попрошу хоть немного соблюдать придворный этикет и не перебивать меня. Читаю дальше: «Мы увидели их ещё издалека. Гёте отошёл в сторону, а я надвинула шляпу поглубже на лоб, застегнула накидку и пошла прямо сквозь толпу. Князья и придворные шаркуны выстроились шпалерами, эрцгерцог Рудольф снял шляпу...»
— Но вас ведь тогда даже не было в Теплице!
— Нет, маэстро... я сейчас прикажу вызвать обер-церемониймейстера. Я знаю, вы не трус, но его вы испугаетесь, как ребёнок трубочиста. Продолжаю: «Господа узнали меня, и, к великому моему удовольствию, вся процессия продефилировала мимо Гёте, который одиноко стоял в стороне со шляпой в руке. Ну я ему потом такую взбучку задала, я была беспощадной и упрекнула Гёте во всех его прегрешениях.
Ваше императорское высочество...»
— Вообще-то я не всегда умею совладать с собой и забываю правила приличия. — Бетховен почувствовал, как в нём поднимается ярость, как она ползёт изнутри к голове, наполняя её знакомым звоном. — А почему? А потому, что я считаю себя выше светского сброда. Я как-то публично обозвал «свиньями» графа и графиню и до сих пор не извинился перед ними. Да и князю Лихновски я также не принёс извинений. Он, правда, извинился передо мной. Принц, вы единственный, кто после опубликования замечательного финансового патента продолжал выплачивать мне свою долю и потому, может быть...
— Что вы имеете в виду, маэстро? — холодно остановил его принц.
— Вы хотели исполнить вместе со мной здесь, в Шёнбрунне, мои Седьмую и Восьмую симфонии. Но после того как так я оскорбил императорскую семью в Теплице, было бы просто неблагодарностью с моей стороны... Гёте? Гёте? Признаюсь, я не слишком почтительно обошёлся с ним, хотя он, зная о моей глухоте, вёл себя весьма деликатно. Но... он распространяет вокруг себя такой холод... так высоко ставит себя над миром... И всё же эта вздорная баба не имела права ссылаться на меня в том письме!
Внезапно Бетховен хлопнул себя по лбу и захохотал так, что смех его стал походить на каданс.
— Эта ядовитая змейка с обликом Сивиллы! Вот где собака зарыта! Как я сразу не догадался! Гёте и его супруга Христиана весной прошлого года приказали не пускать чету Арним на порог своего дома из-за их чрезмерной любви ко всякого рода сплетням. И вот Беттина отомстила им! Его превосходительство Гёте, на обочине со шляпой в руке отвешивающий низкий поклон! До такого не каждый додумается! В прошлом году Арнимов не было в Теплице, но им, конечно, известно, когда именно императорская семья отправляется туда на лечение. Ах ты, гнусная жаба!
— А меня радует, что я с самого начала занял вашу сторону, маэстро. — Мимолётным касанием руки Рудольф успокоил его. — Только прошу вас, не пишите оной даме преисполненное ярости письмо. Я поговорю с императрицей, и мы, ко всеобщей радости, забудем эту нелепую историю.
— Не совсем вас понимаю, принц.
— Есть такое латинское выражение «Semper aliquid haeret» — «Всегда что-нибудь останется». И потом, у вас и без того достаточно врагов при дворе.
— Завистники! Шаркуны!
— Согласен, однако... они порой бывают могущественней эрцгерцогов. Вспомните, как вам отказали предоставить университетский зал. Ещё неизвестно, получится ли что-нибудь с исполнением ваших сочинений в Шёнбрунне.
— Почему вы так скептически настроены, принц?
— Когда знаешь повадки этих крыс... — брезгливо поморщился Рудольф.
Иоганн Непомук Мельцель, как всегда, был занят своим любимым делом. Он стучал молотком, точил, паял, и создавалось ощущение, что гениальный механик делает это одновременно. Пх! Пх! Затем он взялся раздувать кузнечные мехи и настраивать трубы.
Бум! Бум! Бум! Под громовые звуки литавр Мельцель вынырнул из чрева ужасного механизма, именуемого пангармониконом.
— Всё в порядке! Он работает! Видите, как от радости дрожат мои руки? Вы пришли очень кстати. Я как раз собирался разыграть свою собственную битву при Виттории. — В маленьких умных глазах Мельцеля мелькнула тень тревоги. — У вас горе, господин ван Бетховен?
— Пропади оно всё трижды пропадом! Я могу быть с вами откровенен, Мельцель?
— Я же ваш друг и стойкий почитатель. Сами знаете, это не пустые слова. Так о чём речь?
— Я тоже намеревался разыграть свою битву при Виттории, — горько улыбнулся Бетховен, — обо всём договорился с эрцгерцогом. Уже была достигнута полная договорённость об исполнении в Шёнбрунне моих Седьмой и Восьмой симфоний в присутствии императорского двора, и тут... тут крысы нам всё испортили.
— Могу предложить вам другую битву при Виттории. — Мельцель вскинул на Бетховена искрящиеся радостью глаза и озорно прищурился.
— Не понял?
— Только обещайте не разносить в пух и прах мою мастерскую, когда я изложу вам своё намерение. — Кадык на его морщинистой шее дёрнулся, словно Мельцель сглотнул слюну, что-то, видимо, мешало ему выговорить всё до конца. — Вы много бродили по улицам Вены и видели, какая там царит атмосфера. То же самое, бесспорно, творится в Мюнхене, Берлине, Лондоне, Мадриде и так далее. Повсюду народ поднимается на борьбу. Люди жертвуют деньги на изготовление пушек и ружей. Я также готов внести свою вязанку дров в костёр патриотических чувств. Только не называйте меня циником, господин ван Бетховен. Одной лишь любовью к народу и идеалам жить нельзя. Сколько всего вы сделали для венцев и как они отблагодарили вас?
— Вы совершенно правы, Мельцель. — Лицо Бетховена исказилось от ярости, он крепко сжал тяжёлые кулаки. — Для этих негодяев с графскими и княжескими титулами — среди них, правда, есть исключения, но сейчас речь не о них — я всегда был чем-то вроде камердинера от музыки! Меня вызывали для развлечений, а потом, удовлетворив свои потребности в музыке, выбрасывали, как ненужную тряпку. Сейчас я вынужден судиться с наследниками Кински и конкурсным управляющим имуществом Лобковица! Все венцы никуда не годятся — от императора до сапожника! А я, осёл, позволил ослепить себя ложным блеском!
Мельцель, казалось, думал о чём-то другом, он не сводил глаз с огромного ящика.
— Сейчас очень нужен шум битвы для моего пангармоникона. Музыкальная пьеса под названием «Победа Веллингтона в битве при Виттории» или что-то в этом роде.
— И вы ожидаете, что я напишу её? — Бетховен выпрямился и развернул плечи, словно собираясь броситься в бой.
— Я хоть слово сказал на эту тему? — Механик удивлённо вскинул брови. — Я просто размышляю. На такой музыке француз Девьен и Нойбауер гребут деньги лопатой. То же самое можно было бы сказать и о Кочваре, если бы он из озорства не повесился в Лондоне, но тут уж виной не его доходы. Господин Штайбельт отнюдь не обеднел, написав музыкальные произведения, рисующие два наземных сражения. Кауэр же, оплакав таким образом гибель Нельсона, буквально набил карманы золотом. Разумеется, вы бы описали смерть героя гораздо более достойно, у него же получилось нечто вроде танцевальной музыки. Тем не менее...
— Мельцель, вы дьявол.
— Или просто ваш истинный друг. Подумайте.
Лицо Бетховена помрачнело, он принялся раздражённо ходить по мастерской. Сколько миль он вот так прошагал и чего же достиг? Нет, конечно, теперь он берёт хорошую плату за уроки и время от времени вынуждает издателей выплачивать ему солидные гонорары, заставляя их вспомнить, что Людвиг ван Бетховен — один на свете. Но может ли он таким образом обеспечить себе спокойную безмятежную жизнь? Нет, деньги он получает крайне нерегулярно, их количество явно недостаточно, и потому он вечно испытывает финансовые трудности. А если ещё вспомнить отношение к нему...
Что там орал на галёрке этот наглый субъект? «Я дам крейцер, если они прекратят!» И это во время исполнения «Героической симфонии»! А как они освистали «Крейцерову сонату» и скрипичный концерт! А единственный зритель, оставшийся в зале, которому он просто обязан был поклониться. Нет, им он ничем не обязан. К тому же узы, связывавшие его с «вечно любимой женщиной», окончательно порваны.
— Вот вам моя рука, Мельцель.
— Господин ван Бетховен!
— Остаток разума говорит мне, что ваш дьявольский механизм наделает много шума; и если я, Людвиг ван Бетховен, сочиню для него разные там «чингдара» и «бумбум», то остальные произведения такого рода можно будет просто положить на полку.
— Я знаю, это будет грандиозный успех.
— Вы твёрдо убеждены?
— Попомните мои слова, господин ван Бетховен! Деньги потекут рекой, а уж прославимся мы так, как вам и не снилось. Единственное условие: во всём следовать моим указаниям. Должно возникнуть ощущение настоящей битвы.
— Да я уже сейчас слышу, как литавры гремят канонадой. — Лицо Бетховена озарилось вдохновенной улыбкой. — Но как прикажете изобразить ружейную стрельбу? Видите, голова моя ещё способна на плодотворную мысль. Так, может быть, пускай французы вступят в битву под звуки «Marlborough s’en va-t-en guerre»[108], а англичан вдохновляет «Britannia, rulle the waves»[109]?
— Отлично.
— А потом «чингдара» и «бумбум», только в гораздо более мощном звучании!
— У меня тоже есть грандиозные планы, как... как... — Он замялся, подыскивая подходящее сравнение.
— Как?..
— Скажем, как ваша «Героическая симфония».
Мельцель опустил глаза, по его лицу блуждала странная улыбка.
Бетховен с такой одержимостью взялся за работу, что казалось, поставил перед собой цель убить себя непосильным трудом. Правда, пангармоникон, несмотря на свои устрашающие размеры, всё же стеснял полёт его безудержной фантазии.
Мельцель обозначил продолжительность и характер будущего произведения, исходя исключительно из длины валиков.
— Первая часть? Отлично, господин ван Бетховен! Как раз есть нужная длина.
Бетховен медленно обошёл шкаф и встал у конца второго валика.
— Что вы опять собираетесь делать, Мельцель? Вообще что с вами?
— Я укрепил штифтами ваш первый валик, господин ван Бетховен, и так заинтересовался, что сразу же пустил его в ход! Впечатление потрясающее! Сбежался весь дом, даже господин Штейн пришёл, и господин Мотелес, помните, он недавно посетил фабрику?
— Молодой пианист?
— Да. Видели бы вы их растроганные лица, а господин Штейн даже воскликнул: «Маска! Где маска Бетховена? Немедленно повесить её на стену! Такого второго композитора не найти! И послать кого-нибудь за моим зятем!» Мастер собрался было бежать, но тут господин Штейн отменил своё распоряжение: «Нет, постой! Маску нужно сперва отнести профессору Клейну, дабы он украсил её лавровым венком!»
— Вы... вы шутите, Мельцель? — недоверчиво спросил Бетховен.
— Да что вы! Какие уж тут шутки! — Мельцель устало поморщился и присел к столу. — А вообще-то я хотел кое-что обсудить с вами, но боюсь вашей бурной реакции — вы ведь как раскалённое, начиненное порохом ядро, того и гляди взорвётесь. У меня к вам есть новое предложение, только я прошу хорошенько обдумать его. В отличие от вас, я видел восторженные лица слушателей при запуске первого валика и, честно говоря, даже не ожидал такого успеха. Он перечеркнул все мои планы, и теперь я твёрдо уверен... Словом, не смогли бы вы... приспособить «Победу Веллингтона в битве при Виттории» для оркестрового исполнения?
— В качестве моей Девятой симфонии?
— Я бы предпочёл оставить прежнее название. Оно более звучное, более притягательное, чем «Девятая симфония Людвига ван Бетховена».
— И где же она будет исполнена?
— В зале университета.
— Туда мне доступ закрыт, несмотря на все усилия эрцгерцога Рудольфа, — вяло усмехнулся Бетховен.
— Господин ван Бетховен. — Мельцель неожиданно заговорил сухим, официальным тоном, — в мои намерения отнюдь не входит неуважительно отзываться о его императорском высочестве, но тем не менее, в отличие от него, я распахну перед вами двери университетского зала.
— А мои враги и завистники?
— Им останется лишь скрежетать зубами от злости.
— Да вы с ума сошли, Мельцель!
— Ничуть. Я просто хорошо разбираюсь в человеческой душе и знаю, на каких её струнах можно играть. Я дал несколько грандиозных концертов в Вене и, когда слава о них обойдёт всю страну, отправлюсь с моим пангармониконом в Берлин и Мюнхен. Итак, вы готовы сделать из «Битвы при Виттории» симфонию, пригодную для исполнения оркестром в расширенном составе?
— И сколько вы заплатите мне за неё? — Бетховен медленно растянул рот в злой ухмылке.
— О чём вы?
— Речь идёт не о гульденах. Дайте-ка мне ноты с первого валика. Можно было бы создать особый оркестр, где фанфары изображали бы гром орудий, трещотки — стрельбу из орудий, а прочие ударные инструменты...
— А дирижировать им будет господин Сальери, который в своё время прямо заявил, что уволит без права обратного приёма любого музыканта, сыгравшего на вашем концерте?
— Да вы просто умеете читать мысли, Мельцель.
— Это не слишком сложная загадка. — В голосе Мельцеля слышалось раздражение. — Хорошо, пусть он будет им дирижировать, но момент выберу я, а это многое значит.
К удивлению Бетховена, все билеты на назначенный в университетском зале 8 декабря концерт были мгновенно проданы. А ведь 12 декабря должен был состояться второй концерт.
— Валики работают безупречно, — весело объяснил ему ситуацию Мельцель. — Здесь собралось свыше ста выдающихся музыкантов, господин ван Бетховен, и, насколько мне известно, участие господина Сальери нам не помешает. Было просто невозможно отказать в моей настоятельной просьбе посодействовать в устройстве благотворительного концерта в пользу участников битвы при Ганау. Я только совершил одну маленькую ошибку. Откуда мне было знать, что затем последовало ещё гораздо более грандиозное сражение при Лейпциге[110]. Я устроил бы оба концерта в пользу жертв «битвы народов», и тогда они принесли бы вам ещё большие барыши, господин ван Бетховен.
— До чего ж всё это мерзко. Неужели нельзя по-другому?
— А с вами они разве по-другому обходились, господин ван Бетховен? А что творил с нами Наполеон? А как поступил император Франц с тирольцами, а прусский король — с офицерами майора Шиля? Теперь Наполеон низвергнут, и, скажите, освободители во главе с господином Меттернихом ведут с нами честную игру? Нет, моя совесть чиста. Я уже давно так хорошо не спал.
После ухода Мельцеля Бетховен нервно расхаживал по небольшой аудитории, отведённой под артистическую комнату. Горящие свечи на кафедре отбрасывали причудливые тени на стены и книжные полки. Таким же причудливым и неровным было настроение Бетховена.
— Ну всё, ваш выход, господин ван Бетховен, — с повелительной интонацией заявил появившийся на пороге Мельцель. — Публика бурлит, заинтригованная присутствием сразу трёх оркестров. Господин Сальери стоит возле орудий, готовый в любую минуту открыть огонь, а нервы капельмейстера господина Хуммеля дрожат, как туго натянутая кожа барабанов, на которых он сейчас тихонько отбивает такт. Не хватает только главного дирижёра и композитора Людвига ван Бетховена.
— Как же мне надоело быть вашей марионеткой, — зло проворчал Бетховен.
— У вас ко мне претензии, господин ван Бетховен? Хорошо, я вам отвечу. Увы, вы так и не стали моей марионеткой в полном смысле слова, ибо обрезали нить. Ваша Седьмая симфония некоторым образом тревожит меня. Но сейчас у нас нет времени. Идёмте на сцену.
Бетховен буквально подбежал к дирижёрскому пульту. Полы его сюртука развевались, как боевые знамёна.
Он взял дирижёрскую палочку и постучал ею по пюпитру, не обращая внимания на жидкие аплодисменты, которыми его приветствовали из зала несколько друзей. Потом он метнул стремительный взгляд на галереи. Музыканты, сидевшие там, походили на замерших в боевой готовности солдат, и даже свои инструменты они держали на изготовку, как ружья.
Он взмахнул дирижёрской палочкой, и ему показалось, что перед глазами сверкнула молния. «Так, переходом от ля к до мажор я изменил не только тональность, но и состояние ваших душ! Теперь: томтомтом! Томтомтом! Томтом!» Он неистово дирижировал, даже не догадываясь, что кое-кто из зрителей сперва тихо, а потом всё громче захихикал, ибо маленький невзрачный музыкант напоминал никудышного волшебника, размахиванием волшебной палочки пытавшегося запугать упрямого великана. Именно так в их глазах выглядели его жесты и движения.
В перерыве Мельцель догнал его в полутёмном коридоре:
— Оставайтесь в зале, господин ван Бетховен, и, как только будут запущены валики, начинайте исполнять «Битву при Виттории». Мы не должны давать им даже минуту времени на раздумье...
— Вы поступили со мной нечестно, — раздражённо оборвал его Бетховен. — Зачем вы хотите привести в движение вашу музыкальную машину сразу же после заключительных аккордов симфонии? Хотите, чтобы аплодировали вам, а не мне?
— Да я вас спас своим изобретением! — решительно не согласился Мельцель и, видя застывший от недоумения взгляд Бетховена, поспешил пояснить: — Я на цыпочках ходил по залу, наблюдая за выражениями лиц, и прислушивался к репликам. Могу сказать, что ваш знаменитый коллега аббат Штадлер всё время корчил недовольные гримасы и в конце концов заявил: «Совершеннейшая чушь». И я сразу заметил, как это слово пошло по рядам. Так вот, трубные сигналы и барабанный бой моего пангармоникона несколько исправили положение. Так что, если вы хотите отомстить, то, пожалуйста, не мне, а достопочтенному аббату и остальной публике.
— Но каким образом?
— Сочетая своё дирижёрское искусство с возможностями моего пангармоникона. Идёмте! Моя пушка уже выдала первый залп, и я должен поставить новый валик.
Аплодисменты, прозвучавшие в зале при их появлении, Бетховен воспринял как хлёсткие удары по его от боли и стыда ещё сильнее покрасневшему лицу. Наверное, оспу перенести было гораздо легче.
Второй валик уже заканчивал играть, и Мельцель взволнованно пробормотал, сопровождая свою речь бурным жестикулированием:
— Скорее на подиум! Дайте палочкой им знак! Оркестры на галереях должны приготовиться! Не тяните, не тяните, господин ван Бетховен! Начали!
На галереях справа резко прозвучали трубные сигналы, сразу же заглушившие вспыхнувшие было аплодисменты. Это строятся французы! Теперь настал черёд англичан! Ну давайте же, Хуммель, давайте усильте барабанную дробь. Вот так, теперь простая духовая музыка, и весь оркестр на полную мощь! Пусть вступает оркестр слева, пусть звучат его трубы — дерзко, радостно, упруго.
«Ну, господин Сальери! Давайте залп из всех орудий! Бумм! Это же битва, господин Сальери, и потому попрошу вас ещё сильнее — бум-бумм... А почему у Мейерберга трещотки звучат не слишком резко? Ружейный огонь! Рррррр! Бум-бум-бум. Так, битва достигла своего апогея! Рррррр и бум-бум-бум! Фортиссимо, англичане переходят в атаку! Ощущение, что вот сейчас порвутся струны и лопнет кожа на барабанах!»
Мельком он заметил сидевшего в первом ряду эрцгерцога Рудольфа. Лицо его было грустным. Почему? Но на размышления об этом у него не было времени. Отступление французов происходило в тональности ре мажор. Победу возвестили фанфары, флейты пикколо, тарелки и большие барабаны. И конечно же аллегро кон брио[111], как в его Седьмой симфонии.
«Анданте грациозо — мягче, мягче — вы же исполняете «God save the king»[112].
Последнее аллегро и как избавление — последний аккорд.
На несколько минут зал замер, но когда Бетховен, как и полагается, низко поклонился, перед ним словно разразилась буря. Крики: «Бетховен! Бетховен! Бетховен!» — слились в единый гул. Он даже не успел опомниться, как был сдернут с дирижёрского пульта и оказался на плечах нескольких зрителей.
«О таком триумфе я даже не осмеливался мечтать...» — вихрем пронеслось в его голове.
— Бетховен! Бетховен! Бетховен!
В артистической комнате Бетховен, шатаясь от усталости, нетвёрдыми шагами приблизился к зеркалу.
— Как же я измял сюртук.
— Но зато вы теперь прославились, вот именно прославились, — спокойно повторил Мельцель. — На музыкальном небосводе взошла новая звезда. Поверьте мне, кто-нибудь из рецензентов напишет о вашей Седьмой симфонии как о «вершине инструментальной музыки». Да, пока не забыл: сборы от следующего концерта целиком пойдут вам, и от четвёртого тоже. Я же отправлюсь со своим пангармониконом в Мюнхен, где ваша батальная пьеса уж точно обеспечит мне полные сборы.
— Поздравляю, господин ван Бетховен, — в приоткрытую дверь просунулась голова блистательного скрипача Шпора.
— Благодарю.
— Все в один голос говорят, что внезапно объявился замечательнейший композитор Европы. Кстати, а почему вы так долго нигде не появлялись? Болели чем-нибудь?
— Не я. Болели мои сапоги, я был вынужден отнести их сапожнику, а других у меня нет.
— У знаменитейшего европейского композитора нет второй пары обуви? — Шпор недоверчиво покачал головой. — Вы, наверное, шутите?
«Венская газета» писала: «Поразительная по своей мощи композиция Бетховена в сочетании с его дирижёрским искусством довели публику до исступления. Шквалом аплодисментов завершился концерт, не только принёсший славу отечеству, но и облегчивший страдания тех, кто получил увечье на службе ему. И не зря в нём приняли участие лучшие музыканты столицы». «Лейпцигским быкам» оставалось лишь скрежетать зубами, когда Бетховена за его батальную пьесу провозгласили «генералиссимусом музыки».
Оркестр медиков исполнял долго и упорно замалчиваемую увертюру к «Эгмонту», и даже правоведы согласились играть сочинения Бетховена в университете. В свою очередь, Мельцель навёл издательство «Артария» на мысль выпускать гравюры с изображением Бетховена, которые теперь красовались чуть ли не во всех витринах. Ему самому лучше было вообще не показываться на улице, так как вокруг тут же начинали толкать друг друга локтями в бок и с придыханием произносить: «Бетховен! Вон идёт Бетховен!»
— Очень холодно. — Мельцель протянул озябшие руки к огню, — и всё равно в воздухе пахнет весной. Я вас вот о чём хочу спросить, господин ван Бетховен... Какой зал мы выберем для следующего концерта?
— А разве университет нам отказал?
— Глупости. Для Бетховена нынче везде открыты двери, но университетский зал слишком маленький. Худо-бедно подошёл бы танцевальный зал.
— Но ведь он вмещает...
— Совершенно верно, от пяти до шести тысяч человек. Но тут есть некоторые условия. Треть доходов забирает в пользу театра его интендант граф Палфи, а пятую их часть придётся раздать... каторжникам.
— Кому? — яростно рявкнул Бетховен. — Я собирался исполнить также Восьмую симфонию, а тут... Отдать пятую часть дохода каторжникам! Истинный творец до такого никогда не унизится!
— Меттерних умён и прозорлив, — жёстко проговорил Мельцель. — Целая армия шпиков занята тем, что пополняет каторжные тюрьмы. Скоро их будет уже не хватать. Попридержите лучше язык, господин ван Бетховен, и пореже высказывайте свои политические взгляды, особенно после моего отъезда в Мюнхен. Пангармоникон уже на пути туда. Я надеюсь в июне — июле вернуться в Вену.
— Полагаете, что победители соберутся на свой конгресс именно здесь?
— Их посланцы уже в городе.
14 марта 1814 года император всероссийский Александр I во главе союзных войск торжественно вступил в Париж. Через месяц Наполеон отрёкся от престола в Фонтенбло и был выслан на остров Эльба.
Интенданты венских театров ломали голову, не зная, как отметить столь выдающееся событие. Но они твёрдо знали, что появление на афишах имени Бетховена означало полные залы, а значит, и отличные сборы.
Трое роскошно одетых господ поднялись по скрипучей лестнице, и один из них постучал в дверь со скромной табличкой «Бетховен».
Изнутри послышался женский голос:
— Входите, не заперто.
Все трое дружно поклонились сидевшей в кресле даме в обшитом траурным крепом платье. Бетховен стоял к ним спиной, вертя в пальцах отделанную серебром пенковую трубку. Он несколько раз щёлкнул крышкой и, словно сквозь засевший в горле ком, хрипло спросил:
— Когда это произошло?
— Двенадцатого апреля, а пятнадцатого Карл скончался. Его последними словами были: «Передай Людвигу после моей смерти эту пенковую трубку. Она столько раз утешала меня. Людвиг всё поймёт...»
— Он прав, — тяжело кивнул Бетховен. — Я понимаю смысл этого подарка как призыв к примирению. Карл в общем-то всегда был мне добрым другом, остальное не важно.
Бетховен зашёл в другую комнату, осторожно положил трубку на рояль и, вернувшись, срывающимся от гнева голосом выкрикнул в лицо посетителям:
— Что вам нужно?
— Мы певцы... — робко начал один из них.
— Говорите громче, — поспешила напомнить княгиня Лихновски.
— Мы певцы, господин ван Бетховен. Меня зовут Зааль, а это мои коллеги Фогель и Вейнмюллер.
— Да, правильно, я узнал вас. Вы из Венского театра. Так...
— В свой бенефис мы хотели бы исполнить вашего «Фиделио».
— Моего?.. — От удивления Бетховен даже приложил ладонь к уху.
— Да, именно вашу великолепную оперу «Фиделио».
— А как же граф Палфи?
— Он согласен.
— Когда же бенефис?
— В конце мая. Что прикажете передать графу Палфи?
— Мой отказ. — Он резко повернулся и скрестил на груди дрожащие руки.
— Уходите, — хрипловатым, надтреснутым от волнения голосом тихо сказала княгиня Лихновски. — Я потом похлопочу за вас.
— Премного благодарны, ваше сиятельство.
— Хорошо, очень хорошо, что вы отослали их. — После нескольких минут молчания Бетховен резко повернулся и подчёркнуто гордо и высокомерно произнёс: — Подумать только, оказывается, «Фиделио» — великолепная опера. Давно ли? Даже не помню, сохранил ли я её партитуру. Прошло столько времени, а при моих вечных переездах... — Он открыл секретер и вынул связку нот. — Вроде бы сохранилась, только пожелтела... Мария Кристина, вы только посмотрите! Партитуру обгрызли мыши. Хоть им мой «Фиделио» доставил удовольствие... Нет, один раз эта опера провалилась и пусть теперь покоится на дне секретера.
— Где ваша табакерка, Людвиг?
— Да где-то на подоконнике, — он небрежно махнул рукой. — Там рядом и кресало лежит.
Она набила трубку и чиркнула огнивом.
— Покурите, и тогда мир предстанет перед вами совсем в ином свете. Так когда-то сказал мне Карл.
Бетховен с шумом затянулся дымом крепкого морского табака, а княгиня заинтересованно и как-то устало сказала:
— Мой вам совет: освободите «Фиделио» из заточения.
— Нет.
— Но поймите, Людвиг, в конце апреля вы сами признаете правоту моих слов, но будет поздно. Вы же начнёте рвать на себе волосы.
— Карл был прав. — Он уставился мутными, слезящимися глазами на её переносицу и воинственно вскинул подбородок. — Табак кружит голову, и мир словно растворился в тумане.
— А что на вашем месте ответил бы Карл, если бы ему вдруг предложили поставить «Фиделио»? — осторожно осведомилась княгиня.
— О, женщины, имя вам — коварство! — Бетховен в наигранном ужасе вскинул руки. — Несколько мест в опере нуждаются в серьёзной переработке. Когда свежим глазом видишь, что там далеко не всё совершенно, есть шероховатости. Но на одном я буду стоять твёрдо: третья часть «Увертюры Леоноры» никогда не будет больше исполняться. Боюсь, её могут испортить, а она мне слишком дорога.
Господи, как же его утомила увертюра к «Фиделио»!
Генеральная репетиция должна была состояться 22 мая, но днём раньше автор либретто Трейчке появился в «Римском императоре», где Бетховен с аппетитом ел запечённую в тесте баранью ногу. Он мог теперь позволить такое каждый день, и даже купил восемь акций. Трейчке он даже словом не удостоил.
Тот вопросительно взглянул на Бетховена, Людвиг в ответ перевернул меню, разлиновал его и небрежно набросал ноты. На лице Людвига было ясно написано: «С вас и этого достаточно...»
И Трейчке, как-то сразу обмякнув, покорно удалился.
Увертюру к «Афинским развалинам» — далеко не лучшее его произведение — приняли без всяких возражений, ибо кто осмелится спорить с победителем при «Виттории»? К назначенному на 26 мая концерту он за ночь сотворил новую увертюру, хотя вполне мог взять «Лошадиную музыку». Так он называл марш, написанный по просьбе Рудольфа для курсантов кавалерийской школы. «Ваше императорское высочество, видимо, желаете испробовать воздействие моей музыки на лошадей», — язвительно написал он ему тогда.
После исполнения этими тремя певцами в их бенефис «Фиделио» он с набитыми деньгами карманами уехал в Баден. У него было ощущение: нужно что-то отыскать, но только что именно?..
Здесь его начали постоянно тревожить сообщения о том, что в Вену подобно стаям воронья слетелись политические миссии, представлявшие державы-победительницы, и что сами монархи прибудут сюда в сентябре. Так пусть же господин Бетховен готовится к торжественному представлению «Фиделио», а уж без «Битвы при Виттории» точно не обойтись.
Торжественное представление «Фиделио» было назначено лишь на 26 сентября, и ему не нужно было сломя голову мчаться в Вену. Уже начало темнеть, но даже если бы тьма сгустилась до чернильной темноты, её всё равно бы прорезывал яркий свет многих иллюминированных витрин и домов.
Он попытался было встать на цыпочки и взглянуть через головы людей, толпившихся возле книжной лавки. Тут кто-то отошёл, он немедленно протиснулся на его место и замер от изумления.
Множество горящих свечей, и среди них портреты императора Франца и императрицы, императора Александра и его супруги, короля Пруссии... Все они увенчаны лавровыми венками. Даже Бернадот, когда-то яростно отстаивавший революционные идеалы, был представлен среди победителей. Ныне он считался основным претендентом на шведский престол.
На переднем же плане был выставлен его портрет, снабжённый белой карточкой с витиеватой надписью: «Людвиг ван Бетховен, сочинитель «Битвы при Виттории». Кое-кто из стоявших рядом, узнав его, почтительно снял шляпу.
Интересно, появятся ли те, чьи изображения соседствовали сейчас в витрине с его портретом, на торжественном представлении «Фиделио»? На его бенефисе в июле присутствовали лишь немногие члены австрийской императорской фамилии, хотя он передал им всем свою настоятельную просьбу через эрцгерцога Рудольфа. Каждое слово из этого послания, казалось, навсегда врезалось ему в память:
«Было бы просто замечательно, если бы его императорскому высочеству удалось уговорить других членов императорского дома присутствовать на представлении моей оперы. Заранее покорнейше благодарю».
Униженно просить ещё раз? Нет, пусть всё идёт своим чередом.
После начала представления в ложах сидели император и короли, которым он поклонился с достоинством, как и подобает «генералиссимусу музыки».
Потом он взял дирижёрскую палочку и сделал вид, что управляет оркестром, хотя в действительности музыканты подчинялись невидимым для публики движениям рук капельмейстера.
Ему хотелось побыть одному, закрыть глаза и ни о чём не думать. Обильная сытная еда наполнила тело усталостью. Кельнер Фриц быстро убрал пустую посуду, поставил на стол бутылку вина, стакан и принёс Бетховену пенковую трубку с длинным чубуком, табакерку и жестянку с вкрученной в неё бумажкой для фитиля.
Он с удовольствием набил трубку, вытянул ноги и, пуская густые клубы дыма, хотел было вновь вернуться мысленно к аплодирующим государям или к мышам, обгрызшим партитуру «Фиделио».
— Что вам угодно?
У внезапно оказавшегося возле его столика субъекта было испещрённое морщинами, добродушное, несмотря на грозно возвышающийся орлиный нос, лицо. Тем не менее у Бетховена создалось ощущение, что этот человек пришёл поиздеваться над ним.
— Что вы хотите от меня? — ещё более резко повторил он.
— Вы доставите мне несказанное удовольствие, если позволите присесть за ваш столик. — Подошедший отогнул вперёд ушную раковину. — Кельнер, принесите сюда моё вино. Меня зовут Алоиз Вайсенбах. Вам же, господин ван Бетховен, представляться не нужно. Ваши портреты вывешены во всех витринах. Желаете знать моё звание? Профессор и доктор, но для своих просто Вайсенбах. — Он присел и сразу же выпалил: — Как вы относитесь к врачам?
— Очень плохо, — хриплым голосом отозвался поражённый таким вопросом Бетховен.
— Прекрасно, значит, встретились две родственные души! — Вайсенбах от радости даже хлопнул ладонью по столешнице. — Я тоже их терпеть не могу. А вообще-то я из Зальцбурга.
— По-моему, вы хирург.
— Совершенно верно. Вместе с моими повелителями в настоящее время пребываю в Вене. Должен сказать откровенно, что хирурги ещё более-менее порядочные люди. Мы честно вспарываем пациенту живот или отпиливаем ему ногу. Если у вас вдруг возникнет потребность, я сделаю вам это бесплатно, из чистого уважения.
— Благодарю, господин профессор, — с несколько наигранной беззаботностью усмехнулся Бетховен.
— Просто Вайсенбах. Что я хотел сказать? Да, кстати, вы заметили, что я несколько глуховат? Так вот, все остальные наши коллеги по медицинскому цеху сплошь невежи и бездари. Но зато какой же вы могучий талант, господин ван Бетховен! Этот ваш «Фиделио», о-о-о! — Вайсенбах для убедительности загнул уже обе ушные раковины. — Вот так я стоял у оркестровой ямы! Я восхищен вашей музыкой, и это не голая лесть. Посмотрите, может, вам пригодится. — Он осторожно положил на стол рукопись. — Это кантата, написанная специально для Венского конгресса. Истинной поэзией её, конечно, не назовёшь, так, набор стихотворных строк, необходимых композитору. Назвал я её достаточно претенциозно: «Славный миг».
За ночь они успели подружиться и договориться в первой половине следующего дня встретиться в квартире Бетховена.
Хирург остановился на пороге, прижал сжатую в кулак правую руку к груди и показал оттопыренным пальцем левой ладони сперва вверх, потом вниз.
Таким жестом во времена римского императора Нерона определяли судьбу поверженного на арене гладиатора: если большой палец устремлялся вверх, бойцу даровали жизнь.
Бетховен искоса взглянул на Вайсенбаха, подошёл к роялю и взял обеими руками аккорд ля мажор. Затем он заорал:
— Стоит Европа непоколебимо!
Затем последовали октавы и аккорды ре мажор.
— Партия для первого хора, Вайсенбах, — сухо отчеканил он. — Я положил на музыку ваш «Славный миг», но, между нами, это очень плохо.
— Я же вам говорил, Бетховен, что мой Пегас хромает если не на все четыре, то уж точно на две ноги... — Чуть надтреснутый голос Вайсенбаха даже захлебнулся от радости.
— Я знаю праздничную программу конгресса, — что-то прикидывая в уме, сказал Бетховен, задумчиво глядя на замершего в ожидании хирурга. — Бесконечные балы, выезды на охоту, парады, и всё лишь с одной целью: пустить пыль в глаза народу... Ну хорошо. — Он небрежно пролистал текст кантаты. — С точки зрения композиции здесь шесть номеров для смешанного хора, солистов и оркестра. Следовало бы напечатать текст финала и раздать слушателям, пусть подпевают.
— Превосходная идея, Бетховен.
— Слишком уж вы расточаете похвалу коронованным особам. — Бетховен презрительно выпятил толстые губы. — Но понятно, плыть по течению легче...
Он встал в позу и продекламировал:
Женщины толпами вышли вперёд, Хор государей их блеском своим приманил.— А теперь ещё вот. Нет, вот... Если не ошибаюсь, речь идёт здесь о Божьем оке:
Сей глаз есть Страшный суд, Он нам моргнул, И вся Европа В море крови захлебнулась!— Признайтесь, Вайсенбах, что муза вас так и не посетила, а заодно ответьте: вы умеете играть на фортепьяно?
— Что-что? — Хирург приложил ладонь к уху.
— Вы умеете играть на фортепьяно?
— Никоим образом.
— Вот видите, а я то же самое могу сказать о поэзии. Я даже двух строк не смогу зарифмовать. Тем не менее нам обоим придётся бесстрашно взяться за работу и хорошенько почистить ваш текст, доведя его до блеска.
Когда первые тонкие нити паутины заблестели в лучах не по-осеннему яркого солнца, на стенах и витринах появились афиши, сразу же привлёкшие к себе толпы любопытных.
«По высочайшему повелению во вторник 12 ноября 1814 года в Большом танцевальном зале состоится грандиозный концерт с исполнением следующих произведений господина Людвига ван Бетховена:
Во-первых, новая симфония.
Во-вторых, новая кантата «Славный миг».
В-третьих, новая многоголосая инструментальная композиция, написанная в честь победы Веллингтона в битве при Виттории.
Часть первая: Битва.
Часть вторая: Победная симфония».
В день, когда должен был состояться концерт, Бетховен постарался одеться как можно более изысканно. Тщательно завязать галстук ему снова не удалось, он этого никогда не умел делать, но зато его праздничный голубой сюртук сидел безупречно. На нём не было ни одной пылинки. Нанетта Штрейхер, добрая душа, выгладила сюртук и прошлась по нему щёткой. Через спинку стула был перекинут новый плащ.
Что же он ещё забыл? Правильно, монокль! Так как он уже не мог полагаться на свой слух, то должен был хотя бы, управляя оркестром, видеть каждое движение музыканта.
Он набросил на шею шёлковый шарф, вставил в правый глаз монокль и посмотрел в зеркало. Вроде бы вполне пристойное впечатление. Продано шесть тысяч билетов, значит, людям интересна его музыка...
Время уходить. Пальто, цилиндр, бамбуковая трость — и вперёд... Люди, всё ещё потоком устремлявшиеся в танцевальный зал, почтительно приветствовали его.
Он в ответ вежливо кивал и делал вид, что очень спешит.
— Мы готовы, Умлауф?
— Так точно, мой генерал, — любезно улыбнулся тот.
Почему-то всё вокруг раздражало Бетховена.
— Сколько их величеств сегодня присутствует?
— Нет только лже-Наполеона, зато есть настоящий.
— Это кто же?
— Это вы, Наполеон музыки.
— Чёрт бы вас побрал, Умлауф! — Бетховен даже выпучил глаза от возмущения.
— А что я такого?..
Бетховен сбросил плащ и торопливо провёл ладонью по волосам.
— Ладно, извините, Умлауф. Я просто нервничаю. И потом, мой слух...
— Не беспокойтесь. Я за фортепьяно и буду наготове, господин ван Бетховен.
Стены гигантского танцевального зала даже вздрогнули от аплодисментов, когда Бетховен, быстро пройдя по сцене, взошёл на дирижёрский подиум и поклонился публике. В ложах поражало обилие горностаевых шуб, а бриллианты сверкали не только на монарших звёздах.
Он постучал дирижёрской палочкой. Внимание. Но что-то тревожило и смущало его.
Нет, дело не в слухе. Может быть, кровь, от волнения прилившая к голове и теперь непрерывно стучавшая в висках. Сегодня он слышал лучше, чем обычно, а оркестр играл просто великолепно. Умлауф кивнул ему, изобразив на лице разочарование: дескать, я вам сегодня совсем не нужен, господин ван Бетховен...
Дольче... дольче!.. Пусть сперва начнут гобои, кларнеты и фаготы, постепенно меняя темп — сперва ля, затем до мажор...
Аплодисменты — так, чуть наклониться вправо, влево и особенно верхним ложам. Дальше! Солисты и хор готовы? Сколько они ещё будут настраивать инструменты и сколько мне как «генералиссимусу» ждать? Другую партитуру, Умлауф! Тишина в зрительном зале! И не трогать текст либретто, хватит его листам мелькать, как белым крыльям!
Начали! Хор:
Стоит Европа непоколебимо!И ещё раз:
Стоит Европа непоколебимо! И прошлое взирает удивлённо... О Боги древние! Чудесным Вашим блеском озарён, Явился к нам с Востока Светлый образ На радуге мира...Разумеется, в кантате нашлось место не только императору России, но и другим государям.
Король со Шпрее берегов. Страну утратив, Позже пределы он её расширил...Не был забыт и император Франц. Ваш голос, госпожа Мильднер.
Свершилось величайшее событие...Фортиссимо!..
О мир! Твой славный миг.Теперь ваш черёд, господин Вильд.
И вновь вернулись времена, Казалось, канувшие в Лету.Чушь какая, а как же быть с Французской революцией?
Теперь уж счастье точно суждено, О мир, твой славный миг настал!Публика неистовствовала от восторга, а с верхней галереи упал букет красных роз, брошенный рукой её величества российской императрицы.
— Это ещё не всё! Англичане и французы здесь? — крикнул Бетховен приплясывающему на месте Умлауфу. — Готова издающая гром машина?
— Дайте же передышку, господин ван Бетховен... Публика может не выдержать колоссальной мощи этого произведения.
— Чушь... — Бетховен плотнее зажал глазом монокль. — Запускайте!
И вновь потрясённые императрицы и королевы засыпали сцену цветами.
Русский посол Разумовский[113] после торжественного въезда своего императора в Париж получил княжеский титул, и тут же его дворец в Вене превратился в гудящий пчелиный улей. Сотни рабочих придавали ему гораздо более импозантный внешний вид и отделывали по-новому внутренние помещения.
Из Италии прибыли мраморные плиты и огромные ящики со статуями скульптора Кановы[114], под которые отводился целый зал. Пристройка же предназначалась для императорской четы, ибо Разумовский, узнав одним из первых о назначаемом конгрессе, намеревался достойно принять её. Ходили слухи о поистине сказочном, поражавшем немыслимой роскошью зале, который предназначалось торжественно открыть 30 декабря. Появление в нём в этот день российской императорской четы и других коронованных особ должно было не только завершить достойно славный 1814 год, но и как бы ознаменовать наступление ещё более славных времён. Предполагалось устроить банкет на более чем семьсот персон.
Около восьми вечера Бетховен вихрем, под чистый серебряный звон колокольчиков, подвешенных к сбруям лошадей, подлетел к дворцу. Сквозь широко распахнутые ворота виднелись шеренги замерших неподвижно лакеев в шитых золотом ливреях. За ними возвышалась долговязая фигура в дипломатической униформе с княжеской звездой на груди. Разумовский, казалось, сомневался, стоит ли ему ещё ждать опоздавших гостей.
Из полутьмы парка вышел хромой человек и униженно протянул изрядно потрёпанную фуражку. Зашевелились ещё какие-то тени, и в отблесках огней факелов на пилонах стали видны изорванные мундиры, костыли и глубокие отпечатки на снегу.
Нищие, от них нигде не скроешься, повсюду нищие. Но внезапно эти несчастные исчезли, словно призраки.
— Бетховен! Ну наконец-то! — Разумовский стоял в воротах. — Я уже почти утратил надежду! Вас очень ждут.
Бетховен подал лакею плащ, цилиндр и трость и небрежно бросил через плечо:
— Я хотел как можно быстрее сочинить новую фортепьянную сонату, дорогой князь, и потому...
— Бетховену не нужно извиняться. Ему всё позволено. — Разумовский низко поклонился. — Это я виноват, ваше императорское величество.
Высокий статный человек благожелательно посмотрел на Бетховена:
— Император всероссийский обращается к вам с нижайшей просьбой.
— Как?.. — Бетховен по привычке поднёс ладонь к уху.
— Ваше императорское величество, — поспешил вмешаться в разговор Разумовский, — движения моих губ уже знакомы господину ван Бетховену, и потому я хотел бы попробовать себя в качестве переводчика. Господин ван Бетховен, устраиваемому мной небольшому празднику должный блеск может придать лишь ваше искусство. Будет выступать балет придворного театра, и мой государь также выразил желание...
— Просьбу, Разумовский, — перебил его император.
— Я уже понял, несмотря на мою глухоту, — подтвердил Бетховен и усмехнулся. — В чём она заключается, ваше императорское величество?
— Если бы вы нам сегодня сыграли, господин ван Бетховен. — Ещё немного, и, наверное, император сказал бы: «согласились бы сыграть».
— Разумеется. Но что именно?
— Ну, во-первых, «Аделаиду», — опять заторопился Разумовский. — Его императорское величество познакомился с ней благодаря вашему покорному слуге, и с тех пор она стала его любимым произведением.
— Не стоит её слишком высоко оценивать, ваше императорское величество. Так, пустячок, юношеская забава. Что ещё?
— В этот раз по желанию его императорского величества канон из «Фиделио» «Мне так чудесно», — вновь ответил за Александра I Разумовский. — Состав тот же, что и на премьере. Разумеется, я также пригласил Умлауфа.
— Конечно, я исполню все пожелания его императорского величества. — Бетховен отвесил короткий поклон.
— Благодарю вас. — Император Александр взял Бетховена за руку. — А теперь пойдёмте, ибо я хочу пройти парадным маршем рядом с победителем при Виттории. Как видите, государи также не чужды честолюбия.
Позднее Бетховен занял место рядом с эрцгерцогом Рудольфом за четвёртым столом.
Тысячи горящих свечей превращали зал в море огня, который отражался нестерпимым блеском в мраморных, увешанных картинами в золочёных рамах стенах. Не менее ослепительно сверкали шитые золотом мундиры, эполеты, аксельбанты, бриллиантовые диадемы и ордена.
Появившийся на сцене Умлауф изогнул спину в глубоком поклоне, сел за рояль, и тут же из-за кулис выпорхнули балерины придворного театра и впереди примадонна.
Бетховен машинально пошевелил рукой, и тут же к нему приблизился один из стоявших вдоль стены лакеев.
— Спасибо. Ничего не нужно.
Короли добивались его благорасположения — по-другому это теперь никак нельзя было назвать, — князья, фельдмаршалы и дипломаты выстраивались в очередь, чтобы пожать руку ему, достигшему высшей цели, ради которой стоило проделать долгий путь с Рейнгассе и терпеть выкрики мальчишек «Шпаниоль! Шпаниоль!», а также пьяные выходки отца. И вот теперь он, отмеченный каиновой печатью, сидел здесь...
Умлауф так старается. Славный добрый малый... Примадонна просто восхитительна, как ловко и быстро она взлетает и как медленно и плавно опускается, подобно умирающей белой птице...
Так, теперь его черёд. Когда он встал, то сразу почувствовал, что все взгляды направлены на него. На сцене он сыграл несколько пассажей, давая понять сиятельной публике, что перед ними «король фортепьяно».
Кивок в сторону кулис, и из-за занавеса немедленно вышел певец. Потерпите, господин Вильд, сперва вступление. А теперь начали.
Одиноко бродит твой друг По весеннему саду, Где звучит соловьиная трель.Теперь аллегро мольто.
Наступит день, и — о чудо, о чудо На моей могиле Пепел сердца моего расцветёт. Аделаида! Аделаида!«Эти аплодисменты адресованы исключительно вам, господин Вильд. Мой вклад здесь слишком незначителен».
Прекрасно, а теперь сразу же канон из «Фиделио».
Обе певицы уже замерли, сделав книксен, певцы же застыли в поклоне.
Импровизированное вступление, и начинает Марцеллина:
Мне так чудесно, Что сердце сжимается...И так далее. Очередь Элеоноры.
Как велика опасность И как слаба надежда.Почему певцы и певицы так смущённо смотрят на него? Неужели?..
Внезапно ему показалось, что кто-то мягко, но очень настойчиво поглаживает уши, и вдруг словно открылись ворота, и он всё понял. Он слишком спешил.
Они начали ещё раз и довели канон до конца.
Все снова начали кланяться, и самый изысканный поклон отвесил Бетховен. Он прощался, но не с императорами и королями, а с публичными выступлениями. Ни один из присутствовавших здесь государей не мог ему помочь.
К утру тело его, словно свинцом, налилось усталостью, и он как бы провалился в склеп забвения. Тут кто-то затряс его за плечо:
— Господин ван Бетховен! Господин ван Бетховен!
Он с трудом разлепил веки. У кровати стоял господин Паскуалати. Но ему в полудрёме казалось, что он всё ещё в Бонне, и непонятно было, откуда в родном городе взялся его венский домовладелец...
— Господин ван Бетховен, вы ведь вчера, хотя можно сказать, уже сегодня были на банкете во дворце Разумовского?
— Да. Ну и что?
Паскуалати махнул рукой со свечой, и на стекле промелькнул багровый блик, сразу напомнивший Бетховену о той страшной ночи, когда в Бонне загорелся замок.
— Пламя охватило весь дворец Разумовского, и спасти уже ничего было нельзя, даже зал со статуями Кановы. А начался пожар в банкетном зале. Вскоре от всего этого великолепия останется лишь покрытая пеплом груда обгорелых развалин и целая куча долгов.
— Как долгов?
— Дворец Разумовского — это лишь потёмкинская деревня, — неодобрительно хмыкнул Паскуалати, — обманчивый фасад, не более. Правда, если в родных краях ты можешь черпать из казны и имеешь крепостных...
После ухода Паскуалати Бетховен медленно встал, накинул халат и подошёл к окну.
Рассвет занимался мучительно долго, но и в полутьме были отчётливо видны взметнувшиеся к покрытому чёрной копотью небу зыбкие языки пламени.
Трагический случай и случай ли?
В поисках образов для своих произведений он недавно пролистал Библию и наткнулся на историю пророка Даниила. Книга и сейчас лежала раскрытая на его секретере.
Он взял Библию, снова подошёл к окну и в отблесках пламени прочёл:
«Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино.
Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, жёнам его и наложницам его.
Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных.
В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского и царь видел кисть руки, которая писала».
Число пировавших почти совпадало с числом участников недавнего банкета. Но здесь крылось ещё кое-что. Только что именно?
И тогда он постепенно пришёл к мысли подвести некоторые итоги своей жизни. Он действительно притязал на то, чтобы быть равным среди вельмож, цифры, которые он одновременно складывал и вычитал, должны были упорядочить ход его мыслей и внести определённую ясность. Российский император наконец распорядился вручить ему пятьдесят дукатов за посвящённую ему скрипичную сонату многолетней давности. Тогда его ожидания были совершенно безнадёжными. Со своей стороны, императрица передала ему за полонез сто дукатов. Столь солидные гонорары казались теперь совершенно ничтожными при нынешней его славе.
Короли и императоры искали его благорасположения, прося взамен лишь немного музыки. Однако все ли его музыкальные произведения так хороши?
Он не осуждал себя за посвящение князьям и прочим правителям своих прежних сочинений, ибо творец обычно всегда нуждался в покровителях, и приходилось стучаться в украшенные гербами двери, даже почти наверняка зная, что они не откроются. А теперь?
Тут он почему-то вспомнил о Меттернихе, его вялом небрежном рукопожатии и его несколько загадочную улыбку. Он понял её смысл.
Да-да, господин ван Бетховен, каждого человека можно купить, всё зависит только от цены.
Уж не эту ли цену он заплатил за отказ от прежних идеалов любви к человечеству? Он, подобно библейскому герою, предал своё первородство за чечевичную похлёбку, ибо чем ещё можно считать бурную овацию за дурацкие трещотки и гром литавр в честь его псевдопобеды при Виттории.
С другой стороны, он, по крайней мере, стал знаменитым.
Он взял книгу с описанием так поразившего его знаменитого пира Валтасара и хотел было положить её обратно на секретер.
Тут на стекло вновь лёг багровый отсвет, и вновь отчётливо стала видна древнеегипетская надпись: «Ещё ни один смертный не приподнял мой покров».
Минула ночь его триумфа и низвержения в новую пропасть. Но и предрассветный, окрашенный огненным цветом полумрак не принёс избавления от душевных мук. Словно от прежней жизни, как от дворца Разумовского, остались только дым и пепел.
Часть 4 ТИТАН
— Прошу садиться. — Бетховен уважительно показал на стул. — Ещё ни у одного из моих слуг не было таких отличных аттестаций, как у вас. Я вчера внимательно прочитал их и могу лишь пожалеть о том, что в ближайшее время не смогу съездить в Зальцбург. Иначе я непременно посетил бы указанную в рекомендательном письме семью и сообщил ей, что вы теперь служите у меня.
— Если только она там ещё живёт.
— Как, простите?
— Если она... там... ещё... живёт.
— Я понял. Конечно. Вы ведь служили там довольно давно. Садитесь, пожалуйста.
Лакей скромно присел на краешек стула.
— Служили вы превосходно, это я уже выяснил, и особенно произвели на меня впечатление сведения о том, что вам можно доверять и что вы умеете хранить тайну. Видите ли, для меня это главное. Вот уже почти три года я живу довольно уединённо, и многих очень интересует, что же я за это время сочинил. Они с удовольствием бы навели на мои окна подзорные трубы, но, увы, квартира слишком неудобно расположена.
Лакей поднял глаза к потолку, как бы желая сказать: «Ну что за люди!»
— Ещё в Писании сказано: «Взгляни на помыслы человека, разве с младых лет не отягощён он злом?» — тоном псаломщика продолжал Бетховен. — Ну, я очень рад, что вы умеете держать язык за зубами, и почему бы, в конце концов, не рассказать вам всю эту историю. Знаете, порой хочется выговориться, а не перед кем.
На лице лакея отразился неподдельный интерес.
— Впрочем. — Бетховен подошёл к фортепьяно, — я как раз собирался поразмышлять над четвёртой частью моей новой сонаты. Три первых я написал ещё весной. Я бы назвал её: «Большая соната для молоточкового фортепьяно», потому что это действительно моя самая продолжительная соната. — Он сел к фортепьяно. — Си-бемоль мажор! Фортиссимо! Удар! Удар! Длительная пауза! Нужно оглянуться на себя и задуматься. Троекратное начало с трели. На том и остановимся.
Он вновь от души радовался звонкому отчётливому боевому кличу, возвестившему конец этих бесплодных мучительных лет. Он обрёл себя и даже полагал, что вправе вновь поднять когда-то преданное им знамя.
«Нисходящие терции! Я бросаю вам перчатку в знак того, что борьба продолжается! Этот мнимый лакей, напряжённо ждущий моей исповеди... Пожалуйста, только я исповедуюсь ударами молоточков!»
Цмескалю вовсе не требовалось предупреждать его. Этот субъект с его постным видом и чересчур елейным голосом сразу же показался ему подозрительным. А его рекомендательные письма наверняка фальшивые. Начальник полиции граф Зедлницки подослал его ко мне, ибо его и господина Меттерниха шпики шныряют теперь по улицам, трактирам и кофейням, выискивая революционеров, врагов государства. Таковым вполне можно считать и его, Бетховена, ведь он всегда выступал за всё возвышенное и хорошее, за гуманное отношение к людям, за мир и даже за истинное благочестие, так необходимое во времена ханжества и лицемерия.
Он рассмеялся про себя, представив лицо шпика, который вскоре окажется разоблачённым. Он также задумался над тем, как отнесутся многие к возвращению Наполеона. Стоило прогонять льва, чтобы Европой после Венского конгресса стали править волки и ещё более отвратительные существа — шакалы, исполнявшие для волков роль загонщиков...
Он сыграл престо, взял со скоростью пороховой ракеты череду пассажей фа мажор, наращивая их от низких басов до самых верхних нот, и вдруг резко остановился, как бы отразив в последнем звуке наступивший торжественный момент.
Тут он почувствовал, что пора кончать ломать комедию.
— Вы поняли? — Бетховен встал и резко качнулся вперёд.
— Что именно, позвольте узнать?
— Музыку. Разве последний пассаж не развеселил вас?
— Ну, разумеется, — согласно кивнул лакей.
— Меня это радует. А теперь идите.
— Куда прикажете? — настороженным тоном спросил лакей.
— В прихожую. Там я вам дам урок контрапункта, который поймёт даже такое отребье, как вы. Примите мои наилучшие пожелания, но, к сожалению, я не выношу шпиков, — с затаённым злорадством заявил он. — И я вам очень не советую сопротивляться.
Он резко вздёрнул его, словно тряпичную куклу, за ворот сюртука и вывел на лестничную площадку.
— Мой контрапункт — пинок. Одно мгновение, и вы со скоростью ракеты полетите вниз! Престиссимо!
Стука упавшего тела он не услышал и, отрывисто засмеявшись, вернулся в комнату. Неприятностей от этой своей выходки он мог не опасаться. Профессия шпика требовала анонимности, им ни в коем случае нельзя было раскрываться.
Какое ж гнусное время! Скорее открыть окно и впустить свежий воздух. Удивительно, но эта интеркомедия-фарс пробудила у него желание работать. Следовало достойно завершить последнюю часть большой сонаты для молоточкового фортепьяно.
Странно, но он почему-то решил, что в этом ему должен помочь Иоганн Себастьян Бах. Тем самым я покажу, что усвоил многое не только от моего известного учителя, но и испытал также влияние этого титана. Разумеется, обращение к Баху было бы шагом в прошлое, но порой обращение к традициям также может восприниматься как прогресс.
А теперь скорее на выход! В суд нельзя опаздывать. Ну где же повестка? Так, слушание дела состоится сегодня, 11 декабря 1818 года, в четыре часа пополудни. Господин Бернард — из-за своей глухоты он нуждался в переводчике — наверняка уже с нетерпением ждёт его.
До чего же неприятно, когда тебя отрывают от любимой работы, а пронизывающий ветер, швыряющий в лицо хлопья мокрого липкого снега, ещё более усиливает ощущение, что ты идёшь навстречу чему-то ненавистному и враждебному. Темнело по-прежнему рано, а так хотелось сейчас яркого солнечного света.
Фуга ля минор? В тройном голосоведении? Нет, сейчас он должен думать совсем о другом, ведь ему вскоре предстоит нешуточная борьба за судьбу двенадцатилетнего мальчика с бледным лицом и большими, живыми, чуть загадочными глазами. Покойный брат Карл в своём завещании назначил его опекуном своего сына. Подопечного звали также Карлом.
По совершенно необъяснимой причине Карл вдруг сбежал к матери, и теперь госпожа Иоганна ван Бетховен вновь стала претендовать на право быть наравне с ним опекуншей сына, чего он никак не мог допустить. Чтобы Иоганна, которую за легкомыслие и распутный нрав даже сравнивали со зловещей героиней «Волшебной флейты» Моцарта — Царицей ночи... Нет, никогда!
Ночь, ночь... Нужно очистить Карла от прилипшей к нему грязи. Был ли вообще он сыном его брата? Ну да, конечно, определённое сходство между ними есть. А Иоганна умела извлекать доходы из своих многочисленных любовных связей. Правда, её покойный муж это отрицал, но ведь не кто иной, как он, семь лет назад публично обвинил собственную жену в склонности к бродяжничеству и кражам. Суд тогда приговорил «Царицу ночи» к четырёхнедельному домашнему аресту...
Сильный порыв ветра вновь облепил лицо и одежду комьями снега, Бетховен злобно буркнул и вспомнил, что сказал отец, когда узнал о бегстве своей матери из монастыря, куда её поместили за неизлечимую склонность к пьянству: «Мы из благородной семьи!» Так, кажется. Когда же это было? Ну да, с тех пор пятьдесят лет прошло, но сегодня слова пьяного отца в каком-то смысле сохранили своё значение.
Как бы то ни было, но нужно спасать ни в чём не повинного мальчика. Вроде бы ему не в чем себя упрекнуть. Он поместил Карла в пансион к славным людям, с которыми когда-то сам водил знакомство.
Однако Бетховен быстро утратил веру в воспитательные методы достопочтенного патера Фрёлиха из Мёдлинга, так как ему стало известно, что его преподобие использовал мальчиков для удовлетворения своих противоестественных наклонностей, а потом поочерёдно клал их на скамью и палкой вбивал уважение к Церкви и государству. Он тогда забрал Карла оттуда, чтобы дать ему домашнее воспитание и хоть в чём-то заменить отца. Однако через несколько дней мальчик опять сбежал к матери! Пришлось прибегнуть к помощи полиции, вернувшей Карла в пансион.
Бернард ждал его в здании Сословного суда, и слушание, видимо, уже было назначено, поскольку при появлении Бетховена господин Гочевар, представлявший интересы Иоганны — она сама, слава Богу, отсутствовала, — немедленно удалился в зал заседаний.
Но что с Бернардом? Он явно чем-то недоволен или расстроен. К сожалению, его сейчас не расспросишь. Бетховен тяжело вздохнул и низко поклонился трём судьям в напудренных париках и роскошных мантиях.
Сидевший в середине, видимо, обратился к участникам процесса, так как Гочевар и Бернард почтительно поклонились.
— Представителем госпожи Иоганны ван Бетховен является господин Гочевар.
— Истинно так, ваша честь.
— Кто вы по профессии?
— Придворный писарь.
— Секретарь, отметьте. Далее, здесь присутствует капельмейстер и композитор Людвиг ван Бетховен. А кто вы?
— Моё имя Карл Бернард. Я — редактор «Венской газеты» и пришёл сюда, чтобы оказать помощь моему другу Людвигу ван Бетховену. Он... он может читать по моим губам.
— Допускается. Запишите в протокол имя господина редактора Бернарда. Переходим к рассмотрению дела. Первым просил дать ему слово господин Гочевар. Вы ведь родственник госпожи ван Бетховен?
— Смотря что понимать под этим словом. — Гочевар повёл широкими плечами. — Моя мать — сводная сестра матери госпожи ван Бетховен.
— Ах, вот как. Прошу вас, господин Гочевар.
— Высокий суд по делам дворянского сословия...
— Почему вы так это подчёркиваете? Вы имеете какое-то отношение к поданному в суд прошению?
— Какому прошению, ваша честь?
— Продолжайте.
— Конфликт, возникший из-за подопечного Карла ван Бетховена, я, ваша честь, в своём стремлении к подлинной объективности подробнейшим образом описал и чуть позже представлю свои записи со всеми необходимыми приложениями в распоряжение высокого суда. Поэтому в своей речи я намерен ограничиться лишь изложением сути дела и потому...
Бетховен не сводил глаз с губ Бернарда, которые, к его удивлению, были плотно сжаты.
— Высокий суд! У господина ван Бетховена, по моим сведениям, было три брата. Ни в коем случае не желая принизить их выдающиеся качества, тем не менее должен отметить, что все трое отличались некоторыми странностями. Не представлял собой исключения и покойный Карл ван Бетховен. Столь откровенное высказывание никак не может ущемить честь господ Бетховенов, оно неопровержимо доказывается тем, что в своих поступках они далеко не всегда руководствовались разумом и зачастую впадали в крайности. Господа Людвиг и Карл ван Бетховены, несмотря на связывавшие их братские узы, скорее относились друг к другу достаточно плохо, и господин Карл ван Бетховен менял своё отношение к господину Людвигу ван Бетховену лишь в тех случаях, когда ему требовались деньги. Да, высокий суд, и в связи с этим я смею утверждать, что мальчик Карл ван Бетховен являлся для обоих братьев своего рода товаром.
Бернард вскинул руку, но председатель суда жестом остановил его.
— Госпожа ван Бетховен в своём прошении подчёркивает, что господин Людвиг ван Бетховен сумел убедить Главное ведомство по делам опеки предоставить это право исключительно ему. Я не призываю вас, высокий суд, принимать во внимание материнские чувства, хотя, безусловно, с госпожой Иоганной ван Бетховен поступили весьма жестоко. Нет, я также не собираюсь оспаривать то обстоятельство, что господин Людвиг ван Бетховен был довольно добр к мальчику. Однако из-за присущих ему, как уже было сказано ранее, некоторых странностей и физического недостатка он не мог уделять воспитанию мальчика должного внимания, что не могло не отразиться на его поведении. Об этом свидетельствует приведённое в деле высказывание господина патера Фрёлиха из Мёдлинга.
— Позволю себе заметить, высокий суд, — как бы вскользь с поклоном обронил Бернард, — что к делу приобщено заявление просителя Людвига ван Бетховена, опровергающее оценку господина патера.
— Нам это известно, — важно кивнул судья. — Мы слушаем вас, господин Гочевар.
— Уже было сказано, что воспитание мальчика как в физическом, так и в духовном отношении оставляло желать лучшего. Вместо носового платка он зачастую пользовался промокательной бумагой, а так как господин Людвиг ван Бетховен холост, похоже, никто не заботился о чистоте белья и правильности осанки его подопечного. О религии мальчик получает совершенно превратные представления, в пансионе абсолютно не занимался Законом Божьим, высказывает дерзкие мысли относительно свободы и независимости и в будущем явно способен заняться антигосударственной деятельностью. Именно поэтому мы просим высокий суд или заставить господина Людвига ван Бетховена полностью отказаться от своих прав на опекунство, или, по крайней мере, побудить его разделить эти обязанности с матерью несчастного мальчика.
Гочевар передал судьям свои записи, поскрёб свой крючковатый нос, который Бетховен сразу же окрестил клювом стервятника, и нарочито скромно отошёл назад. Председатель суда тут же обратился к противоположной стороне:
— Теперь, господин Бернард, я вынужден прибегнуть к вашим услугам. Спросите у господина Людвига ван Бетховена, каким образом его подопечный ускользнул из-под его опеки?
Губы Бернарда плавно задвигались, и Бетховен сразу же ответил:
— Не знаю. Во всяком случае, он сбежал к своей матери.
— И какие же причины побудили его к этому поступку?
— Вероятно, страх перед наказанием. Он грубо обругал посыльного и кое-что украл у меня.
— Деньги?
— Да, ваша честь, деньги, на которые он купил себе сладости.
— Он снова в пансионе?
— После сурового наказания.
— Бернард, что спросил господин судья?
— Сурово ли вы наказали его?
— Я, — улыбка на лице Бетховена уже сама по себе была достаточно красноречивым ответом. — У мальчика хорошие задатки, и я хочу развить их. Сейчас его обучают игре на фортепьяно, французскому языку и рисованию. Таким образом, Карл всегда под надзором, и всё же я хотел бы отдать его в пансион, может быть, в прославленный Мёлькер или в Терезианум.
— В Терезианум принимают только выходцев из благородных семей. — Судья тяжело откинулся на высокую резную спинку стула. — И посему я хотел бы сразу же выяснить: есть ли у вас дворянский титул, господин ван Бетховен?
— Я не понял, Бернард. — Бетховен, как обычно в таких случаях, приложил ладонь к уху.
На лице редактора появилось суровое выражение, кожа на лбу собралась в мелкие складки.
— Высокий суд желает знать, есть ли у вас дворянский титул.
— Только потому, что меня зовут ван Бетховен? Но в Голландии так называют не только дворян.
— Следовательно, вы не дворянского происхождения, господин ван Бетховен. — Председатель суда произнёс эти слова так громко и резко, что Бетховен понял их без переводчика.
Председатель суда взглянул на заседателей и после их подтверждающих кивков отложил бумаги в сторону.
— Я закрываю заседание. Приговор Чрезвычайного суда высшей инстанции будет передан ответчику.
Они с шумом отодвинули стулья и вместе с господином Гочеваром, на лице которого застыла загадочная улыбка, покинули зал.
— Что случилось, Бернард?
— Анонимное письмо, господин ван Бетховен. Я узнал о нём через свои источники.
— Гочевар?
— Вполне возможно.
— И что теперь? Магистрат? Судебная инстанция для всякого сброда? Неужели они отправят меня туда? Почему вы пожимаете плечами, Бернард?
В этом безумном, едва не канувшем в Лету мире лицами благородного происхождения считались лишь те, кто носил дворянский титул с рождения или был пожалован им каким-нибудь государем.
Для него же действовала совершенно иная табель о рангах, он считал лицами благородного звания тех, кто соответствовал этому по своим духовным и моральным качествам.
Князь Кински, у которого ему приходилось выпрашивать каждый гульден своей пенсии, был, по его мнению, нищим духом и не имел никакого права на свой титул. То же самое можно было сказать и о сиятельной княгине. Их всех с чистой совестью следовало назвать плебеями. Напротив, эрцгерцог Рудольф, к которому надлежало обращаться не иначе как «ваше императорское высочество», был вполне достоин своего высокого звания и положения. Их почти ничто не разделяло. Можно ли было считать дворянином Стефана фон Бройнинга? Гляйхенштейна? Графа-обжору? Он почти не задумывался над этим и знал лишь, что в их присутствии всегда чувствовал себя хорошо. Среди иудеев также встречались порядочные люди, а среди христиан дворянского звания были такие, которых он сравнивал с мелкой разменной монетой. Для него в человеке главное — голова и сердце. Но скажи он об этом на суде, трое представителей дворянского плебса лишь надменно улыбнулись бы в ответ.
Неужели они осмелятся так по-хамски поступить с ним? Всё-таки он был уже почётным гражданином Вены, но звание это ему присвоили вовсе не за выдающиеся достижения на поприще музыки, а потому, что он не погнушался лично дирижировать исполнением своей батальной пьесы в госпитале для бедных имени Святого Маркиера. Бедняк музицировал для бедняков, и присвоение ему звания почётного гражданина лишь подчёркивало это.
Почему, почему у него внутри всё кипит от неукротимой злобы? Неужели эти дворяне-плебеи так сильно оскорбили его самолюбие? Он громко и хрипло рассмеялся. Напротив, он теперь гордился своим происхождением. Да, он сын лишённого за пьянство родительских прав музыканта и дочери повара, но его имя — Людвиг ван Бетховен.
Аллегро резолнюто![115] Нет, нормы контрапункта Баха нужно трактовать гораздо более свободно, ведь после его смерти многое изменилось. Правда, в нынешние времена ни о каких свободах для тех, кто живёт трудом своих рук или ума, даже речи быть не может. Напротив, реакция, именуемая Реставрацией, всячески принижает их, ставя порой в совершенно невыносимое положение.
Ну хорошо, забудем о грустном и вспомним приятное. Кто кроме него ещё способен так блистательно фугировать эти три голоса?
Разумеется, только при определённой свободе. Ибо он поднял знамя во имя борьбы за свободу, человеколюбие и мир — ценности, принадлежащие отныне не только дворянскому сословию. И пусть за ним следят, пусть унижают, пусть подозревают в антигосударственной деятельности.
Для этих трёх голосов он использует все приёмы контрапункта: сжатие, увеличение, обращение. Важно сочетание законов музыки с моральным законом в его груди, они сплетутся воедино и зазвучат по-новому, и ещё как зазвучат...
Вечером он поспешил в пансион. Дочь его владельца Джианнатазио Фанни встретила его и сразу убедилась, что Бетховен сегодня совершенно ничего не слышит. Когда он пребывал в хорошем настроении, его левое ухо воспринимало какие-то звуки. Но сегодня его словно запечатали, и любой крик будто наталкивался на непробиваемую стену. Она поймала на себе его пытливый, настороженный взгляд.
— Я попросил бы вас писать.
Фанни развернула лист бумаги и вывела на нём чёткими буквами: «Господин Бернард уже был здесь».
— Тогда вы всё знаете, — мрачно процедил он.
Фанни дрожащей от возмущения рукой написала: «Мы — Джианнатазио дель Рио — дворянского рода. Но кто мы по сравнению с вами?»
— Для такой красивой женщины, как вы, Фанни, — взгляд Бетховена потеплел, — происхождение не имеет значения.
Она грустно улыбнулась и пошла за Карлом. Он долго смотрел ей вслед. Как всегда, чувствовал себя бесконечно одиноким и очень тосковал по любимой женщине, способной делить с ним радости и муки, которых оказывалось куда больше...
Фанни привела Карла, и он сразу обнял маленькое стройное, чуть подрагивающее тело. В этом его порывистом жесте было нечто, растрогавшее и одновременно огорчившее внимательно наблюдавшую за ними девушку.
Было понятно, что необычайно одарённый, но зачастую грубый и невыносимый человек в действительности обладал наивной, легкоранимой душой ребёнка. Казалось, мальчик был для него последней надеждой.
— Ну, как у нас дела, Карл?
— Спасибо, хорошо, дядюшка.
Эти слова вполне можно было прочитать по губам.
— Я же просил тебя, Карл, называть меня отцом.
— Мой дорогой отец, — тихо произнёс мальчик и обвил руками шею Бетховена.
— Мой дорогой сын.
Глаза Фанни подёрнулись пеленой, она едва не всхлипнула и, отвернувшись, вдруг подумала, что, может быть, её ненависть к Карлу не что иное, как ревность. Карл был недостоин любви. Отец полностью был согласен с ней, он много занимался мальчиком и мог оценить его характер. Наверное, стоило выразиться ещё резче. Ей это подсказывал женский инстинкт. Карл был настоящим актёром, в свои двенадцать лет он умел уже изворачиваться, как угорь, и очень убедительно лгать. Он оказался сыном своей матери и вряд ли когда-нибудь изменит свою натуру. Змея останется змеёй, даже если её нежно прижмёшь к сердцу.
— Что же мы будем теперь делать, сынок? — Бетховен протянул руки к своему подопечному. — Ты действительно веришь, что я к тебе хорошо отношусь?
— Дорогой отец!
Этот человек с душой ребёнка, разумеется, не заметил, что мальчик говорил слишком слащаво, а поведение его было наигранным. И глаза его, когда требовалось, выражали наивную доверчивость, и сам он казался таким чистым, открытым...
— Ты непременно должен выбрать себе творческую профессию или стать учёным, мой мальчик, ибо только эти люди внутренне свободны. Для этого у тебя есть все задатки. Тебе нравится у Джианнатазио?
— Очень.
Он был прямо-таки воплощением искренности, и даже Фанни, наверное, не усомнилась бы в правдивости его слов, если бы всего лишь час назад один из учеников не рассказал, как гнусно Карл отзывался о ней.
— С каким удовольствием я забрал бы тебя с собой в Вену...
Фанни сразу же увидела, как на мгновение у Карла алчно сверкнули глаза. В следующую минуту он покорно склонил голову и ласково потёрся лбом о плечо Бетховена, который конечно же ничего не заметил.
— Поверь, разлука с тобой приносит мне неимоверные страдания, но тебе, сынок, необходимо жить и учиться в спокойных условиях, чтобы достичь высоких целей. Не стоит дёргать тебя, нечего таскать туда-сюда, ты у меня умница и сам прекрасно всё понимаешь. Я не хочу, чтобы потом мы с твоей матерью попрекали друг друга. Знаешь, в Ландегуме есть профессор Зайлер, знаменитый учёный и педагог, его пансион пользуется весьма солидной репутацией. Разумеется, это стоит больших денег, но тут я, в отличие от твоего отца, экономить не буду. Ты бы учился тогда вместе с детьми из самых благородных семей.
Карлу уже изрядно наскучили эти разглагольствования, он скрипнул зубами, с трудом сдерживая зевок, но встревоженный Бетховен истолковал его жест совершенно по-иному.
— Ты устал? Тогда иди спать и постарайся хорошенько выспаться. Спокойной ночи. Но у тебя есть желание попасть в интернат к профессору Зайлеру?
— У меня есть желание. — Он говорил медленно, старательно подчёркивая каждый слог, будто знал, что за ним записывают его слова. — Я охотно подчинюсь любому твоему приказанию, батюшка.
— Мой мальчик! Мой мальчик!
Господин Джианнатазио уже несколько минут находился в комнате. Он сел к столу напротив Бетховена и написал: «А что, если дело действительно стоит передать в магистрат?»
— Тогда я буду бороться до конца. — Бетховен сдвинул кустистые брови и сжал кулаки. — Я ни перед чем не остановлюсь. Вспомните о рыцарях, занимавшихся грабежом, и о разбойниках с большой дороги. Они ничем не гнушались, но в итоге их потомки получили дворянское звание. Вот и я...
«Я не хочу вмешиваться в ваши дела, — торопливо написал Джианнатазио, — но...»
— Что «но»?
— Вы же знаете, господин ван Бетховен, как мы уважаем вас и поэтому...
— Что поэтому? — Бетховен вырвал у него из-под пера записку. — Я всё понял, вы плохо относитесь к Карлу!
Его лицо потемнело от гнева, но голос был спокоен, и говорил он нарочито вежливым тоном:
— Впрочем... Я прошу прощения за то, что не сказал вам этого раньше. Но чтобы не ставить вас перед свершившимся фактом... Одним словом, через несколько дней я заберу Карла и отвезу его в интернат Блехлитера. Всего наилучшего.
«Ну как так можно. — Фанни металась по комнате, как разъярённая львица в клетке. — Ну неужели он и впрямь верит Карлу? Просто он так одинок, так одинок!.. Но этот поганый мальчишка погубит его, погубит его!.. От него одни несчастья!»
Она всхлипнула и, закрыв лицо руками, выбежала из комнаты.
Заканчивалась осень 1821 года.
Трактирщик Шлейфер принёс ещё вина. Он лично обслуживал солидных завсегдатаев своего заведения.
— Не угодно ли господам пройти внутрь?
Профессор Академии художеств Блазиус Хёфель, несколько лет тому назад по портрету в книге Летроне изготовивший гравюру с изображением Бетховена, разлил вино и протянул руку к стакану.
— В вас нет никакой романтики, Шлейфер. Мы хотим распить последний кувшин в последний чудесный тёплый вечер в этом году под открытым небом. Вы, конечно, не откажетесь, Эйснер. Разве вы хоть раз сказали «нет»? Скажите, господин комиссар полиции, почему так сильно чадит свеча в садовом подсвечнике? Если не ошибаюсь, именно вы отвечаете за уличное освещение в Винер-Нейштадте.
— Я сегодня уже закончил службу. — Комиссар с удовольствием вытянул усталые ноги.
— Ваше здоровье! — Хёфель поднёс стакан к губам. — Итак, мой дорогой комиссар, как служащий полиции, вы, конечно, ничего не понимаете в искусстве...
— Кто вам это сказал, Хёфель? Моя жена...
— Ваша жена гораздо образованнее вас. Во всяком случае, если у вас есть хоть малейший интерес к искусству, то непременно посмотрите картины, подаренные графом Ламберсом Академии художеств. Не так ли, Эйснер?
— Один Рубенс чего стоит, — попыхивая трубкой, ответил Эйснер. — Должен признаться, что талантом он превосходит нас обоих. Давайте запьём горе вином. Ваше здоровье, Хёфель.
В саду под тяжёлыми шагами зашуршал гравий. К столу подошёл полицейский и лихо вскинул ладонь к козырьку шлема.
— Прошу прощения, господин комиссар.
— Что случилось, Францмейер?
— Явился за получением указаний, господин комиссар. Мною задержан крайне подозрительный субъект.
— Пьяный?
— Никак нет, господин комиссар, бродяга весьма строптивого нрава. Пришлось заковать его в цепи.
Полицейский вынул из кармана записную книжку в плотном свином переплёте и заговорил рублеными фразами служебного рапорта:
— Время — шесть часов вечера. Задержанный заглядывал в окна домов неподалёку от Унтерских ворот, чем и привлёк внимание жильцов, которые обратились ко мне за помощью. Я незамедлительно произвёл задержание. Никаких документов, удостоверяющих личность, господин комиссар. В кармане изрядно потрёпанного сюртука нами обнаружена старая газета, в которой, по утверждению задержанного... — вновь взгляд в записную книжку, — некоего Бетховена, речь идёт именно о нём.
— О ком? Ничего не понимаю. Выражайтесь яснее, Францмейер.
— «Венская модная газета». Статью я обвёл красным карандашом.
Комиссар брезгливо развернул пожелтевший измятый газетный лист и громко прочёл:
— «Господин Клебер из Бреслау недавно закончил писать маслом портрет нашего знаменитого композитора Людвига ван Бетховена. Этот превосходный художник сумел точно передать не только внешний, но духовный облик гения...»
Комиссар прервался и задумчиво подёргал мочку уха.
— И задержанный бродяга утверждал, что он и есть Бетховен?
— Так точно, господин комиссар. Более часа он барабанил кулаками в дверь камеры с криком: «Я — Бетховен!»
— Он действительно немного не в себе, наш славный Бетховен, — ехидно засмеялся Хёфель. — Достаточно сказать, что он с кулаками бросается на любого, кто хоть мельком упомянет при нём «Битву при Виттории». А ведь именно благодаря этому произведению он и прославился. Но всё-таки он не настолько безумен, чтобы одеваться как бродяга.
— Приложите к протоколу, Францмейер. — Комиссар протянул подчинённому газету. — Завтра в восемь утра я лично побеседую с «господином ван Бетховеном». Передайте моей жене, что я скоро приду.
Позднее комиссар, зайдя в здание полицейского участка, на верхнем этаже которого находилась его квартира, заглянул в служебное помещение:
— Ничего нового, Грасман?
— Ничего, господин комиссар.
— Как ведёт себя задержанный?
— Спокойно.
— Ну тогда... — комиссар от души зевнул и прикрыл рот ладонью, — спокойной ночи.
— Спокойной ночи, господин комиссар. Осталось пожелать вам приятного отдыха.
Он снова приподнялся на топчане и сквозь зарешеченное окно увидел медленно уползающий за крыши полумесяц.
Он был одет как бродяга, и поэтому задержали его вполне справедливо, но кто виноват, что он выглядел именно так.
— Ты, Жозефина?
Потеряв слух, он всё чаще разговаривал сам с собой, ведь для этого не нужно было особой тетради, куда его собеседники обычно записывали свои вопросы и ответы.
Он склонил голову набок — эта поза в последнее время стала для него привычной — и с подозрением всмотрелся в темноту.
— Конечно, я ни в чём не упрекаю тебя, но почему, почему ты умерла? День твоей смерти — 31 марта — окончательно доконал меня. Ради кого мне теперь щеголять, как... как не знаю кто. Ты не видишь меня, а музыку я не слышу. Сейчас у меня такой ужасный вид... — Он криво улыбнулся. — На моём лице неизгладимый след желтухи. Видимо, у меня больная печень, как, впрочем, у Наполеона, которого дьявол забрал к себе с острова Святой Елены. Волосы изрядно поседели. — Он с сожалением развёл руками. — И хотя мне всего пятьдесят один год, но я чувствую, что метроном жизни уже отбивает в ритме престо. Так-так-так... В последний год я написал больше прошений, чем нот, и в результате добился своего. Мальчик принадлежит мне! Разумеется, далеко не все мои расчёты оправдались. Карл так и не попал к профессору Зайлеру, потому что ему отказали в выдаче паспорта. ...А вообще, ты знаешь, в моей голове, словно призрак, блуждает соната для фортепьяно, но я никак не подберу для неё подходящей темы. — Тут он мотнул головой. — Хотя нет, почему? Есть тема. Помнится, в Хейлигенштадте я кое-что записал. — Он встал, прошёлся по камере и неожиданно с силой ударил по табурету. — Маэстозо! Форте! Я могу играть здесь точно так же, как и на роскошном фортепьяно, которое прислал из Лондона один мой почитатель. Но мне нужен свет! Эти негодяи заперли меня в тёмной камере. Я им сейчас дверь табуретом выбью.
Грохот и треск возымели своё действие. Через какое-то время дверь распахнулась, и Бетховен увидел на пороге комиссара и рядового полицейского.
— Что вы себе позволяете, задержанный? — рявкнул комиссар. — Если вы будете устраивать спектакли, я прикажу связать вас по рукам и ногам.
— Что?.. — Бетховен приложил ладонь к уху. — Я — глухой. Мне нужен свет. И ещё... Прикажите послать за Герцогом.
— За кем?
— Только не делайте такое глупое лицо, комиссар, — укоризненно улыбнулся Бетховен. — Вы же знаете всех, кто живёт в здешних краях. Я имею в виду музыкального директора Герцога. Он удостоверит мою личность. Я — Людвиг ван Бетховен, почётный гражданин Вены, хотя на это звание мне глубоко наплевать, как, впрочем, и на дворянский титул.
— Вы — бродяга без роду и племени.
— Что?.. В своё время я, слава Богу, чуть не проломил в Грэце череп князю Лихновски, и если вы тотчас не отправитесь к Герцогу...
Комиссар поднёс фонарь к лицу «бродяги» и поразился его злобно сверкавшим глазам с расширенными зрачками. Откуда этот странный субъект мог знать о глухоте Бетховена? А история о непризнании Верховным судом за знаменитым композитором дворянского звания в своё время наделала в Вене много шума, но вряд ли о ней мог слышать простой бродяга.
— Ну хорошо, я извещу господина музыкального директора Герцога, — нерешительно проговорил комиссар и тут же сурово добавил: — Но если окажется...
— А ну-ка галопом за Герцогом! — с отчаянной лихостью прервал его Бетховен. — Хотя постойте, ребята! Не забирайте фонарь и принесите мне бумагу и карандаш. Хочу записать новую композицию.
— Грасман, принесите задержанному всё, что ему нужно, и до моего возвращения оставайтесь с фонарём в камере. Но будьте осторожны.
— В каком смысле, господин комиссар?
— В любом, Грасман. Даже не знаю...
Через полчаса комиссар вернулся, повертел головой так, словно его слишком тугой воротник мундира невыносимо резал шею, и закашлялся, выигрывая время.
— Всё в порядке, Грасман? — наконец тихим настороженным голосом спросил он.
— Так точно, господин комиссар! — как и полагается по уставу, отчеканил полицейский и тут же скривил губы в пренебрежительной усмешке: — Этот бродяга чего-то там марает, но совсем на ноты не похоже. Я-то знаю, как они выглядят, у меня у самого дочь на фортепьяно играет.
Наконец в камере появился музыкальный директор:
— Да вы с ума сошли! Господин ван Бетховен!
— Очень мило с вашей стороны, Герцог, — меланхолично произнёс Бетховен. — Извините, что нарушил ваш сон, но больше я поблизости никого не знаю. Можете ещё немного потерпеть? Я тут кое-что задумал, но голова, знаете, с возрастом всё больше и больше походит на сито.
— Я охотно подожду.
— Это не долго. Аллегро кон брио аппассионато![116] — бормотал Бетховен, стремительно водя пером по бумаге. — Потом фортиссимо! Соль-ля-си-до-бемоль. И ещё раз си и фермата![117] Следом то же самое, но уже без ферматы...
Комиссар и его подчинённый долго смотрели вслед Бетховену и Герцогу. Уже давно стих звук их шагов, а они всё ещё не сводили глаз с чуть приоткрытой двери полицейского участка.
— Грасман!
— Слушаю, господин комиссар! — Полицейский даже вздрогнул от неожиданности.
— Вы, кажется, заявляли, что разбираетесь в нотах? Так вот, вы дурак и невежа!
— Так точно, господин комиссар!
— Пусть ко мне завтра явится Францмейер.
Он не слышал своих гулко звучавших под сводами собора шагов, и потому его угнетала тишина, как бы затаившаяся в полумраке. Мерцала неугасимая лампада, главный алтарь сегодня был отгорожен решёткой. Он повернулся и с усмешкой взглянул на хоры.
В последний раз он играл на органе, когда обручился здесь с Жозефиной. Это было немыслимо, но прошлое по-прежнему, словно могильная плита, давило на него.
Зачем он вообще пришёл сюда? Сидел за роялем и вдруг сорвался с места и чуть ли не бегом бросился в собор. А может, это она позвала его?
Подобно многим глухим или одиноким людям, он настолько привык разговаривать сам с собой, что даже не обращал внимания на окружающих. Сейчас он также задавал сам себе вопросы и сам же отвечал на них, не замечая сидевшую рядом даму под вуалью и со страхом глядевшую на него маленькую девочку.
— Тётя, а ведь...
— Тихо, дитя моё. Он ничего не слышит, он — глухой. Это господин Людвиг ван Бетховен, о котором я тебе так много рассказывала.
— За кого он молится? — Серо-голубые глаза расширились и таинственно потемнели.
— Сложи снова руки, дитя моё. Давай ещё раз помолимся за твою мать.
В притворе Бетховен вдруг почувствовал, как кто-то легонько коснулся его локтя. Он резко повернулся:
— Графиня! Мы, наверное, не виделись целую вечность.
— Да, — тихо сказала Тереза, согласно кивнув, — вы правы, господин ван Бетховен. Минуло уже столько лет.
Он опустил голову. О чём говорить с человеком, которого последний раз видел...
— Впрочем, я тогда... был на кладбище.
— Я заметила вас. Вы стояли в стороне.
Он без труда читал по губам Терезы, ибо её манера говорить была ему хорошо знакома. Встреча эта была похожа на возвращение в родной дом, но одновременно она навеяла мучительные воспоминания. Он спокойно, без всякой злобы в голосе сказал:
— Я всегда стоял в стороне.
— Ну нет, что вы, господин ван Бетховен, далеко не всегда.
Зачем тревожить старые раны, зачем сыпать на них соль?
Он наклонился и протянул девочке руку.
— И кто же это?
Девочка сделала книксен и, очевидно, назвала своё имя.
— Не понял? — Бетховен подался вперёд, надавив ладонью на ухо, а затем вынул из кармана разговорную тетрадь. — Напиши, как тебя зовут. Вот карандаш. Ах да, извини, Ты же ещё, вероятно, не умеешь писать.
— Да ну что вы, господин ван Бетховен, — в шутку ужаснувшись, замахала руками Тереза Брунсвик. — Давно научилась!
— Вот как?! В самом деле?
Девочка взяла карандаш и, выводя своё имя, по детской привычке от усердия даже высунула язычок. Затем она с церемонным поклоном протянула тетрадь Бетховену. Внизу страницы неуклюжими буквами было написано: «Ми-но-на».
— Смышлёное дитя. А какое здоровое, сильное.
— Она здоровее и сильнее всех нас.
— Минона, — ласково потрепал он девочку по щеке. — А ведь цвет лица у тебя почти такой же, как у меня. Жаль, что я глухой, иначе я сыграл бы вам что-нибудь. Как... как в былые времена, графиня. Или ты не увлекаешься музыкой, Минона?
— Наоборот... — с жаром возразила девочка.
— Она даже пытается исполнить одну из сонат... Людвига ван Бетховена... Ту, которая полегче, — чуть дрогнувшим голосом сказала графиня и отвернулась. И добавила, пряча дрожащие руки: — Кстати, в ризнице мы говорили о вас с патером Вайсом.
— Он верит в свою микстуру, как в Евангелие, — презрительно бросил Бетховен.
— Ну хоть попробуйте.
— После того, как профессора и доктора мне ничем не смогли помочь...
— А в музыке вы тоже считаете профессоров и докторов последней инстанцией?
Бетховен не успел ответить. Минона дёрнула свою тётю за рукав, что-то взволнованно прошептала ей, а затем железной хваткой вцепилась в руку Бетховена.
— Что ей нужно? — Он вопросительно взглянул на Терезу.
— Минона очень упрямая и всегда добивается своего. И уж если что ей в голову втемяшится... Сегодня ей непременно хочется сделать добро, и потому она отведёт вас к патеру Вайсу.
— Я покорно пойду за тобой, как... когда-то пошёл за полицейским. — Взгляд Бетховена потеплел, на лице появилось непривычное для него выражение отеческого внимания и заботы. — Только не спеши. Видишь, я уже иду.
— О, как я счастлива, маэстро! — Госпожа фон Эртман поцеловала Бетховена в лоб и, отойдя назад, восхищённо закатила глаза. — Боже, как я рада вас снова увидеть.
— Бетховен! — Генерал протянул ему обе руки. — Должен признаться, что для меня тоже нет более приятного зрелища! — Он обнял жену за плечи и осторожно привлёк к себе. — Сперва мы, конечно, поехали на кладбище. Могила просто в образцовом состоянии. Мы посадили там свежие цветы и тут же поехали к вам.
Бетховен напряжённо всматривался в губы генерала и наконец, внутренне подобравшись, торопливо пробормотал:
— Эртман, я... я не понял ни одного слова. — Он горько усмехнулся и даже попытался пошутить: — При отъезде в Милан вы забрали с собой мой слух.
Генерал фон Эртман умел владеть собой. Он улыбнулся уголками губ и, не выдавая волнения, по слогам произнёс нарочито равнодушным голосом:
— Он ухудшился?
— Да, я оглох, — как бы извиняясь, ответил Бетховен, — но не до конца, и если вы, Эртман, выстрелите у меня над ухом из пушки...
Он сделал несколько шагов по комнате и поставил перед гостями стулья.
— Прошу садиться. Когда вы в последний раз были у меня? Шесть или даже семь лет тому назад? Ах, больше! Тем временем в печати уже появилась моя соната для фортепьяно ля мажор, опус сто один. Как летит время, моя дорогая Доротея Цецилия, не правда ли? И что такое моя глухота по сравнению с вашей потерей.
— Но я теперь хотя бы могу плакать, маэстро. — Баронесса отняла руки от залитого слезами лица и попыталась улыбнуться.
— Да это была просто моя дурацкая выходка. — Бетховен приподнялся, потом снова сел, стиснул косточками пальцев виски и отрицательно закачал головой. — Я хорошо помню, как ваш муж пришёл ко мне и сказал: «Бетховен, вы знаете, что наш мальчик умер, а Доротея сидит с окаменевшим лицом и даже плакать не может». — Он глубоко вздохнул, словно впервые осознал всю тяжесть взятой на себя тогда ответственности. — Вспомните, Эртман, что тогда я пренебрежительно бросил вам: «Пришлите её ко мне», — но, когда она пришла, меня прошиб холодный пот. Играл я дрожащими пальцами, поверьте, никакой моей заслуги здесь нет. Это как-то само собой произошло, будто кто-то мне подсказывал звуки.
— Ты только посмотри, Доротея. — Генерал Эртман подошёл к фортепьяно. — Какое роскошное английское изделие. На нём даже выгравировано имя нашего виртуоза.
— Именно такое фортепьяно полагается иметь генералиссимусу от музыки и победителю в «Битве при Виттории», — пряча улыбку, кивнул Бетховен. — И потому меня назначили почётным членом Лайбахского филармонического общества и Штирийского союза музыкантов. Хотите, я сыграю вам пассаж из моей Девятой симфонии? Обычно я больше не исполняю свои произведения перед публикой, но ваш визит заставляет меня отбросить даже самые твёрдые принципы. И потом, мне хотелось бы ещё раз выступить перед моей дорогой Доротеей Цецилией в роли «повелителя фортепьяно». Я потерял слух, но клавиши пока ещё чувствую. — Он сел за фортепьяно. — И сыграть я вам должен что-нибудь радостное, ибо ваш визит доставил мне несказанную радость. Может быть, мольто виваче. Я умерил его стремительный темп до ритма баттуте[118]. Надеюсь, Доротея Цецилия, вы ещё помните, что это такое? Мы ведь с вами занимались теорией...
Внезапно он как-то отчуждённо отстранился от рояля и горько посетовал:
— Извините! Я совсем забыл... В фортепьяно нет струн. Я их вынул, чтобы не беспокоить жильцов нашего дома. Оказывается, я им всем мешал. Но не расстраивайтесь, Доротея Цецилия! Иногда я вдруг начинаю хорошо слышать, хотя вроде бы уже навсегда потерял слух.
На лестнице она припала головой к груди мужа и зарыдала во весь голос. Генерал привлёк к себе жену и, глядя в её заплаканные глаза, удручённо вздохнул:
— Какой ужас! Слышать в этом мире только постукивание и пощёлкивание фортепьянных молоточков! Я бы предпочёл погибнуть на поле битвы, чем жить с таким кошмаром.
— Есть ли Бог на свете? — Она возбуждённо пробежалась глазами по его суровому чеканного профиля лицу. — Я об этом спросила, ещё... ещё когда умер наш мальчик. Нет, Бог, если он, конечно, существует, никогда не допустил бы такого!
Бетховен вытер слезящиеся от долгого напряжения глаза смоченным холодной водой платком и посмотрел на часы. Он всегда ставил их возле миски, когда менял компресс. Вместо прописанных врачом сорока минут он держал его всего четырнадцать, так как не хотел терять времени.
На несколько минут он смежил усталые веки, затем всмотрелся в висевшее в простенке между окнами высокое зеркало в чёрной инкрустированной раме. Нет, это не обман зрения. Видимо, желтуха вновь уложит его на несколько недель в постель. Вообще у него вдруг обнаружился целый сонм болезней. Особенно его мучили ревматизм и боли в желудке, которые доктора объясняли «воспалением подчревной области». Содержимое его бумажника после диагноза ещё больше уменьшилось, но до избавления от страданий было ещё далеко, что, безусловно, было очень выгодно учёным мужам.
Но нет, он не позволит себе расслабляться и впадать в уныние. Если уж со своим слухом он сумел добиться таких достижений... Правда, теперь с ним всё. Finita[119].
Где же его последние записи?
Он вытащил из карманов исписанные нотами меню, ресторанные счета и обрывки газет. Ещё никогда ни одно его произведение так безжалостно не преследовало его. «Missa solemnis» и Девятая симфония гнались за ним подобно Эриниям[120], которые, правда, иногда казались ангелами с неземными голосами.
Он никак не мог полностью осуществить свой грандиозный замысел, и это было особенно мучительно. Неужели придётся отказаться от завершения мессы?! Деньги, нужны деньги.
Какое же это всё-таки омерзительное слово, но без них никак не обойтись. Требовалось помимо всего прочего оплатить пребывание Карла в интернате Блёхлишера. На это должны были пойти доходы с банковских акций и довольно скромные сбережения. Но придётся отказаться от осуществления заветной мечты — покупки маленького домика в Мёдлинге. Ему так хотелось иметь собственное жильё, чтобы избавиться наконец от придирок домовладельцев. Но ничего не поделаешь, судьба племянника ему дороже. Деньги! Нет, нельзя всё время дурманить себя пением ангелов. Деньги, срочно нужны деньги.
На столе лежала газета, целиком посвящённая главному событию этих дней.
«Зельмира» — так называлась последняя опера Джоаккино Россини. Вена её заказала, и конечно же премьера состоялась именно в Вене. Публика бесновалась от восторга. Маэстро присутствовал на спектакле. Он едва переступил порог тридцати, но дорога его жизни на протяжении вот уже нескольких лет вымощена дукатами различной чеканки.
Безусловно, он одарённый человек, а таланту нельзя завидовать. В лесу искусства водятся самые различные певчие птицы, и он лично никоим образом не хотел бы поменяться с Россини местами. Наверняка это обоюдное желание.
Значит, оснований для гнева против Россини у него не было. Поводом для него скорее могло послужить поведение венской публики, которая вкупе с рецензентами вела себя так, словно «Зельмира» — он читал её партитуру — и впрямь представляла собой недосягаемую вершину музыкального искусства.
Ну хорошо, но его месса тоже, наверное, не самое худшее музыкальное произведение.
Так, сопрано... а в какой тональности?
Как раньше, только в более высоких регистрах!
Вот она, разгадка!
Он побежал пальцами по клавишам и внезапно как ужаленный отдёрнул руки.
Эта маленькая дьяволица Минона! Эта юная упрямица, совершенно непохожая на других детей Жозефины!
Он снова обнаружил в фортепьяно струны, и славный патер, так и не сумевший блеснуть врачебным искусством и сотворить чудо, объяснил суть этого явления: «Маленькая Минона фон Штакельберг пожелала, чтобы у вашего фортепьяно опять появились струны. Вдруг к вам опять вернётся слух. Минона пожертвовала на их установку всё содержимое своей копилки, и если уж это не поможет...»
Вот почему ангелы порой пели нежными детскими голосами.
— Как зовут эту дуру?! — орал Бетховен в один из последних дней октября 1822 года.
— Вильгельмина Шрёдер! — проорал ему в ухо верный вассал и секретарь Шиндлер, уже оказавший Бетховену много полезных услуг. — По слухам, она — невеста актёра Девриента!
Бетховен даже затрясся от отвращения.
Ох уж этот бесчувственный Шиндлер, обдавший его вонью давно не чищенных гнилых зубов. Однако без этого человека ему не обойтись. Про себя он называл Шиндлера «Вагнером», уловив в нём сходство с комическим персонажем из «Фауста».
— Любовные приключения мадемуазель Шрёдер меня не интересуют. Как только австрийской императрице могла прийти в голову нелепая мысль отметить день своего тезоименитства постановкой оперы именно немецкого композитора?
— Её величество очень восхищена мадемуазель и считает её восходящей звездой Бургтеатра... — Шиндлер сдвинул очки обратно на переносицу и принял важный вид.
— Да она же ещё совсем ребёнок! Сколько ей? Семнадцать? В этом возрасте не становятся звёздами.
— ...и потому милостиво соизволила, — непреклонно продолжал Шиндлер, — предложить своей любимице самой выбрать для своего бенефиса в день тезоименитства её императорского величества соответствующее музыкальное произведение. Мадемуазель Шрёдер остановила свой выбор на «Фиделио».
— Выходит, я так низко пал, что мои сочинения стали детской игрушкой?
— Спектакль по художественному оформлению не будет иметь себе равных, — попытался было утешить его Шиндлер.
— Вот как?! Отлично. А дирижировать буду я!
— Маэстро!.. — Шиндлер в ужасе вздёрнул обвислые плечи.
— А почему нет? — Бетховен пренебрежительно скривил губы. — Глухой будет дирижировать, а эта дура — хныкать. Так и передайте Умлауфу. Устроим настоящий балаган.
Бетховен сумел настоять на своём. Они договорились, что на предварительных репетициях дирижирует Умлауф, но на генеральной репетиции за дирижёрским пультом будет стоять Бетховен.
Стояли холодные, туманные ноябрьские дни, он нехорошо себя чувствовал; его бил озноб, и потому он не снимал плаща и широкополой шляпы. Воспалённые глаза сверкали, как у демона. «Ну наконец настроили? Сколько это продлится? Будьте любезны, увертюру!» Он не слышал ни одного звука, но зато видел, как действуют музыкальные инструменты, и знал каждую ноту.
Увертюру сыграли без малейшего срыва. Поднять занавес!
Двор Государственной тюрьмы. Всё как в либретто, но по случаю тезоименитства её императорского величества выполнено с особой тщательностью. На заднем плане главные ворота и высокая стена, из-за которой торчат несколько зелёных верхушек деревьев. Так свобода передаёт привет тем, кто оказался в царстве скорби и отчаяния.
Перед домиком привратника Марцелина гладит одежду. Из окошка на неё смотрит влюблёнными глазами Жакино. Его партию наверняка превосходно исполнит господин Раушнер.
Теперь, моё сердечко, теперь мы одни, Мы можем поболтать спокойно...Марцелина, не прекращая гладить, шаловливо открывает ротик. Как же убедительно у неё это получается. Ну да, конечно, фрейлейн Деммер уже давно хорошо зарекомендовала себя в театре.
Пока нам не стоит с тобой говорить, Мне медлить нельзя за работой...Жакино:
Скажи хоть словечко, упрямица, мне...Фрейлейн Деммер:
Скажи лучше ты...Вот уже и Рокко появился на сцене, всё шло как по маслу, и вскоре настал выход Элеоноры в обличье Фиделио.
Она выглядела именно так, как это предписывал сценарный план спектакля: тёмный камзол, красный жилет, заправленные в короткие сапоги панталоны, широкий ремень из тёмной кожи с серебряной пряжкой, сетка для волос...
Изящная фигурка, но вообще, как юное семнадцатилетнее существо осмелилось... Взгляд всё ещё устремлён в сторону, на спине мешок с продуктами, в руках цепи, которые она взяла в кузнице.
Она положила их возле домика привратника, глубоко и облегчённо вздохнула и обратила наконец к нему своё усталое лицо.
Его сердце бешено забилось: Жозефина...
Начался речитатив, и, пока он длился, Бетховен немного пришёл в себя. Девушка выглядела, как Жозефина двадцать лет назад, и одновременно ничем не походила на неё. На сцене она изображала верную, любящую жену, интонации голоса должны были соответствовать сценическому образу. Следовало признать, что она играла лучше всех.
Но чего девушка так боялась? Не подлежало сомнению, что она испытывала страх, но перед кем?
Наверное, перед ним, Бетховеном. Она не сводила с него испуганных глаз.
Нужно немедленно успокоить её. Он улыбнулся ей, обнажив свои страшные, похожие на клыки зубы: «Наконец-то, наконец-то я тебя нашёл, моя мечта, моя Леонора».
Поняла ли она его? Похоже, что да. Ведь она, скромно потупив глазки, улыбнулась в ответ и даже незаметно для других чуть присела и поклонилась. Страх пропал из её глаз, она выпрямилась, и сразу же возникло ощущение, что молодая актриса теперь начинает играть по-настоящему.
К дьяволу! Он также должен подтянуться и собраться с силами. Только пялить глаза на актёров незачем, этим сейчас ничего не добьёшься. Тем не менее он впился взглядом в губы Марцелины, читая по ним четверостишие:
Мне так чудесно, Что сжимается сердце; Он любит меня, это ясно, Я буду счастлива, да!С этим каноном он когда-то, выступая перед царственными особами, потерпел неудачу. Сегодня же он чувствовал себя окрылённым и счастливым.
Ну, дитя моё, ну, девочка.
Она запела, и Бетховен понял, что перед ним действительно его Леонора!
Но почему молчит Рокко, ведь сейчас его очередь, почему музыканты убрали свои инструменты, а Леонора, его Леонора, так грустно смотрит на него? Воистину в каноне это какое-то проклятое место.
Шиндлер чуть коснулся его локтя, он тут же протянул ему свою тетрадь и через минуту прочёл: «Невозможно продолжать! Всё остальное осталось дома!»
Вернувшись из театра, он сразу же бросился на софу и закрыл лицо руками. Так лежал несколько часов и лишь иногда переворачивался на спину и бросал беглый взгляд на мерно качающийся маятник.
На площади перед театром толпа дружно пела гимн, написанный Гайдном в честь императора и его супруги. Дирижировал, разумеется, Умлауф.
Стрелки неумолимо двигались по циферблату. Мысленно он вернулся на сцену именно в тот момент, когда Вильгельмина Шрёдер отбросила цепи. Их лязга он, конечно, не услышал.
Но зато он отчётливо слышал слова, доносившиеся из её уст. При этом она снова и снова с грустью смотрела на него.
О, какая мука! И даже как назвать её, не знаю...Леонора, приведшая его в смятение и ввергнувшая в глубины ада.
Нет, он ни в чём не винил свою Леонору. Всему виной была его глухота. Какая же страшная у него судьба!
Десятилетний Герхард фон Бройнинг, сын от второго брака его друга, члена Придворного Военного совета Стефана фон Бройнинга, забрался с ногами на стул и сверкающими глазами смотрел на господина Шлеммера, сгорбленного человека, внимательно изучавшего партитуру «Missa solemnis». Опытный копиист хотел снять копии с первого экземпляра в присутствии композитора, чтобы потом избежать возможных вопросов.
— Вы разбираете мой почерк, господин Шлеммер?
— Что? — Копиист испуганно взглянул поверх партитуры. — Какое там разбираю! Приходится только гадать. Да это хуже, чем расшифрованная ныне господином Гротенфендом клинопись.
— Что ещё за клинопись?
— Древневавилонские надписи тех времён, когда у людей ещё были петушиные ноги и они царапали когтями по навозу.
Герхард засмеялся. Бетховен весело посмотрел на них:
— Что вы такого обо мне плохого сказали, мошенники?
Герхард прыгнул к нему на колени, обнял за шею и прокричал в ухо:
— Мы удивляемся твоим нотным записям, дядюшка Людвиг.
— Ах, негодяи!
— Дядюшка Людвиг, какие оценки ты получал за чистописание?
— Всегда единицу[121].
Столь безапелляционное утверждение восхитило мальчика, он спрыгнул на пол и, приплясывая, начал говорить, отчётливо произнося каждый слог:
— Дядюшка Людвиг, ты нас обманываешь и потому должен заплатить штраф. Снижай постепенно оценки и давай за каждую конфетку. — Он вытащил банку. — Кидай их прямо сюда.
— Возможно. Память меня часто подводит.
Вскоре в банке лежало пять конфет. Шлеммер угрюмо пробурчал:
— По-моему, вы со спокойной душой можете положить туда ещё столько же.
— Не портите мне Пуговицу, Шлеммер.
Он обнял прозванного им так мальчика и ласково сказал:
— А теперь слушай меня внимательно, Ариэль. Придётся тебе слетать к господину Цмескалю и отнести бутылку, которая стоит на подоконнике. Пусть он её выпьет и поправит тем самым своё здоровье. Только не пропадай надолго, иначе папа с мамой обвинят во всём меня.
Мальчик подошёл к окну и воскликнул:
— Шевалье!
Затем он повернулся и скривился, как от зубной боли:
— Дядюшка Людвиг, там подъехал твой брат.
Достопочтенного помещика Иоганна ван Бетховена Бройнинг неуважительно называл Шевалье.
На улице кое-кто из прохожих останавливался и, покачивая головой, смотрел вслед запряжённому четвёркой лошадей роскошному, но уж очень старомодному фаэтону. Двое слуг на запятках производили впечатление людей, нарочно вырядившихся лакеями для участия в карнавале, ещё более поразительно выглядел лично правивший лошадьми владелец кареты.
Из-за жары он снял плащ, хотя, возможно, сделал это, чтобы показать венцам свой лучший наряд, извлекаемый из пронафталиненного шкафа явно лишь по особым поводам. Голубой фрак с чересчур большими медными пуговицами был сшит деревенским портным, но даже наилучшему мастеру кройки и шитья вряд ли удалось бы справиться со столь неуклюжей, расплывшейся фигурой. Сияющий белизной жилет плохо гармонировал с панталонами цвета перца с солью. На руки гордо восседавший на облучке гигант надел перчатки из кручёной нити, которые были слишком велики даже для его громадных рук.
Иоганн был на голову выше Людвига, одно его плечо было выдвинуто вперёд, а на лице, из-за привычки неизменно растягивать рот, казалось, навсегда застыла надменная улыбка. С годами гротесковые черты в нём стали ещё более явными.
— Иоганн! Вот уж никак не ожидал! Ну как поездка?
Иоганн сделал жест, означавший следующее: дескать, ничего хорошего не произошло, но мне пришлось всё бросить, чтобы посмотреть, всё ли здесь в порядке.
— Ты получил моё письмо?
Иоганн долго и обстоятельно снимал перчатки, затем расчесал их и уже потом ответил:
— Мы поговорим об этом.
— Пока можно продолжать снимать копии. — Шлеммер глубоко и тяжело вздохнул.
— О чём идёт речь? — сразу же насторожился Иоганн ван Бетховен.
— О сочинении вашего брата «Missa solemnis».
— Вот как? В бытность мою аптекарем я знал латынь, и, насколько мне помнится, solemnis означает «торжественный».
Странным образом надменная улыбка вдруг исчезла с лица Иоганна, и Шлеммер поспешил покинуть комнату. Мальчик, прозванный Ариэлем и Пуговицей, как мышь, прошмыгнул за дверь. Братья остались одни, и прибегать к разговорной тетради им пришлось теперь гораздо чаще.
— Выходит, под эту самую «Missa solemnis» я должен одолжить тебе тысячу гульденов? Ну будь это хотя бы произведение, равное твоей... твоей знаменитой батальной пьесе...
— Я очень нуждаюсь в деньгах, Иоганн.
— А когда ты в них не нуждался? Ну что это ещё за «Missa solemnis»? С ней ты снова зубы на полку положишь. «Героическая симфония» тебе и тысячи крейцеров не принесла. Над чем ты сейчас работаешь?
— Над Девятой симфонией.
Иоганн с глубоким вздохом вскинул глаза к низкому, давящему потолку и написал в тетради: «От восьми симфоний толку никакого, а ты теперь ещё взялся за девятую! За мой счёт! Но, мой дорогой Людвиг, деньги даются мне очень и очень нелегко. Можешь предложить какой-нибудь залог?»
Бетховен почувствовал, что ещё немного — и он взорвётся и обрушит на брата гневную тираду. Ведь он раньше очень помогал Иоганну и Карлу, даже аптека в Линце была частично куплена на его деньги, а теперь вместо благодарности...
— Я знаю, ты надеешься на акции, Иоганн. Они предназначены для Карла, но я дам тебе в залог те из них, которые собираюсь погасить. Деньги у тебя с собой?
Он хотел произнести эти слова холодным равнодушным тоном, но торопливость выдала его волнение. И это позволило Иоганну и дальше измываться над старшим братом:
— А даже если бы у меня их с собой и не было? Имя Иоганна ван Бетховена, владельца имения в Гнейксендорфе близ Кремса, хорошо известно во всех банках Вены. Да, а почему ты, собственно говоря, не пользуешься векселями? Так же гораздо проще. Достаточно лишь написать на бумаге с нужной суммой имя: Иоганн ван Бетховен. Или...
— Извините, что задержался. — Господин Шлеммер, казалось, ещё больше скукожился и сгорбился. — Пришлось изрядно потрудиться над вашей... вашей «Missa solemnis».
После каждой фразы он жадно хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, и, отдышавшись, добавил:
— Ох уж эта болезнь. Чувствую, что это... моя последняя копия.
— Ленивые, ненадёжные субъекты умеют находить любые предлоги, — нарочито беспечно улыбнулся Бетховен.
— Но...
— Да я сам из тех, кто не умеет соблюдать сроки. Эту мессу — впрочем, вы очень хорошо переписали — я должен был представить ещё к намеченному на конец марта тысяча восемьсот двадцатого года возведению эрцгерцога в сан архиепископа. Ныне же у нас март двадцать третьего, а значит, я потерял на неё пять лет. Восемнадцатого марта, накануне годовщины, я хочу наконец вручить её архиепископу.
Он размеренными шагами прошёлся по комнате и после непродолжительного молчания участливо спросил:
— Вы действительно серьёзно больны?
— Я безумно устаю.
— Не стоит обращать на это внимание, мы оба обречены всю жизнь носиться взад-вперёд и умереть на бегу.
— Доброе утро, маэстро! Доброе утро, господин Шлеммер, — в комнату неторопливо вошёл Черни. — Маэстро, вот уже больше часа вас ожидает некий мальчик.
— Кто?
— Я хотел бы показать вам одного своего ученика.
— А он знает, что я не люблю вундеркиндов?
— Ну, разумеется, но вы же знаете мою давнюю мечту о династии пианистов. Когда-то я учился у вас, теперь он учится у меня. И я хотел бы, чтобы вы сказали, способен ли он?
— На что именно?
Черни мог говорить тихо, он знал, что за долгие годы общения любимый и глубоко почитаемый учитель научился разбирать по губам любое его слово.
— ...продолжить династию Бетховенов.
— А почему вы не прихватили сорванца с собой?
Черни растерянно молчал. Ему не хотелось приводить в качестве довода расстроенное пианино.
— Я хотел сделать вам сюрприз, маэстро, но если он не удался, вся вина только на мне.
— Ну хорошо, давайте сходим.
В малом танцевальном зале они поднялись на помост, и Черни сразу же заявил:
— Нам нужны два одинаково настроенных фортепьяно, маэстро.
— Зачем?
— На одном из них я изображу оркестр.
— Вот как? Какой же концерт вы хотите?..
Черни сделал вид, что не расслышал вопроса. Маленький хорошенький мальчик с бледным как мел лицом низко поклонился им.
Бетховен окинул его доброжелательным и вместе с тем сочувственным взглядом.
— Не нужно меня бояться, хотя нет, наверное, тебе естественно сейчас испытывать страх. Со мной в своё время было то же самое. Помнится, когда мне впервые пришлось сыграть на органе моему учителю Христиану Готтлибу Нефе... Знаешь, как тогда мне было страшно. Ну-ка, ну-ка, что вы ему сейчас сказали, Черни?
Черни замялся, не решаясь ответить.
— Мальчик ещё более испугался. Не тяните, Черни, выкладывайте.
— Я сказал: «Человек рядом с тобой стоит той тысячи людей, которая могла бы сейчас сидеть в зале». И ещё я сказал: «Запомни, он может слышать глазами».
— Но я вижу, у него испуганный вид.
— И ещё я сказал: «От твоей игры зависит сейчас твоя дальнейшая судьба, ибо ты играешь перед Людвигом ван Бетховеном».
Бетховен промолчал, и тогда Черни спросил:
— Ты готов?
Мальчик напрягся, стиснул зубы и согласно кивнул.
— Я считаю: один, два... Внимание!
Рамм!..
Черни рывком убрал руки с клавиш. Прозвучал только один аккорд, вызвавший тут же на соседнем фортепьяно целый фонтан звуков.
Бетховен укоризненно посмотрел на Черни. «Ну хорошо, очень мило с вашей стороны, что вы выбрали мой фортепьянный концерт ре-бемоль мажор, но только мальчику едва ли удастся быстро освоить такую сложную технику».
Он внимательно смотрел на тонкие пальчики, стремительно перебегающие от верхов к басам, и, когда вновь прозвучал оркестр, а вслед за ним соло, сурово сдвинул брови и угрюмо пробурчал:
— Послушай, мальчик, нет-нет, продолжай спокойно играть и не смущайся. Вот что я тебе скажу: оркестр мне не нравится. Уж больно он какой-то вялый. Поэтому попрошу тебя сейчас подбодрить его. Прибавь-ка темп! Так, а может, ещё быстрее? Теперь стоп, и сыграй с огоньком каденцию... Хорошо... хорошо.
После завершения первой части Бетховен спросил:
— А как, собственно говоря, тебя зовут?
— Ференц Лист! — ответил мальчик, и глаза его заблестели.
— Как? Выкрикни своё имя. Может быть, тогда я и не услышу его, но смогу прочесть по губам.
— Ференц Лист!!
— Теперь понял. И сколько тебе лет?
— Одиннадцать, маэстро.
— Так, так, одиннадцать лет. — Бетховен насмешливо хмыкнул, стараясь скрыть замешательство. — Ты стоишь по стойке «смирно», как солдат. Так, так... Тебя зовут Ференц Лист, и тебе одиннадцать лет. Ну хорошо, следующую часть, пожалуйста.
ПИСЬМО № 31
Наверное, не стоило тратить на это время, тем более что ещё не была закончена Девятая симфония.
С другой стороны, его истинный друг и бывший ученик эрцгерцог и архиепископ Рудольф, с которым можно было откровенно говорить обо всём, сделал это предложение от чистого сердца.
— Вы уже разослали мессу?
— А кому именно мне её послать, ваше императорское высочество?
— Ну, всем тем, кто носит корону или занимает соответствующее место в духовной иерархии и способен щедро вознаградить вас. Разумеется, также Гёте, Керубини...
— А какую стоит запрашивать цену? Учитывая, что я так потратился на копии...
— Тем не менее больше пятидесяти дукатов...
— Понятно, — обиженно сказал Бетховен. — За фрегат, отправленный на уничтожение другого корабля, за батареи, разрушающие своими залпами с таким трудом построенные дома и разрывающие в клочья тела людей, охотно выкладывают тысячу и больше дукатов. Но за миролюбивое послание — дело не во мне, дело в принципе — за миролюбивое послание, которое способно поднять человека с колен и утешить его, платят всего пятьдесят дукатов.
— Так устроен мир, маэстро.
— А что по этому поводу говорит божественная мудрость, ваше святейшество, как относится Церковь к этому миру, монсеньор?
— Церковь? А что тут говорить, маэстро, сами знаете: Царство моё не от мира сего.
Архиепископ, то есть князь Церкви, не обиделся на него за столь бунтарский вопрос, и вот теперь по прошествии нескольких дней ему пришлось переписывать письма, текст которых был составлен Шиндлером. Их предстояло отправить во все королевские дворцы, представителям различных правящих династий, а также богатым графам и баронам. Но написаны они должны были быть лично им и конечно же без ошибок. Про себя он называл это выпрашиванием милости в письменном виде.
ПИСЬМО № 32
Один и тот же подхалимский тон. Ну почему, почему он должен предлагать своё, может быть, даже лучшее произведение так, как это делает уличный торговец, навязывающий прохожим свои безделушки? И кому оно адресовано, это письмо? Шведской академии искусств, которая, правда, назначила его своим почётным членом, но отнюдь не за его выдающиеся произведения, а за устроенное им на сцене по заказу Мельцеля убогое зрелище с имитацией грома пушечных залпов и оружейной стрельбы.
Он прищурился и вдруг, словно подброшенный, вскочил со стула.
Гром, гром, громыханье, громовый органный звук литавр. И так тридцать восемь тактов, а затем квинтаккорд вступления, но фортиссимо!
Сколько времени? Господи, да неужели!
Он бросился в кухню, торопясь записать для домоправительницы, какие ей надлежит сделать покупки. Там его вскоре и обнаружил Франц Грильпарцер, решивший зайти к Бетховену в свободное от службы в Государственном архиве время и выяснить, согласится ли композитор положить на музыку его «Мелузину». Бетховен, не обращая на него никакого внимания, продолжал яростно водить рукой по большой сланцевой доске.
Грильпарцер сразу вспомнил безумного короля Лира из трагедии Шекспира...
Ни у одного актёра не было такой подходящей для этой роли внешности. Всклокоченная седая шевелюра, словно высеченная из мрамора голова — широкий нос придавал лицу львиные черты — и мощные выпирающие скулы! Следы от оспы и смуглая кожа, под набрякшими веками узкие щёлочки покрасневших, воспалённых глаз, злобно взирающих на окружающий мир. Роста Бетховен был не слишком высокого, но в его приземистой фигуре чувствовалась скрытая, дикая, как у циклопа, сила. Одет он был так, будто лишь недавно вернулся из овеваемой всеми ветрами пустыни в свою нору и ещё не успел сбросить с себя грязное тряпьё. В жалкую нору в доме 60 на Котгассе. Тёмный маленький коридор, убого обставленные комнаты, в одной из которых стояло покрытое густым слоем пыли фортепьяно, а вокруг валялись осколки разбитой фарфоровой посуды.
Грильпарцеру не довелось видеть Бетховена на концерте, и сейчас молодой поэт испугался не столько за великого композитора, сколько за себя. Грильпарцеру довелось претерпеть немало жизненных невзгод и неудач, и грандиозный успех «Сафо» отнюдь не вскружил ему голову. Сравнение Бетховена с королём Лиром он воспринял как страшное предостережение.
Тут наконец Бетховен заметил и с усилием, как бы выдавливая застрявший в горле тугой ком, прохрипел:
— Господин Франц Грильпарцер, мой юный друг из Хейлигенштадта! При виде вас я всегда вспоминаю об этом городке. Поверьте, я злюсь вовсе не на вас. У моей домоправительницы «госпожи Шнапс» напрочь отсутствует память, у неё нет ни вкуса, ни обоняния. Она набивает мой бедный желудок рублеными кожаными подмётками, из которых забыли вытащить гвозди. Вот такая у меня жизнь! Но давайте, дорогой Грильпарцер, пройдём лучше в музыкальную комнату. Прошу садиться, только смахните осколки со стула. Я потом подмету.
Он грустно опустил голову, потом поднял её и, встретив недоумённый взгляд Грильпарцера, меланхолично заметил:
— «Госпоже Шнапс» запрещено входить сюда, ибо кто может гарантировать, что она не примет мою Девятую симфонию за обрывки и осколки? Я так понимаю, вы пришли относительно «Мелузины»? Но я, к сожалению... — Он замялся, подыскивая подходящие, необидные для собеседника слова. — Я бы с удовольствием написал оперу, особенно сейчас, когда мой «Фиделио» в Дрездене пользуется таким успехом. Но увы, дорогой господин Грильпарцер, человек с годами не становится моложе. Вот это всё, — он показал на целую кипу нотных листов, — нужно непременно закончить, а начинать возводить новую груду?.. Без лести говорю, ваш текст превосходен, но честно признаюсь: он не для меня.
— Но почему? — Грильпарцер нервно мял в руках свою шляпу.
— Это опера-сказка. Милые феи, разного рода чудеса и всё такое прочее. — Бетховен внезапно насторожился. — Вам что-то мешает, господин Грильпарцер?
Поэт показал на открытое окно, откуда послышался оглушительный шум.
— Увы, но я ничего не слышу. — Бетховен встал, подошёл к окну и окинул взглядом узкую кривую улочку.
Здоровенный, похожий на Геракла кузнец с размаху бил молотом постоявшему во дворе литейни церковному колоколу. При каждом взмахе под одубелой кожей перекатывались огромные, похожие на валуны бугры мышц.
— Как вам объяснить? — Бетховен закрыл окно и с извиняющейся улыбкой повернулся к Грильпарцеру. — Пожалуйста, поймите меня правильно. Верить в фей и чудеса — это прекрасно. Но я... я скорее схож вон с тем кузнецом во дворе, и вера у меня соответствующая.
НОЯБРЬ
Самая пора забыть про лето с его жарким, напоенным запахом трав воздухом и вернуться домой. Вещи он отправил заранее и теперь стоял на Котгассе, с нарастающим раздражением рассматривая свой жалкий низенький домик, зажатый между двумя высокими строениями.
Смеркалось, свечи в кухне не горели, и он хотя бы мог не видеть «госпожу Шнапс». Увы, там также был ненавистный Шиндлер, хотя, может быть, он несправедлив к нему?
А может, он просто испытывал страх?
Шесть лет он работал над симфонией и никак не мог завершить её. Где-то что-то не ладилось, где-то таилась ошибка, но где, где?..
Он поднял воротник плаща, как бы желая защититься от потока невзгод и мерзостей жизни, пересёк улицу, спотыкаясь, поднялся по каменным ступеням и вошёл в подъезд.
В коридоре затхлый воздух сразу же забил ноздри и горло.
— Добрый вечер, Шиндлер.
— Добрый вечер, маэстро. Подать ужин?
— Нет, спасибо.
— Может, растопить печь?
— Не стоит. Извините, но мне хочется побыть одному. Надеюсь, вы не обидитесь?
Он ещё не успел закончить последнюю фразу, как Шиндлер уже набросил на плечи плащ.
— Спокойной ночи и ещё раз огромное спасибо, Шиндлер.
Несколько минут он задумчиво смотрел ему вслед. Есть люди, которые никогда не были молодыми, так и родились стариками.
Даже не сняв плаща и шляпы, Бетховен подошёл к фортепьяно и одну за другой снял с него несколько пачек нотных листов.
Нужно хорошенько поразмыслить над последней частью.
Ещё в юности, да нет, ещё в детстве он много занимался этим стихотворением Шиллера, постепенно отказываясь от мысли сделать из него сперва увертюру, а потом нечто вроде оратории. Ныне его волосы уже поседели, а он всё ещё никак не мог сладить с этим произведением.
Он склонил голову набок, прислушиваясь к себе. Так он поступал уже сотни и тысячи раз. Нет, перед ним словно встала непреодолимая стена.
Зародившаяся в душе тревога заставила его метаться, словно зверь в клетке. Он подскочил к окну и вдруг отшатнулся, ослеплённый яркой вспышкой. Это литейщик колоколов разжёг во дворе своей мастерской огонь и заливал в формы раскалённый металл.
Колокола, колокола, чей звон сопровождает человека от рождения до могилы. Не напоминает ли этот звук баритональный бас?
А что, если он вставит к текст такие слова: «О друзья, не нужно этих звуков! Пусть те звучат, что радость нам приносят». Наверняка Шиллер простит ему этот речитатив. А потом?..
Двор литейщика погрузился во тьму, но Бетховен продолжал стоять, по-прежнему ослеплённый и одурманенный огнём.
Нет, нет, квинта должна у него получиться. У неё, как и у колокола, есть язык, и если начать его раскачивать...
Он сел за фортепьяно, пробежался пальцами по клавишам, и глаза его от ощущения блаженства увлажнились и затуманились слезой.
Радость, пламя неземное, Райский дух, слетевший к нам, Опьянённые тобою, Мы вошли в твой светлый храм[122].Господин Штрейхер посмотрел сквозь витрину своего фортепьянного салона на улицу и удивлённо воскликнул:
— Lupus in fabulis![123] Стоит упомянуть о волке, как он уже здесь.
— Он идёт сюда?
— Нет, он просто прогуливается.
— Действительно, он фланирует себе как ни в чём не бывало. — Граф Лихновски встал рядом со Штрейхером. — Конечно, сбросив с плеч такую тяжесть, как Девятая симфония и «Missa solemnis», он может себе это позволить.
— С каким интересом он смотрит сквозь монокль на последние образцы дамской моды. Я сейчас позову его.
— Не нужно. — Лихновски холодно остановил его. — Мой дорогой Штрейхер, я хотел бы поговорить с вами вот на какую тему. Это же позор, что премьера его мессы состоится не в Вене, а в Берлине.
— Полностью с вами согласен, ваше сиятельство. Но что мы можем сделать?
— Полагаю, что в городе с более чем двумястами тысячами жителей найдётся две-три сотни людей, готовых поставить свои подписи под соответствующим обращением. И потом, мы можем задействовать также Черни и Шуппанцига, доктора Зоннляйтнера и, конечно, господина фон Домановеца. С графом Палфи я лично поговорю как дворянин с дворянином.
— Я вспомнил ещё одно имя, ваше сиятельство. Знаете ли вы некоего Франца Шуберта? Он прямо-таки молится на нашего друга. Вот только хватит ли у него духу подписаться под обращением?
— Шуберт? Шуберт? — Лихновски сосредоточенно сдвинул брови. — Уж не он ли пару лет тому назад преподавал музыку в семействе Эстергази? И потом, он, кажется, ещё пишет песни. Что-то я слышал о нём.
— И не только песни, ваше сиятельство, но и...
— Ну и прекрасно, дорогой Штрейхер, но сперва мы должны обратиться к известным людям. Жаль, что мы не находим подхода к великим музыкантам. — Лихновски вытащил из кармана лист бумаги. — Я тут вчерне набросал кое-что. Вот послушайте: «Вспомните о вашем общественном долге, вспомните о необходимости взращивать в публике чувство совершенного и прекрасного и потому не затягивайте премьеры ваших последних шедевров. Мы знаем, что в венце ваших блистательных симфоний сияет ещё одно творение, так не обманите, просим вас, наших ожиданий! Вот уже на протяжении нескольких лет, с тех пор как смолк гром победы при Виттории, мы с нетерпением ждём, когда же вы вновь порадуете наши глаза и уши, когда же вы вновь блеснёте перед нами своим несравненным талантом». Ну как, господин Штрейхер?
— Превосходно, но...
— Что «но»?
— Вы совершенно справедливо изволили упомянуть гром победы при Виттории. — Штрейхер с нескрываемым испугом посмотрел на стоявший в фортепьянном салоне белый бюст Бетховена. — Но ведь мы не знаем, сможет ли маэстро (при всём его даровании он лишь простой смертный) в своей новой мессе или симфонии достичь тех божественных высот, на которые его вознёс гром победы при Виттории.
— Тихо! — Лихновски властно вскинул руку. — Ни слова больше! Вы можете накликать беду. Знайте, что у меня такие же опасения.
В результате под датированным февралём 1824 года обращением поставили свои подписи тридцать человек, причём лишь нескольких из них пришлось уговаривать.
Главная опасность заключалась в том, что Бетховен мог догадаться: якобы спонтанное волеизъявление группы жителей Вены, большинство из которых составляли его друзья, на самом деле ни в коей мере не отражало настроений венской публики.
— Нет, нет. — Бетховен по привычке встал и прошёлся по комнате. — Я должен прочитать послание в спокойной обстановке. Позднее я сообщу о своём решении.
Оставшись один, он покачал на ладони увесистый свёрток и хитро улыбнулся: «Ох уж этот проныра Лихновски».
«Понимая, что имя Бетховена, как и его творения, принадлежат всему миру, мы, выражая благородные пожелания отечественных ценителей искусства, надеемся, что именно Австрия в первую очередь назовёт его одним из своих сынов, ибо её жителям...»
Всего-навсего тридцать подписей...
«Вот уже на протяжении нескольких лет, с тех пор как смолк гром победы при Виттории, мы с нетерпением ждём, когда же вы вновь порадуете наши глаза и уши, когда же вы вновь блеснёте перед нами своим несравненным талантом...»
Бетховен ещё раз прочёл этот пассаж и скривил губы в презрительной усмешке. Ах, вот оно что! Лишь искусственная канонада гремит по-прежнему в ваших ушах, ибо никакое другое моё произведение вы даже словом не упомянули! Ни квартеты, ни фортепьянные или скрипичные концерты! А о «Фиделио» и «Героической симфонии» вы, похоже, напрочь забыли.
Творец канонады, сочинитель грома битвы...
«...молча смотреть, как иноземное искусство укореняется на исконно немецкой земле, ущемляя честолюбие исконно немецкой музыки...»
Мой дорогой Лихновски, немецкий народ едва ли изменится в ближайшем будущем, ему многое дано, но на нём лежит проклятие, и многие его черты внушают омерзение.
Каким же должен быть мой ответ?
Он вдруг почувствовал, как в душе всё закипает и вопреки предостерегающему голосу разума в нём нарастает чувство протеста: «Нет, я одолею их! Я заставлю здешнюю публику понять «Missa solemnis» и Девятую симфонию!»
Вошедшему в комнату Шиндлеру он молча протянул письмо.
— Поздравляю, маэстро! — Секретарь, уже знакомый с содержанием обращения, был вынужден сделать вид, что впервые читает его, и потому восторженно протянул Бетховену руки.
— Отрадное известие, не правда ли? — Бетховен без труда разгадал его игру. — Что ж, заглянем к графу Лихновски, где я предоставлю вам честь сказать вместо меня слово «согласен».
Ящик Пандоры[124] с шумом и грохотом открылся, и из него, подобно червям, поползли разного рода клеветнические предположения. Так кто же передал в редакцию одной из газет копию обращения? И немедленно распространились слухи о том, что, дескать, Бетховен его сам сочинил. Молодой поэт Бауэрнфельд назвал его старым педантом с отжившими представлениями о музыке и обвинил его в самовозвеличивании и чрезмерном упоении собой и своим творчеством. Он даже заявил, что Бетховену уже ничто не поможет, что его время кончилось. Он, дескать, живёт, не зная, что давно погребён и предан забвению.
Бетховен лихорадочно размышлял. Нет ли в возникшей неприличной суете и суматохе и его собственной вины? Он ведь и впрямь долгие годы жил уединённо, борясь не только с глухотой, но и с демонами, мешавшими ему осуществлять мечты и доводить до совершенства свои произведения. Неудивительно, что о нём постепенно забыли. Внезапное появление на публике ослепило его, сделало недоверчивым и враждебно настроенным даже по отношению к близким друзьям. В ярости он отправил им короткие записки, над которыми сам же позднее смеялся.
«Графу Морицу Лихновски. Презираю лицемерие и двуличность. Посему прошу больше не посещать меня. Концерта не будет. Бетховен».
«Господину Шуппанцигу. Прошу вас больше не приходить ко мне. Я не даю концертов. Бетховен».
Казалось, в нём пробудилась страсть к самоуничтожению.
«Шиндлеру. Прошу больше не появляться в моём доме до тех пор, пока я вас сам не позову. Концерта не будет».
Потребовалось несколько недель, чтобы всё улеглось и встало на свои места. Затем, правда, Бетховена вновь захлестнула волна ненависти и злобы. По непонятной причине отказались предоставить в его распоряжение оркестр и хор. Кто-то, очевидно, поставил своей целью непременно сорвать концерт. Но с этим ему уже приходилось сталкиваться, и потому отказ не слишком тронул чувствительные струны его души. Из-за отсутствия должного количества профессиональных музыкантов в оркестр и хор пришлось спешно набирать по всей Вене дилетантов.
В конце концов по городу были расклеены афиши с извещениями о предстоящем концерте. Мгновенно начались разговоры о закулисных скандалах. В последнюю минуту поступило сообщение о запрете церковной цензурой трёх гимнов из «Missa solemnis».
Бетховен твёрдо решил не сдаваться и отправил в церковное ведомство письмо следующего содержания:
«Господину цензору Сарториусу!
Ваше высокородие!
До меня дошли слухи о том, что премьерное исполнение трёх частей из моей мессы может вызвать определённые трудности, и посему мне не остаётся ничего другого, как сообщить вам, что создание этого произведения потребовало от меня огромных усилий и расходов и что из-за недостатка времени я не в состоянии представить на суд зрителей какие-либо другие мои сочинения. Надеюсь, вы ещё помните меня.
Вашего высокородия покорный слуга
Бетховен».
А если Сарториус не помнит его? Со времён знаменитого Венского конгресса утекло столько воды, произошло столько событий, что вряд ли цензор сохранил в памяти эпизод встречи с ним. Хорошо бы через графа Лихновски напомнить господину Сарториусу об эрцгерцоге и архиепископе Рудольфе.
Вбежавший в комнату Шиндлер быстро преодолел одышку и по складам, чтобы не тратить время на записи в разговорную тетрадь, отчётливо произнёс:
— Маэстро, по-моему, имеет смысл напечатать в афишах также, что вы являетесь членом Королевских академий в Стокгольме и Амстердаме.
— Чушь! — Шуппанциг небрежно оттолкнул его. — Что это ещё за академии? Для меня одно только имя Бетховена значит гораздо больше. Он для меня... — Скрипач и первый концертмейстер с иронией посмотрел на Бетховена, но за этим чувствовалось его безгранично дружеское расположение к композитору, — ...он для меня президент всех академий в мире!
— Волнуетесь перед выходом, дядюшка Людвиг?
— Дурачок.
Да разве мальчик по прозвищу Пуговица в состоянии понять, как много зависит от этого концерта. Например, будет ли его племянник дальше учиться или нет. Карл наконец закончил школу и решил изучать философию. Он, Бетховен, выкупил свои акции у Иоганна и вместе с оставшимися у него спрятал в потайном ящике шкафа. Пусть они потом достанутся его племяннику, его подопечному...
— Почему ты так критически рассматриваешь меня, Пуговица?
Герхард фон Бройнинг сидел на стуле, подставив левое колено под подбородок, и говорил, по обыкновению, так, что Бетховену и без тетради было понятно каждое его слово:
— А вот думаю, не выйти ли мне вместе с тобой, дядюшка Людвиг, уж больно хорошее впечатление ты производишь.
— Благодарю, — сдавленным от волнения голосом сказал Бетховен и чуть наклонил голову.
— Даже галстук у тебя безупречно повязан. Пойдём, уже пора. — Пуговица спрыгнул со стула и дёрнул Бетховена за рукав.
В первую минуту Бетховену показалось, что улица залита золотом — так ярко она была озарена лучами позднего солнца. Он окинул взглядом людей, называвших себя его друзьями. Здесь уже собрались Вольфмайер, Зейфрид, госпожа Эрдёри и конечно же член Придворного Военного совета и отец Пуговицы Стефан фон Бройнинг.
— Давай, мальчик, родители зовут тебя.
Рядом с купцом и выдающимся скрипачом Эппингером стоял Джианнатазио с дочерью.
— Моё почтение, господин ван Бетховен. Успехов вам.
— Благодарю. — Бетховен улыбнулся, поощряюще повёл рукой и обратился к Фанни Джианнатазио дель Рио: — Я чувствую в вас искреннее желание помочь мне, Фанни. Вы прекрасны, как этот весенний день, и потому я желаю вам найти мужа, способного осчастливить вас.
Но почему Фанни вдруг отдёрнула руку, почему она бросилась прочь, почему её глаза затуманились слезой? Что он такого оскорбительного сказал ей? Наверное, у неё была несчастная любовь и своими словами он только разбередил старую рану.
Бетховен даже не предполагал, насколько в своих рассуждениях он был близок к истине. Ни одна женщина не любила его так, как Фанни. Она готова была пожертвовать своей молодостью и красотой ради того, чтобы быть рядом с ним, седым, глухим...
— Господи, граф-обжора!
Из носилок высунулась пухлая рука, а затем и хорошо знакомое, изрядно расплывшееся лицо. Бетховен подошёл ближе.
— А где же ноги, граф-обжора?
Цмескаль сделал презрительный жест, означавший примерно следующее: они отказались служить мне, и я отпустил их с богом.
Потом Цмескаль нетерпеливо колыхнул двойным подбородком и показал двумя большими пальцами на свои уши:
— Но зато с ними всё в порядке. Пусть это учтёт некий господин Людвиг ван Бетховен. Я буду беспощадным и неумолимым критиком. Посмотрим, что такого написал мой друг моими лучшими в Вене — да что там в Вене, во всей Европе — гусиными перьями!
— Несмотря на болезнь, ты лично отточил их. — Бетховен доверительно приблизился к носилкам.
— Если бы твои произведения были бы хоть вполовину так же хороши, как они. — Цмескаль приосанился с удивительно трогательным самодовольством и взмахом руки велел лакеям занести его в театр.
Многие ложи, в том числе императорская, были пусты. Ну хорошо, эрцгерцог Рудольф пребывал в Ольмюце, а остальные? Правда, можно было утешить себя тем обстоятельством, что на премьере «Волшебной флейты» императорская ложа так же зияла пустотой, но ведь Моцарт ни на что и не претендовал, а он, Бетховен, представляя на суд, зрителей «Missa solemnis» и Девятую симфонию, хотел обратить людей к самому волшебному, самому прекрасному в мире. Он взывал к радости.
Вообще-то всю свою жизнь он мечтал о том, чтобы этим словом, будто магическим заклинанием, остановить войны, разгромить Наполеона и других жадных до чужих земель правителей и, неся добро в души людей, стать своего рода владыкой мира. Двигало им отнюдь не честолюбие.
Что-то они уж очень там в оркестре разговорились. Шуппанциг, сидевший за первым пультом первой скрипки, о чём-то оживлённо беседовал с Умлауфом. Наконец тот встал, оглянулся и взглядом попросил у Бетховена согласия. Бетховен махнул рукой.
— Внимание! Начали!
Зазвучали первые аккорды увертюры, и Умлауф, добрая душа, дирижируя, нашёл время ободряюще улыбнуться ему. Бетховен, помедлив, наклонился и прошептал ему:
— Умлауф, давайте ещё раз: я ничего не имею против Россини, но мне крайне не нравятся попытки солистов превратить меня в его эпигона. Они привыкли к Россини? Меня это не волнует. Пусть привыкнут к моей мессе. Россини также не позволил бы вносить в свои произведения изменения а-ля Бетховен. Понятно, Умлауф?
Шуппанциг, в свою очередь, взмахнул смычком и больше уже не сводил глаз с нот. Людвиг внимательно наблюдал за ними обоими. Взгляд его достаточно красноречиво говорил о том, что он не допустит ни малейшего изменения своего стиля в чьём бы то ни было духе.
Умлауф подал хору и солистам знак, Бетховен тут же повторил его, певцы и певицы с громким шелестом поднялись со стульев и встали в круг позади оркестра.
Бетховен дружелюбно кивнул им и тут же оскалил зубы: «Умлауф, я жду!» Внезапно он осознал, что сейчас подобен хищнику, с нетерпением ожидающему добычу, а это никак не соответствует его благостному настроению. Или это не так? Он смежил веки и мысленным взором окинул своё прошлое, свой жизненный путь, приведший его в итоге сюда.
Его заподозрили в атеизме, к нему приставили шпиков. Когда-то точно так же поступили с Сократом. За полвека до Рождества Христова его обвинили в богохульстве и заставили выпить чашу с ядом лишь за то, что он не признавал богов, но ощущал в себе божественное начало, которое ставил даже выше созданной Фидием, облицованной слоновой костью и золотом статуи Зевса, считавшейся одним из семи чудес света.
Он также презирал дома, в которых подделки под божественное выставляли на продажу. Он служил возвышенному, а этим уж никак нельзя было торговать...
Ассаи состенуто[125]. Теперь трубы и фанфары!
Слушайте, слушайте мой жизненный девиз. Слушайте, как он звучит, и пусть я сам ничего не слышу...
Басы и кларнеты! Гобои и флейты!
Хор! Я прошу вас, начинайте!
— Куп!..
Ещё раз, но уже фортиссимо...
— Куп!..
От восхищения его глаза неестественно расширились, в них застыл немой вопрос. «Неужели я действительно расслышал этот многоголосый вопль! Нет, нет, я не обманываюсь, это именно так.
А вообще-то вы понимаете, чему я вас хочу научить? Подлинному благочестию. Да, да, я хочу попытаться своей музыкой привить вам благочестие и доброту. Мои произведения написаны от чистого сердца, они должны дойти до ваших сердец, и тогда вы почувствуете, что в них также есть место для возвышенного, а оно, в свою очередь, родит доброту и человеческое отношение даже к самым бедным и нищим.
Элейсон!.. Сострадание! Сострадание!
Я также прошу о сострадании, и не потому, что часто заблуждался, но потому, что моя «Missa solemnis» и моя симфония зовут к возвышенному и заставляют забыть обо всём на свете. А ещё и потому, что на них я потратил шесть с половиной лет жизни...
Почему вдруг воцарилось молчание? Опять уши у меня словно залеплены воском.
Так нет, я принимаю вызов, Умлауф, давайте «Credo»[126]. Фортиссимо, тромбоны!»
Он чуть склонил голову набок, вслушиваясь в грянувшую со всей силой музыку. Нет, придраться было не к чему. Басы: «Credo!» Тенора: «Credo». И снова басы: «In unum, unum Deum»[127]...
Цмескаля фон Домановеца усадили в партере рядом с фон Бройнингом. Он хотел было скорчить привычную гримасу, но так и не смог скрыть взволнованного выражения на своём измождённом болезнью лице.
— Бройнинг, это всё... это всё из-за моих гусиных перьев. Жаль лишь, что несчастный Людвиг ничего не слышит.
После антракта капельдинеры в ливреях звонками призвали зрителей вновь занять свои места. Музыканты и хор опять вышли на сцену, взволнованный Бетховен у дирижёрского пульта лихорадочно перелистывал ноты объёмистой партитуры, одновременно успевая давать указания Умлауфу и Шуппанцигу.
— Умлауф, здесь фортиссимо. И следите внимательно за унисоном, а трубачи...
Вдаваться в последний миг в такие подробности было совершенно бессмысленно. Сейчас главное было провозгласить; радость победит войну. Ещё ни одному полководцу не приходилось разыгрывать подобного грандиозного сражения в таком убогом месте. В не слишком большом зале сидело лишь несколько сот человек, а ведь месса предназначалась всему человечеству.
И тем не менее мы начнём атаку!..
— Я вас прошу, Умлауф, занять своё место. Ранее вы прекрасно исполняли свои обязанности, но сейчас... сейчас я буду дирижировать сам.
— Господин ван Бетховен, я вас умоляю...
Начали!
Пианиссимо. Он чуть наклонился вперёд, топнул ногой и с безумным отчаянием во взоре вытянул руки, словно желая вырвать у музыкантов их инструменты. Но где же трубы, где фанфары? Нужно любой ценой добиться победы радости, ибо в мире нет бесценнее сокровища. О, проклятая война!
Музыканты напряглись и робко посмотрели на него.
Умлауф жестом показал: следите только за мной! Не отвлекайтесь, он фальшивит.
Это было очень страшное зрелище. Человек у дирижёрского пульта не отличался высоким ростом и тем не менее чем-то напоминал циклопа. Сразу же бросалась в глаза копна нечёсаных, почти уже совсем седых волос. При каждом взмахе дирижёрской палочки он наклонялся, как бы умоляя оркестрантов играть пианиссимо, но они упорно играли фортиссимо, наполняя зал громом литавр.
Глухой музыкант, к тому же взывавший к людским сердцам, не мог не вызвать у публики сострадания. Стремясь утешить его, зрители сразу же после окончания второй части разразились шквалом аплодисментов. Но Бетховен не слышал их, и певице, мадемуазель Унгер, пришлось подойти к дирижёрскому пульту и обратить внимание композитора на поведение публики.
Бетховен окинул зал рассеянным взглядом, поклонился с видом человека, выполняющего какую-то неприятную обязанность, тут же выпрямился и перелистнул страницу.
— Дальше! Третий эпизод!
Из-за сильного волнения и глухоты он так спешил, что своим стремительным ритмом обогнал музыкантов.
Ну где же солист с его речитативом? Где его звучный баритон? Ах, ну да, он всё равно ничего не слышит. Певец беззвучно зашевелил губами, и Бетховен чётко разобрал вдохновляющие, ободряющие слова:
Радость, пламя неземное, Райский дух, слетевший к нам.После премьеры он чувствовал себя совершенно изнурённым.
Молодой секретарь Хольц довёз Бетховена домой. Ранее он с трудом убедил композитора переехать с Котгассе на Унгаргассе. А тот постоянно твердил, что напротив непременно должна находиться кузница, где отливают колокола и без которой ему никак нельзя.
На Унгаргассе Бетховен остановился у подъезда, устремив взгляд в покрытое туманной пеленой небо, и стал ждать Шиндлера. Тот появился не очень скоро и приблизился к Бетховену робкими неуверенными шагами.
— Ну как там с выручкой, Шиндлер?
— Ещё не подсчитали.
Хольц поспешно простился и скрылся за углом.
Они зашли в квартиру, зажгли свечи, и Бетховен сразу же устало опустился на старую, расшатанную кровать, металлическая сетка которой немедленно отозвалась противным скрипом. Он как-то весь осунулся, поник, из-под сдвинутого на затылок цилиндра выбивалась растрёпанная седая прядь, в правой руке нервно подрагивала трость.
— Может быть, стакан вина, маэстро? — Шиндлер хотел как можно дольше не касаться больной темы.
— Нет! — Посеревшее лицо Бетховена выражало отвращение.
Что же такое сказать ему? Нет, главное сейчас отвлечь его, непременно отвлечь.
— Знаете, маэстро, оказанный вам приём в театре...
— Лучше записывайте, Шиндлер.
Через несколько минут Бетховен прочёл в разговорной тетради:
«Вам устроили пятикратную овацию, хотя даже императорскую семью согласно этикету приветствуют только троекратным рукоплесканием».
— Но ведь никто из императорской семьи так и не появился на концерте, — после короткого раздумья ответил Бетховен.
Перо в чуть дрожащих пальцах Шиндлера снова забегало по бумаге:
«Весь народ прямо-таки подавлен мощью и величием ваших произведений».
— Выражайтесь менее высокопарно, Шиндлер, — горько усмехнулся Бетховен. — О каком величии вы говорите? Публика просто заметила, что я глухой, и из сострадания принялась мне аплодировать. А величие или, если хотите, великодушие народа должно находить выражение в доходе от концерта.
— Подсчёт ещё не закончили, — глядя в сторону, пробурчал Шиндлер.
— Только не нужно меня обманывать. Сколько у вас сейчас в кармане? — с несвойственной ему мягкостью спросил Бетховен.
Шиндлер в отчаянии закусил губу. Если бы можно было подождать хотя бы до утра...
Он подошёл к столу и написал в тетради:
«Поймите, маэстро, вы сами добровольно отказываетесь от доходов, оставаясь здесь, в Вене, в этих стенах. На концертах в Париже или Лондоне вы бы заработали от двенадцати до пятнадцати тысяч гульденов».
Бетховен встал, заглянул через плечо Шиндлера в тетрадь и деланно равнодушным голосом спросил:
— А сколько получилось здесь?
Шиндлер выдержал короткую, но многозначительную паузу, затем вытащил из нагрудного кармана лист бумаги и медленно прочитал:
— «Общий доход составил 2200 гульденов. На аренду театра и оплату оркестрантов идёт 1780. Остаётся 420 гульденов. Но ещё придётся выплатить гардеробщицам и обслуге около ста гульденов. Summa sumarum[128] — примерно триста гульденов».
Пятьлетон работал над «Missa solemnis», шесть с половиной лет над Девятой симфонией и получил в результате триста гульденов. Эта сумма даже не покроет затраты на копиистов...
— Маэстро! Маэстро! Что с вами?
Бетховен тяжело осел и, как колода, с деревянным стуком рухнул на пол.
Летом он вновь отправился в Баден.
Настроение у него к этому времени постепенно изменилось к лучшему, ибо существует предел, за которым неудачи и беды предстают уже в комическом свете.
Его Вторую симфонию обозвали «кошмаром»; его «Героическую симфонию» сочли «губительной для нравов», а для его Девятой симфонии также нашли соответствующую характеристику. Её назвали «порочной».
Почему? Ну почему?
Оставалась надежда, что известие об этом ещё не дошло до Мейнца, ведь там «Шотт и сыновья» предложили за неё шестьсот гульденов, то есть лишь в четыре раза больше суммы, которую в Пенцинге портной Хёрр содрал с него за весьма скромное временное жильё. «Missa solemnis» стоила уже больше, в шесть раз больше пансиона прохвоста Хёрра. Но на самом деле это были только пустые рассуждения, поскольку брат Иоганн, будучи его кредитором, тут же заберёт эти деньги себе...
Тут некий человек, прервав горестные размышления Бетховена, с поклоном передал ему письмо. Композитор вскрыл конверт и прочитал:
«Вена, 29 сентября
1824 года
Глубокоуважаемый Бетховен! Моя жена вручила мне сегодня ваше такое радостное, такое приятное для меня письмо. Не стоит просить прощения за слишком долгое отсутствие, вы поступите несправедливо по отношению к самому себе, если не захотите набраться сил и подготовиться к предстоящей зиме.
Податель сего письма господин Штумф, истинный немец и патриот, хотя вот уже тридцать четыре года живёт в Лондоне. Он крайне редко выезжает на родину для отдыха. В Баден же он приехал ради вас, уважаемый господин Бетховен, дабы посмотреть на человека, которым гордится вся Германия».
Бетховен иронически скривил губы. Человек, которым гордится вся Германия. Если таковой и имеется, то его имя уж точно не Бах и Моцарт, которого закопали, как паршивую собаку. А какая участь постигла вдову Баха? Она несколько лет влачила жалкое существование в приюте для бедных и умерла в полной нищете. Он стал читать дальше:
«Окажите ему любезный приём, как и подобает святому, поклониться которому прибыл издалека преисполненный благоговения паломник.
С Черни я говорил. Он с удовольствием возьмётся за переработку симфоний для игры в две и четыре руки и просит лишь переслать ему партитуру. То же самое готов проделать с мессой и господин Лахнер.
Сохрани вас Господь. Надеюсь вас вскоре увидеть.
Ваш А. Штрейхер».
Бетховен в раздумье положил письмо на стол и внимательно посмотрел на нетерпеливо ожидавшего ответа Штумфа, который был едва ли намного старше его. Перед ним стоял какой-то сказочный персонаж, истинный почитатель его творчества, а таковых насчитывалось всего несколько человек. Он прибыл из Лондона, куда Бетховен порой очень хотел перебраться. В последнее время даже предполагал этот город своим возможным последним пристанищем. Он протянул к Штумфу руки.
— Садитесь, прошу вас. Что же предложить столь редкому и дорогому гостю? Правильно, вина из маленькой бутылки. Ваше здоровье, господин Штумф!
Тот, согласно совету Штрейхера, по складам произнёс:
— За здоровье композитора, которому нет равных среди ныне живущих.
— Как, простите? — Бетховен судорожно глотнул и от волнения чересчур загнул левое ухо. Он прочитал тост по губам, но ему хотелось ещё раз услышать такие радостные сердцу слова.
— За здоровье композитора, которому нет равных среди ныне живущих.
— Благодарю вас от всей души, дорогой Штумф. — Глаза Бетховена засверкали от радости, он походил сейчас на ребёнка, которому вдруг подарили долгожданную игрушку. — Вот, возьмите карандаш и записывайте вопросы. И пожалуйста, не смотрите так критически на убогую обстановку. Мне пришлось скитаться, как Агасферу[129], таская с собой мебель, ибо государство отнюдь не заинтересовано в моём обустройстве.
«А я глубоко тронут тем, что сижу среди мебели, бывшей свидетельницей создания величайших произведений музыкального искусства», — написал Штумф.
— Вы как будто прибыли с другой планеты, мой дорогой гость, — горько усмехнулся Бетховен. — «Величайшие произведения и композитор, которому нет равных среди живущих». Да кому они нужны, мои произведения? Кто желает сейчас играть «Фиделио»? А знаете, что я написал довольно много сонат для фортепьяно? Вы сами музыкант, господин Штумф?
«Я фабрикант арф родом из Гулы в Тюрингском лесу. Могу я задать вам несколько вопросов?»
— Ну, разумеется.
«Кого вы считаете наиболее талантливым композитором в мире?»
Штумф услышал из уст Бетховена совершенно неожиданный ответ:
— Генделя. Перед ним я в любое время готов преклонить колени.
— А Моцарт?
— Ну, это совершеннейший гений, но мне он менее близок, чем Гендель.
«А каково ваше мнение об Иоганне Себастьяне Бахе?»
— Я всегда уважал его, но Бах мёртв, — устало вздохнул Бетховен. — Кто сейчас помнит о нём?
«Он ещё живёт в памяти людей. Скажите, у вас есть сочинения вашего любимого Генделя?»
— Откуда они у меня, бедняка? — Бетховен прошёлся по комнате с таким видом, будто очнулся от глубокого обморока и теперь мучительно припоминает, где он находится. — Только партитура его «Праздника в честь Александра». А почему вы спрашиваете?
Взгляд Штумфа затуманился. В душе он поклялся непременно подарить Бетховену полное собрание сочинений Генделя.
— Да, Гендель! — улыбнулся Бетховен. — А кто вознёс его на пьедестал? Англичане! Вот это настоящий народ!
Штумф пожал плечами, как бы говоря, что он отнюдь не презирает нацию, на земле которой живёт вот уже много лет, но просто среди англичан, как и везде, есть такие же венцы.
Бетховен никак не желал с этим смириться.
— Да я бы лучше отправился в Англию. Именно туда, хотя годы мои уже не те. Посмотрите, вон там, в соседней комнате, стоит роскошный рояль. Его подарил мне лондонский фабрикант Джон Брэдвуд. Я только что сыграл на нём рондо соль мажор и дал ему довольно заковыристое название: «Каприччио, порождённое яростью из-за потерянного гроша». Знаете, Штумф, вся наша жизнь есть не что иное, как ярость из-за потерянного гроша. Ищешь его отчаянно в ящиках письменного стола, заползаешь даже под кровати, роешься в шкафах, нигде ничего не находишь, приходишь в ярость, а потом вдруг начинаешь смеяться.
«Господин ван Бетховен, может быть, вы окажете мне любезность и сыграете это ваше произведение?»
Бетховен не успел ничего ответить. В комнату неожиданно вошёл человек в чересчур коротких для его пальцев хлопчатобумажных перчатках и одежде, никак не подходившей по размерам для его худого костлявого тела. На его лице застыла, как приклеенная, надменная улыбка.
— Позвольте вам представить, господин Штумф, моего брата Иоганна, землевладельца из Гнейксендорфа. Он единственный в нашей семье, кто хоть чего-то достиг. Иоганн, это господин Штумф, фабрикант арф из Лондона.
Иоганн не принял шутливого тона старшего брата. На его лице появилось ещё более отчуждённое выражение. Бетховен встревожился:
— Господин Штумф, позвольте предложить вам зайти в другой раз.
Он проводил гостя до двери и заговорщицки шепнул ему:
— Эта беседа, в отличие от разговора с вами, отнюдь не доставит мне удовольствия. Ваш повторный визит будет мне очень приятен. А может быть, я приеду к вам в Лондон, если же нет... — Тут лицо его оплыло, кожа посерела, щека нервно задёргалась. — ...тогда передайте от меня привет Лондону и всем... всем англичанам.
В комнату, насвистывая что-то весёлое, вошёл Карл Хольц.
В последнее время он стал настоящим другом дома, вызвав тем самым откровенную ревность Шиндлера.
Бетховен нервно расхаживал взад-вперёд по комнате.
— Могу я вам довериться, Хольц? Вы умеете держать язык за зубами?
— Как судебный исполнитель я просто обязан это делать. Не забудьте, что я принёс присягу.
— Тогда я хочу показать вам место, где хранятся акции, которые после моей смерти должны достаться моему племяннику Карлу.
— Этому бездельнику, который так и не смог сдать экзамены за семестр, — зло пробурчал Хольц. — Теперь он, видите ли, хочет стать купцом и, разумеется, учиться здесь, в Вене, в Торговом училище. Да этому растяпе даже крейцера нельзя давать, он его тут же на какую-нибудь глупость потратит.
Он с оскорблённым видом отвернулся к стене, а Бетховен молча сел и продолжил работу над двойной четырёхголосной фугой.
Вскоре, однако, ему начала мешать невыносимая вонь. Через какое-то время он обнаружил её источник.
В соседней комнате на столе стоял его ужин. Но лежавшие в тарелке яйца в горчичном соусе оказались тухлыми. Эта старая мерзавка «госпожа Шнапс» уже потеряла всякое чутьё.
Он вспомнил всех своих служанок и даже заскрежетал зубами от злости. Они обкрадывали его, как вороны, и он однажды был даже вынужден поставить у кладовки кровать, чтобы, как Цербер, сторожить свои припасы.
Не обращая никакого внимания на Хольца, Бетховен выбросил яйца на улицу и, подбежав к кухне, истерично заорал:
— Вы уволены. Я не желаю видеть вас больше в своей квартире! Врач предписал мне диету, а вы хотите отравить меня!
«Госпожа Шнапс», бестолково вертя головой, появилась на пороге кухни. Голос Бетховена гремел так, что было слышно даже на другой стороне улицы. Хольц обеспокоенно выглянул к окно. На шум могла прийти полиция. Нет, пока всё спокойно. Яростный крик Бетховена вновь хлестнул его по ушам.
— Да таких, как вы, старая ведьма, двести лет назад сожгли бы на костре. Когда я вернусь, чтоб вас здесь не было.
Он схватил шляпу и неожиданно спокойно сказал Хольцу:
— Мы сейчас идём в трактир.
Бетховену уже давно нравилась квартира в «Доме Чёрных испанцев», и потому он очень обрадовался, когда Хольц однажды вбежал к нему и, даже не сняв шляпы, написал в разговорной тетради:
«Я заходил по служебным делам в «Дом Чёрных испанцев». Вы можете получить там квартиру, но нужно сделать обширный ремонт».
— Ничего страшного, — небрежно отмахнулся. — Можете оказать мне любезность, дорогой Хольц. Раньше я, словно пушечное ядро, носился по улицам, но теперь у вас наверняка более быстрые ноги, чем у меня. Сходите, пожалуйста, туда и снимите квартиру.
Хольц сел, приложил руки к груди, облегчённо вздохнул и написал:
«У меня с души свалилась тяжесть, не меньшая, чем знаменитый Сизифов камень. Я арендовал на ваше имя квартиру, поскольку к ней уже протянул свои хищные лапы другой человек. Речь шла буквально о минутах, но судебные исполнители действуют всегда более ловко и решительно».
— Тогда мы немедленно пойдём смотреть квартиру. — Бетховен нетерпеливо затеребил Хольца за рукав. — Когда я смогу перебраться туда?
— Где-то приблизительно в Михайлов день. То есть между двадцать девятым сентября и вторым октября.
— Превосходно. Должен признать, что судебный исполнитель получается из вас гораздо лучший, чем скрипач.
— Понимаю. — Хольц встал и шутливо поклонился. — Неблагодарность — удел в этом мире.
Необычное название дома объяснялось тем, что построили его испанские монахи-бенедиктинцы. Это было довольно большое здание, к которому сбоку примыкала церковь. Её, однако, использовали как склад, так как все монахи давно умерли. Фасадом дом выходил на юг; Бетховен, поднявшись в расположенную на втором этаже квартиру, сразу же подошёл к окну.
Солнце светило прямо в глаза, он прищурился и окинул довольным взглядом окрашенную осенним багрянцем листву деревьев. С правой стороны от дома находилась уютная площадь, в конце которой стояло такое же большое строение, называвшееся «Красным домом». Из его окна кто-то радостно замахал им.
Бетховен приложил к близоруким глазам двойной монокль.
— Это Пуговица. Ведь Бройнинги живут в «Красном доме», — поспешил заметить Хольц.
Мальчик уже бежал через площадь и спустя несколько минут стоял рядом с ними у окна.
— Что ты здесь делаешь, дядюшка Людвиг?
Бетховен неодобрительно посмотрел на него.
— А почему ты без разрешения вошёл в мою квартиру?
— В твою квартиру?
— Да, с твоего позволения она временно принадлежит мне.
— Дядюшка Людвиг! — Герхард схватил его за руку.
— Что ты хочешь?
— Смотри, папа уже узнал, что ты здесь.
Член Придворного Военного совета фон Бройнинг стоял у окна и приветствовал их. Позолоченные лацканы его мундира весело сверкали на солнце.
— А почему он надел парадный мундир, Пуговица? Какой сегодня праздник?
— Откуда я знаю! — Герхард пренебрежительно скривил губы и тут же зашевелил ими, старательно произнося каждый слог:— То ли родился, то ли умер кто-то из покойных императоров Австрии. Но вообще-то он надел его в честь тебя, дядюшка Людвиг. Пойдём, пойдём скорее к нам.
Член Придворного Военного совета уже ждал их у дверей своей квартиры. Завидев Бетховена, он тихо сказал:
— Ну, наконец-то ты, старый глупец, нашёл дорогу к нам.
— А может, я действительно глупец? — поспешно согласился Бетховен. — Ладно, давай забудем о прошлых ошибках.
Когда-то между ними возникло отчуждение и даже вражда, поскольку Бройнинг отказался вместе с Бетховеном стать опекуном Карла.
Заслышав за спиной быстрые шаги, Бройнинг обернулся и поспешил сообщить жене:
— Блудный сын вернулся. Надеюсь, ты подашь ему руку.
— Обе руки! — поощряюще улыбнулась госпожа Констанция.
Девочка рядом с ней робко присела с поклоном. Герхард с неожиданной злостью дёрнул её за плечо.
— Ах ты грубиян! — возмутилась госпожа Констанция.
— Что с ним? — удивился Бетховен.
— Он не хочет никому тебя уступать, даже своей сестре Марии, — ответил за жену Бройнинг. — И запомни, Людвиг, наш дом — это твой дом.
Потребовалось довольно много беспокойных дней для того, чтобы соответствующим образом обставить квартиру.
Она состояла из трёх комнат и кухни. Сразу же при входе в гостиную бросался в глаза висевший на почётном месте портрет маслом покойного капельмейстера придворной капеллы Людвига ван Бетховена. Теперь с ним можно было, как когда-то в детстве, разговаривать.
— Дорогой, я вижу, вы недовольны вашим внуком, иначе бы не смотрели на него так хмуро. Что же вызывает у вас недовольство? «Героическая симфония»? А может, скрипичный концерт? Или то обстоятельство, что я, в отличие от вас, так и остался никем? Жаль, жаль, а ведь мог, наверное, стать капельмейстером придворной капеллы. Вот, я вижу, вы уже улыбаетесь.
В спальне висела картина Малера, и повсюду были разбросаны кипы нот, а в третьей комнате стояли два фортепьяно, одно из которых подарил Бетховену Брэдвуд, другое же одолжил граф. Между окнами был установлен стеллаж для книг.
Бетховен, чувствуя себя теперь настоящим владельцем квартиры, с гордостью показывал Стефану фон Бройнингу своё жилище.
— Что тебе сразу же бросилось в глаза, Стефан?
— Не знаю почему, — член Придворного Военного совета неуверенно огляделся, — но что-то здесь напоминает вашу квартиру в Бонне.
— У тебя по-прежнему орлиный взор, Стефан, — лукаво прищурился Бетховен, выставив указательный палец. — Помню, как легко ты высматривал в соседних садах спелые яблоки и груши, которые мы потом... Да, Бонн. Я никак не могу забыть его. Мне очень не хватает прекрасной дедушкиной мебели. А ещё мне не хватает денег. Ох уж эти мои жалкие гонорары. Но, слава Богу, Стефан, твоя жена согласилась вести моё хозяйство. Очень мило с её стороны.
— Тут можешь быть спокоен.
— А мы будем общаться, как когда-то в Бонне. Знаешь, твой зять Франц Вегелер и твоя сестра Элеонора прислали мне письма. Порой мне кажется...
Бройнинг замер в ожидании.
— ...что жизнь подходит к концу, потому что... понимаешь, Стефан, возвращаются юность и детство.
Тон, каким были сказаны эти слова, несколько встревожил Бройнинга, и он поспешил заявить внушительным басом:
— Не говори так! Вспомни лучше о своей Десятой симфонии.
— Да я никогда не забываю о ней. Знаешь, что в Бонне мальчишки кричали мне вслед?
— Ты об этих дураках?
— Не в этом дело, Стефан. Они кричали «Шпаниоль»! Когда я здесь как-то вышел из дома, то увидел свой портрет, нарисованный на тротуаре. Они знали, что я не услышу, если мне кричать вслед, и потому нарисовали мелом и цветными грифелями карикатуру на меня. Разумеется, на детей обижаться не стоит.
— Герхард обижается.
— Да, Ариэль из-за меня дерётся с ними. Но знаешь... Как я был в Бонне никем, так таким же и здесь остался.
— Над чем ты сейчас работаешь, Людвиг?
— Над квартетами для князя Голицына[130] и над большой фугой, но до конца ещё далеко. Впрочем, Голицын принадлежит к числу высокородных мерзавцев, и я далеко не сразу разгадал его. Он устроил в Петербурге премьеру «Missa solemnis», потом написал мне, и я, глупец, ещё выучил его слова наизусть и радовался им, как школьник хорошей отметке: «Можно сказать, ваш гений предвосхитил столетия, и, может быть, ещё недостаточно просвещённых слушателей, способных по достоинству оценить всю красоту вашей музыки. Но потомки воздадут вам должное, а их признание дорого стоит».
— Да, и поэтому?..
— Да нет, просто этот высокородный прохвост своим пророчеством хотел добиться совершенно иных целей. Сладкие речи взамен гонорара. Я убеждён, что он мне даже геллера не заплатит.
— Зачем же ты пишешь для него?
— Да будь он императором, я всё равно бы писал не для него. Впрочем, тебе известно мнение Шиндлера о моих квартетах? Он ведь считается одним из самых преданных моих почитателей.
— Шиндлера?
— Я цитирую: «Если ранее композитор сочинял, подчиняясь исключительно велению своего духа, то теперь в его творчестве всё большее место занимает рефлексия. Кроме того, он стал слишком мелочно-расчётлив. Меркантильные соображения...» И так далее. — Бетховен раздражённо дёрнул головой так, будто туда попала пуля. — Это он намекает на мои доходы, полученные за исполнение квартетов в аристократическом кафе на Пратере, где посетители, правда, наслаждаются не столько музыкой, сколько горячим шоколадом, кофе, тортами и взбитыми сливками. Нет, венцы правы.
— В чём?
— Когда они с издёвкой заявляют: «Бетховен теперь даёт концерты в ореховой скорлупке. Там ему с ними и место».
Неужели уже прошла весна? Если верить календарю, на дворе и впрямь конец июля 1826 года. Бетховен наконец решился хоть несколько недель провести в своём любимом Бадене.
Госпожа Констанция приказала накрыть стол к ужину. В этот день опять в их семье отдали предпочтение рыбным блюдам.
Из-за яркого солнечного света широкая площадь между «Красным домом» и «Домом Чёрных испанцев» казалась вымощенной золотыми камнями. Бетховен отошёл от окна и, вращая в пальцах бокал, полушутя-полусерьёзно произнёс:
— Этот осёл критик из лейпцигской «Всеобщей музыкальной газеты» остался верен себе. Первую, третью и пятую части квартета он охарактеризовал как «мрачные и мистические», а во второй и четвёртой уловил «склонность к издевательству над зрителем и к шумовым эффектам».
— Но насколько мне известно, рецензент сказал о тебе несколько добрых слов. — Бройнинг хлопнул друга по плечу и сел, опустив на колени переплетённые пальцы.
— Совершенно верно. Вот они: «Может быть, наступят времена, когда то, что на первый взгляд кажется нам мутным и расплывчатым, обретёт чёткие и правильные формы». Знаешь, Стефан, это напоминает мне утешительные проповеди о царстве небесном, откуда ещё никто ни разу даже весточку не прислал.
Госпожа предостерегающе вскинула руку. Детям не следовало слушать таких речей, но сейчас они были слишком увлечены игрой.
— Вообще-то твоя фуга... — Бройнинг помедлил, подбирая подходящие слова. — Я твой друг и прямо скажу тебе...
— Я уже всё понял, Стефан. Слишком многого я требовал от инструментов...
Он замолк, так как в комнату с искажённым от ужаса лицом вбежала горничная.
— Что-то случилось?
— Истинно так, господин советник.
Стефан фон Бройнинг встал и осторожно вышел из комнаты. Вернувшись, он подошёл к Констанции и глазами показал на Людвига, затеявшего тем временем весёлую игру с Герхардом и Марией.
— Что там такое, Стефан?
— Попозже. Хотя почему попозже? Я должен немедленно сообщить ему о случившемся.
Он схватил перо и стал писать записку. Констанция внимательно следила за выводимыми крупным каллиграфическим почерком строками.
«Людвиг, Хольц ждёт в коридоре. Немедленно отправляйся к свояченице. Карл там. Только не пугайся. Он пытался покончить с собой. Пистолет...»
После прочтения записки лицо Бетховена посерело, на скулах выступили багровые пятна.
— Но он будет жить?
— Хольц ничего не сказал.
— Благодарю вас, госпожа Констанция, — сухим деловым голосом сказал Бетховен. — И вас, дети, я также благодарю. С вами мне было очень весело и хорошо.
После его ухода Констанция отправила детей на кухню доедать обед. Бройнинг тут же дал волю чувствам. Он нервно бегал по комнате, рассказывая на ходу:
— Хольцу известны следующие обстоятельства. Несколько дней тому назад Карл купил двуствольный пистолет и уехал с ним на развалины Рауэнштайна. Это недалеко от Бадена. Первый раз он промахнулся, во второй раз пули попали в висок, но задели только черепную кость. Какой-то прохожий случайно нашёл Карла и отвёз его к матери. Причиной он назвал своё «заточение» в доме Людвига. Сейчас он буйствует и орёт такое...
— Но почему?
— Он требует не пускать к нему «старого глупца»! «Старого глупца»! Если б ты знала, сколько неприятностей доставил Людвигу сей неблагодарный субъект. Всего лишь несколько дней тому назад Людвиг говорил мне, что Карл уже две ночи не ночевал дома. Наверняка шатался по трактирам с бродягами или проводил время с женщинами лёгкого поведения. И всё на деньги Людвига.
— Сам знаешь, как я отношусь к нашему общему другу, он поистине великий композитор, — госпожа Констанция осторожно поправила скатерть, — но воспитатель из него никакой. Вспомни, какие ужасные сцены разыгрывались в «Доме Чёрных испанцев». Людвиг потом, правда, всегда раскаивался в своих безумных вспышках гнева, но всё равно...
— Это верно. Впрочем, я сейчас думаю о другом. Карл отнюдь не левша и тем не менее почему-то стрелял именно в левый висок. Может, он просто разыгрывал комедию?
Когда Людвиг пришёл к свояченице, Карла там уже не было. Согласно австрийским законам, попытка самоубийства уже сама по себе считалась преступлением. Проживавший по соседству доктор должен был заявить в полицию. В итоге Карла поместили в тюремное отделение Общей больницы.
Пулю из его головы уже удалили. Бетховен то и дело нетерпеливо заглядывал сквозь прутья решётки в тюремный коридор, закопчённые стены которого производили на посетителей особенно мрачное впечатление. Завидев одного из больничных служителей, Бетховен подозвал его к окошку и выпалил на одном дыхании:
— Есть опасность для жизни?
Он не мог в полутьме читать по губам, и поэтому Хольц был вынужден вмешаться в разговор. Бетховен лишь заметил пренебрежительную ухмылку на лице служителя, и сердце раненой птицей затрепыхалось в груди. Хольц быстро записывал в разговорную тетрадь:
«Маэстро, вам нужно прийти завтра в полдень. Никакой опасности для жизни Карла нет. Ведь он...»
Хольц заколебался, не решаясь писать дальше. Но даже персонал тюремного отделения мгновенно проникся антипатией к Карлу.
«...знал, куда целиться».
— Что вы имеете в виду?
«Больничный служитель со смехом заявил, что у Карла в тюрьме будет достаточно времени подумать о последствиях своей выходки».
Бетховен опустил голову, уставил взгляд в пол и через несколько минут тихо спросил:
— Могу я завтра поговорить с главным врачом?..
— Очень хорошо, что вы напомнили мне о нём. Его сегодня случайно не оказалось на месте. Может быть, мне навести справки в полиции? Я всё-таки как-никак официальное лицо. Но знайте, что делаю я это только ради вас, маэстро. Ради Карла я даже пальцем бы не пошевелил.
На следующий день ровно в полдень Бетховен присел на табуретку возле кровати Карла и стал ждать, когда он проснётся.
Он сидел в большой больничной палате с зарешеченными окнами, брезгливо морщился, вдыхая едкий, пропитанный потом и испарениями давно не мытых человеческих тел воздух, и ловил взгляды двадцати, а то и более заключённых, многие из которых походили на настоящих висельников. В свою очередь, кое-кто из них, шлёпая засаленными картами о грубо сколоченные столы, презрительно кривил рты, глядя на одетого в роскошный, предназначенный исключительно для торжественных случаев фрак посетителя. В последний раз он надевал его на премьеру «Missa solemnis» и Девятой симфонии.
Из лежавшего здесь юноши он также хотел сделать нечто вроде симфонии, способной озарить ярким светом его, Бетховена, нелёгкую жизнь. Увы, из него не вышло виртуоза игры на фортепьяно, и оправдались самые грустные прогнозы Джианнатазио относительно «способностей Карла к наукам». Карл отнюдь не был обделён способностями, но оказался слишком легкомысленным и не готовым к каждодневному упорному труду.
Он наклонился к кровати, пристально рассматривая бледное, измождённое лицо Карла. Его голова лежала на подушке в синей наволочке. Точно такого же цвета была и его одежда. Подумать только, его племянник, носящий ту же фамилию, сидит в тюрьме.
Карл, бесспорно, был похож на отца, но одновременно в его облике было для Бетховена что-то отталкивающее. Ему были неприятны чересчур гладко уложенные, напомаженные волосы, оттопыренная нижняя губа, как бы говорящая о презрении её обладателя к окружающему его миру, и щегольские, аккуратно подстриженные чёрные усики. Выпуклые, будто вытаращенные тёмные глаза обычно светились тревожным огнём и беспокойно бегали. Теперь же...
Тут Бетховен увидел, что Карл проснулся и, насупившись, смотрит на него.
Он взглянул на племянника без малейшего упрёка и положил на синее одеяло карандаш и разговорную тетрадь.
— Может быть, ты всё-таки объяснишь, почему ты это сделал?
В ответ Карл лишь упрямо покачал головой.
— Предстоящие экзамены? Или долги? Я спрашиваю вовсе не затем, чтобы мучить тебя. И уж тем более я не воспринимаю всерьёз твою угрозу сорвать с головы повязку, если «старый глупец» хоть на полшага приблизится к твоей кровати. И хочу лишь, чтобы ты поскорее выздоровел...
— А потом отправился в тюрьму.
— Нет, Карл, в тюрьму ты не попадёшь.
— Правда? — Незадачливый самоубийца рывком поднялся с кровати.
— Даю тебе слово. — Бетховен поощряюще повёл рукой. — И забудь о том, что ты мне должен. Помнится, я всё никак не мог получить гонорар, который ты, оказывается... Ну да ладно, забудем об этом.
— Отец, дорогой отец! — Карл схватил ладонь Бетховена и прижал её к губам. — Но тогда, видимо, мне нужно будет уехать из Вены.
— Разумный вывод, — с готовностью согласился Бетховен. — Хочешь съездить за границу? Может быть, в Лондон, поскольку там я...
— Лучше я стану кадетом, а потом офицером. Вот только расходы на экипировку...
— Хорошо, хорошо.
Вошёл надзиратель и позвенел ключами о миску, давая понять, что свидание окончено.
— Мой мальчик, мне пора идти.
— А как ты возместишь эти расходы?
— Давай поговорим об этом позднее. Впрочем, если хочешь... — Он наклонился и прошептал Карлу в ухо: — У меня есть восемь акций, которые так и так должны достаться тебе. Хочешь, я продам одну из них?
— Конечно хочу.
Один из заключённых долго смотрел вслед Бетховену, а потом рассыпался мелким натужным смешком:
— Смотри-ка, оказывается, твой старик очень спешил, а сперва ведь сидел у твоей кровати тихо, как мышь, боялся разбудить тебя.
Лицо Карла мгновенно сделалось холодно-отчуждённым, похожим на маску.
— Он просто мой дальний родственник. А вообще-то у него не все дома.
На площади перед «Домом Чёрных испанцев» весело играли дети.
Появление пожилого человека с чересчур выпуклой грудью, в старом сюртуке с развевающимися фалдами и потрёпанной шляпе с обвислыми полями, из-под которой выбивались косматые пряди седых волос, вызвало у мальчиков дружный взрыв хохота. Они окружили старика и, приплясывая, начали выкрикивать:
— Идёт глухой и безумный Бетховен! Его смуглое лицо изрыто оспинами! А его племянник застрелился!
Бетховен не понимал, что они кричат, но мальчишки мешали ему, и он, пригнувшись, прошмыгнул в дом и захлопнул за собой дверь.
Через несколько минут в квартиру вбежал Герхард. Из его разодранной щеки сочилась кровь.
— Что с тобой, Пуговица?
Мальчик бешено замотал головой и, привычно тщательно проговаривая каждый слог, сказал:
— Папа уже дома. Пойдём к нам.
— Позже.
Бетховену не хотелось вновь слышать злобное карканье наглых воронят. Он подошёл к распахнутому окну, и чистый свежий воздух вскоре очистил лёгкие от мерзких запахов тюремной больницы. Он грузно опустился на стул. Хорошо бы ещё изгнать из памяти жуткие физиономии убийц, мошенников и грабителей. Они напоминали ему карнавальные маски.
С наступлением темноты он отправился в «Красный дом» и сразу же спросил Бройнинга:
— Стефан, ты ведь сам когда-то был молодым офицером. Скажи, сколько стоит экипировка для кадета?
— Примерно пятьсот — шестьсот гульденов. А почему тебя это интересует?
— Понимаешь, Карл... — Бетховен, не выдержав, отвернулся и безнадёжно махнул рукой.
— Что?
— У тебя ведь есть связи?
— Разумеется, но я тебе руки не подам, если...
— Стефан, давай вместе поможем юноше.
— Людвиг, неужели ты всерьёз веришь в возможность для него военной карьеры?! Взял и вздумал стать кадетом. Что за безумная мысль!
— Сейчас он, конечно, просто мечтает о золотых офицерских эполетах, — устало вздохнул Бетховен, — и тем не менее я хочу, нет, я обязан верить в него. Прошу тебя, Стефан, напиши мне имена твоих влиятельных знакомых.
На глаза Бетховена навернулись слёзы, он протянул другу карандаш и бумагу. Бройнинг брезгливо передёрнул плечами.
— Нет, Людвиг, тебя не переубедишь.
Затем он размашисто написал на протянутом ему Бетховеном листке бумаги:
«Фельдмаршал-лейтенант фон Штуттергейм. Его полк стоит в Иглау. Он, кстати, большой почитатель твоего творчества».
Бройнинг небрежно покрутил в пальцах карандаш.
— Есть ещё какие-либо пожелания, Людвиг?
— Да, Стефан. Я уже говорил с главным врачом, а Хольц, в свою очередь, наведался в полицию. Или Карл отправится в тюрьму за попытку самоубийства...
— Чего я ему от всей души желаю!
— Или ему будет назначен особый опекун. Им должен стать человек, уважаемый в обществе. Таковым я, к сожалению, не являюсь.
— И ты бы хотел, чтобы его звали Стефан? — Бройнинг удивлённо сдвинул красивые полукружья бровей.
Бетховен выпрямился и вскинул голову:
— Именно. У меня нет другого друга.
Он опять начал харкать кровью, но понимал, что на этот раз причиной тому поступок Карла. Воистину племянник тяжело ранил его. По ночам ему снились больничная палата и Карл, лежащий в окружении преступного сброда. До чего ж всё это омерзительно! Теперь рана как бы начала гноиться, и всё вокруг тоже было залито мерзким жёлтым гноем. Мерзкими были и выкрашенные в синий цвет кровати, и синие больничные халаты заключённых, и, главное, сам Карл, не испытывавший ни малейшего раскаяния и мечтавший только о мундире с золотыми эполетами и аксельбантами.
Самое удивительное, что душевные и физические муки не мешали Бетховену успешно трудиться. Он уже завершал работу над циклом квартетов, один из которых собирался посвятить фельдмаршал-лейтенанту фон Штуттергейму в благодарность за согласие взять к себе Карла кадетом.
И тут Стефан сказал ему, что надлежит сделать с Девятой симфонией. Он действительно был по-настоящему верным другом и подобно ему, Бетховену, с неприязнью относился к венской публике и императорской династии.
— Людвиг, ты не можешь все свои произведения дарить исключительно эрцгерцогу и архиепископу Рудольфу. Я настоятельно советую тебе посвятить симфонию королю Пруссии. Не скрою, мною движут не только дружеские чувства, но и злоба на здешнее высшее общество. Ведь пруссаки и австрийцы со времён Силезской войны[131] относятся друг к другу достаточно неприязненно. Я же считаю, что пришло время нам всем исправлять ошибки прошлого. И может быть, премьера твоей симфонии в Берлине разозлит наших аристократов и заставит их изменить своё поведение.
— Ну куда мне уезжать на старости лет!
— Уезжать?! — В голосе Бройнинга отчётливо зазвучали горделивые нотки. — Наоборот, ты вернёшься в родные края!
Бонн ведь входит в состав Пруссии. У них есть отличный орден «Pour la merite»[132]. Вот если бы ты его получил!
— Орден? Зачем он мне?
Карл довольно долго пролежал в тюремном отделении Общей больницы и лишь в конце сентября в сопровождении полицейского появился в «Красном доме».
— Арестант Карл ван Бетховен передаётся мною под надзор его опекуна, господина члена Придворного Военного совета фон Бройнинга.
— Прекрасно. Вы курите сигары?
— Так точно, и с превеликим удовольствием.
Полицейский, получив расписку и целую кучу сигар, развернулся и, продемонстрировав отличную выправку, удалился, а фон Бройнинг подчёркнуто вежливо обратился к Карлу:
— Прошу садиться. Как ваша рана?
Левый висок Карла был всё ещё заклеен пластырем.
— Она постепенно заживает, господин советник. Полагаю, что через две-три недели уже ничего не будет заметно, и тогда я смогу быть представлен господину фон Штуттергейму, которому господин советник так любезно меня...
— А пока вы, если не ошибаюсь, отправитесь в Гнейксендорф? — тихим, каким-то безжизненным голосом перебил Бройнинг.
— Так точно, господин советник, по приглашению моего дяди Иоганна.
Бройнинг брезгливо скривил губы и отвернулся. Ему очень не нравилась подчёркнуто раболепная поза Карла, сидевшего неестественно прямо на краешке стула и не сводившего преданных глаз с него. А уж эти ухоженные редкие усики... Он повёл в его сторону узкой аристократической ладонью и продолжил:
— Настоятельно рекомендую вам перед визитом к господину фельдмаршал-лейтенанту сбрить усы... И потом, я надеюсь, не слишком отрадный период вашей молодой жизни навсегда закончился.
— Можете не сомневаться, господин советник. Я твёрдо решил покончить с прошлым.
— Знайте, что вашим выстрелом вы причинили вашему дядюшке гораздо больше страданий, чем себе. Искупить вину вы можете только искренней любовью к нему. Кстати, со здоровьем у него не всё в порядке.
— Господин советник, в больнице, за тюремной решёткой я имел время поразмыслить над своим поведением. — Карл вскочил так стремительно, что чуть было не опрокинул стул. — Своим выстрелом я что-то убил в себе самом и что-то, наоборот, воскресил. Но я ни в коем случае не собираюсь утверждать, что полностью исправился. Поэтому у меня к вам есть одна просьба, господин советник.
— Какая именно?
— Попросите, пожалуйста, господина фельдмаршал-лейтенанта фон Штуттергейма, чтобы он держал меня в строгости и не давал никаких поблажек.
— Это ни к чему, — снисходительно улыбнулся Бройнинг. — Держите лучше сами себя в строгости и не давайте себе подобных поблажек.
Через несколько минут в комнату зашла госпожа Констанция и застала мужа сидящим у окна.
— Кого ты там выслеживаешь, Стефан?
— Да вот смотрю, не завернёт ли мой подопечный в ближайший трактир. Нет, зря я так плохо думал о нём. Он направился прямо в «Дом Чёрных испанцев».
Тем не менее Бройнинг не опускал гардину до тех пор, пока Карл не скрылся в подъезде.
Дорога оказалась настолько ужасной, что даже лошади не выдержали и под конец, понуро свесив головы, пошли шагом.
Бетховен, уже однажды посещавший брата, решил вдруг взять на себя роль гида:
— Пойми, Карл, нет более убогого и жалкого местечка не только в Австрии, но и во всей Европе, чем Гнейксендорф. Я не хотел бы быть здесь похороненным. Но сама местность довольно живописная, хотя я лично предпочёл бы, чтобы она была более холмистой. Зато рядом полноводный Дунай, а вода — это жизнь. Имение довольно роскошное, есть даже башни, и если ты взойдёшь на одну из них, то сможешь передать привет далёким горам Штирии. — Он оглянулся на забившегося в угол экипажа брата, и губы его тронула ехидная улыбка. — Что с тобой, Иоганн? Чем ближе мы подъезжаем к Гнейксендорфу, тем более кислой делается у тебя физиономия. Ты хоть набрался храбрости известить о нашем прибытии? Надеюсь также, что ты приказал моей любимой свояченице зажарить к нашему приезду гуся. Поверь, вопреки слухам, я ничего не имею против твоей приёмной дочери. В остальном же я воспринимаю всё это как своего рода мистерию. Зачем ты нас вообще пригласил? Неужели всё дело в числе восемь? Тогда уменьши его на единицу. Ну хорошо, хорошо, я верю, что ты поступил так от чистого сердца, исключительно из любви к брату. Как, мы уже приехали? Тогда пусть всё идёт своим чередом.
В тёмном дворе, куда они въехали, лишь смутно угадывались очертания дома и многочисленных хозяйственных строений. Иоганн сразу же схватил фонарь и высоко поднял его.
— Не старайся, дорогой брат, — мрачно пробормотал Людвиг. — Всё равно ты не обнаружишь ни одного освещённого окна.
Подошедший слуга, сонно моргая глазами, долго скрёб грудь, а затем нехотя повёл лошадей в конюшню. В прихожей Иоганн с искажённым от страха лицом прошептал:
— Подождите здесь! Только не разговаривайте!
Через какое-то время он появился и вяло махнул рукой, призывая их следовать за ним. На втором этаже он показал Карлу его комнату и вновь понизил голос до сиплого шёпота:
— Пойдём, Людвиг. Только, умоляю, тише.
Он открыл дверь, зажёг свечу и мгновенно исчез.
Людвиг огляделся и поразился убожеству обстановки. Старый деревянный стол, на котором даже не было тарелки с куском хлеба. На давно не мытом полу тазик для умывания, рядом треснувший кувшин.
Ну почему, почему он не сказал «нет» в ответ на приглашение брата? А ведь хотел, ибо знал, что Иоганном двигал исключительно холодный расчёт, лицемерно прикрываемый мнимой братской любовью. Здесь же от него даже этого не требовалось. Личина заботливого брата осталась в Вене, в Гнейксендорфе всем заправляли его жена и приёмная дочь...
Бетховен устало зажмурился, разделся и лёг на старую, расшатанную кровать. Он долго не мог заснуть, так как грубое серое одеяло больно тёрло кожу, а каждый поворот его грузного тела отзывался скрипом ржавых пружин.
Вот такой приём устроил ему родной брат.
После довольно скудного завтрака они отправились с Карлом гулять, и настроение Бетховена улучшилось. Он никогда ещё не видел племянника таким искренним, таким весёлым. Карл, казалось, от души радовался поездке и называл имение Иоганна «разбойничьим логовом». Глядя на сверкающие на солнце крыши монастыря «Дар Божий», он неожиданно спросил:
— Хочешь есть?
— К сожалению, — скорбно вздохнул Бетховен.
— Я тоже. — Карл размашистым жестом ткнул себя в грудь и вынул из одного кармана куртки ветчину, а из другого два куска хлеба. — Я тут немного польстил этим двум глупым бабам и долго рассказывал, что в кладовой у них крысы и черви. Они слушали меня раскрыв рот и верили каждому слову. А ведь крысы и черви — это мы с тобой, понимаешь?
Бетховен уже давно не ел с таким аппетитом. Он присел на траву и с удовольствием заметил в глазах Карла тревогу.
— Ты не простудишься?
— Да нет, Карл, я ведь из железа сделан. Ночью я чувствовал себя довольно скверно, но сейчас полностью оправился и очень хочу заняться любимым делом. Я придумал новую концовку квартету си-бемоль мажор. — Он многозначительно посмотрел на Карла. — Окажи-ка мне любезность. Объясни дяде Иоганну, твоей дорогой тете и хорошенькой кузине, что мне сейчас нужно уединение, и потому я хотел бы есть отдельно в своей комнате. Намекни, что у меня хандра, что я склонен к безумным поступкам...
— И что ты вообще изверг рода человеческого.
— Думаю, что в душе наши родственники так и считают.
Они дружно рассмеялись.
В полдень обед Людвигу принёс лично младший брат. Людвиг расставил миски, мельком заглянул в супницу и дерзко усмехнулся прямо в лицо Иоганну:
— Знаешь, меня ещё никто не называл обжорой, но я ведь и не воробей.
Иоганн смущённо потупился.
— Может быть, твоя жена хочет, чтобы я доплачивал? Хорошо, я согласен.
Иоганн, поколебавшись, схватил лист бумаги и написал:
«Нет, моя жена этого не хочет. Две недели ты можешь у нас жить и питаться бесплатно».
— Вот как? — Людвиг недобро прищурился и, скривившись, потёр затылок. — А я полагал, что смогу пробыть у тебя столько, сколько захочу.
Иоганн написал:
«Если бы не налоги! По возвращении я нашёл новое платёжное извещение налогового ведомства. Мы бедные сельские хозяева. Собираем плохие урожаи, а налоги всё растут!»
— Можешь оказать мне любезность, которая ничего не будет стоить и полностью освобождена от налоговых сборов? — Людвиг осторожно разложил на тарелке маленькие кусочки мяса.
— Какую ещё любезность?
— Посиди со мной, дорогой Иоганн. Нет ничего приятнее, чем есть и смотреть на такого подкаблучника, как ты.
К вечеру появился слуга — мальчик лет пятнадцати с добродушным лицом и оттопыренными ушами. Его звали Михаэль Кренн. Сразу же выяснилось, что он не умеет писать, зато любит петь тирольские песни. Бетховен очень обрадовался этому обстоятельству.
— Смотри, вот ноты, хотя я не знаю, можешь ли ты ими пользоваться. Я всё равно ничего не слышу, и потому можешь спокойно играть на дудочке и петь фальцетом. А я пока буду марать нотную бумагу.
Бетховен теперь вообще не выходил из комнаты, музыка заставляла его забывать обо всём на свете. Услуги Михаэля Кренна ему требовались лишь в тех случаях, когда приступы непонятной болезни укладывали его в постель. Как-то он поднял голову и с удивлением обнаружил, что за окном кружатся снежинки. Оказывается, на дворе был уже конец ноября.
Что происходит с его телом? Оно так разбухло, что пришлось наложить бандаж. Карл даже приличия ради не интересовался его здоровьем, ибо ухитрился наладить превосходные отношения с тёткой и кузиной. Он теперь был во всём с ними заодно, и Бетховен ничуть не удивился, обнаружив как-то на столе письмо следующего содержания:
«Мой дорогой брат! Я теперь могу быть полностью спокоен за дальнейшую судьбу Карла. Он привык здесь к спокойной размеренной жизни. По его поведению я вижу, что он охотно остался бы здесь. Напомню, что Бройнинг ожидал его возвращения через две недели, а прошло уже два месяца. Поэтому я полагаю, что до следующего понедельника...»
— Михаэль, скажи своему хозяину, что я хочу с ним поговорить.
Иоганн, переступив порог комнаты, сразу же заявил:
— Я думаю только о Карле.
— Знаю, и потому мы немедленно уезжаем. Собери мои вещи, Михаэль, но сперва сходи к моему племяннику. Иоганн, прикажи запрячь экипаж.
Иоганн гордо вздёрнул плечи и с надменной улыбкой ответил:
— Увы, сегодня я не могу его тебе дать. Он может потребоваться жене.
— Значит, нам придётся ждать до завтра?
— Завтра тоже ничего не получится.
— Так когда же?
Иоганн помолчал немного, а потом написал:
«Почему ты так спешишь с отъездом? Но если не терпится, могу дать только телегу, на которой развозят молоко. Её как раз запрягают. Но едет она не в Креме, поэтому по дороге тебе придётся...»
Бетховен подошёл к заиндевевшему окну. Снаружи мела позёмка, всё вокруг окутал стылый мрак. Он медленно повернулся и, не глядя на брата, тихо сказал:
— Иоганн, я вовсе не хочу тронуть твою душу, ибо здесь всем заправляет твоя жена. Но ведь ты знаешь, что я болен. Сегодня ночью я почти не спал из-за болей в боку и сильного озноба. И ты даже не хочешь дать мне до Кремса закрытый экипаж. А ведь я и зимней одежды с собой не взял.
Он скрючился от нового приступа боли, схватился за бок, потом за живот.
На лице Иоганна не дрогнул ни один мускул. Оно по-прежнему сохраняло упрямое выражение.
Наконец Людвиг выпрямился и произнёс сквозь зубы:
— Ну хорошо, надеюсь, я ничего не должен.
Иоганн молча вскинул пять пальцев на правой руке и два пальца на левой.
— Семь гульденов? За что?
Иоганн показал на груду поленьев у печи.
— Правильно! Извини. Я не хотел тебя обмануть.
Иоганн жестом показал, что готов простить ему эту сумму.
— Нет, Иоганн. — На губах Людвига заиграла ядовитая усмешка. — Жена тебе этого никогда не простит, а я не хочу ставить тебя в неловкое положение. Вот деньги.
Ветер свирепо дул в лицо, нагоняя чёрные облака с их белой круговертью. Кучер в овечьей шубе с трудом угадывался за белой пеленой, лошади фыркали и взбрыкивали, явно не желая выезжать куда-либо в такую погоду. Карл плотнее закутался в полученное от Иоганна одеяло, а Бетховен попытался было укрыться от холода среди бочек с маслом, но они, естественно, ничуть не грели. Ему казалось, что тысячи иголок впиваются в измученное болезнью тело.
По дороге кучер высадил их возле деревенского трактира, где, как выяснилось, крошечная комната для гостей даже не отапливалась. Вид Бетховена крайне встревожил трактирщика.
— Только бы он тут у меня не умер! Он же смертельно болен. Нет, господин, почтовая карета здесь не ездит. Сани дать не могу, поскольку просёлочная дорога очищена от снега. Переночуйте, а утром я, если хотите, дам обычную телегу, но, разумеется, за плату.
Бройнинг, стоя на своём любимом месте у окна, с удовольствием попыхивал трубкой. Зима в этом году началась на удивление рано, и жёлтый цвет заходящего солнца предвещал ещё усиление холодов. Бройнинг проводил равнодушным взглядом въехавшую на площадь телегу и вдруг закричал, как безумный:
— Констанция! Посмотри, кто там свернулся в комок на соломе. Это же Людвиг. Я сейчас же бегу к нему. Констанция, брось всё и тоже иди туда!
Но быстрее всех оказался Пуговица. Он подбежал к телеге и обхватил Бетховена за плечи.
— Обопрись на меня, дядюшка Людвиг.
Подбежавший Бройнинг расплатился с возницей и долго вместе с сыном затаскивал Бетховена на второй этаж. В квартире они тут же опустили его на кресло с высокой спинкой. Глаза Бетховена были закрыты, лицо горело, руки бессильно свисали на пол.
— Дела плохи, — прошептала госпожа Констанция.
Бройнинг согласно кивнул. Внезапно Бетховен открыл глаза и хрипло спросил:
— Я у вас?
— Да.
— А Пуговица здесь?
— Здесь! — Мальчик от усердия даже щёлкнул каблуками.
— Прекрасно, только не уходите. Завтра я уезжаю в Лондон. Решено.
Уже в кровати он ещё раз сбивчиво повторил эти слова и, обращаясь к Пуговице, добавил:
— Завтра я непременно уеду в Лондон. Там я вступлю в Филармоническое общество, навещу господина Штумфа. Хочешь поехать со мной, Пуговица?
— Я сейчас схожу за врачом, дядюшка Людвиг.
— Не нужен мне никакой врач. Я спрашиваю, хочешь поехать со мной?
— Ну конечно, дядюшка Людвиг.
— У тебя, кажется, водобоязнь?
— Да, так мама иногда говорит. А почему вы спрашиваете, дядюшка Людвиг?
— Потому что до Лондона можно добраться только морем, — произнёс Бетховен с заговорщицкой миной. — Мы, Пуговица, поплывём на настоящем парусном корабле. Даже на пароме можно далеко уехать. Не веришь, спроси у моего дедушки.
— У портрета?
— Ну да. Только разговаривай с ним вежливо. Он всё-таки придворный капельмейстер. Мне до него далеко.
Бетховен бессильно свесил голову набок и закрыл глаза.
В другой комнате госпожа Констанция с тревогой сказала мужу:
— Боюсь, у него воспаление лёгких.
— А почему он так разбух? Не дай Бог, у него ещё воспаление брюшины. Герхард, немедленно беги за врачом.
— А кто у дядюшки Людвига врач, папа?
— В последнее время его лечил доктор Браунхофер, но, к сожалению, он очень далеко живёт.
— Я уже одеваюсь, папа.
Вернувшись, Герхард с горестным видом сообщил:
— Он сказал, что так далеко и в такой холод он не поедет. И потом, у него сейчас очень много пациентов.
— Это всё потому, что Людвиг откровенно издевался над всеми своими врачами. — Бройнинг в раздумье пожевал губами. — Попытайся уговорить доктора Штауденгеймера.
На этот раз Герхард вернулся с радостной вестью:
— Он обещал прийти.
— А когда?
— Пока ещё не знает.
Они попеременно всю ночь дежурили у кровати Бетховена. Госпожа Констанция постоянно меняла ему компрессы. Врач так и не пришёл.
Холода сменились оттепелью, под ногами опять захлюпала грязная каша, а затем снова ударил сильный мороз. Вспыхнула эпидемия гриппа, и врачи были загружены сверх всякой меры. На этот раз уговорить кого-нибудь из них прийти к Бетховену отправился Карл, который не только не привёл врача, но и сам не вернулся домой.
Как вскоре выяснилось, Карл, проходя мимо одной из бильярдных, решил ненадолго заглянуть, чтобы проверить, не утратил ли он навыков обращения с кием и шарами из слоновой кости. Но партия затянулась, и он отправил на поиски врача маркера.
Наконец, когда уже были потеряны целых три дня, Хольц привёл профессора Вавруха из Гражданского госпиталя. Этот маленький человечек в пенсне на большом мясистом носу пользовался репутацией чудака. Он заранее приготовил письменное обращение к Бетховену. На обширном листе бумаги большими чёрными буквами было написано:
«Я профессор Ваврух, и, уж если вы попали ко мне в руки, считайте, что всё уже позади. Я сам большой любитель музыки, играю на виолончели и контрабасе и готов помочь коллеге».
В воспалённых глазах Бетховена вспыхнули огоньки недоверия. Ваврух послушал сердце, потом постучал по грудной клетке, проверяя лёгкие, и недовольно посмотрел на Бройнинга. Но тут же, почувствовав на себе взгляд Бетховена, засиял, вытащил из своей сумки какой-то порошок, насыпал его в стакан с водой и тщательно размешал.
— Вот выпейте. Горько? Ну ничего, ничего.
Затем он написал:
«Наш пациент должен немного поспать. Не беспокойте его. Я ещё загляну сюда».
В коридоре он заявил Бройнингу:
— Передайте мои комплименты вашей очаровательной супруге. Это ведь она делала ему компрессы? У него обширное воспаление лёгких.
— А есть опасность для жизни?
— Мы, несчастные, всегда подвергаем свою жизнь опасности. В момент рождения можно задохнуться. Вообще чем дольше живёшь, тем ближе к смерти. Я, например, сейчас могу сломать себе шею.
Длинную тираду Ваврух неожиданно закончил громким хихиканьем, а на вопрос о причинах такого сильного разбухания тела Бетховена небрежно отмахнулся: дескать, даже не стоит обращать внимания на такие пустяки.
Бройнинг вернулся в спальню и тут же отвернул голову. Он не мог смотреть на корчившегося от боли Бетховена.
— Кого вы мне привели? Это же шут гороховый! Где Мальфатти? Приведите мне Мальфатти!
Бройнинг уже говорил с этим воистину лучшим врачом Вены, но между ним и Бетховеном что-то произошло, и с тех пор Мальфатти преисполнился лютой ненавистью к композитору.
— Я сейчас схожу к нему.
— Только скорее, Стефан, умоляю, скорее!
В соседней комнате Шиндлер, показывая на лежащий на столе небольшой свёрток, допытывался у Карла:
— Как это попало сюда?
— Доставил советник посольства господин фон Вернхарард.
— Это неправда, господин ван Бетховен. Господин надворный советник был здесь, но маэстро спал, и я не стал у него ничего брать. Господин надворный советник проявил желание прийти сюда ещё раз. Я что-то не припомню свой визит в посольство Пруссии.
— Зато я там был.
— С какой целью, позвольте узнать?
— А вам не кажется, что вы слишком вмешиваетесь в дела нашей семьи? — негодующе повысил голос Карл. — По-моему, это я племянник Людвига ван Бетховена, а не вы. Я хотел доставить дяде радость. Может быть, благодарственное письмо короля Пруссии и содержимое свёртка поспособствует его скорейшему выздоровлению.
Утром профессор Ваврух, осмотрев больного, сделался мрачнее тучи. На его лице было ясно написано, что состояние Бетховена безнадёжно. Ваврух даже высказал предположение, что он вряд ли доживёт до вечера.
На следующий день Герхард, даже не сняв ранца, вбежал в кухню.
— Мама, дядюшка Людвиг очень зол на тебя, ибо ты заставляешь его голодать. Он хочет супа и мяса, которое собирается приправить листиком из лаврового венка.
— Какого венка?
— Я рассказал ему, что все, кроме тебя, уже считают его покойником. Теперь он надеется, что вы заказали к его похоронам хоть один лавровый венок. Ну хорошо, мама, давай покорми его, он голоден как волк.
— Я сейчас отнесу тарелку мясного бульона! — обрадованно воскликнула госпожа Констанция.
В «Доме Чёрных испанцев» она застала также Вавруха. Профессор непрестанно морщил узкий лоб, низко заросший чёрными густыми волосами.
— Ну надо же, мы думали, он умирает, а это, оказывается, был лишь кризис. Сейчас я ухожу и приду завтра утром.
Пришедший вскоре Бройнинг долго с удовольствием смотрел, как Людвиг ест суп, а потом приказал Карлу принести письмо и свёрток.
— Что это?
— Сюрприз, — выдержав многозначительную паузу, заявил Бройнинг. — Оденься и посмотри сам. Подожди, я разрежу конверт, а Карл вскроет посылку.
На изящной, украшенной короной бумаге было написано:
«Композитору Людвигу ван Бетховену.
Мне было очень приятно получить от композитора, чьи произведения пользуются огромной известностью, одно из его сочинений. В знак благодарности я посылаю вам кольцо с бриллиантом.
Берлин, 25 ноября 1826 года.
Фридрих-Вильгельм».
— Слишком канцелярский стиль, не так ли? — Бетховен повертел в пальцах письмо. — Так обычно монархи разговаривают со своими подданными. Ты пророчествовал, что меня наградят орденом, дорогой Стефан, но король решил обойтись кольцом с бриллиантом. Думаю, что егеря, который выведет короля на крупного оленя, он наградит точно так же. А уж за двух оленей наверняка полагается орден. — Он открыл коробочку и близоруко сощурился. — Я не слишком разбираюсь в украшениях. Стефан или, нет, лучше вы, госпожа Констанция, посмотрите, пожалуйста.
— А по-моему, красных бриллиантов не бывает, — неуверенно произнёс Стефан, глядя на отливающий красным цветом камень.
— Это не бриллиант и, уж если быть до конца честным, отнюдь не королевский подарок. — По лицу госпожи Констанции пробежала тень. — Обычное кольцо с рубином, правда, довольно милое.
— Карл, дай мне бумагу, перо и чернила. — Лицо Бетховена пошло багровыми пятнами. — Мы сейчас напишем прусскому послу. Нет, мы отправим письмо прямо королю и вернём ему его подарок. Я посвятил едва ли не лучшее своё сочинение, а он...
— Только не волнуйтесь. — Госпожа Констанция положила ладонь на его лоб. Бетховен лёг, но тут же вновь приподнялся в постели.
— Прикосновение руки твоей жены — вот истинно королевский подарок. Он дорогого стоит.
Шиндлер, незаметно вошедший в комнату и какое-то время молча прислушивавшийся к разговору, теперь счёл нужным вмешаться:
— Скажите, госпожа советница, во сколько раз бриллиант ценнее рубина?
— Ну, раза в три-четыре, господин Шиндлер.
— Вот как? — Карл алчно провёл языком по внезапно пересохшим губам. — Может быть, произошла путаница?
— Господин ван Бетховен, — взгляд Шиндлера, словно кинжал, пронзил Карла, — о путанице даже речи быть не может. Если прусский король пишет: «кольцо с бриллиантом», — значит, так оно и есть.
— Хольц?.. — Карл от ужаса даже вытаращил глаза.
— Вы же знаете, Карл, что я не слишком хорошо отношусь к господину Хольцу, но, к моему глубокому сожалению, его здесь не было.
— Это как понимать?
— Я бы не позволил ему так быстро бросить в печь обёрточную бумагу с королевским гербом.
— Вы полагаете, что это сделал я? Ну если только случайно, по рассеянности.
Шиндлер, не отвечая, захлопнул за собой дверь.
Профессор Ваврух не уставал поражаться непреклонной воле Бетховена. Он не позволил болезни сломить себя. Когда же через несколько дней профессор пришёл к Бетховену с очередным визитом, то, к немалому своему удивлению, застал его вернувшимся с прогулки. А ведь он позволил ему лишь вставать с кровати.
— Вы что, с ума сошли?
— Ну почему же. Просто обожаю ходить по свежему снегу. Кажусь сам себе первооткрывателем новых земель.
— Выходит, я больше не нужен?
— Уважаемый господин профессор, признаюсь, я вообще-то не слишком высокого мнения о врачах, но вас я всегда встречу с распростёртыми объятиями. Может быть, завтра заглянете ко мне на чашку кофе? Я всегда расходую на чашку шестьдесят зёрен. Вот увидите, вам моё лекарство понравится.
— С удовольствием. А во сколько?
— Часа в три.
Однако на следующий день, едва колокола пробили двенадцать часов, в Гражданском госпитале к Вавруху подошла сестра и сказала:
— Господин профессор, на улице вас ждёт мальчик по имени Герхард фон Бройнинг.
— Что ему нужно?
— Не знаю. Но он очень взволнован.
По бледному, исхудалому лицу Герхарда текли слёзы.
— Господин профессор, дядюшка Людвиг... Пойдёмте скорее.
— Кто? Господин ван Бетховен?
— Умоляю вас, пойдёмте скорее.
В квартире Бетховена Вавруха поразило оплывшее пожелтевшее лицо больного с дряблыми отёчными мешками под глазами.
— Ещё вчера он выглядел вполне здоровым. — Профессор несколько ошалело взглянул на Бройнинга. — Что же довело его до такого состояния?
— Не знаю, — с горьким сожалением ответил Бройнинг. — По словам Людвига, его всю ночь рвало, потом он упал. Соседи, услышав шум, прибежали, положили его на кровать и сообщили нам.
— А кто был с ним?
— Не знаю. Мы думаем, что Карл...
— Его племянник? И где же он сейчас?
— Постель не тронута. Подождите, а это что такое, Констанция? — Он показал на приставной столик. — Триста гульденов и квитанция, выданная придворным ювелиром за проданное кольцо с рубином.
— Придворный ювелир? — Герхард мрачно потупился. — Значит, я прав. Это дядюшка Людвиг вчера вечером выходил из дома.
— Да, у тебя хорошие глаза, малыш. — Госпожа Констанция провела рукой по волосам сына.
— Выпейте вот это. — Профессор Ваврух накапал лекарство в стакан и протянул его Бетховену. Тот нервно затряс головой.
— Мне уже ничто не поможет.
— Дайте мне стакан и пропустите меня к нему, господин профессор, — решительно заявила госпожа Констанция и присела на край кровати.
Бетховен безропотно подчинился ей и, поморщившись, процедил сквозь зубы:
— До чего ж горькое, но из таких чистых рук я что угодно приму. Вы... вы ангел.
Он сомкнул отяжелевшие веки. Бройнинг поднял его бессильно свисавшую руку и, приглушив голос, спросил:
— Опять воспаление лёгких?
— Нет, господин советник, проявились признаки водянки и... и... — Ваврух всплеснул руками, — и печень. Поэтому у него пожелтела кожа.
Болезнь, словно пламя, пожирала его тело, и теперь он сравнивал себя со срубленным деревом. Однако в нём по-прежнему жила неистребимая любовь к злым, оскорбительным шуткам. Когда в дверях спальни появился Шуппанциг, Бетховен сделал вид, что из-за полного упадка сил не узнает его.
— Как... ваше... имя? — слабым голосом спросил он.
— Шуппанциг, — ответил его старый знакомый, по привычке тщательно артикулируя каждый слог.
— Шуппанциг... Шуппанциг, — после довольно долгого раздумья повторил Бетховен. — Кажется, припоминаю. Был такой третьестепенный скрипач, играл во дворце Разумовского. Квартеты в его исполнении никогда не имели успеха.
— А всё потому, что они были написаны неким Людвигом ван Бетховеном, — успешно парировал Шуппанциг.
После него появился Герхард с двумя тяжёлыми посылками в руках. Он снял варежки, подул на замерзшие пальцы и пробормотал что-то невнятное.
— Что ты сказал, Ариэль?
— Это стоит гульден, синьор.
— Возьми два. Ты знаешь, где лежат деньги. Твои старания стоят дороже.
— Два много, дядюшка Людвиг. И потом, я пошутил.
— Бери, бери и давай вскрывай посылки.
Едва Герхард собрался разорвать бечёвку, как в дверях появился профессор Ваврух в сопровождении какого-то незнакомца. Профессор сразу же написал на принесённом им листке бумаги:
«Это доктор Зейберт, главный хирург Общей больницы».
Сама импозантная внешность доктора Зейберта должна была внушить больному уверенность в благополучном исходе операции. Он протёр руки щёткой и небрежно бросил через плечо:
— Будем делать анестезию, господин Ваврух?
Профессор быстро написал:
«Желаете, чтобы вас оперировали под наркозом? Может, использовать корень мандрагоры?»
— Нет, не нужно.
Доктор Зейберт согласно кивнул и взял скальпель, а профессор Ваврух начал протирать раздувшееся тело Бетховена едко пахнущей эссенцией.
— Отвлеките его на минуту, господин Ваврух, — тихо проговорил Зейберт, почти не разжимая губ.
Профессор тут же принялся размахивать руками, словно марионетка, и что-то такое говорить Бетховену, который вдруг коротко вскрикнул и скорчился от боли. Зейберт тут же наклонился к нему и доброжелательно улыбнулся:
— Всё уже позади.
Из надрезанного живота Бетховена в стоящий на полу сосуд стекала мутная струя.
— Вы просто второй Моисей, доктор. Он, как известно, ударил о скалу, и из неё потекла вода.
— Похоже, у нашего пациента вообще нет нервов. — Зейберт на мгновение перевёл взгляд на Вавруха.
— Да, наверное. Но вода течёт и течёт.
Лишь через час Герхарда снова впустили в комнату. Профессор Ваврух положил ему руки на плечи:
— Запомни, мальчик, дядюшке Людвигу пока можно давать только миндальное молоко. И передай своей уважаемой маме мои наилучшие пожелания.
После ухода врачей Бетховен отмахнулся от вопросов Герхарда и попросил его немедленно вскрыть посылки. Мальчик выполнил его пожелание и не мог скрыть своего разочарования.
— Тут только сорок томов и ноты.
— Дай мне один из томов.
— Пожалуйста, но вообще-то из Лондона могли прислать что-нибудь получше.
— Ах, так это посылка от фабриканта арф Штумфа. Ты дурачок, Пуговица. Роскошное издание произведений Генделя. — Бетховен бессильно откинулся на подушки. — Забери том, Пуговица. Мне пока тяжело его держать.
Наступление 1827 года было, как обычно, торжественно отмечено колокольным звоном. В новогоднюю ночь Герхарду разрешили гулять до утра, и он, заметив свет в окне квартиры любимого дядюшки Людвига, быстро поднялся и осторожно открыл дверь спальни.
Больной сидел в кровати, держа в одной руке раскрытый том сочинений Генделя, а другой отбивая такт.
Заметив мальчика, Бетховен замер, и на стену легла огромная тень от его ладони, создавая ощущение, что её обладатель кому-то грозит или заклинает духов.
— Запомни, Герхард, Гендель — непостижимый гений, мне у него ещё многому можно было бы поучиться, и всё же... — тут в его глазах заплясали лукавые огоньки, — и всё же я хотел бы написать ораторию «Саул и Давид», чтобы посостязаться с ним. И я непременно напишу её, может быть, даже раньше Десятой симфонии. В ней я прославлю нас обоих. Ведь я Саул, а ты, Пуговица. — Давид.
— С Новым годом, господин Саул, — радостно выдохнул Герхард.
— Как, уже Новый год?
— Давно...
— Я даже не слышал колокольного звона. А салют был?
Герхард несколько раз кивнул, не сводя с лица Бетховена восторженного взгляда.
— Ну тогда с Новым годом, Ариэль. Как в школе? По-прежнему одни хорошие отметки?
— Да что школа!.. — Герхард положил руку на плечо Бетховена. — Главное, чтобы ты выздоровел, дядюшка Людвиг. Смотри, какую новинку я тебе принёс. Отрывной календарь. — Он перелистнул большим пальцем несколько листков. — В один из этих дней ты непременно выздоровеешь. Давай выберем месяц. Может быть, в январе?
— Слишком рано, Пуговица. Да, я забыл спросить, как здоровье папы?
— Уже лучше. Тогда в феврале...
Бетховен забрал у него календарь и начал сам листать его.
— Чёрные и красные дни, — задумчиво пробормотал он. — В основном, правда, чёрные, и становится жутко, когда понимаешь, что один из этих дней, которые так похожи друг на друга и отличаются только датами, станет...
— О чём ты, дядюшка Людвиг?
— Очень хорошо, что мы, люди, ничего не знаем. — Бетховен доверительно придвинулся к юному другу. — Давай не будем заниматься... чёрной магией.
В начале января Карл отбыл в свой полк в Иглау. Сразу же после его отъезда Бетховен попросил Герхарда отнести отцу письмо, на которое ожидал немедленного ответа.
«Его благородию господину доктору права фон Баху
Вена, среда, 3 января, год 1827
Уважаемый друг!
Перед смертью я объявляю любимого племянника Карла ван Бетховена единственным наследником своего имущества, состоящего в основном из семи банковских акций. Все обнаруженные у меня наличные деньги также следует передать ему.
Я назначаю вас своим душеприказчиком и прошу представить интересы моего племянника перед его опекуном, членом Придворного Военного совета Бройнингом. Храни вас Бог. Примите искреннюю благодарность за любовь и дружбу, которые вы неоднократно доказывали делом.
Людвиг ван Бетховен».
Бройнинг в изнеможении откинулся на подушку. Госпожа Констанция вошла в спальню и начала раскладывать в шкафу свежее бельё.
— Что тебя так тревожит, Стефан?
— Поведение Людвига. Он составил завещание и назначил... назначил Карла своим единственным наследником.
— Ты же знаешь, как он упрям. Вспомни хотя бы историю с кольцом. Надел на глаза шоры, чтобы не видеть, каков истинный облик Карла. Этот субъект мне чрезвычайно неприятен и всё же...
— И всё же я должен высказать ему своё мнение относительно завещания. — Бройнинг закрыл глаза, потом приоткрыл их опять. — Будь любезна, принеси мне в кровать бумагу, перо и чернила.
— Меня сейчас другое тревожит. Ваврух мне, честно говоря, не очень нравится. Поэтому выздоравливай скорей и сходи ещё раз к доктору Мальфатти. Или, может, мне самой явиться в логово льва?
— Вообще-то было бы неплохо...
— Тогда пиши ответ, а я не буду тебе мешать.
Прочтя написанное в весьма корректном тоне и содержащее достаточно осторожную, но всё же отрицательную характеристику Карла ответное письмо Бройнинга, Бетховен насупился и надолго застыл в тяжком раздумье. Наконец он решительно тряхнул головой и позвал Герхарда.
— Да, дядюшка Людвиг.
— Дай мне печать и сургуч, потом зажги свет и, когда я закончу, отнеси это письмо доктору Баху.
— Я — госпожа фон Бройнинг.
— Прошу садиться, милостивая государыня. — Доктор Мальфатти с поклоном показал на стул. — Чем могу служить? Хотя, полагаю, мой вопрос излишен.
— Речь идёт о господине ван Бетховене.
— Весьма сожалею, милостивая государыня, — аристократическое, чеканного профиля лицо врача приняло непроницаемое выражение, — но здесь совершенно безнадёжный случай. Могу лишь повторить сказанное мной вашему супругу: господин ван Бетховен — превосходный знаток гармонии и потому должен прекрасно знать, что у меня с коллегами должны быть гармоничные отношения. Я не могу вмешиваться в их дела.
— Господин Мальфатти, — непринуждённо улыбнулась госпожа Констанция, — ваши слова о гармонии звучат весьма убедительно, но я уже их слышала от своего мужа и знаю, что это просто отговорка. И я обращаюсь к вам вовсе не потому, что вы самый модный, самый знаменитый врач в Вене. У господина ван Бетховена, конечно, очень сложный характер. Человек он тяжёлый....
— Об этом можно догадаться, даже не зная его близко, — мимоходом заметил Мальфатти.
— Но сейчас он в крайне бедственном положении. Через полчаса должен состояться врачебный консилиум.
— В составе моих коллег Вавруха, Штауденгеймера и Зейберта?
— Да, но вам он доверяет гораздо больше.
— Вы так полагаете? — Мальфатти взглянул на неё с откровенной издёвкой. — Я вообще-то быстро забываю обиды, а на мелочи просто не обращаю внимания, но здесь... Он так тогда доверял мне, что обозвал полным невеждой, послал к чёрту и потребовал, чтобы я больше не появлялся в его доме.
— Узнаю Бетховена. — Госпожа Констанция опустила глаза, а когда подняла их, взгляд её стал холодным и острым. — Господин Мальфатти, как врач вы, безусловно, умеете держать себя в руках и потому сумеете спокойно выслушать мои слова. Господин ван Бетховен просит у вас прощения. Он даже лично готов извиниться перед вами.
— Что?..
— Да, вы не ослышались. Не хочу хвастаться, но именно я побудила его чистосердечно раскаяться в своём поведении.
— Никогда бы не поверил. — Мальфатти даже округлил глаза от удивления. — Заставить Бетховена делать что-либо против его воли...
— Так вы идёте?
— Мне не остаётся ничего другого, — незамедлительно отреагировал Мальфатти. — И потом, мне самому хочется посмотреть на это великое чудо преображения. Такое ведь происходит не каждый день.
Состояние бывшего пациента сразу же привело Мальфатти в ужас, но он превосходно владел собой. С невозмутимой миной наклонился к Бетховену и медленно, словно читая по складам, спросил:
— Что скажете?
— Вы видите перед собой старого осла, доктор, — растроганно ответил Бетховен.
— Зоология не по моей части, — иронически сказал Мальфатти.
Из-за спин вышедших из соседней комнаты врачей неожиданно появилась фигура Иоганна, который незамедлительно выпалил:
— Я — землевладелец Иоганн ван Бетховен. Получив известие о...
— Прошу не мешать мне обследовать пациента, — резко оборвал его Мальфатти и, присев на кровать, спросил: — Как его сердце?
— Хорошо, — ответил Ваврух.
— Это радует. Давайте посмотрим лёгкие... А почему там затемнение?
— Он перенёс двухстороннее воспаление лёгких, — испуганно встрепенулся Ваврух.
— Но сейчас главное — печень. Она у него сильно уменьшилась в размерах.
— Так, давайте положим нашего дорогого пациента поудобнее. — Мальфатти осторожно ощупал живот, ни один мускул не дрогнул на его лице. — Что вы ему прописали, коллега Ваврух?
— Миндальное молоко.
— А из лекарств?
— Вон там капли и порошки.
Мальфатти взял с приставного столика флакон, повертел его перед глазами и осторожно поставил обратно.
— Нужно немедленно сделать вторую пункцию. Приготовьте инструменты, коллега Зейберт.
— Наш консилиум именно так и решил.
— Рад, что наши мнения совпадают, господа.
После второй операции из живота Бетховена вытекло гораздо больше воды. Мальфатти немедленно попросил госпожу Констанцию зайти в комнату.
— Значит, так, милостивая государыня, я знаю, вы любите баловать нашего известного своим буйным нравом пациента разного рода деликатесами. Но сейчас ему можно только тарелку супа, немного обезжиренного мяса или рыбы...
— Я поняла.
— Что же касается лекарств, дорогой коллега Ваврух, то я хотел бы полностью заменить их.
— Вы сомневаетесь в моих знаниях, коллега Мальфатти?
— Ну почему же. Просто перемена всегда идёт на пользу. Не дай Бог, организм пациента привыкнет к чрезмерным дозировкам или у него выработается иммунитет... — Неприятные для коллег слова Мальфатти произносил таким тоном и с такой любезной улыбкой, что обидеться на него было просто невозможно. — Так, господин ван Бетховен, я прописываю вам пунш со льдом, мороженое, крем или фрукты с пуншем. Только не переусердствуйте, мой друг, а то ещё сопьётесь.
— Не беспокойтесь, господин доктор.
— Может быть, стоит попробовать дигиталис? — решился наконец напомнить о себе Иоганн ван Бетховен.
— А зачем? Дигиталис — это сердечные капли, а сердце у вашего брата — как у слона.
— Я ведь был аптекарем, господин доктор.
— Смутно припоминаю. — Кожа на лбу Мальфатти собралась в мелкие складки. — И что дальше?
— Дигиталис обладает различными полезными свойствами, — продолжал упрямо настаивать на своём Иоганн. — Один землевладелец даже вылечился им от ревматизма.
— А вашего брата он может загнать в могилу, — сурово сдвинул брови Мальфатти. — Не забывайте, что у него больная печень и водянка. И вообще богатые землевладельцы и бедные композиторы болеют по-разному.
Болезнь длилась уже третий месяц, и это время казалось Бетховену годами бесконечных мук и страданий.
В один из дней Мальфатти, стоя у постели, написал:
«Попробуем новое средство. Это ванна из сенной трухи. Правда, ваш брат наотрез отказался дать нам сена. Он по-прежнему настаивает на дигиталисе. Заодно добавим берёзовый кустарничек. Я уже убедился, что принимаемые прежде лекарства отравили ваш организм. Вам нужно хорошенько пропотеть. Согласны?»
Бетховен вяло кивнул. Пришедшие с Мальфатти два больничных служителя подогрели в кухне воду и, когда она закипела, наполнили ею стоящий в ванной чан и положили в него мелко нарубленный берёзовый кустарник. Затем они посадили на доску пациента, предварительно закутав его в простыню.
Через какое-то время Мальфатти пощупал простыню и удивлённо воскликнул:
— Но вы совершенно не потеете!
Сидевший с безучастным видом Бетховен вдруг начал медленно клониться вперёд.
В постели Мальфатти обследовал его и мрачно констатировал:
— Очень странно. Произошло нечто странное. Вопреки всему его тело впитало в себя водные пары.
Очнувшись, Бетховен почувствовал сильную слабость. Стоявший рядом с кроватью профессор Ваврух широким жестом показал на окно:
— Весеннее солнце! Весна станет вашим лучшим врачом!
Больной покачал головой с видом человека, пришедшего к окончательному и неоспоримому выводу:
— Это конец... До весны я не доживу.
Ещё через два часа он начал беспокойно оглядываться по сторонам:
— Где Шиндлер? Где мой дорогой Шиндлер?
— Хочешь, я его тебе заменю? — в комнату, неслышно ступая, вошёл Бройнинг.
— Лучше бы, конечно, Шиндлер, но если хочешь... Мне нужно срочно надиктовать письмо. Господину Штумфу в Лондон. Я ещё не отблагодарил его за великолепный подарок. Могу я... начинать?
— Пожалуйста.
— Какое сегодня число?
— Восьмое февраля двадцать седьмого года.
— Сколько же мне осталось жить?.. Но чувствую, скоро...
— Людвиг!..
— Пиши, Стефан: «Дорогой друг! Присланное вами собрание сочинений Генделя — воистину королевский подарок! Перо моё не в состоянии описать радость, которую он мне доставил. К сожалению, начиная с третьего декабря я не встаю с постели, куда меня загнала проклятая водянка. Я жил исключительно с доходов от моих произведений, а теперь уже три с половиной месяца не могу написать даже ноты». Абзац. Есть смысл в моём послании, Стефан?
— Разумеется.
— Тогда давай дальше: «Поскольку исцеления пока не предвидится, а из оставшихся у меня после арендной платы за квартиру нескольких сотен гульденов нужно платить ещё врачам...»
Бетховен запнулся. Бройнинг сдвинул брови и терпеливо ждал продолжения.
— «Я вспомнил, что несколько лет назад собирался порадовать Филармоническое общество своим концертом. Хорошо бы, они теперь пошли мне навстречу. Это спасло бы меня от крайней нужды. И если вы, дорогой друг, согласны способствовать достижению этой цели, то договоритесь с господином Смартом. Мохелесу также будет отправлено письмо. Надеюсь, вы вместе сможете для меня кое-что сделать. Примите мои наилучшие пожелания. С уважением ваш...» Дай мне письмо на подпись, Стефан.
— Ты не должен его отправлять, Людвиг, — после некоторого молчания осторожно проговорил Бройнинг. — У тебя ещё есть семь акций.
— Правильно, это трофей, доставшийся мне после «Битвы при Виттории». Но он мне уже не принадлежит.
— Во всяком случае, это не письмо, а... а выпрашивание милости. У человека должно быть чувство стыда.
— Я правильно прочитал по твоим губам, — коротко и зло хохотнул Бетховен. — Ты сказал «чувство стыда».?
— Да, Людвиг.
— Это пусть венская публика испытывает чувство стыда по отношению ко мне. Вспомни, сколько я написал и как я живу? А ведь я отнюдь не бросал деньги на ветер, а тратил их исключительно на поездки на воды. А теперь посмотри на мою квартиру. Убогая — это ещё мягко сказано. Разве я пил, играл в карты или бильярд? Можешь, конечно, назвать меня непрактичным человеком, но...
— Людвиг, не волнуйся...
— Стефан, я всю жизнь был бедолагой, развлекал игрой на фортепьяно князей и графов, давал уроки бездарным ученикам и работал, работал как вол... А в результате под конец жизни я даже не могу заплатить моим врачам. Стефан...
— Да?..
— Подойди ещё ближе и подыми руку. Так, ты ведь знаешь, где спрятаны акции. Даже Шиндлер этого не знает! А теперь, Стефан, поклянись, что ты никому ничего не скажешь! И на мою могилу пусть и крейцера не потратят, даже если меня, подобно Моцарту, как паршивую собаку, похоронят в общей могиле на кладбище для бедных. Клянись, Стефан!
— Я хоть раздавал тебе повод усомниться в моих дружеских чувствах? — глухо спросил Бройнинг.
— Спасибо тебе огромное, Стефан... Может быть, англичане окажутся великодушнее и добрее.
На этот раз разрез на животе очень сильно болел, так как произошло воспаление ткани. И снова обильно вытекала жидкость, а в соседней комнате врачи опять устроили консилиум.
Они совещались, а вода из торчащей в разрезе канюлы уже стекала с кровати на коврик и пол.
Наконец они вышли, успев, правда, дружно сделать вид, что ничего не происходит и состояние больного не внушает никаких опасений.
Увидев Шиндлера, он тут же произнёс запомнившуюся ему ещё в Бонне латинскую цитату:
— Plaudite, amici, comedia finita est!
Рукоплещите, друзья, комедия окончена!
Шиндлер на мгновение остановился и искоса взглянул на Бетховена. Comedia finita est? Нет, нет, конечно, маэстро имел в виду торжественный выход врачей из спальни. Действительно, они чем-то напоминали публику, чинно покидающую зрительный зал после окончания спектакля. Бетховен же никак не мог догадаться, что врачи отказались от дальнейших попыток спасти его жизнь.
В полдень в спальню ворвался Герхард, радостно размахивая письмом:
— Надеюсь, я принёс тебе отрадную весть, дядюшка Людвиг. Это письмо из Лондона от господина Мохелеса.
Бетховен вскрыл конверт, надел очки и попытался прочесть письмо, но потом устало зажмурился и опёрся на локоть.
— Прочтите, Шиндлер. У меня глаза словно заволокло туманной пеленой.
— Господин Шиндлер ушёл, но мама в кухне.
Тут в комнату вошла госпожа Констанция с подносом в руках. Она пробежала глазами строки письма и обратилась к сыну:
— Теперь, Герхард, скажи чётко и внятно: Лондонское филармоническое общество посылает ему сто фунтов. Они уже могут быть здесь в отделении банка Ротшильда. Их можно снять полностью или частично в любое время.
Выслушав Герхарда, Бетховен судорожно дёрнулся и тут же скрючился от боли.
— Ариэль! Ты теперь должен быть Ариэлем, Пуговица! Хочешь оказать мне любезность? Отделение банка ещё открыто?
— All right, Sir[133]. Уже бегу.
— Только сними всю сумму. Боюсь, что иначе эта тысяча гульденов — как и всё в моей жизни — улетучится.
Герхард пулей вылетел из спальни. Бетховен жадно хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Отдышавшись, он смущённо пробормотал:
— Только не считайте меня алчным, госпожа Констанция. Так редко к тебе проявляют сочувствие... А какое сегодня число?
— Восемнадцатое марта. — Констанция поднесла к его лицу календарь.
— Очень хорошо. Листок мы не будем вырывать, ибо этот день — один из счастливейших в моей жизни.
Прошло уже двадцать пять минут...
Наконец Пуговица вернулся, и по движению его губ Бетховен угадал, что мальчик насвистывает какую-то грустную мелодию. Но лицо его выражало неподдельную радость.
— Извини, дядюшка Людвиг, но моей вины здесь нет. — Он приложил руку к сердцу. — Папа ползёт как черепаха. Я встретил его по дороге и попросил пойти со мной. Конечно, члену Придворного Военного совета тут же выдали деньги. Я бы их вряд ли получил.
— Ну, Герхард, совсем ты меня уморил. — В комнату, шумно отдуваясь, вошёл Стефан Бройнинг. — Бегаешь прямо как борзая. Вот твои деньги, Людвиг.
Он положил на кровать пачку банкнот.
— Убери их, Стефан. Я хочу встать и сесть за работу.
— Чего ты хочешь?
— Я просто хочу отблагодарить Филармоническое общество. Англичане, а не венцы оценили меня по достоинству, и я хочу написать для них Десятую симфонию.
— Похоже, наш пациент начал поправляться. — На пороге неожиданно появился Мальфатти и с загадочной улыбкой посмотрел на Бетховена.
— Радостное известие почти исцелило меня. И теперь я... теперь я хочу встать и начать работать.
С этими словами он тяжело осел на подушки.
— Я принёс лекарство, которое быстро восстановит ваши силы. — Он накапал из маленького флакона несколько капель в стакан с водой и метнул из-под полуопущенных век острый как бритва взгляд в сторону Бройнинга. — Мне нужно с вами поговорить, господин советник.
В соседней комнате Мальфатти сбросил с лица улыбку и каким-то приглушённым, тусклым голосом сказал:
— Он сейчас уснёт. Налицо признаки агонии. Естественно, точного дня и часа я не знаю и боюсь, что при таком здоровом, как у циклопа, сердце агония может затянуться. Я бы уже сейчас начал подготовку к соборованию.
— Боже мой. — Бройнинг судорожно вцепился в спинку стула. — Он давно так не радовался, сообщение из Лондона пробудило в нём волю к жизни. За что, за что?..
— Вы, наверное, вспомнили известное изречение Гёте, — внезапно спокойно, словно речь шла о каком-то пустяке, произнёс Мальфатти. — «Ещё никто не умер, не дав предварительно согласия на свою смерть». Увы, эти в высшей степени глубокомысленные слова следует воспринимать cum grano salis[134]. На самом деле смерть забирает всех, кого она выбрала, не спрашивая их согласия.
— Господин доктор Мальфатти...
— Понятно. Вы надеетесь, что я ошибся. — Он пристально взглянул на Бройнинга и задумчиво постучал пальцами по подлокотнику. — Вы же знаете, что господин ван Бетховен когда-то выгнал меня из своего дома, обозвав полным невеждой и шарлатаном?..
— Да, мне жена рассказывала.
— Поверьте мне, господин советник, я был бы счастлив, если бы его слова сегодня подтвердились.
Это произошло через несколько дней.
Как только Бройнинг услышал шуршание и шелест в спальне, он немедленно вошёл туда, держа в вытянутой руке картонную табличку, на которой крупными буквами было написано:
«А la bonne hcure[135], Людвиг. Оказывается, ты можешь спать как сурок! Ты проспал больше двух суток! Как ты себя чувствуешь?»
За это время его друг настолько изменился, что потрясённый Бройнинг чуть не выронил табличку. На нездоровом, желтовато-красного цвета лице появилось какое-то странное выражение. Казалось, Бетховен наконец-то нашёл ответ на давно мучивший его вопрос, но никак не решается смириться с ним. Глубоко запавшие чёрные глаза, словно паутиной, были оплетены тёмными тенями, а оспины на лбу превратились в маленькие бугорки. Рассыпавшиеся по подушке всклокоченные седые волосы напоминали каменную осыпь, а голос, вроде бы тихий и безжизненный, тем не менее поражал силой.
— Извини за беспокойство, Стефан, но у меня во рту всё пересохло.
— Ничего, у нас есть хорошее средство. — Бройнинг показал на несколько бутылок, стоявших на столике возле кровати. — Помнишь, ты в Майнце заказывал у Шотта вино. Первые бутылки только что доставлены специальной каретой.
— Слишком поздно.
— О чём ты? Почему поздно?
Тут больной увидел Мальфатти и Герхарда и захотел сделать им приятное:
— Потому, что за это время мои вкусовые пристрастия сильно изменились. Сейчас я хочу пунш со льдом.
— Принести тебе стакан из кондитерской, дядюшка Людвиг?
— Можно даже два, — милостиво разрешил Мальфатти.
Бройнинг удивлённо взглянул на него, но ничего не сказал и склонился над беспокойно заворочавшимся в постели Бетховеном.
— Я жду, когда же, наконец... наконец, зацокают копыта и подъедет экипаж, но его никто не увидит, кроме... кроме...
Он склонил голову набок и с изумлением почувствовал, что к нему снова вернулся слух и теперь он слышит до боли знакомые голоса.
Комнату вдруг как бы заволокло паром, сквозь который смутно наметились и потом стали всё более явственными очертания известных ему людей. Он вдруг услышал хруст засохшего пряника в зубах Элеоноры и увидел её милое личико. Она наморщила нос и, не переставая жевать, чуть жеманно сказала: «Симфонии я ставлю не слишком высоко, но буду очень рада, если ты однажды напишешь увертюру и особенно если вдруг станешь таким же знаменитым, как господин Монсиньи».
Элеонора скрылась в клубах пара, помахав на прощанье рукой, а её место занял не перестававший кланяться князь Лихновски, умерший три или четыре года тому назад. Сама комната превратилась в театральный зал, где состоялась премьера его Пятой и Шестой симфоний. Он был пуст и напоминал чью-то огромную пасть с бесчисленным количеством кресел вместо зубов. Внезапно он заполнился зрителями. Среди них Бетховен узнал Сальери и многих других своих недоброжелателей. Они бешено аплодировали, а сменивший покойного князя незнакомец выкрикивал одни и те же слова: «Плачу крейцер, если музыканты перестанут играть эту губительную для нравов симфонию». Потом все они куда-то исчезли или утонули в сверкающих на солнце водах Рейна. А может, это была совсем другая река или даже океан, разделявший континент. Несмотря на огромное пространство, Бетховен отчётливо видел оба берега. На одном женщина и девочка держали в руках развевающиеся на ветру платки, возле другого покачивался паром, и паромщик уже подал ему, Бетховену, знак...
Но каким же образом через океан вдруг оказался перекинут мост, взметнувшийся до самого неба? По нему устремились вперёд толпы народа. Что по сравнению с этим мостом жалкий дощатый настил под Арколе, где началась карьера маленького капрала. Возложив на себя императорскую корону, он полностью обнаружил свою ничтожную натуру... Но сегодня Бетховен готов простить ему столь оскорбительный для многих поступок. У него, Бетховена, своё Арколе...
В ушах защипал заливаемый в формы металл, загремели удары кузнечного молота, сменившиеся весёлым колокольным звоном. Люди на мосту опустились на колени и воздели руки к небу.
— Dona nobis pacem — подари нам мир! — молили они. Ну вперёд же, вперёд, в страну обетованную, где нет и не будет проклятых войн.
Народу на мосту всё прибывало, он уже трещал под тяжёлой поступью, молящиеся встали с колен, и из великого множества уст раздавались вдохновляющие, зовущие вперёд слова:
Обнимитесь, миллионы, Слейтесь в радости одной! Там над звёздною страной...Это же его Девятая симфония.
Внезапно всё исчезло, неведомая сила сдавила ему грудь, он захрипел, обвёл мутным взглядом комнату, уже никого не узнавая, и закрыл глаза.
Мальфатти приложил ухо к его груди, прислушался, потом устало поднялся и негромко сказал:
— Это агония. Но самое поразительное, у него какое-то, не боюсь этого слова, бессмертное сердце.
Теперь они попеременно вчетвером дежурили у постели умирающего Бетховена. К ним также присоединился приехавший из Граца друг Франца Шуберта Ансельм Хюттенбреннер. Сам Шуберт был настолько подавлен сообщением о близкой кончине Бетховена, что даже не смог выйти из дома.
В первую ночь Бройнинг, сидя в соседней комнате, попытался было читать, но буквы расплывались и прыгали перед глазами.
На рассвете пришёл Шиндлер.
— Как дела, господин советник?
— Без изменений.
Из спальни по-прежнему доносился предсмертный хрип.
— Смерть маэстро столь же грандиозна, как и вся его жизнь. — Бройнинг сосредоточенно сдвинул брови и внезапно, не выдержав, со всхлипом отвернулся.
В этот вечер их было только трое, и они никак не могли понять, куда запропастился Хюттенбреннер. Бройнинг, не зная, чем заняться, принялся листать календарь.
— Сегодня пятнадцатое марта. Когда же...
— Когда остановится его бессмертное сердце, господин советник, — сдержанно продолжал Шиндлер. — Надо признаться, что от этого слова господина Мальфатти меня берёт оторопь.
Бройнинг, с трудом сдерживая дрожь в ногах, поднялся, подошёл к окну и внезапно скривился, как от зубной боли.
— Этого нам ещё не хватало. Немедленно уберите гульдены, Шиндлер! И запомните: вы ничего не знаете о денежном переводе из Англии. К подъезду в крытом экипаже, да-да, в том самом, который они когда-то отказались предоставить Людвигу, подъехали достопочтенный землевладелец Иоганн и его не менее уважаемая супруга Тереза ван Бетховен.
Иоганн вошёл в спальню с подобающей этому случаю скорбной миной. Однако по привычке он надменно улыбался, всем своим видом показывая, что знает себе цену.
— Да, он умирает. Если бы этот чересчур много о себе понимающий доктор Мальфатти последовал моему совету и прописал ему дигиталис... Ну хорошо, а теперь я попрошу отдать мне ключи.
— Какие ещё ключи? — насторожился Бройнинг.
— От его шкафов. Я хочу забрать на хранение акции. Где они?
— Акции?..
— Разве вы о них ничего не знаете, господин советник?
— Нет, ничего.
— А вы, господин Шиндлер?
— Акции... — Секретарь Бетховена довольно умело подыграл Бройнингу. — Это что-то новое.
— Может, вы, господин Хольц, скажете, где они?
Тут Бетховен захрипел, как от удушья, и Хольц, не обращая никакого внимания на Иоганна, повернулся к Бройнингу:
— Давайте осторожно чуть поднимем его, господин советник.
— А заодно вам будет не до ответа на вопрос моего мужа, — желчно усмехнулась госпожа ван Бетховен и ловко схватила лежащие на приставном столике ключи. — Не дай себя обмануть, Иоганн. Они знают, где акции, но ничего, мы их сейчас сами найдём.
Она открыла шкаф, перерыла ящики, а затем принялась бросать на пол костюмы, предварительно обшаривая карманы.
— Акции должны быть здесь, если только благородные господа уже не успели их куда-нибудь сбыть. Ведь они наживались за счёт твоего брата, Иоганн. Ты только посмотри, какое вино они пьют. Мы, бедные землевладельцы, не можем позволить себе ничего подобного.
Глядя куда-то сквозь неё, Бройнинг холодно и равнодушно сказал:
— Мой друг неоднократно говорил, что собирается оставить всё своё имущество Карлу.
— Его имущество! — визгливо закричала госпожа ван Бетховен. — Что он называет своим имуществом? Эти жалкие акции стоимостью всего-навсего тысяча гульденов каждая. И больше ничего!
— По-моему, вы ведёте себя отвратительно.
— Что? Отвратительно? А вы нам тут не комедию разыгрываете у смертного ложа? Знаешь, Иоганн, почему они нас так своевременно известили о близкой кончине твоего брата? Чтобы мы оплатили похороны и могилу! Ничего не выйдет! Покойся с миром, Людвиг. Пойдём, Иоганн!
Она подобрала юбку, нетерпеливо дёрнула за руку мужа и, выходя из квартиры, столкнулась с двумя молодыми людьми, лица которых были едва различимы в полумраке лестничной клетки.
Через две минуты Шуберт уже стоял у постели Бетховена. Сперва он собрался встать на колени, но этот жест показался ему чрезмерно театральным. Тогда он робко коснулся его руки и тут же как ошпаренный отдёрнул ладонь.
— Не беспокойся, Франц. — Хюттенбреннер легонько тронул его за плечо. — Он уже ничего не чувствует.
— А по-моему, чувствует. — Шуберт резко обернулся, в стёклах его очков запрыгали солнечные зайчики. — И я не вправе ему мешать.
Он внезапно подбежал к разбросанной одежде, разгладил её и, стряхнув пыль, положил в шкаф, затем стремглав бросился к выходу.
— Вы его последние солдаты, — с грустью сказала госпожа Констанция, глядя мужу прямо в глаза. — А ведь раньше ему кланялись короли, князья и даже один император.
— Да, после «Битвы при Виттории» и кантаты «Славный миг»...
— И где они теперь, эти славные мгновения, когда художники считали за честь нарисовать его портрет, а иностранные академии одна за другой избирали его своим почётным членом.
Хюттенбреннер стёр со лба Бетховена крупные капли пота и поднял глаза.
— Может, дать ему немного вина, господин советник?
— Не стоит.
— Меня очень тревожит Шуберт. — Хюттенбреннер прошёлся по комнате, разминая затёкшие от долгого сидения ноги. — Он всё время делал какие-то странные намёки относительно Вэринского кладбища, а потом вдруг куда-то пропал. Даже плаща с собой не взял. А у него слабые лёгкие, и погода...
— Погода весенняя. — Бройнинг снова стоял у окна в своей любимой позе. — Утром жарко, вечером идёт снег...
Звон дверного колокольчика заставил их вздрогнуть и обменяться удивлёнными взглядами.
— Уж не ваш ли это друг, господин Хюттенбреннер?
— Франц Шуберт? Да он никогда не отважится...
В прихожей вызывающе загрохотали чьи-то незнакомые шаги, и в комнату вошёл молодой человек, представившийся по-немецки, но с ярко выраженным итальянским акцентом:
— Лудовико Храмолини.
— Драматический тенор итальянской оперы?
— Сейчас это не имеет никакого значения. Я хочу получить ответ только на один вопрос. Неужели маэстро Лудовико ван Бетховен, величайший немецкий композитор, будет похоронен в общей могиле?
— Где-где? — ошарашенно переспросил Шиндлер.
— В общей могиле. Синьор Шуберт побывал на кладбище. Могила уже готова, в морге лежат четыре трупа. Не хватает только маэстро Бетховена. Синьор Шуберт посетил камерного певца[136] синьора Фогля, а также меня и синьора Барбая[137].
— А кто это? — удивился Шиндлер.
— Как, вы не знаете нашего синьора Барбая? Да это же самый знаменитый директор оперных театров и импресарио во всей Европе. Теперь он лично займётся похоронами маэстро Бетховена. И пусть венцы забыли о нём, мы, итальянцы, будем петь у его гроба и отнесём его на наших плечах, уж точно не в общую могилу.
Он удалился, и, когда смолк стук его каблуков, Бройнинг и Шиндлер, опомнившись, немедленно отправились на кладбище.
Оставшись один, Хюттенбреннер тяжело опёрся локтями на подоконник. Слова «кладбище для бедных, общая могила», словно гвоздями, сверлили его мозг. Он вспомнил, что Франц как-то сказал ему: «Ни одному из вас не дано понять Бетховена. Вы даже не способны воспринять трубные звуки в «Героической симфонии». И тем не менее, Ансельм, тем не менее...» — «О чём ты, Франц?» — «Божество — называй его, как хочешь, — вдохновило его на создание этого поразительно гармоничного, ослепительного, оглушающего диссонанса».
Тут Бетховен открыл глаза, сжал кулаки и приподнялся в постели. Лицо его выражало решимость, противостоять которой не мог никто. Потом он бессильно отбросил руку назад, разжав ладонь, и пошевелил застывшими, не способными выговорить даже слово губами.
— Господин ван Бетховен!
Ворвавшийся в распахнутые окна свежий ветер заколыхал не только занавески, но и белый халат врача.
Доктор Вагнер равнодушным тоном диктовал своему ассистенту, студенту медицинского факультета:
— Объём печени — вы поняли? — уменьшился почти наполовину. Таким образом, господин профессор, ваш диагноз полностью подтвердился.
— Коллега Мальфатти просит вас выпилить евстахиевы трубы. — Профессор Ваврух сделал вид, что его совершенно не трогают хвалебные высказывания. — Он раньше лечил его от потери слуха, но, правда, безрезультатно.
Позднее пришли молодой художник Данхаузер, ему Бройнинг поручил снять гипсовую маску с лица мёртвого друга, и поэт Франц Грильпарцер, который должен был написать надгробную речь. Актёр Аншюц должен был прочесть её во время шествия похоронной процессии.
В полутёмной, освещённой мерцающим светом комнате Грильпарцер расхаживал взад-вперёд, скрестив за спиной пальцы рук, и вспоминал о своём посещении Рима, где возведённый над Колизеем огромный крест, этот символ полной, хотя и запоздалой победы христианства над язычеством, глубоко оскорбил его нравственные и эстетические чувства.
Так появилось стихотворение «Развалины Кампо-Ваккино», в котором он призывал христиан убрать крест и воздать должное эпохе античности. Вроде бы цензуре было не к чему придраться, тем не менее его обвинили в «антихристианском мировоззрении» и подвергли гонениям.
Он непроизвольно вскинул кулак, взглянул на появившуюся на заляпанных обоях огромную тень, сел за стол и начал писать: «Мы, стоящие у могилы этого человека, как бы представляем всю нацию, весь немецкий народ, оплакивающий эпоху расцвета отечественного искусства. Правда, ещё жив тот, кто способен петь на истинно немецком языке[138]...»
Грильпарцер грустно усмехнулся. Присоединившиеся случайно к шествию спросят: кого он имеет в виду? Так пусть же Бетховен, имевший в жизни так мало радостей, хоть раз возликует!..
«Увы, но в мир иной отошёл блистательный музыкант, творчески освоивший традиции Генделя и Баха, Гайдна и Моцарта и унаследовавший их бессмертную славу. Подобно морскому чудовищу, бесстрашно пересекающему моря и океаны, он не знал границ своего дарования. И воркование голубки, и громыхание грома, и разбушевавшиеся стихии — всё это он мгновенно схватывал и отражал в своих сочинениях. Его последователям придётся начинать с чистого листа, ибо заимствовать у Бетховена может только Бетховен. Его поразительной силы симфонии, его «Радость, пламя неземное», ставшая его лебединой песней... И потому станьте вокруг его могилы и осыпьте его лавровыми венками».
— Уж больно сильные выражения ты выбираешь, — испуганно заметил Аншюц, получив полный текст речи.
— Вполне возможно, Генрих, — с вызовом ответил Грильпарцер, — но я поэт и драматург, а ты произносишь эту речь.
БЕТХОВЕН?
О нём вспомнили даже те, кто не имел никакого отношения к музыкальному творчеству. Для них он был чудаковатым стариком, иногда прогуливавшимся по улицам...
Невысокая приземистая фигура, шляпа с обвислыми полями, из-под которой выбивались нечёсаные седые пряди. Он постоянно что-то бормотал про себя, отбивал рукой такт, а мальчишки строили рожи за его спиной.
А теперь, оказывается, итальянцы собрались петь у его гроба и нести его туда, куда прикажет всемогущий синьор Барбая, разъезжающий по городу исключительно в экипаже, запряжённом четвёркой лошадей.
После подобных газетных публикаций площадь перед «Домом Чёрных испанцев» заполнила толпа. Люди вытягивали шеи, пытаясь высмотреть гроб, и шумно переговаривались между собой:
— Он служил в ополчении?
— С чего вы взяли?
— Саван из казармы второго полка ополчения?
— Ничего не могу сказать.
— Он, кажется, был почётным гражданином Вены.
— Точно, точно, вон несут крест и Библию. А вон... вон идёт сам Храмолини!
— До чего ж красив! А голос какой! Я слышал его в «Севильском цирюльнике». Он подходит ближе...
Подойдя к гробу, Храмолини напрягся и придал лицу суровое, почти мрачное выражение. Итальянский акцент придал его словам жёсткость, но одновременно они почему-то удивительно радовали слух.
— Avanti![139]
Итальянские певцы подставили плечи под гроб. Бройнинг, насупившись, сказал стоявшему рядом Шуберту:
— А теперь зажгите свой факел.
— Огромное спасибо, господин советник, что вы вспомнили обо мне. — Шуберт почтительно поклонился. — Но мой факел...
— Пойдёмте, пойдёмте. Главное, чтобы нас не оттеснила толпа.
Загремели медные трубы, лошади испуганно заржали, Бройнинг в страхе закричал: «Солдаты!» — но толпа уже прорвала кордон...
Супружеская чета Бройнинг вернулась к себе под вечер. Стефан сразу же обратил внимание на свет в окнах квартиры его усопшего друга.
— Конечно же это Шевалье, я хотел сказать, достопочтенный землевладелец ищет акции. Они уже давно у доктора Баха.
Неподалёку от «Красного дома» к торговке каштанами, гревшей руки над жаровней, подошёл покупатель:
— Пакетик на десять крейцеров.
— С удовольствием, сударь.
— А кому здесь устроили такие грандиозные похороны? Кажется, покойного звали Бетховен и был он музыкантом?
— Он был генералом среди музыкантов!
— Маловероятно. — Покупатель очистил каштан и выкинул шелуху. — Будь он генералом, над его могилой прогремел бы воинский салют.
Аукционист Антон Грэфер, маленький толстый человек с пухлыми щеками, пытался успокоить Бройнинга:
— Господин советник, вы несправедливы по отношению ко мне. Поймите меня правильно, вещи, оставшиеся после кончины этого композитора, однозначно свидетельствуют, что их владелец не был богачом. Для вас, возможно, с ними связаны какие-то тёплые воспоминания, но для покупателя... — Как бы завершая разговор, он хлопнул пухлой ладонью по одной из копий оценочного листа.
Бройнинг отвернулся, не выдержав взгляда цепких тёмных глазок, как бы выплывших из глубины затянутого жиром лица и так не соответствовавших добродушной внешности аукциониста. Распродажа имущества Бетховена прямо у дверей его дома, люди, бесцеремонно расхаживавшие по квартире, обменивавшиеся пренебрежительными репликами и трогающие дорогие ему предметы, — всё это доставляло ему даже больше страданий, чем смерть друга.
— По-моему, это очень низко, — невольно вырвалось у него.
— Но почему же, господин советник?
— Ну хорошо, оставим мебель и бельё, но уж музыкальные инструменты...
— Если вы имеете в виду рояль лондонской фирмы «Брэдвуд», — аукционист сверился с оценочным листом, — то цена на него установлена сто гульденов. Он ведь изготовлен из красного дерева. Но струны порваны, а многие молоточки нуждаются в замене.
— А смычковые инструменты? Как можно устанавливать на скрипку Николо Амати цену два гульдена?! Вы хоть знаете, что четыре скрипки работы великих итальянских мастеров подарил Людвигу князь Лихновски?
— Его сиятельство покойный князь Лихновски?
— Да, — тихо, но достаточно твёрдо ответил Бройнинг и отвернулся. Объяснять что-либо этому толстяку было совершенно бессмысленно. Благородный поступок итальянцев на какое-то время заставил жителей Вены вспомнить о Бетховене и превратил его похороны в общественно значимое событие. Но не успели ещё завянуть венки на его могиле, как о Людвиге и его нелёгкой жизни стали забывать.
— Эти инструменты в значительной степени потеряли свою ценность, — нервно хрустя пальцами, возразил аукционист. — Покойный нацарапал на каждом из них каким-то острым предметом большую букву «Б» и поставил свою печать.
Бройнинг махнул рукой и опустил голову. «Мы тут переливаем из пустого в порожнее, — горестно подумал он. — Разве аукционисту дано понять моего друга Людвига? Да и сам я вряд ли до конца его понимал. Нет, в нём действительно была какая-то тайна...»
— Господин придворный советник, я должен начинать распродажу. Люди ждут.
— Разумеется. Ведь люди ждут!
— Внимание. На аукцион выставляются одежда, бельё и мебель из трёх комнат и кухни.
Аукционист выкрикивал какие-то смешные цены, обращая особое внимание, в частности, на позолоченную раму зеркала, и взывал к покупателям, а госпожа Констанция, протиснувшись сквозь небольшую толпу, подошла к мужу и прошептала ему в ухо:
— Пойдём домой, Стефан. Хватит мучить себя.
— Данные вещи имеют особую историческую ценность! — воскликнул аукционист и взмахнул молотком. — Речь идёт о кожаной софе, дорожном чемодане и двух занавесках. Начальная цена — четыре гульдена, дамы и господа!
— Констанция, ведь на эту софу он два раза падал в изнеможении. Первый раз — после премьеры «Фиделио», когда выяснилось, что из-за потери слуха он не может дирижировать, а второй — после премьеры своей Девятой симфонии, когда выручка оказалась мизерной. Хотя нет, помнится, тогда он рухнул в обморок прямо на пол и Шиндлер с трудом перетащил его на софу.
— Мама, одолжи мне пять гульденов. — Герхард дёрнул Констанцию за рукав. — Мамочка, дорогая, умоляю тебя, одолжи мне пять гульденов!
Госпожа Констанция согласно кивнула, звонкий мальчишеский голос с гневом выкрикнул:
— Пять гульденов!
— Плачу шесть, молодой человек, — осадил Герхарда один из покупателей. — Я очень люблю животных, и эта рухлядь очень подходит для моей собаки.
Бройнинг схватился за грудь и покачнулся.
— Лежи, Стефан, я сейчас принесу тебе сердечные капли.
— Нет, нет, только не уходи, дорогая. — Бройнинг приподнялся и ласково погладил жену по локтю. — Ты права, я принял всю эту мерзость слишком близко к сердцу.
Он в изнеможении вытянулся на кушетке и закрыл глаза. Констанция и Герхард, стараясь ступать как можно тише, вышли из комнаты. Любой дальнейший разговор с отцом на эту больную тему мог иметь для него непредсказуемые последствия.
Но как только они ушли, Стефан разлепил словно налитые свинцом веки, тяжело поднялся, подошёл к окну и, глядя на не по-весеннему яркое солнце, пробормотал про себя:
Как миры без колебаний Путь свершают круговой, Братья, в путь идите свой, Как герой на поле брани.Он прижался пылающим лбом к оконному стеклу и стоял неподвижно до тех пор, пока не услышал за спиной шаги жены. Стефан обнял её за плечи, и теперь они уже вместе смотрели на верхушки деревьев, зелёная листва которых возвещала о приходе весны и неизменности законов природы. Наконец Стефан с какой-то загадочной, чуть горькой улыбкой, твёрдо, как когда-то Людвигу, произнёс:
— Он, несомненно, превзойдёт Наполеона, ибо тот хотел стать лишь властелином Европы и добивался своих целей только силой оружия. Но Людвиг сражался гораздо более мощным оружием — музыкой, он хотел, чтобы люди жили мирно и радостно. И теперь я твёрдо знаю, кем он был и будет.
Госпожа Констанция вопросительно посмотрела на него.
— Его творчество покорит мир, а сам он со временем будет повелителем империи, имя которой — музыка!
ОБ АВТОРЕ
АЛЬФРЕД АМЕНДА (настоящее имя — Альфред Рудольф Поль Карраш) — родился в 1893 г. в Кёнигсберге. Написал несколько романов, в том числе «Альфред Нобель». Умер в 1973 г.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1770 год
16 (?) декабря — в Бонне родился Людвиг ван Бетховен.
17 декабря — крещение Людвига ван Бетховена.
1778 год
26 марта — первое концертное выступление Бетховена в Кельне в качестве клавириста.
1780 год
Начало занятий с К.-Г. Нефе.
1782 год
Знакомство с Ф. Вегелером и семейством Бройнинг.
1784 год
Бетховен получил должность помощника придворного органиста в капелле. В театральном оркестре играл на альте.
1787 год
7 апреля — поездка в Вену. Знакомство с Моцартом.
20 апреля — возвращение в Бонн.
17 июня — смерть матери.
1792 год
Знакомство с Й. Гайдном.
2—3 ноября — Бетховен навсегда покидает Бонн и отправляется в Вену.
1794 год
Бетховен учится у И.-Г. Альбрехтсбергера и берёт консультации у А. Сальери.
1795 год
Бетховен играет в аристократических домах и салонах.
29 марта — первое публичное выступление Бетховена как пианиста и композитора в венском Бургтеатре. Исполнение Второго фортепьянного концерта (ор. 19).
Выход в свет трёх фортепьянных трио Бетховена.
1796 год
Бетховен совершил концертную поездку в Прагу, Дрезден, Берлин, Братиславу.
1798 год
Бетховен знакомится в доме посла Франции Бернадота с Р. Крейцером, которому впоследствии посвятил знаменитую скрипичную сонату (ор. 47). Вторая концертная поездка в Прагу.
1799 год
Знакомство с семейством Брунсвик, в имении которых в Мартонвашаре (близ Будапешта) Бетховен с этих пор неоднократно гостил.
1800 год
2 апреля — первый бенефисный концерт (академия) Бетховена в Вене. Исполнялись Первая симфония, Второй фортепьянный концерт, септет (ор. 20) и фортепьянные импровизации.
1801 год
28 марта — первое исполнение в Вене балета «Творения Прометея».
1803 год
5 апреля — второй бенефисный концерт Бетховена в театре «Ан дер Вин» в Вене. Исполнялись Первая и Вторая симфонии, Третий фортепьянный концерт, оратория «Христос на горе Елеонской».
1804 год
Написание «Героической симфонии».
1805 год
Написание оперы «Фиделио», её запрет цензурой. После переделок прошли три представления (20, 21, 22 ноября).
1806 год
29 марта, 10 апреля — два представления второй редакции оперы «Фиделио», прошедшие с большим успехом.
Написаны три струнных квартета (ор. 59), посвящённые графу А. К. Разумовскому.
1808 год
22 декабря — бенефисная академия Бетховена в театре «Ан дер Вин», где были исполнены Пятая и Шестая симфонии, отрывки из Первой мессы (ор. 86), Четвёртый фортепьянный концерт, Фантазии для фортепьяно, хора и оркестра.
Конец декабря — Бетховен был приглашён на должность первого капельмейстера при дворе Жерома Бонапарта, но, получив субсидию, отказался и остался в Вене.
1810 год
Первое исполнение музыки Бетховена к трагедии Гёте «Эгмонт».
1812 год
19—23 июля — знакомство с И. Гёте в Теплице.
1814 год
11 апреля — последнее выступление Бетховена в качестве пианиста-ансамблиста.
23 мая — постановка третьей редакции оперы «Фиделио» в венском Кёрнтнертортеатре.
1815 год
Бетховен по завещанию скончавшегося брата Карла Каспара принял опеку над девятилетним племянником Карлом.
1818 год
Бетховен потерял почти полностью слух.
1822 год
3 ноября — возобновление постановки оперы «Фиделио», её огромный успех.
1822—1823 годы
Знакомство с композиторами Вебером, Шубертом, Листом.
1824 год
26 марта — первое в мире и единственное при жизни Бетховена исполнение его «Торжественной мессы» в Петербурге.
7 мая — первое исполнение Девятой симфонии в венском Кёрнтнертортеатре.
1826 год
Конец сентября — отъезд Бетховена с племянником Карлом и Гнейксендорф к брату. Обострение болезни на обратном нуги в Вену.
1827 год
26 марта — смерть Людвига ван Бетховена.
Примечания
1
Стамиц Ян Вацлав Антонин (1717—1757) — чешский композитор, скрипач, дирижёр, педагог, руководил придворной капеллой в Мангейме, глава так называемой мангеймской школы.
(обратно)2
В двадцать лет уже превосходно играл на скрипке и сделался... придворным органистом архиепископа Зальцбургского. — Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791) был назначен концертмейстером в капелле Зальцбургского архиепископа в 1769 г., органистом в 1779 г. Прекрасным исполнителем на клавесине, скрипке чужих и собственных сочинений он был уже в десять лет.
(обратно)3
Руст Фридрих Вильгельм (1739—1796) — скрипач, композитор, с 1766 г. придворный капельмейстер в Дессау. Автор кантат, песен, од.
(обратно)4
...роль Давида, играющего на арфе перед царём Саулом. — Давид, царь Израильско-Иудейского государства, был провозглашён царём Иудеи после гибели Саула.
(обратно)5
Монсиньи Пьер Александр (1729—1817) — французский композитор, один из основоположников жанра французской комической оперы.
(обратно)6
Мелкая монета в рейнских княжествах.
(обратно)7
...мнением Людовика XIV: «Государство — это я»... — Людовик XIV (1638—1715) — французский король с 1643 г. Его правление — апогей французского абсолютизма. Легенда приписывает ему это изречение.
(обратно)8
Фридрих II (1712—1786) — прусский король с 1740 г., крупный полководец, в результате его завоевательной политики территория Пруссии почти удвоилась.
(обратно)9
Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781) — немецкий драматург, теоретик искусства и литературы, критик, основоположник немецкой классической литературы.
(обратно)10
...крысолова из Гамельна. — Имеется в виду бродячий музыкант из старинной немецкой легенды, впервые пересказанной братьями Гримм. Играя на дудочке, он увёл из города Гамельна всех мышей и крыс и утопил их в реке Везер и тем самым спас детей.
(обратно)11
Тартини Джузеппе (1692—1770) — итальянский скрипач, композитор, музыкальный теоретик, глава падуанской скрипичной школы.
(обратно)12
Прима — для фортепьянной пьесы в четыре руки обозначение более высокой партии (ит.).
(обратно)13
Переход к следующей части сразу, без остановки (ит.).
(обратно)14
Каденция, каданс — гармонический или мелодический оборот, завершающий музыкальное произведение (ит.).
(обратно)15
Шансон — в данном случае эпическая поэма французского средневековья, исполняемая под аккомпанемент скрипки.
(обратно)16
...ту самую, с дьявольской трелью. — Имеется в виду знаменитая соната Тартини «Дьявольская трель».
(обратно)17
Страдивари (Страдивариус) Антонио (1644—1737) — итальянский мастер смычковых инструментов, ученик Амати и продолжатель традиций известных мастеров семьи Амати. Создал скрипки, альты и виолончели, отличающиеся высокими концертными качествами.
(обратно)18
Какая честь (фр.).
(обратно)19
Это вам (фр.).
(обратно)20
Кошелёк или жизнь! (фр.).
(обратно)21
Ленц — поэтическое название весны (нем.).
(обратно)22
Престо — музыкальная пьеса или ее часть, исполняемая в очень быстром темпе (ит.).
(обратно)23
Фильц Антонин (1733—1760) — чешский композитор, виолончелист, ученик Я. В. Стамица, один из представителей мангеймской школы.
(обратно)24
Сочинение Людвига ван Бетховена (фр.).
(обратно)25
Дорогая мама (фр.).
(обратно)26
Мария-Антуанетта (1755—1793) — французская королева, жена Людовика XVI, дочь австрийского императора, вдохновительница контрреволюционных заговоров и интервенции в период Великой французской революции. Была казнена.
(обратно)27
...сын эрцгерцогини Австрии Марии-Терезии. — Имеется в виду Иосиф II (1741—1790) — австрийский эрцгерцог с 1780 г., соправитель Марии-Терезии, император Священной Римской империи с 1765 г., сторонник политики просвещённого абсолютизма.
(обратно)28
Эстергази (Эстерхази) — семья венгерских меценатов и музыкантов (XVII—XIX вв.). Пал — композитор; Пал Антал — скрипач, виолончелист. У его брата Миклоша в имении «Эстергаза» главным капельмейстером и придворным композитором с 1766 г. был Й. Гайдн. По заказу его внука Миклоша-младшего писали музыку Гайдн и Бетховен. Отец Ф. Листа служил у Эстергази в оркестре.
(обратно)29
Альбрехтсбергер Иоганн Георг (1736—1809) — австрийский композитор, теоретик, педагог. Преподавал композицию, игру на органе, фортепьяно, был учителем Бетховена.
(обратно)30
Сальери Антонио (1750—1825) — итальянский композитор, дирижёр, педагог; с 1766 г. жил в Вене, был придворным клавесинистом, композитором, дирижёром. С 1817 г, — директор консерватории в Вене.
(обратно)31
...Руже де Лиль написал... гимн... — Патриотическая песня, ставшая позже национальным гимном Франции, была сочинена в 1792 г. офицером Руже де Лилем для Рейнской армии. Она так и называлась Военной песней Рейнской армии. Первыми её узнали и исполнили марсельцы, отсюда её новое название «Марсельеза».
(обратно)32
Вперёд, вперёд, сыны отчизны!
Для нас день славы настаёт... (фр.).
(обратно)33
Посвящение (лат.).
(обратно)34
Кончено (лат.).
(обратно)35
«Карманьола» и «Марсельеза».
(обратно)36
...леди Макбет... — героиня трагедии В. Шекспира «Макбет».
(обратно)37
Положение обязывает (фр.).
(обратно)38
Бах Карл Филипп Эмануэль (1714—1788) — немецкий композитор, клавесинист, сын И.-С. Баха. Он учредил в Гамбурге публичные концерты, был одним из первых представителей гомофонного стиля, и его влияние испытали Гайдн и Бетховен.
(обратно)39
Бернадот Жан-Батист (1763—1844) — маршал Франции, участник революционных и наполеоновских войн. В 1810 г. был уволен Наполеоном и избран наследником шведского престола.
(обратно)40
Арколе — местечко в итальянской провинции Верона, где 15—18 ноября 1796 г. произошло сражение, принёсшее победу французским войскам и явившееся началом их успешных походов.
(обратно)41
...в Кампоформио... условия мирного договора. — Кампоформийский мир 1787 г. завершил победоносную для Франции войну против Австрии, которая теряла Австрийские Нидерланды, признавала Цизальпинскую республику, но получала Зальцбург, часть Венецианской республики и баварских земель.
(обратно)42
Крейцер Родольф (1766—1831) — французский скрипач, композитор, дирижёр, педагог. Немецкого происхождения, но с 1783 г. солист Королевской капеллы в Париже, с 1801 г. — Парижской оперы, камер-виртуоз двора Наполеона I, Людовика XVIII.
(обратно)43
Кто идёт? (фр.).
(обратно)44
Нотабли — представители высшего духовенства, придворного дворянства и городских верхов.
(обратно)45
Штайбельт Даниэль (1765—1823) — немецкий пианист, дирижёр, композитор. В основном работал в Париже и Лондоне; с 1810 г. капельмейстер придворной французской оперы в Петербурге.
(обратно)46
Быстрое многократное повторение одного звука, аккорда, интервала (ит.).
(обратно)47
«Прощальная песня» (фр.).
(обратно)48
Шенье Мари-Йозеф (1764—1811) — французский поэт и драматург, брат поэта и публициста Андре Шенье. Стихи и трагедии его были направлены против тирании и религиозного фанатизма.
(обратно)49
Эрцгерцог — титул членов императорской фамилии в Австро-Венгрии.
(обратно)50
Очень медленно и выразительно (ит.).
(обратно)51
Цирцея — в греческой мифологии волшебница с острова Эя, удерживавшая Одиссея у себя целый год, в переносном значении — обольстительница.
(обратно)52
Коротко, ускоряя движение (ит.).
(обратно)53
Умеренно медленный темп (ит.).
(обратно)54
Черни Карл (Карел) (1791—1857) — австрийский пианист, педагог, композитор, чех по национальности, работал в Вене. В 1800—1803 гг. учился у Бетховена. Автор знаменитой «Школы беглости» и многочисленных этюдов и упражнений, а также опер, симфоний, камерно-инструментальных произведений.
(обратно)55
Грильпарцер Франц (1791—1872) — австрийский писатель, драматург, в произведениях которого романтические тенденции сочетались с традициями веймарского классицизма.
(обратно)56
Гварнери — итальянские мастера смычковых инструментов. Гварнери Джузеппе (1698—1744) — один из самых выдающихся мастеров наряду с А. Страдивари.
(обратно)57
Амати — итальянские мастера смычковых инструментов, работавшие в Кремоне. Амати Николо (1596—1684) — довёл тип скрипок до совершенства, усилив звучание и сохранив мягкость тембра.
(обратно)58
Тихо (ит.).
(обратно)59
Быстро, постепенно замедляя ритм (ит.).
(обратно)60
Постепенно усиливая звук (ит.).
(обратно)61
Внезапно усиливая громкость (ит.).
(обратно)62
Игра щипком на смычковых инструментах (ит.).
(обратно)63
Нельсон Горацио (1758—1805) — английский флотоводец, вице-адмирал, одержал ряд блестящих побед над французским флотом, среди них при Абукире и Трафальгаре (где он был смертельно ранен).
(обратно)64
Быстро, возбуждённо (ит.).
(обратно)65
Очень громко (ит.).
(обратно)66
Фоглер Георг Йозеф (1749—1814) — немецкий композитор, органист, клавесинист, теоретик, педагог. Аббат. В 1776 г. организовал Мангеймскую музыкальную школу. Жил и работал в Париже, Мюнхене, Стокгольме, в 1788 г. посетил Россию.
(обратно)67
Интендант — директор театра.
(обратно)68
Гаво Пьер (1760—1825) — французский певец и композитор, автор многочисленных опер и камерно-инструментальных произведений.
(обратно)69
Давид и Голиаф. — Царь Израильско-Иудейского государства Давид, по библейской легенде, победил великана Голиафа.
(обратно)70
Очень быстро (ит.).
(обратно)71
В умеренно подвижном темпе (ит.).
(обратно)72
Мюрат Иоахим (1767—1815) — сподвижник Наполеона и его зять, маршал Франции, с 1808 г. король неаполитанский.
Ланн Жан (1769—1809) — маршал Франции, герцог Монтебелло.
(обратно)73
«Да здравствует император!» (фр.).
(обратно)74
Керубини Луиджи (1760—1842) — французский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель, итальянец, в 1784—1786 гг. работал в Лондоне, с 1788 г. в Париже. В 1822 — 1841 гг. — директор Парижской консерватории.
(обратно)75
...сражение... неподалёку от Аустерлица. — Аустерлицкое сражение произошло 20 ноября (2 декабря) 1805 г. между русско-австрийскими и французскими войсками. После него Третья антифранцузская коалиция распалась.
(обратно)76
Мой дорогой (фр.).
(обратно)77
Йена-Ауэрштедтское сражение — название двух сражений под Йеной и Ауэрштедтом, произошедших 14 октября 1806 г., в которых французская армия разгромила прусские войска, после чего французы заняли почти всю Пруссию.
(обратно)78
Протяжно (ит.).
(обратно)79
Быстро, игриво (ит.).
(обратно)80
Очень тихо (ит.).
(обратно)81
Весь оркестр или хор в целом (ит.).
(обратно)82
Гировец Адальберг (1763—1850) — австрийский композитор, чех по национальности. С 1793 г. в Вене. С 1804 по 1831 г. композитор и капельмейстер придворной оперы.
(обратно)83
Мягко (ит.).
(обратно)84
Живо! (ит.).
(обратно)85
Торжественно (ит.).
(обратно)86
Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827) — известный швейцарский педагог, основатель теории начального обучения, впервые связал педагогику и психологию.
(обратно)87
Шлегель Фридрих (1772—1829) — немецкий критик, философ, языковед, писатель. С 1809 г. на австрийской государственной службе.
(обратно)88
...после битвы при Ваграме... — 5—6 июля 1809 г. у селения Ваграм около Вены французские войска разбили австрийскую армию эрцгерцога Карла, и Австрия заключила перемирие, а затем Шёнбруннский мир.
(обратно)89
Дух сопротивления (фр.).
(обратно)90
Бургтеатр — австрийский драматический театр, созданный в 1774 г. в Вене.
(обратно)91
...откупился от Наполеона своей дочерью Марией-Луизой... — Дочь австрийского государя Франца I Мария-Луиза была выдана за Наполеона в 1810 г.
(обратно)92
Борей — в греческой мифологии бог северного ветра.
(обратно)93
Камерный композитор — почетное звание в немецкоязычных странах.
(обратно)94
«Прощания» (фр.).
(обратно)95
Перевод А. Кочеткова.
(обратно)96
Гевандхауз — концертный зал в Лейпциге, так же назывались симфонический оркестр и концертное общество.
(обратно)97
Коцебу Август (1761 — 1819) — немецкий драматург, один из самых плодовитых писателей, автор многих исторических пьес, комедий, которые благодаря сентиментальному и морализаторскому духу пользовались большим успехом, чем драмы Гёте и Шиллера. Был убит студентом Зандом.
(обратно)98
Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель, композитор, художник. Его литературным произведениям присущи тонкий философский романтизм и причудливая фантастика, порою мистический гротеск («Эликсир дьявола», «Крошка Цахес», «Житейские воззрения кота Мурра» и др.). Он был и одним из основоположников романтической музыкальной эстетики и критики. Автор первой романтической оперы «Ундина».
(обратно)99
Мельцель Иоганн Непомук (1772—1838) — немецкий механик. С 1792 г. жил в Вене; известен как изобретатель механических инструментов, в том числе пангармоникона, один из изобретателей метронома.
(обратно)100
Различные небыстрые темпы, указывающие характер движения в музыке (ит.).
(обратно)101
Максимально быстро (ит.).
(обратно)102
Под сурдинку, то есть тихо, приглушённо (ит.).
(обратно)103
Мордант (mordante — фр.) — язвительно; мордент — один из видов мелодических украшений.
(обратно)104
Меттерних Клеменс (1773—1859) — князь, министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809—1821 гг., канцлер в 1821—1848 гг. Во время Венского конгресса 1814—1815 гг. подписал секретный договор с представителями Великобритании и Франции против России и Пруссии, один из организаторов Священного союза.
(обратно)105
Веллингтон Артур Уэлсли (1769—1852) — герцог, английский фельдмаршал. В войнах с Наполеоном командовал союзными войсками на Пиренейском полуострове и англо-голландской армией при Ватерлоо.
(обратно)106
Название говорит само за себя (лат.).
(обратно)107
Состав преступления (лат.).
(обратно)108
«Марльбрук в поход собрался» (фр.).
(обратно)109
«Правь, Британия, над морями» (англ.).
(обратно)110
...битвы при Ганау... сражение при Лейпциге... — В Лейпцигском сражении 16—19 октября 1813 г. между наполеоновской армией и войсками России, Пруссии, Австрии и Швеции участвовало свыше 500 разных национальностей, и потому оно получило название «битвы народов». Разгром наполеоновской армии привёл к освобождению Германии и Голландии и к распаду Рейнского союза.
(обратно)111
Быстро, весело (ит.).
(обратно)112
«Боже, храни короля» (англ.).
(обратно)113
Разумовский Андрей Кириллович (1752—1836) — светлейший князь, дипломат. В молодости принимал участие в Чесменском сражении. Был послом в Неаполе, Копенгагене и Стокгольме. В 1790 г. — посол в Вене, а в 1801 г. Александр I вновь назначил его послом в Вену. Прославился там своей знаменитой картинной галереей и музыкальными вечерами. В Вене его иронически называли «эрцгерцог Андреас».
(обратно)114
Канова Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор, представитель классицизма.
(обратно)115
Быстро и решительно (ит.).
(обратно)116
Быстро и воодушевлённо (ит.).
(обратно)117
Остановка в музыкальном движении (ит.).
(обратно)118
Возврат к прежнему ритму (ит.).
(обратно)119
Конец (лат.).
(обратно)120
Эринии — в греческой мифологии богини мщения, обитающие в подземном царстве.
(обратно)121
В Германии единица — высший балл.
(обратно)122
Перевод И. Миримского.
(обратно)123
Буквально: волк в басне (лат.), в значении: лёгок на помине.
(обратно)124
Ящик Пандоры... — В греческой мифологии Пандора была создана Гефестом по воле Зевса в наказание людям за похищение Прометеем огня у богов. Став женой брата Прометея Эпиметея, любопытная Пандора увидела в доме мужа ящик и, несмотря на запрет, открыла его, и все бедствия распространились по земле. Крышка захлопнулась, когда на дне оставалась только надежда. Ящик Пандоры в переносном смысле — источник всяких бедствий.
(обратно)125
Очень сдержанно (ит.).
(обратно)126
«Верую» (лат.).
(обратно)127
В единого Господа (лат.).
(обратно)128
В итоге (лат.).
(обратно)129
Агасфер — герой средневековых сказаний, еврей-скиталец, был осуждён богами на вечную жизнь и скитания.
(обратно)130
Голицын Александр Николаевич (1773—1844) — князь, государственный деятель, близкий к Александру I, с 1803 г. обер-прокурор Синода, в 1817—1824 гг. министр народного просвещения и духовных дел.
(обратно)131
Силезская война. — Силезскими войнами назывались три войны, которые Фридрих II Прусский вёл против Марии-Терезии и её союзников в 1740—1763 гг. и закончившиеся завоеванием Силезии, отошедшей к Пруссии.
(обратно)132
За заслуги (фр.).
(обратно)133
Совершенно верно, сэр (англ.).
(обратно)134
Не совсем всерьёз (лат.).
(обратно)135
В добрый час (фр.).
(обратно)136
Почётное звание певца в странах немецкого языка.
(обратно)137
Фогль Иоганн Михаэль (1768—1840) — австрийский певец. В 1794—1822 гг. пел в Венской придворной опере, с 1817 г. сблизился с Ф. Шубертом и был лучшим исполнителем его произведений.
Барбая Доминито (1778—1841) — итальянский антрепренёр, деятельность которого была связана в основном с оперными театрами Неаполя, Вены и Милана, он способствовал карьере многих исполнителей, «открыл» В. Беллини, Г. Доницетти.
(обратно)138
...ещё жив тот, кто способен петь на истинно немецком языке... — По всей вероятности, имеется в виду композитор Франц Шуберт.
(обратно)139
Вперёд! (ит.).
(обратно)

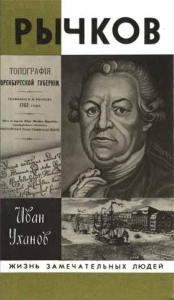




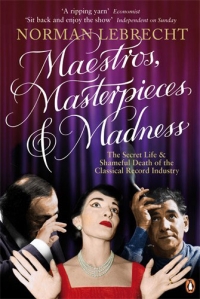
Комментарии к книге «Аппассионата. Бетховен», Альфред Аменда
Всего 0 комментариев